Сергей Авилов В.Н.Л. (Вера. Надежда. Любовь)
© Авилов С., текст, 2016.
© «Геликон Плюс», макет, 2016.
Оса
К Осе я отправился утром. Когда немного оправился от его ночных звонков. Он позвонил мне часа в два… может, в три. В буквальном смысле снял меня с девушки. Девушка была постоянная, поэтому за часами ни я, ни она не следили. Позвонил и – я сразу заметил, каким тихим и унизительным шёпотом, – попросил:
– Принеси… – Оса вымаливал выпивку. Бухло. Керосин. Ему было всё равно – в жидкости должен был содержаться этанол.
– Принеси… – повторил он просьбу. Повышать голос выше шёпота у Осы, видно, не было сил.
– Оса, – после первого такого звонка я ещё пытался ему что-то объяснить. Для меня Оса не пустое место.
– Оса, – говорю, – денег на тачку сейчас нет (я лгал – деньги, конечно, были)… Пешком до тебя минут двадцать по ночному М-ску. Но это не главное, пойми, Оса. Это не главное. Главное, что у меня нет денег на выпивку.
Ударяя на последние слова, я как бы заявлял Осе, что деньги – деньги есть. Но они не на выпивку, нет, Оса.
– Пожалуйста! – Оса зарыдал в трубку. Как-то чередуя «кхе» и «аха»: – Кхе-аха, Кхе-аха… – Потом яростно раскашлялся, из него выходило перекуренное с переплаканным, и опять: – Кхе-аха. – К этому стало добавляться плаксивое «ы-ы».
– Оса… Осинушка… Спокойнее, – это подвывание от Осы я слышал впервые и, почувствовав, что подвывание не умолкает, брякнул вдруг с раздражением: – Да будь же ты мужиком, Оса!
Оса бросил трубку. Бросил с воем, но Оса мужиком был.
Я сидел на постели, голый, глядя себе под ноги. Что-то нехорошее с ним. Осой. Тем временем Катя, пол-одеяла на себя натянув, окукливалась в ночнушку. Хана моему сексу. Она, понятно, «не любит моих друзей за то, что они приносят портвейн». Эта цитатка даже приросла как-то к Кате, и я был не против. После двадцати пяти портвейн – это не только весело. Мне уже шёл 27-й.
– Оса, – пожаловался я ей, закурив.
– Я поняла, – закурила и она, дымом согнав с лица мешающий локон. – Бежим к Осе? – съязвила.
– Да никуда не бежим, – в темноте, когда не видно дыма, сигарета казалась невкусной.
– Нику-да мы не бе-жим, – протянул я ещё раз, шебурша волосы. И тут телефон снова ожил.
Оса.
– Поговори со мной. Мне страшно.
– Оса, ты меня, между прочим, с бабы снял, – ответил я ему игривым шёпотом.
– С Кати? – задал он максимально дурацкий вопрос.
А я ответил крутое, как мне казалось тогда, и постыдное:
– Неважно.
– Важно, Сережа, всё важно… – он плавал в каком-то своем разговоре, не говоря о том, что Серёжей вообще называл меня впервые. – Вот тебе сейчас что важно?
– Оса, – грубо оборвал его я; я знал, что такие разговоры могут продолжаться до утра.
– Всё-всё, – испугался он того, что я положу трубку. – Мне сейчас важно то, что мне никак не встать… Ноги что-то не ходят, – и резко меняя тон: – Принеси…
– Я не понесу сейчас, я приду утром, Оса! Подожди ты часиков пять-шесть, – я ещё пытался укротить рождающееся бешенство.
– Принеси, я подохну, принеси, подохну, слышишь? – фоном послышался сухой всплеск осколков, очевидно, пустой бутылки, в отчаянии хлопнутой Осой об пол или стену.
– Я не пойду, – устало ответил я. – Займи у соседей.
Говорил я глупость. Оса жил в частном секторе. В лучшем случае его облаяли бы местные волкодавы, в худшем – выстрелили бы из охотничьего ружья в нетрезвого человека.
Оса жил один. Мать его года три назад убило огромным рекламным щитом, сорванным со своего места порывом шквального ветра. Помню похороны без слёз. Одинокий, серьёзный Осинов. После официальных похорон мы, человек пять, сидели на берегу реки. Естественно, выпивали. И вдруг мне представилось… нет, подумалось… это не объяснить. Я чуть-чуть не сказал Осе, что мама его стала… почтовой маркой. Я обмер. Таких глубин цинизма в себе я не то чтобы не находил – даже искать не пытался.
Я положил трубку. Снова сидя закурил.
– Выключи телефон, – устало потребовала Катя. Я её боялся и поэтому выдернул шнур. А боялся я потому, что отбил её у более сильных и богатых. Боялся, естественно, в пределах разумного. К сожалению, примерно так же, как и любил.
Мы забрались под одеяло, и она, наверное, быстро уснула, а я боролся с раздражением к Осе. Было темно и тихо. И какая-то моя часть радовалась, что утром похмельный Оса будет радоваться тому, что принесу ему я.
Я смог проигнорировать даже полусонные, разнеженные сном прелести Катерины. Она любила с утра медле… О чем я опять?
Я попил воды из носика чайника, оделся наугад – зима в М-ске – явление непрогнозируемых ежедневных температур. Было слякотно и ветрено, посему я надел ветреную куртку и слякотные ботинки. Прихватил пакет.
«Жди, Оса, жди», – думал я, наполняя в магазине пакет звенящей надеждой.
От автобусной остановки до дома Осинова – минуть десять ходьбы. Частный фонд М-ска просыпается медленнее центра. По длинной грунтовке, ведущей к его дому, пролетит, не снижая скорости перед встречей с пешеходом, чей-то дорогой автомобиль. Или проедет полная адыгов или армян «копеечка», непременно обдав тебя чем-то из-под колес. Прохожих мало – в это время почти что и нет. Лишь медленно открывает изнутри лавку с продуктами, пристроенную к дому, пожилая армянка. С ней, как и с работающей в лавке дочкой её, у Осы тёплые отношения. Это я знаю.
Дом Осы – второй за поворотом. Я уже вижу его низенькую крышу и от предвкушения лицезреть Осу громче позвякиваю тарой.
Оса не закрывает калитку на запор. Оса и дверь-то в дом не всегда запирает. Я толкнул калитку, поднялся на крыльцо. В доме миротворческая тишина.
– Оса-а, – весело пропел я. Нет ответа.
«Спит, бедолага», – подумалось мне, и я толкнул входную дверь.
В прихожей было темно и ветрено. Да, именно ветрено – как будто, уходя, Оса забыл закрыть окна. Потом я в чем-то кроме догадок запутался совсем. Это был скотч. Местами перекрученные полоски скотча хаотично валялись под ногами, липли к ногам. Как будто кто-то спешно распаковывал большие картонные коробки. Тогда где же сами коробки? Я опасливо стал отлеплять полоски от подошв, но они липли снова и снова. Так, отлепляя эти полоски, полусогнутым, я вошёл в комнату. И увидел Осу. Он лежал на полу. Его ноги (меня поразило заметное даже в полутьме пятно мочи на его брюках) лежали так, как будто бы Оса хотел убежать. Скрюченная рука торчала из-под кухонной клеенки, за которую, убегая из этого мира, он успел схватиться. И ещё совершенно чёрный… или совершенно синий кусок лица. Где-то возле издевательски светлых Осиных волос. И опять скотч…
– Оса захлебнулся, – испуганный язык прилип к нёбу, получилось тихо. И безжалостно. Произнёс я это затем, чтобы просто почувствовать реальность, чтобы прийти в себя. Чтобы не бояться. Хотя чего?
Я опустил на пол пакет с бутылками. Опасливо подошёл ближе, мимоходом подумав о том, что неплохо бы вызвать «скорую». Хотя «скорая» или «неспешная» – Осе уже все равно, это было понятно.
Звуки поддавались с трудом. Каждый сделанный шаг, шорох пакета, несколько слов казались чужими звуками в этом доме темноты и ветра. Это позже, когда сюда нагрянут санитары и сонная, ленивая милиция…
Мне даже не пришлось накрывать его лицо – убегая, Оса сделал это сам, оберегая меня от ненужных подробностей. При этом оставив кусочек лица – для того чтобы у меня не было сомнений. Ах, Оса…
Я нащупал сигареты, сделал десяток оглушительных шагов назад, к выходу… Спустился с крыльца, увитого высохшим виноградом. Закурил.
Конечно, мы предполагали, чем это всё закончится. Потом скажут: «Неожиданная смерть»… Ай, да ну! Какая неожиданная – очень даже ожиданная. Если последний год Оса пил так, что даже навещать его было делом непростым. В чём-то геройским. Придешь с бутылкой – он быстро и тяжело пьянеет и засыпает. Без неё – злится. И только в моменты просветления Оса – вымытый, выбритый, бледный – говорил: «Брошу. Клянусь, брошу». Вот, бросил. Теперь я в этом абсолютно уверен.
Когда я переехал в М-ск, Оса был для меня находкой. Хотя всё началось немного раньше, Оса просто стал удачным продолжением того, чего мне хотелось. А ещё точнее – чего мне не хотелось. А не хотелось мне – работать! Мне безосновательно, но каким-то шестым чувством казалось, что я рожден для других, менее унизительных занятий. Повторяю, особых оснований для этого не было. Было лишь щемящее чувство, что я делаю что-то не то. Ни для кого. И не для себя в первую очередь.
Я с успехом окончил среднюю школу в Краснодаре. Нормальное отсутствие троек – тоже успех. Потом поступил в КубГУ. На факультет филологии. Я-то знал почему – я любил читать, любил слова… Многие же преподаватели считали, что любовь к словам – аналог лени. То есть нелюбовь к делам. К третьему курсу мы друг в друге разочаровались. И каждый пошёл своею дорогой… В армию я не попал. Полученная в детстве травма колена во время игры в футбол неожиданно оказалась козырем при прохождении медкомиссии. Правда, колено болит при перемене погоды и неприятно щелкает при резких сгибах. Дорога в университет сменилась дорогой на службу гражданскую. Не имея образования, тяжело найти достойную работу даже в большом городе. Поэтому сперва я довольствовался недостойными. Года два отстоял охранником в магазине одежды. Потом писал статьи в рекламном издании. Находясь при этом в офисе с девяти до шести. И испытывая одинаковое отвращение к обоим этим занятиям. Причем, будучи охранником, я не ощущал всей бессмыслицы этих занятий, оттого что был младше. С каждым годом ненависть к такого рода труду нарастала. Когда издательство благополучно развалилось и я оказался безработным, я почувствовал себя счастливым. Я отдалял поиски работы и существовал на сущие копейки. Какой восторг – просыпаться зимой в сделавшихся уютными сумерках, варить кофе на крошечной кухне. Никуда не спешить. Когда сущих копеек осталось совсем немного, надо было что-то придумывать. Меня пугала не сама перспектива труда – меня отвращало отношение людей к труду. Людей, которые могли стать моими коллегами и, что хуже всего, начальниками.
Я с тоской сходил на пять или шесть собеседований. Хотя всю их бесперспективность я понял на третьем… Я не был похож на маленького человечка, способного безропотно выполнять приказания, не переспрашивая и не ставя эти приказания под сомнения. Я не был похож на винтик – я был вполне себе боевой единицей. Инструментом. И на маленькие должности меня активно не брали. Для должностей больших у меня не было знаний. К тому же работодатели были тоже не без изъянов в голове. Кому придет в голову, например, приходить на работу за час до её начала и совместными шутками поднимать себе настроение, которое естественным образом поднимет процент проданных утюгов, чайников… Чего угодно… Однако было! Меня выводили из себя все эти менеджеры, супервайзеры, хайруллеры… Они говорили: «Наша компания…» А мне хотелось спросить: «Какая она ваша-то, а?» Становилось тоскливо. Я научился питаться макаронами без мяса и масла. С томатным соусом «Краснодарский». Просить помощи было не у кого… Поясню: отец мой попал под автобус, когда мне было года три. Я не стану говорить, что этого я не помню. Я просто не знаю, что из того, что осталось в голове, – правда, а что пришлось дорисовать воображению. По крайней мере, воображение не особенно-то резвилось – картина отца получилась законченной и приятной. То же говорила и мать. Отец был человеком мягким. Не пил, даже не курил. Черта, как мне кажется, показательная. Погиб – слишком по-житейски… Перегруженный пассажирами автобус, скользкая дорога… Несчастный случай.
Я всегда приписывал отцовские черты не тому человеку, что остался в памяти. Отцовские черты я приписывал фотографии, стоявшей в материнском серванте.
Мать. Я осваивал то ли восьмой, то ли девятый класс, когда я впервые увидел его – Николая. Он так и представился – Николай. И мне понравилось, что без всяких там «дядь». Просто – Николай. Ну он и был – Николай. Ни колай, ни дворай… Пел в театре «вторым басом». То есть самым низким. Когда его голос в спектакле был не нужен – играл второстепенных персонажей. Жил в какой-то общаге, сам же был… дай бог памяти. Из Чимкента – города в Казахстане. Хотя русский. Пил, пытаясь совместить в себе пьяницу и порядочного человека. Хотя пил как-то весело. Пил и пел… Плохо было одно – мать тоже хотела петь. А выбрала второе, менее энергозатратное его увлечение. На фоне своего пьянства Николай и не заметил, как пристрастил к этому мою мать. Он считал, что, пока не появилось похмелье, тревожиться не о чем. Нет, они жили мирно, не ссорились… Даже меня – любили. Да и я уже не нуждался в чрезмерной опеке.
Однажды Николай пошёл за пивом в три часа ночи. Или утра… В шесть его нашёл дворник – почти что возле парадной. При нём не было денег и документов. Самое страшное, что ему уже было всё равно. Какой-то проходимец – или их было много – проломил ему голову. До приезда врачей Николай пролежал на изумрудной весёлой траве с лицом, накрытым газетой. Ветер изредка приподнимал её уголок. Наверное, ветру хотелось её перелистнуть.
У матери оставалось два пути – бросить пьяное дело совсем или бросить трезвое. И тоже совсем. Она опять выбрала путь менее трудоемкий. И при этом максимально короткий. Похоронив её, я подумал, что больше хоронить мне некого…
Макароны подходили к концу. Соус «Краснодарский» сделался роскошью. Перспектив, казалось, не было. Оказалось – были. В М-ске, древняя, как и сам город, проживала родная сестра моей бабушки по материнской линии. Детей у неё не было. Мужа – не было уже. Последний раз я видел бабку на похоронах матери. До этого – раз пять за всю жизнь. Древняя, как и сам город, она оказалась не вечной. Её смерть и была моей перспективой. Хотя, казалось бы, само слово «смерть» вообще отрицает какие-либо перспективы.
В М-ске бабка оставила мне однокомнатную квартиру. Я тут же хотел её продать. А потом подумал: «А не сменить ли мне грязную мыльную воду Кубани на другую, м-скую реку?» И сменил. Квартиру в Краснодаре я сдал знакомой семейной паре. Проветрил бабкину квартиру от больничных запахов лекарств и выкинул все бабкины вещи. На скопленные ею деньги поклеил обои. Взял с семейной пары задаток и отметил новоселье, сидя в пустой, прохладной бабкиной квартире.
А потом у меня стали появляться знакомые. Друзья и подруги. И среди них – Оса.
Я сидел на скамейке на берегу м-ской реки. Благостное безделье ещё являлось для меня главным удовольствием. Пил пиво, глядя на полноводную, медленную здесь реку. На деревья, набухавшие тяжёлыми, влажными почками. На дымчатые от нераспустившейся зелени холмы на том берегу.
– Водку будешь? – услышал я откуда-то сбоку. Голос был робкий. Таким голосом обычно просят, а не предлагают. Я обернулся. Даже скорее просто скосил глаза. Мне лень было оборачиваться на такие просьбы. У меня была какая-то маленькая лужица своих денег. То есть если бы я захотел водки…
– Н-нет, – ответил с раздражением. Он поймал меня в неподходящий момент. Медленная река текла. И текли медленные, оттого внятные мысли.
Скосив глаза, я сумел его рассмотреть: невысокий, слегка полноватый. С круглым и очень детским лицом. Хотя было ему лет, может быть, двадцать пять. В руке – пакет, в котором угадывалась бутылка.
Он, тяжело отчего-то вздохнув, приземлился на скамейку рядом со мной. Повисла дурацкая пауза. Мне захотелось уйти – мой сосед имел вид неудачника. Стоит немного поправить свои финансовые дела – и неудачники начинают вызывать раздражение.
Он молчал, держа пакет в сложенных на коленях руках, и тоже смотрел на воду.
– Красиво, – обратился он, не поворачивая головы.
– Ну да, – снизошёл я.
А он, словно схватившись за эти скудные слова, словно изголодавшись по собеседнику, заторопился:
– Я люблю сюда приходить. Здесь тихо… Сидеть и думать…
– О чем? – спросил я с усмешкой.
– О словах…
Оказалось, Оса пишет стихи. К тому же является рок-звездой местного масштаба. Даже имеет своих преданных поклонников. Оса с группой катаются по всему Краснодарскому краю с концертами, за которые, плюс ко всему, получают деньги. Оказалось, что клубы и небольшие концертные площадки с удовольствием принимают у себя Осу и его команду – Оса и его команда приносят клубам и площадкам деньги. Не обижая при этом и себя, конечно.
Мы выпили Осиную водку там, на берегу м-ской реки, потом продолжительно и расточительно гуляли в баре неподалеку. Оса воплотил в реальность то, что было моей мечтой – ведь это я, я писал стихи и песни. И тоже нередко думал… о словах.
Когда я приходил к ним на концерты, Осу было не узнать. Без куртки, в концертных одеждах, он оказался не полным – накачанным. Они играли серьёзную, не хулиганскую, как можно было предположить по Осе, музыку. Тексты Осы были даже изысканными… А я – я предложил ему несколько своих. Мне показалось не стыдным, если эти песни пел бы Оса.
И всё получилось. Теперь песни мы писали вместе – я и он. В группу я, конечно, не рвался. Мои музыкальные познания ограничивались самоучителем игры на гитаре. Но при этом я стал полноценным её участником. Я писал слова, договаривался о концертах… Получал деньги. То есть фактически работал.
И вот когда мы были уже на какой-то ступени популярности, у Осы начались запои.
Сначала это было даже смешно. Оса приходил на репетицию растрёпанный и понурый, как мокрый, замёрзший воробей. Жадно глотал пиво из наших бутылок. Тяжело вздыхал. Жаловался на «мотор»… Потом резко веселел… Пел, периодически отлучаясь в уборную. Через некоторое время я обнаружил в бачке унитаза початую «маленькую». Оса стеснялся пить при нас. Я не стал рассказывать об этом Жене и Максу – гитаристу и басисту соответственно. Я с тревогой узнал в Осиных манипуляциях поступки своей матери. А поступки тем временем повторялись. «Маленькая» стала непременным атрибутом Осы. Она добавилась к блокноту и карандашу. И как только она добавилась, блокнот заскучал. Точнее говоря, не заскучал – в голове Осы всегда и в любом состоянии что-то делалось и рождалось. Блокнот был тут как тут. Но нетрезвые эмоции, заполняющие блокнот, были так далеки от Осиных стихов… Хотя даже среди этих плевел встречались жемчужные зерна. Ночной звонок. Я привык и устал от этих звонков за последнее время.
– Серый… Послушай… Я сделал опечатку! То есть описку, но как бы опечатку. Написал: «опечатки следов»… Опечатку в слове «отпечатки»…
– Погоди… – я сел на постели, зажег сигарету. Что-то интересное я услышал в этом жарком и, конечно, нетрезвом воображении. Я ведь тоже думал о словах…
– Смотри: «опечатки следов» – это как будто бы кто-то зашёл не туда… Зашёл и повернул обратно. И оставил «опечатки следов», а? Опечатки следов на снегу… А?
– Никто не поймёт, Оса…
– Почему?
– Потому что ты споёшь «опечатки», а услышат «отпечатки»…
– То есть исправят описку? Опечатку? А-ха-ха…
В общем, были зёрна. Но зёрен тех становилось всё меньше. К тому же Оса стал срывать выступления… И если первый раз он забыл слова и просто стоял (да нет, не просто стоял, покачивался) на сцене и музыканты спасали дело, то в туапсинском Дворце молодёжи он не смог выйти на сцену. Хотя за два часа до концерта он был трезв, похмелен, да. Ну попросил выпить пива. Выпил.
А потом всё покатилось… Ушёл Женя, Макс за ним. Надо пояснить – друзьями Осы они не были. Это были хорошие и правильные мальчики с музыкальным образованием. И надо сказать, с очень приличным… Оттого немного безумные, необычные Осиные стихи, обретая музыкальную причёсанность, звучали со сцены мощно и в то же время не разухабисто. Но, повторяю, друзьями Осы они не являлись. Другом его был я.
Я видел в Осе своё отражение. Видел то, кем я мог бы стать, если бы жизнь сложилась как-то иначе… Если бы хорошее во мне одержало верх. Как так? А вот как…
Сидели как-то вечером с Осой на берегу М-ской… В начале знакомства. Весна, вино… Воля. Я его спросил:
– Слушай, Оса… Почему ты себе никого не заведёшь?
– У меня есть Дейзи…
Дейзи – это собака. Мохнатая и подслеповатая, вся в репьях и колтунах собака.
– Оса, – взмолился я, – я о бабах…
Он помолчал, пожевал травинку… Сплюнул.
– Я влюблён, – коротко ответил он, рассчитывая на то, что смешным мне это не покажется. Расчёт оказался неверен, но у меня хватило такта не рассмеяться.
– А она? – спросил я через паузу. Я дал взгляду Осы паузу. Взгляд серьёзно скользил по зелени холмов на том берегу.
– Она? – переспросил он, будто не услышал. И вдруг выдал: – Она – ангел!
– Тогда тяжело, – пошутил я.
– Ну, – подтвердил он и глотнул из стаканчика.
Зная нелюбовь Осы к рисовке, я вполне поверил, что она – ангел. Кем впоследствии она и оказалась. Анемичная поэтесса. Из тех женщин, с которыми невозможно представить совместный секс. Какой-нибудь обмен энергией или что-нибудь в этом роде для них кажется более естественным. И оттого мне с такими неинтересно. Осе – очень интересно! Она считала его грубым животным с тонкой душой… Таких не бывает, был уверен я и поэтому не полюбил анемичную поэтессу. Ведь никакое Оса не грубое животное.
Отношений у них не было. Простое знакомство. Хотя как простое – Оса-то вон как переживает… Самое неестественное было в том, что он хранил ей верность! У Осы вообще был закон: в отношении женщин – никаких скабрёзностей. Грубое животное?!
Или вот ещё: приходит без звонка, с корзиной яблок. Неожиданно румяный и трезвый.
– Серый, я в сад пошёл, яблоки собирать… И подумал, что у тебя нет сада… На! – протягивает корзину…
Таких историй – масса. Главное качество Осы – доброта. Это вообще главное качество! Доброта и открытость. «Доброту не выбирают – с ней живут и умирают». Она либо есть, либо её нет! Нельзя хотеть быть добрым. Вот я – хочу. А Оса – добрый. Был… И теперь кончился.
Я курил, машинально ломая хрупкие, спящие зимой веточки винограда. Отламывал одну, длиною в палец. Со щёлканьем сгибал её пополам. Приступал к половинке…
За лесом начинал синеть небосвод, выкатывая плоское, бледное солнце. В сухой траве копошились птицы, склёвывали что-то и перепархивали дальше… Стоял обычный зимний день, тихий и безветренный. Мне вдруг захотелось написать: «В тихий и безветренный день не стало Осы». И написать это раз, и другой, и третий. Но я знал, что это будет позже – когда алкоголь разбудит онемевшие, каждый раз незнакомые, с железным привкусом, чувства.
Мне хочется повторить ещё раз – так и должно было быть. Оса не из тех людей, что благополучно встречают старость, но ведь всегда хочется надеяться на лучшее. Так?
Как-то так получилось, что жалостливый Оса завёл кур. По-моему, ему стало жаль цыплят, что продавались на рынке… Оса ухаживал за ними, если уезжал, просил соседей их кормить. Потом куры, естественно, выросли. Оделись в яркие перья и получили имена. Оса стал осознавать неизбежность куриной казни. Перспектива питаться куриными супами вгоняла его почти что в слёзы. Один старый адыг посоветовал ему так: встаёшь рано утром, берёшь птицу, поворачиваешься на Восток и с молитвой… Оса рассказывал, как он бегал по двору за не желающими даваться в руки курами, которые бежали-то от своей смерти. Я ещё тогда подумал, что человечество – единственные существа, что бегут не «от», а «к»… А Оса был из лучших его представителей. Человечества.
Я ломал виноград, находясь не в «сейчас», а в «до сейчас»… Я совсем не знал, что делать. Наверное, стоило вернуться в Осиное жилище, набрать телефон милиции. Или «скорой»? А что сказать? «Приезжайте, здесь человек умер»? Почему нет горечи? Я уже не говорю о слезах… Почему только досада?
Дверь скрипела ещё громче. И я этого боялся, будто боялся потревожить Осу. Он лежал так же страшно, но чтобы дотянуться до телефонного аппарата, мне пришлось переступить через его тело. Я стоял с аппаратом в руке, между кроватью и столом, а подо мною… Подо мною лежал мёртвый Оса.
Нажал две засаленные и оттого медленно возвращающиеся в исходное положение кнопки….
– Алло, «скорая»… Приезжайте, здесь человек умер.
Потом я отвечал на массу ненужных вопросов. Повесив наконец трубку, выбрался во двор, захватив с собой принесённое пиво. Присел на скамеечку рядом с крыльцом, открыл пиво и принялся ждать. Солнце чуть нагревало чёрные джинсы. Природа уже замыслила переворот, и мне казалось, что издалека, с гор, вот-вот спустится весна.
Беда приобрела послевкусие тогда, когда приехали они. Милиция, за ней – «скорая». Валили меня вопросами, а главное – выносили Осу. Носилки, естественно, не проходили в дверь. Я отвернулся, и мне была слышна только будничная, ленивая ругань. Я их понимал, конечно: из-за того что эти люди встречаются со смертью почти каждый день, они должны, обязаны просто создать себе защиту, нарастить корку… Психика – штука тонкая…
Увидел боковым зрением – Оса был накрыт своей же простынёй… В синюю выцветшую полоску. Несли, кстати, как положено – вперед ногами.
Я опять отвечал на вопросы, что-то подписывал. Наконец они меня отпустили. Молодой лейтенант звонко захлопнул папку с вложенными в неё моими показаниями, сунул в рот сигарету:
– Свободен… Можешь идти…
У лейтенанта была чудная фамилия – Родин. Я подумал, как себя ощущает его жена, имея такую фамилию. И что никакое горе не уберегает человека от таких вот маленьких, будничных мыслей. Цепляются, как репей… «Человек всегда в репьях мыслей» – Осе бы это понравилось…
Возле калитки стоял сосед Осы – я предпочел его не узнать и прошмыгнул мимо, пока он беседовал с санитаром. Прошёл до поворота и, теперь обезопасив себя от взглядов и окриков, пошёл быстрее.
Всё оставалось таким, как и вчера, позавчера, неделю назад… С Осиной смертью мир не изменился, хотя глупо было бы этого ожидать. Обидно было другое – с Осиной смертью и я не наблюдал каких-либо изменений в себе. А вот за это прости, Оса.
Впереди, на обочине дороги, та самая пристроенная к дому лавка, где пожилая армянка в ответ на мою подкреплённую финансами просьбу выдаст мне вроде бы необходимую сейчас бутылку водки. Необходимую, так как мне необычно и неожиданно ощущать себя таким, какой я есть. Бесчувственным, несмотря на то что хочется, да, хочется как-то выплеснуть всё происшедшее. Эмоции, замёрзшие на дне сознания, требовали выхода и, соответственно, градуса. Я уже нёс в себе речь, которую я произнесу, когда сделаю пару глотков, сидя на берегу М-ской… Там, где мы любили сидеть с Осой. Ты уж прости, Оса, что с водкой. Увы, без неё сейчас никак, Оса.
Бутылку я сунул в карман. Вышел из лавки, под сапогами хрустели и позвякивали мелкие, подтаявшие на солнце льдинки. Ускорил шаги до остановки. До М-ской ещё надо было доехать – М-ская ведь ползёт там, в другом конце города.
Находясь в движении, я ощущал в себе миросозерцание. Скорбь – нет. Отрешённость… Я нагнал одинокую даму в белой меховой шапке… Уже пройдя мимо – обернулся. Взгляд крупно выхватил золотой зуб в приоткрытом рту, тонкую ниточку, даже скорее волосинку слюны между напомаженных фиолетовым губ. Частичку пудры на щеке… Такие подробности тревоги стали заметны мне в этот день… Толстый хвост, виляющий ласковой чёрно-белой собакой, чёрно-белой, как старые фотографии. Ближе к остановке подробности приобрели многоцветие, но выхватывались всё так же – по кусочкам. Попавшая мимо урны сигарета, выброшенная щелчком пожилого, хищного кавказца. Рука в перчатке. У кожаной перчатки – сношенные белёсые подушечки пальцев без отпечатков. «У перчатки стёрлись отпечатки. Опечатка!» А?
В автобусе – дремлющий пассажир со свежевыбритыми щеками. На скулах островки, нет, скорее остатки растительности – двух-трёхдневной. Подойдя поближе, я услышал запах вчерашнего, неназойливого и даже деликатного перегара. Погулял, вот спешит на работу – думаю я зачем-то… Некоторые подробности тревоги и вовсе будничны…
Автобус свернул на текущую вдоль реки улицу, потоптался на перекрёстке, открыл шумные двери на пустой остановке. Я спрыгнул со ступенек, придерживая бутылку… М-ская уже виднелась, поблёскивая сквозь чёрные и схематичные, как корабельные шпангоуты, скелеты деревьев.
Солнце быстро, по-южному, нагоняло в воздухе плюс. В парке возле М-ской было сухо. А у воды виднелась та самая скамейка, где начиналась наша с Осой история…
Я сел на её краешек. Потом подумал, что это ведь всё равно, и уселся уже поудобнее. Достал бутылку, с привычным треском скрутил серебристую пробку. Понюхав горлышко, поставил её между ног. Выудил из пачки мягкую мятую сигарету. Зажег её, сделал глоток и снова затянулся.
– Ну прощай, Оса, – мысль, срикошетив от языка, осталась невысказанной, хотя она так просилась на волю. И мне даже казалось, что как только мысль воплотится в слово, мне станет если не легче, то хотя бы ПОНЯТНЕЕ СЕБЯ.
– О чем думаешь? – с насмешкой спросил я тогда…
– О словах…
Получалось, что думаю я сейчас за двоих – за себя и за него… И вообще – вот ведь мы всегда думаем только о словах. На свете нет ни одного явления, которое мы не можем описать именно словами. Значит, мы всегда думаем только о словах. Жаль, что не все это понимают и придают этому значение. Словить мысль – значит её выговорить. Превратить мысль в слово! Филологические бредни, столь любимые Осой. Он мог заниматься такими экзерсисами часами…
– Ну прощай, Оса, – прошептал я. Вялые слова вывалились с набрякших этими словами губ. Я снова поднял и нагнул бутылку. Прикурил следующую сигарету от тлеющего фильтра предыдущей. Пригладил несуществующую седину на висках, опалив тлеющей сигаретой чёлку. Хоронить родителей – первая стадия взросления. Хоронить друзей – вторая. И даже не важно, что зачастую вторая стадия у многих начинается прежде, чем первая.
Солнце нагрело чёрную кожу куртки, добралось и до кожи лица. До кожи рук. До корней волос. Я расстегнул ворот свитера.
Я вдруг вспомнил, как мы с Осой закапывали Дейзи. Она умирала долго, может быть, месяц, но никак у неё умереть не получалось. И вот однажды утром заходит Оса – мнётся, трезвый… Потом произносит:
– Пойдём Дейзи похороним…
Она лежала у Осы в прихожей. В большую клеёнчатую сумку засунул её Оса. Я сказал, что хоронить собаку в сумке нехорошо. Мы обернули закостеневшее тельце старой Осиной рубашкой. Рубашка была белого цвета, с длинными рукавами, и я боялся, что негнущиеся лапы собаки попадут в эти рукава. Тогда будет смешно…
Мы закопали собаку на кромке поля, почти у самого леса. Я спросил Осу про собачье надгробие – камень там какой. Оса же коротко ответил:
– Зачем? Я же сюда приходить не буду…
Я думал и думаю сейчас, что хотел он сказать вот что: если я буду знать это место, если я запомню его, тогда я буду тяготиться тем, что не навещаю собачью могилку. Если же оно зарастёт травой и цветами – а оно непременно зарастёт, – то я буду просто помнить собаку… Без привязки к месту её захоронения. По мнению Осы, да и по моему мнению, – место упокоения меньше всего привязано к памяти. Потому что зачастую на месте упокоения своего человек и не бывал живым-то ни разу… И какая после этого память?
В случае Осы – вот она, скамейка – память так память. У-ух… От выпитой водки рот наполняется сладкой, тягучей слюной, и я пожалел, что, пытаясь соответствовать трагедии, не взял в довесок к бутылке хоть бы и плавленый сырок. И мысль об этом тоже не соответствует трагедии.
В кармане у меня завалялись какие-то семечки, и я, сплёвывая налипшую на губах шелуху, грыз подсолнечные зёрнышки, успокаивая тошноту. А шелуха некрасиво летела вокруг, и грязная, слюнявая шелуха меньше всего соответствовала трагедии.
Я понимал, что поминаю Осу как-то не так. Но пока я его и не поминал… Я его понимал. Ну не его, конечно, а его уход… Понимал – поминал… Согласные с легкостью перескакивали друг на место друга… Оса, Оса! Ведь такими словесными играми мы развлекались только с тобой.
Я вспомнил (да и не забывал вовсе) его ночной звонок… Я мог бы его спасти? Нет! Хотя на мой робкий вопрос о причине смерти фельдшер ответил дежурным:
– Вскрытие покажет…
На вопрос о том, мог бы я помочь Осе, спас бы я Осу, если бы принёс ему этилосодержащее, фельдшер ещё раз повторил вышесказанное…
А Осу я спасти не мог. Я мог бы отсрочить его неизбежную гибель на месяц, на две недели… Кроме Осы, спасти Осу от гибели не могла ни одна живая душа. Оса же от гибели, как я уже говорил, не спасался – напротив, бежал к ней на полных парах со скоростью паровоза. Вывод один – чувства вины у меня не было. Я знал – алкоголика от алкоголя может спасти только сам алкоголик… По опыту с матерью я познал это очень внимательно и целиком. Можно прятать алкоголь, просить, ругаться, наконец… Прости, Осиная голова, я отвлекся.
Был будний день, рабочий день, и парк был практически пуст. Я же не мог отделаться от мысли, что какой-либо прохожий вдруг вынырнет ниоткуда и, потупив глаза, спросит вдруг:
– Водку будешь?
А после третьего глотка водка расслабила… И я наконец почувствовал себя легче. Небытие Осы становилось правдой. И успокоенные этим мысли потекли ровнее. И суетливая печаль вдруг стала приобретать глубину…
Я помню – Оса обожал глядеть на звёзды. Он говорил, что видит в них в первую очередь не красоту – вечность. Собирая его восторги воедино, я охарактеризовал бы отношение Осы к ним так: их так много, они так далеки, что и помирать не страшно. Хотя у Осы это всегда звучало более романтично. Я с ним соглашался, но меня впечатляли более ощутимые расстояния и скорости. Смена времен года… В этом я видел какие-то отголоски постоянства… И поэтому я думал так: «Вот Оса превратился в весёлый воздух, в солнечные лучи, в постоянную текучесть и задумчивость М-ской, в серые её воды, наполненные зеркальными бликами. Все мы умрём, Оса, но не исчезнем с лица Земли, пока существует память о нас. Я помню тебя, Осинов…»
– Я помню тебя, Осинов, – пробормотал я, стесняясь даже немного этих слов. Но слова были нужны, а кроме себя самого, стеснять словами было некого. И снова приподнял бутылку…
Неслышимая, немая М-ская разливалась внизу. Было тихо-тихо, и мир разговаривал со мной только на птичьем, древнем и непонятном мне языке. И мне вдруг подумалось так:
«А ведь всё не важно, Ромыч… Кто мы, где мы… Живые мы или мёртвые… Всё смоет она – М-ская, другая река… или Млечный Путь – тоже по-своему река. Тысячи и миллионы световых лет и какие-то немыслимые миллиарды лет временных… Всё, что мы можем, – оставить песчинку памяти на короткую секунду. Ничего более… Вот ты, Ромыч, оставил добрую, светлую песчинку. Мне вот она нужна была, песчинка. И ничего более… Спасибо тебе, Рома».
Я сделал последний глоток и отставил бутылку в сторону. Это была уже лишняя, ненужная жидкость… Я примирился с уходом. Я поблагодарил Осу за его существование. Я примирился, поблагодарил и назвал его по имени.
Всё? Да, конечно, не всё… И саднить будет, и будет болеть… Да ещё куча всяких неприятных и обязательных штук. Но первый и важный для меня шаг был сделан.
Я поднялся со скамейки, засунул руки в карманы, образовав тем самым внутри себя отчуждённость… Отстранённая, стояла и поблескивала ополовиненная бутылка. Я отвернулся от неё и пошёл вдоль М-ской к автобусной остановке. Мне было необходимо поесть и выспаться…
Катя
Конечно, расписаны мы с ней не были. Более того – знали, что если браки свершаются на небесах, то против наших с ней граф стоят другие люди с другими фамилиями. Просто эти люди пока не встретились нам в жизненном переполохе. Я же пытался делить с ней одиночество, изредка переходящее вдруг, после делания любви особенно, во что-то большее. Но что-то большее подразумевает другую полярность, и когда наступало что-то меньшее – я не хотел её видеть. Спать с ней я хотел всегда, а вот засыпать – нет.
Она была старше меня, пусть и на два года, но это старшинство было именно психологическим старшинством. Катя занимала приличную должность и имела соответствующие должности деньги. Денег не жалела… Жадность – не её качество. Но! Эти «но» и составляли всю мою неопределённость отношения к ней. Не жадная – но принципиальная. Зачем, например, тратиться на подаяния нищим и алкоголикам? Пьющая из горлышка вровень со всеми, когда случались такие ситуации, но тыкающая меня носом, если я вдруг забывал вымыть рюмки после посещения друзей и ставил рюмки в сервант, не сполоснув. Да, ещё обидное – Катя никогда сама не покупала противозачаточные, их должен был покупать только я. И это тоже было из разряда принципиального… Без таблеток – всё что угодно, исключая естественность… Что наводило на мысль о том, будто от меня иметь детей она не хочет. Да мы и не говорили об этом. Достаточно было просто это подразумевать.
Ещё пара «но»: любила принимать гостей, но только если гости были не моими гостями. Общие знакомые – пожалуйста. И, кстати, Оса к общим не относился.
И самое главное: она жила у меня, но не переезжала ко мне. То есть пыталась жить на два дома. И это были две разные Катины жизни. Постоянно дымящая, красивая когда-то мать её и отчим – солидно располневший с годами, бывший спортсмен, лыжник вроде бы, – вот они были для неё второй, иногда казалось мне, более близкой семьей. Все ссоры наши заканчивались её побегом и недельным обычно отсутствием…
Я, наверное, тоже не был для неё идеальным мужчиной. Небрежно одевался, ложился спать под утро… Не говорил ей ласковых слов… Последнее вообще было для неё болезненным. А я не мог себя переломить. Я не мог говорить нежности красивой и взрослой девке, умной к тому же… Стоящей на своих чудесных двоих гораздо увереннее меня.
Скреплял же отношения наши… юмор. В словотворчестве она напоминала Осу, но если у Осы словотворчество больше напоминало шаманские заклинания, где вокруг слова строились символы и догадки, то словотворчество Катино было лёгкого, смешливого характера.
Однажды мы стояли в магазине. Неизвестная пожилая дама попросила меня:
– Достаньте мне вот ту банку… Вы длинный.
Катя отреагировала тут же:
– Длинный бывает язык. А он – высокий…
И стояла дальше, умело сдерживая смех.
Или говорит мне после любви:
– Серега, а ты всегда был секс-символом?
Я приподнимаю бровь, чувствуя подвох…
– В том смысле, что секс с тобой всегда был чисто символический?
Искусная пауза. Общий хохот.
Как-то заявила нахамившему ей знакомому:
– Выйди и закрой за собой… рот.
Она не могла быть слабой, и это меня настораживало… Мне кажется, слабость сродни чувствительности. Нельзя быть сильным перед звёздами, как сказал бы Оса. И я бы согласился…
– Почему ты не стала моделью? – как-то пошутил я. Вернее, попытался сделать комплимент ходящей по комнате её обнажёнке.
– У меня щиколотки толстые… Вот тут, – она провела пальцем от икры вниз, – должно быть, – не помню, сколько она заявила, – сантиметров. А у меня на сантиметр больше…
То есть вот если бы не щиколотки… Ох уж эти щиколотки…
Вот так мы и «толкались» друг с другом, но нередко, в те самые недели обиды её на меня, я догадывался, что мне надо что-то менять…
Это чувство явилось ко мне ещё в Краснодаре. С Катей, да и с Осой я был, конечно, ещё не знаком. Меня в прямом смысле слова мутило от собственной бессмысленности. Не бесполезности – внутри себя я был полезен. Хотя, вроде бы, только себе. Но пугало не это. Я ощущал что могу, в состоянии и таланте сделать что-то ещё. Большое и, наверное, нужное.
В М-ске я понял, что горка денег, насыпанная поверх необходимой суммы Осой и его командой, не приносит не то что счастья – даже удовольствия. После того как я перебрался в М-ск, с нуждой я не сталкивался. Получив же впервые приличную сумму от Осы, бросился покупать музыкальный центр. Через две недели я понял, что мой старый и потрёпанный предыдущий считывал с аудионосителя те же слова и те же ноты. Горка подсыпалась – а я думал: «Зачем?» С детства я питал равнодушие, даже неприязнь к автомобилям. А в первую очередь к автолюбителям. И получал удовольствие от пешего, неторопливого передвижения. Поэтому нежелание автомобиля сделалось элементом гордости. Слабости были удовлетворены – духовое ружьё, два непомерно дорогих и острых ножа с красивыми ручками и непомерно острой сталью. Всем этим я пользовался раз, может быть, месяца в три… И что было бы, если этот раз, который месяца в три, я употребил бы на более полезное занятие? На чтение, например. Я не стрелял по птичкам, а магазинное мясо вполне поддавалось обычному кухонному ножу. Только гитара была приобретением расчётливым и разумным. Это было точечное, точное приобретение. Это всё. Тогда что же так тревожило меня? Что не позволяло порой уснуть до утра, почему я до первых птиц ворочался в постели? Почему курил на балконе, мечтая о том, чтобы сигарета кончилась только к утру? Вывод о том, что дело не в деньгах, я сделал быстро и безапелляционно.
Я много читал. Но в отличие от других книгочеев, литература не была для меня выходом. Хуже того – она была входом. Литература была для меня входом в тот мир, возвращаться из которого мне не хотелось. Однако честолюбие не позволяло мне сделаться червем, пусть даже и книжным.
Завидовал ли я Осе на пике его популярности? Пожалуй, нет. Я завидовал его месту на сцене – это было. Но ведь со сцены можно было произносить всё, что угодно… И я не мог предложить миру то, с чем выступать на сцене было бы неожиданным и интересным.
К счастью, я знал место своим стихам. У них не было недостатков. Беда в том, что достоинств у них было тоже не много. Они были крепенькие, как ещё сотни породистых щенят в собачьем питомнике. Крепенькие и одинаковые. А как известно, новые и красивые породы обычно рождаются посредством мутаций. Против мутаций возражало всё моё сознание… Да и не с таким, пригодным для хороших стихов сознанием я родился. Исполняющий мои песни Оса благородно и благодарно объявлял меня автором, кивая в задымлённую, хаотичную темноту, где среди зрителей находился и я. Я только чуть кивал головой в знак благодарности, так что даже стоящие рядом люди этого не замечали. Это было приятное «не моё», и Оса, зная это, никогда не звал меня на сцену. Я был «серым кардиналом» не потому, что этого хотел. Потому, что первая и ведущая роль мне не светила.
В общем, как я уже говорил, всё равно надо было что-то менять.
Я перечислял в уме возможности: место жительства, род занятий, работу? Женщину? С алкогольными проблемами Осинова и, соответственно, с появлением бездельного времени это чувство утвердилось во мне, залегло внутри меня глубинной бомбой с часовым механизмом (по крайней мере, мне так казалось), напоминающей о себе пока что только более или менее назойливым тиканьем.
«Кто я?» – задавал я себе естественный и разумный вопрос, но в отличие от большинства ответа я не находил…
Многие мои друзья мечтали путешествовать. Увидеть джунгли Южной Америки и бездельные пляжи Гоа. Париж и Венецию… Я – нет. Зачем мне всё это, когда я не определился с главным и единственным вопросом: «Кто я?» То есть путешествовать я всё-таки хотел, но прежде я хотел кем-то стать! Получить право на путешествия…
Было так: начиналась зима, робкие заморозки покрыли стёкла корочками изморози, легко соскабливающимися ногтем. И стоя в тамбуре электрички (станция назначения уже и не важна), я раз за разом царапал на матовой белой поверхности одно и то же…. Пока поверхность стекла не оказалась неравномерно, однако почти полностью исписанной… «Кто я?.» «Кто я?..» «Кто я?..» Мне нравилось раз за разом выводить это словосочетание так, как будто бы, написав его многое количество раз, уставшая от повторений рука сама вдруг напишет ответ. Ответа не было – мной овладевало отчаяние…
Возвращаясь к Кате: тема эта в наших с ней разговорах была – табу. В отличие от меня она точно знала, кто она. И хотела иметь рядом с собой такого же знающего мужчину. Может быть, нежелание детей из той же оперы-балета?
Я говорил ей несколько раз – говорил о том, что есть другие люди, города, занятия… Понимая, впрочем, что и в других городах и занятиях я не могу появиться с дырявой авоськой знаний. Её красота и моя неплохо соображающая голова – это никакие гарантии. Но меня приводило в отчаяние даже нежелание попробовать что-то изменить… Как любил повторять мой знакомый ставропольский музыкант: «Лишь бы лететь – пусть даже и фанерой над Парижем». Пока же я покорно ожидал, что под лежачий камень вдруг, ни с того ни с сего, потечёт ручеёк. Образно выражаясь, под два наших лежачих камня ручеёк и тёк – устьем ручейка был смешной пупырышек презерватива. Никаких других ручейков пока не предвиделось. Плюс, как я говорил, вторая Катина семья – мать и отчим-спортсмен собирались увезти её драгоценные прелести загорать на какие-то египетские курорты. Где её прелести будут ещё более прелестными. Я же, настоявшись, как колодезная вода на дубовом листу, на рассказах Казакова, мечтал о севере и безлюдье… И она-то, если не случится поговорочного кирпича или чего такого, точно попадёт в Египет. Я же с севером… Вечная нерешительность.
Север должен был принести те впечатления, которых я боялся и жаждал одновременно. После севера, казалось мне, я буду наконец-то обязан сесть и писать. Я буду должен северу… А быть должным я не любил.
В ящике письменного моего стола лежали десятка полтора рассказов. В идеальной аккуратности и бездеятельности. Эти рассказы я показывал только Осе. И Оса, как я и ожидал, не оценил рассказов. Вернее, он их просто не прочёл. К нерифмованным словам Оса относился с прохладцей. Безрифменные и безритменные слова были для него средством поиска. Перспективой их зарифмовки… Или наоборот – лишним оплывшим воском вокруг идеального до невозможности пламени свечки. Да к тому же поэты вообще редко интересуются чем-то, кроме Бродского, себя и ещё парочки таких же безумцев. Я для Осинова исключением был лишь потому, что мои стихи были другими, чем его. Щенки разных пород…
Отдав Осе рассказы, я забрал их через неделю под каким-то предлогом, а он про них больше не спрашивал. Мы поняли друг друга без слов и обид.
Я повторюсь – я боялся севера. Я с отчаянием понимал, что, если я приеду оттуда пустым – это может оказаться катастрофой. При том что писать я не любил. Писательство напоминало мне бесцветную картину пахоты бесконечного поля… Бородатый мужичонка и худая лошадёнка с криволапым плугом, напоминающим худо сделанные грабли… Триумф где-то там, за пятьдесят. Перспектива его – минимальна. Трудозатраты – огромны… Причём триумф к такому возрасту пугал гораздо сильнее трудозатрат.
Писать я не любил, но иногда – редко и метко – находились, как мне казалось, те самые слова, которыми чётко и нервно вырисовывалась, выражалась вдруг ускользающая, торопливо промелькнувшая эмоция. Я схватывал её, и застывшая, эмоция превращалась в мысль. Мысли оформлялись в цепочку. И цепочка записывалась единственными, нужными словами. Мне верилось – выходит неплохо.
Однажды, как только я познакомился с Осой, я случайно сблизился с одним засаленным типом. Тип снимал клип. Осе. Тип много суетился, обосновывал свою бездарность (хотя какая «дарность» тогда стала бы что-то снимать Осе?) художественным понятием «минимализм»… Видимо, за неимением их в постели, требовал обнажённых девиц в кадре. Короче, он и Оса быстро послали друг друга к известной матери, но… Этот засаленный чудак действительно любил кино. Следил за новинками. Собирал видеокассеты. Подписывал их корешки совершенно неясным и бледным шариковым почерком. Именно поэтому я не знаю названия фильма, что он мне дал посмотреть. Это было как раз накануне ссоры. Кассету я не отдал по той причине, что режиссер слинял. Скрылся. Исчез. А посмотреть её решился ещё через месяц. Я-то как раз к кино отношусь прохладно.
Я четко помню – сварил ковшик кофе… Как будто приготовляя себя к чему-то… Хотя был обычный, стандартный для летнего М-ска вечер. Кофе я всё больше употребляю с утра. Толкнул кассету в щель проигрывателя. Фильм начинался даже не с начала. Того засаленного, что мог бы мне объяснить завязку, не было рядом и нет до сих пор. На экране миловались обнажённые подростки. Девочке – лет шестнадцать. Хотя нет – это было официальное французское кино, претендовавшее на какую-то награду. В общем – неформалы, первая любовь, худосочная претензия на эротику, грудки-семечки – тоска и скука… И в один из моментов зазвучала музыка. Пронзительная и точная одновременно. Сочетание – идеальное. Я вспомнил всё. Я – подросток, поцелуй почти первый – мы что-то делаем друг с другом в голом виде и ещё точно не уверены – что. Фильм – мусор. Музыка – не будь её здесь и сейчас – мусор тоже. Я дослушал мелодию, перемотал и поставил ещё раз. Кому сказать спасибо – безгрудой девчонке с экрана? Двум французским мальчикам актёрам, что так нежно целовали эту девочку? Композитору, сочинившему простенький рефрен?
Я нажал «стоп». Едва ли не на ходу наливая кофе, кинулся к столу. Утопая в сигаретном дыму, я бежал по бумаге, боясь спугнуть состояние любым лишним движением. Я окунулся туда, в слова, так, будто переживал своё состояние снова. Единственное отвлечённое действие, что я совершил за эти два дня бегства, – я ходил за куревом. Да варил кофе. Я вскипятил и приготовил рассказ. Потом я проспал сутки. И даже когда проснулся, глаза чесались от висевшего в квартире дыма.
Получается, что писать я любил? Да. Я не мог вообразить, как можно заставить себя писать. Как можно заставить себя добровольно пахать бесконечное поле… И, наивный, я всё надеялся, что мне поможет север.
– Я вижу, вы вместе с Осой наопохмелялись? – Катя пригрела на лице усмешку. Она вернулась с работы. Успела переодеться в домашнее. Выпившего – она переносила меня легко, а главное, редко. Я ещё не успел забыть ту дорожку, по которой отправилась в вечность моя матушка.
Усмешка всегда удачно и симпатично существовала на Катином лице. Сейчас должно было последовать: «Ну раздевайся…» – по интонации так похожее на добродушное «Горе ты моё…»
– Ну раздевайся…
– Слушай… – язык опять прилип к нёбу. Я стоял, не двигаясь.
– Э… Э-э, – она поняла: что-то тревожное.
– Слушай, – подтвердил я, – Оса умер.
Катя, спасибо ей, не стала задавать глупых вопросов… Наподобие «как?» или «когда?». Несложно, например, догадаться «когда», если ночью он ещё был жив… Катя сказала:
– Ого, – и опустила глаза. Хотя, наверное, слишком громкое «ого» для настоящего соболезнования. Больше от удивления. Я тут же подумал, кому же она должна соболезновать? Если Осе – ему уже и не надо. Мне? Я-то, увы, переживу…
– Я к нему утром пришёл, – рассказывал я, снимая куртку и ботинки, – а он уже лежит…
– На кровати? – почему-то спросила Катя.
– На полу. Да и какая разница… – всколыхнулось вдруг раздражение.
– И ты там с ним?..
– Сидел? – закончил я за неё. – Нет, вызвал милицию и на лавочке пиво пил.
– Пиво? – переспросила.
– Ну пиво, которое ему нёс… А что я должен был – головой об стену биться? Рыдать – так не рыдалось…
– А я понимаю… – Катя сдунула чёлку. – Когда папы не стало, я вообще на дискотеку попёрлась…
– Хочешь сказать – организм защищается?
– Нет, просто говорю тебе. Помянем? У меня есть немного. Мы с Лидкой не допили…
Лидка – её подруга. А не допить они могли только мартини, потому как только его и пили.
– Ну давай твоё немного…
Катя запустила руку в кухонный шкаф, достала полбутылки ожидаемого.
– Вот только с соком мешать не будем…
– Да какой сок, – отозвалась она, соглашаясь, – не тот случай.
Хозяйским движением пальцев уцепила сразу две рюмки, налила так, что на поверхностях рюмок образовались выпуклые линзы. Капли поползли по стеклу. Тяжёлый напиток густо пахнул лекарством. По крайней мере мне так казалось…
Молча потянули рюмки ко рту, высосали лекарство. Поставили рюмки обратно.
– Тебе больно? – состорожничала Катя. Оса был первой нашей совместной потерей.
– Да скорее странно. Уже ведь его не наберёшь…
– Ты часто ему звонил последнее время? – это прозвучало вопросом, но вообще это было утверждение. Последнее время я ему почти не звонил, потому что его последнее время Осинов был тяжело и невежливо пьян.
– Ну да, – подтвердил я, соглашаясь с утверждением, что не часто, наблюдая, как за окном на стволе дерева живая птичка выковыривает из-под коры какую-то снедь, работая клювом, как сапожник шилом.
Мы замолчали. Птичка передвинулась по стволу чуть ниже. Я не знал названия этой зимней пичуги.
Катя опять налила лекарства. «Интересно, помогло бы это лекарство Осе?» – подумал было я, но прогнал и проклял эту мысль. «Помогло бы в этот раз – не помогло в следующий».
– Ладно, – вздохнула Катя, глядя на жидкость так, будто выискивая на дне рюмки невидимых микробов. Я чуть было не улыбнулся.
– Серёга… – начала она вдруг осторожно, переходя с поминовения Осы на какую-то другую, ей важную тему.
Я перевёл на неё глаза. Поминая Осу, удобнее было глядеть на заоконную птичку.
– Я начинаю к тебе привыкать… – сказала она очень серьёзно. С её стороны это звучало почти признанием в любви, какового я от неё не слышал, да и не ждал особо…
– Я давно к тебе привык, – не сморгнув, солгал я. Потом всё же сморгнул. Потому как солгал наполовину.
Она щурилась сквозь сигарету и долго и прозрачно глядела на меня, не замечая дыма. И улыбнулась:
– Ты не понял… Это похоже на чувство.
Я возвратил взгляд за окно, меня охватило замешательство… Заоконная птичка переместилась ещё ниже по стволу, задорно вертя хвостиком.
– И… – подтолкнул её я.
– Мне нужна неделя, – запуталась она вдруг, опустила глаза и, показалось мне, покраснела. Впервые за всё общее время…
Я её понял. Она просила… она просила неделю, как… как просят убавить пламя под сковородой, чтобы блин не сгорел раньше, чем будет румян и маслянист. Только хозяина этой сковороды не спросили, каким он хочет видеть блин этот…
– Там по последней, – я заинтересованно потянулся к бутылке. Как к лекарству от ненужных и необдуманных слов.
– Ты переводишь тему… – она выглядела немного даже счастливой своим признанием.
– Я стараюсь избежать пафоса… – тему я действительно переводил.
– Так ты даёшь мне неделю? Вообще без тебя? – сигарета, как влитая, торчала в её руке и густо дымила. Это было даже красноречивее, чем какое-нибудь её дрожание. Катя волновалась.
– А что будет дальше? Что-то изменится?
– Мы договорились? А потом ты узнаешь, что… Может быть, у меня будет одна семья, а не две.
– Неделя нужна с сегодняшнего дня? – задал я последний вопрос. Отпускать её сегодня я не хотел. Потому, что хотел её. Я хотел бежать от кошмарного утра любым возможным способом. Инстинкт размножения работает вдруг в неприглядных и не соответствующих трагедии случаях.
– Нет, с завтрашнего. Сегодня я останусь с тобой…
– Тогда докуривай быстрее…
– Больно… – резко вздрогнула она всей кожей, когда я позволил себе немного грубости. Я попытался чуточку отстраниться, но она, обнимая меня, выдохнула быстрым, ярким шёпотом:
– Нет, нет… Сделай ещё больнее… Тогда хорошо будет…
Мир закачался, заскрипел… «Сделай ещё больнее. Хорошо будет».
Когда я вернулся на кухню, чтобы попить воды, маленькой птички на стволе дерева уже не было.
Странная вещь, думал я, лежа в постели. «Он проснулся и вдруг вспомнил, что…» – это для книг. В жизни всё по-другому. Я помнил это ещё по тому времени, когда умерла мать. Пробуждаешься, уже зная. Бережное сознание как-то хранит нас от шоковой терапии. Вот и сейчас – проснувшись, я ничего не вспоминал. Проснувшись, я уже знал, что произошло вчера.
Катя спала бесшумно, и я несколько минут слушал только тишину, в которой, даже прислушиваясь, не отыщешь её дыхания. Стараясь не шуметь, встал, натянул шорты…
Возле мойки на кухне сияли вымытые рюмки. В чистой пепельнице на подоконнике догнивал единственный Катин окурок. Бутылка отсутствовала. После того как я вчера лёг, Катя всё вымыла и убрала.
Я попил воды из под крана, поставил чайник. Первое, что попросит Катя, проснувшись, – поставить чайник. А он будет уже горячий… Она будет пить зелёный, пахнущий рыбой чай и потом торопливо краситься… Готов ли я к тому, что это будет происходить ежедневно? Готов ли я к тому, что она даст мне подписку о невыезде?
Катя проснулась по будильнику. Несколько минут лежала, не двигаясь, – я это слышал. Потом, пошуршав одеялом, по обыкновению села в постели.
– Степнов, чайник уже горячий? – послышался из комнаты сонный, а потому на тон ниже её голос.
После обычных утренних процедур – долгого хождения в ванную и обратно, расчёсывания волос с заколкой в зубах, подкалывания этих волос за ухо, деловитого молчания – она налила чашку рыбного чая, села боком к столу. Взяла фигурную чашку двумя пальцами, подула на кипяток.
– Голова не болит? – задала участливый вопрос…
Я видел, как она топчется на месте, не зная, с чего начать необычное утро. Или она передумала уходить?
– Серёга, ты не передумал? – хлебнула из чашки.
– Как можно пере-думать, если я и просто-то не думал об этом… Это твоё право. Да и передумать можешь только ты. В конце концов, «надо» – значит, надо.
– Надо, – подтвердила она и опять хлюпнула чаем.
Мне казалось, будто она чего-то недоговаривает. Будто думает больше, чем говорит. Но сейчас мне было вполне достаточно и этого.
Когда она уходила – строгая, прямая, собранная, – остановилась у дверей. Достала из сумочки ключи от квартиры. Протянула мне, и я поймал ключи в ладонь.
– Чтобы не было соблазна… Пока. Я сама тебе позвоню… – и неожиданно поцеловала меня, как бы извиняясь за что-то. Это было необъяснимо, потому что такие нежности ни я, ни она не выносили…
Капитан ближнего плавания
Осу хоронили в дурную погоду. Надо сказать, что мне не пришлось участвовать в каких-либо приготовлениях, потому как у Осы обнаружилась масса родственников. От Краснодара до, как выяснилось позже, Магадана. Дату и время мне сообщил грустный женский голос, обладательница которого сама нашла мой телефон в записной Осиной книжке. Книжка была настолько истоптана буквами, что найти среди них мою фамилию оказалось не так-то просто.
Я нехотя набирал номера наших общих знакомых. Большинство из них уже всё знали. Получив десятки соболезнований, выяснил вдруг, что знакомые не очень-то хотят прощаться с Осой. Кто-то даже пожалел об одолженных ему деньгах. Я силился их понять. Силился так, что иногда у меня это получалось. Последнее время Оса всё ж таки им насолил… И наперчил. Звонил ночами. Просил выслушать. Опять же, просил денег. И самое противное, как оказалось, – плёл в разговоре всякую чепуху… Легко плести чепуху, когда заплетается даже язык.
Сначала я терпеливо пытался объяснять, что чепуха рождалась не Осой – алкоголем. На мои плечи ложилась неожиданная обязанность – оправдываться. К тому же не за свои поступки. А потом мне это надоело, и знакомые стали получать от меня бледную справочную информацию. Как в «Новостях» – «Прощание состоится…»…
Единственной, пожалуй, кто удивил меня, была та самая анемичная поэтесса. Голос вздрогнул, взлетел, слышно было, как на том конце провода поэтесса глотала слёзы:
– Ой-ой-ой, Ромочка… Ромочка…
– Не плачьте, – сказал я, уже набрякший недовольством, как водою промокашка. Хотя такая реакция – да, была неожиданной.
– Понимаете, Сергей… Я его любила… Через стихи…
– Ну да… Через старые стихи… – жестоко ответил я.
– Нет. У него было много новых… Вы не знаете, он мне письма присылал со стихами. Хотя живём – через две остановки. Только стихи – никогда ничего не приписывал…
Вот тебе и тантрический секс. Эту тайну Оса мне не поведывал. Держал её в Осином гнезде… Хотя я думал, что по пьянке он выболтал все тайны. Я думал, гнездо Осы – пустое гнездо…
– Извините… – пробормотал я.
– И вы меня…
– Марианна, – я вдруг вспомнил имя анемичной поэтессы, – не приходите. Послушайте меня – не приходите… Он там… – я повторялся, чтобы подобрать слово, – изуродовался. Если бы он мог попросить, он бы попросил… Ну чтоб вы его не видели таким…
– А, я поняла, – испуганно заторопилась она. – Поняла…
– До свидания, – сказал я, тут же испуганно подумав: «Где?»
– До свидания, Сергей.
По её голосу я понял, что она придёт. Анемичные поэтессы – храбрые люди…
Хоронили Осу в дурную погоду. Липкий от дождя ветер загонял весну обратно в горы. Тучи ползли, как гигантские серые утюги. Собаки хороших хозяев сидели дома. А я решил не пить на поминках. Слишком много чести для водки, виноватой во всём случившемся.
Возле морга уже топтались незнакомые люди, хотя я приехал пораньше. Прикрытая дверь в Зал прощания попискивала уныло и монотонно, когда я заходил внутрь. Около единственного в этот день гроба – в ногах лежали гвоздики – молчали двое. В пожилой женщине я узнал тётку Осы – мы виделись на похоронах его матери. Тётка Осы сильно поседела с того времени и ещё больше растолстела. В такт её бесшумным всхлипываниям колыхалась вся непомерная и безразмерная фигура. Тётка Осы тщательно протирала глаза беленьким платочком. Протирала так внимательно, как будто делала нужную работу. Тихонько сморкалась, пряча нос в кулаке. Увидев меня – кивнула.
Мои глаза протирать было незачем.
Оса лежал густо загримированным, белым от пудры или крема, чего там они используют… Губы исчезли – остались две едва видимые розовые полоски. Под ушами видны были натёки… И главное – я не мог поверить, что то, что лежит передо мной, когда-то жило. Двигалось и говорило. Ещё один природный ход, спасающий психику. На нет и суда нет…
Я ещё немного поглядел на чучело Осы, ловя себя на том, что с таким же успехом можно глядеть на пустые стены. В потолок. На всё то, что лишено движения. На всё, что мы называем вещами.
Я мог бы уйти. Но печальному телефонному голосу я обещал быть на поминках… Связав таки голос с образом, можно было сказать – тётке я Осиновой обещал…
Я уместил четыре гвоздики поверх других, пытаясь не закрывать чужие цветочные головки своими. Достал сигареты, так чтобы тётка и, очевидно, муж её видели причину моей отлучки. С облегчением вышел в скрипучую дверь под порывы ветра.
Несколько человек – две пожилые женщины, мужчина и пацан лет двенадцати – о чём-то шептались в стороне. А я надеялся, что увижу кого-то из знакомых.
Прибывали ещё какие-то люди – всех приходящих к Осе ещё издали можно было узнать по цветам. А пересчитав цветы – по их, цветов, чётности. У Осы, я повторяю, была уйма родственников. Вышла тётка, поприветствовала меня ещё раз, всё так же сморкаясь в мокрый уже платок. Потом спросила тем же шёпотом, который, очевидно, стал здесь хорошим тоном:
– Вы на поминках будете?
– Да, – громко ответил я, и все обернулись.
Я боялся вопросов. Не очень-то приятно передавать словами эти воспоминания. Всё, что я хотел сказать, услышала Катя.
Анемичная поэтесса Марианна появилась неожиданно. Простовато одетая – потертые джинсики, куртка-пуховичок на рачьем меху, говорящем о полном денежном безрыбье. В руке – четыре траурные розы, в другой – выгибающийся и пружинящий под ветром зонт. А появилась неожиданно потому, что я её не узнал. Признаться, ожидал от неё какой-то позы. Нет, идёт себе, как будто ещё один представитель многочисленного Осиного семейства, объединённого общей печалью.
Узнав меня, замедлила шаг. Подошла, на ходу закрывая зонт. Беспородное, симпатичное личико было обрызгано веснушками.
– Пойдёмте, – вместо приветствия кивнул я. Мне зачем-то понадобилось сохранять психическое здоровье анемичной поэтессы, если вообще у поэтесс может присутствовать такой атавизм, как психическое здоровье.
Дверь снова пискнула, как обиженное маленькое животное. Люди, стоявшие возле Осы, то выходили, то появлялись снова.
Я не держал поэтессу ни «под», ни «за» руку, но не она подошла – я подвел её к Осе. И тут она удивила меня снова: положив цветы – а цветы уже доходили ему до пояса, – поправила Осе покрывало. Заботливо подровняла его… Ромашковые глаза при этом сделались серьёзными, горькими глазами. Потом она наклонилась к уху Осы и что-то ему зашептала. Слышны были только шипящие. Родственники понимающе сделали шаг назад. Они, наверное, думали, что анемичная поэтесса – девушка Осы. В каком-то смысле так оно и было. Когда она донесла до Осы всё, что считала нужным, поцеловала его в лоб и отошла. Родственники снова сомкнулись. А я проникся достоинством, с которым Марианна подошла попрощаться. Беспородное лицо – ещё не отсутствие породы…
Когда мы вышли курить, на бессмысленное стояние уже не было сил, дождь притих. Невдалеке, но как бы за территорией морга, хотя она ограничивалась, территория эта, только в сознании, вросшая в землю, торчала серая сырая скамейка. Мы, не сговариваясь, направились туда. Повторяю, скамейка была вне морга – просто больничная скамейка. Подразумевалось, что вот на ней разговаривать громко можно.
– Хорошо бы, чтобы выглянуло солнце, – предположила она, доставая сигареты.
– Вы пойдёте на поминки? – мне тоже хотелось солнца, я продрог, а ведь предстоял ещё путь на кладбище.
– Зачем? – она недоуменно повела плечом. – Пить?
– Всё правильно, – подтвердил я её «зачем».
– Хорошо бы, чтобы выглянуло солнце. Последнее стихотворение, которое он прислал… Там было много про солнце. Все думают по его стихам, что Ромка любил дождь, осень… Нет, Ромка любил солнце…
– И звезды… – добавил я.
– Вы тоже знаете? – удивилась она.
– Ну да, знаю…
– Я хотела вас спросить, Сергей… Что вы подумали, когда… ну, нашли Ромку?
– А что вы хотите услышать? – съязвил я. Она что, думает, я ей душу наизнанку выверну? Душа не шуба – вывернуть её не так просто.
– Я ничего не подумал. Я сперва испугался, а потом сел на скамейку и стал пить пиво, – мне захотелось её ошеломить.
– Всё правильно, Сергей, всё правильно, – и умная поэтесса выпустила медленную струйку задумчивого дыма.
Пока мы сидели, ровно к назначенному времени повалил народ. То есть не то чтобы повалил – его просто стало намного больше, и состоял он из знакомых Осы и поклонников его творчества. По большей части – в одном лице. И сразу похороны приобрели ни с чем не сравнимый оттенок безумия, потому что большинство молодёжи к полудню уже успели Осинова помянуть.
Кто-то ещё и прихватил бутылку с собой. Разливали прямо за моргом. Молодой парень с русой козлиной бородой, в длинном плаще, смотревшемся кожаным (я мог бы поклясться – из кожзама), припёрся с гитарой. Гитара торчала на его плече декой кверху. Держал он её за облезлый гриф. Так строители носят свои кирки, лопаты… Ломы, наконец. Козлиный парень не знал, что гитара не часть имиджа. Гитара – инструмент, и гитара имеет свойство трескаться от влаги. Да и вообще от такого обращения. Ему было всё равно.
Бутылка за моргом кончилась. Я не заметил, прощались они с Осой или ещё нет, но взамен первой у них появилась вторая бутылка. Их привлекла скамейка, но я издалека пригрозил молодым поклонникам Осиного творчества кулаком, и они махнули рукой на свою идею.
И тут я увидел Макса.
У Макса было прозвище – странное немного прозвище, но Макс на него отзывался. Прозвище его было – «Один Хрен». А получил он его так.
Женя привёл на первые репетиции Макса, они вместе учились в музыкальной школе: вот, мол, неплохой басист. Басистом Макс действительно был первоклассным. Оставаясь при этом совершенно инфантильной личностью. Когда Оса – свежий тогда, полный деятельной энергии – спросил его, что Макс предпочитает играть, Макс ответил:
– А мне один хрен – лишь бы не скучно.
Рассеянно улыбнулся.
Как потом выяснилось, рассеянная улыбка, ставящая в тупик собеседника, – его любимая реакция на отношение к нему окружающего мира.
Оса попросил его уточнить.
– Да я же говорю – один хрен.
Осе это не понравилось. Оса с его деятельной энергией любил таких же – энергичных парней.
– Да мне один хрен – могу играть, могу не играть, – огрызнулся Макс.
Оса рассказывал эту историю направо и налево. Правда, только потому, что это была история с весёлым, хорошим концом. Когда Макс таки заиграл, Оса действительно понял – «один хрен»! Макс играл здорово всё, что играл. Однако «один хрен» прижился. И прилип к Максу. Он же, приняв это прозвище, носил его с рассеянной улыбкой. И если Женя, гитарист, ушёл из группы в первую очередь из-за обид на Осу, Макс покинул группу от отчаяния. Когда группы уже и не было.
– Макс! – позвал я его. Уровень громкости похорон возрос настолько, что мне пришлось повысить голос. Он обернулся на мой голос. Приподнял вверх руку, что означало: «Иду».
Мы втиснули друг другу ладони приветствия.
– Ты там был? – я кивнул головой в сторону морга.
– Да… А он что, расшибся? – из кармана куртки Макс достал сигареты.
– Почему? – я запоздал. Понял, о чём он спросил, только тогда, когда сам задал вопрос. И, боясь пояснений, оберегая психику Марианны, опередил его:
– Там так получилось… Это внутреннее, – не уточняя что, я надеялся на его, Макса, понимание.
– А-а… – протянул Макс, прикуривая.
– Пойдём, там родственники суетятся. Говорят, сейчас автобус подадут… И гроб выносить надо…
– Без нас вынесут… – мне не хотелось сновать между нетрезвым людом. А мужчин, способных на физический труд, там хватало без меня.
– Вынесут, – равнодушно подтвердил Макс. – Ты на поминки идёшь?
Дались они всем, поминки эти…
– Надо. Я обещал…
– И я обещал, – не уточняя кому, произнёс он таинственно, как будто обещал он самому Осе.
– А Женя? – задал я Максу мучивший меня вопрос. Женю я не видел, и мне не хотелось думать, что даже смерть Осы не искупила его вины перед Женей. Мне казалось, что в данном случае «смерть – всему голова».
– Я звонил ему, Серёга… Мне кажется, он не смирился с причиной. Знаешь, что он мне сказал? – Макс со свистом втянул последний дым сигареты, закурил вторую. Как будто оттягивал ответ на им же заданную загадку.
– «Допился», – он сказал…
Я подумал, что фактически Женя был прав. Только всем ли и всегда нужна эта правда? Причём правда поверхностная.
– Понятно… – отреагировал я. Действительно, чего уж тут непонятного. У Жени был папа-академик и единственная в городе гитара Ibanez мексиканского производства. В его картине мира пьянству давно был объявлен бой. Который, правда, даже не начинался по той причине, что в его картине мира этот противник отсутствовал.
– И добавил: «А я ему говорил»? – с неприязнью продолжил я.
– Серёга, а кто ему не говорил? Покажи мне пальцем…
И тут впервые подала голос Марианна.
– Я ему не говорила, – чётко выговорила она. Макс впервые взглянул на сидящую поэтессу.
– Это Марианна. Это Макс, – бесцветно представил их я.
– Я вас знаю, Максим. Да, не говорила. В Ромке что, было мало хорошего? Меньше, чем у нас с вами? А ведь все из его глаз соринки вытаскивали.
– Да мы же о нём и думали, – попытался возразить Макс.
– Как можно думать о других, если вы и о себе-то не умеете думать, ребята? Ромка вот так всё думал о других, и где теперь Ромка? О себе подумайте! О себе! – она даже постучала кулачком по лбу, очевидно для убедительности, умная поэтесса!
Покуда мы предавались таким разговорам, у похоронных скрипящих дверей стало происходить шевеление. Гроб вынесли и погрузили в автобус. Меня удивило, что под тяжестью Осы могут идти, неловко согнувшись, аж четыре человека. Они стояли потом у задней дверцы, куда вдвинули Осу, и растирали руки. Как будто в их руках несколько часов подряд трудился неутомимый и нелёгкий черенок лопаты… Хотя, если проследить цепочку, так оно и было в каком-то смысле. Здесь они тоже как бы хоронили Осу.
– Пора, – Макс одёрнул на себе плащ. Я поднялся со скамейки. Мы двинулись к автобусу. Подошли последними.
Автобус был укомплектован провожающими под завязку… Нам едва хватило места на ступеньках. Я на всякий случай прижался бедром к поэтессе.
– Все? – буднично, но, пожалуй, учтиво спросил водитель.
И все выдохнули: «Все».
Двери бесшумно съехались, и мне пришлось ещё потесниться. От волос поэтессы свежо и даже интригующе пахло шампунем, духами… сигаретами… Всем вместе. Весь остальной салон стремительно и неумолимо напитывался перегаром. Мне стало неудобно перед родственниками Осы, несмотря на то что владельцем и производителем перегара я-то как раз не был. Шумная, нетрезвая и непутёвая молодёжь создавала в автобусе непрекращающееся гудение. Хорошо, что чудак с гитарой не поехал на кладбище. Наверное, я мог бы его ударить.
Когда водитель притормаживал на светофоре, молодёжь синхронно качалась в направлении движения. И притихнувший, осевший перегар вспархивал к потолку.
Мы заехали на кладбище, медленно проползли по размытой колее в его низкорослые кресты и памятники. Дёрнувшись – остановились.
Спрыгнув на землю, я подал руку поэтессе. Она, не ожидая таких галантностей, спрыгнула за мной и только потом протянула свою ладонь. Смутилась…
Неподалеку, специально заготовленная для Осы, виднелась яма. Яма не располагала к красивым словам и печальным мыслям. Я замёрз и почему-то чувствовал усталость.
Гроб с Осой погрузили на специальные козлы. Я услышал:
– Больше не будем открывать? – и не сразу понял, что это не о бутылках. Поняв, подумал: «Не надо». Вдруг водитель слишком резко притормаживал на светофоре и у Осы отвалилась голова? Я почему-то был уверен, что при вскрытии голову Осы отделили от тела, потом же пришили на место. А вдруг пришили ненадёжно? И я боялся, что все испугаются… Закричат. Мне было неудобно за всех остальных. И за Осу тоже. Как это он – без головы…
Больше и не открыли. И спустя минуту я уже жалел, что не попрощался с Осой, как мне казалось, должным образом… Не посидел с ним, не нашептал ему в ледяное, пластмассовое ухо, как нашептала Марианна.
Там, на дне ямы, земля с чавканьем всосала днище гроба. Встреча дна с дном… Наверх поползли грязные, коричневые от глины ремни. Их сматывали на кулак молчаливые молодые могильщики. Говорят, за свою траурную работу они получают весёлые деньги… Немудрено! Целыми днями примеривать на себя скорбные маски…
Из людских горстей повалились вниз липкие, бесформенные куски земли. Земля была мокрая, тяжёлая… Как-то не верилось, что она может стать пухом.
Мальчик лет двенадцати, пришедший с матерью, колебался – ему тоже хотелось бросить немного земли в яму, но ведь это могло быть взрослое, не мальчишеское дело. Секундное замешательство. Яма ждала. И мы ждали.
– Ну, Сева… Ну чего ты… – стоявшая рядом мать выдернула его из замешательства. Они были похожи, в том, что это мать мальчика, сомневаться не приходилось.
И Сева поспешно столкнул несколько комьев, ещё немножечко подкормив ненасытную, молодую яму. Насытят её немного позже всё те же молчаливые молодые могильщики с лёгкими, хорошо отточенными лопатами.
Пока могильщики сооружали холмик, облагораживали его песком, тёткин муж отошёл к автобусу. Достал картонную коробку оттуда же, откуда чуть раньше с кряхтеньем вытаскивали Осу. Взял коробку аккуратными руками. Поставил на козлы, на которых только что покоился гроб.
– Ну, разбирайте… – сказал громко и достал из коробки пластиковые стаканы. Так, будто все остальные закончили тяжёлую работу. А хотя как? Это и была тяжёлая работа, и такой работы хотелось бы как можно реже. Одной рукой он наливал в протянутую посуду, другой раздавал бутерброды всё из той же чудесной коробки. Когда понял, что бутербродов не хватает, авторитетно заявил: «Ломайте напополам». Когда все последовали его приказу, бутербродов оказалось гораздо больше, чем желающих закусить. Многие так и закусывали – половинка, а сверху – ещё половинка…
Я тоже взял стакан, подождал, пока тёткин муж накапает и в мою тару. Отошёл с Максом и поэтессой в сторонку. Отчасти из-за того что я был трезв и собирался впредь не пить сегодня, смешиваться с толпой мне не хотелось.
Макс держал стакан всей ладонью, как будто бы стакан был тяжёлым… Его алкогольная недоверчивость вызывала удивление ещё у Осы. Надо пояснить: если Женя выпивал осторожно, помалу и редко, однако добровольно, то Макса – Макса надо было уломать. Он махал руками, морщился… Придумывал обречённые на провал отговорки. «Тебе же один хрен», – веселился Оса. И только тогда Макс соглашался. Если прозвище прилипло, считал он, надо его оправдывать.
Я, пользуясь замешательством Макса, переселил свою водку в его стакан. Он даже не успел возразить. Потом поглядел на меня с непониманием.
– Тебе нужно, – пояснил я. – А я его уже помянул… В тот день ещё…
– Мне много, – попытался он возразить, на что я отреагировал, грустно улыбнувшись:
– Тебе же один хрен…
– Да, один хрен, – ответил он медленно и задумчиво. Скользнул взглядом куда-то вниз, вспомнив хорошее об Осе.
Я промолчал. Я тоже чувствовал себя так, будто выполнил тяжёлую работу. Аж подташнивало. Так, будто снял с души камень… Который потом хочу повесить на шею и утопиться!
Добрая Осиная тётка появилась со спины. В её значительной руке колыхалась початая бутылка:
– Мальчики, – говорит, – кому добавить? Серёжа, можно вас на минутку? – и сделала пару шагов в сторону. Нет, с её полнотой, не сделала пару шагов – отколыхнулась, как ударившийся о кранец катер.
Я снова испугался вопросов.
– Вот деньги, – она протянула много, я даже не стал считать. – Я поминки сделала человек на двадцать. Дура. У Ромки столько друзей. Мы не можем всех разместить… Может быть, они так помянут. Я и не знаю, как сказать… Ой, как неудобно… – тётка Осы была простой и удобной в общении. Вероятно, она всегда говорила и делала то, что думала. И каким-то образом у неё в душе возникла благодарность к Ромкиным поклонникам и друзьям. И в отличие от моей антипатии, её чувства были естественнее и добрее.
– Подождите, – я отстранил деньги. – Разберемся.
– Серёжа, вы только не гоните их, объясните… – и она опять принялась совать купюры мне в руку.
– Подождите, – повторил я. – Если будет надо…
К счастью, она согласилась с тем, что если будет надо… Не будет. Не надо!
Я вернулся к Максу. Марианна честно уничтожала микроскопическую поминальную свою долю – пила, как птичка. Но пила…
Пластмассовые стаканчики, вернее их содержимое, как-то сплотили, упорядочили разношёрстных представителей человечества. Пришедшие разделились на три группы… Сплотились в три группы. Родственники и две команды друзей, которые никак не могли слиться в одну. Я подошёл к двум последним, встал между ними. Среди них были общие с Осой наши знакомые, не близкие, но известные мне люди. Я подозвал их, объяснил ситуацию. Все они, конечно, всё поняли… Двинулись к своим компаниям.
Денег не понадобилось – вокруг Осы хоть и вилась всякая нечисть, но по большей части это были в чём-то заблудившиеся приличные ребята… Для закрепления договора я сунул каждой группировке по бутылке, что с разрешения тётки взял из картонной коробки.
Я подошёл к вновь образовавшемуся холмику. На Ромкину могилу нечисть поставила несколько свечек, среди которых мной была замечена одна – фигурка из раскрашенного воска в форме собачки. Такими собачками торгуют лоточники под Новый год… Эта собачка тоже наверняка выжила после новогоднего праздника и сейчас таяла в конце зимы по другому, невесёлому поводу.
И сейчас вдруг собачка эта сделалась для меня той клавишей, кнопкой, которую я боялся нажимать, потому что за этой кнопкой – слёзы… Я молчал, всё ещё надеясь, что лицо не выдаст меня, но рот кривился, и глаза становились тяжёлыми и мокрыми… Я опять вспомнил Дейзи, Ромкину собаку.
«Дейзи, иди, я тебе коготки подстригу…» Нет, вы понимаете: «коготки»! Хотелось объяснять, да что объяснять, кричать собравшимся. Вот причина моих почти слёз: только лишь «коготки»! Это поверхностно и сентиментально… Хотя никто бы ничего не понял. Да и слёзы тут же отступили. Оказались лишними и никем не замеченными. Двадцать пятым кадром…
Глина и грязь, цветы, свежий песок… Вот эти свечки. Люди. Этого всего уже было слишком много для меня одного, чтобы сдерживаться. Захотелось выпить, я знал: выпить – равно успокоиться. Но позволить я себе этого не мог. Из уважения к Осе, конечно.
– Я не поеду… – тихонько шепнул мне Макс, когда стали загружаться в автобус.
– Нет, – говорю, – поехали. Я и так чуть ли не единственный… А тебе ведь один… – я не закончил и даже немного улыбнулся.
– Ладно, поехали…
Марианна распрощалась с нами раньше. «Всё, – сказала. – Спасибо вам, ребята»… Хотела ещё что-то добавить, но многословность на кладбище как-то не приветствовалась. После её ухода рядом со свечками появился поцарапанный синий медиатор. Наверное, частичка их несовместной жизни… Но совместной памяти. «Молодец, анемичная поэтесса. Я даже не удивлюсь, если ты пишешь стихи, не рифмуя при этом глаголы!»
Обе компании, объединившиеся в одну и снова поделившиеся на группки, в автобус не полезли… Верное решение.
В автобусе я наконец согрелся. Тётка Осы объясняла, как проехать. Немногословный водитель кивал, не оборачиваясь.
Тётка Осы и её муж жили в частном секторе, у М-ской, на холме. Большой двухэтажный дом охраняли ленивые собаки. Кроме самого вида своего, других охранных функций собаки не несли. Не лаяли. Не кусались… Когда многочисленная толпа высыпала им навстречу, собаки поджали уши и замахали толстыми хвостами, надеясь на угощение.
Именно такие беззлобные собаки и должны были быть у Осиной тётки. Непонятным образом хозяева обычно проецируют на своих домашних любимцев собственное мировосприятие.
Ожидая, когда гости разденутся в тесной прихожей, мы с Максом гладили собак и трепали их жирные, в складках, холки. Потом, когда всё угомонилось, прошли в дом.
Частный сектор в М-ске – всегда эклектика. В основном объясняющаяся даже не доходами, в первую очередь – образом жизни хозяев. Доходы – вытекающее из образа жизни следствие. Архитектуру, как и здоровье, губят одинокая старость и алкоголь.
Каменные дома, такие себе миниатюрные дворцы, могут соседствовать с халупами… И никому нет дела до того, что творится у тебя за забором. Хотя я, наверное, перегнул… Может быть, это только ощущение. Или отчаяние что-то изменить в чужом королевстве?
Тётка Осы и её муж жили плотно. Как говорят о тех, кто хорошо поел. Плотно. То есть не обжираясь… Ковры, телевизоры в каждой комнате. Книжный шкаф, дающий приличное представление о советской литературе. А дом – деревянный, старой постройки… Штакетины забора – как палочки в прописи подготовишки…
Тётка Осы работала кассиром на автовокзале. Муж её, со звонким именем Георгий, заведовал бригадой строителей. Как это ни было странно с таким-то забором. Серые глаза без оттенка, татарские скулы, вислые усы запорожского хитрована… Плохо выбритая, бурая шея. На худой шее – поршнем двигающийся при каждом глотке кадык.
Был сын, двоюродный брат Осы, но женился где-то далеко от дома. Приезжал редко и запланированно…
Эта информация вливалась в меня по мере алкогольных возлияний остальных, а пока мы с Максом, опровергая поговорку, пытались усидеть на двух стульях, забравшись на середину длинной доски, положенной на две табуретки.
На телевизоре, прямо напротив нас, поместился чёрно-белый Оса с траурной каёмкой внизу фотографии. Рядом – накрытая кусочком хлеба рюмка… Родственники даже после его смерти добивали Осу алкоголем. Что это? Простодушие на грани идиотизма?
Я решительно прикрыл стопку ладонью, когда принялись наливать. Сослался на неотложные дела вечером. Заслужил напополам с непониманием капельку уважения.
– Роман, – встал тёткин муж, когда все притихли. Сама тётка, очевидно, боясь заплакать, в замешательстве комкала платок.
– Роман, – повторил он громче, – был ответственным парнем. Это вы и сами знаете. Просто вот так получилось. И это урок вам, молодёжь, – он посмотрел на пацана Севу, потом на меня. – Земля пухом…
Мне вспомнилась земля, которая летела в яму на кладбище.
Ели молча. В воздухе словно повисла какая-то струна, которую боялись затронуть даже голосом. Брякали о тарелки ножи, звякали стаканы…
– Наливайте, – скомандовала тётка низким, упавшим голосом.
…В комнате сделалось душно. Неизвестные мне женщины приносили кастрюли дымящейся картошки, варёное мясо на огромном металлическом блюде… Тётка Осы оплыла лицом от слёз и усталости. Я знал: первая часть поминок всегда горька и тяжела. Когда количество выпитой водки умножится, начнётся часть вторая – воспоминания.
Мне хотелось курить. Стиснутый между Максом и незнакомым мужиком в свитере с оленями, я не знал, как выбраться из духовки. Помог тёткин муж. Скомандовал перекур…
Так и вылезали – свитер с оленями, потом я, Макс за мной… Между сервантом и спинами сидящих протискивался Георгий – тёткин муж.
Мы вышли на крыльцо. Толстые собаки снова приветливо зашевелили хвостами. Вот там-то он нам и представился, Георгий. Свитер с оленями протиснул мне руку, пухлую, как сдобная булочка:
– Дмитрий…
Свитеру с оленями было лет сорок…
Закурили. Весомое, неудобное молчание нарушали скрипы крыльца под ногами…
– Как работа, дядя Жора? – свитер с оленями осторожно пересёк границу тишины.
Георгий затуманил лицо глубокой затяжкой. «Беломорина» даже подсветила его скулы и рот…
– Работа до пота… Весна придёт – вообще про дом можно забыть…
– Зато капуста… – заметил Дмитрий.
– Да что капуста… Капуста вон в огороде, – неприязненно оборвал Георгий.
Дмитрий натужно хохотнул.
– Я вот у него хотел спросить… – он кивнул головой в мою сторону. И я догадался, что он хотел спросить меня уже давно… Может, с самого утра. И отложил вопросы только потому, что с алкоголем их будет проще задавать. И проще получать ответы.
– Ты мне скажи, друг дорогой, когда вы работать будете? – мне показалось на мгновение, что этот человек знает обо мне всё… Настолько он был уверен в себе, задавая вопрос. Да и вопрос-то был – не просто вопрос, наскок!
– Ну это моё дело, – отдал я недоверчиво. Потому как я не люблю наскоков. И общих вопросов я тоже не люблю. Типа: «Когда вы жить нормально будете?» Сегодня! В семнадцать тридцать или девятнадцать ноль-ноль. Да и само понятие нормальности – общее понятие.
– А ты не отмахивайся… – полез он опять. – Мы вот тут с Ромкой вот так года полтора тому сидели. Он водочки рванул и заладил своё: «рок-н-ролл», «рок-н-ролл…». А я ему – «Ромик, освой профессию. А потом играй рок-н-ролл…» Знаешь почему? С профессией ты никогда никому должен не будешь. Что, думаешь, он мне про свободу не говорил? Говорил! Свобода – это когда ни у кого ничего просить не надо? Понял?
– Пожалуй, – ответил я осторожно.
– Ты у него дома был? – продолжал он, потом вспомнил: – А, ты же да… – он помялся. – Ну, значит, был. Носки, бутылки… Бабу некуда привести. Это что – свобода? Я ему сказал, а он опять своё – «стихи, стихи… Рок-н-ролл». Думаешь, я считаю, что стихи – плохо? Да ничуть… Плохо, когда ими оправдывают своё безделье… Я и про Машу знаю. Знаю, как к ней Роман относился… – Марианна на деле оказалась Машей. Значит, я не ошибся в твоей экстравагантности, поэтесса. – Заладил одно: «Она ангел, а я…» Ты приведи свою башку в порядок. И дом в порядок! И не будет «а я»… Талантливый же парень!
Знаешь, почему вот этот мой племянник про капусту со мной начал? – он едва не ткнул папиросой в Дмитрия. – Потому что он у меня денег взял на машину. Для работы, говорил… И что? Машина есть, а работы-то пшик! Вот и твердит: «Отдам, отдам»… А с чего?
– Дядя Жора, – укоризненно пробормотал Дмитрий… Затушил сигарету в консервной банке.
– О, видишь, обижается… А должен я на него, – продолжал он уже вслед закрывающейся за Дмитрием двери.
– Я вот – детдомовец. В Пскове родился. Родителей в войну поубивало. Так? Вырос – комнату дали в общаге. Потом армия. А что комната? Жениться надо, детями обзаводиться. Нам это и в детдоме в голову вбивали. Заботились о населении. На завод пошёл. Денег мало – но руки на месте, да и голова вроде бы… А то, что голодранец, – погоди… Пошёл к мастеру – где денег взять? А он мне: «Учись. Будет образование, будут и деньги»… Подумал я, собрал вещички и поехал в Ленинград – учиться. И вот там-то меня, друг дорогой, и проняло. Ага! Я, дурак, вдаль смотрел, а надо бы и вширь! Две руки есть, две ноги. Голова – одна, а возможностей – тысячи. Я тогда понял то, что мало кто понимал… А сейчас – подавно. Я понял, что я могу идти – куда захочу! Это – свобода выбора, друг дорогой. Сдал экзамены – и становись кем угодно! Ты не понимаешь, – отметил он с досадой. – Кем хочешь! Хоть космонавтом! И всё зависит от твоего желания. Я – в Макаровку. Но там конкурс, а у меня – восемь классов. Так? Подумал – помозговал… Плавать хотелось. Устроился плотником в «Арктики и Антарктики»… Поступил на заочку! Потом радистом в Певек, по распределению. Деньги нормальные, плюс северные… Но, скажу тебе, скучно… Я до тридцати капли в рот не брал. И сейчас – только по праздникам. – Я не стал спрашивать, что за праздник сегодня. Вполне обычная оговорка. – В общем, надоело мне… А тут приятель один – давай, говорит, ко мне. Ему механик был нужен. Он на МРБ в Белом море ходил… Я чего? Деньги нормальные? Да, говорит. Я туда. Ну по деньгам – не Певек, конечно… Общага, туда-сюда… Тоже надоело! Но Ленинград меня научил: возможностей – море! Я рюкзачок собрал, с приятелем попрощался и на вокзал. А у меня уже азарт! Что-то интересное найти. Чтобы не каждый день по звонку! Потом – геодезистом под Ленинградом. Дорогу строили. Лето, жара… Ребята все молодые… Думал осесть в Ленинграде. А тут разнарядка пришла… Кто на юг хочет? А кто ж не хочет? Я в первых рядах. А мне уже тридцать. Жениться пора… – он перевел дух и поглядел на меня. – Понял? Нет? Дальше рассказывать? – он усмехнулся. – Спускаюсь по карте все ниже. К экватору, – и затушил очередную «беломорину». По тому, как у него во рту появлялась папироса за папиросной, гильзы окурков впору было называть не папиросными – пулемётными.
– Ты что-нибудь понял, друг дорогой? Я мог бы так в Пскове и сидеть, плотником. А вы, как мартышки, заладили: «рок-н-ролл, стихи»… Играетесь, как котята… А дальше Краснодара жопы не подымете… Стихи тоже на месте сидеть не любят, – закончил он почти миролюбиво.
То, что он кое в чём прав, я понял сразу. Но про жопы он был прав вдвойне, а про стихи – так это просто сентенция.
– Понял… – высокомерно ответил я и тут же пожалел. Высокомерие рождалось трезвостью, а сегодня трезвость – не норма жизни. Да и не столько пьян был тёткин муж – разгорячён, да…
Он говорил правду: не декларируя, даже стесняясь этого, мы все тряслись о своём благополучии. Мы отказывались от жизни, если она была горькой на вкус. И мы, да, как мартышки, заладили: рок-н-ролл, стихи… Мы хотели быть героями, но в мягкой, приятной форме. Музыка… Поэзия. Под танки никто из нас бросаться не собирался. А если и проскакивала эта мысль – нам было лень идти, записываться, куда-то ехать…
У меня был один знакомый. Лет сорока с куцым хвостиком. Сосед по дому, потом они переехали… Пару раз мне довелось с ним выпивать. А воевал сосед в Сербии, на её, Сербии, стороне! Добровольцем. Поджарый, с сухими, сильными мышцами, он сидел за столом, голый по пояс. Между нами торчала то ли вторая, то ли третья уже бутылка… Его ежедневный рацион. После полбутылки и до открывавшейся третьей его было интересно слушать. Он рассказывал про войну, про сербские обычаи, про кровожадность мусульман и про сербскую ответную кровожадность. Много – про природу Сербии… Ему удавалось написать Сербию избранным Богом, благословенным краем. Ещё язык – лишённый русской певучести, угловатый… И очень красивый в то же время… Но странно не это, странно то, как я чувствовал себя с этим человеком. Я был не нюхавшим пороху и кулака пацаном, желторотиком. Хотя сам рассказчик, прерываясь и наполняя рюмки, всё время говорил обратное. «Хороший ты, – говорил, – парень. Молодец!» Я-то знал, что никакой я не молодец. Очарованный его рассказами, я тоже должен был идти в добровольцы…
Всё остальное – геройство в мягкой, как туалетная бумага, уютной форме…
Георгий? Георгий попал! Из всей нашей рок-н-ролльной братии он и выбрал самый верный объект для огня. Самым верным объектом был я! Макс – нет. Макс не мечтал быть героем и любил музыку. Музыка была его целью, для меня – средством… И я не знал, средством для достижения чего!
– Ну думай, друг дорогой, – хлопнул меня по плечу Георгий, закапывая в горе окурков ещё одну папиросу.
Мы с Максом остались на крыльце.
– Забей, – отозвался наконец он. Что-то заметил, значит, по моему лицу.
– А чего, Макс? И тебя задело? – задал я вопрос, в котором Макс почему-то не прочитал издёвки.
– Нет. Если бы меня задело, я бы что-то изменил…
– Намекаешь?
– Намекаю… – Макс посмотрел вдаль, обернулся и, минуя мой взгляд, направился к двери.
Я не пошёл за ним. Я смотрел на уплывающие вдаль холмы, на дома, сползающие вниз по горбатой улице…
– Кончается зима, – пробормотал я. И мне самому, как со стороны, почудилось, будто этими словами я подвёл какой-то итог. Было тихо. Из дома доносились приглушённые звуки застолья. В остальном – было тихо. Мне захотелось закричать – разбудить спящие зимой холмы и пространства… Людей и собак… «Кончается зима» – это снова жизнь и надежда. Это новорождённая зелень холмов. Это тысячи и тысячи новых любовей, песен и расстояний… Накопленные за зиму питательные соки прорастают весной.
Я не торопил весну – я ничего не накопил за зиму… Мне нечего было отдать весне, потому как я был пуст – как барабан или безъязыкий колокол. Никаких любовей… Песен. Расстояний.
Я подвёл итог, и мне стало не по себе. Мне казалось, что если я закричу – меня никто не услышит.
Георгий говорил другие слова. О другом. Но, сам не зная того, пусть боком, рикошетом, задел то, в чём я не признавался даже самому себе. Он обвинял меня в безделье, но на это у меня нашлись бы десятки объяснений. Обвинение в безделье же родило во мне другое, более глубокое обвинение – в бездействии! И возражений на это я не находил.
Я открыл дверь. Пространство за ней вернуло в реальность голосами и запахами пищи. Потоптавшись в прихожей, я заметил свою куртку, горбатившуюся поверх чужой одежды. Я говорил – мы с Максом зашли последними.
Я протянул руку. Сдёрнул куртку с вешалки. И, всовывая на ходу руки в кожаные рукава, пошёл вон из этого дома – виноватым.
Минута на сборы
Катя позвонила мне накануне похорон. Справлялась о дате и грустно оправдывалась, что не пойдёт. Потом поинтересовалась, доел ли я котлеты. «Да, которые в латке». Завершила интригующим и непонятным: «У меня всё по плану!» Что за план? Так, погоняв по телефонным проводам холостые слова, повесили трубки.
Я обещал ей не звонить и думал, что мне удастся это без труда и осложнений. Сейчас, вернувшись с поминок, меня так и подмывало набрать её номер. Объективных причин для этого не было. Больше всего на свете я боялся делиться с женщинами своими слабостями. Поэтому тут же отшвырнул за шкирку неумную идею звонка. Тут Катя не в помощь.
Выходя с поминок я, кажется, хотел что-то сделать. До автобусной остановки добирался быстрым шагом, потом побежал, насколько это позволяла раскисшая погода. После – взлетел! Ага! В том-то и дело, что никуда я опять не взлетел, вдавливаясь очередным пассажиром в тесноту часпикового автобуса.
Оказался в ненужном месте в ненужное время… Чтобы посредством автобуса оказаться в ещё одном ненужном месте.
Я хотел что-то сделать… Я, дурак, вдаль смотрел, и вдруг захотелось вширь – о, как проняло!
Улица давно стемнела, а я, не раздеваясь и не зажигая свет, ходил по комнате. Сидел на кровати. Если я разденусь или хотя бы включу лампу, беда, происходящая со мной, рассеется. Включу лампу – точно сниму куртку и ботинки. Ну а сниму куртку – ещё вернее включу лампу. Беда, происходящая со мной, рассеется. «Сделай ещё больнее… Хорошо будет», – шептали мне её губы, и я делал ещё больнее. Она всегда знает, о чём говорит.
Я рывком открыл ящик письменного стола. В нём лежали документы. Паспорт, конечно, сверху. Жалкого уличного фонаря было достаточно, чтобы не растеряться в темноте.
В паспорте – пластиковая карточка с моими деньгами. Капиталами. Финансовыми излишествами. Да и деньги за Краснодарскую квартиру семейная пара перечисляла сюда же.
Сунув паспорт в карман куртки, я загрохотал ключами. Хлопнув дверью, засвистел, перевирая мотив… «Прощай, прощай… Уходят поезда. Мы расстаёмся навсегда под звёздным небом января». Я нарочно придумал свистеть именно её – жестокая песня удерживала от обдуманных и оттого неверных шагов.
Вокзал был практически пуст. Редкие шаги и голоса гулко взлетали к потолку. Когда кассирша ответила мне: «Есть на завтра и на двадцать седьмое», – я всё-таки струсил.
Двадцать седьмое – это почти через неделю. Это лишние объяснения не только с Катериной, но и самим собой. «На завтра» – это чересчур. Это слишком. Это быстрее, чем я ожидал. Надо подготовиться! Поэтому я негромко и вежливо произнёс:
– На завтра, пожалуйста, – и протянул в окошко деньги.
– Проверяйте: плацкарт… Санкт-Петербург… время прибытия… – начала повторять она сквозь стекло, и от её равнодушных, металлических слов мне стало свободно и почему-то жарко. Мягкими от волнения, жидкими руками я принял из окошечка паспорт. Из него, неоспоримые, торчали корешки билета. И они были реальнее, чем все мои порывы и страхи, которые я в конце концов мог развеять и развенчать. Порывы и страхи задокументированы. А слабостями документированными разбрасываться я не привык.
Основного мотива моего поступка назвать я не мог. Дополнительными служили вот какие: в Питер меня звали давно. Когда Оса и его команда были на равнине популярности (по аналогии с вершиной, так и не достигнутой), нам посчастливилось участвовать в сочинском рок-фестивале. С нами вместе хотели прославиться ещё десятка два групп. Среди них – питерские «Панацея» и «Люляки-Бяки». Вторая даже благодаря названию претендовала на широкую известность, ведь у них, музыкантов, как: нелепость названия – почти непременное условие образования группы. Откуда это пошло – не знаю… Скорее всего, от старших братьев по шестиструнному оружию. У тех – нелепый симбиоз Хармса и отрицания советской власти… Посредством абсурда.
В общем, те ещё были ребята. Сперва все хотели быть лучше других, а потом выпили и познакомились. Питерцы продемонстрировали частичку столичного снобизма и любовь к крымскому креплёному. С повышением внимания ко второму первое вдруг, к нашей радости, стало убывать.
Питерцы оставили мне свои телефоны… Шесть или семь. Все телефоны я аккуратно занёс в записную книжку на букву «п»… Пискунов, Передерин, Пеева, Питер… Дальше двоеточие – и номера с именами.
Питерцы обещали, что найдут, где остановиться. Причин не доверять питерцам или не верить их словам, орошённым крымским креплёным, у меня не было. Питерцы оставляли впечатление надёжных людей. К тому же добавляло моего доверия к ним и то, что они были постарше. Когда тебе за тридцать, даже орошённые крымским языки научаются контролировать себя.
Я не стал звонить им сейчас. Опять ненужный риск отложить поездку… Уж где-где, а в Питере, мне казалось, я не пропаду.
Довольный сделанным, выйдя с вокзала, я закурил… Что ещё? Катя, конечно… О Кате я старался не думать, поэтому она и оставалась главным препятствием, которое я пока смог преодолеть… Оставить ей записку? Позвонить? Глупо! Написать письмо? Да, написать… И от этого решения стало ещё легче.
Сидя в автобусе, я то и дело засовывал руку во внутренний карман, щупал паспорт, натыкаясь пальцами на корешок билета. Как будто трогал свою будущую судьбу… Пусть даже в бумажном её варианте.
Вернувшись в квартиру, я наконец разделся. Поставил чайник. Достал с антресолей сумку, с которой, кстати, и ездил на тот фестиваль. Поймал себя на том, что не знаю погоды в Питере. Условно обозначил – зима.
Бельё. Зубные принадлежности. Складывая вещи в сумку, я мысленно одевал себя – что бы я надел при минус десяти? В сумку! Что бы изменил в одежде при нуле? Туда же… Всё равно сосредоточенность не приходила, пока дурацкое, лживое уже одной перспективой существования письмо не было написано.
Я несколько раз садился, озадаченный, но снова продолжал кидать вещи, откладывая гнусную перспективу…
И тут, открывая очередной ящик комода, я натолкнулся на её тряпочки… Верхнюю одежду она у меня не хранила. Только то, в чём ходила дома. Естественно, бельё. Невесомые, полупрозрачные тряпочки, чёрные в основном, были сложены зыбкой стопочкой. Начатая упаковка прокладок рядом… Какие-то кремы. Похожие на упаковки презервативов одноразовые пакетики интимной смазки. Противозачаточные таблетки, от которых у меня терпимо щиплет… Мне никогда и в голову не приходило так заглядывать в её ящик. В этом её порядке угадывалось даже какое-то отношение ко мне. Стирала тряпочки, сушила зимой над радиатором, складывала ровненько. Мне показалось, что даже выстиранными тряпочки пахнут как-то по-Катиному, хотя скорее всего это был едва уловимый запах то ли крема, то ли стирального порошка… То ли женского уюта. И мне впервые стало её жаль. Но не ту, которая ушла. Ту, которая, может быть, захочет вернуться!
Я долго и тупо сидел перед чистым листом. Боясь написать что-то не то, не портил бумагу. Потом решил вопрос нейтральным: «Катя! Пришлось уехать. Если что-то надо, ключи у Валериков»… Валерик – сосед по лестничной площадке. Ключи останутся у него или его жены, которая с лёгкой Катиной руки (языка!) тоже зовётся Валериком. Есть Валерик-муж, и есть Валерик-жена. По-настоящему она Алла. Они жили беззаботно, как дети, трахались так же беззаботно, но уже как кролики. И то и другое мне было доподлинно известно. Детей же не заводили как раз по причине того, что ещё хотели быть кроликами. Главное, думал я, что скорее всего Валерики ими и останутся.
Нейтральное решение было хорошо тем, что оставляло путь к отступлению.
Валерики слушали шумную музыку. Валерик-муж, кивая головой в такт, забрал второй, Катин, комплект ключей. Я объяснил ему, что к чему, не называя конечного пункта.
– Надолго? – спросил он напоследок.
– Не знаю пока, – ответил я. Я говорил чистую правду. Этот же вопрос я задавал сам себе, и ответа у меня не было.
Когда Валерик захлопнул за мной дверь, мне стало весело. Потому что ещё один шаг отсюда уже был сделан…
Вернувшись, я почувствовал голод. Разбил в чашку пару сырых яиц, накрошил остатки хлеба. Сыпанул добрую щепотку соли. Выпил всё это… Обстоятельный ужин не попадал в жизненный ритм сегодняшнего вечера.
Сборы… Сборы… Сборы.
В нижнем ящике стола, запертые в темноте, хранились слова. Непредъявленные доказательства моей состоятельности. Эти слова, сложенные в рассказы, были, возможно, главной моей ценностью. И на севере эти слова должны будут складываться лучше, а главное, чаще! Я не мог знать, почему это должно произойти, я это чувствовал.
Я нежно извлёк слова из темницы, нашёл для них прозрачную пластиковую папку. Вдвинул папку в боковой, на надёжной молнии, карман. Толстенькая папка даже придавала форму всей сумке! Слова придавали сумке форму! Вот что значит применить слова не по назначению.
На севере меня пугала зима. В М-ске, когда слякотная зима зашкаливала вдруг за минус, я щеголял в ватной телогрейке, если модным словом «щеголять» можно назвать прогулки до ближайшего магазина. В основном же сидел дома и глотал обжигающий чай, глядя на приятный взору заснеженный двор. Мне думалось, что ватная телогрейка в культурной столице – явление исключительно провинциального характера, мне же не хотелось изначально вешать на себя компрометирующие ярлыки. Мёрзнуть не хотелось тоже. Поэтому я сунул телогреечку в пакет и приторочил верёвочкой к сумке. Я надеялся, что пользоваться ею не придётся.
Что ещё?
Выключить холодильник, отправить письмо, ещё кучка мелочей… Поезд из Краснодара уходит в половине третьего. Значит, с утра на автовокзал, на рейсовый автобус… Я кинул сумку на диван, зачехлил обязательную гитару. Окинул взглядом комнату.
Ласковый свет настольной лампы мягко растворялся в общей полутьме. Я так и не включил общее освещение. Лампа предлагала любимые развлечения… Стихосложения на тему зимы с непременным рисованием на полях тетради профилей, обычно глядящих вправо, примитивные аккорды любимых песен… Негромкое голосовое сопровождение, которого я не стеснялся только наедине с собой… Будь я не один – полные ладони Катиных форм и полная свежего пота сонливость после. Все те вещи, которые со временем довели меня до отчаяния в них, в этих, казалось бы, чудесных вещах.
Я опять и опять возвращался к сказанному Георгием. Что я нашёл в его словах такого, чего не знал раньше? А в первую очередь то, что он отчитал меня, как мальчишку! Мальчишку, который и знал, что «нельзя» – но тут ещё и понял! Остальные его аргументы в пользу моей несостоятельности были не столь болезненными. Себя надо доказывать, а об этом я как-то позабыл. Своё существование надо оправдать, и не об этом ли твердил я другим? Как сказала умненькая анемичная поэтесса: «Вы всё из его глаз соринки вытаскивали»… Это она про Осу. Я – в последнюю очередь про него. Я его хотя бы понимал. Из других, менее близких глаз я добыл столько сора… Я издевался над менеджерами и водителями. Продавцами бытовой техники и страховыми агентами. Я не любил рабочий люд… Хотя, да, не каждого персонально. Но кем был я, чтобы его, люд, не любить? Бревно в моём глазу мешало мне видеть. Я не собирался отказываться от нелюбви к менеджерам – я решил заработать себе право их не любить!
К этим умозаключениям я пришёл во втором часу ночи. Я сформулировал цель, и сон, здоровый и глубокий, перестал вдруг быть нужным и привлекательным. Мне захотелось отметить отъезд.
У меня в кухонном шкафу, не забытая, но неприкосновенная пока, стояла бутылка французского шампанского. Шампанского из провинции Шампань, той самой… Бутылку эту Кате подарил обожатель. Все праздничные события были ей, бутылке, не по рангу. Она ждала события чрезвычайного.
Я достал бокал, взял из шкафа бутылку. Она была испачкана в муке и сахаре – так долго она ждала. Я решительно сорвал фольгу и несколько раз повернул ключик проволочной сеточки. Ладонью поймал деревянную пробку, чтобы она не выстрелила мне в глаз.
Из горлышка показался лёгкий дымок, напоминающий дымки дуэльных пистолетов в кинокартинах.
Я ещё раз порадовался, что поймал деревянную пробку. Иначе она – Катя – выстрелила бы мне в глаз и из шампанского пистолета показался бы лёгкий дымок. Катя была бы права, но я стрелялся на своих, нечестных условиях…
Шампанское было кислым, но вкусным. Я выпил за нас с Катей! За то, что мы избегали слова «люблю».
Жалость, рождённая цинизмом, нелепа. Но я вдруг представил её, решившуюся на поступок, читающей моё безвкусное, как сухая галета, письмо. Может ли она заплакать? Впасть в недоумение – это да. А заплакать? Ведь я никогда не видел её такой! Не то что плачущей – растерянной! И может, именно её растерянности мне и не хватало, чтобы произнести обязывающее уже слово «люблю». Мир слишком огромен, чтобы ко всему относиться со знанием дела, растерянность же порою делает нас человечнее…
«Обожатель был прав, – размышлял я, покачивая бокал, делая маленькие колючие глотки. – Вот сижу, пью его вино, прощаюсь с Катей… Уступая ему место»… Обожателя я не знал. Ей, Кате, вообще впору создавать общество анонимных обожателей, поэтому про место я погорячился.
Как мало надо сделать, казалось мне, чтобы почувствовать жизнь острее. Купить билет до Питера и открыть бутылку шампанского… Но это в такой, мягкой, как туалетная бумага, форме…
Проснулся я по будильнику. Вчерашний ветер распугал дождевые тучи, и, пусть низкое, солнце делало пробуждение лёгким и радостным.
Я спешно позавтракал, подымил под чашку чёрного кофе. Постоял под горячим душем. Перепроверил собранные вещички, документы, деньги. Одобрительно улыбнулся собственному отражению в зеркале. Внимательно оделся, закинул на плечо нелёгкий мой скарб, на другое плечо надел гитару… Хлопнул дверью, чиркнул ключом… Гуд бай! Оставалось зайти на почту. Походка моя, как и сегодняшнее пробуждение, была лёгкой и радостной…
Северный поезд
Высоколобый, вместительный, как школьный пенал, рейсовый автобус с маршрутной табличкой «М-ск – Краснодар» отходил через несколько минут. Молодой водитель кавказской внешности курил в приоткрытое окно кабины, отчего в салоне к запаху нагретой пыли и специфическому – дерматиновых кресел – примешивался лёгкий табачный аромат. В итоге выходил тошный сладковатый запах – характерная черта местных автобусов.
Заняв своё место, я наблюдал за добивающим мелкими затяжками бычок кавказцем и размышлял о конечной цели моего путешествия. Вернее сказать – размышлял об отсутствии этой конечной цели. Да и путешествие больше походило на бегство. Разница именно в наличии конечной цели – путешествуют «туда», а бегут всё-таки «оттуда»… И в моём положении даже «бежать» было хорошо.
Когда здание автовокзала, вздрогнув, чуть сдвинулось и поплыло, как переводная картинка в блюдце воды, потом стало поворачиваться вокруг своей оси, обозначив поворот руля, возвращение стало невозможным. На самом деле невозможным оно стало немного раньше – когда я выписал Катин адрес на глупом конверте, которому предстояло совершить невероятный спринт, оскорбляющий само понятие почты. Конверту предстояло путешествие в пять автобусных остановок. Да и ладно… Я мог бы забросить конверт сам, но риск встретиться с Катей и её родными, с неприветливым отчимом особо, пусть и не большой, но был.
Автобус тем временем, потыкавшись по городу, выехал наконец на трассу, где взгляд скользил по пейзажу, как конькобежец по льду. Где зацепиться взгляду было не за что. Дырявые силуэты деревьев придавали серым полям ещё большее ощущение бесконечности и монотонности.
Я положил руки на упакованный гриф гитары, стоящей между ног, и всё возвращался мыслями к Георгию. Получается, что он был прав, обращаясь ко мне? Значит, и он слышал исходящую от нас безнадёгу? Я не хотел закончить, как Оса, но я и не начинал, чтобы что-то заканчивать… Мне вспомнилось Ромкино стихотворение, вернее его начало:
Исторгнуть червей и желчь На мраморный пол. Поджечь Тяжёлые шторы в доме. Наружу от этой вони Бежать в потемневший воздух… Лежать и глядеть на звёзды… Потом в полуночном баре Запоями пить, скандалить, По аду ходить кругами, Блядей избивать ногами…Продолжения я не помнил, не исключено, что никогда и не знал. Даже удивительно, что сконструировал в памяти этот кусок. Оса таки закончил то, что он начинал… Свой такой уход он прогнозировал десятки раз в не самых плохих своих стихах, поэтому как-то получается – подтвердил! Хотя ногами он мог избивать разве что самого себя… На что-то живое у него не то чтобы нога – рука не поднималась.
Пока я так размышлял, нудный даже в солнечном свете пейзаж разбавился бурой, щербатой по берегам рекою, где плавали какие-то объедки зимы – доски и полиэтиленовый, надутый ветром пакет.
Я пытался думать о будущем. В ближайшем – мне предстоит два дня поезда и куча суеты, придуманной мною же. Кому-то забытому звонить, договариваться… И пытаясь сооружать будущее, я незаметно вязнул в недавнем прошлом, непременно возвращаясь к Катерине. В это время она делала свой выбор, не подозревая даже, что выбор её стал совсем не важным, что выбор сделали за неё. Но я тоже хотел иметь право… «Ага, вот с такой формулировкой я и жил – поймал я себя. – Хотел иметь право…» Не надо хотеть. Надо это право иметь! А что бы было, когда б она не приняла решения? Мы бы не разбежались! Мы бы и дальше продолжали эту недосемейную чушь, только с ещё худшим, попахивающим гнильцой подтекстом. Нет, Катя, нет! Кто-то должен был дёрнуть этот стоп-кран, и дёрнуть как можно раньше, пока поезд ушёл не слишком далеко от станции…
Так твердил себе я, разглядывая безликие и бесцветные картинки, сопутствующие передвижению. «Передвижение рождается от перестояния», – подумал я и улыбнулся.
Плацкарт. Маленькое моё жилище на два дня – маленькое, как тетрадная клетка. Выпрямиться невозможно – голова упирается в верхнюю полку, сидеть невозможно тоже – мешает столик, сияющий в предвкушении пирожков и холодных куриц.
До поезда я часа полтора бродил по вокзалу. Посидел в зале ожидания, пялясь на мерцающее красным табло. Купил в дорогу сосисок и беляшей. Прозрачный пакет, проглотивший беляши, тут же покрылся стыдливой матовостью. Съел в буфете рыбную котлету, поданную на убогой бумажной тарелке. Дела окончились, а времени ещё было предостаточно. Вернувшись в зал ожидания, я почувствовал, как моя решимость убывает. Достаточно было исключить ощущение праздника и новизны. Примелькавшийся вокзал. Холодная котлета… Опять же, эта тарелка с пятнами холодного рыбьего жира. К счастью, подали поезд…
Маленькое моё жилище, не наполненное пока жильцами. Я скинул куртку, убрал под сиденье сумку. Поставил в угол гитару. Неуклюже сел. Взглянул в окно, и вдруг снова нахлынуло… Да я же в Питере! Я «минус два дня» в Питере! Я уже не в М-ске, не в Краснодаре, меня с ними уже разделяет то самое окно, которое будет со мной в рассказанном другими, поэтому заочно знакомом городе. И я увижу то, что в свои двадцать шесть я по какой-то скверной причине не догадывался посмотреть раньше. Я ждал чудес, не выходя из квартиры! Я ждал, что чудеса толпою будут ломиться в мою дверь без приглашения, зная, однако, что даже Иванушка-дурачок утруждал себя хождениями за чудом! «Стихи на месте сидеть не любят», – вспомнил я слова Осиного родственника и даже покраснел от этой простой формулировки, которую я, к своему стыду, не смог понять раньше.
Вагон заполнялся. Это было не только видно, но и слышно: стуки, скрипы, покашливания, негромкие приветствия попутчиков создавали шумовой фон к происходящему. Мои же соседи не спешили заполнять свою клетку. Потом всё же появились. Тяжёлая женщина с пацанёнком – молодая бабушка и седой мужичок с огромным, несовременным рюкзаком, сразу представившийся Степаном. Я на всякий случай загадывал молодость женского пола… Не случилось.
Женщина с пацаном шумно раскладывались. Она пыхтела, напоминая чем-то капустный кочан, варившийся в тесной кастрюле. Шумно дышала, прикрикивая на паренька: «Валерка, Валерка»… Валерка же делал всё, что она попросит, по-взрослому при этом закатывая глаза. Я так увлёкся их совместной жизнью, что не заметил, как поезд тронулся. И вздрогнул, когда, утвердившись на сиденье, Валеркина бабка угрюмо подтвердила:
– Всё, Валерка, поехали…
И мне показалось, что бабка обращает эти слова ко мне.
Молчали до тех пор, пока не въехали в сумерки. Сумерки стали каким-то сигналом к действию. К знакомству. До этого я не решался даже выйти курить, боясь обеспокоить Степана. Валеркина бабка, копошась в бесчисленных сумках, достала бутерброды, сходила за кипятком. Степан резал маленьким ножичком розоватое сало на тонкие, подрагивающие лепестки.
– Ох, как я люблю таких Валерок, – улыбался он между тем в седые усы и протягивал пацану прилипающие к толстым пальцам кусочки. Протягивал и резал ещё.
– Валерка, хлеба-то возьми, – по-домашнему, не зло одёргивала Валерку бабка, а он, очередной раз закатив глаза, отправлял вслед за салом обломки крошащегося белого хлеба, лежавшего на столе. И был доволен.
– Вы позволите? – Степан нагнулся и извлёк из рюкзака флягу. Прикормленный Валерка был как бы гарантом бабкиной благосклонности. Хитрый Степан!
Бабка весело махнула рукой и громко отхлебнула чаю.
В руке Степана появились металлические рюмочки.
– Держи, – без предисловия обратился он ко мне.
– Спасибо, – согласился я, принимая рюмки и стукая ими об стол, как шахматными фигурами.
Он нацедил понемногу в каждую, запахло коньяком. Степан не производил впечатление зависимого человека, с ним я мог позволить себе расслабиться. К тому же, поднимая рюмочку, я ощутил, что наполнена она едва ли наполовину – Степан показался мне чуть ли не гурманом. Это соображение укрепилось, когда мой попутчик отыскал в кармане неровно наломанную, уже начатую и завёрнутую в фольгу плитку шоколада.
Терпкий и ароматный коньяк интригующе смочил горло. Я молча отломил шоколаду.
– Валерка, держи… – продолжал фокусничать Степан, протягивая мальчику огромное, почему-то в хлебных крошках яблоко.
– Валерка, скажи спасибо, – усердствовала бабка, и Валерка снисходительно бросал требуемое «пасиба».
Я всё ждал, когда Степан спросит о чём-нибудь меня. Куда я и зачем? Но Степан всё не спрашивал, подливал по чуть-чуть и вёл задушевный разговор с разомлевшей от внимания бабкой. Горячие капли коньяка то и дело падали в желудок, от них было тепло и неторопливо. Тетрадная клетка становилась уютной, а поезд, наполненный клетками, как улей сотами, держал верный курс в ночь и север…
В оконном проёме блестело солнце. Я чувствовал это даже сквозь закрытые глаза. Я повернулся на спину, натянув повыше жидкое одеяло. Потом вспомнил, где я, и резко сел на моей лавке.
Мои соседи уже проснулись. Бабка, натянувшая совершенно домашний халат, снова прихлёбывала чай, и мне казалось, будто она продолжает тот бездонный стакан, что начала ещё накануне. Валерка жевал яблоко, и состояние дежавю удвоилось.
– Степан умываться ушёл, – пояснила бабка, поймав мой взгляд на верхнюю полку.
Накануне Степан меня приятно удивил. Он до полуночи беседовал с разговорчивой бабкой на жизненно важные, как предполагала бабка, темы, как то: консервирование огурцов и воспитание внуков или же наоборот – воспитание огурцов и консервирование… Степану было всё равно. Он был ровно доброжелателен и деликатен. Я, умасленный коньяком и ушатанный предыдущей ночью, ночью нервной, молчал, почти дремал под их неторопливые, снотворные беседы. А потом вдруг спросил:
– Вы извините меня за моё молчание? – с некоторым даже подобострастием спросил. Чтобы как-то обозначить благодарность.
– Ну-ну, – он сделал ладонью успокаивающий жест. – Захочешь – тогда и расскажешь…
И опять деликатно вернулся к бабке, наливая нам по пятой и, как оказалось, последней рюмочке.
Степан возвращался по проходу, сияя, как после бани. Розовое полотенце лежало на плече. В руках – мешочек с туалетными принадлежностями, электробритва. Редкая влажная седина зачёсана на пробор.
– А-а, Серёжа! Бодрое утро! – мило переставил буквы в приветствии.
– Бодрое, – нашёлся я.
Скатав постель, я тоже полез за зубной щёткой… Прошёл Степановым путём, наталкиваясь на торчащие из-под одеял ноги. Переждал в тамбуре небольшую очередь, совершив несвойственное мне курение до завтрака.
Когда я вернулся, мои спутники завтракали. Степан пригласительно отодвинулся, пропуская меня к окну.
– Приятного аппетита, – произнёс я, присаживаясь.
– Угощайтесь, – отреагировал Валерка, протягивая мне мятую плюшку.
– Держи, я ещё за одним схожу, – Степан протянул мне запотевший стакан с пакетиком чая. Кипяток медленно окрашивался красным.
– Сахар я положил.
– Серёжа, в шахматы играешь? – спросил меня Степан, когда молчаливое поглощение пищи вдруг стало в тягость.
В шахматы я играл плохо. Для меня эта игра была слишком медленной. Вместо того чтобы в ожидании хода соперника продумывать следующий свой, я начинал скучать. Но видя, как Степан хочет развлечь, растормошить всех нас, я ответил:
– Попробуем.
Степан выставил на стол коробочку карманных шахмат. Придерживая рукой, высыпал на стол мёртвые пока, лишённые жизненного пространства, крошечные фигурки. Стал быстро-быстро втыкать их в дырочки в шахматной доске. Оставив две фигурки, зажал их в кулаках, предлагая мне разыграть начало. Я знал, что мне достанутся чёрные, и, как всегда, ошибся.
– Поехали, – скомандовал Степан, и я был вынужден сделать быстрый ход. В темпе его действий.
Играл он действительно быстро. И, к сожалению, так же качественно. Пробил мои защитные редуты слоновыми диагоналями, утянул ладью, поставив наконец многолюдный мат. Фигуры ещё и не успели толком отведать друг друга.
– Ещё раз? – задал быстрый вопрос и легонько перевернул доску, заставив играть чёрными.
– Чего ты боишься? – спрашивал он меня, снова посылая слона через всё поле. – Играй! Атакуй!
Я же отбивался, как мог, пытаясь сохранить линию фронта, которую он всё-таки взломал конём.
– Стоп, – его рука зависла над шахматным полем. – Смотри!
Он немного потыкал моими фигурами, поясняя:
– Делаешь рокировку. Мой слон под боем? Вот! Теперь вилка. Раз. Два. И три. Мат! – фигурки, ведомые чужим военачальником, почувствовали себя победителями.
– Смелее, Серёжа! Тебе не хватает авантюризма! Сунь ты её так, чтобы мне страшно стало! – он извлек ладью из своей ячейки, демонстрируя мне доказательство моей пораженческой тактики. И я – я кротко это доказательство принимал.
Я не мог согласиться со Степаном вслух. Он, сам не желая того, стыдил меня, притом очень просто и точно. Очень трудно найти подходящие слова, когда тебя стыдят не за игру, а за жизнь.
Днём я читал Куприна. К вечеру понял, что мы приближаемся к северу.
Снег, прерывающийся только редкими полосами дорог и звенящими шлагбаумами, проткнутый веточками кустов, лежал на многие часы и километры.
Степан дремал, изредка поворачиваясь на бок и вглядываясь в снег и темноту. Тогда мне была видна одна его белая, в узелках вен, ступня и закатанная выше колена тренировочная штанина. Бабка вязала. Валерка с умным видом утюжил глазами детские кроссворды и при этом до треска грыз карандаш.
Я изредка выходил курить. В тамбуре произошло похолодание – такое, когда я, оформившись в телогрейку, выбегаю в ближайший магазин за сигаретами, остальные визиты откладывая на потепление. И мне стало не по себе, оттого что в Питере придётся облачаться именно в эту, несообразную месту одёжку.
Наша утренняя дружба со Степаном как-то расстроилась. Возможно, он ожидал от меня большего. Может быть, подгитарных песен? Вместо этого я демонстративно принялся за книжку. Он же не знал, что я стесняюсь своего голоса!
Они уже улеглись, а я долго и муторно сидел даже тогда, когда в вагоне погасили свет. Я вглядывался в нескончаемый снег, очеловеченный здесь какими-то темноглазыми домиками, и мне ничуть не хотелось предстоящих подвигов. Мне хотелось поселиться в этом снегу, иметь избу и пса с круглыми карими глазами и седой бородатой мордой… И писать только письма. Добрые, длинные письма.
Я раскатал постель, разделся и лёг, закрыв глаза… Я ехал один, совсем один, ехал доказывать что-то незначительное, но своё, и не миру даже, а в первую очередь себе… Так пусть же добрые письма подождут! «Сделай ещё больней! Тогда хорошо будет!»
– Минус двадцать три, – довольный добытой где-то информацией Степан потирал руки, показывая, наверно, как это холодно. До Питера оставалось два часа. Мы уже были где-то в его, Питера, области. И стали чаще встречаться звенящие шлагбаумы, ждущие, окутанные морозным паром автомобили, укорачивались перегоны… Столбы, домики, сугробы были окрашены в морозный розовый цвет, и тени от всего этого были сиреневыми.
Мне представлялось прибытие. Нарисованная сознанием картинка была столь неоспорима, что я поверил в неё, как если бы видел всё это когда-то давно. Вот на подъезде к городу мы пересекаем Неву, где островком вдалеке дрейфует Петропавловская крепость, и только после этого въезжаем в город.
Вот уже остаётся час, ещё меньше, а заоконная архитектура всё больше и явственней напоминает мне краснодарские новостройки…
На деле из огромных заводских труб валят огромные хвосты дымов. В глубоком, свежеголубом небе хорошо видны дорожки, оставляемые самолётами… Сами самолёты – схематичные стрелочки на небесной карте. Блеснула и исчезла какая-то канава с неровными берегами. Бетонные стены с обеих сторон. Поезд замедляет ход до полной остановки. За окном – перрон. Впереди – здание Московского вокзала.
Я мечтал об этом – теперь я это видел!
Степан не торопится – он оказался местным, он приехал домой. А я даже не спросил у него… Много чего я не спросил! А, ладно, узнаю сам! Всё узнаю… Я слишком торопливо попрощался с попутчиками и, уже попрощавшийся, глупо сидел с ними рядом. Потом всё-таки подхватил сумку, гитару и стал продвигаться к выходу.
Слишком много света и снега. Свет, отражённый от снега, ударил по глазам. Мороз тут же склеил ноздри. Сделав несколько шагов к вокзалу, я уже дрожал – надеть телогрейку сразу я всё же не решился.
А внутри – внутри было горячо и широко, так что даже дышать сделалось трудно.
Я шёл в сторону вокзала, прислушиваясь к каждому шагу, проверяя его твёрдость на благословенной земле города, о котором мечтал…
Чуть скрипел утоптанный снег. Ближе к вокзалу снег превращался в ледяную кашу. У самого вокзала поработали дворники – снег уступал место голому асфальту. Из дверей вокзала веяло теплом и пахло резиной…
Я вошёл внутрь. Прямоугольный зал с чьим-то бюстом посередине. Такие же, как и везде, копошащиеся люди, не наделенные никакими отличительными чертами петербуржцев. Бюст мне удалось идентифицировать быстро – чей же бюст нужно в Питере увидеть первым. Да и глаза навыкате… Да и кудри не спутаешь…
Я поставил вещи. Осмотрелся. И понял, что в Питере мне в первую очередь хочется… есть.
Другие квартиры
Я не люблю, когда меня называют «Серый». Серыми бывают только волки и ничтожества. Так же, как косыми – зайцы и дожди… Ещё вот почему: Серый – какой-то никакой! Ни белый, ни чёрный, а так… Среди моих м-ских друзей Серым меня не называл никто, и это происходило отнюдь не по моей просьбе. Хочется надеяться, что я просто не был серым.
В другом городе этого статуса я пока не достиг.
Первый же звонок, который я сделал, вышел удачей. На вокзале я, отыскав телефонные автоматы, намеревался захватить их надолго, для чего наменял в кассе кучу мелочи. Раскрыл записную книжку. Первым в списке питерцев стоял Коротаев Паша. Его в Сочах я запомнил сразу: замороченный на сложных аранжировках гитарист «Люлякей Бяк». «ЛюлякиБяков»? О происхождении названия я уже упоминал. Черноволосый и полноватый, с нездорового цвета кожей. На сцене он козырял не только приличным знанием инструмента, но и длиннющим кожаным гитарным ремнём. На этом ремне гитара свисала чуть ли не до коленей, что обычно свойственно «металлюгам»… Он – нет, «металлюгой» не был и инструментом овладевал с некоторой даже нежностью. Гитара отвечала взаимностью в виде высоких, завывающих трелей в районе лада 12-ого и выше… Кстати, он почти не пил там, в Сочах… И почти не смеялся, что казалось признаком ума на фоне общего безумия. Эти качества служили в моих глазах ещё и признаком его надёжности.
– Будьте добры Павла, – произносил я, по беспристрастному «да» уже узнав его, Пашу.
– Я-а, – почему-то растерялся он.
– Паш, это Сергей из «Югов»… – «Юга» – так незамысловато называлась Осиная группа.
– Откуда? – переспросил он.
– Из М-ска, – ещё больше запутал его я.
– Так из югов или из М-ска, – попытался уточнить он.
– Степнов. Из М-ска… – выбрал я лучшую, как мне казалось, характеристику и добавил: – Я у вас…
Он долго соображал, потом спросил:
– На Марата?
– В Питере! – почти кричал я в трубку, запихивая в щёлочку аппарата ещё монеток.
– Сергей. Из М-ска… А-а, Серый… – потеплел вдруг его голос. Но за потеплением последовала неловкая пауза…
– Слушай, Паш, я в Питере! – всё ещё кричал я.
– А ты где? – непонимание росло.
– В Питере! – орал я, боясь, что прихотливый аппарат вдруг разорвет связь.
– Питер большой… – высказался он с усмешкой, и я его понял.
– На Московском вокзале…
На вокзале он и назначил мне встречу, хотя сначала долго объяснял, как дойти до его дома. Не доехать, а дойти! Потом мы оба плюнули на это дело, и я остался сторожить его прямо в зале ожидания.
Что ж, первый звонок – и уже успех! Неплохо начинаются мои дела.
Я вышел покурить с другой стороны вокзала. Незнакомая привокзальная площадь была в изморози и дымах от десятков наводнивших площадь автомобилей. Между высоких дверей вокзала грелись какие-то личности, потерпевшие поражения в алкогольных баталиях. Судя по всему – поражением довольные. Свекольная багровость их физиономий органично дополняла бесхитростные наряды. Шуба на голое тело… Брюки с чужого плеча… И тут я решил избавиться от телогрейки. Привязанная к сумке, она болталась туда-сюда при ходьбе обременительным довеском, и возможности облачиться в неё я всё же не видел. Клеймо провинциала казалось мне несмываемым.
Отвязав телогрейку, сквозь резкий запах я продвинулся к ним.
– Возьмите, – говорю, – ватник…
Личности недоверчиво сделали несколько шагов назад. Двое других представителей алкогольной породы уставились на меня без признаков интереса.
– Ну вы возьмите… Мне не надо, – зачем-то добавил я и отрицательно покачал головой в знак подтверждения, что «не надо»… На их лицах я прочёл такое недоумение, будто я беседую с иностранцами и мне требуется переводчик. Тогда я сделал по-другому… Я положил сверток на снег и сделал несколько шагов назад. Они – вперёд, соответственно. Расстояние между нами не увеличивалось, но и не уменьшалось. Мы как будто бы перетягивали невидимый канат, где проигравшему в качестве приза достанется моя старая телогрейка. С торжеством победителя я наблюдал, как иностранцы сцапали телогрейку и, развязав верёвочку, молча, с пристрастием осматривали её сомнительные достоинства.
От группы отделился один, приблизившись, оказавшейся одной, и кокетливым шёпотом пробасил:
– А у вас сигаретки не найдётся?
Так, как будто и не я делился с ними одеждой…
Пришлось расстаться ещё и с сигаретой.
Я стоял в тени вокзала и курил, глядя на нагромождения домов вокруг площади, на непонятную мне стелу в её центре, на барабанчик станции метро на той стороне. В ослепительном солнце эта красота сияла несколько утомительно. Я не спешил познакомиться с ней прямо сейчас. Мне хотелось дозировать восторг, распробовать Петербург на вкус, но понемногу… Плюс ко всему, наслаждаться чем-то сполна мешали низкие температуры…
– А-а, Серый! Привет, дружище… – восторг его был не совсем естественным. К тому же какой я ему дружище – так себе, знакомый. Как известно, ранние проявления дружбы нередко исключают саму дружбу в дальнейшем.
– П-привет, – отстучал я ему зубами, подавая холодную, побелевшую руку.
– Ну пойдём, кофейку выпьем, расскажешь…
Мы отдалились от площади, пересекли широкую улицу. Зашли в первое попавшееся кафе. Тонконогие столики на алюминиевых ножках, искусственные цветы в пластмассовых стаканчиках на столах… Голубоватый свет, льющийся из ниоткуда.
– Тебе «вписка» нужна? – начал Паша, когда я выпил полчашки кофе почти залпом, стуча зубами о её край.
Вопрос мне не понравился. Отсутствовала минимальная прелюдия. Вот представьте: вы знакомитесь с девушкой. Приглашаете её в кафе… Ждёте, возможно, даже переживаете… А она вам с порога:
– Переспим завтра. Вы мне нравитесь!
Что-то подобное было и здесь…
Да и про Осу мне хотелось ему сказать. Вместо этого я тупо ответил:
– Ну, – и продолжал трястись.
– Сейчас пойдём ко мне, сядем на телефон… – он закурил, туго пуская в холодный даже здесь воздух ядовитые кольца.
– Слушай, Пашка, – попытался сориентировать его я, – мне нужна нормальная комната. Я хочу снять жильё.
– Есть деньги? – заинтересованно поглядел он на меня впервые.
– Почему нет? – даже удивился я.
– Слушай… Ну слушай, – как-то вдруг засуетился он. – Надо подумать…
– Подумай, – разрешил я.
«Чего он боится?» – думал я. Я пока ещё даже не напрашивался.
– Как ребята? – попытался я разгладить разговор.
– Люляки-то? Ну как, играем, – солидно выговорил он. – В марте в Москву едем, потом Тверь. Сейчас вот из Петрозаводска приехали…
– Ого! – нечестно восхитился я. Нечестно потому, что всю эту кухню я знал изнутри. Организаторы обычно оплачивают проезд и проживание. Селят при том в каком-нибудь заброшенном детском саду. Чтобы поиметь деньги с этих мероприятий, нужно уметь себя ставить – в «Югах» я это умел. «Люляки» ещё в Сочах мучились проблемой оплаты их труда. В крупных городах такие проблемы возникают чаще. Побочный эффект переизбытка хороших музыкантов…
– А мы ещё трубача взяли! Мощный дядька – сорок восемь лет. Двое детей!
– Чем он их кормит? – не удержался я, жестоко намекая на финансовую сторону предприятия.
– Не знаю, – уклончиво отозвался Паша.
Вопросы оплаты в музыкальной среде, повторяю, стояли… В общем, дай бог такой эрекции. Поначалу каждый музыкант рвался на сцену. Готов был играть, доплачивая. Со временем это проходило – музыканты обзаводились семьями и начинали роптать. На этой стадии многие просто спивались, зачисляя себе в качестве оплаты дармовую выпивку. Желая при этом получать прилично. Любителей играть и получать от музыки кайф было мало. К таким, кстати, относился Макс. Короче, до той стадии, когда имя работало бы на тебя, музыкантами доживали немногие. Потом если не большая, то очень немаленькая их, музыкантов, часть, сидя на одинаковых кухнях или, как у нас в М-ске, на ночных скамеечках в обществе сигаретного дыма и низкокачественной выпивки, в обществе подержанных подруг, беззубо жаловались:
– Пробиться очень тяжело… – при этом, глотнув из бутылки, хмуро затягивались. Потому как пробиться – очень тяжело… А вот глотать – проще простого.
– Ну а вы? Не играете? – Паша задал не интересующий его, но обусловленный ходом беседы, вопрос. «Как вы? – А как вы?»
И тут я понял, что говорить про Осу ему не стоит. Я не хотел ни фальшивого сочувствия, ни дополнительных, неприятных вопросов.
– Разбежались, – скупо отдал я ему. Пускай додумывает, что угодно.
– А-а… – протянул он… – Это же у вас чувак пел в смирительной рубашке?
У на-ас… Это Оса и его артистические прибамбасы… Но тогда, кстати, было ничего себе…
– Ну, – говорю.
– Помню, помню… Пойдём? – он привстал, доставая кошелёк.
– Я заплачу, – притормозил его я, доставая крупную купюру.
Пройдя по Лиговскому проспекту (я прочел название), мы свернули в переулок, потом снова пошли по широкой улице. Беседовать на улице было невозможно – от мороза губы пробуксовывали согласные, поэтому я, отчаявшись говорить, смотрел. И многое из того, что я читал о Питере, узнавал… Особенно – норы арок, в которых жили похожие на прозрачных мокриц петербургские тайны…
Возле круглого жёлтого здания, в которое упиралась улица, свернули во двор. Поднялись на второй этаж по широкой каменной лестнице с фигурными перилами.
– Заходи… – эхо гулкого замка скрежетало в лестничных изгибах.
Я с облегчением нырнул в тёплое, пахнущее кошкой помещение.
– Значит, так, – хозяйничал Паша, утверждая на гудящую конфорку чайник и указывая мне место за столом. – Тебе хата на какое время нужна? На месяц, на два?
– Не знаю, – злясь на себя, пробормотал я. Я как-то не готов был так сразу… Поэтому, чтобы смягчить глупость, добавил: – На два – точно!
Этот вывод я сделал только что, вспомнив количество денег на карточке, с которыми я готов был расстаться.
– На два? – соображал что-то он, и я на всякий случай подтвердил:
– На два.
– Серый, хата есть… Но чтобы тебя поселить, надо сперва оттуда кой-кого выселить… Ценник умеренный, – и Паша назвал сумму, которая меня в общем устраивала.
Он объяснил: комната сдается какой-то девице из Мариуполя. Она тоже (тоже!) приехала покорять Питер, простодушно не зная, что Питер не очень-то покоряемый город. Более того – сделала даже несколько шагов по его покорению. Собрала группу, что уже само по себе – событие. Шаги вскоре оказались неубедительными. Группа распалась, просуществовав около полугода. Девица же хочет уехать…
– Обратно? – подытожил я.
– Не-е… – Паша ухмыльнулся. – В Москву.
– Ого! Она что, думает…
– Серый! Она ничего не думает, – напирая на «ничего», перебил меня Паша.
Сидя на чемоданах, девица, понятное дело, платит за квартиру неохотно. И ждёт человека или нескольких, которые смогут помочь погрузить её пожитки в автобус, идущий до Москвы. Автобус она закажет, как только найдётся человек… Лучше несколько. И тут я… Обоюдная удача.
В двери снова заскрежетал ключ.
– Жена… – почему-то насторожился Паша. Если бы у нас была бутылка, я бы смог его объяснить. Усмехнулся бы при этом…
– Здрасьте, – голос из коридора потянул холодным воздухом.
– Насть, у нас гости, – предупредил жену Паша.
– Я поняла по ботинкам, – она заглянула в кухню, снимая пальто. – Здрасьте…
От неё, от Пашиной жены, тянуло холодным воздухом в помещение, погода и принесённые с мороза в квартиру холодки были ни при чём. Она была красива, как снежные пики гор на солнце – холодной, высокомерной красотой. Правильное, с беспристрастными, тонкими губами лицо, лицо умное, такое, на котором так сложно представить улыбку и почти невозможно – смех. Высокая, с широковатыми плечами пловчихи и паучьей (не осиной, нет) талией, она была соскользнувшей с глянцевых журналов моделью, по случаю переодевшаяся в теплолюбивые, мешковатые, пусть не безвкусные тряпки.
Теперь Пашино поведение было объяснимо. Хотя с таким поведением долго не живут. Я имею в виду жизнь совместную, естественно…
Не замечая меня, Настя выставляла на стол продукты. Наш с Пашей разговор завял, как срезанный тюльпан в потной руке неудачливого поклонника.
Появилась кошка, с которой я успел познакомиться посредством запаха. Потребовала пищи на своём, кошачьем, языке. Потёрлась о ноги хозяйки, распушенный хвост кошки при этом стоял дыбом. Я её понимал, кошку.
– Насть, Серый хочет у нас комнату снять, – сообщил жене Паша.
Она обернулась. С минимальным интересом поглядела в мою сторону, чуть подняв нарисованную бровь, сделавшую лицо ещё интереснее.
– Ага… – бровь вернулась на прежнее место, придав лицу симметричность, при которой её красота снова становилась глянцевой.
Мне хотелось к ней прикоснуться. Вдохнуть её холод, провести рукой по той загадочной коже, что скрывалась под узенькими джинсами… Наполнить руку податливым мрамором… или молоком… кофе со сливками… Мне неприятно было думать, что она – Пашина жена. Со всеми вытекающими…
– Захвати мусор, – попросила она, когда мы уже одевались. Я на секунду подумал, что это обо мне, и покраснел. Провинциальное зерно во мне дало первый росток.
– Она – модный дизайнер, – похвастался Паша, когда мы вышли на улицу. Я ничего не ответил, а через минуту, к моему счастью, губы снова замёрзли так, что разговаривать было бессмысленно.
Мы снова шли, и я снова околевал. Кожаная куртка задубела и скрипела при каждом движении. Когда мы вернулись к вокзалу – а шли мы тем же путем, – мне захотелось зайти в первый же магазин одежды.
– Серый, это же Невский… Тут цены…
Невский? Так вот он какой – Невский! Так где же тогда Нева?
Паша указал в обе стороны проспекта. Я потребовал пояснений, но он только махнул рукой:
– У Майки посмотришь. У неё карта есть… – Майка – сценический псевдоним девушки из Мариуполя.
Выражаясь терминологией шахматиста, ходили мы конями. То есть прошли несколько длинных и парочку покороче букв «г». Дорога заняла не более получаса. В иное время я обалдел бы от восторга, сейчас – от холода…
– Вот, пришли… – он бросил руку в сторону старинного дома красного кирпича. – Вход с другой стороны.
Я чувствовал себя краснодарским купцом, покупающим весь дом сразу. Такое меня охватило волнение. Даже если бы местом жительства оказалась тёплая конура, я бы уже не отказался от её гостеприимства.
Мы опять поднялись на второй этаж. И почти по такой же лестнице. Паша загрохотал ключами.
Длинный коммунальный коридор вдоль стены с почему-то мокрым паркетом и отсутствием лампочки… Несколько дверей, из которых Паша подтолкнул меня к последней… Постучал, потом вставил свой ключ. И мы вошли в моё будущее жилище…
От яркого света комната казалась бесцветной. Свет тёк отовсюду, два огромных окна впускали свет с избытком. Высокие потолки недвусмысленно намекали, что когда-то здесь жили не люди – атланты. На потолках кое-где сохранялись остатки лепнины. В других местах клочьями висела штукатурка, но эти места мне были не интересны.
– Это была танцевальная зала, – предвосхищая вопросы, поведал Паша, создавая при этом вопросы другие, новые…
– Пришли большевики и выгнали прошлых владельцев. Залу поделили пополам. Видишь, куда лепнина уходит…
А лепнина, да, уходила прямо в смежную с соседней комнатой стенку.
– Так… Диван, естественно, мой. Стол тоже. Компьютер я тебе оставлю… Майка вернётся – разберёмся…
Я ликовал – даже такая роскошь, как компьютер, переходит в мои владения.
– Это не балкон – по пьяни не перепутай, – он подошёл к двери на… улицу. За ней я увидел небольшое пространство, огороженное решёткой. На нем мог стоя поместиться какой-нибудь карлик.
– Там можно поставить горшки с цветами… – скромно предложил я.
– Займись, – парировал Паша. – Надо Майку ждать… Пойдём перекурим, – и он направился в сторону выхода, уточняя: – Майка съедет, можешь курить здесь.
Спустя полчаса явилась Майка.
– О, привет, – немного в нос поздоровалась она, замерев на пороге. Из-под шапки глядела на меня длинноносенькая, большеглазая девица. Ещё из-под шапки вываливались крупные мариупольские кудри. Казалось, будто Майка надела на себя воротник из человеческих волос.
В доходящем до колен неприталенном пальто Майка была похожа на колокольчик.
– А чего вы? – выговорила она, как будто ожидала ответа на свой непростой вопрос.
– Нового жильца привёл, – произнёс Паша и сделал паузу, позволяя девушке переварить ответ.
– Сергей, – представился я, паузу не поняв.
– Ну, Коротаев, ты бы хоть позвонил, – вдруг занедовольничала она довольно гнусавым и при этом звонким голосом.
– Человек сегодня приехал. Из… С юга, – так я понял, что Паша забыл мой город.
– Ну, Коротаев… – обидчиво загнусавила Майка, забыв, вероятно, всю шаткость своего положения. Хотя загнусавила обречённо.
– Я человека тебе оставляю…. Он тебе поможет с вещами. Сейчас мы покурим, и я пойду, у меня дела… Вечером позвоню.
Он снова повлёк меня на лестницу. На разговор, понял я.
– Серый, я тебя с ней оставляю, обживайся. По-моему её никто не трахает, можешь попробовать…
«А ночевать – с ней, что ли?» – хотел спросить я, но не спросил.
– Всё, я убежал, – подытожил он и направился вниз по лестнице.
– Вечером позвоню, – услышал я уже с первого этажа. А потом хлопнула входная дверь, породившая очередной сквозняк.
Когда я вернулся, Майка переоделась в голубые домашние брюки и толстовку с фотографией какого-то западного музыканта в полный рост.
Пашина подачка, конечно, не шла ни в какое сравнение с его женой. Тоненькая и безгрудая, она неуловимо напоминала веточку мимозы. Белая кожа, худой подростковый зад…
– Ты вино пьёшь? – спросил я её с порога.
– Мартини, – ловко озадачила она меня в ответ. На деньги, истраченные на это детское пойло, можно жить неделю. Ладно, один раз живём!
– Где магазин? – спросил я её и стал одеваться.
– В этом доме, – коротко ответила Майка, собирая в пучок красивые локоны.
Я опять вышел на мороз. Смеркалось. Мне вдруг перестало вериться во всё случившееся. Слишком много всего произошло со мной за эти дни, за сегодняшний особенно. Я почувствовал усталость, и алкоголь был бы сейчас очень уместен…
Как шахматный слон, передвинутый случайным моим попутчиком, я пересёк страну по диагонали… И замер от собственной наглости, не зная, что меня ждёт и каков будет мой следующий ход!
Я вернулся с бутылками, а Майка всё так же сидела на диване, не сделав ровно ничего для совместного застолья. Только взяла в руки большущую концертную гитару, но отношение к застолью это действие имело очень косвенное. Прижимала струны, дёргала их и потом долго слушала так, будто искала восьмую ноту…
Помимо выпивки мне ощутимо хотелось есть. Да и прочие половые потребности неуместно вышли на первый план.
Майка оторвалась наконец от своего инструмента, прошла к столу, смахнула с него невидимые крошки.
– Бокалы вот там, – указала. Потом мечтательно произнесла: – Чего-нибудь бы съесть…
Из этого я понял, что её вклад в застолье будет минимальный. Точнее – нулевой! Ещё точнее – она сама. А судя по её поведению – без особых перспектив на последующее общение, когда ближе уже некуда…
– Сергей, я позвонила насчёт машины. Завтра с утра начнём перетаскивать вещи.
– Хорошо, – говорю.
Увидев, что кроме её мартини я украсил столешницу бутылкой коньяка, она строго, даже излишне строго напомнила:
– Сергей, встаём часов в семь…
Майка не напрягала себя излишней деликатностью.
– Там пельмени… – попытался её подтолкнуть к созидательным действиям.
– Я в холодильник положу, – ответила. Ну тоже созидание…
Придвинули стулья, сели к столу. Она топнула пальцем по клавише магнитофона – заиграл «Аквариум».
– Мне Паша сказал, ты в Москву собралась? – чтобы начать разговор, потребовался неискренний интерес.
– Ага. Хотя Питер мне больше нравится. Но в Москве подход другой, там все более деловые. А куда без денег… Хотя здесь на «собаках» легче заработать…
Я непонимающе приподнял бровь.
– Ну на «собаках» – в электричках… В Питере больше дают, а главное – народу меньше…
Мы дежурно поговорили о разнице столиц. Пошутили над поребриком и бордюром. Я предположил, что целоваться лучше в парадном, она неохотно возразила – в подъезде… При этом окунала верхнюю губу в смешанный напиток, однако уровень жидкости в стакане даже не уменьшался.
Всё шло к тому, чтобы я попросил её сыграть. Это было видно по тому, как она поглядывала на гитару, нехотя отвечала, когда я уводил разговор в сторону от неё самой. И хотя я не очень и хотел слушать её песни, меня вполне устраивал фоновый «Аквариум», через какое-то время сдался…
Пела она хорошо. Но много. В перерывах между песнями отпивала по чуть-чуть. Жалуясь при этом на длинные ногти, цепляющиеся за струны…
«Обстриги», – думал я и чувствовал себя уставшим настолько, что не мог это выговорить.
Потом заставила меня себе подыгрывать. Вполне искренне похвалила за владение инструментом.
«Что же у тебя за музыканты были?» – опять захотелось сказать мне, но она и вовсе не делала пауз между песнями.
Репертуар её, казалось, был нескончаем… Всё это мне так надоело, что потом снова понравилось.
– Отвернись, – попросила она возможности переодеться.
Я уставился в окно. По потолку проплывали отсветы от автомобилей. Она зажгла ночник, и в комнате сделалось уютно. Свет падал только в изголовье дивана – такой, какой нужен для долгого чтения длинной, как «Война и мир», книги…
– Всё, – зашуршало одеяло. Я обернулся. Скинувшая лет десять, в белой, сиреневенькие цветочки по белому, ночнушке, руки поверх одеяла, Майка не представлялась мне не только предметом страсти, но даже вызвала вдруг какую-то брезгливость. Брезгливость к стерильности. Не хватало Майке только ночного гномичьего колпака. Даже если бы она придумала вдруг обниматься…
– Я выключаю? – задала она усталый вопрос. Скучным, надо сказать, голосом.
– Да, – согласился я и сглотнул что-то шершавое. А если бы она вдруг придумала обниматься?
Я разделся и лёг с другого края. Мы шевелились, устраиваясь. Потом шевеление стало затихать, и в комнату потекла тишина.
Случайное касание её ноги под общим одеялом. В ноге текла не холодная лягушачья, как могло показаться, а вполне себе человеческая, живая кровь – нога была горячей. Я повернулся к Майке – очертания её худенькой спины, обтянутые лугом с сиреневенькими цветочками, были близкими и беззащитными… Я протянул руку и накрыл Майкино плечо…
– Но-но-но! С ума сошёл, – даже грубо как-то и вовсе не сонно одёрнула она меня. Как будто этого и ждала. И только одёрнув меня, могла наконец спокойно отдыхать. Действительно, что это я, с ума сошёл? Как это мужчина может приставать к женщине? Ах, я забыл – она же не женщина, а поющий гном-колокольчик…
Не комментируя происшедшее, я повернулся к Майке спиной. Пусть спит, ибо я не ошибся – лягушачья кровь наполняет её сосуды. А то, что она горячая, – то ошибка природы… Нам было бы уместно сейчас спрятаться друг в друге, согреться друг другом, но только если бы она была другой, Майка. С чувствами, прихотями и… сочувствием к другому живому существу…
Я вспомнил Пашину жену. Неужели это создание может быть подвержено земным страстям? Я мог бы думать об этом долго и с удовольствием, но мысли стали путаться, набегать друг на друга волнами, почему-то пищать, как голодные мыши…
Потом мыши замолкли, и кто-то стал трясти меня за плечо.
– Степнов, вставай… Ну вставай, – я открыл глаза и увидел склонившуюся надо мной Майку:
– Пора собираться! – голодные мыши, как я понял, были обыкновенным будильником.
Первый полноценный день в Питере должен был быть прекрасным! Волшебным! Медленная прогулка по набережной, созерцание архитектуры… Как бы не так! Полдня я таскал нескончаемые Майкины вещи. Ещё полдня – спал! Проснулся вечером.
Майка меня вымотала. Она считала, будто главным женским качеством является беспомощность. Беспомощность её была формой кокетства, ненужного мне после предыдущей ночи. Я таскал пузатые сумки с её нарядами, постельными принадлежностями, коробки с посудой и ещё бог знает с чем; разобрал без отвёртки – пользуясь медиатором – и вынес по частям не широкий, но глубокий шкаф с огромным количеством полок.
Она бегала рядом со мной, переставляя спичечные ножки, и давала бессмысленные советы. Потом, когда я на неё зарычал, сторожила увеличившуюся груду скарба внизу, сидя на лестнице.
Паша позвонил ещё утром. В коридоре лампочки так и не было, где-то в углу зазвенело…
Он объяснил мне, что делать, а именно: проводить Майку, забрать у неё ключи. Сам он зайдёт ближе к вечеру.
Когда я снёс наконец вниз последние Майкины пожитки, комната сделалась квадратной и лысой. Этакий объёмный кубик, как попало оклеенный багровыми (!!!) обоями. Цвет обоев я заметил только тогда, когда Майка бережно сняла со стен десятки постеров как со знакомыми, так и с незнакомыми мне мужчинами. Музыкантами, понятное дело.
Короче, кубическое наследство багрового цвета мне досталось. В кубике находился двуспальный диван, столик с компьютером, шкаф. Никаких излишеств.
Майка передала мне ключи, впрыгнула в микроавтобус, её жизнь для меня захлопнулась автобусной дверцей. За труды Майка наградила меня бутылкой коньяка. Интересно, держала для этих целей или просто бутылка не помещалась в распухшие сумки?
Овладев ключами, я вернулся в пустую комнату. Лёг на диван в предвкушении… в предвкушении всего. И неожиданно уснул. Проснулся, как я уже говорил, вечером…
Проснулся – хозяином.
Отец говорил, будто в его жилах текла какая-то капля немецкой крови – так рассказывала мать.
Кровь случилась, когда волна немецких переселенцев пришла на наши, российские земли Кубанского юга в середине XIX века. Некоторое количество немецкой крови проросло в кубанских наших полях, некоторое же количество немецкого семени проросло в горячих чревах красивых черноволосых казачек… Говорят, будто немцы помогали казачкам убирать хлеб…
Если всё так, как он, отец, утверждал, то восьмушечка немецкой крови есть и у меня. Если всё так, то восьмушечку эту выдаёт моя любовь к порядку. Даже словосочетание «творческий беспорядок» вызывает у меня тошноту. Тем более что многие мои знакомые называли «творческим беспорядком» даже раскиданные по всей квартире грязные и непарные носки. Почему-то «творческие беспорядки» свойственны в первую очередь поэтам. Хотя, если подумать, чем ещё может сопровождаться бардак в голове.
У меня творчество всегда ассоциировалось с чистотой. Для того чтобы разложить по полочкам слова, полки эти должны быть пусты и вытерты от пыли. Я не умею впихивать слова между бутылками и тарелками с остатками позавчерашней еды. В лучшем случае получаются плохие, липкие стихи…
Фигурально выражаясь, я нуждался в очистке полок. В первую очередь от немыслимого «оливье» из имён и фамилий последних дней: Георгиев и Майек, Степанов… Из не существующего больше Осы… Анемичной поэтессы. Ещё людей…
Вечером зашёл Паша. Паша показал, как включать компьютер и печатать на нём, как на пишущей машинке. Потом мы пошли в отделение банка, где я снял деньги и заплатил ему, как договаривались.
Я предложил ему коньяка. Паша отказался, я – обрадовался. Я нуждался в очистке полок, излишние возлияния и ненужная информация были мне ни к чему. У меня не было для них желаний и времени.
Паша между прочим спросил и про Майку.
– Как тебе Майка? – я услышал, что он спросил. А спросил он во всех смыслах.
– Никак, – честно ответил я. Мне немного не понравился его излишний интерес к моей половой жизни.
– Я так и думал… – развеселился он, и мне стало непонятно, в чей огород целил он свой камешек. А при такой его жене я вполне мог подумать, что и в мой… Цепочка умозаключений, правда, в таком случае сложновата.
Он уже собрался уходить, как вдруг что-то вспомнил.
– На, – говорит. Копается в своей сумке и протягивает мне свёрток. – В такую холодину почки простудишь…
Я протянул руку, почувствовав сквозь пакет знакомую мягкость. Мучаясь странной догадкой, заглянул внутрь.
У меня она была другого цвета. У меня – синяя, стройотрядовская. У него – военная, цвета хаки. В остальном же телогрейки были одинаковы.
– Я всю прошлую зиму проходил. Ей сносу нет. Уже и куртку купил, а всё в ней по привычке…
Ну раз всю прошлую зиму проходил… Это меняет дело.
После Пашиного ухода, когда я полноценно остался один и внешние силы уже были мне нипочём, я сел за стол, как прилежный школьник, расчертил себе на графы лист бумаги. На ещё одном листе размашисто написал: «дела». Перечислив несколько первых попавшихся, решил прикнопить лист над столом. Кнопок не было… Ниже слова «дела» тут же появилась ещё одна строка – «купить кнопки»…
Разные люди
Месяц я прожил так, как будто мелкими глотками удовольствия выпивал ту самую бутылку шампанского из провинции Шампань… С какой-то фатальностью чувствуя, как все эти удовольствия не бесконечны. То есть бутылка когда-то должна подойти к концу.
В свое оправдание могу сказать – удовольствия мои нельзя было назвать безрассудными. Пир во время чумы не в моём характере. Хотя не было никакой чумы. Пира, правда, тоже… Так, макароны, греча… Тушёнка…
Единственным опрометчивым шагом было посещение концерта «Люляков» – запланированная, но, как обычно, стихийная впоследствии, попойка после выступления переместилась ко мне домой…
Так я выяснил, что соседки мои – две Яги, одна из которых пузата, другая долговяза – были практически глухи.
Кроме того, выяснилось, что вечерние попойки особенно утомительны утром следующего дня. Когда опохмелившиеся не в меру знакомые ленятся уходить и им очень сложно объяснить, почему в это время я не могу разделить с ними пьянку.
Я не стремился сближаться с новыми знакомыми. И без них жизнь моя текла вполне насыщенно. При этом я не чувствовал себя одиноким – одиноким обычно чувствуешь себя в толпе… Вокруг меня же были неодушевлённые приятности, берегущие мою психику лучше и качественней любого приятеля: каждое утро я просыпался с ощущением праздника. Торопливо завтракал, одевался в хаки-телогрейку и выходил в город…
Купив себе карту, я отмечал каждодневные свои маршруты на ней красным карандашом. Я завёл себе тетрадь, куда вносил информацию о памятниках архитектуры: даты строительства, архитектор… Этого мне показалось мало: архитектурные стили, названия мостов, даже новые словечки… Какая-нибудь кариатида… Или пилястры… Самообразованием это не было, потому что самообразование всё же преследует какую-то цель… Я же в первую очередь жмурился и мурлыкал, как довольный кот, узнавая новое и это новое созерцая. Купаясь в новом… Я приобрёл кисти и десяток тюбиков масла – будет потеплее, и я буду рисовать, мечталось мне.
После прогулки, которая длилась не менее нескольких часов, я возвращался. Обедал куриным супом и садился писать…
Всё происходящее далее напоминало мне известную басню: то их понюхает, то их полижет – очки не действуют никак… Причём очками служили… Не знаю, как это объяснить – сам север служил очками, которые никак не действовали.
Короче, на бумаге я вёл себя как заикающийся младенец. До тех пор пока передо мной не ложился белый лист, мне казалось, что я переполнен мыслями. Начинён предложениями, как фаршем – купаты. На бумаге же всё кажущееся значительным вдруг обесценивалось, принимало форму куцых, незавершённых абзацев… То, что меня окружало в реальности, было куда выше того, что выходило на бумаге. Должно же было быть наоборот. Да, да, да – наоборот!
И я вертел, подбирал слова, не подозревая, что важное и главное лежит ещё до слов. Чтобы появились слова, нужна была необходимость в этих словах. Нужда в словах оправдывала их появление!
Я думал о словах, не желая знать о причине их возникновения… А когда слова – просто слова, пусть даже замысловато построенные в предложения, цена этих слов, увы, невысока.
Я не отчаивался. Отчаяние приходит тогда, когда исчерпаны все аргументы. Я же считал, что мне ещё есть где искать. И есть направления, в которых стоило попробовать двигаться…
Я не стремился сближаться с новыми знакомыми – об этом я уже упоминал. Новые знакомые сами делали активные шаги для моего отступления.
Случилось это спустя несколько дней после злополучного концерта…
Раздался звонок в дверь. То, что звонил не Паша, я понял сразу… На кнопку жали долго и требовательно. Значит – новые знакомые, недовольно предположил я и пошёл отпирать.
За дверью обнаружились двое. Слава – широкоплечий и худой, как слетевшая с петель дверь из ДСП, шея много раз обмотана красным замусоленным шарфом крупной вязки. Зимняя куртка невнятных сине-серых цветов. Из богатого – шапка-ушанка с вечно обслюнявленными верёвочками. Вторичные половые признаки рыжего цвета вокруг рта и на подбородке. Удивлённые жизнью глаза. Он пишет для «Люляков» часть текстов, и тексты его выделяются своей абсурдностью даже на фоне любого другого абсурда. Вообще питерцы абсурдом грешат – тут, мне кажется, не обошлось без влияния Гребенщикова – священного мамонта питерской музыки… Молодые проклинают его и смеются над ним, следуя при этом петербургской музыкальной традиции, не без участия Гребенщикова заложенной…
Гостя второго я видел впервые. Но! Он был той же, непонятной мне и столь распространённой в Питере породы. Смесь нарочитой расхлябанности с природной нежизнеспособностью. С клочками таланта неизвестно к чему. С подвешенным языком. С изгрызенными верёвочками шапки… Впрочем, эта категоричность пришла ко мне позже.
– О, здорово… – застав меня дома, Слава искренне удивился.
– Привет, – ответил я им, по их виду догадываясь, что пришли они занять денег.
– Ты портвейн пьёшь? – спросил Слава, и по его дыханию было заметно, что он – пьёт!
– Нет, – огорошил его я. Такого он от меня не ожидал. Ну в худшем случае что-нибудь вроде «не сегодня». На это можно было бы попросить: «Ну ТОГДА дай взаймы». Категоричное «нет» исключало любые «тогда».
Вся его глубокомысленная комбинация рушилась в момент. Он закурил, опустив глаза…
– Да ёлки, Слава… Серый, займи нам денег, – вдруг отворил рот второй, которого я до сегодняшнего дня и не видел ни разу.
– Ну вот, – не то мне, не то самому себе произнёс Слава, будто говоря, что обходных маневров больше не будет. Что я обречён буду отвечать на конкретику.
Тогда я ещё не думал про них только плохое.
– У меня есть коньяк, – говорю. Я так и не попробовал Майкино угощение.
– Можно проходить? – оживился Слава.
– Это другое дело, – подтвердил второй, который окажется Димой.
А у меня к ним был разговор. Не к ним конкретно, а к каждому, кто окажется рядом со мной и будет расположен отвечать: я хотел узнать, куда мне сунуться со своими рассказами. Мне, конечно, не нужно было издательство – не дорос, мне нужен был авторитетный человек, способный дать мне адекватную оценку и дельный совет. Первое время таким человеком в культурной столице мне казался каждый второй…
Гости повели себя как справедливо ожидающие упрёков оккупанты. То есть действовали стыдливо, но настойчиво… Кое-как побросали куртки.
Расселись, не снимая обуви, протянув две пары ног под стол. Опять же стыдливо, но нагло при этом попросили закуски.
– Серый, извини, а есть чего-нибудь пожрать? – вроде бы «извини», но всё-таки дай…
Пришлось пойти на кухню и поставить на огонь ковшик с сардельками.
Слава, повертев бутылку, открыл её без приглашения, неопрятно понюхал, касаясь горлышка рыжей порослью.
– А есть чего-нибудь запить? – попросил он, когда коньяк был уже налит.
«А есть с кем-нибудь поспать?» – чуть не продолжил я за него.
Проглотив рюмку, Слава принялся рыться в моих кассетах.
– А мы, Серый, прикинь, в «Ирландском пабе» посидели… Я говорю – «дорого», а Славян мне – «зато как люди»! По паре пива выпили, деньги и кончились. Ну решили у тебя занять… – Дима хохотнул.
Слава тем временем поставил какую-то кассету, сделал громко, и из динамиков полился медоточивый, но гармоничный «Аквариум». Кассету оставила Майка.
Самое забавное, что сам Слава принялся дёргаться в такт музыке, изображая, будто в его руках находится электрогитара.
– Любишь Гребня? – закончив импровизировать, спросил он.
– А? – не сразу понял я. Поняв – объяснил: – Предыдущая жиличка оставила…
– А-а, это Майки… – я не догадался, что Слава вполне мог её знать. – Нет, Гребень классен, старик! – я опять не сразу понял, что «старик» относится ко мне, а не к Гребенщикову.
– А ранний Гребень вдвойне, – высунулся Дима.
Мы выпили ещё по рюмке. Слава продолжал называть меня «стариком». Видимо, в его понимании это означало высшую степень приязни между мужчинами.
– Слав, – подкараулил я его молчание, – есть вопрос, – и, не дожидаясь одобрения, продолжил: – У меня есть немного прозы. Я хотел бы её показать…
Слава не дал закончить:
– Прозу пишешь? Ну сейчас читать мне некогда…
Я изловчился и закончил:
– Я хотел бы её показать знающему человеку.
Он нисколько не смутился.
– Давай. Только не сегодня. Я почитаю. Можно Птице дать…
На мой немой вопрос тут же получил исчерпывающее:
– Птицын – классный человек…
Дима одобрительно закивал. Для меня же характеристика некоего Птицына была несколько расплывчата.
Отступать было некуда. Я достал из ящика распечатанные рассказы. Писал от руки я всё же много быстрее, чем печатал на компьютере, а вот готовые рассказы я набил одним пальцем на клавиатуре и размножил в трёх экземплярах. Получились три толстенькие папки листов по сто… Результат моего м-ского труда.
Мне было приятно думать, что каждая стопка содержит буквы, набранные мной в том порядке, который подсказала мне моя собственная голова. Стало быть, в собственной голове происходят какие-то мозговые процессы, и процессов хватило аж на сто листов… И теперь мне хотелось, чтобы эти сто листов прочли чужие головы и выдали мне вердикт. Вердикт, что слова, собранные из букв, набранных мною в том порядке, котором подсказала мне моя голова, тоже стоят на своих местах.
В общем, мне нужен был не совет, пока ещё нет! Мне нужна была пока лишь похвала, которая очень часто становится важнее самого совета.
Я достал из ящика рассказы и протянул один экземпляр Славке.
– Ого! – отреагировал тот. Ожидал-то страниц десять-пятнадцать, наверное…
– Ну, – подтвердил я.
Слава пробежал глазами по первой странице. Потом произвольно перелистнул куда-то в середину… Одобрительно произнёс:
– Хорошо пишешь… – произнёс для того, чтобы я окончательно понял, что здесь надежда на одного только – «классного человека Птицына»…
Сардельки были съедены. От коньяка осталась лишь головная боль, а они всё сидели. Перебирали кассеты, бренчали гитарой. Создавали помехи. Потом всё-таки ушли, нагло извинившись за занятую таки сумму денег. Деньги я дал только потому, что это был единственный шанс на окончание визита.
Рукопись Слава, естественно, забыл, и я сунул ему её уже на лестнице. Я не терял надежды на «классного человека», хотя надежда таяла по мере узнавания этих персонажей. Вряд ли третий окажется интересней, чем эти двое. Или просто окажется другим.
А между тем меня уже второй раз в этом, начинавшемся году настигала весна. Убежав от первой весны, я, не зная, когда весна в Питере устанавливается полностью, ждал её признаков с нетерпением.
В середине марта закапали, став ощутимо длиннее, дни… Ночи же, несмотря на это, загоняли тепло обратно в заморозки. После солнечной, жизнеутверждающей недели солнце вдруг исчезло совсем. Казалось, будто смена дня и ночи вообще происходит без его участия. К пасмурной, бесцветной погоде присовокупился холодный ветер с Невы, которая здесь, в центре Петербурга, – всюду. Было ощущение, что такая бесцветность – навсегда.
О своей куртке, о той, в которой я приехал, я почти позабыл. Пашина телогрейка сделалась моей второй кожей, которую я менял, лишь возвращаясь в тепло. И хотя температура улиц стала всё-таки выше, чем в первые дни моего пребывания, об оттепели вокруг меня были только воспоминания.
Кате я так и не написал, хотя порывался сделать это пусть бы и для того, чтобы она не беспокоилась. Это значит, что во мне сидит обида. Тогда – стоит ли писать? Так думал я и откладывал идею письма на потом. Или насовсем? Катя вообще сделалась частью другой, казалось, выдуманной мною жизни… Выпукло и живо оказалось в памяти совсем не то, что мне бы хотелось помнить о ней. Точнее – не так! Выпукло и живо осталось в памяти то, что не было воспоминаниями о Кате конкретно Выпуклости женской природы… Живость женских движений… В первую очередь по Кате страдали половые железы. Поэтому возникал уместный вопрос – по Кате ли? Но найти в чужом пока городе бесплатную девушку было проблематично.
Кроме того, как я уже говорил, бутылка шампанского, которую я смаковал, была не бездонной. И в этом себе рано или поздно надо было признаться…
Я расплатился с Пашей до конца апреля. Денег, перечисляемых мне семейной парой за Краснодарскую квартиру, хватало только на дальнейшую оплату жилья и прожиточный минимум. В том случае, если прожиточный минимум свести к минимуму… Того, что сейчас оставалось на карте, хватило бы на пару месяцев, потом так или иначе мне все равно пришлось бы искать работу. Работа вдруг стала необходимостью, и эта необходимость сделалась неожиданной. На безбедное существование у меня оставался месяц… От силы полтора. Да и не от силы – от слабости!
Усталость приходит даже от восторгов. Не миновала и меня, хотя причины этой усталости крылись не только в восторгах. Причины её были ещё и в том, что я был один. За этот месяц я так и не обзавёлся друзьями, хотя, как корабль ракушками, оброс знакомыми. Из тех, что «бери бутылку и дуй к нам».
Давно, когда я пописывал рекламные статейки в Краснодаре, к нам в редакцию пришёл человек. Тощий, высокий гражданин с волосами необлетевшего одуванчика. Его узковатые, умные глаза прятались за очками в золотой оправе. Дороговизна очков и наличие денег у их обладателя определялись сразу. В комнате я был один, и только в соседнем кабинете, распределив грудь по столу так, что место для бумаг было только на краешках, дымила тонкими сигаретами директор.
– Здравствуйте, – человек выждал интеллигентную паузу. – С кем я могу пообщаться на предмет рекламы?
– Да вот, – говорю, – со мной.
– Я бы хотел… – он присел боком к столу, напротив меня, нелепо сплетя длинные ноги…
– Я бы хотел заказать ознакомительную статью.
– Ознакомительную с чем? – в своих владениях я мог позволить чуточку иронии.
– Может быть, пройдём в кафе? – тут же разгадал он меня. Кафе находилось этажом ниже в этом же здании.
– Пойдёмте… – мне было не впервой общаться с таким заказчиком. Иногда в этих случаях мне перепадала рюмка-другая какого-нибудь золотого коньяка.
Вопреки ожиданиям клиент заказал два кофе.
Он чётко и коротко изложил суть вопроса. Обыкновенная статья – приглашение на работу… Но! На крупный краснодарский завод. Длинный, тощий и умный был… директором. Самым главным директором одного из крупнейших предприятий Краснодара.
Мы выпили кофе. Договорились о цене. Испугавшись немного, я был суетлив. Он, овладев ситуацией, перешёл со мной на «ты». Много курил.
Когда все вопросы были оговорены, Павел – так он представился, – произнёс:
– Ещё кофе?
– Пожалуй…
– Знаешь, Сергей, я раньше очень много пил.
К чему это он, испугался я.
– Утром за мной заезжал водитель и, не спрашивая уже, сперва вёз меня в кабак. Там я выпивал сто пятьдесят, чтобы снять дрожь. А потом уже мы ехали на работу.
– Ого…
– Это продолжалось годами… Потом я понял – всё! Лечился… Неважно. Важно вот что! Мне исполнилось пятьдесят. К этому времени я не пил лет пять. Я пригласил гостей. Предупредил – алкоголя не будет. Все согласились. Нет так нет… А один старый дружок спрашивает: можно я выпью и приду? Я ему – выпить можешь! Только не приходи…
– Жестоко… – вставил я.
– Нет. Я ему объяснил: Я знаю всё, что ты мне будешь говорить после того, как выпьешь – он улыбнулся и затушил окурок. – Знаешь, зачем я тебе это рассказываю? Чтобы ты не удивлялся, что мы не скрепили соглашение коньяком!
Долговязый поднялся, огладил джинсы на ляжках.
– Всё, пока. Жду макет, как договорились…
Сколько лет прошло – а фраза врезалась в память. Я знаю всё, что ты мне будешь говорить после того, как выпьешь.
Именно по этой причине я «не брал бутылку и не дул к ним». В общих чертах я действительно знал.
Того, о ком не знал, я ещё не нашёл… Таким человеком окажется Птицын.
Так говорил Птицын
Небо не просыхало. Видимо, они гуляли вдвоём с ветром. В такой день даже мой пытливый ум согласился на отдых. Ещё эта непонятная усталость…
Я проснулся позже обычного. Надел жилетку и тёплые носки. Поел овсяной каши. Выпил кофе.
Сегодня я решил никуда не идти. По меньшей мере, с утра. Неторопливо поковыряться в набросанном за месяц. Слово «набранное» ещё не появилось в моём лексиконе. Тем более что написанное и было пока набросанным. Тут и там…
В Петербурге я начал писать о Петербурге – это естественно. Вычитывая строчки, я никак не мог избавиться от ощущения тяжести и пафоса сложносочинённых предложений. Я ещё не догадывался сделать эти предложения просто сочинёнными. Хотя дело было не только в этом. Каждый написанный мною объект недвусмысленно отсылал будущего читателя к классической литературе, с неуклюжих страниц глядели «достоевские», уцененные моим недоталантом символы. Мостики, каналы, громада Исаакиевского собора… Дворы-колодцы встречались чаще людей, о которых шла речь… Сам город – чахоточный, что естественно для приезжего с юга и безобразно для человека пишущего, каковым я собирался становиться. Чахотки, кстати, здесь было не больше, чем на юге. Тут я её тоже не замечал. Я, кажется, даже не был уверен в том, что под романтической чахоткой скрывается открытая форма туберкулёза. Город же при этом оставался непременно чахоточным.
Слыша и чувствуя что-то петербургское, за этим петербургским я не слышал себя и пока этого не понимал.
Краснодарское, м-ское в особенности, было родным и понятным. Холмы, река… Петербургское, не ставшее пока родным, было книжным, прочитанным и записанным, как… как выпускное сочинение девятиклассника.
Я блуждал по экрану компьютера до рези в глазах. Заменял слова там, где надо было менять вектор направленности. Писать свой Петербург, Петербург приезжего…
От компьютера и сигарет глаза казались замусоренными песком. Я встал от экрана. Надо было отвлечься, а я вспомнил вдруг, что обещал Паше посадить цветы на его балконе.
Через дорогу от дома в полуподвале находился магазин. Я заприметил его недавно и как-то не доходил до него. Магазин назывался «Садоводу и огороднику». Я накинул телогрейку, залез в сапоги. Спустился в ветер.
Я хотел бы завести собаку. На худой конец – котёнка, но с моим образом жизни живые существа не вязались. Будем довольствоваться цветами.
Тишина помещения с моим появлением нарушилась резким звоном колокольчика на двери. Пожилая женщина-продавец подняла от кроссворда скучные глаза. Оценив меня, вернула глаза на место.
От обилия семян, вернее, пакетиков с картинками многообещающего урожая рябило в глазах.
– Молодой человек… – окликнула меня женщина, поняв, что зашёл я туда, куда мне надо, но ищу то, не знаю что. – Может, я смогу помочь? – и отложила газету.
– Мне нужны семена… – пробормотал я, не отрываясь от картинок.
– Я уже поняла, – хохотнула она. – Какие? Цветы? Овощи?
– Помидоры! – ответил я, совершенно не думая о том, что сказал. Зачем мне помидоры? Просто в тот момент взгляд добрался до вожделенных красных плодов на этикетках.
– Ну я не знаю… Возьмите «Мичуринские». Или «Дюймовочку». Вы где их сажать будете?
– Да я не себе… – солгал я, пресекая дальнейшие расспросы. – Давайте «Дюймовочку»…
– Один пакетик? – огорчилась продавщица.
– Ну, – подтвердил я, улыбаясь. У всех Маши, Наташи, а у меня будет Дюймовочка. Хорошее название для сверла.
Я помнил краснодарскую рассаду у нас на балконе, матушка высаживала её в обрезанные пакеты из-под кефира… Потом в обрезанные коробки из-под вина «Изабелла» она безуспешно высаживала окурки.
Я опустил пакетик в карман, расплатился и опять вышел в ветер.
Дома я рассмотрел покупку, надорвал пакетик, высыпал на ладонь засохшие, казалось бы, навсегда семечки.
Помня, как делала мать, намочил марлечку в блюдце, распределил семена по желтоватой поверхности марли. Пусть растут! Мне отчего-то казалось это хорошим делом. И вот только я закончил городить свой огород, позвонил Птицын.
К коридорному телефону я успеваю быстрее всех. Ещё и потому, что всегда жду звонка. Мои запечные старухи выползают медленно и нехотя. Хотя старухи разные: одна из них – старуха-колобок в натянутых на непомерный живот рейтузах и очках-биноклях – всё-таки бодра. Что-то варит на нашей маленькой кухне, перекидывается со мной фразочками. Дочка замужем за африканцем! Живёт, соответственно, в Африке. Так говорит бабка, считая Африку государством. Есть плюс – с апреля по октябрь уезжает в какую-то дальнюю деревню, где нет ни врачей, ни телефона. Короче, нам с ней недолго осталось.
Вторая – интеллигентная. Потому как не задаёт вопросов. Здоровается, хотя имени моего знать не знает. Приходя с улицы, верхнюю одежду снимает у себя в комнате.
В общем, телефон – моё негласное дежурство. С которым я негласно согласен.
– Сергей? – послышалось из трубки. – Это Птицын. У меня тут ваши рассказы лежат. Мне их Супрун передал. Можем встретиться… – создавалось ощущение, что Птицын одновременно говорит и грызёт орехи, такой трескучий и картавый был у него голос.
– Хорошо, – сглотнул я холодную слюну, соображая, что Супрун – это скорее всего Слава.
– Приезжайте, – небрежно пригласил он. – Сегодня можете?
– Могу, – я пытался совладать с непонятным волнением.
– Ну до вечера…
– Ага.
– Может, спросите, куда ехать? – в трубке растрещался добродушный смех.
– Куда? – опять сглупил я, хотя его смех подействовал на меня расслабляющее.
– Станция метро «Горьковская». На выходе я вас встречу.
– А как…
– У вас, говорят, внушительный рост? А я буду в очках и чёлке, – он опять ухмыльнулся. – Найдёмся.
Нашлись. У него был лихой вид и совершенно не похожая на других походка. Походка человека, который никогда не спешит, но при этом двигается с нормальной скоростью. И было ему лет тридцать пять. Я сделал шаг в его сторону, машинально доставая сигарету.
– Привет, – орехи зашевелились у него во рту. – Привет, писатель Сергей, – добавил он, и я не понял, издёвкой это было? Иронией?
Я молча пожал руку – не знал, как его называть. На «вы» или всё-таки на «ты». Более того – я даже не знал имени Птицына.
– Пойдём, – позвал он, и мы двинулись в сторону парка.
– Супрун тебе что-нибудь обо мне рассказывал, или придётся сначала? – обернулся он ко мне. За очками в близоруких глазах у Птицына проживали озорные, колючие ёжики.
– Нет. Он сказал, что ты – классный человек, – обрушившаяся вдруг на меня провинциальность при виде такого Птицына сковывала мысли.
К счастью, «классного человека» он пропустил мимо ушей. Как мне показалось, его уши не были настроены на приём всякой чепухи.
– Я – журналист. Работаю в двух журналах. Пишу при этом – что хочу. Культурные обзоры в основном. Или некультурные… – он хохотнул. – Мне раньше нравились «Люляки» – я про них написал…
Он сделал тихую паузу, должную показать значительность поступка.
– Ну?
– СМИ – такая штука… Короче, вместо ста человек на них пришло сто пятьдесят… Потом двести. Да и сарафанное радио… Они же прилично играли!
– Они и сейчас… – вставил я.
– Да гниют они, а не играют… Паша женился, и пошло-поехало. Точнее, наоборот. Никуда ничего не пошло и не поехало.
Я вспомнил завораживающую Пашину красотку. Пожалуй, с такой всё только встанет.
– Я посмотрел твои рассказы… – перескочил он вдруг.
Я напрягся.
– Работать надо…
Я был согласен с Птицыным, ожидая при этом отзывов восторженных. Так всегда.
– Везде вот это «недо»… Мне всегда чего-то не хватало. Хотя и стиль необычный, и истории увлекательные… И к русскому языку вроде претензий нет. Вот мне скажут: «Верховенский, а напиши-ка статью»…
– Кто? – не понял я.
– Фамилия моя – Верховенский. Артёмом зовут. Просто подписывать статьи такой фамилией… Я и взял псевдоним жены. То есть она стала Верховенской, а я Птицыным… В общем, скажут: «Напиши»! А я не стану! Потому что сомнения есть.
Я погрустнел. Неприятно, когда говорят, что в тебе есть сомнения.
– Я дорожу «Птицыным». Он не должен ошибаться. Вот когда я пойму, что в тебе не ошибся… – исправился он в моих глазах.
Мы вышли из парка, перешли дорогу в неположенном месте. Куда-то свернули. Напротив нас объявились вдруг замысловатые строения с надписью «Рынок».
– Куда мы идём? – спросил я бодро, хотя лгал. Мне было всё равно.
– Как куда? Ко мне мы идём. Я своё в барах отсидел… – опять криво улыбнулся он и потёр щетинистый подбородок.
– Я тебя позвал не потому, что это мне Супрун сунул… Супрун – говно и пустяк, – («Эк он как с приятелями», – подумал я). – Ты его словечко знаешь?
– Словечко?
– Есть у него словечко – «сюр».
– Сюр? – глупо переспросил я.
– Сюр, – подтвердил Птицын-Верховенский. – Сюрреализм. Вот у Супруна всё – сюр. Бомж валяется в клумбе – сюр. Луна на небе не такая какая-нибудь – сюр. Вся хорошая, по его мнению, музыка – сюр. Он, наверное, и в горшок после себя смотрит, и там у него иногда – сюр.
Первый раз мы дружно рассмеялись.
Мы ещё раз свернули, и по тому, что Артём стал побрякивать ключами в кармане, я догадался, что мы рядом.
Он набирал код парадной, а я, стоя чуть позади, рассматривал его. Правильнее было бы сказать, рассматривал и нюхал.
Он был обычной комплекции человек. Вешалка фигуры говорила о нелюбви к физическим упражнениям. На вешалке же, ловко подобранная и очень недешевая, висела расчудесная кожаная куртка. Укреплённые чем-то плечи делали Артёма шире, куртка пахла новой, магазинной ещё кожей. На коричневой спине раскинулась аппликация с картой, как было написано – «Алабама». Тут же всплыло: Well show me the way to the next… Я клянусь, спина Артёма не у одного меня вызывала такую ассоциацию. Новенькие, узенькие джинсы и сапожки с острыми носами и вообще говорили о его принадлежности к какой-то суб– или не субкультуре. Я в этом не силён. О субпродуктах я знал больше, чем о субкультурах.
– Оля, я привёл гостя… – прокаркал Артём.
– Да понятно… – изувеченный домофоном, откликнулся вдруг женский голос.
Открывая дверь, Артём пояснял:
– Жена у меня дома.
Мы поднялись на последний этаж и подошли к крепкой металлической двери. Артём вставил ключ и бесшумно распахнул дверь.
В глубине светлого коридора, босая, нас встречала Артёмова жена. Из-за её спины глядел на нас осторожный, недоверчивый ребёнок.
– Здравствуйте, – буркнул я, не поднимая глаз. Ожидая увидеть, впрочем, лет тридцати пяти барышню…
– Привет… – ответила она нам, и я поднял взгляд на голос.
И на всё то, что впоследствии станет для меня трагедией.
Мельпомена, Талия, Одалиска
Мельпомена – муза драматического театра. Это я знал. Вторую музу – комедийного жанра – она, смеясь, рассказала мне позже. Символом театра стали две маски, точнее две их половинки – грустная половинка Мельпомены и веселая Талии.
Ольгино лицо древнегреческие музы тоже поделили напополам. Только по горизонтали. Большой, ярко очерченный рот с подвижными губами и большие, печальные глаза, на которых мне сразу представились клоунские, карандашные слёзы. В обрамлении короткого каштанового каре выражение лица её всегда было удивлённым. Всему, и лицу в том числе, едва ли исполнилось двадцать пять…
– Ольга, – представилась она и немного наклонилась. За её спиной не то испуганный, не то сонный двухгодовалый ребенок уставился на меня потусторонними артёмовскими глазами и снова скрылся в комнате.
– Ну, Венька, – Ольга позвала сына, – пойдём с дядей познакомимся.
И она сделала несколько шагов ко мне.
– Это дядя Серёжа, – подвела она ко мне мальчика с пронзительным взглядом и русым чубчиком. Сквозь чубчик виднелась розовая, чистая кожа. Венькины же глаза блуждали где-то внутри меня или вообще видели то, что делается за мной…
– Не хочет… – отчего-то смутился я, не зная, что говорят в таких случаях.
– Тогда пойдём отсюда, – рассмеялась она. – Ну его, этого дядьку.
Употребляя игривый тон, тон этот относила Ольга, конечно, к ребенку. Однако тон понравился, и я всё же углядел в нём чуточку воздушной симпатии, проявившейся ко мне.
– Проходи на кухню, – пророкотал Птицын. Он так грассировал и картавил, что говори он тише – я мог бы его не понять.
– Оль, мы надолго.
– Да пейте, – угадала она, а я угадал, что, говоря это, Ольга улыбалась. – Я потом с вами посижу.
Мне стало неудобно, что я не догадался зайти в магазин, но мой возраст позволял мне выпивать за чужой счёт, находясь в роли младшего товарища.
Я прошёл на кухню, сел с краю стола. Неестественно выпрямился.
– Серёга, ну ты что, лом проглотил? Располагайся.
Из кармана той самой куртки (не только красивая куртка, но и полезная) он достал тёмную бутылку. Только глянув на этикетку, я постеснялся спрашивать о цене. Я и названия такого не знал.
Птицын на ходу, даже не садясь, распечатал бутылку. Ловко, словно гайку отвернул.
– Вот смотри, – неторопливо говорил он. – Возьмем тех, кто пишет. Условно говоря, их сто человек.
Я зачем-то усмехнулся, полагая, будто Птицын ведёт себя так, чтобы принизить мой гений.
– Да, сто! Грамотно, – он сделал ударение на этом слове, – в любом смысле – русский язык, стилистика – не важно! Так вот, грамотно пишут двадцать. Из них пятнадцать – скучно! И это не значит, что остальных можно читать. Из этих пяти – трое переписывают, как я говорю, «Капитанскую дочку». То есть всё грамотно, знакомо, но зачем? Остаются двое! Один из них пишет заумь, которую мне не понять. «Розу мира» Андреева читал? Я не смог… И верю, что это сильно. А вот второй – второй, то есть последний, пишет то, что близко тебе и мне, при этом грамотно. А главное – зная зачем!
– А зачем? – глупо спросил я, имея, впрочем, на это своё мнение.
– А он не видит вокруг себя книг, которые ему нравятся… Поэтому пытается написать их сам. Отсюда – свой узнаваемый язык. Это своего рода ремонт – в пустой комнате каждый сделает его по-разному. Один – тяп-ляп. Другому всё равно, он будет комнату сдавать, а ему будут жирные бабки капать. Третий, нет, с третьего по девяносто девятый будут искать интерьеры в модных журналах. А один – возьмёт и сделает не так, как везде, по-своему. Ему не нравится то, что в интерьерных журналах.
Мы, чокнувшись, глотнули божественного того, названия чего я не знал.
– Серёга, я не буду врать, я не прочёл твою прозу залпом. Залпом я вот рюмку выпью – мне хорошо. Значит – надо увеличивать градус. Не рюмки, там градус подходящий, а прозы…
Я плохо слушал его, чувствуя себя виноватым. Я был дураком.
– Но там есть и то, почему мы с тобой здесь сидим и почему я тебе позвонил. Ты тонко чувствуешь… Пока не слово. Пока только жизнь. И бабы у тебя классно написаны. У тебя они – живые существа. Со своей… – он понизил голос до шёпота и выругался.
– Со своей… головой? – переспросили из комнаты.
– Почти, – не отвлекаясь, отмахнулся Артём.
– А то у нас молодые писаки всё со своим винтом носятся… «Кто-где-кого»… Наподобие «Что? Где? Когда?».
– Я этого не избежал, – вставил я смущённо.
– Да никто этого не избежал… Как этого избежать, когда болт впереди головы бежит. И не оттого, что болт такой резвый, а оттого, что голова опаздывает. А потом у некоторых на-го-ня-ет, – капал он ещё по рюмочке.
Приживающийся алкоголь, вопреки обычному, не заставлял говорить, а обострял слух. Да и поза сделалась более расслабленной. Лом, проглоченный мною, гнулся под действием спиртного.
– Ты Бунина читал? – спросил он, большими кривыми кусками разламывая шоколадную плитку.
– Читал, конечно, – подтвердил я.
– Ну это я заметил. Хочешь быть на него похожим?
– Скорее на Куприна…
– Ну и дурак! Ничего не понял! На Степнова ты должен быть похож. На Степнова!
Это было ловко. После такого длинного объяснения так просто меня поймать на невнимательности.
– Ладно, – не удивился он. – Все музыканты сперва пашут под кого-то… У некоторых потом своё получается. Время, время, время… – сопроводив очередную порцию многозначительным молчанием, он продолжал:
– Олька – актриса, в Театре дождей работает.
«Ольга – актриса? В Театре дождей работает?» – мысленно повторил я. Мне стало неприятно. У моих новых знакомых что ни жена – красавица. У Артёма ещё и актриса…
– Так вот их, – продолжал он – когда она училась на Моховой, водили в «Кресты» перед каким-то спектаклем. Понял? В «Кресты»…
– На кладбище? – не понял я.
– Какое кладбище? Тюряга! Самая-самая в Петербурге.
– Да-а…
– Это я к тому…
– Что стихи на месте сидеть не любят? – неожиданно для себя перебил я его.
– Чего? – и осознав фразу: – Да, да, да… Ходи, смотри…
– Ну ты даешь, Верховенский – учитель жизни! – сидя спиной к выходу, я вздрогнул. И при этом почувствовал знакомое возбуждение. Такое, когда мужскую компанию разбавляют женским. Я не стал оборачиваться.
Ольга прошла в кухню, долго наливала чайник. Боковым зрением увидел, что она переоделась. Похорошела, естественно.
Сама она была похожа на изящную сандаловую статуэтку. Белые щиколотки под короткими брюками – как белые колечки дерева под свежеснятой корой. Выше – изящные изгибы, отшлифованные мастером. И волосы цвета осеннего, созревшего каштанового плода, сходящие на нет на шее. Только даже не подкрашенные губы жили у гармоничной статуэтки широко и весело.
– Оль, у вас тяжёлая работа? – мне хотелось послушать, как она говорит, а скованность с её, Ольги, приходом одолела опять. Отсюда – нелепые вопросы.
– Да ну… – легко отозвалась она. – Самое ужасное – текст учить!
– Ну, – подтвердил её муж. – Просыпаешься – свет горит. «Утро что ли?» – спрашиваю. «Спи, спи – ещё четыре».
– Это бывает, – подтвердила она, наливая чай.
– А сейчас? – я кивнул в сторону детской комнаты, точнее, единственной комнаты, где сейчас спал ребёнок.
– Бабушка приходит. Или Артёмка… Он на мои спектакли уже не ходит.
– Всё пересмотрел… Будешь? – подмигнул на бутылку Птицын.
– Дурак, – отреагировала она.
– Держите форму? – спросил я, чтобы покраснеть от ответа.
– Грудью кормлю, – и негромко рассмеялась.
Слово «грудь» прозвучало мне так… Как будто она мне грудь показала в присутствии мужа. Хотя я, конечно, понимал, что «грудь» здесь – это гордость материнства.
Она села между мной и Артёмом, скрестила ноги под табуретом. Долго дула на чай.
Повернула ко мне лицо:
– Серёжа, а ты его, между прочим, послушай, – она указала чашкой на мужа. – Только не зацикливайся… А то выйдет не Степнов, а Птицын. Или Верховенский. Я тоже читала, – она совершила глоток. – И мне понравилось. У тебя не совсем женская проза… – тут она рассмеялась. И глазами тоже. – Я имею в виду, что женщинам такие вещи читать неприятно. Это их немного обличает. Хотя вот это мне и понравилось… И ещё: не моё бабское дело, но мне кажется, мат там не к месту.
– Где конкретно? – спросил я, думая о каждом рассказе в частности.
– Вообще не к месту.
Спорить я не стал. Я боролся с желанием поймать глазами её глаза, но, верные мужу, глаза ускользали в последний момент.
Когда мы с Артёмом вышли курить на лестницу, сквозь пыльное окошко я увидел, как на улице, надеюсь, последний в эту весну, полетел снег. Мы сорили пеплом в консервную банку и молчали. Настроение моё испортилось, и я как-то изменил свое отношение к Артёму.
Он говорил мне такие правды, до которых я мог бы додуматься сам. А я поленился копнуть немного глубже. Как рыбак, ищущий червяков на поверхности земли, поленившийся взять лопату. И было ещё одно, от чего мне было плохо. У Артёма была Ольга. И необоснованное ощущение несправедливости переживалось, как ноющий зуб.
Мне до мелких судорог отвратительно было представлять их любовь… Она ведь, Ольга, образно выражаясь, и его грудью кормит, Артёма-то.
Когда мы вернулись, Ольга была у ребёнка. Малыш проснулся. Мы с Птицыным рванули ещё по одной, но без Ольги разговор не клеился, расползся, как забытая под дождём книжка… Я стал прощаться.
– Серёжа, зайди, – услышал я Ольгу из коридора. Сделал неуверенный шаг в детскую.
– Смотри, какие мы довольные! Да, Веньк?
Переодетый ребёнок лежал в своей кроватке на спине и хлопал сонными глазами.
Я подошёл ближе. Почувствовал тонкий запах ребёнка. Наклонился ниже. До меня доходили запахи чистого детского гнезда, сооружённого заботливой матерью. И сквозь тёплые домашние запахи был ещё один – отдельный и резкий. Одновременно приятный и тошнотворный. Так пахнет семя, и ребенок пахнул именно его, Артёмовым, семенем, впрыснутым однажды в тело его жены. Ольги.
– Есть ещё одна тема! – сообщил Птицын, когда мы прощались. – Но об этом я тебе позвоню.
– Пока, Серёж… – прокричала из комнаты Ольга.
– Да, – коротко отдал я чужой жене.
Я оказался на улице. Вертикальный и безветренный, словно бы мультипликационный, шёл снег. Редкие и резкие, проносились мимо машины. Я собрался в обратный путь, но не мог двинуться с места. Ещё не смеркалось, но пасмурно было так, как будто случился непредвиденный вечер. Я чувствовал, теплый и немного пьяный, как хочу смотреть и смотреть в этот снег… Мне пришла в голову неожиданная мысль, хотя я никогда не любил драматургию…
Я потерял желание ехать домой. Мне вдруг захотелось поделиться с кем-нибудь незнакомым этим снегом. Может быть, даже с самим собой, потому как чувствовал я себя незнакомо. И я пошёл в сторону Петропавловской крепости, минуя Зоопарк, в котором я пока не удосужился побывать, но побываю обязательно.
«Я подарю ей мягкую игрушку», – подумал я, видимо, связав с подарком зверинец, благополучно забыв, как Катя отправляла подобные подарки от других людей в помойное ведро со словами: «Достали, пылесборники».
Снег уже валил так, будто на небесах кто-то разбудил Бога и разворошил его подушки. Аналогия мне понравилась. Тоже ведь слова…
Если утверждают, будто мысль материальна, то слова ещё более материальны. Я с осторожностью произнёс: «Ольга», испугавшись, что меня услышат, хотя вокруг были разве что разлапистые каркасы деревьев с неизвестными названиями. Конечно, ничего не случилось. Не произошло. Но материальное слово уже было брошено на ветер и не могло исчезнуть…
Замёрз, а вернее, промок я к середине пути. Правее меня желтела крепость, которую я излазил вдоль и поперёк в первые дни пребывания в городе. Слева – уставившиеся прямо на крепость хоботы дальнобойных гаубиц Музея артиллерии.
Я ускорил шаги. Романтика с мокрыми ногами – штука скоропортящаяся.
В метро было многолюдно. Если вам выпадает час пик – то это хреновая карта. Сплочённость, ведущая к антипатии. Выйдя на улицу, я с облегчением вздохнул. Отогревшиеся пальцы ног приятно покалывало.
Я любил наблюдать людей. Когда я не спешил, выходя, я прикуривал у моей станции метро и те три или четыре минуты, пока не кончилась сигарета, глядел на человеческую суету. Суета возле «Площади Восстания» была особенно суетной суетой, ведь это был центр, рядом находился вокзал. Я смотрел на спешащих людей, на бородатых бомжей, с улыбкой вспоминая о судьбе моей м-ской телогрейки. На героиновых проституток, что обречённо предлагают расслабиться. Судя по их внешним данным, зеркала для них – пережиток прошлого. За месяц всех расслабляющих я выучил наперечёт. Среди них есть одна, которую ещё можно подкормить. К остальным жалости я не испытывал. Поздно. Краснодарские бабочки были не так убоги, среди них попадались аппетитные особы… Таких можно было и домой пригласить, не рискуя наутро остаться без денег и документов. Хотя всё, что было, – было не для развлечения, а скорее от одиночества…
Это было недели через две после моего приезда. Я заметил её издалека. Как обычно, из-под короткой шубы торчали дистрофичные ходули ног. Издалека и в темноте это кажется привлекательным. Она старше своих сотрудниц, ей уже за тридцать… Она держит направленную вверх сигарету в замёрзших пальцах и говорит выученным и, повторяю, обречённым голосом:
– Мужчина, не желаете расслабиться?
На несогласный жест она тихонько отходит. Иногда отскакивает, как испуганная собака – наверное, ей говорят грубости. В ней уже нет достоинства, потому что достоинство – это то, что героин съедает в первую очередь и без остатка.
Она ходит, заблудившись в людях, привязанная к месту. Она ближе и ближе и сейчас подойдёт ко мне, если я не уйду заранее.
И тогда я понял, что не уйду. От накопившегося желания и страха одновременно.
И она подошла…
Брезгливости к их телам у меня нет. Особенно если не очень-то их исследовать. А вот к жилищу – есть! Поэтому на её вопрос я ответил не «сколько», а «где»… Мне сложно было представить, куда такие замарашки водят небогатую клиентуру.
– Да прямо здесь, – односложно ответила она. Редкие медно-рыжие волосы рассыпались по воротнику шубы. Накрашенные, очевидно, трясущимися руками, оттого неровно, губы. Или смазала уже за работой.
– Здесь – где? – всё же уточнил я.
– Пойдём… – и она сделала шаг в сторону барабана метрополитена.
– Сколько? – увлечённый абсурдом, я спросил ей в спину.
Она ответила.
Цены на героин я знал.
Мы протискивались сквозь ругань, людей и двери с надписью «выход», при этом я даже не мог предположить, куда она меня тащит.
Победив двери, мы больше никуда не пошли. Прямо у выхода, внутри, существовали деревянные двери с кодовым замком. Подсобка? Уборная? Я не знал. Она уверенно ткнула цифры, приоткрыла дверь, приглашая меня зайти первым.
За дверью оказалась комната, наполовину забранная решёткой. За решёткой, запертые, стояли неизвестные аппараты с кнопками. На полу валялись телогрейки. Стоял одинокий стул с такими же тонкими, как и у моей подруги, ногами и дерматиновой обивкой. Скупо светила дежурная лампочка.
– Садись, – предложила она, распахивая свою всесезонную шубу.
Я сел.
Под шубой оказалось короткое шерстяное платье серого цвета. Снятое через голову платье бесшумно опустилось в угол.
Застиранное, когда-то даже дорогое бельё смотрелось убого. Ноги в чёрных чулках тоньше моего нетолстого бицепса. Плоский жёлтый живот с белым шрамом, а главное – руки, которые она старалась чем-то занять, так чтобы я не видел кошмарных, убитых вен. Потом она отбросила лифчик, и спущенные, как велосипедные камеры, груди плоско нависли над рёбрами.
– Как ты хочешь? – она не могла быть ласковой, обольстительной. Всё это тоже прибрал к рукам героин. А ведь она могла быть красивой… Она поистрепалась, как и её дорогое бельё.
– Побыстрее, – ответил я и понадеялся, что был правильно истолкован.
– Ой, простите, – услышал я женский голос. И уже уплывающий за дверь: – Очередь…
Она завернула в салфетку использованный презерватив, взяла деньги. Мы молча вышли. Освободили помещение для тех двоих, что курили на улице.
Подошла она и теперь. Шепнула заученное, конечно, не признав.
– Нет, – ответил я. – Не желаю.
И она отошла, перебирая ходулями, как обиженная цапля, из-под носа которой ускользнула очередная лягушка. Многотысячная и безвкусная пища.
«Ты меня, подруга, не буди жаркими словами о груди» – вот Осе бы это не понравилось.
«Ольга» – облачко высказанного слова повисло рядом со мной, пока его, звенящее, не сорвал ветер.
Что ж, думал я, пока у вас актрисы, а у меня ещё нет, и я ещё не совершил ничего такого, отчего мои женщины будут лучше той, с ногами-палками и шрамом на животе. И мне ещё предстоит карабкаться до ваших женщин. Но сейчас уже и эта блюстительница сомнительного полового здоровья не растрогает меня до глупостей. Мне придётся карабкаться по ступенькам, каждая из которых состоит из слов. Пришло время не только думать о словах, пришло время их делать!
Я делал большие ставки на минимальную возможность выигрыша. Но я хотя бы не сидел в стороне от играющих!
Театр и цирк
Утром я опять никуда не пошёл. Последние снеговые заряды туч уступили место небу. И неба было слишком много, чтобы так сразу выходить в него. Я, как зверь, голодный до весны, но ещё не отошедший от спячки, медленно ворочался в своём жилище.
Об Ольге сейчас я думал не как о женщине. Она стала какой-то частью погодных изменений, когда хорошо бывает от того, что просто хорошо. Что весна вот. Что плюс. Как в знойную погоду перед освежающим купанием – одно ощущение того, что вот сейчас…
Лёжа на диване, я перелистал несколько своих рассказов, пытаясь смотреть на них подслеповатыми глазами моего нового знакомого. Некоторые фразы показались мне настолько удивительными, что я расхохотался: «дышал во весь опор»… Или, пытаясь описать близость, я употребил такое выражение: «статика убивала желание динамики». Учебник физики десятого класса. Там, кажется, даже похожий заголовок есть: «Статика и динамика».
Ольга сказала мне, что я хорошо пишу женщин? Комплимент, сделанный из жалости? А если и нет, на одних женщинах до актрис не докарабкаешься… Мои чириканья на полях опять закончились рисованием профилей – в моём случае, охлаждением творческого пыла. Был пыл – сплыл…
Выпил чаю, плеснул по несколько капель воды подсохшим за ночь семенам. Выкурил сигарету. Тут же – вторую.
Рассказов – много, думал я, но желания их улучшать не было только потому, что лучше они не станут. Нужны другие. О другом. Так меня убедил Птицын. А авторитетом он стал для меня сразу, как только я его увидел. Очки, куртка с Алабамой… Та-там, виски-бар… И ещё он был – петербуржец!
И ещё у него была Ольга, в мысли о которой я утыкался в паузах между другими, более насущными мыслями. И лежать и листать свои разбросанные по всей кровати слова уже было невмоготу.
В её словах прозвучало название театра, где она работает… Нет, работают кондукторами и слесарями. Выступает? Выступают, пожалуй, всё-таки в цирке. Какие-нибудь канатоходцы. Слоны разные. Стоят себе на передних ногах за кусок сахару. Играет? Вообще пошлое слово – играет… Или так: играть можно в спектакле, но не в театре. Точнее, можно и в театре, но за кулисами и в карты. Опять мне не подобрать верного слова, ещё одна скрипящая ступенька, которую я преодолеваю, сам этого не замечая…
«Где она бывает!» Или «который она посещает»… Пока так. Скрипучая ступенька нашла свой ржавый гвоздь, на котором она продержится некоторое время.
Одеваясь, заметил, что по привычке залезаю в рукава ватной хаки-телогрейки. Нет, дорогая, хватит! Весна.
А раз весна – да здравствует моя чёрная кожа, заскучавшая на вешалке в коридоре.
Краснокирпичный дом, где я обитал, не расцвёл, из него, как из древних развалин, не полезли вдруг новорождённые берёзки с клейкими листочками, хотя, выскочив на улицу, стоило ожидать чего-то подобного. Но землистая краснобурость камня приобрела некую оптимистичную даже белёсость.
Капало. Хотя капало уже давно, но в сравнении с этой капелью то, что случалось раньше, – сползало.
Глаза слепило, и они, отвыкшие от света, слезились.
Тогда мне казалось, будто каждый петербургский житель знает все переулки и закоулки своего города. Да и размеры его, города, я представлял плохо. И я, счастливый, как дурной спаниель, у которого на шее болтается огрызок верёвки, удерживавший его у магазина, где задержались хозяева, метался от человека к человеку с одним и тем же вопросом:
– А не подскажете, где находится Театр дождей?
Я думал, что первый встречный удовлетворит моё любопытство.
В ответ пожимали плечами, проходили мимо. Наконец средних лет пара – он в интеллигентных усиках, она – интеллигентно некрасива, есть такая порода женщин – неопределённо махнули руками:
– Это где-то в конце Фонтанки…
Мне было достаточно и этого, я знал, где её, Фонтанки, начало… Я уже знал про знаменитых клодтовских коней и знал, что название моста обычно произносят с неверным ударением. А что там дальше… В такой день это было не важно.
Даже автомобили, ползущие в дневных пробках Невского, казались ярче обычного. И чем ярче они выглядели снаружи, тем темнее и таинственнее – внутри. Они каким-то невероятно тесным, безжизненным стадом останавливались на светофорах и такой же бесчеловечной массой одновременно толчками срывались с места на зелёный.
Я двигался по его солнечной стороне и, только завидев возвышающихся над проспектом коней, перешёл на другую сторону.
Пройдя под красивым розовым дворцом, я вышел к реке. Река, полная отблесков, лениво утаскивала с собой редкие, самые, наверное, стойкие, рыжеватые льдины. У набережной, прямо за могучими серыми быками, где, очевидно, создавались водяные вихри, толпились несколько несданных пустых бутылок. Потом из-под моста вынырнул плоский и абсолютно пустой теплоходик, от которого заплескали вдруг в гранит тяжёлые, длинные волны.
Я шёл по самой-самой набережной, высматривая конец Фонтанки и Театр дождей одновременно. Это была не прогулочная набережная, это была только кромка между перилами реки и нескончаемым автомобильным движением.
Возле следующего моста я задал мой вопрос старушке, получив на него лаконичный и, как потом оказалось, точный ответ, сопровождённый неясным взмахом руки:
– Иди, иди…
А за следующим мостом, не таким пышным, как предыдущий, меня поджидало чудо.
Чудо цвета выцветшей тетрадной обложки. С красивыми арочными окнами второго этажа. С прямоугольниками неразличимых отсюда афиш по бокам входа. В том, что это бледно-зеленое, парадное здание – театр, сомневаться не приходилось. Я ускорил шаги…
– А это – Театр дождей, – утвердительно, с ударением на «это», самодовольно спросил я у встреченной мною на мосту женщины в осеннем (весеннем!) пальто и с маленькой лохматой собачкой на поводке… У первой попавшейся – нельзя же, в конце концов, не знать очевидного, живя где-нибудь поблизости.
Я уже гордился Ольгой, как своей… ну просто как своей. Своей знакомой актрисой, работающей (все-таки работающей) в этом великолепии.
Женщина подняла на меня глаза. В них даже заиграл какой-то интерес…
– Это БДТ, молодой человек, – наставительно, с высокомерием заметила она. Потом усмехнулась: – Театр дождей»… – и она начала долго и непонятно объяснять. Смягчилась, узнав, что я из другого, южного города.
– Спасибо, – ответил я, поняв из её объяснений только то, что шёл я по правильной стороне и что это ещё шибко не близко.
«БДТ» – думал я, продолжая путешествие. Что подразумевает под собой эта аббревиатура? И развлекал себя, придумывая варианты: «БезДеТей» – питерский Мулен Руж. «Больших Денег Театр» – тоже неплохо, судя по некоторой классической парадности. «Богдан Демидович Трофимчук» – неизвестный мне, в отличие от остальных, артист больших и малых…
Я ушёл уже так далеко, а Фонтанка всё не кончалась, и конца её видно так и не было, когда вдруг на вновь оштукатуренном трёхэтажном доме в глубине двора, забранного металлической изгородью, я увидел дешёвую растяжку над первым этажом, где намеренно кривенькими буквами было выведено: «Театр дождей»… А за скрюченной рекой, в скрюченном домишке, жили летом и зимой скрюченные мышки… Скрюченным же символом этого театра был одинокий галчонок под зонтом. Символ парил немного выше названия и был выведен на такой же, как и название, клеёночной ткани. Кстати, скрюченная галка в стихотворении Чуковского тоже была.
Принцесса опять превратилась в Золушку. А карета у парадного подъезда – в тыкву. А принц? Я усмехнулся.
– Олька… – парная согласная звонкая сменилась на глухую, и вышло презрительно. И тут же, вспомнив, кто я такой, мне стало совестно.
Я покурил у запертой двери. Почитал репертуар театра и надпись, гласившую о том, что кассы открываются с трёх…
Большинство спектаклей были мне незнакомы. Из узнаваемых – «Чайка Джонатан Ливингстон» Баха, модная тогда и люто мною ненавидимая. «Ромео и Джульетта», естественно. Тут я уже ненавидел не автора, а многие сотни, может, тысячи режиссёров, его поставивших. И ещё «Старший сын» по Вампилову… Спектакль, который глупо ставить после его киношного варианта. Ладно. Буду иметь в виду. Кассы все равно открываются с трёх, да и не знаю я, в котором из спектаклей занята Ольга, которая к тому же ещё и грудью кормит.
Ни тогда, ни сейчас я не упрекаю себя за возникший у меня интерес к чужой жене. Интерес возникает независимо от семейного положения или социального статуса. Он однозначен, как, например, беременность… И появляется, кстати, не всегда от обоюдного желания партнёров. Пусть даже одного из них.
Оля попала в весну. Может быть, так? В мою весну! Может быть, встреть я её на улице, я бы не обратил внимания на неё? Нет. И дело было не в её стрижке-каре, не в печальных глазах… Не в деталях лица, которые становятся дороги позже… Просто так случилось, что она, сама не понимая этого, сделала невидимый шаг мне навстречу. Одно животное почувствовало запах и тепло другого животного той же породы. А потом уже «эти губы и глаза зелёные»… Хотя ничего ещё не произошло, успокаивал себя я. И не произойдёт – успокаивал тоже, надеясь, что ошибаюсь.
Вечером я опять насиловал слова. Пил кофе, курил в приоткрытую дверь моего микробалкона, на котором я пообещал себе высадить семена. Опять садился за клавиатуру, наконец подставляющую свои выпуклые буквы под мои пальцы куда проворнее. Я писал про рыжие льдины, которые утаскивает с собой равнодушная Фонтанка, и где-то в этой мешанине из слов и образов, невидимая, уже присутствовала Оля. Пока только оправданием восторга. Перед Фонтанкой и льдинами. И когда я, погружаясь вместе со льдинами в холодную реку, думал написать о рыбах, живущих в Фонтанке, мне позвонили в дверь.
Этих визитов я стал побаиваться, а то, что это был «мой» звонок, сомневаться не приходилось. Старухи одиноки, как пустынные монахи. Вернее, монахини.
Я пошёл открывать.
Парни были всё те же: Дима и Слава… Только без головных уже, с измусоленными завязочками, уборов. В других, дутых и цветных, куртках. Барышню, бывшую с ними, я видел впервые.
Я пропустил их в коридор, она вошла последней, и в тёмном моём коридоре стало тесно от множества людей и запахов. А пахли вошедшие чуть алкоголем, табаком, яркими духами той, что вошла последней.
– Здорово, старик, – протянулась костистая, безмясая ладонь. – Можно?
– Зашли уже, – подсказал им я. За забытый, оставленный в М-ске тревожащий запах парфюма я готов был их потерпеть.
– Знакомтесь, – фонтанировал Супрун, – это Татьяна! А это Серый… Мы пройдём?
Плохо различимая в тёмном коридоре Татьяна вдруг стащила с головы вязаную шапочку, и из-под шапочки заструились тёмно-тяжёлые медные кудри.
– Ну проходите…
Они вошли, опять не снимая обуви, а мне казалось, что тёмно-медные кудри всё увеличивались в объёме, создавая на голове обладательницы новую шапку.
– Серый, денег пока нету… – шмыгнул носом Дима. – Но есть вот…
И достал из каждого рукава поочередно литровые бутыли чего-то, что напомнило мне Катин мартини… И кольнуло.
Духи, мартини… Присутствие женских атрибутов обезоруживает одинокого человека. Да и Татьяна при свете оказалась очень ничего, правда, очень не моего типа девица: узенькие джинсы на тяжёлых, высоких бёдрах, тесный от обилия груди свитерок, круглое, но не простое лицо… И эта медная чудо-шапка.
– Пишешь? – Супрун бесцеремонно заглядывал в экран, привычно щёлкал длинным пальцем по клавише, листая.
– Писал, – обречённо отметил я, намекая.
– Серый, а где чашки-то? – суетился не снявший даже куртки Дима.
– А мы от Птицына… – сообщил словоохотливый и какой-то перевозбужденный Слава. – Он нас выгнал, – поведал он оптимистично.
– Выгнал, – эхом отозвался я, думая совсем о другом.
– Ну, – Дима опять шмыгнул носом. – Посидел с нами час и сказал, что ему надо работать…
– А у нас о-хо-хо… – кивнул на тяжёлые бутылки, которые завелись у меня на столе, Супрун.
– Там Оля… – вставила Татьяна, и я насторожился.
– Да Ольке-то что, она свои роли и в комнате учить может… – развязно отозвался Дима, находясь уже всё-таки только в одном рукаве.
– А ты попробуй, – негромко возразила твёрдая Татьяна… Кто бы мог подумать, что такой мягкий на ощупь человек…
– А я и не собираюсь, – Дима достал откуда-то яблоко и сочно хрустнул им в ответ.
– Серый, Татьяна с Олькой вместе на Моховой учились…
– Где? – не понял я.
– В Театральном… – отозвался Супрун, все пялясь в компьютер и даже не оборачиваясь.
– А-а, – проронил я скупо. Для этой скупости потребовалось некоторое усилие. Живу кое-как, а окружён сплошной богемой. Да ещё в каком-то алкогольном её варианте.
– Вы тоже актриса? – безнадёжно произнёс я.
– Мы сейчас с ребятами проект затеяли, – слишком явно она не сказала «да» и слишком горячо заговорила о несуществующем пока проекте, – но всё упирается в деньги. Все кормят обещаниями. Пока в турфирме приходится…
То, что всё упирается в деньги, я знал не хуже её. Кто «все» кормят обещаниями – даже спрашивать не стал. Но головой покивал понимающе.
– Серый, давай чашки, – с нетерпением повторял Дима.
– Вон в шкафу три бокала возьми, – не выдержал я. – А я пить не буду.
– Да это же почти компот! – искренне удивился Дима и добавил: – Ну не хочешь – как хочешь…
Я подумал, где же работают Супрун с Димой, если вот так шляются целыми днями. И с трудом определил, что сегодня – суббота.
Если я и хотел что-то узнать об Ольге от Татьяны, то думал сделать это аккуратно. Я же не знал, что сотрудница турфирмы так любит компоты и разговоры.
Выпив по бокалу компота, каждый занялся своим делом. Сегодня к компоту Супрун принёс пару аудиокассет, и мой раздолбанный магнитофон, используемый мной обычно в качестве радио, распелся вдруг не козлоголосым БГ, а почему-то Марком Бернесом. При этом Супрун ставил песню, слушал её, кивая головою в такт и поминутно награждая Татьяну поцелуем, потом с писком перематывал одну-две и опять садился.
– Слава, оставь ты так, – вяло ругался Дима.
– Серый, – оживился вдруг он, – ты Птицыну понравился, – последовала пауза. Очевидно, мне стоило приосаниться.
– Он сказал, что ты «человек, который знает, чего хочет»… – подтвердил Супрун и очередной раз наградил Татьяну липким поцелуем. Причём уже ближе ко рту.
– Денег и баб, ёлы… Чего ещё человек может хотеть? Да я шучу, шучу… – осёкся он, когда Супрун одарил его едким взглядом.
Я вдруг заметил, как они похожи – Слава и Дима. Одинаково неопрятная рыжая небритость, одинаково нестриженые ногти. Дурацкая и нарочитая неспортивность в движениях.
– Да и Ольга прочла, – услышал я от себя и поздно понял свою неосторожность.
– Понравилась? – неулыбчивая Татьяна, после компота, как подарок, подававшая Супруну губы, достала тоненькую сигаретку.
– Хорошая, – улыбнулся я. Я же не мог сказать «нормальная». Мы тут все вроде нормальные.
– Да ладно, – выдохнула искусное колечко Татьяна, – она всем нравится.
Была в её словах ревность – думаю, да!
– Они когда с Артёмкой поженились, никто поверить не мог. Мы же все с однокурсниками встречались. Актёрские семьи заводили. Идиотки…
– Почему? – спросил я, зная ответ.
– Понимаешь, Сергей… Это как каша варится и две крупинки слиплись. Потом повар помешал кашу – и эти крупинки слиплись с другими крупинками. Потом опять… Да и язык тела… Поцелуи на сцене. Иногда – обнажёнка… Ну не полностью, конечно, – она подпёрла голову рукой, и сигарета едва не поджигала её роскошную медную шапку. Видно, в воровстве Татьяна замечена не была…
– Птицына тоже встречалась с мальчиком. Очень красивым мальчиком. Сашей его звали… Талантливый мальчик был, – она как-то даже задумалась. – Саша Розин. Черный, кучерявый, а глаза голубые…
– И что? – спросил я, предвкушая трагедию…
– Нет, ничего, – она задумчиво покусала губу. – Я же говорю, очень красивый мальчик… Ну и Птицына у него не одна была. И всё, – она подняла на меня блестящие от алкоголя глаза. – Олька так одна и ходила потом, за ней кто только не ухаживал. А на четвёртом курсе вдруг взяла – и замуж выскочила.
– А Розин? – поинтересовался я, чтобы создать законченную картину неудавшейся трагедии.
– Пфафф, – фыркнула она, – Розин в Театре комедии на всех афишах. Наверное, женился… Слава, перестань… – в то время как она рассказывала, Супрун хватанул ещё бокал, и она, всё больше отдавая ему губы, стукнула его по руке, когда он попытался погладить её под свитером.
– Мудак Розин, – закруглил Дима, разливая.
– Ну почему? – вдруг повернулась она к нему всей грудью. – Мудаки на всех афишах редко встречаются.
– Мудак, что Ольку бросил, – пояснил Дима, откручивая золотистую пробку второй бутылки.
Может, и у неё, Татьяны, с этим роковым Розиным что-то было?
Через полбутылки, когда глаза её плавали, как две неспелые сливы в том же компоте, она сказала мне:
– А ты, Сергей, лучше туда не ходи. Она о тебе и у ребят спрашивала. Только им сказать было нечего. Хочешь посмотреть на Птицыну – дуй в театр…
Я промолчал, осторожно не спросив, в каком спектакле играет Ольга.
Ушли они, обессиленные муками полового влечения. Дима – просто алкоголем.
Перед этим я отозвал в сторону Супруна. Он был уже в куртке, они опять создавали тесноту в коридоре.
– Слава, у меня не распивочная… – ужасно почему-то стесняясь, шепнул я ему. Он стоял, приоткрыв рот, раз за разом вытирая клетчатым платком какую-то влагу под носом.
– А?
– Я говорю, не надо приходить без звонка, – смягчился я. А получилось даже грубее.
– А-а… Ладно… – рассеянно ответил он, возвращаясь к обмякшей и довольной Татьяне.
Я закрыл за ними дверь и в первый раз подумал о себе нехорошо по отношению к Ольге. Да и тайна моя стала вдруг секретом Полишинеля, хотя я в этом практически не участвовал.
Знаменитый писатель
Во вторник я купил билет. Пробегая туда и сюда по афише, я пытался угадать, в каком из спектаклей может участвовать Ольга. Купил-таки на ненавистную «Чайку…» Баха, хотя произведение глупое. Да и на роль чайки Оля не очень-то подходила. Нейтральное название спектакля «Без войны» будило во мне куда меньше отрицательных эмоций, но до «Без войны» пришлось бы слишком долго ждать. Билет я купил на субботний спектакль, а вечером того же дня мне позвонил Артём:
– Привет, писатель Сергей… Я тебе обещал тему? – заскрипело в телефонной трубке.
– А, привет, – я попытался быть небрежным, как все настоящие мужчины. Я вдруг подумал, что ему уже известно про меня и Ольгу! Только известно ЧТО? То, чего не было?
– Слушай, – он помолчал, но даже при этом невидимые камешки или орешки слышны были в телефонных проводах, – я тебе могу телефончик дать одного «грейта»…
– Кого? – переспросил я.
– Большого писателя. Ну не большого, – рассмеялся он, – но вполне известного… Югин. Слыхал такого?
– Нет, – честно ответил я, эта фамилия была мне незнакома.
– Короче, писатель Сергей. Сунь ему рассказы, я с ним на днях о тебе говорил.
Меня прошиб пот. Кто-то где-то говорил обо мне!
– Телефон пишешь?
– Погоди, – ответил я. Бросился в комнату за карандашом и бумагой. Телефон в углу на тумбочке выжидательно замолчал неповешенной трубкой.
– Давай!
Он продиктовал телефон.
– Зовут его Андрей Семёнович… Записал? Ага, Андрей Семёнович… Назовёшься. Он сказал, что хочет твои рассказы посмотреть… Я его почти не знаю. Так, встречались на каких-то мероприятиях.
– Он что пишет-то хоть? – уняв первую дрожь, логично поинтересовался я.
– Да говно какое-то… – Артём опять рассмеялся. – Хотя вот как-то пробился… Я тебе дам ознакомиться. Только ты сначала договорись.
– Да сегодня позвоню…
– Ну вот и славненько! Мой телефон у тебя есть? Ну вот договоришься, позвони мне, я тебе книжечку суну. Про привидений. Ну всё… Жду.
Я положил трубку. Пройдя в комнату, взял с подоконника сигареты. Позабыв о том, что цену своим рассказам, как и стихам, я знал, мне хотелось надеяться, что я пропустил что-то сам в себе. Что то, что мне кажется обычным, будет вдруг интересно чужим и незнакомым людям.
Выкурив две сигареты подряд, я сел в коридоре на корточки и медленно стал набирать номер Югина. Андрея… Семёновича.
– Ал-лё! – голос Югина был высокий и молодой. Я, конечно, представлял старика в нечёсаной бороде. А тут – бодрый такой.
– Андрей Семёнович? – ослабел я от трепета и заговорил быстро: – Это Степнов. Мне ваш телефон Артём… Верховенский дал…
– Кто? – бодро не понял он.
– Птицын, – догадался я.
– А-а, – плотоядно выдохнул он, – да-да… Вы Сергей с рассказами?
– Да…
– Ну приносите, – спокойно сказал Югин, как будто мы жили в соседних квартирах. – Давайте в четверг встретимся на… на… на… – видимо, прокручивал в голове маршрут своего четвергового передвижения. – На выходе из «Пушкинской». В девятнадцать ноль-ноль. Можете?
Ещё бы я не мог! Я мог и в двадцать, и в двадцать четыре, и в двадцать пять тридцать.
– Договорились, – подытожил бесстрастный Югин, думая, наверное, что лицо его знакомо каждому встречному и поперечному. И повесил трубку.
Какое-то слишком будничное общение с «грейтом» получилось… Хотя чего я хотел? Ладно.
Набрал Артёма. Ольга, подойди, Оля… Нет, скрежещущий камнепад:
– Быстро ты управился.
Я ему всё объяснил. Рассказал даже про бороду.
Он веселился:
– А у него есть борода… Ну не борода, бородка… Книгу возьмёшь – там на задней обложке его фото! А ему самому немного за полтинник. Сегодня поздно, завтра вечерком заскочи, я тебе передам книгу. Завтра я дома…
Он дома. А она? «А ты, Сергей, лучше туда не ходи»! Как я не пойду? Мне Югин нужен. По меньшей мере – его знаменитая физиономия.
Назавтра установилось стремительное тепло. Тепло текло сквозь пальцы рук, тепло было ощутимо, и казалось, тёплый воздух можно было потрогать. Наверное, я уже прижился здесь, ведь такое тепло в М-ске бывает даже зимой, когда тёплые циклоны приползают к нам с Чёрного моря… или откуда они там приползают. И такое тепло на юге отнюдь не воспринимается с этим, присущим уже нынешним местам восторгом.
Юг в такое тепло – розовый. Может быть, виною тому деревья, прилипшие к холмам и создающие такое свечение? Петербург в такое тепло – страшно сказать – золотой.
Над коричневым, серым, голубым массивом города огромными воздушными шарами, не отпущенными с привязи, пытаются взлететь купола. К счастью, не взлетят.
Пестрая с приходом весны толпа выползала из метро, тут же, отвыкшая от резкого света, щурилась и растекалась в разные стороны. Довольно булькая по-своему, тут и там бродили нахохлившиеся голуби. Из находившегося неподалёку кафе доносилась музыка.
Я впал в ручеёк, текущий налево, пересёк парк, перешёл улицу, ловя себя на том, что испытываю неприятное волнение. Такое, будто я иду что-то воровать у ни в чём не повинного Птицына. Хотя нет – главным было другое! Главным было то, что я не хотел встречаться с Ольгой. Эти два чувства объединялись в одно – то, что не давало мне покоя. Следуя логике, я действительно хотел обворовать Артёма. Но кому какое дело, что творится у меня в голове. Тяжёлые мысли ведь не подкреплялись пока необдуманными поступками.
Я позвонил в домофон. На этот раз никто не спросил меня, кто я, и я с облегчением подумал, что открыл Артём и, может быть, Ольги нет дома? Я зашёл в подъезд, чувствуя, как глазам в полутьме сделалось спокойно и прохладно.
Когда двери лифта открылись, я увидел Артёма. Он курил, сидя на подоконнике. В застиранной футболке и разбитых домашних тапках он выглядел куда менее пафосно.
– А, писатель Сергей! Здорово! – весело поприветствовал он меня и добавил: – Я так и думал, что это ты…
Скомканная его чёлочка и отсутствие очков делали его менее защищённым. Да, но не беззащитным.
– Слушай, дружище, я тебя не приглашаю, там теща с Венерологом…
– С кем? – я одновременно не понял и обрадовался.
– Ха-ха, писатель… С Венькой, с кем ещё? Олька на репетиции, а я работаю! Закуривай.
– Не хочу, – ответил я и закурил.
– Ты последователен, – прокомментировал Птицын, давя в полной бычков консервной банке ещё один окурок.
– Сейчас принесу тебе книжку, подожди здесь, – он встал, похлопал себя по коленям, отряхиваясь.
– Тебе когда её вернуть? – зачем-то спросил я.
– Можешь вообще не возвращать, – откликнулся он, заходя в квартиру.
– Я бы тебя под Югина никогда не подсунул, – кричал он из коридора. – Был же Дом писателя, раньше можно было туда сунуться, а теперь всё…
– Как всё?
– А, ты ж не знаешь! Так сгорел Дом писателя… Давно уже – лет семь или восемь назад……
– Сгорел? – наша беседа проходила так, что я ограничивался одними вопросами, хотя про Дом писателя я прочёл в нескольких книгах известных ленинградских писателей. Сам же Дом, мне казалось, должен был исчезнуть вместе с Ленинградом. Более того – я был уверен, что так оно и было.
– Да подожгли его наверняка. Там земля золотая…
– Где там? – я устал задавать вопросы.
– На Шпалерной… Это возле Смольного. Знаешь?
– Ну! – с облегчением ответил я.
– Ну вот. Сгорел, писатели без Дома остались…
– А зачем им Дом? – наивно спросил я, хотя честно не понимал – зачем? Вряд ли писательство зависит от того, есть ли у них, писателей, свой Дом.
– Ну как! – неожиданно возмутился Артём, появившись наконец с книгой. – Ты думаешь, они от большой души и горячего сердца пишут? Да, и от этого тоже… Но! Много ты не жравши напишешь?
– Да при чём тут… – попытался возразить я, зная, что попытка ознаменуется провалом.
– Одну! – перебил он тоном, не терпящим возражений. – Первую книжицу! Это если повезёт, конечно. От большой души и оч-чень горячего сердца. А дальше? А дальше ты поймёшь, что с этой книжкой ничего не изменилось. Мир не стал лучше! Тебя не стали узнавать на улицах и просить автографы… И над второй ты будешь скрипеть, не понимая, что тут не так… Ха! – он скривился в ухмылке. – Деньги, писатель Сергей, – это эквивалент затраченных усилий! Запомни: работать бесплатно – безнравственно! А что ты один сделаешь? А ничего! Писателям тоже нужна организация. Премии, льготы… то, сё… Не только дармовое бухло. Кстати, дармовое бухло туда же… Вот тебе, изучай! – прервался он и протянул мне сероватую толстую книгу.
Для приличия я открыл книгу наугад. Полистал. Новенькие страницы вкусно похрустывали. Книга была девственной.
– Ты что, её и не читал? – мимоходом поинтересовался я.
– Начал, – с презрением отозвался он, снова закуривая.
– Видишь ли, я не готов читать всё, что попадается под руку. Вот ты, писатель, Белого читал?
– Что-то начинал… – пробормотал я. Из остаточных знаний о Белом сохранилось только название – «Серебряный голубь»…
– А ты возьми «Петербург»! И поймёшь, что тратить время на Югина не стоит, писатель Сергей… Не стоит. Хотя – дело вкуса, – подвёл он итог так, будто Югин – личное дело каждого. Личное – но безвкусное.
– Ладно, – говорю, – пошёл изучать. Оле привет, – как можно мимоходнее кинул я.
– Интересные вы люди, – пробормотал вдруг Птицын. Пробормотал негромко, почти как для себя, хотя услышать его я всё-таки был должен. Я поднял на него глаза.
– Да я говорю, интересно как-то… Ты бы хоть спросил, писатель, что там Ольга репетирует. Это же по твоей части. А вы все как-то только собой интересуетесь…
– Я постеснялся, – честно ответил я. Если Ольга говорила о том, что самое сложное в работе – учить текст, то в моем случае самым сложным было – скрыть подтекст. Хотя губы я, кажется, облизал.
– Ну-ну… – с видимым удовольствием потянул он, выдерживая неудобную паузу. Потом снизошёл:
– Потом как-нибудь сходим, писатель. У тебя сейчас другие дела.
– Спасибо, – отдал я, прощаясь. Я был благодарен Птицыну, и я его понимал. Может быть, не полностью, может, местами ошибочно, но я понял его жажду сближения. Ему нужен был младший товарищ. Может, для подтверждения своего превосходства. Для пространных бесед, где я не перебивал бы его своими доводами. И Ольга для него была подтверждением его, Артёма, состоятельности. И я мог стать тем, перед кем Ольгой можно было щегольнуть, не допуская даже и мысли о соперничестве. Не допуская этой мысли просто потому, что Артём был старше и мудрее меня, если вообще мудрость зависит от возраста. Я же удачно прикидывался провинциальным простачком, я всё больше молчал просто потому, что не заработал право говорить так весомо и правильно, как говорит Птицын.
Югина я начал читать ещё в метро. Его моложавое розовое лицо, украшенное аккуратно стриженной бородкой, красующееся на задней обложке, не говорило о его владельце ничего. Это лицо мог иметь как какой-нибудь академик, ведущий здоровый образ жизни, так и карточный шулер, раздевающий вас на длинном перегоне между двумя городами. И, кстати, поминутно при этом извиняющийся.
Незаметно для себя я перешёл к тексту и, прочтя несколько страниц, поймал себя на том, что читаю невнимательно. Завязка повести больше напоминала экскурсию. Автор знакомил меня с Инженерным замком, прозрачно и часто намекая на то, что в залах замка по задумке автора поселятся призраки и привидения. К пятой или шестой странице так и случилось, а привидения оказались кровожадными и не изысканными. Более того – с претензией на дурновкусие. Уборщица тётя Маша (!!!) была найдена мёртвой… Выбирая из двух имён, типичных для уборщиц, набивших оскомину имён – тётя Маша и Клавдия Петровна, – Югин выбрал тётю Машу. Решив, очевидно, что Клавдиями Петровнами зовут иногда также сельских учительниц… Тётя Маша, в общем, была беспроигрышна, тогда как само произведение, с которым я знакомился по мере прочтения, скорее безвыигрышно. Дутые, формальные герои – молодой милиционер Павел, пользующий по вечерам слабое пиво, и проститутка Наташа, непонятно как очутившаяся в Инженерном замке и являющаяся свидетелем преступления.
Переходя в метро на другую ветку, я пялился в книгу, которую держал двумя руками, и фига, мне оттуда грозящая, приобретала вполне ощутимые пропорции и размеры.
Неожиданно для себя я увлёкся. Претенциозность, ловко скрещённая с лёгким жанром, заставляет поглощать даже безвкусные, как галеты, предложения. Претенциозность хитро подменяет интеллект. Лёгкий жанр скрывает литературное бессилие. Вялый секс подразумевает под собой чувственность. Интрига напоминает клячу, готовую вот-вот завалиться на бок, но в последний момент автор подставляет интриге своё плечо-перо, и интрига ковыляет дальше. Хотя интригам плохо живётся в псевдоинтеллектуальном болоте.
Артём был прав. Его время стоило дороже этой книжки, и он не считал нужным тратить это время попусту. Только одна мысль удерживала меня от того, чтобы, выходя из подземки, опустить книгу в урну: цена моих рассказов была так же невелика, и мне стоило поучиться на чужих ошибках. Хотя ошибка становится именно ошибкой после того, как её признали… Судя по толстому переплёту и цветной обложке – нет, не признали…
Дутый писатель пришёл в дутой многоцветной куртке. Площадка причёски и бородка, как и на фото, выдавали внимательное отношение к внешности. Я двинулся в его сторону, когда он только сошёл с эскалатора. Назвал его по имени, пожал маленькую, мягкую ладонь. Писатель спешил. Или делал вид, что спешил. Сунул распечатанные мною листы в кожаный портфель с длинной лямкой через плечо. Сказал:
– Ого! Какой вы…
– Длинный? – подсказал ему я.
– Высокий, – уточнил он, и я улыбнулся.
– Позвоните через недельку, – его речь была лёгкой и мягкой, как и его проза, если эти эпитеты можно употреблять с негативным оттенком.
– Да…
Мы буднично попрощались. Первая встреча с настоящим писателем омрачилась его несостоятельностью. И всё же я на него рассчитывал. Не так важно, от какого продавца билетов ты получаешь путёвку в жизнь, казалось мне. Тем более что пока на эту путевку я не очень-то и рассчитывал.
Я чувствовал себя немного обманутым. Как девушка, пришедшая на первое свидание с красивым и перспективным поклонником. Он преподносит ей объёмный букет, говорит приятности, мимоходом упоминая о том, что он – импотент. И независимо от приятностей и их количества интерес к жениху падает.
Я не стал спускаться в метро, вышел на улицу и неторопливой походкой двинулся по направлению к Невскому. По отношению к оттаявшему и даже немного тёплому городу нырять в метро при наличии свободного времени показалось мне кощунством.
Зайдя в книжный магазин на Загородном проспекте, я спросил Андрея Белого. Нет, Белого не оказалось…
Идеалы рушатся
В моей комнате, выходящей цветочным балкончиком на перекрёсток, горел свет. Вариантов могло быть два: или я не выключил его, уходя, либо в квартире меня поджидал Паша. Хотя за этот месяц он заходил раза три, предварительно позвонив вечером.
Первый вариант маловероятен. Этому я обязан капле немецкой крови. Второй вариант – непонятен…
Я открыл входную дверь, как обычно, разделся и разулся в коридоре. Из комнаты не доносилось ни звука. Я вошёл. Сперва мне показалось, что человек на моей постели мёртв. Потом, почувствовав запах рвоты и перегара одновременно, я понял, что всё немного хуже.
– Паша… – я потряс его за плечо. Паша лежал в ботинках и куртке. Возле его головы, розового цвета, виднелось пятно. Не пятно – впитавшаяся лужа рвоты.
Он резко открыл глаза.
– А? – он испуганно выдохнул мне в лицо парами алкоголя. Узнав меня, с облегчением произнёс:
– Серый…
Спал он, вероятно, долго, так как не выветрившийся изо рта алкоголь выветрился из его головы.
Я долго не знал, что ему сказать. Кто, в конце концов, всё это будет стирать? И почему вообще так? Это мною оплаченная квартира, и я не хочу в этой квартире непрошеных гостей.
– Серый, у тебя что-нибудь есть?… – он повернулся, уткнувшись лицом прямо в пятно. – Ой, я наблевал… О-о…
Я молча достал недопитый коньяк. Плеснул в чашку из-под кофе, стоящую на столе.
– Серый, извини…
Лёжа, он вцепился в чашку и, приподнявшись, влил в себя коньяк. Сморщившись, закашлялся.
– Погоди, приживётся… – процедил мне сквозь желудочные спазмы.
Когда стенки желудка впитали-таки алкоголь, Паша принялся объяснять:
– Серый, извини ради бога… С Настькой поцапались. Иди, говорит, к себе домой. Я говорю – там ты. А меня, отвечает, не гребёт…
– Куда не гребёт? – с язвинкой поинтересовался я.
– Ну ты понял… Я пойду… – он шумно поднялся, распространяя вокруг себя разнообразные и неприятные запахи.
– Иди умойся, – посоветовал я ему. Коньяком я угостил его зря – коньяк взбудоражил старые дрожжи, и Паша опять стал несколько… невнимателен к своим поступкам.
Я слышал, как он долго сморкался в ванной, потом появился в дверях в мокрой куртке и с мокрыми волосами:
– Ну пока, Серый. Извини…
Хлопнула дверь. Я не проронил ни звука. Мне казалось непонятным, почему поругался с женой он, а его блевотину от своей подушки должен был отмывать я. И проветривать квартиру тоже.
Я закурил, чтобы как-то осознать происшедшее. Закурив, понял: осознавать ничего не надо. Надо стирать…
Я сгрёб с постели испачканные вещи, снёс неприятно пахнущий ком в ванную. Залил водой, добавив добрую порцию стирального порошка. Взболтал всё это рукой до тех пор, пока вода не запузырилась. Тщательно вымыл в раковине скользкие от порошка руки. Вернулся к себе.
Пока бельё отмокало, я пристрастно изучил комнату. Кроме грязных следов на полу и невыветрившегося пока кислого запаха, остатков Пашиного пребывания не обнаруживалось. Мой взгляд упал на блюдечко с помидорными семечками. Сверху марля подсохла и сделалась коричневатой. Я аккуратно развернул невесомое покрывало. Семена проросли приличными уже коготками, белыми червячками рвалась наружу помидорная ботва.
У меня были припасены две прозрачные коробочки из-под сладких рулетов, в них следовало посадить новорождённых червячков. Мешок земли я заметил ещё давно. Забытый и пыльный мешок неряшливым толстяком хранился в общественной кладовке, соседствуя с пустыми банками, мотками верёвок, тряпками неизвестного происхождения.
Земля в мешке оказалась сухой, с ломкими кусками торфа. Когда я пересыпал её в коробочки, в воздухе витала туча неприятной взвеси. Я плеснул воды из банки – земля осела и превратилась в коричневатую жижу. Я подсыпал ещё. Потом уложил в каждую ячейку коробки по два, как мне казалось, наиболее жизнеспособных семечка.
Садовод-огородник!
Коробочки я поставил на подоконник. Потом, посчитав, что бельё всё-таки должно было отмокнуть, отправился отстирывать безобразие.
Спустя час, когда бельё уже висело на натянутых поверх ванны верёвках, я обнаружил, что у меня кончились сигареты.
Накинув куртку, прямо в тапочках я спустился в ночник.
Паша сидел на ступеньках. Одна половина его лица выглядела так, будто её обрабатывали грубой наждачкой, пытаясь стесать с лица всё выступающее. Лишнее. Он дремал. Вернее, он дремал в ожидании первого милицейского патруля. К его счастью, этот транспорт, кажется, ходил сегодня с большими перебоями.
Я круто развернулся и пошёл в другую сторону. Там тоже был ночной магазин, через два квартала, но идти в тапочках до него отдавало уже нездоровой экстравагантностью.
Я не хотел помогать Паше. Всё это я помнил ещё с Осиных времен. Если поможешь один раз – в другой раз ты увидишь несчастного у себя на шее. В моём случае – в квартире. В постели.
Купив сигарет и насквозь промочив домашнюю обувь, я возвращался назад. Пашиного силуэта на этот раз не было. Неужели ушёл? Или всё-таки забрали? Всё, что я сейчас просил у Бога, – покоя.
Уже поднимаясь в квартиру, я понял, что пока он мне будет только сниться. На лестнице, потом в лифте я созерцал отпечатки кровяных его ладоней. Увидел назакрытую входную дверь.
Его, наконец дошедшего до моей кровати.
– Твою мать… – пробормотал я, закрывая за собой дверь.
К тому же тело не прекращало неприлично храпеть. Кое-как выветреишийся запах вернулся, усиленный свежаком.
«Гнать его сейчас бессмысленно, хотя бы потому, что для этого Пашу надо добудиться», – чётко определил я. Раскрыл пошире свой микробалкон.
– Лужу бы не наделал, – злобно и громко произнёс я и сплюнул в заоконное пространство.
Может быть, питерцы потому и не пили в Сочах, зная, чем это может закончиться?
Ближе к ночи позвонила Настя. Я почему-то ожидал извинений, забыв о том, что холодная красота исключает любые извинения.
– Сергей… – говорит.
– Да, – отвечаю.
– Этот у тебя? – хоть бы представилась.
– Этот?
– Ну Паша, – раздражённо уточнила.
– А-а, Паша? Ну да…
– В говно? – последовала пауза в несколько секунд, потому как я не стал отвечать очевидное. Не услышав ответа, сама подвела итог: – Естественно!
«Больше ничего не интересует?» – хотел спросить я, но она резко бросила трубку.
Содержательность разговора наглядно демонстрировала высокий уровень их отношений.
Я поковырялся в компьютере, зная, что не соображу ничего толкового. Походил туда-сюда. Повздыхал. Потом нагрёб себе на пол постель из того, что было, включая телогрейку, кое-как уместился в этом гнезде и закрыл глаза. Отчаянный запах перегара щекотал ноздри. Я спрятал нос в рукав полосатого свитера и уснул, как слон, хобот которого – полосатый.
Как выяснилось, сон полосатого слона чуток. Едва Паша пытался пошевелиться – я просыпался. Я боялся, что он обмочится у меня на кровати. Потом он вообще проснулся. Издал то ли стон, то ли вздох. Тёмной и неприятной массой подошёл ко мне. Показалось, что он хочет ударить меня ногой.
– Серый… – тихонько, одними губами издал он шелест. – Серенький…
– Ну, – отозвался я.
– У тебя есть?
И мне ярко, безжалостно вспомнился Оса. Безжалостно, потому что и у жалости, и у сострадания есть пределы. Оса сделал несколько шагов за эти пределы. Но Оса был моим другом, моим погибающим другом. А Паша, который из-за чудесного тела и сомнительных человеческих качеств супруги добровольно превращает себя в дрожащее убожество? Алкогольный протест – самая дикая и бессмысленная форма протеста. И я четко выговорил:
– Нет, – хотя в коньячной бутылке, кажется, плескалось что-то.
И тут он… заплакал.
Во тьме я не видел его лица, плач угадывался по всхлипам и по тому, как тёмные силуэты его кистей водили под глазами сверху вниз…
– Прекращай, – холодно приказал я. Я хотел добавить «уходи», но всё-таки струсил. Теоретически он бы и сам мог меня выгнать.
Натыкаясь на коварные в темноте углы, он кое-как добрался до туалета. Не включив свет долго мочился, не прикрыв дверь, и судя по звуку, далеко не всегда попадал в унитаз.
«Рок-звезда не в кондициях», – издевательски подумал я.
Он вернулся в комнату, встал в дверном проёме, опираясь плечом о косяк, глядя в сторону моей импровизированной постели. Успокоился, кстати.
– Серый, займи денег, – в его голосе я уловил неизвестно откуда взявшиеся нотки наглости. Хотя для достижения цели все средства хороши.
– На хер тебе деньги? – откровенно раздражённо отрезал я на наглость.
– Пива выпью и домой поеду…
– Нет. Спи, поедешь утром.
– Я не могу.
– Ехать утром или спать?
– Да ничего я не могу… – вдруг взвизгнул он. – Дай мне пару сотен, я тебе завтра верну.
Осиная песня. Из его репертуара. Только вот с этой песней он выступал не на сцене.
Протягивая ему деньги, я матерился в голос на его благодарность. Он не слышал меня, повторял только «пиво» и «домой»… И даже мелко кивал, убеждая меня в правильности моего поступка.
Когда он наконец скрылся за дверью, я перенёс ворох одежды на кровать и ещё долго лежал, боясь услышать в глубине замка нетрезвое позвякивание. Окунувшись в молчание, закутавшись в одеяло молчания, я рассуждал о том, как тяжело и неприятно будет извиняться Паше за сегодняшнее посещение.
Паша не позвонил – ни утром, ни на следующий день. В эти два дня я подолгу спал, машинально посетил Музей Суворова, где, не проникшись атмосферой конца восемнадцатого века, слонялся бессмысленно долго. Снял пришедшие из Краснодара деньги за квартиру. Думал о том, где можно найти хоть какой-то приработок. Вяло и без былой уверенности думал об Ольге, нехотя понимая, что первый восторг от Петербурга, а тем паче петербуржцев прошёл. А главное – север перестал делиться со мной вдохновением. И одиночество, о котором я так мечтал, вдохновению не способствовало тоже.
Привыкнув жить с Катериной, я принимал постельные отношения как само собой, я не думал, что, исчезнув, постельные отношения превратятся в половые проблемы. Вернее, отсутствие отношений… Я уже жалел даже о безаппетитных Майкиных формах… Ноги, руки у всех примерно одинаковы. Но помимо этого женского всё упиралось в слова! Нежные, ласковые, страстные женские слова были не менее важны, чем руки, ноги etc. Слова, сказанные утром, сразу по пробуждении, слова кокетливые, слова страстные и оттого непечатные. Личные. Загнав себя в одиночество, я стал там находить много ещё чего помимо покоя.
Вечером я сидел в кафе и пил кофе. Чашку за чашкой. Пил, а девушки, разодетые, как тропические рыбы, пахнущие, как экзотические фрукты, заходили и выходили внутрь и обратно, что-то выпив или перекусив. Откидывали волосы, поправляя причёску, неумело курили, отставив немного в сторону любопытно глядящие из-под юбки коленки. Нескушанные груши грудей округляли фигурки.
А я сидел и злился на них, хотя должен был – на себя. Ведь это у меня не находилось слов. Слов, которые сейчас были единственным для меня спасением. Слов, которые могли бы липко разомкнуть чей-то чужой напомаженный рот.
От кофе уже звенело в ушах, в пепельнице было тесно от окурков… Я мог бы просидеть здесь до утра, но от этого стало бы ещё хуже.
Впервые вечерний город был безразличен ко мне. Громоздились дома, бежали люди. Смеялись пары. Они были как бы отдельно от людей – смеющиеся крошки чужого, ненавистного мне счастья. От жалости к себе я чуть не заплакал. И опять, в который раз вспоминая Катю, я слышал сказанные, нет, сбежавшие шёпотом с её губ слова: «Сделай ещё больнее, милый… Тогда хорошо будет».
И я ускорил шаги. Потом побежал. Ворвался в холодное, проветренное помещение комнаты. Не раздеваясь, включил пишущую мою машинку. И слова, вцепившиеся в меня цепкими насекомовыми лапками, развешанные в мозгу кверху ногами, словно пещерные летучиемыши, вспорхнули, испугавшись какого-то движения у меня внутри, и разлетелись по чистому, безголосому листу.
Не дай мне Бог бабы или друга, чтобы снова спугнуть эту стаю… Не дай Бог…
Рассвет я встречал в изумлённом, синеватом от дыма свете… Полностью разбитый бессонницей и отчаянием. Но перепорхнувшее, сменившее место жительства отчаяние моё уже не чудилось мне фатальным, но скорее продуктивным. Я был слишком молод, чтобы писать разумом – в арсенале моём были порывы и эмоции. Я, как начинающий пещерный художник, малевал пальцем на скале, окуная палец в какую-нибудь красную охру… Но вот появляется же голова. Вполне узнаваемые уши, нос, рот… Женские красноохровые признаки.
И вообще следовало оставить разум для бездарей. Это последнее, что нужно художнику, – голый, холодный рассудок.
К утру я чувствовал себя графоголиком. Я уже не мог щёлкать по клавишам, но мне было не остановиться. Я поставил себе цель тормознуть, когда придётся замешкаться. Не мешкалось. Бежало и слепило… Только когда большая часть граждан отправилась на свои работы и в комнате сделалось шумно, я рухнул в постель. В голове гудело. Во рту было сухо от табака.
Проснувшись в тот же день, ближе к вечеру, я первым делом начал перечитывать написанное накануне. И сделал странный вывод. И это всё, вываленное кое-как, было тоже не то! Но другое! Более выстраданное и не холодно-безучастное «не то»! Слова не манекена, но человека живого и сомневающегося. Делающего ошибки. Мучающегося от этих ошибок.
Я рассмеялся. Неужели, чтобы сделать что-то стоящее, для красного словца – умное что-то, нужно, вместо того чтобы думать, лишь терять и совершать глупости? И выходило именно так.
Я извлёк из той же кладовки, где проживала земля для цветов, моток широкой бумажной ленты для заклеивания окон. Взял из ящика стола полувысохший маркер, очевидно, оставшийся от Майки, и написал большими буквами вот что: «Холодный разум – кратчайший путь к безумию».
Укрепил лозунг у себя над кроватью двумя канцелярскими кнопками.
Пусть так. Пусть!
В довершение всего этого мне захотелось сделать что-нибудь хулиганское. Я добрался до ближайшего киоска с печатной продукцией. Купил какой-то журнал для взрослых, вернулся домой. Аккуратненько вынул скрепочки и развернул заглавный постер, где была изображена белогрудая девица в сидячей позе. Сидела же она так, что кончики её обутых в сапожки ножек доставали ровно до верхних уголков фотошедевра. Внешности и внутренности, выставленные напоказ, стыдливо отливали всеми оттенками розового. Я ссыпал в ладонь оставшиеся кнопки. Прилепил мою новую подружку повыше лозунга. Поняв, какой ерундой занимаюсь, рассмеялся.
И снова – пусть так! Пусть так…
А потом позвонил Артём.
Мех и смех
– Ты дома? – поинтересовался он, как будто мог услышать от меня отрицательный ответ.
– Дома, – я ещё не отошёл от веселья.
– Слушай, писатель… Ты как?
– В каком смысле? – непонимающе спросил я.
– В смысле прогуляться…
– Пойдём.
– Ну не совсем прогуляться, – он чего-то темнил, а мне лень было его спрашивать. – Я вообще иду работать. Но могу и тебя прихватить…
– Куда? – иногда получалось так, что информацию из Птицына нужно было вытягивать.
– Да есть одно место. Ресторан… Там будет показ – ой, только не падай, писатель, – женского мехового белья, – к концу фразы камнепад у него во рту усилился, и я подумал, будто ослышался.
– Ты не ослышался, – тут же, читая мои мысли, произнёс он.
– А почему не шёлковых кружевных шуб? – попытался острить я.
– Потому что таких не бывает, – мрачно отозвался он. – Мне надо под это дело статью сколобродить, а проходка у меня на два лица…
– А Ольга? – машинально спросил я.
– Ты дурак, писатель Сергей, или прикидываешься, – беззлобно отругал он меня. – Ты мне ещё предложи тёщу взять… Кстати, как наш «грейт»?
– Отдал…
– Молодец. Если идёшь, встречаемся возле Дома книги в полседьмого.
– Ну иду, иду… – обрадовался я.
– Всё тогда, – он помолчал. – До встречи.
Я плохо представлял себе предстоящее мероприятие. Это ведь от слов «принимать меры»? Ну вот – будем принимать меры по устранению моего одиночества? Нет, Артём, мне кажется, не такой. Его участие в моей судьбе не касается женских вопросов. Ему нужен напарник, собеседник… Главное – слушатель. Что ж, послушаем. И поглазеем!
Я, как всегда, пришёл раньше обычного. Курил, любуясь изысканной мозаикой храма Воскресения Христова… Размышлял, почему одни называют купола луковками, а другие – маковками… Потом Артём – явился, не запылился…
«О, луна Алабамы»! Мы двинулись в сторону Дворцовой.
– Что Югин? – скупо спросил он.
– Сказал позвонить через неделю.
– И как он тебе?
– Как человека я его не понял…
Артём хмыкнул:
– Как про писателя – не спрашиваю.
Помолчали. Кодекс чести мужчины не позволял мне расспрашивать Артёма о цели путешествия.
– Я тебя взял для того, чтобы ты посмотрел на бессмыслицу.
– В каком смысле?
– А бессмыслица имеет смысл? – поймал он меня. – Придут люди. Так? Среди них будет много красивых баб. Будут лакать бесплатные дринки! Восхищаться и хлопать непонятно чему, так как я не видел ещё человека, готового носить меховые трусы и лифчики.
– Так зачем мы туда идём? – следуя его логике, идти туда было и вовсе незачем.
– А затем, что за пару часов работы у меня будет некоторое количество хрустящих бумажек с портретами американских президентов. И довольно приятное количество.
– Аргумент! – заметил я.
– Ещё какой! – подтвердил он, закуривая коричневую сигарету.
– На, – протянул он мне вдруг пачку таких же. – И выкини свой «Космос», чтобы я его не видел, – потом смягчился: – Соответствовать надо. Да.
– Зачем? – изумился я. Раз уж мы идём смотреть на бессмыслицу…
– А затем, чтобы на тебя не пялились, как на инопланетянина… Хотя у нас с тобой разные цели. Ты, например, можешь пялиться на баб без надежды на их благосклонность. Пить, пока дринки не кончатся…
– А ты? – почти обиделся я за «благосклонность».
– Видишь ли, писатель: я не изменяю жене, на стриптизы и прочие – только по работе. Дринк я могу себе позволить и дома. Я могу вообще туда не ходить – и написать отличную статейку. Но! Меня должны там видеть. Да и из журнала фотограф будет. А за баб ты надулся зря – не те там бабы, писатель Сергей.
Я промолчал, впитывая информацию.
– Ты не думай, что мне всё это было неинтересно. Было! И стриптизы, и бабы… Только Олька мне – не баба! Олька – мать моего сына, жена моя, и я хочу её уважать. А стриптиз – я его несколько раз с изнанки видел. И охладел.
Я не стал выспрашивать Артёма, информации, дошедшей до меня, и так было слишком много. И я приумолк, потому как был об Артёме немного иного мнения. В сущности, он признался в любви к своей жене. Я же, пусть только с мыслями своими, автоматически превращался в скотину. Самое странное – это меня подзадоривало!
Мы прошли Конюшенные, пересекли Мойку. Прошли по Невскому ещё дальше…
– А где ресторан? – спросил я, понимая, что дальше уже – Эрмитаж и Адмиралтейство.
– Да в арке!
И сворачивая на Дворцовую, прямо в знаменитой арке я увидел стеклянные двери. Несколько метров брусчатки перед входом были заставлены стеклянными чашечками с горящими в них свечами. Как бы обозначая проход.
– Держи, Серёга… – Птицын протянул мне картонный билетик с рекламой ресторана.
Предъявив проходки, миновав вежливых охранников – белая рубашка, чёрный костюм, – мы оказались внутри. В тесном помещении было накурено. Ходили какие-то успешные люди. Потом я огляделся и понял, что помещение – лишь бар, сам ресторан находился по обе стороны входа. Много небольших комнаток, соединённых галереей. В баре без всякого присмотра стояли подносы с вожделенными напитками. Напитков было всего два – ярко-зелёный и такого же фантастического оттенка красный. Артём указал глазами на подносы и, произнеся: «Подожди меня здесь…» – куда-то устранился.
Я неуверенно, почти оглядываясь, взял бокал с зелёным. Окрика не последовало. Тогда я взял ещё и красный. Отошёл к столику. Сел, пододвигая к себе чистую пепельницу. Внутри неё ещё блестели капли воды.
Я расположился лицом ко входу, мне было интересно посмотреть на прибывающий люд.
Я встречал их по одёжке, будучи уверен, что провожать их мне не придётся. Публика напоминала публику театральную. Вечерние платья, хорошие костюмы. Правда, о качестве костюмов я мог судить только по степени их отглаженности. Среди прочих я заметил очень мыльного актера Степанцова с густо накрашенной дылдой раза в два младше его. Выше тоже. Он, Степанцов, очень вокруг неё суетился, и когда она достала из сумочки сигареты, он бросился искать для неё зажигалку.
Я уловил его жест и молча передвинул по столу мою китайскую в направлении его.
– Спасибо, – испуганный Степанцов сгрёб зажигалку в ладонь. Вблизи он оказался плохо выбритым и усталым. Для таких вот дылд, вероятно, он был уже староват.
Напитки – и зелёный, и красный – очень подходили к ресторанной атмосфере. Оба – приторно сладкие и ни на что не похожие. После бокала красного я чуть раскраснелся и подумал о том, стоит ли пить зелёный.
Меня отыскал Артём. С ним был ещё один парень, маленький и полный. На его животе лежал фотоаппарат, и парень то и дело вертел туда-сюда объектив, при этом не поднося фотоаппарат к глазам.
– Это Семён, – музыка стала громче, и Артёму приходилось напрягать голос, – это фотограф…
Я кивнул.
В это время музыка прервалась и мягкий и коварный, как и местные напитки, женский голос потёк из динамиков:
– Дамы и господа! Вас приветствует ресторан… – она ещё долго говорила, главным же в её речи было то, что надо освободить проходы в галереях, чтобы меховым моделям комфортно было передвигаться из зала в зал, демонстрируя свои меховые минимумы.
Фотограф поднял с живота фотоаппарат. Прицелился в проход, заметив себе:
– Света мало.
Потом встал мне за спину. А я понял, что сел я очень выгодно.
В каждом динамике, казалось, содержалось искусственное сердце. Такими толчками забасила из них вдруг ритмичная музыка, текущая по галереям, как по сосудам. Каждый сердечный удар отдавался каким-то эхом во всём теле. Сперва все замерли, а потом из залов справа поднялись нарастающие аплодисменты.
Первая модель, выплывшая прямо перед моим носом, профессионально (хотя нет, откуда мне было знать) виляя крупными бёдрами, была действительно укутана в меха. Укутанность, правда, была двусмысленная. Укутаны были носики грудей и то, что называется «зоной бикини». Носики грудей не замёрзли бы и при минусовой… Всё остальное было обнажено до слишком реальной, не возбуждающей наготы. В такой близи и при таком свете были видны даже припудренные прыщики на ягодицах.
За первой показалась вторая, третья… Всего их было шесть или семь. Девчонок, у которых в тепле были только носики грудей и зоны бикини…
Фотоаппарат Семёна за моей спиной, как и ещё десятки камер, щёлкал безостановочно.
В противоположном крыле модели переодевались и проходили в обратную сторону уже в других, наверное, более изысканных мехах.
Бездарно организованный белый свет делал моделей беззащитными, как будто находящимися под огромным микроскопом, в окуляре которого видны мельчайшие телесные изъяны.
Тут я увидел Артёма. Вместо того чтобы глядеть на женщин, он чиркал что-то в записной книжке, периодически встряхивая авторучку. «Чернила кончаются» – посочувствовал ему я.
Девушки сделали пять или шесть проходов под неумолкающие аплодисменты и вжиканье фотокамер, потом наступила тишина, и я подумал, что представление окончено. Даже попытался вылезти из-за стола. Но трансляция, выждав капризную паузу, сообщила, что сейчас мы увидим… автора коллекции. Автором коллекции оказалась неприятная пожилая дама, которой хлопали больше всех.
– Ну тебе как? – подошёл ко мне Артём, когда трансляция пообещала фуршет и мальчики-официанты забегали туда и сюда, расставляя столы. Да и сердца динамиков подсдохли, перейдя на что-то более спокойное. Фотограф Семён упокоил свой аппарат на животе и что-то жевал.
– Да я что-то не очень понял… – оправдался я, в то же время не желая огорчать Артёма.
– Молодец! – непонятно отреагировал он. – Пошли! – кивнул он мне и Семёну.
– А фуршет? – дурачась немного, спросил я.
– Будет тебе фуршет, – осклабился Артём и кивнул на чем-то набитую сумку у себя на плече. Когда мы шли туда, сумка болталась совершенно плоско.
Мы вышли в апрельский потухающий вечер. Я, за мною Артём… Чуть погодя, убирая на ходу фотоаппарат в кофр, выбрался Семён. Зачем-то воровато осмотрелся. У выхода из ресторана никого не было. Охранники поддерживали порядок где-то внутри.
Семен подцепил носком ботинка пиалку со свечкой внутри, и та, удивительно гулко покатившись по камням, завертелась возле противоположной стены.
– Ха… – отреагировал Артём. Видимо, в отличие от меня он понял преступный жест коллеги.
Мы шли по Дворцовой, немноголюдной сейчас площади. Нам встречались пожилые пары, вечно счастливая молодёжь с бутылками пива. Возле колонны, не боясь приморозить будущее потомство, сидел трёхаккордный гитарист. Его обступали хмурые и грязноватые на вид поклонники.
Мы пересекли Дворцовую и, подойдя к скамеечкам у фонтана, остановились. Птицын снял сумку с плеча, широким жестом расстегнул молнию. Так, будто стелил на стол скатерть-самобранку. Сумка была набита припасами. И боеприпасами, судя по мрачно поблескивающим головкам бутылок.
– Только аккуратно… – оглянулся Артём вокруг и прямо в сумке отвинтил одну из пробок.
Мы по очереди глотнули крепкого заморского. Закусили чем-то трясущимся, что попалось под руку.
– Язык в желе, – определил закуску Артём.
– Откуда? – наконец удивился я.
– Оттуда, – кивнул Артём в сторону ресторана. – Я им сказал, что у меня нет времени на фуршет.
– И они…
– Ну да. Собрали… с миру по нитке. Писать-то про это мероприятие я буду. Деньги потом, а этого говна у них навалом. Хлеба не положили… Ты что думаешь, Серёга, они всё это хранят до следующего раза?
– Почему нет?
– Да вот эти мальчики-официанты, после того как все наедятся, выкидывают всё недоеденное и сливают в унитаз полные бутылки. А за всем этим смотрит администрация.
– Уносили бы домой! – недоумевал я.
– В том-то и штука! Чтобы не воровали…
– Не вижу связи… – удивился я.
– А, – отмахнулся Артём. – Ты лучше скажи мне, писатель, что ты понял? Я ведь тебя не подкормить привёл. Ты и сам на кусок хлеба заработаешь!
«Будем считать это преждевременным комплиментом» – подумал я, а произнёс вот что:
– Я должен отчитаться? – самолюбие не позволяло мне отвечать, как школьнику.
– Нет, – вдруг откликнулся молчавший Семён, – ты должен поделиться, – и откинул со лба прилипшие кучеряшки.
– Я же тебе сказал, что ничего не понял, – начал я с отчаянием петуха, увидевшего большую суповую кастрюлю. – Ну меха… Бабы красивые. Степанцов – мудак. Бесплатное бухло чемоданами…
– Всё ты понял, Сергей, – опять вмешался фотограф. Он неряшливо грыз палку колбасы мелкими зубами.
– Не понял ты одного! В какое дерьмо я залез, – подытожил Артём.
Все помолчали. Слышно было только шуршание колбасной шкурки, которую опять же зубами обдирал Семён.
– Почему? – соврал я, сделав вид, что не понял.
– Да не надо хитрить… Я же вижу – ты понял. Я время потерял. И приучил себя к бабкам! И Ольку тоже… Мы в достатке. Мы всегда в достатке. Не в том, чтобы купить квартиру побольше, но в том, чтобы жрать икорку с маслицем, этого не замечая. Ты думаешь, я свои деньги на статьях о культуре делаю? Нет, писатель, – о бескультурье! Об вот этих вот вшах лобковых… О мохнатом белье, о новых фильмах Степанцовых. Ольке говорю мыла в дом не покупать! О культуре – это так, чтобы совсем лицо не потерять. А деньги – деньги класть хотели на эту всю культуру. Культура для денег – мёртвое море. Они там не водятся…
– Всегда есть выход, – неожиданно твёрдо произнёс я.
– Нет, дорогой писатель! Всегда есть только вход! У меня семья…
– И что? – подогретый заморским, я бросился в спор. – Оля тебя не поймёт, если у тебя не будет денег?
– Олька поймёт! Я уже не пойму!
– Значит, проблема в тебе, а не в деньгах!
– Ловко, – подтвердил Семён, продолжая жевать.
– Подожди, Серега, наезжать… Я Ольку люблю! Я хочу, чтобы она была красивой!
– Ну тебе видней, – перебил я.
– Я хочу, чтобы она существовала в достатке. Конечно, – продолжал он, не заметив колкости, – они с Венькой что, в дерюгах должны ходить? Соответственно, я должен приносить в семью деньги.
– Кому ты должен? – удивился сам себе я. – Кому? Ольге?
– О! Себе! – Семён даже поднял пухлый палец, оторвав его от пятерни, сжимавшей колбасу.
– Значит, опять проблема в тебе, а не в деньгах… И не в Оле! – заключил я так безапелляционно, что даже испугался.
Артём протёр носовым платком запотевшие очки. Молчал, готовясь нанести следующий аргумент.
– В конце концов, я на идиотах имею приличную зарплату, – сказал он вдруг тихо и примирительно.
– Это да, – с удовольствием подхватил я, готовый стоять за свою правду до ненужной капли крови.
– Сергей, жму руку! – одобрил меня Семён и добавил: – Если это не только на словах…
«Нет, новый знакомец, – подумал я, – как раз на словах! На словах, которые другие меняют на ненужное дело!»
Я вспомнил Осиного дядьку. Мне казалось, что как-то вдруг. Нет! То, что он пытался мне сказать, осталось, обрело почву, подобно помидорным семечкам, что вот-вот пустят свои ростки у меня на подоконнике. И говорил я Артёму сейчас несколько, правда, изменённый под местную почву его жизненный подход…
– Давайте ещё по одной, – Семён крякнул, достал из сумки бутылку.
– Давайте, – согласился Артём. – Разделим – и по домам. Давай сюда рюкзак, писатель.
А я вдруг заупрямился:
– Нет, – говорю и хотел добавить: «Не в моих правилах», но озвучил менее агрессивное:
– Чего я с этим таскаться буду. Я не домой.
– Учись, – одобрил Семён, набивая упаковками и бутылками карманы мешковатой осенней куртки.
– Нет, – рассудил Артём, – так не пойдёт. Ты, конечно, писатель, бессребреник…
– Я золотарь… – огрызнулся я.
– А-ха. Так и возьми у нас этого дерьма побольше. Оно тебе и нужнее. Не от них возьми, от меня…
Откуда ему было знать, что мне нужнее. А от тебя, Артём, я бы другое взял. Живое!
Но при этом покорно снял рюкзак. Не надо казаться сложнее там, где не надо.
Они переложили часть продуктов и бутылок ко мне. Артём закрыл похудевшую сумку. Мы двинулись к метро через площадь. При этом каждый думал о своём, хотя молчание было общим…
– Серега, а что с Югиным? Ты давай поподробнее! Отдал? Что он сказал? – я не был уверен, что Артёму интересен ответ, но ломать молчание стоило только потому, что чёрт знает куда это молчание могло завести каждого из нас.
– Сказал позвонить через неделю, – откликнулся я.
– Что такое Югин, господа? – оживился засыпавший, казалось, на ходу Семён.
– И ты туда же? – посочувствовал Артём. – А как же «Мертвец в оправе»?
– Он и есть, – захохотал Семён. – Понял я, о ком вы… А ты ему, Сергей, роман свой предложил, что ли?
– Рассказы дал.
– Сунул? – опять захохотал фотограф. – Мой тебе совет: не суйся ты к этим лохобанам, снеси вон в «Неву», что ли… Там тоже, правда, последнее время всякое печатают…
– Может, у меня и есть всякое? – усмехнувшись, ответил я.
– Не дай Бог! – и фотограф снова затрясся.
– Ну неделю-то подождёшь? – вмешался Птицын. – Посмотрим, что Югин скажет… – ясно, что дельный совет с «Невой» не пришёл ему в голову, и от этого Артёму было, наверное, обидно. – А потом, в «Неве» месяца два ждать. Они же не рецензируют – скажут: «Не подошло» и повесят…
– Повесят, повесят, – перебил Семён, продолжая веселиться.
– Трубку, – сквозь ухмылку закончил Артём.
– Господа! Разбегаться неохота… Птицын, пойдём к тебе, Ольчик нам горячего приготовит…
– А работать? – неожиданно трезво и холодно успокоил приятеля Птицын.
– Мне-то что? Цифра – она и есть цифра. Прыщи на жопах я за пять минут зафотожаблю…
Я не понял ничего. Поэтому осторожно спросил:
– Что это значит?
– Фотоаппарат – цифровой. Не ваши говенные мыльницы! Загнал фотки в комп, там программа есть – красные глаза убирает, прыщи. Вот и всё!
– Он спец! – подтвердил Артём, как бы раздумывая. Раздумывал и я. Мои смелые надежды на субботу отнюдь не были смелыми. Я ещё не придумал, как буду себя вести. Поэтому прощупать почву в этом направлении – это плюс. Минусов же было целых два: присутствие Артёма и неочевидная только пока нетрезвость. Вопреки сотням волнующих алкогольных историй, нормальные женщины любят всё-таки трезвых мужчин. По пьяни можно подцепить, причём в комплекте с девушкой ещё кое-что. А вот познакомиться…
Проще всего было бы, если бы Артём просто сказал «нет». Но подсознательно и он не искал лёгких путей. Потому как согласился.
– Поехали, посидим… Закусим нормально… – по его мнению всё то, что оттягивало рюкзаки и карманы – было так себе…
– Ольчик, это я! – голосил Семён в решёточку домофона.
– Берлин? – с ударением на первый слог послышался Ольгин голос. – А где Артёмка?
– Да тут он, твой Артёмка, за моей спиной. С нами ещё писатель…
В квартире пахло чем-то сытным и ещё уютно-детским. Уютно-детскими оказались рубашонки, по которым Ольга проворно водила утюгом.
– Привет, – уверенно пропыхтел Берлин, пройдя на кухню прямо в одежде. Чувствовал он себя как дома. Выложил из кармана снедь, поставил бутылки.
– Сёмка, Серёжа, здравствуйте… – я опять искал в обращении ко мне подтекст. Серёжей-то в этом городе я стал только у неё.
– А где Венеролог? С бабушкой отправила? – поинтересовался Артём, снимая куртку, задевая усиленными плечами «Алабамы» меня и стены.
– Пошёл к ней мультики смотреть, – легко ответила прекрасная сандаловая статуэтка, ставшая со времени нашего предыдущего свидания ещё прекраснее.
– Птицын, отдай мне Ольку, – наглел Берлин, но, видимо, будучи частым гостем в их дружелюбном доме, шутил он привычно.
– Забирай, – так же буднично отшучивался Артём.
– Ольчик, мы тут колбаски тебе принесли. Сделаешь яишенку?
– Голубцы будете? Я сейчас… – отозвалась она из комнаты.
Вошла, озаряя, перенастроив наши табачные носы на другие, сладкие запахи. Я пока не проронил ни слова. Ни дела… Сидел тупо, думая, какую из поз мне принять, чтобы не оказаться зажатым или же, напротив, слишком развязным. Я как бы шёл по какому-то болоту, высчитывая каждый шаг, не находя смелости сделать хотя бы несколько движений наобум. Может быть, спасительных движений?
– Ого! – воскликнула она, войдя.
– Ну, – аппетитно подтвердил Семён, плотоядно глядя на пищу, выпивку, женщину. Живой протест рефлексии и всяким сомнениям вообще.
– Как сиськи? – вдруг спросила она, стоя спиной к нам, управляясь со сковородкой.
Неприятная капля защекотала мне позвоночник.
– О-о! – рисуясь, воскликнул Семён.
– Ну я серьёзно. Было хоть на что посмотреть?
– Особо нет, – спокойно и как-то честно ответил Артём.
И мне, слегка шокированному сейчас, вспомнились наши разговоры с Катериной. Тогда почему-то я не самошокировался. И на стриптиз ходили не раз. И даже случайную её любовницу обсуждали! Что-то я одичал.
– Держите тарелки…
Артём расставлял ещё теплые и скрипящие от воды тарелки, клал одинаковые приборы. Из белой керамической кастрюли исходил пар с восточным, пряным запахом.
– Рюмки! – напомнил Берлин.
Артём ловко расставил три рюмки…
– Я тоже чуточку… – подсказала Ольга Артёму.
Он добродушно усмехнулся.
– А ты и не заметил, Артёмка? Я уже третий день Веньку не кормлю. Хватит уже…
– Правильно, – Берлин разливал через руку, – в этом возрасте ребёнок должен мясо жрать!
– Да он знаешь как жрёт! – выпалила Ольга и, ойкнув, покраснела.
Все засмеялись. Засмеялся и я.
Ольга выкладывала на тарелки пахучие голубцы, по-восточному завёрнутые в виноградные листья. У неё всё получалось легко и аккуратно, и я подумал, что Ольга – замечательная ведь жена. И потому ещё, что Артём её – хороший муж. Если его и посещают дурные мысли, то пускает он их через другой, не семейный коридор. И для неё он – всегда уверенный в себе человек. Соответственно – она уверена в нём.
– Серёжа, может, ещё? – обратилась она почему-то ко мне. Может, как к менее знакомому – остальные попросят сами. Особенно остальной Берлин.
– Нет, – поскромничал, – спасибо…
Сперва молча жевали. К необходимым вилкам каждому был подан нож, что в некоторых семьях уже считается анахронизмом.
– М-м, Ольчик… – бормотал Семён, отправляя между измазанными жиром губами очередной кусок…
– Слушай! Тут твой с Сергеем спор затеяли… Сейчас… – он открыл одну из бутылок, неровно плеснул каждому из нас. Ольга заинтересованно занесла вверх длинную бровь.
– Твой говорит: «Надо деньги в семью нести», а Сергей ему: «Это твои проблемы, семья и без денег просуществует», – он усмехнулся и облизал палец, по которому румяным ручейком стекал кетчуп. – Это не всё: я сперва слушал и охреневал, а потом я его-то, Сергея, понял. А? – и он уставился на меня.
– Ну, – подбодрил я его.
– А в семью-то можно, положим, сотню принести. Потом две… Пять… Сотню уже тысяч… И ведь мало будет. Сперва хватило на… – он поискал глазами, – вот на утюг! Но не хватило на фотоаппарат. Потом хватило и на фотоаппарат. Но ещё чуть-чуть – и машина… Потом пересаживаешься с «Лады» на «Геленваген»…
– Не так быстро, – улыбнулся Артём. И, как мне показалось, немного грустно.
– А потом пошло-поехало: отдых в Испании, вилла там же… Яхта…
– Да я бы не отказался, – опять вставил Артём.
– Ну это я утрирую, как ты понимаешь… – тормознул Берлин.
– А дальше? – Ольга забыла на лице заинтересованную улыбку.
– Так а всё! – загадочно ухмыльнулся Семён. Выдержал длинную, чавкающую паузу. – Или ты и к собственному гробу из чистого золота тоже не равнодушен?
– Ну а что в качестве альтернативы? – звонко спросила она и посмотрела на меня.
– А Сергей ему: «Твои желания – это твои же проблемы!».
– Немного не так! – я задумчиво взял со стола чёрную сигарету, повертел её в пальцах.
– Кури здесь, – позволил Артём, – потом вытяжку включим.
– Я бы начал с Веньки! – загадочно произнёс я, закуривая.
– Ну-ну, – Артём чуть наклонился в мою сторону.
– Его любят родители… – я оглядел семейную пару. – Растят его, учат… Потом дают образование. А потом он женится.
– Это всё? – хихикнул Берлин, незлобно, впрочем…
– Нет! Всё только начинается! – я ткнул сигаретой в сторону Артёма. – Ты ему и говоришь: я учил тебя играть в футбол, но ты не стал спортсменом. Ты неплохо играл на аккордеоне! Аккордеон пылится на антресолях. Я подсовывал тебе расчудесные книги о приключениях. И что в итоге? А в итоге ты менеджер какого-то звена компании «Кока-кола», у тебя не хватает на «Геленваген»… Или хватает – не важно. И ты носишься со своей деньгами в поисках ещё одного нуля в конце этой суммы. Ты, Артём, к этому готов? – я так ловко уселся на этого конька, что тот понёс меня, даже не взбрыкнув.
– Ну а книги о путешествиях… Сперва книги – потом путешествия. Интересно же… – попытался как-то опротестовать сказанное Артём.
– Ага, – я всё тыкал сигаретой в его сторону, нападая, – ты замечал, что пишут в анкетах люди на вопрос о хобби?
– Путешествия, – развеселился вдруг Берлин.
– Точно! Я могу тебе расшифровать: ничегонеделание на берегу тёплого моря! Хобби же обычно предполагает под собой деятельность! А тут вся идея в том, чтобы ни-че-го не делать. И не в коммунальной комнате. То есть в итоге мы делаем всё для того, чтобы ничего не делать в комфорте! Такие люди, Артём, и называются «бездельники».
– Ты хочешь сказать, что вся работа только для того, чтобы быть бездельником?
– В том-то и дело, что не вся! Только нелюбимая работа. Нелюбимая работа, как нелюбимая жена, не приносит удовлетворения, и ты хочешь избавиться от неё как можно быстрее!
– Ладно, у меня хоть любимая жена есть, – пробурчал Артём и погладил Ольгу по чёрному джинсовому бедру. – Как же мне с ней-то быть?
– Давай сперва с сыном разберёмся, – прервал его я.
– С сыном… А если он будет нищебродом, но при этом музыкантом? Будет у меня деньги клянчить?
– Чтобы не быть нищебродом, надо быть хорошим музыкантом! А вопрос денег – это вопрос воспитания!
– Ну а с Олькой что будем делать? – добродушно спросил он, не убирая руки с бедра. Охраняя её – Олю.
– Искать! – убеждённо заговорил я. – Искать себя, она потерпит, а не потерпит – не жена и была. Извини, Оль, – в извинении я даже прижал руку к сердцу.
– Это как глотать или не глотать… Можно сглотнуть, но лучше сплюнуть… – неопрятно пошутил Семён.
– Фу, Сёмка… – театрально сконфузилась Оля.
– Да это я так, разрядить обстановочку… – оправдался тот.
– Интересный ты, Серёга, человек… Только молодой ты ещё… – протянул Птицын. Он не знал, что если меня как следует завести, торможу я потом медленно и с неохотой.
– Молодой? Мне то же говорил отчим… Ну не отчим – сожитель материн. Я ему доказывал, что пить сутками – плохо. Теперь уже на кладбище – ничего не скажет. Хотя хороший был мужик… – зачем-то добавил я. – Знаешь, когда так говорят: молодой? Когда видят, что жизнь с каждым годом становится хуже и хуже…
– Оп-па! Ну-ка, ну-ка, Птицын, что ты на это скажешь? – опять подначивал Семён.
Тот снисходительно усмехнулся:
– В теории всё верно. С практикой сложнее… Олька, ты со мной в огонь и в воду согласна?
– Она с тобой через медные трубы путешествует, – заметил Берлин.
– Серёж, дай затянуться, – вдруг попросила Ольга. У неё как-то нежно получалось «Сереш» – меняя согласную на конце. Я протянул ей через стол приличный окурок. Она поймала губами затяжку, вернула окурок мне.
– О, началось, – комментировал Берлин.
– Да не курю я, Сёмка… Так… А тебе, – она положила руку с тонким обручальным кольцом Птицыну на запястье, – я вот что скажу: если женщина любит, она потерпит. Но никогда не будет терпеть всю жизнь!
– Золотые слова, – примирительно поднял рюмку Семён. А мне показалось, будто Ольга ушла от прямого ответа.
– У нас в театре мальчик есть, двадцать лет. Я про Точилина, – Артёму пояснила. – Так вот этот мальчик – очень талантливый мальчик… Очень! – для убедительности Оля даже сверкнула глазами. – Ему предложения от режиссёров приходят постоянно. И далеко не все – мыло. Он бы мог уже и себя, и детей, и внуков обеспечить. Его и в Москву звали… А он твердит: «Не готов»… И упрямо у нас долбится – целыми днями и ночами… У него любимое слово – «лажа». А выражение – «пока что лажа»…
– А фраза – «пока что лажа и есть лажа», – влез Семён, но никто не обиделся.
– И вот он этой «пока что лажей» всех задолбал… Задрал. Репетируем сцену – он отыграет, отойдёт… Ну? «Пока что лажа…» И знаешь, как неприятно! У него ещё так высокомерно получается. У него мы все – процентов на девяносто – лажа… – она улыбнулась, и яркие кровеносные губы изящно изогнулись. – И когда от этого Толика-сопляка получаешь вдруг похвалу…
– Пьёт, – перебил я, – знакомый типаж.
– О-о, – подтвердила она, – ещё как… Так вот, Сереш, когда от него получаешь похвалу, чувствуешь себя так, будто сам Сенкевич похвалил…
– Это кто?
– Сенкевич – руководитель нашего курса.
– И что? – поинтересовался я, не поняв Ольгиного монолога.
– Да то, что ни одна девушка, женщина не сможет с этим Толиком жить. Потому что он любит только свою работу! – заключила она.
– Он её не любит, – предположил я, – он ею живет… Он же пока не может жить с двумя – женщиной и работой. Может, и вы для него – «лажа», потому что он не встретил ещё «не лажу». Они такие, Толики эти… – я вспомнил Осу и его анемичную любовь. И требования к себе у Осы тоже были чрезмерные…
– Хочешь, я расскажу тебе про Осу, – внезапно выпалил я, обращаясь только к ней. На фоне общей беседы и приконченной бутылки это не бросалось в глаза, но я-то сделал это осознанно и очевидно.
– Хочу, – весело отреагировала она и только потом спросила: – Про какую осу?
Она сидела напротив, положив белые руки на стол, и смотрела вскользь, потому как нельзя было смотреть прямо и упруго. И честно, кажется… А мне так хотелось нарисовать на её щеках клоунские слёзы, которые так пошли бы к её глазам.
– Про Осу – это очень длинно. Это не сейчас. Как-нибудь в другой раз. Это как кусок жизни рассказать в две минуты. Да и, кажется, пора… – заключил я. Пустая бутылка перекочевала под стол. Открывать ещё одну – уже бестолково… А интригу я сохранил, на что и рассчитывал. Тем более что при успешном стечении дел про Осу я мог рассказать ей уже завтра, после спектакля.
– Да, – заключил задремывавший Артём. – Сейчас и Венеролог вернётся…
Мы с Берлиным шумно встали. Проследовали в узкий коридор, исключив возможность долгого прощания.
– Спасибо, – произнёс я, уже одевшись.
– Всегда пожалуйста, – зевнул Артём.
Семён расцеловался с немного разрумянившейся Олей. А я этого делать не стал. Пока мне хотелось сохранить между нами расстояние. От такого поцелуя один шаг до дружеского рукопожатия… Нет-нет-нет…
– Счастливо… – мы с Семёном выбирались на тёмную лестницу… Артём захлопнул за нами дверь и стало ещё темнее.
На улице Берлин мне сказал:
– Ты с Артёмом давно знаком? Он мне про тебя не говорил…
– Недели полторы… – ответил я, думая о том, как бы поскорее избавиться от ненужного сейчас фотографа.
– М-м… – промычал, что-то соображая, тот. Потом помолчал и добавил: – Насчет Артёма ты прав. Но плохой ты человек, Сергей, плохой… Мне туда! – и демонстративно стал переходить дорогу в неположенном месте.
Сперва я думал – о чём это он? Об Ольге? Об Артёме конкретно? Просто ничем конкретным не обусловленная неприязнь? Тем более что в чём-то, в тех же сальных шутках и губах его, она была взаимна. А потом оставил это. Я ведь и вправду – плохой человек… Делаю всё (всё?), чтобы склонить жену моего приятеля к… И вот тут я не находил подходящего слова. Потому что до этого я только и делал, что склонял… женщин и существительные… существительные к сожительству, женщин – к быстрой любви и к «немного ниже»… Иногда я сожительствовал с женщинами. Порой склонял к быстрой любви существительные. Тогда получались неплохие стихи…
Пока не находилось подходящее слово, я заменил его словосочетанием «быть рядом»… И то, что употреблял его я в самом широком смысле, предполагало близость глаз, кож, душ…
Такая близость вроде бы и называется любовью?
Я знаю, что «любовь» – это не со мной, потому что в романах. И потому, что к любви романной слишком беспечно цепляют слово «безответная», отчего любовь становится ещё и чистой. А ведь она, любовь, – это в первую очередь потребность. Почему же потребность может стать лучше оттого, что она безответная? Ни шкворчащие за витриной магазина курицы на вертеле, ни сдобные булочки не сделают вас чище, будучи несъеденными.
Я думал о любви ответной и, наверное, грязной, раз так… Но разве это «любовь»?
Роковая колбаса
Слова Берлина меня всё же задели… Неприятно быть неприятным даже малознакомому человеку. Как пишут на сокосодержащих напитках – «допускается наличие осадка».
Покинув ещё не опустевший в вечернее время метрополитен, я шёл к себе с надеждой не обнаружить у себя в комнате хозяина. В ближайшие хотя бы две недели мне вообще не хотелось его видеть. Придут краснодарские деньги – заплачу. Надо будет ещё чем-то питаться, но это пока отставим в сторону… Был бы день – пища найдётся! Пока же колбасы и паштеты, которые мне так и не пришлось выложить у Верховенских, вполне могли поддержать и даже разнообразить мой спартанский рацион.
Свернув с Невского, я почувствовал безлюдие и безветрие. Дома здесь сплотились друг с другом так, что не пускали ветер с Невы, а Невский был слишком близко, чтобы вдруг наворотить рядом каких-то едален и пивален. Всё – дорогое и бездельное, нищее и оборванное – стекало, как по стенам жёлоба, в русло Невского.
Громко и тесно от автомобилей здесь было только в часы пик – отсюда уезжали работать и сюда, уставшие, возвращались в свои норы. Остальное время кварталы оставались пустыми.
Пусто было и сейчас.
В ночном магазинчике, к которому мне было по дороге, надо было купить сигарет. Чёрные артёмовские я оставил у него на столе. Свой «Космос» выкинул по его прихоти… Зря.
Я поднялся по каменным ступенькам, звякнул дверной колокольчик. Двое не выпивших ещё парней считали мелочь у прилавка, вполголоса матерясь.
– О, уважаемый… – оживился один из них при виде меня. Отёкшее лицо, коричневые пеньки зубов…
Я понял, что они не отстанут, – близнецы по несчастью.
– Три рубля, уважаемый… – один из них так и стоял с мелочью в горсти, как будто просил подаяния. Под-даяния.
Дважды уже уважаемый, я обречённо порылся в заднем кармане. Звякнул мелочью, пренебрежительно не глядя в их сторону, бросил в ладонь монеты. Потом достал купюру.
– Две пачки «Космоса», – говорю продавщице.
Забрал сдачу, убрал в карман куртки сигареты. Повернулся к выходу. За моей спиной счастливые обладатели необходимой суммы покупали пойло…
Я прошёл едва ли не квартал, когда они меня окликнули.
– Эй, стой… – я не обернулся, отчаянно понимая, что с рюкзаком, набитым ресторанной снедью, убежать от них я не сумею.
– Стой, я сказал… – громче и грубее.
Я повернул голову. Продолжать делать вид, что эти слова ко мне не относятся, было бы глупо. «Всегда есть вход – а вот выход?» – всплыли сегодняшние слова Артёма, и я усмехнулся.
Если после первого окрика я надеялся, что они попросят сигарет, то после второго я эту надежду бросил, думая только о защите.
Они торопливо нагоняли меня. У того, что просил у меня мелочи в ночнике, в кулаке торчала бутылка, и я сосредоточился на бутылке, думая, как увернуться от более чем вероятного удара. К тому же держал он бутылку по-боевому, за горлышко. Мне и в голову не пришло, что никакой похмельный субъект не будет рисковать целой бутылкой ради сомнительных перспектив.
– Ты чего, богатый?
Мог бы и не спрашивать. Или спросить что-либо более изысканное. Без разницы. В долю секунды, пока я ждал бутылочного замаха, второй, который пониже, вдруг ударил меня в нос. Хлынула кровь. Я устоял на ногах, но тут же получил второй, точный удар в зубы… Тяжёлый рюкзак не давал никакой возможности к самообороне.
Добивали они меня ногами, когда я упал. Подробностей, конечно, не помню… Может, и к лучшему! Сознание надёжно и правильно оставило меня, предохраняя рассудок от лишних некрасивых впечатлений.
Очнулся я через несколько минут. По крайней мере, так это было по ощущениям. Пробежал языком по зубам, как по клавишам рояля пальцем. Облизал окровавленные губы, почувствовав на них шершавый песок. Сел на асфальте, мимоходом заметив отсутствие рюкзака…
Меня вырвало. При этом у меня невыносимо кружилась голова, и вставать на ноги мне было страшно. Мне казалось, что я не удержусь на двух точках опоры…
Было очевидно, что они залезли в задний карман, где была крупная пачка мелких купюр, которая произвела на грабителей впечатление. Но купюры были мелкие, а глаза у жадности вполне соразмерны с глазами страха. В общем, взяли они чепуху. Записная книжка, банковская карта во внутреннем кармане куртки были на месте. Жаль было рюкзак и его судьбоносное содержимое с непростой, как оказалось, судьбой.
Я попытался улыбнуться. Приключения-то продолжались…
Я сидел на дороге, не решаясь встать. Мимо проехали уже три или четыре автомобиля, но им не было никакого дела до разбитого в кровь человека, сидящего на асфальте.
Потом наконец показались прохожие. Дама с собачкой, оказавшаяся душечкой. Потому что подошла и спросила:
– Вам плохо?
Её не собачка, но вполне состоявшаяся дворняга шумно обнюхала то, что ещё недавно собирался переварить мой желудок. Лизнула раз и другой…
– Фу! – в один голос оживились мы – я и хозяйка.
И только потом я ответил:
– Не очень… – в смысле «не очень хорошо». Она поняла. Престарелая хозяйка престарелой собаки. Просто упавшим я, наверное, не выглядел. Да и на пьяного похож не был, хотя немного-то выпившим – да, был…
– Помогите, пожалуйста, встать… – я протянул ей левую, не окровавленную руку.
Медленно поднялся… Покачнувшись, привалился к стене дома, запачкав кровью стену.
– До дома дойдёте? – тревожилась дама, но по её лицу да и по вопросу, предполагающему ответ утвердительный, я видел, как ей хотелось уйти. Да и до какого дома она предлагает мне дойти? Может, я вообще живу в другом городе… Хотя до дома-то я уже дошёл. Вот стою, подпирая плечом окровавленную стенку. Надо её отпускать…
– Да, спасибо, – ответственно произнёс я и не двинулся с места. Третьей и надёжной опорой оставалась стена.
Она, подобрав собаку на короткий поводок и приговаривая: «Ну пойдём, Боня», все ещё оглядываясь, двинулась по улице дальше.
Я тоже решил двигаться. С трудом отлепился от стенки. Сделал пару неуверенных шагов. Решил вернуться. Ища опоры спиной, не рассчитал и с каким-то детским удивлением понял, что сейчас упаду. Потом задумчиво падал…
Опять собака, шумно нюхающая лицо…
Дама, уже в сопровождении незнакомого мужика, помогающие мне сесть. Его низкие, пахнущие табаком, усатые слова:
– Погоди, я «скорую» вызвал…
– Алкоголь употребляли? – записывал молодой, с неряшливой небритостью доктор, когда мы сидели уже в машине.
– Немного, – оправдывался я.
– Да я вижу, – миролюбиво заметил он, дескать, не имеет на этот счёт никаких претензий.
Мы ехали удивительно долго. При том что какая-то больница находилась минутах в десяти ходьбы от моего дома.
Я спросил.
– Сегодня «Покровка» дежурная… – пояснил врач, рассчитывая, что я всё понял…
В приёмном покое пахло псиной. Да и сам приёмный покой был каким-то приёмным непокоем. Вокруг сидели такие же, как и я, покалеченные люди. У большинства из них на голове либо на конечности белели бинты… Среди покалеченных встречались выпившие. «Пятница», – почему-то подумал я.
«Ждите, к вам подойдут», – сказала мне синяя медсестра, уходя в кишку коридора и оставив меня в неудобном, напоминающем стадионные сиденья кресле. Я и ждал… Попытался разложить сложный и неприятный запах на составляющие. Человечьего в запахе было больше, чем собачьего. Немытое тело, хлорка, алкоголь… Плюс запах лежалых и мокрых тряпок, присущий заведениям такого рода. Так что на собак-то я зря… Особенно в вопросах алкоголя.
Тошнить меня почти перестало… Сохранялся только какой-то мандраж, сопровождающийся холодным, нетрудовым и липким потом.
Я закрыл глаза. Чрезмерное сейчас количество информации утомляло, хотя с закрытыми глазами я вдруг снова почувствовал тошноту…
Мне не хотелось, а главное – не удавалось сконцентрироваться на окружающей реальности, потому что реальность была сейчас чрезмерной. Слишком мрачная полутьма в коридоре, слишком яркий свет в его конце… Слишком шипящий шёпот сидевших через два стула от меня…
Я просидел около часа. Раза два или три вставал, чтобы спросить выходящую из кабинета медсестру о своей участи. Мне казалось, что мне хуже всех. Медсестра делала успокаивающий и отталкивающий одновременно жест:
– Посидите… Вас вызовут…
Посидел. Вызвали.
– Так… Это вы с ЧМТ? – вопросительно поднял на меня глаза врач. Он был ещё моложе первого, и у него изо рта пахло отвратительным сочетанием зубной пасты и табака.
Оформляли меня минут десять – задавали вопросы, заставляли смотреть на молоточек, вверх-вниз, влево-вправо… Поставили в тупик вопросом о месте работы. Забрали верхнюю одежду…
Потом конспектирующая мои ответы медсестра поднялась из-за стола и, одёргивая халат, пригласила:
– Пойдёмте…
Мы вышли из кабинета и направились на свет в конце коридора. «Хорошо хоть не тоннеля», – подумал я.
За поворотом обнаружился лифт. Медсестра нажала третий этаж, и двери закрылись…
Молчать в лифте было неудобно. Тем более что медсестра была едва ли старше меня. Я предположил, что надо что-то сказать, но, вспомнив про разбитый нос и плохо ощутимые, чужие губы, предпочёл помолчать.
Лифт выпустил нас в ещё один коридор с синеватым, моргающим от ламп дневного света освещением. Слева от меня, в торце, находилась дверь с невесёлой надписью «Реанимация». Весь же коридор с рядком одинаковых дверей уходил направо, туда, где сейчас горела лампочка поста дежурной медсестры. И дальше опять – коридор с дверями…
– Посидите…
«Меня вызовут?» – хотел пошутить я, но вовремя осёкся…
Медсестра убежала на пост, я же присел на такое же стадионное кресло.
Была ночь, и в больнице было тихо. Я подумал о том, что уйду отсюда завтра, как только мне станет немного лучше.
Я пошёл по рукам. Медсестра снизу передала меня дежурной медсестре, и та в свою очередь, подходя ко мне, тоже позвала:
– Пойдёмте…
Мы зашли в палату, и она принялась стелить бельё, не включая свет. Достаточное его количество доходило до нас из коридора.
Я разделся, положил вещи на тумбочку. Лег. Из коридора раздавался непонятный грохот. Как будто бы среди ночи по больнице проезжала телега из универсама. Дверь в палату по каким-то соображениям не закрывалась, нарастающий грохот так же ровно укатил дальше по коридору и исчез…
Я долго не спал, слушал, лёжа с закрытыми глазами, больницу. Предполагая услышать что-то страшное, боялся и напрягал слух, однако ни стонов, ни криков не доносилось до меня. Только храп и сопение спящих больных да изредка нарушающий эту монотонность стук каблучков дежурной сестры в коридоре…
Я уже вспоминал о том, что сознание хранит нас от шоковой терапии. Просыпаясь, уже знаешь… Я вот только ожидал, что перестанет болеть голова. В комплекте с головой болело ещё и лицо, особенно при улыбке. Но пока повода для неё не находилось, и лицо доставляло мне меньше хлопот.
Я вылез из-под одеяла, огляделся. Рассеянно поздоровался со всеми и одновременно ни с кем конкретно.
Надел джинсы и сел на кровати.
Развозили завтрак. Повариха или нянечка с огромным половником черпала в тарелки жидкую манку. Потом каждый из больных подносил к ней свою чашку, и она наливала в неё какао из больших алюминиевых чайников. Чашки у меня не было, а манку я не хотел… Остался без завтрака.
– А ты чего? – попытался заговорить со мной огромный пожилой дядька, всё утро фыркавший возле умывальника.
Я отмахнулся. Я не знал, как быть дальше…
Начали разносить лекарства. Потом капельницы. Когда сменившая ночную, пожилая теперь медсестра назвала мою фамилию, я не сразу сообразил что к чему.
Поэтому она повторила:
– Степнов… Кто Степнов?
Я встал.
– Забирай… – и указала глазами на что-то, стоящее за дверью.
Я подошёл. В коридоре меня ждала тренога для капельницы. Не успел выспаться, а обо мне уже проявляют заботу… На кусочке пластыря, приклеенном к металлу треноги, значилась моя фамилия, написанная синим карандашом.
– Давай руку, герой, – медсестра повесила на треногу мешок с жидкостью, надела иголку, насмешливо посмотрела на меня.
Я лежал. Потом поднял руку так, чтобы ей был доступен локтевой сгиб. Почувствовал лёгкий укус иголки.
– Всё. Лежи…
Я лежал и думал о том, что сегодня я не покину больницу. Во-первых, потому, что с таким лицом являться к Оле на спектакль я просто не имел права. Было ещё и во-вторых… Во-вторых, мне неудобно и даже неблагодарно было бы сообщить медсестре, что я хочу уйти. Тем более после того, как она назвала меня героем. Да и, объективно говоря, состояние несколько не то, чтобы сбежать козлом из этого заведения.
Когда сестра освобождала меня от иголки, я спросил:
– И чего мне теперь делать?
Она посмотрела на меня немного странно и ответила:
– Я не поняла…
– Мне, – говорю, – сколько здесь лежать надо?
– В понедельник доктор придёт и всё скажет, – ласково заговорила она. – А ты бы лучше своим позвонил, пусть принесут тапочки, чашку… Ложку… А главное – паспорт!
– Тапочки… – повторил я и вздохнул. – У меня нет тапочек. И своих тоже… – превращая ответ в трагедию, заключил я.
– Ну я не знаю… – неловко попыталась вывернуться сестра из неудобного положения.
– Ладно, – пожалел её я. – Позвоню кому-нибудь попозже…
На другой стороне палаты поднимался курить парень с забинтованной головой. Он прихрамывал. Я вспомнил, что неплохо бы и мне покурить. Спросил у него сигаретку.
– Пойдём, – дружески отозвался он, скорбно вздохнул и протянул мне сигарету, которую он разминал в руке.
– Курилка вон там… – показал он рукой на деревянную дверь, густо измазанную рыжей краской.
– Сергей, – представился я.
Он не глядя пожал протянутую ладонь, опять вздохнул:
– Михаил…
Разоблачение
Меланхоличный Михаил отсыпал мне сигарет на тот случай, если я захочу курить тогда, когда он будет спать. Фыркавший у умывальника дядька – Алексей, кажется, – отдал мне стакан, из которого по утрам он полоскал рот. У живущего у окна старика был кипятильник…
Разговаривать с ними мне не хотелось. Я вдруг заметил, что уже в первый день пребывания в затворничестве у меня стала происходить переоценка… Не ценностей, нет… Вряд ли покурить, приоткрыв окно на мой балкончик, является ценностью. Или замусоленная книжка с женскими детективами, какую я на воле и в руки-то не возьму. Здесь же – полистал… Потом увлёкся. Тут бы и Югин сошёл за счастье!
Последние годы я стал замечать, что занимаю себя словами. Где бы я ни находился в безделье – метро или какие-то присутственные места, – я нуждался в чтении. Если под рукой не было книги или газеты, иногда я довольствовался рекламными объявлениями, надписями на табличках, бутылочными этикетками…
Сейчас же мне в руки попала пусть и замусоленная и замусоренная ненужным смыслом, пусть не полноценная, однако полновесная книга.
Сквозь напечатанные слова было даже легче размышлять. Читать одно и параллельно думать себе свою неторопливую мысль…
То, что я оказался здесь, – это, конечно, очень обидно. Вдвойне обидно то, что я пропущу спектакль… Втройне обидно то, что в среду я должен позвонить Югину… Впрочем, до среды я ещё рассчитывал выбраться отсюда. В конце концов, держать меня здесь врачам нет никакой охоты…
Что ещё? Мне нужны были деньги – без них комфортно только в гробу, – сигареты… Тапочки… Пока я ходил по больнице в сапогах, с надетыми на сапоги полиэтиленовыми пакетами. Это отвратительно, неудобно… Даже мешковато как-то… И мне нужен был паспорт.
Паспорт у меня был, а тапочек у меня не было вообще, по дому я ходил босиком. Но за тапочки могли сойти летние кроссовки, которые были у меня дома… В любом случае тот, кто должен был мне всё это принести, вынужден был посетить вначале моё жилище…
Паша. Кому ещё было бы нормальным позвонить, как не ему… Вот только после его пьяной выходки мы так и не разговаривали… Очевидно, мне должно было хватить его нетрезвых, жалких извинений. А мне не хватило…
Я отложил книжку, стрельнул мелочи на таксофон у Михаила. Спустился в вестибюль и набрал Пашу… Я надеялся, что в утро субботы Паша позволяет себе роскошь побыть дома в одиннадцать утра.
Трубку подняли со второго гудка, но я рано обрадовался. Трубку подняла Пашина жена.
– Пашу будьте добры… – уже без первоначального энтузиазма попросил я.
– Его нету… – за этими словами явственно скрывался какой-то подтекст…
– А когда будет? – произнёс я с нажимом.
– А я не знаю… – подтекст выпирал ещё объёмнее. В подтексте слышалось что-то вроде «может быть, ты знаешь?».
– До свидания, – я вежливо и холодно распрощался. Семейная ссора, видимо, приобрела затяжной характер. Я надеялся, что на меня это не распространится… Как же я ошибался!
Распрощавшись вежливо и холодно и повесив трубку, я понял, что следующим претендентом на посещение меня в больнице является, конечно, Артём. Можно было набрать ещё пять или шесть номеров малознакомых знакомых… Того же Супруна, например. Но мне не хотелось быть им обязанным. Я не стану давать Славе поводов для сближения. Это слишком чревато несанкционированными попойками на моей жилплощади.
Набирая номер Верховенских, я надеялся, что дома будет Артём – что-то объяснять Ольге я бы не стал. Да и вообще проблемы и задачи надо отделять одну от другой, чтобы властвовать над ними. Сейчас проблемой была больница – не надо примешивать к ней разные платонические вещи…
– Аллё, квартира Верховенских, – послышалось его дурашливое и картавое приветствие.
– Артём, – позвал его я.
– Ну? – получил ответ-вопрос.
– Слушай, я в больнице… – я взял паузу в несколько мгновений, чтобы послушать реакцию.
– Ну! – деловито торопил он меня. В смысле – «продолжай».
– Мне тапочки нужны, – жалобно, сквозь смех, промямлил я. Потом всё-таки прыснул в трубку.
– Так! Подожди, писатель. Про больницу я понял. Тапочки тебе, я надеюсь, не белые? Ты вчера нарвался, что ли?
– Слишком много вопросов, – отрезал я, – у меня мелочи не хватит. Со мной ничего страшного. Мне нужны тапки, деньги… Сигареты… Если тебе не сложно…
– Ты в какой больнице? – пытал меня он.
– В Покровке, – это было всё, что я знал.
– И где эта Покровка? Я не то чтобы специалист по больницам…
Я, к своему стыду, не знал ничего лишнего.
Прикрыл ладонью трубку, зашептал стоящему в телефонной очереди мужику в спортивном костюме:
– Вы не подскажете адрес больницы?
– Большой, восемьдесят пять…
Я с какой-то нехорошей догадкой повторил всё это Артёму, и догадка оправдалась.
– Большой – чего?
– Чего? – переспросил я.
– Чего! – подтвердил Артём. – ПС или ВО… – он даже не хотел подкалывать меня. Уточнил.
– ПС или ВО? – переадресовал я вопрос мужику, не задумываясь над смыслом аббревиатур.
– Молодой человек, Васильевский, – вылупил он на меня глаза. Вот что означало ВО…
– Совсем уже, – бормотал непонимающий мужик, похлопывая по колену свёрнутой в трубочку газетой.
– ВО, – сообщил я Артёму. – Тут говорят – «совсем уже», – проговорил я так, чтобы мужик услышал.
– Конечно, совсем, – подтвердил Артём. – У тебя размер какой?
– Я тебе ключи от дома дам. У меня там старые кроссовки…
– Я говорю – размер какой? – повторил он устало. Как будто бы я был непонимающим ребенком.
– Сорок шестой…
– Мля, ну и лапа, – отвлёкся он. – А роста в тебе сколько?
– Тебе зачем? – испугался я. Может, ещё больничный балахон мне привезёт…
– Гроб тебе закажу, – расхохотался он. – Ладно. Жди… Сигарет – тебе блока хватит?
– Спасибо, – даже растрогался я.
– Да пока не за что, – рассмеялся он.
Когда я отходил от автомата, мужик в спортивном костюме поглядел на меня косо и пристально.
Мой новый знакомый, товарищ по несчастью и перекурам Михаил был фигурой замечательной. Хотя бы тем, что ни о чём не спрашивал. Наверное, можно было обронить в разговоре мимоходом: «А я, знаешь ли, с Марса», и он благородно принял бы сообщение как факт. Более того, потом спросил бы что-то наподобие: «А как там у вас на Марсе с сигаретами? – и, получив ответ, насупил бы брови: – Вот ведь, а!»
Сам рассказывал нехотя, хотя если уж рассказывал – то с жаром. Разгонялся в рассказе долго.
Я его спрашивал:
– Мишка! Как тебя угораздило? – у Михаила случился микроинсульт.
– Да, – нехотя начинал он, – упал.
– А-а, – реагировал я, предположив, что Михаил просто не хочет рассказывать подробности травмы.
– Упал, – продолжал он, – по пьяни…
– Ну да, – подтверждал я. Мол, по пьяни – да, такое возможно.
– С высоты… – тянул он.
Я просто кивал.
– Пятого этажа, – вдруг заключал он и тут же, с жаром: – Рассказать, как это было?
Первоначальная меланхоличность слетала с него мгновенно. Он рассказывал – я же искренне веселился.
Возвращаясь из курилки, я услышал голос Артема в палате.
Артём по-хозяйски сидел на моей койке, уперев в колени острые кости локтей, скинув свою «Алабаму»…
– О-о-о! – отреагировал он на мою разбитую физиономию. – Ну что, писатель… Рассказывай, как тебя сюда угораздило… – поприветствовал он меня. – На, – он протянул мне два бумажных пакета с верёвочными ручками.
Я взял пакеты, поставил их на тумбочку.
– Привет! Покурить спросили…
– Что, так и сказали – покурить?
– Ну почти… – мне не хотелось вспоминать подробности. Вспоминая их, я всё время возвращался к мысли о том, что надо было делать, чтобы избежать побоев. И приходил к выводу, что надо было бросать рюкзак и бежать. Или бросать и защищаться… В общем, всё понятно было только с рюкзаком. А вот на вопрос – брошу ли я рюкзак, если такое повторится, я отвечал себе упрямое «нет» и не мог сказать почему!
– Из боевых потерь – рюкзак со жратвой и сотрясение мозга.
– Кости целы?
– А что с ними будет…
Артём указал глазами на пакеты:
– Давай-ка померь. А то менять придётся.
Я заглянул в пакет побольше. На его дне помимо апельсинов и кефира обнаружил свёрток…
Я развернул хрустящую целлофановую упаковку. Ещё пахнущие магазином обуви, резиной и кожей, мне на колени выпали новенькие фирменные тапочки для бега. Изящные даже в сорок шестом варианте.
– Ну померь, – подначивал Артём. Так, будто сам получал удовольствие от примерки тапочек.
Я всунул ноги в лёгкую обувь. Затянул шнурки.
– Скороходы… – констатировал я. Несмотря на ещё не ушедшую головную боль, мне захотелось подпрыгнуть.
– Устраивают? – прокаркал Артём, довольный, кажется, не меньше меня.
– Сколько? – зная ответ, спросил я. Зная ответ и зная, что ответ этот будет мне неприятен.
Сейчас было очевидно то, что ещё вчера казалось мне какой-то постыдной мыслью. Мыслью-ошибкой… Вместо того чтобы испытывать благодарность к птицынским поступкам, я, о ужас… Чувствовал отторжение! Отторжение, грозящее перейти в слово созвучное, из которого выбраться будет ой как сложно… Отвращение…
Я ощущал себя птицынским проектом. По крайней мере, до тех пор, пока я не сделаю что-то неудобное. В меня удобно вкладывать деньги, а точнее – оставшуюся от красной икры сдачу.
– Заработаешь – отдашь! – подарил он. И кроссовки, и фразу. Хорошо так: с барского плеча в калашном ряду…
А что если заработаю? Ведь отдам – с лихвою отдам. Хотя процент удачного капиталовложения в меня и минимален…
Во втором пакете оказался блок дорогого «Кента», яблоки. Новая кружка, которую я даже запамятовал попросить.
– Я сам с грыжей осенью лежал. Знаю, как без чашки обломно… Курить пойдём? – предложил он и протянул мне чёрную сигарету из тех, что курили накануне.
– Ну пошли, – отвечаю.
По прошествии десятка минут, проведённых с Артёмом, отторжение улетучилось, поддавшись его, Артёма, обаянию, и сменилось привычной и куда более комфортной благодарностью. Обладая благодарностью, я хотя бы не чувствовал противоречий.
Напоследок отдал ему ключи. Назавтра он пообещал принести паспорт. Я объяснил Птицыну, где его искать…
– На вот ещё, – вспомнил он, уходя. Залез во внутренний карман куртки, достал блокнотик для записей и дешёвую шариковую ручку с синим колпачком.
– «Паркера» не было… – рассмеялся сдержанно. – Всё, писатель! Выздоравливай.
– Оле привет, – выдавил я.
– Да у неё сегодня спектакль. Придёт поздно и в цветах. Я сейчас тёщу меняю…
– На кого? – попытался пошутить я.
– На себя. С Венерологом сидит!
«Он ушёл, весь широкоплечий и интригующий в своей “Алабама”-куртке, с упругим, как грудь его жены, кошельком… Уверенный, как мощномоторный катер в маленькой речушке…» – это были первые слова, которые я записал в блокнотике. Он производил на меня впечатление, это я готов был признать и даже записать…
А потом ко мне пришёл милиционер. Пришёл неожиданно даже тогда, когда я его ожидал. О неизбежности этого посещения мне поведал Михаил.
Милиционер был молод и поэтому вежлив. Задавал формальные вопросы. Попросил описать нападавших, и я по неизвестной причине сделал это достаточно скупо, хотя запомнил и того и другого хорошо. В моём окружении, да, кажется, и во всей стране вообще как-то не принято стучать. Хотя, если разобраться, стучать на кого? На двух грабителей, ни за что отлупивших меня на пустой улице? Тут и слово «стучать», по-моему, неуместно. Может быть, милиция, как и их оппоненты, у нас тоже не в чести? Или всему виной бесперспективность дачи таких показаний? Скорее, всё вместе.
Так или иначе, узнать и идентифицировать моих злоумышленников можно было только по росту. Один побольше, другой, соответственно, поменьше…
И я, и милиционер облегчённо вздохнули, когда ненужные мучения кончились.
Он поправил фуражку, пожелал мне выздоровления. Унёс мои показания в кожаной папке. На показаниях я поставил свою подпись.
После посещения меня Артёмом день укорачивался быстрее. Окна палаты выходили на маленький двор и соседний, ещё один больничный корпус; лишённый солнца маленький двор мгновенно стемнел, и оттуда сквозь приоткрытое окно тепло сквозило запахом нагретого асфальта. Этот запах присущ определённому времени года. Здесь, в Петербурге, он ярок только безлиственным, тёплым апрелем, когда весна ещё не проросла зеленью и запах зелени не перебивает все остальные…
Бездельные, мы с Михаилом шатались из курилки и обратно. В одно из таких возвращений он произнёс, указывая глазами на надпись «реанимация»:
– Сюда лучше не попадать…
– А то, – подтвердил я.
– Тут по ночам покойников оттуда вывозят. Тишина, а дверь в палату открыта и слышно…
– Что слышно? – произнёс я и почувствовал, как во рту появился металлический вкус страха.
– Знаешь в больших универсамах корзинки на колёсиках? Вот такой звук. Носилки выкатывают.
Я удивился, насколько точно его впечатления совпали с моими.
– Бр-р-р, – честно поёжился я.
– Ну, – согласился он. – Я в первую ночь отлить пошёл, потом возвращаюсь, а они мне навстречу…
– Кто они? – не понял я.
– Кто! Санитар носилки перед собой катит. Всё как положено, вперёд ногами…
Ночью я опять не мог заснуть. Всё вслушивался в движение в коридоре. Кто бы мог подумать, что местный Харон пользуется обычной коляской из универсама.
Утро воскресенья ознаменовалось овсянкой и снова капельницей. Артём обещал принести документы после часа. Какое-то время мы с Михаилом уничтожали сигареты. Потом я читал слова. Сложенные в предложения слова теряли привлекательность.
Ещё со вчерашнего дня я чувствовал в себе непонятную тревогу и не мог объяснить природу этой тревоги. При этом я чётко знал, что связана эта тревога с сегодняшним посещением моего жилища Артёмом.
Взвесив все причины этой тревоги ещё вчера, я обнаружил их безосновательность. И вроде бы успокоился. Но сейчас, по пришествии мудрого утра, тревога опять поселилась внутри.
Что-то я недоглядел… Но ведь не надкроватная же девица с раздетыми розовостями тому виной… И вдруг меня ударило. Девица! И не надкроватная! Ударило тогда, когда уже и сделать-то ничего нельзя.
Билет!
Билет на спектакль лежал у меня в столе вместе с паспортом и другими бумагами. Не заметить его, доставая документы, конечно, было нельзя!
Я, как утопающий, схватился за соломинку сигареты. Проигнорировал окрик Михаила:
– Ты куда? Только курили…
Меня бросило в жар и холод одновременно. Я мог найти сотни оправданий этому билету, но только лишь в том случае, если бы я не сидел у Верховенских весь вечер пятницы. Иначе получалось, что я купил билет и намеренно не сказал об этом Артёму, зная, что на спектакли жены он не ходит. Я не мог поверить в такую несправедливость. И даже не признавался себе в том, что то, что получалось, было абсолютной правдой.
На что я мог надеяться и что бы мог придумать? Придумать – уже ничего. Звонить Артёму было уже поздно. Наверняка он уже в дороге. А если даже и нет – что я могу придумать? Мямлить в трубку, что паспорт не нужен? С чего? Не сегодня… А когда? Значит надо придумать нечто невероятное. То, во что можно поверить, хотя бы и с глубоким натягом.
Рыжая дверь курилки приоткрылась, и я вздрогнул. Как будто был застигнут за чем-то постыдным, пусть даже это постыдное было только у меня в голове. А потом, оглядываясь в низком помещении, на порог курилки ступила Оля.
Есть только вход
– Привет, – она смотрела открыто, с ласковым вызовом, мне в лицо, и улыбка растягивала яркий приторный рот, обнажая зубы.
– Взаимно, – неловко произнёс я от неожиданности.
Она ладонью отряхнула скамейку рядом со мной, села боком.
– Серёш, есть сигареты?
Красилась она ярко, и ей это шло. Более того – это каким-то образом выдавало в ней актрису.
Молча я дал Оле сигарету, и когда она приблизила лицо к зажигалке, торчащей в моём кулаке, я услышал её запах. Даже не один – Ольгин запах состоял из множества запахов, где я угадывал немного духов, немного апрельской прохлады, непонятный горький запах свежесрезанных цветов.
Прикурив, она выдохнула вверх синеватую струйку…
– Артёмке не говори, – вздохнула, указывая взглядом на сигарету.
Так между нами появилась первая тайна.
– Арникой надо мазать, – указала она на помятое моё лицо. – Я тебе паспорт принесла. У Артёмки дела, он меня к тебе выгнал… – прозвучало двусмысленно.
– Ко мне ты заходила? – ещё не веря в удачу, спросил я.
– Да-да-да, Серёжа… Ну у тебя и баба висит… – улыбнулась она.
– Да я не про бабу, – если она видела билет, то и скрываться не было смысла. Если же вдруг нет – то и суда нет, как говорится…
– А-а! – она зажала сигарету губами, полезла в сумочку. Долго там что-то перекладывала, потом вытащила картонный квадратик.
– Я тебе поменяю. Тот я забрала, а этот вот – держи. Правда, на два лица…
Проходка – догадался я. В другую мою ладонь Ольга сунула паспорт. Потом ключи.
– Спасибо… – я не знал, что говорить, потому что говорить я не мог. Я слышал её горько-сладкий запах и голос, но её лицо было так близко, впервые её лицо было так близко, и мне делалось страшно, и в груди замирало оттого, что я могу её поцеловать.
– И что ты подумала? Когда увидела билет? – спросил я, когда понял, что она на моей стороне и что вышло всё как нельзя лучше.
– А что я могла подумать? – просияла она. – Подумала, что вот в больницу попал не вовремя… И ещё: хорошо, что так получилось. Что ЭТО не нашёл Артёмка…
– Да, – откликнулся я.
– Ты мне обещал про осу рассказать. Я пришла, и я готова слушать, – съехала она с недружелюбной темы.
И я рассказал ей всё: рассказал про тоскливую смерть Осы и про Катю. Про Осиного дядьку и про то, как я оказался в Петербурге.
Она слушала, не перебивая. Кивала головой, попросила ещё сигарету. Курила, выдыхая дым в потолок.
Раза три в курилку заходили люди, и я замолкал. Мы с ней сидели тихо, как заговорщики, и смотрели друг на друга. Зашедший курильщик понимал, что помешал, и поэтому всякий раз курил торопливо, не глядя на нас. Он выходил, а мы улыбались ему вслед.
Когда я наконец закончил свою историю, не сгоняя с лица задумчивого выражения, она произнесла:
– С Катей-то ты поступил жестоко, Серёш…
– Жестокость была ответной, – парировал я.
– Я, когда за Артёмку замуж выходила, тоже хотела сбежать из-под венца… Дура была, Настасья Филипповна…
– От Артёма? – задал я глупый вопрос.
– Ну а от кого? – ответила. – В мальчика была влюблена… Ай! – она смахнула ладонью мысль, как ненужную слезу со щеки.
– В… – я пытался вспомнить имя, рассказанное мне супруновской подругой Татьяной. – Ро-зи-на… Да?
– А… Уже знаешь? Артёмка рассказал? – смутилась она.
– Нет. Твоя подруга, Татьяна. Они с Супруном…
– Подруга? – осторожно слетело с её губ. Так, будто она не хотела отпускать слово. – Нет, Серёш, знакомая. Для подруг мы чересчур разные…
– А дальше-то что? – хотелось услышать мне продолжение о побеге.
– Дальше? Не сбежала, – засмеялась она. – Плакала потом неделю… Дура! – повторила ещё раз.
– Ну любовь… – неопределённо заметил я.
– Что любовь? Любовь моя об меня ноги вытирал. Любовь, – фыркнула она и опять усмехнулась.
– Время лечит, – сказал я что-то туманное.
– Да нет, не время… Мозги, – улыбнулась. – Вот мозги лечат. Любовь – это не только, прости, в парадной трахаться. Любовь – это ответственность.
– За траханье в парадной, – вставил я.
– Ну… И это тоже, – усмехаясь, закивала головой Оля пришедшемуся ко двору юмору.
Из коридора послышались звуки развозимого нянечкой обеда. Гремел большущий половник, брякали тарелки.
– Тебе надо поесть, – разволновалась вдруг она. Так, будто я и вправду был тяжело болен и мое выздоровление напрямую зависело от нескольких глотков супа.
– Пойдём лучше на улицу, – предложил я.
– Давай ты поешь, и мы пойдём.
– Давай я возьму нам апельсинов…
Я вошёл в палату, оставив Олю в коридоре.
– О, Серёжа, – оживился лысый Алексей, – к тебе девочка приходила. Красивая девочка. Она тебя нашла? Невеста твоя?
– Нашла, – вдруг бойко донеслось из коридора. И в этом ответе было согласие с тем, что «она меня нашла», и ещё немое одобрение следующего вопроса.
Мне же вдруг захотелось поделиться с Алексеем. Что вот ведь – не моя невеста, а чужая жена. Вместо этого я неопределённо кивнул, взял пару апельсинов из тумбочки…
– Ты так пойдёшь? А куртка? – «поешь», «так пойдёшь»… Слишком много ненужной заботы для первого свидания.
– Куртка где-то у них… Да и тепло уже.
– Ну пусть, – ответила.
Через установленный турникет, пройдя небольшой холл с двумя аптекарскими ларьками, мы вышли на улицу. Словно бы открыли двери подземелья.
Солнце било так ярко, что находящееся в тени больницы пространство перед входом казалось удручающим. Мы поспешили под прямые лучи. Завернули за здание, оказавшись в ветреном сквере.
Я протянул ей апельсин.
Мне показалось, что я мог бы поцеловать её в лифте – она бы не стала противиться. Но я этого не сделал, и я знал почему. Потому что всё, случившееся со мной и этими двумя людьми, может быть перечёркнуто одним неосторожным движением. У меня не было стопроцентной уверенности в том, что это будет правильно истолковано. Хотя из всего того, что я знал о женщинах, можно было сделать вывод…
Нельзя. Делать. Никаких выводов. Выводы делаются в голове или на бумаге. Проверять выводы на живых людях – гнусно.
Мы дошли до одиноко стоящей в ветреном сквере скамейки. Не сговариваясь, сели. Она чистила апельсин и кидала в стоящую возле скамейки урну яркие корки. Потом протянула апельсин мне.
– Ешь, ты же не обедал…
– Спасибо.
Её забота обо мне была дрессированной годами супружества женской заботой о мужчине, заботой жены о муже. И не принципиально, что на месте мужа сейчас был чужой ей человек. Это – почти как инстинкт.
Я разломил апельсин на брызжущие соком дольки, отправил одну в рот, другую протянул ей. Она долго примеривалась рукой, потом, не желая пачкаться соком, открыла рот и взяла апельсинную дольку прямо у меня из пальцев, даже немного задев пальцы губами…
– Ещё? – подбодрил я.
– Не-а, – засмеялась, жуя, – сигарету.
Периодически скамейку атаковал ветер. Он то налетал, дуя в водосточные трубы, отчего по скверу разносился тревожный и тоскливый, совсем не весенний гул, то надолго, казалось, насовсем затихал, оставляя нас греться на солнце и надеяться, что ветер больше нас не потревожит.
Когда ветер налетел вновь, Оля как-то картинно поежилась, и я обнял её за плечи одной рукой. Чтобы так же картинно спрятать её от ветра. Мы плохо сыграли давно выученные и оттого ставшие глупыми роли.
– Ну… – обречённо обратилась она ко мне, неизвестно что имея в виду. Её лицо приблизилось к моему…
– Какая дурь, – прошептала она и не стала убирать губы.
Есть только вход, Артём. Иногда есть только вход, и с этим теперь я не мог не согласиться.
– Тише, тише, – зашептала она, когда я стал давать волю рукам. Тише! Пусть я и действовал естественно, однако неосмотрительно…
Она отстранилась, переводя дыхание.
– Как-то всё быстро получилось, – смущённо пробормотал я.
– Наоборот. Ты не понял, что ли, Серёш?
– Не понял что?
– Глупые вы, ребята… Я же очень просто могла к тебе не идти…
– Я просто привык брать инициативу на себя, – немного самодовольно ответил я.
– Да. Но замужем-то я, – она почему-то улыбалась, и я не знал, как действовать дальше.
– Меня к тебе тянет.
– А меня к тебе, – перебил я.
– Подожди! – твердо прервала меня она. – Я сделала какой-то шаг. Шажок. Потому что очень его хотела сделать. Что делать дальше – я не знаю. Теперь я боюсь к тебе привыкнуть. А что будет, если Артёмка узнает, я и думать не хочу…
– Пока и не думай, – предложил я. Вряд ли Оля ждёт, что я прямо сейчас сделаю ей предложение.
– Я ещё колебалась бы, если б не билет, – призналась она. – Я увидела – мне чуть дурно не сделалось. Раз Артёмка не нашёл, думаю, значит, вот так.
– Да, – подтвердил я, – про билет я вспомнил за полчаса до твоего прихода…
– Ну и что? Отговорки придумывал?
– Нет. Не успел бы… Слепил бы что-нибудь при Артёме.
– Да, Артёмка такой… Слишком уверенный в себе и слишком доверчивый.
– Нет! – опять перебил я. – Это его уверенность делает его доверчивым. Вот он, например, уверен, что я ему не ровня. Отсюда и его доверчивость…
– Да! – подтвердила Ольга, хотя пояснять не стала. Да и не надо!
Вообще на этой стадии общение на уровне губ красноречивее общения на уровне того, что с них слетает. И я полез к Ольге за поцелуем…
Она достала салфетку, вытерла сбившуюся за контуры губ помаду.
– Потом подкрашу, – улыбнулась.
– А расскажи мне про побег из-под венца? – попросил я. Зачем-то мне нужно было об этом послушать.
– Да пожалуйста… Хотя стыдно! Очень всё просто. На четвёртом курсе я познакомилась с Артёмкой. И с Розиным уже полгода как не встречались. А он такой, Серёжа, был человек странный. На него смотришь – и его, прости за подробности, хочется. При этом целовать его – омерзительно. Как покойника. Вот такая вот нестыковка. Розин меня по каким-то приёмам возил, с друзьями знакомил. У него деньги всегда были. Он, знаешь, – она помолчала, видимо, взвешивая, сказать это мне или нет, – он даже спал со мной так, будто перекусывал на ходу… А Артёмка-то не такой, он домашний. Он естественнее. Да и умнее в сотню раз. Противно, когда за ум принимают коммуникабельность. С деньгами вообще легко быть коммуникабельным. Вот. А Розин старше был на два курса. К тому времени уже в Комиссаржевке работал. Мы и не виделись. В общем, Артём предложение сделал. Я согласилась. Но про Розина иногда вспоминала. Мне казалось, что Артёмка меня от него спасёт. Ой, дура, – в который раз повторилась она. – Ну и пошла в Комиссаржевку накануне свадьбы перед ним хвастать. Дождалась после спектакля. «Привет, – говорю, – я вот замуж выхожу». А он: «Зачем?» – «Как зачем», – недоумеваю. «У меня после тебя никого не было», – говорит. А я знаю, что ложь, Серёжа, да и ложь дешёвая такая… Но таю. Он меня под руку берёт, идём… «Тебе, – говорит, – плохо со мной было?» А я-то знаю, что плохо! «Нет, – говорю, – хорошо». А он там живёт недалеко, на Садовой. Ну вот, дошли до его дома, он мне и говорит: «Пошли зайдём!» Я тебе клянусь, почти пошла… И почему-то маму вспомнила. А она Розина терпеть не могла. В общем, я сама себя не помню, развернулась и пошла. Только бы, думаю, не окликнул…
Ну а потом рыдала в подушку. Потом вроде отошла. А потом вот свадьба. На Английской набережной. Платье там, фата… Артёмка при костюме. Так с тех пор его в нём и не видела. Выпили шампанского. И мне всё так вдруг грустно стало. Всё слова его в голове звучат: «Пошли зайдём». Я понимаю – с Розиным больше никогда ничего… Вот это «никогда» меня и ужасало. Замуж-то я почти ему назло теперь выходила, – она взяла длинную паузу, как будто раздумывая, что ещё из этого стоит рассказывать, а что нет.
– Да в общем-то всё, Серёш… Никто ничего не заметил. Я всё-таки не самая плохая актриса, – стрельнула глазами, разрядив в меня холостой взгляд.
– А потом?
– Что потом? – даже удивилась она.
– Как ты потом справилась?
– Я не справлялась. Просто Артёмка сделал так, что мне стало с ним очень хорошо.
– Это и есть любовь? – наивно спросил я.
– Конечно. Хотя ты, наверное, так не считаешь? Розин тоже так не считал. Он, наверное, до сих пор ждёт ту, которая за него готова жизнь отдать…
– А за Артёма ты готова?
Она грустно усмехнулась, посмотрела на меня как-то устало:
– Да! – многозначительно произнесла. – Готова! И не за красивые его глаза. А за хорошие дела…
– Ну за это мы жизнь отдаём с куда меньшим энтузиазмом, – подтвердил я. – А я, значит, на Розина похож?
– Нет.
– Да! Я тоже смог бы сказать тебе тогда: «Пошли зайдём».
Она обняла вдруг мою голову ладонями и шепнула:
– Скажи…
По её щекам текли невидимые клоунские слёзы…
С нами случилось непонятное объяснение непонятно в чём. Ведь не в любви? Объяснение в страсти? Словосочетание, не прописанное, кажется, ни в одной книге. Алогизм – как «хождение в наготе», например. Она сказала – «тянет». Вот и меня – «тянет», и сделать что-то с этим пока невозможно. Мне же пока и не нужно. Это ей, Ольге, ведь потом разбираться с мужем… Я ужаснулся, поймав себя на том, что мыслю, как незнакомый мне, но характерный персонаж по фамилии Розин. То-то и оно…
Когда Ольга ушла, а вернее сказать, высвободилась из моих рук и я вернулся в палату, мне было о чём поразмышлять.
Несколько раз приставал с расспросами Михаил. Пытался выяснить, жена это моя или подруга. Я зачем-то сказал «жена» и отмахивался от комментариев.
Мне казалось, что теперь я не смогу прожить без Ольги даже до выписки. Она будет сниться мне, и просыпаться я тоже буду с её именем. Я твёрдо решил уйти из больницы в понедельник. Мне было всё равно.
«Пошли зайдём», – должен сказать ей я. И будет всё так, как мы захотим. «Пошли зайдём», – как просто, а?
Я совсем не думал о том, что будет после! И об Артёме я тоже не думал. Я забыл о своих рассказах и Югине. Я ещё много о чём забыл! О том, о чём я пожалею впоследствии.
Иногда – очень редко – есть только вход! И это становится вдвойне очевидным тогда, когда о выходе ты даже не думаешь!
В месте встречи изменить нельзя!
Отпустили меня на удивление легко.
Я познакомился с врачом, высказал ему свою просьбу. Врач не стал чинить мне препятствий, потому как что-то другое чинить во мне не было необходимости.
Сперва он стучал молоточком по моему колену, потом медленно водил этот же молоточек перед моими глазами. Спрашивал, не болит ли голова. Голова не болела.
– Ладно, – вздохнул, – подпишите вот тут, – и сунул мне бумагу, которую я не стал читать.
Мне выдали куртку в целлофановом мешке. На нем, приклеенная скотчем, опять же значилась моя фамилия. Забрали паспорт и отдали через полчаса. За это время мы с Михаилом успели покурить и обменяться телефонами.
На этом настоял он, а мне было неудобно противиться. Я чиркнул его номер в записнушку, подаренную Артёмом. Из неё в отличие от моей, где я хранил нужные мне номера, можно было вырвать листочек безо всяких последствий.
Наконец ненужная волокита окончилась. Я пожал Михаилу руку, спустился на лифте на первый этаж. Вышел на воздух. На улице с помощью прохожих выяснил, где я нахожусь и как мне добираться до дома. В руке моей был неудобный пакет, в котором лежали привезённые Артёмом вещи. Я впервые пожалел о потере рюкзака.
Я возвращался домой после двухдневного отсутствия, и мне казалось, что я не был здесь гораздо больше, чем пара дней. Мне чудился мой домашний уют, чашка крепкого чая, ненавязчивая музыка… Для меня, например, ненавязчивая музыка – это Beatles. Хотя многие поклонники ливерпульцев обижаются на такой эпитет.
Ростки помидоров в пластиковых коробочках – тоже часть уюта. А воспоминания о вчерашнем дне – главная его составляющая. И мысли о дне завтрашнем – послезавтрашнем? – пронизаны сладким ожиданием. Пошли зайдём – зайдём! Теперь уж зайдём!
Я открыл входную дверь, щёлкнув язычком замка. Прошёл внутрь. В коридорной полутьме заметил стоящие носками к моей двери мужские ботинки. Видение домашнего уюта вдруг утратило чёткие контуры.
Прислушавшись, я обнаружил за дверью негромкое бормотание радио.
Внутри у меня всё сжалось. Паша опять грубо нарушал границы моего существования. Даже то, что он может оказаться трезвым и зайти ко мне с какими-то вопросами, не приносило должного облегчения.
Я приоткрыл дверь, как приоткрывают, наверное, завесу неведомого. Я не знал, чего ждать за дверью.
Паша считал деньги. Медленно обернулся в мою сторону, продолжая считать. Судя по мелким купюрам, которые он перебирал, его пошатнувшееся в пьяную ночь финансовое благополучие пошатывается по сей день. Хорошо хоть Паша перестал пошатываться…
Был трезв, но подозрительно непрезентабелен. За те дни, что я его не видел, он умудрился обрасти неприятной синеватой щетинкой, что было неудивительно, и сильно похудеть, что сделать в такие короткие сроки в нормальной жизни проблематично.
– Серый, – не обрадовался он мне, – привет!
– Привет, – озабоченно произнёс я.
– Слушай, Серый, – начал он, не глядя на меня, – тут такое дело… Короче, мы с Настей расходимся… – он замолчал, давая мне сообразить, чем мне грозят его семейные неурядицы.
Единственным, что не покрыла волна отчаяния во мне, было достоинство. Не перед Пашей же его лишаться, в конце концов…
– Понятно, – осторожно высказался я. Потому что мне было ничего не понятно. За апрель у меня было заплачено. Если он хочет меня выселить, пусть отдаёт мне часть заплаченных денег. Да и время на поиски нового жилья мне тоже не помешало бы… В общем, понадеялся, что он сам мне всё пояснит.
– Ну короче… – подбираясь к главному, опять замолчал. – Какое-то время поживём вместе. Ты ищи себе жильё, не торопись… За май я с тебя денег не возьму. А там – может, чего подвернётся.
«Нет», – хотел закричать я, но, вспомнив про достоинство, произнёс:
– Ну ладно, – произнеся это, вспомнил ещё и о том, что альтернатив у меня всё равно нет.
А между тем складывалось всё как нельзя хуже. Я готов был терпеть что угодно, да и жить с кем угодно тоже, но две вещи не давали мне смириться с обстоятельствами: писать что-либо в атмосфере общежития представлялось мне трудноватым, но главное – я уже не мог сказать Оле: «Пошли зайдём»! Тем более что Оля и Паша, по-моему, виделись. И уж по крайней мере слышали друг о друге… Тут – никаких компромиссов. Наше с Пашей жилище теперь для неё закрыто навсегда. Надо срочно что-то искать, ведь жизнь вдвоём непонятно с кем в съёмной квартире – выкинутое время и выкинутые деньги. Которых, кстати, осталось совсем мало. Помимо квартиры нужно искать работу. И это тогда, когда появилась Оля. Сказка про дудочку и кувшинчик!
Неудобства начались раньше, чем я мог предположить. Сложно представить, будто два малознакомых человека могут заниматься своими делами в одной маленькой комнатушке, хотя говорят, что раньше, после войны, всё было гораздо хуже. Говорят ещё много чего, а заниматься своими делами – невозможно.
Паша меня вообще раздражал. Стоило хвастаться модельной женой, чтобы потом быть изгнанным с таким позором. Ещё от него пахло! Не то чтобы неприятно, но сильно! Пахло чужим человеком, его потом, бельём, табаком. И это были отнюдь не безобидные Майкины ароматы, настоянные на туалетной воде. Запахи были агрессивны, как едкие лакокрасочные растворители. Пашу хотелось проветрить.
Что-то искать надо было срочно! Но деньги – деньги придут только в начале мая… А ведь там ещё праздники! «Вот сука», – думал я, оглядывая Пашу, и эта мысль тоже никак не способствовала мирному совместному проживанию.
Я буквально не знал чем заняться. Я не мог завалиться на диван, разложив на нём написанное. Не мог сесть за стол, потому что там чах он над пародией злата. Причём со златом было вроде совсем кисло. Это можно было определить по тому, как активно шарил Паша по карманам, выгребая мелочь.
Я полил свои помидоры. В задумчивости посидел на диване, глядя в одну точку. Потом естественным образом отправился на прогулку, зачем-то сообщив Паше:
– Я по делам.
Никаких дел у меня не было. Точнее, были, но для этих дел нужен был дом, которого я лишился по нелепой прихоти Пашиной жены. По прихоти человека, которого я видел один раз в жизни!
Мне было скучно, а главное, глупо кружить по району. Если дома было бы всё в порядке, в такую благословенную погоду сидеть в квартире я бы не стал. Но! Я бы знал, что в любой момент можно вернуться к своему одиночеству и оно принесёт не только удовольствие, но и пользу! Ведь каждый новый написанный рассказ приносит пользу, не так ли?
Всё это было так неожиданно, что я пока даже не горевал. Горевать я буду после осознания всего случившегося.
Ясно мне было одно: эксперименты с лёгкими деньгами окончены. Кубышка пуста! Да и за м-скую квартиру накопилось коммунальных долгов. Когда я отправлялся в Питер, на подсчёты у меня не было времени. И вообще неплохо было бы сдать и м-скую квартиру, если я собираюсь прописаться в Петербурге на долгое время. Однако чтобы её сдать, нужно как минимум появиться в М-ске… В моих планах этот пункт пока не значился.
В общем, на первое место неуклонно вставала работа, которую надо было искать прямо сегодня. Сейчас!
В ларьке возле метро я купил газету вакансий. Дошёл до знакомого скверика со множеством скамеечек за зданием Концертного зала. Скамеечки были частично заняты греющимися на солнце пенсионерами.
Я сел, раскрыл газету. И обречённо побежал глазами по объявлениям. «Требуется тестомес. Зарплата сдельная». «Крупная компания производит набор…» «Девушки. Работа за границей».
Я не тестомес! И уж конечно, не девушка… Выкинув всё лишнее в переносном, а потом уже в прямом смысле – в урну, я остался сидеть с двумя листами газеты, на которых значилось: «неквалифицированный труд».
Ох уж этот неквалифицированный труд! Даже для тестомеса нужна была квалификация, не говоря уже о девушках… Хотя им-то квалификация не помешает… Поехали!
Мойщик, упаковщик, грузчик. Расклейщик, раскрутчик, раздатчик. Вальщик, разливальщик, выпивальщик. Через некоторое время от «уменьшительных» суффиксов першило в горле, однако сделать карьеру на одной из этих должностей представлялось заманчивым.
Ещё были распространители! Чего – я пока не знал. Скрытых половых инфекций? А, рекламной продукции. Ну что же – я выписал несколько телефонов с необходимыми пометками. Вальщик так вальщик. Могу валять, могу валить… Дурака и лес – без разницы. Главное, чтобы последнее – не за казенный счёт… А так – пожалуйста!
Пора было возвращаться. До неприличия хотелось есть. В морозилке, ожидавшие меня почти три дня, хранились вожделенные сейчас котлеты.
Поесть, почитать что-нибудь час-полтора. Потом попытаться что-то написать… Я забыл про Пашу, а когда вспомнил – у меня испортилось настроение.
Дома его не было. За него в комнате дежурил его запах. В углу, под окном, валялась раскрытая сумка с его барахлом. На кровати – его домашние брюки, которые он не догадался повесить в шкаф.
Я знал – так будет всегда, и не тешил себя надеждами. Брюки же убрал и демонстративно привёл в порядок сбившееся покрывало. И опять поймал себя на том, что дружбы между мной и Пашей я не желаю. Одной нетрезвой выходки хватило для того, чтобы я начал относиться к нему с неприязнью. Не слишком ли?
Нет, казалось мне, не слишком.
Я торопливо поел, мне хотелось успеть хоть что-то. Выпил чаю, успел раскрыть книгу. Попытка наслаждаться чужим, думая при этом о своём, ни к чему не привела. Смысл слов терялся где-то по дороге от страницы до мозга. Я снимал глазами слова с бумажного носителя, как иголка испорченного, немого патефона… Я не мог сосредоточиться, всякий момент ожидая Пашиного прихода.
Выяснилось, что всё это – чужое. Комната, обстановка. То, с чем я свыкся за прошедшее время. То, что считал почему-то своим… Безосновательно, как оказалось.
Дом перестал быть домом только потому, что в доме добавился новый жилец! Дом перестал быть домом ещё и потому, что теперь в нём никогда не добавится новая жиличка. По этому случаю я готов был кусать локти…
Ситуация «есть где, но не с кем» сменилась на первый взгляд более прогрессивной «есть с кем, но негде». Я требовал у жизни хоть раз и дудочку, и кувшинчик! Неужели же я этого не достоин?
Плакат над кроватью издевательски дразнил меня розовостью плоти.
«В месте встречи изменить нельзя», – подумал я за Ольгу. Юмор спасал меня и в куда более критичных ситуациях. Не надо ныть! Но надо срочно что-то придумать!
Работа и волк
Артёму я не позвонил. Чувствовал себя глупо, когда думал, что к телефону может подойти Оля. Сказанное нами вчера иногда казалось мне сном. И даже сном – слишком смелым. Я думал дождаться спектакля – на подписанной Олей проходке значилась грядущая пятница, – но по своему нетерпению понимал, что соблазн связаться с ней раньше слишком велик.
Сейчас надо было заняться работой. Потому что, увы, кроме мышеловкиного сыра, бесплатного в этой жизни маловато и глупо было бы предполагать, что свидания с Олей не потребуют денег.
В тот день Паша появился поздно. С гитарой, усилком для неё, сумкой и раскладушкой. Какой-то приятель с автомобилем помог ему перевезти вещи. С таким набором он мог бы ночевать и на вокзале, подумал я.
Паша был хмур. Было видно, с какой душевной смутой ему даётся одиночество. Очевидно было, что по «модному дизайнеру» Паша тосковал. Хорошо хоть не пил. Тоска по женщине, помноженная на алкоголь, делает из мужчины бесполую тряпку.
– Есть сигареты? – спросил.
«А если нет – тогда что?» – подумал я. Потом почти произнёс: «Сходи и купи». Вымолвил же:
– На подоконнике.
И он принялся курить в комнате, не открывая микробалкона, на чём в моём жизненном укладе лежал запрет.
– Серый, пиво будешь? – вдруг оживился он.
– Нет, – говорю и чувствую, как в голосе проскальзывает недовольство.
– Ну как хочешь. А я нам взял по бутылочке… – вздохнул он, и мне даже вдруг жаль его стало. Позаботился ведь.
Он взял в руки привезённую электрогитару, не включив её в усилок. Сел с ней в уголок, открыл пиво. Вылил полбутылки в пасть одним махом, фыркнул, утёрся. Взял негромкий, замысловатый аккорд.
Когда я засыпал спустя часа полтора или побольше, он так и сидел, склонив голову к грифу, и только менял аккорды, отстукивая босой ногой такты. На полу стояла открытая, забытая бутылка. Музыка заменяла Паше алкоголь.
Проснулся я оттого, что он курил, даже не вылезая из… раскладушки. Интересно, не за эту ли его привычку его выгнала «модный дизайнер»? Будь я его женой – выгнал бы непременно!
В этот день я позвонил по четырём адресам. В двух из них попросили прописку. По третьему адресу было всё время занято. И только по одному телефону девушка, голосом на автоответчик похожая, после долгих и ненужных объяснений пригласила приехать. Я получил шанс сделаться разносчиком. Раскладывать по почтовым ящикам рекламные газеты.
Я так отвык проходить собеседования, что даже разволновался. Чуть не допил оставленное Пашей на полу пиво. Бритвой поцарапал скулу. Хорошо хоть остальные увечья лица перестали бросаться в глаза. Паша задавал мне вопросы:
– Серый, а оплата сдельная?
– Да, – отвечал я, одеваясь.
– А график?
– Пятидневка. С восьми до шести!
– Да ладно!
– А как ты хотел?
По поводу графика я не врал. Меня самого удивило это объявление. Зато и сумма, значащаяся там в графе «оплата» была более-менее привлекательна. То есть платили хорошо – но только тем, кто готов хорошо работать.
Контора их, до названия «офис», как было сказано в газете, никак не дотягивающая, находилась в выходящем на улицу подвале жилого дома недалеко от реки Карповки.
У входа в подвал курили несчастные люди. На их фоне я отличался молодостью. Может быть, даже привлекательностью, хотя о себе вроде бы нескромно. Зато честно.
– На собеседование? – указав на металлическую дверь пальцем, спросил я.
– Да, – миролюбиво отвлёкся один из несчастных и снова вернулся к тихому диалогу со вторым.
Я тоже закурил в сторонке. Смешиваться с несчастными было нельзя. Здесь, к счастью, у каждого своя дорога.
Пока я курил, металлическая дверь открывалась дважды. В первый раз оттуда вышел подросток с ещё мягкими, юношескими усами над заячьей губой и, очевидно, очень тяжёлой ручной тележкой, наполненной плотными пачками газет. Привычными движениями кантуя телегу, он поднялся по ступенькам. Потом половчее поставил её и, взяв за ручки, укатил прочь. Во второй раз из двери показался молодой ещё мужчина с экземной кожей – вероятнее всего, местный работник. Он закурил и тягуче сплюнул в консервную пепельницу, стоящую на подвальном бордюре.
Я выкинул окурок, спустился вниз и потянул на себя дверь.
Внутри находилось ещё несколько человек несчастливой наружности.
Короткий коридор упирался в дверь. За ней, как я понял, вершились судьбы ожидающих – кто-то получал работу, кто-то очередную порцию разочарования. Только вот что за мотив может найтись при отказе? Работа почтальона-тяжеловоза, как мне казалось, не требует особой квалификации. Физических усилий – да! Но справляется же с ней парень с заячьей губой…
Я сел на стул, прихватив газету, что во множестве лежали на столе и даже на полу подвала.
Парень с экземной кожей проходил мимо меня ещё раза три. Потом остановился возле, покачался на носках.
– А вы?… – и он указал пальцем на судьбоносную дверь.
– Ага, – принимая его тон, ответил я.
– Пойдёмте…
Я поднялся со стула и пошёл за ним.
Вот так скорее всего и чувствовали себя узники гестапо. Стул. Стол. За столом – неопрятная немолодая блондинка в клубах сигаретного дыма. Её навсегда уже уставшие глаза не хотят видеть не то что меня, а весь род человеческий. А газовая камера уже битком…
Усадив меня напротив неё, экземный скрылся.
– Давайте ваш паспорт, – без лишних прелюдий перешла она к делу.
Я протянул ей документ.
– Прописки нет… – констатировала холодно, но паспорт не отдала. – Где живёте?
Я назвал адрес.
– Вы снимаете?
– Нет. Живу у родственников, – соврал я. Мне казалось, что эта ложь – во спасение…
Она поднялась из-за стола и, прикурив новую сигарету, принялась ходить по комнате.
– Ну вот как я вас возьму? Где гарантия, что вы не выкинете газеты в ближайшую урну? А потом придёте за оплатой?
– Ну вы, наверное, подстраховываетесь…
Она вдруг посмотрела на меня с интересом.
– Ну допустим… Но ведь тут материальная ответственность… А без прописки…
– Мне кажется, это не та ответственность…
– Уговорили… И так или чурки, или алкашня…
Мне предстояло закусить удила и прикусить язык. Рано обрадовавшись, я не особо вникал в тягучую, как папиросный дым, вялую речь. Я соглашался со всеми условиями и обрадовался, когда узнал, что оплата производится еженедельно. Вкратце ситуация была такова: в восемь утра я должен был забирать продукцию из офиса, хотя «из подвала» подходило бы к этому заведению куда лучше. Укладывать газеты в тележку и отправляться по адресам. Когда тележка закончится, я должен был вернуться за новой партией. И так до шести вечера.
– Предусмотрен обед, – сказала моя будущая начальница.
«Странно, если бы она сказала – “никакого обеда”», – подумал я. Сказано было так, будто я должен занести обед в список поблажек. Хотелось спросить про уборную и курение. Самым неприятным оказалось то, что на этой работе предполагалась шестидневка. Восемь утра субботы – не самое подходящее время для каких-либо начинаний.
Из подвала я вышел с впечатлением двояким. В сущности, я нашёл то, что искал. А вот сколько я потерял, мне придётся ещё подсчитать. Я предполагал, что мне придётся круто уставать. Более того, я сразу понял, что тележка газет – ноша отнюдь не беззаботная. А времени на всякие глупости у меня уже не будет, при том что серьёзно хотелось заниматься именно глупостями и только ими. Потому что серьёзные занятия глупостями приводят иногда к совсем не глупым результатам.
Мне пришлось заняться подсчётами. Если рассчитывать на те деньги, которые я должен получить, начиная карьеру разносчика и раскладчика, и на деньги, приходящие за краснодарскую квартиру, – жить на этот ворох можно было довольно безбедно. Да только вот не жить, а существовать. Опять дудочка и кувшинчик. Либо у меня не будет времени, либо денег. Стоп-стоп… Я как-то забыл про М-ск. Тамошнюю квартиру тоже можно было бы сдать, хотя и за меньшие деньги. И денег за две квартиры мне хватит точно. Хорошо иногда, пусть и безосновательно, почувствовать себя Ротшильдом.
В общем, так: на краснодарские деньги надо будет съездить в М-ск, заплатить долги коммунальным службам и сдать квартиру хотя бы до конца лета. На деньги же заработанные жить до отъезда в М-ск. Если всё это провернуть во второй половине мая, то с июня можно переехать от Паши и снова начинать беззаботную жизнь на деньги теперь уже от двух квартир. Спасибо бабке! Я только теперь в полной мере оценил оставленное мне богатство.
Я повеселел. Моя газетная каторга будет длиться не больше месяца. Всё, что было надо, – потерпеть. Потерпеть много неприятных вещей, связанных не только с работой, но и с проживанием. Вот с завтрашнего дня и начну…
Вечером я позвонил Верховенским. Я не придумал, что я скажу, подойди к телефону она – Оля.
– Серёжа! Привет. Тебе Артёма? Да, сейчас… – она сделала всё правильно. Она естественно обрадовалась моему звонку и не дала мне вставить какие-то слова, которые мог услышать хозяин (хозяин чего? Квартиры? Женщины?). Актрисой она была хорошей и рассудительной. Я даже улыбнулся её сообразительности.
– Ну что, жив? – иронично откликнулся Артём.
– А как же, – бодро подтвердил я, в первый раз разговаривая с Артёмом в другом, известном только мне статусе.
– Отпустили?
– Откуда ты знаешь? – удивился я.
– Да у тебя аппарат в больнице хрипел, а сейчас нормально слышно…
– А-а… – я вдруг подумал, зачем звоню. Просто для того, чтобы сообщить о выписке?
– Артём, я хотел тебя поблагодарить…
– Иди ты, писатель! Ты лучше напиши что-нибудь в знак благодарности. Я почитаю…
– Договорились, – согласился я. – Всё тогда?
– Да! У меня материал не закончен, а завтра сдавать…
– Это тот?
– Да тот, тот… Ничего хорошего на ум не идёт.
– Как же, – говорю. – А знаменитый Степанцов?
– Разве что, – усмехнулся он. – Всё, давай!
– Пока, – повесил я трубку. Артём не дал мне договорить. Может, я хотел поблагодарить его за Олю? Ведь всё может быть?
Оля! От этого имени у меня теплело на сердце. Я вспоминал… Какое – вспоминал. Вспоминают то, что хоть на миг было позабыто, а эти поцелуи я не мог забыть. И мягкие губы… И сказанные ею слова…
В пятницу я пойду на её спектакль. В проходке не проставлено ничего, кроме даты. Я даже не знаю название спектакля. Пусть это будет для меня сюрпризом.
Художник должен быть богатым
Я ушёл так, что Паша даже не проснулся. Тихо выбрался из комнаты, съел холодную котлету на кухне, запивая чаем. Проще говоря, позавтракал так, чтобы можно было курить, не чувствуя в желудке гулкую пустоту.
Спустя полчаса я уже топал по набережной Карповки в направлении офиса. Утро было настолько раннее, что я успел доехать в метро, не попав в час пик.
В дверях толпилась очередь. Небритые, небрежно одетые мужчины по одному выползали из подвала, волоча в двух руках неподъёмные, казалось, телеги, уступая место другим таким же бедолагам. Парня с заячьей губой я тоже заметил.
Наконец мне выдали телегу. Попросили расписаться на грязном листке, заполненном одинаково корявыми подписями. Всучили листок с маршрутом.
Экземный парень, выдававший газетные кирпичи, снисходительно пожелал удачи.
«Какая тут может быть удача?» – подумал я, но, приподняв телегу, понял какая!
Уже на улице я почувствовал себя рикшей, везущим стокилограммового, пусть и безмолвного, пассажира… Мне приходилось уворачиваться от спешащих людей. Мой рост заставлял меня сгибаться под тяжестью тележки напополам. Пару раз прохожие обругали меня за нерасторопность. Причём идти по самой набережной было ещё терпимо. Дальше, где начинались перекрёстки, пришлось ломать пойманный ритм, и стало ещё хуже. Я вспотел. Но всё это было ерундой, в сравнении с тем, что я не мог думать. Думать и наблюдать. Вместо того чтобы о чём-то размышлять, я, словно слепая кобыла, глядел себе под ноги и оглядывался только тогда, когда достигал перекрёстка.
Поле моей деятельности находилось довольно далеко от подвала, и я, представляя, куда идти, пока не представлял, как это сделать…
На путь туда я потратил минут сорок. Помеченные на карте красным дома казались маленькими только на карте. С многими арками, дома простирались вдоль неизвестной мне пустынной улицы. Я брал пачку газет, оставив телегу на улице, и опускал их в видавшие виды почтовые ящики. Газеты со стуком валились в щели, как в мусоропровод.
Я не мог отвязаться от чувства бессмысленности. Подъезды были одинаковы, как старухи, стоящие в глубоких очередях. Похожи, как мусорные баки, исключая лишь степень их разрисованности. В одном подъезде меня попыталась развеселить надпись: «Котя! Я тебя не люблю и никогда не любила!» Наскальная живопись соседствовала рядом. Пронзённое стрелой сердце, перечёркнутое двумя жирными прямыми.
Когда все ящики в парадной были подкормлены, я переходил к следующей.
Двери с кодовыми замками стали попадаться всё чаще. Тогда я закуривал и ждал, когда кто-нибудь из жильцов откроет мне вход к вожделенным пастям.
Самое обидное, что газет не становилось меньше. Они утекали едва заметными, тоненькими стопками, и это почти не сказывалось на общей массе.
Из развлечений стоит выделить несколько шприцев на полу да дохлую крысу возле одного из лифтов.
Я чувствовал всю бесполезность моей работы. У неё не было результата. Может быть, он и был, но этот результат видел, наверное, тот экземный самодовольный тип, который и дал мне это наказание.
Распихав около половины телеги, я понял, как я устал. Странно, что больше всего устала и даже онемела рука, на сгибе которой я держал проклятые газеты, опуская их в ящики.
Я покурил и двинулся дальше со своей скорбной ношей.
Закончились они, газеты эти, часам к одиннадцати. Я завернул в убогую, пахнущую сахарной пудрой и сомнительным жиром пышечную. Перепачкав руки, стоя, проглотил два рыхлых колечка, запил несладким кофе. И… поплёлся обратно, за новой стопкой…
Конца рабочего дня я почти не помню. Я с остервенением раскладывал газеты, от типографской краски которых почернели пальцы. Изредка бросал по две в один ящик. Наверное, от чрезмерной старательности. Пусть ни один житель города не избежит восьми страниц не нужной никому информации. Пусть.
Руки дрожали, к тому же ныла спина. «Зато я буду не на глазах у начальства», – казалось мне с утра. Нет! Моими начальниками были они – свежеотпечатанные газеты!
Паша привёл себя в порядок. Видимо, глотнув несколько дней, вместе с алкоголем Паша выпил и свои чувства к Насте. По крайней мере, он о ней не вспоминал и отнюдь не казался убитым горем.
Открыв входную дверь, я услышал музыку.
– Серый, мы твою гитару взяли? – предусмотрительно предупредил, когда я только ступил на порог комнаты.
Я отмахнулся – «ради бога, мол».
Кроме Паши, в комнате был ещё человек.
– Эдик, – представил Паша, а тот только кивнул из-под чёлки, не отрываясь от грифа.
– Мы поиграем, а? – уточнил Паша, и я опять кивнул. Мне было всё равно. Я хотел есть и лечь, пусть они хоть на головах стоят под песни Алёны Апиной.
– Давай ещё раз, – прогнусавил Эдик и постучал босою почему-то ногой, – раз-два-три…
Я готовил на кухне, лениво гоняя поубавившихся таки с моим переездом тараканов, и музыка, доносившаяся до меня, была приятна. В игре новоявленного музыканта слышалась мелодичность.
Если бы не сегодняшний звонок Югину, я бы упал спать голодным и не раздеваясь. И мне было бы плевать на их звукоизвержения. Югину же следовало звонить никак не раньше восьми, а пребывать это время в полуголодной полудрёме, под неизвестные музыки…
– Серый! Приходи в субботу, мы в «Бумаге» играем, – пригласил Паша, когда я вернулся. Пища дала ещё один веский повод лечь.
– Не знаю… – пробормотал я. Мне не хотелось тратить деньги на Пашины выступления.
– Я тебя запишу, пройдёшь бесплатно! – словно бы читая мои подозрения, подтвердил он.
«Сплошные культурные мероприятия», – думал я. В пятницу театр, в субботу концерт…
– Посмотрим, – говорю, – я в субботу полдня работаю…
– Вот такие подруги будут, – ухмыльнулся он на мой постер, к которому при появлении Паши я охладел. Хотя девица и не потеряла своей розовой актуальности.
– Ладно, поехали. Раз-два-три… – нетерпеливо откликнулся Эдик.
Я вышел в коридор, предварительно покурив от волнения. Сел спиной к стене, я всегда так делаю, когда считаю звонок важным, набрал номер, тут же услышав приветливое «Аллё». Создавалось ощущение, что у Югина всегда бодрое настроение, так он жонглировал на языке этим «Аллё».
– Андрей Семёнович? – зачем-то уточнил я.
– А-а, Сергей? Здравствуйте… – и он замолчал, ожидая какого-то вопроса.
– Вы прочли? – говорю деревянно.
– Ну что я могу сказать? Надо печатать. Хороший старт.
– В смысле? – испугался и не понял я. Где печатать?
– Ну подъезжайте завтра часикам к семи на «Василеостровскую». Там напротив кафе «Едоша», знаете?
– Ну найду…
– Ну найдёте… Там и поговорим.
– Тогда до завтра, – я закруглил разговор, чтобы дать себе время осмыслить хотя бы это.
Он кивнул на прощание. Я понял это по звуку, который он в это время издал: «А-гм».
Хороший старт! Ого! Только вот что и где печатать… Хотя мне-то пока всё равно, а?
Я чего-то не понимал. Вот так вот, после одного звонка человеку, которого я видел всего только раз, можно где-то и что-то напечатать…
Не вставая с пола, набрал Артёма. Если он дома – получит ещё одну монету в копилку своих добродетелей. Если нет – я смогу услышать Олю.
– Алё, – это была она.
– О-ля! – ответил я, подражая её «Алё».
– Серёш… Я по тебе скучаю, – весело и грустно одновременно произнесла, показывая, что мы можем поговорить.
– И я. У меня беда… Паша вернулся.
– Насовсем?
– Ну…
Наступила нехорошая пауза. То, о чём думал каждый из нас, не могло быть произнесённым вслух.
– И ты не сможешь мне сказать: «Пошли зайдём».
– Смогу, Оль! – как можно внимательнее произнёс я. – Только придётся подождать…
– Ну ты же придёшь в пятницу… Ты же придёшь? – в её словах читалась трогательная глубина, и я, забывший уже, как это делается, отдал нежное и тихое:
– Ну конечно… Я принесу тебе цветы…
– Нет, не надо. Они будут мешать прогулке. Мы же пойдём гулять?
– А как же… – не договорил я.
– Я после спектакля и в час ночи возвращаюсь…
– Я сам понесу цветы, когда мы пойдём гулять…
– Нет. Ты будешь держать меня обеими руками!
Я лёг, не обращая внимание на мелодичное бренчание. Я чувствовал себя волком, со всех сторон обложенным флажками. Паши, Артёмы… Работа эта непонятная… Волк должен быть одиноким, пока он не найдёт себе самку. Такую же грациозно-красивую, отчаянную и… одинокую. Одинокую.
От проклятой телеги на руках выступили мозоли. Я прокусил одну из них, и из-под натруженной кожи по руке потекла буроватая жидкость. Я вытер руку об штаны. Недаром же – я видел – многие ветераны телеги носят на руках рабочие перчатки с обрезанными пальцами.
Я натянул рукава свитера на кисти и побрёл в свой квартал. В таком виде я напоминал человека с отмороженными конечностями.
Повторялось всё то же: бесконечные парадные с кодовыми замками или домофонами. Если это был домофон – я звонил в первую попавшуюся квартиру. Глухо говорил: «Почта». Обычно открывали.
Днём стал накрапывать дождик, и мои газеты тотчас потяжелели. Я ещё не научился у ветеранов брать для такого случая клеёнку. Единственной отдушиной склизкого дня виделся Югин.
«Часиков семь, – думал я. – Хорошо тебе, Андрей Семёнович, перебирать часики, как чётки. У меня вот часы, облепленные мокрыми газетами. Я – папье-маше!»
Оставшиеся десятка два или три я всё же выкинул в мусорный бак. Недополучившие почту, думаю, будут не в претензии.
Сдав телегу и умывшись в ржавой раковине с крантиком ледяной воды, я поспешил на Васильевский остров.
Выйдя из высокого барабана вестибюля «Василеостровской» огляделся. Развесёлые буквы жёлтого цвета неровно отплясывали «Едоша» прямо через дорогу. Буквы и затемнённые окна «Едоши» недвусмысленно говорили о том, что легкомысленность названия не всегда гарантирует невысокие цены.
Югин уже был на месте. Ковырял ложечкой шарики мороженого игрушечных цветов.
– Здравствуйте, – говорю.
– А-а… Садитесь, – он придвинул ко мне меню, даже не справившись о моей платёжеспособности. Хотя тогда я этого не заметил.
– Ну посмотрел я ваши рассказы… – он отправил в рот кусочек шарика. – Надо печатать, Сергей.
Я молчал. Подошёл длинный и убогий официант, и я, не глядя в меню, произнёс:
– Кофе…
– Американо, капучино, латте, – начал он заученно и бесстрастно.
– Обычный, – обозлился я. Мне уже тогда не нравился Югин, но признаться себе в этом я не мог.
– Американо, – констатировал тощий. – Сливки, сахар, корица…
– Два сахара, – отмахнулся я от него.
– Извините, – говорю, – а где печатать?
– Давайте вместе подумаем, как это сделать, – усыплял меня Югин. – Вы понимаете, что бесплатно напечатать первую книгу в наше время невозможно. Я могу помочь, тем более что материал для книги весьма пригоден.
Плеснул йода на рану.
– У меня есть знакомые в издательстве, – он подцепил ещё кусочек, – они смогут сделать книгу без наценки. Я замолвлю словечко. Сделать, скажем, экземпляров двести…
У меня поплыло в глазах. Двести экземпляров собственноручно написанных мыслей!
– А с этим можно и в Союз писателей вступить попробовать, – и он выждал лихую паузу, чтобы я смог посмаковать перспективы.
Надо признать, стелил он мягко. И на том, что он стелил, спать хотелось.
Я пока только кивал.
– Выделим вам экземпляров… – он постучал ложечкой по краешку розетки, – пятьдесят. Для друзей. А остальными я займусь.
– В смысле? – с глупой надеждой спросил я.
– Мы посылаем книги в библиотеки страны, в наши питерские, естественно…
– А смысл? – попытался уточнить я.
Он усмехнулся:
– Ещё какой. Вы же хотите отзывов на книгу? Вам нужно зарабатывать имя. С первой книгой куда-то пролезть очень сложно. А так она будет на виду…
Я боялся спросить цену, и я не понимал, зачем довольно известный автор должен помогать никому не известному мне.
Принесли кофе. Глотнув и получив поддержку в виде сигареты, я всё-таки спросил:
– И сколько это будет стоить?
Он опять помолчал, словно считая, а потом уклончиво ответил:
– Ну, не так дорого…
– А конкретнее, – попросил я.
– Надо поговорить в издательстве. Я думаю… – и тут прозвучала сумма.
Я не поперхнулся кофе только потому, что в это время его не было у меня во рту.
– Может быть, на макете мы чуть-чуть сможем сэкономить… – продолжал считать он.
Если бы ценой книги был слон, то на макете мы смогли бы сэкономить его ноготь.
Цена, спрошенная Югиным, была ценой месячного проживания моих съёмщиков в краснодарской квартире плюс почти всё то, что я мог заработать газетным извозчиком. На что я собирался жить это время – вообще было непонятно.
Я молчал и, в отличие от Югина, ничего не прикидывал в ошарашенной голове.
– А если сто? – вяло произнёс я.
– Ну а что нам дадут эти сто? Двадцать вам…
Ну вот, мне уже и двадцать…
– В общем, Сергей, пока такие цены, я бы поднапрягся. Будет май, у них будут заказы… Да и книгу мы с вами дождёмся к июлю. Вы подумайте и позвоните мне завтра на работу.
И он протянул мне дорого оформленную визитку.
– Ну всё! Удачи.
И он встал – маленький, аккуратный, – надел коричневое пальтецо, повязал уютный шарф. А я остался сидеть. Кофе ещё не был выпит.
Театр начинается с денег
Весь вечер я думал, кому бы продать свою почку. На неё, увы, не было спроса. Отложить все краснодарские деньги, трёхнедельную зарплату, которой тоже ещё не было. Ещё можно было продать инструмент. Но это было почти как предательство. Инструмент был действительно дорогой. Деньги, за него вырученные, покрыли бы недостающую часть расходов, связанных с книгой, и позволили бы кое-как дотянуть до следующих краснодарских денег. Мысль о поиске квартиры отошла на десятый план. Пока можно было помучиться с Пашей. А там…
Но деньги, живые деньги в купюрах и монетах, нужны были сейчас. Занять их было не у кого. Был только один человек, к кому я мог пойти с этим разговором. И не было ни одного живого существа, у которого я мог одолжить с большей неохотой.
Югин просил, чтобы я позвонил ему завтра, и до завтра мне надо было что-то решить. Это был шанс, уверял я себя. Сто-, двести-, тристапроцентный шанс. И я решился!
– Писатель, у меня уже Венька спит, – услышал я недовольного Артёма.
– Артём, я с Югиным встречался! – мне казалось, что с такой новостью вполне нормально позвонить и в три часа ночи.
– Ну а до завтра твой Югин не мог подождать? – ошарашил меня он. Как будто я оторвал его от какого-то дела. «Хотя он женатый человек», – подумал я вдруг с ужасом.
– Артём, – пропадать, так с музыкой, – у тебя есть деньги?
На том конце провода повисло недоуменное молчание.
– Да пока не бедствуем… – скупо обронил он.
Только после того, как я начал разговор, мне пришло в голову, что я не прикинул требующейся мне суммы.
– Югин предложил мне сделать книжку!
– Ну что ж… – странно не обрадовался Артём. – За деньги? – уточнил.
– Он сказал, что поможет с распространением.
– Всё может быть, писатель…
– Он велел позвонить ему на работу с ответом. Завтра. У него какие-то знакомые в издательстве, – заваливал я оппонента доводами, – надо определиться на этой неделе. Там пойдут майские заказы…
– Какие заказы? – мне показалось, что Артём вымолвил это с издёвкой.
– Майские… – глупо повторил я.
– Серёга, а что такого в майских заказах особенного? – пробурчал Артём, потом поправился: – Хотя, может быть, праздники, полиграфия…
– Ну! – схватился я за это, мутное по сути предположение.
И тут я убил его суммой.
Не дожидаясь ответа, я принялся рассказывать ему планы моих выплат огромного долга, и получалось, что деньги я смогу выплатить ему за месяц.
– Не знаю, писатель… Эти деньги я тебе дам, – в этот момент у меня даже затряслись руки, и я подумал вдруг, что он добавит: «Если ты оставишь в покое мою жену».
– Эти деньги я тебе дам, – повторил он, – но подумай, нужно ли тебе это капиталовложение. Если честно – я не вижу особых перспектив…
– Югин разошлёт книги по библиотекам! Может, ещё куда сунет?
– Ладно, пусть. В конце концов, это твоё решение, и если ты считаешь нужным – у меня есть возможность тебе помочь.
Благородно!
– Звони Югину, скажи – согласен!
– Спасибо, Артём! – я благодарил его вполне искренне.
– Завтра отзвонись, как прошло… Или заходи вечером – у Ольки завтра спектакль…
«Да я знаю», – чуть не сказал я, вовремя осекшись.
Итак, деньги были. При этом вопрос пропитания и прочих приятных мелочей вроде сигарет вообще повис в воздухе.
Паша, отлепившись от гитары, парил на кухне коровий рубец, отчего по квартире раздавались запахи скотного двора.
– Серый, сегодня Эдик придёт, мы хотим ещё часик поиграть…
– Ну играйте… – ответил я, жалея уже, что моя соседка настолько тугоуха. Вторая же соседка с начала апреля культивировала огород где-то то ли в Псковской, то ли в Тверской области.
– Это я к вопросу об инструменте, – как бы невзначай произнёс Паша.
– А… Ну возьмите, – вообще-то мне это было не очень приятно.
– Дай нам его в субботу, а?
Живя у Паши, пусть пока и за свои, я становился заложником его желаний, но тут…
– Паша, ты бы свою жену попользоваться дал кому-то другому? – мне неприятно было отказывать, но, во-первых, из таких путешествий гитара может вполне возвратиться со сколами и трещинами, которые потом неизвестно как устранять, а тем более предъявлять претензии в адрес арендатора, а во-вторых, я знал – это лучший в среде музыкантов аргумент.
– Серый, – неожиданно отреагировал Паша, – моя жена уже кем-то пользована.
«Ого», – подумал я и неприятно заметил, как меня это несколько взбудоражило. Красивая у него жена же…
И его неказастый аргумент вдруг поставил меня в положение жалеющего:
– Первый и последний раз!
Паша потёр ладони и потыкал вилкой вонючее варево.
Эдик пришёл, когда я уже засыпал. Они о чём-то шептались, потом тихонько затренькали что-то похожее на колыбельную. Я не мог заснуть только оттого, что оба музыканта не вынимали изо рта сигарет.
«Бедные мои никотиновые помидоры», – жалел я растения, засыпая.
Ладони я обклеил пластырем. Накануне купил рабочие перчатки. От этого, правда, работа не пошла веселее. Какая разница, например, в какой шапке тебя ведут на убой.
Кварталы, в которые я доставлял газеты, всё больше удалялись от места, где я эти газеты брал. И почему-то оставались такими же пустынными…
Я ещё раз поразился тому, что при такой, казалось бы, малоинтеллектуальной работе думать в это время было совершенно невозможно. Это при том, что я даже не гнул трубы или копал канавы. Всё сознание было сосредоточено на пачках проклятых газет, поребриках и выбоинах в асфальте. Может быть – очень допускаю, – что художник должен быть голодным, хотя смотря в какой степени, но вот свободным он должен быть обязательно! Конечно, ни одна тонна денег не сделает тебя художником. Но ни одна тонна газет – тем более.
В перерыве я позвонил Югину. На его визитке значилось: «Генеральный консультант издательства “Светозар”». Что это за «генеральный консультант»? Я нашёл автомат, набрал номер.
Трубку снял он сам.
– Андрей Семёнович… – начал я.
– Ну что, Сергей, надумали? – мало того, что он меня узнал, Югин говорил так, будто знал и ответ.
– Да, – ответил я.
– Тогда я вас ставлю в план. Позвоните мне домой в воскресенье вечером.
Я хотел что-то спросить, но спрашивать что-либо у длинных гудков было бессмысленно. В какой-то он меня ставит план…
К вечеру уже не одна тощая пачка, а полтелеги этой мерзости перекочевали в мусорный бак одной из подворотен.
Я с облегчением закурил, оставив телегу. Из глубины арки на меня двигался человек. Я видел только его силуэт. Когда силуэт подошёл поближе, я распознал в нём женщину. Из тех, что всё своё носят с собой… Примерно такому контингенту я отдал свою телогрейку на Московском вокзале.
Женщина деловито заглянула в мусорный бак. Пошуровала там своей клешнёй и, ловко перегнувшись через борт, кряхтя, достала газеты. Отряхнувшись, села верхом на добычу и достала папиросу.
– Дай огня, сынок…
Я поднёс к папиросе зажигалку.
– А говорят, бедно живут, – она прикурила и похлопала себя пониже спины. То есть по тому, на чем она сидела.
В конторке я отметился, умылся и переоделся. Времени до начала спектакля оставалось не так много. Газеты были для времени прекрасным пропитанием.
Я уже знал ближайший путь до театра. Нужно было выйти из метро «Технологический институт», пройти до Фонтанки и там свернуть налево, не переходя мост.
Работа так издёргала меня, что соображать я мог только поверхностно. Налево-направо… Спокойствие – более благодатная почва для романтики.
Уже подходя к театру, я подумал о цветах. Подосадовал, что совершенно про них позабыл. Что ж, буду держать Олю двумя руками – подумал и сладко поёжился.
На входе я предъявил проходку молоденькой девушке. На пальцах рук, которыми она отмечала проходку, на каждом ногте были нарисованы кошачьи мордочки.
– Поторопитесь, – вежливо попросила она и добавила: – На свободное место, пожалуйста…
Я прошёл в начинающий тускнеть зал. Ссутулился с краю на маленьком сиденье, неуклюже скособочив в одну сторону ноги. К чести актёров, зал был практически полон и, потемневший, притих. Тут и там доносилась то негромкая реплика, то шуршание…
А потом вдруг началась канонада! Чёткое круглое пятно прожектора выхватило из темноты лежащую на сцене фигурку в гимнастёрке. Канонада медленно стихла, и наступила тишина. На фоне декораций разрушенного города фигурка смотрелась одиноко. Фигурка поднялась, отряхиваясь, и театральным, громким голосом позвала:
– Андрей?
Нет ответа.
– Андрей?
Можно было угадать, что несуществующего на сцене Андрея убило или засыпало несуществующими осколками. Вот за это я и недолюбливал театр.
Да и не надо было никакого Андрея – на сцене стояла Оля.
Андрея таки убило и засыпало – это я угадал. По ходу действия я угадывал ещё много чего. Но всё это не важно. Оля играла здорово.
Коньяк в антракте я себе позволить не мог. Да и был ли он там, коньяк? Но мне так хотелось добавить рюмочку восторга ко всему, что происходило вокруг меня. Без Оли театр я бы не полюбил, но тут, когда я был немножко участником, который будет играть третье действие, не написанное режиссёром спектакля, но оговоренное актрисой, играющей одну из главных ролей.
Ещё я сразу узнал того самого Точилина. У которого всё «лажа»… О да! Столько таланта и цинизма в одном человеке, мальчике – диагноз. По опыту знаю – такие подарки не делаются просто так. Жизнь дала ему огромный аванс и возьмёт своё в будущем. К сожалению, скорее всего это будет алкоголь. Но уже в другом, не авансовом качестве.
Спектакль окончился. Зрители вызывали актёров на «бис». Раз и другой! И третий… После чего стали шумно расходиться.
Я получил свою кожу в гардеробе, вышел на улицу. Закурил, наблюдая за служебным входом. Выходом в данном случае.
Театр пустел. Переговариваясь, зрители в большинстве своём уходили парами. Среди них преобладала молодёжь. Вежливые юноши уводили домой своих прикоснувшихся к прекрасному спутниц.
Мне никогда не был приятен этот контингент. Несмотря на то, что свою неправоту я понимал.
В их походке, фигурах читалась какая-то инфантильность, граничащая с апатией ко всему физическому. Если употреблять этот термин в противовес слова «духовность».
Контингент, готовый идти на мирные демонстрации с куриной лапой и надписью «Реасе» в качестве главного аргумента.
Дети цветов. Или «Битлов»… Метафизика и прочие усложнённые вещи дают страшные метастазы в их прекрасных головках.
Стаи головоломных писателей делятся с ними хитроумными подтекстами там, где подтекстов не может быть.
И вообще – подтекст возникает только при наличии качественного текста… Это первооснова!
Так размышлял я в ожидании Оли, не подходя к выходу слишком близко. «Я тигрёнок, а не киска» – вспомнилось с удовольствием.
Спустя только полчаса дверь открылась изнутри, и по одному оттуда стали выходить люди, причастные к театру с другой, изнаночной стороны. Кто они были, я не знал. Может быть, осветители сцены или звукорежиссёры… Актёры второго плана? Но я не ошибся, когда в окружении двух подруг и с букетом розовых роз головками вниз появилась Оля.
Не сразу заметив меня, огляделась. Я, боясь лишний раз скомпрометировать её, стоял в отдалении.
Увидев наконец, замахала рукой:
– Серёш, – и, что-то сказав подругам, отделилась от них в мою сторону.
Впервые в жизни я чувствовал себя неуютно без цветов.
– Ну как тебе? – мне показалось, что она подставляет щёку для поцелуя, а я не решился в присутствии пусть и удаляющихся её подруг.
– По-моему я была сегодня неплоха, – строго сказала она и засмеялась звонко.
– Да, – подтвердил я, – да… Видишь, – развёл я руками, – цветов я не купил. Значит, буду держать тебя…
Тем временем мы вышли на набережную. Она находилась сразу за оградой.
– Ты хочешь гулять или сидеть? – спросила она. – Если сидеть – я тут место одно знаю…
– Пойдём пока, – миролюбиво предложил я.
– Ага! – согласилась она. – Только в другую сторону…
В другую сторону по набережной в это время никто не ходил, и не было риска быть замеченными.
Немного отойдя от театра, она взяла меня под руку.
– Хочешь коньяка? – вдруг предложила она. Как будто вспомнила о том, что можно его заполучить прямо сейчас.
– Да, – вырвалось у меня. Потому как я думал о коньяке ещё в антракте. И ещё потому, что надо было рассеять некоторую угловатость в общении – хотя она вполне рассеется сама, но хотелось сделать это как можно быстрее.
– НЗ! – говорит.
Я поднял брови! Вряд ли она ходит с таким НЗ каждый день…
– Нет… – рассмеялась. – В театре всегда есть. Мало ли что… Сегодня я взяла, завтра кто-то ещё…
– Стаканов нет, – растерялся я.
– Нет! – согласилась она. – Значит будем так, из горлышка. У меня конфеты есть.
Готовясь к свиданию, невольно что-то себе сочиняешь… Прикидываешь, о чём можно поговорить, чем удивить, например. И всё это хорошо и прекрасно до первого поцелуя. Дальше – полная импровизация.
Вот после глотка коньяка… мы и перешли к импровизации.
– У тебя чёлка пахнет табаком…
– С Точилиным в курилке сидела. Я без тебя не курю.
– А со мной?
– А с тобой… С тобой… и курю тоже… – погрустнела вдруг.
Я дал ей сигарету. Она обняла меня и прижалась лицом так, что я видел только её макушку, а слова её доносились глухо:
– Я хочу задать тебе глупый вопрос: почему мы не встретились раньше, а? Не отвечай, – оборвала, – это я так… – вдруг отодвинулась от меня. – Пойдём…
Мы молча перешли Фонтанку по мосту, я узнал собор Николы Чудотворца на том берегу. Самое трудное в этом городе для меня до сих пор – связать исторические места одно с другим.
Я расспрашивал её о театре. Наверное, задавал дилетантские вопросы, поскольку отвечала она односложно и иногда насмешливо.
Я сказал ей про Точилина. Так меня поразил этот экземпляр. Она задумалась, потом произнесла:
– Он отвратителен. Даже несмотря на то, что гениален. Представь себе, скажем, Поэта С.
– Почему С.? – спросил я, думая, что она на меня намекает.
– Ну поэтессу О. – не важно. Актера Ж. Гения, в общем… – заключила, смеясь. – Ну и вот этот гений живёт с тобой в соседней комнате. Он пьёт, но он гений – ему позволительно немного нарушать. До утра он орёт пьяным голосом арии или монологи. Ладно – гений. Но когда он начинает гадить у тебя под дверью и подворовывать мелочь из твоей висящей в прихожей шубы… Заметь, потому, что он гений, ему позволено, а не потому, что он пьяница и вор. Ну вот, так и тут…
– Что, гадит под дверью? – рассмеялся я.
– Да пока ещё нет, – отвечает Оля, – но отношение, да и ощущение такое, что скоро будет…
Мы шли вдоль впадающей в Фонтанку речки, впереди, далеко ещё, голубел собор.
Она держала меня под руку и иногда, когда мы чуть сближались, я чувствовал её женскую, притягательную тяжесть.
Я никак не мог заговорить с ней о том, о чём говорить неудобно. Точнее, неудобно называть вещи, о которых надо было говорить, своими словами…
– Видишь, – осторожно начал я, – у меня теперь Паша прописался…
– Да… – эхом отозвалась она, и непонятно было, насколько ей важна эта информация. Потому опять замолчали.
– Я маленькая? – вдруг спросила она невпопад.
– Для меня вы все маленькие, – пошутил я с высоты своего роста.
– Серёш, ну я ведь не то…
– Нет, – подумав, произнес я, – просто Артём для тебя слишком взрослый, – жестоко ответил я на её настоящий вопрос и испугался ответа. Испугалась ответа и она.
– Ты тоже так считаешь? – она остановилась и повернулась ко мне. В её влажных глазах блестели наполненные Фонтанкой, наверное, надутые ветром слёзы. Не нарисованные, а настоящие слёзы.
Потом опять, через долгое время, пришлось импровизировать…
Мы глотнули ещё коньяка. Мы уже всё поняли друг о друге, но язык так и не мог произнести тех слов, которые казались очевидными. Какие-нибудь ключи у подруги казались мерзостью.
– А поехали в Кавголово! – вдруг предложила она. Даже не предложила – выпалила…
– Это что? – спросил я.
– Артёмка уедет на три дня в Петрозаводск на майские. Он каждый год туда укатывает – у него там родственники. А мы соберёмся и поедем.
– Куда? – я пытался говорить спокойно, но ненужный ком так и подползал к горлу.
– Это озеро… Недалеко. Мы там заберёмся в самую глушь и будем палить костёр.
– У тебя же ребенок… – фальшиво озаботился я.
– Веньку оставлю на бабушку…
И я поцеловал её ещё и ещё… В данном случае проявленная инициатива была лучшим подарком.
– Дай сигарету.
– Привыкнешь, – попытался отговорить её я.
– Возможно…
Мы спустились к воде. Набережная делала спуск, и из её мощной груди торчали огромные кольца для лодочных канатов.
Она курила, глядя вдаль, молчала так, словно размышляла о чём-то…
Начинало темнеть.
– В следующий раз мы дойдём до Калинкина моста. Это там, – протянула она руку. – Там я жила в детстве…
– Я там был, – ответил я, – и встретил чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели…
– А, ты знаешь… Ты молодец… – помолчала. – Как ты вообще живёшь, Серёш? Я же ничего не знаю о тебе, а?
– Я люблю порядок и тишину, – ответил я. – Не люблю запахи чужих людей и пить с кем попало. Вот помидоры выращиваю на подоконнике… Если Паша их теперь табаком не погубит…
– А ты?
– А я курю в балкон, – рассмеялся я. – Ну ты же видела этот балкон…
– Видела, – прозрачно повторила она, – для гномов.
Тяжёлая вода с плюханьем облизывала гранит. Она выкинула сигарету и снова прижалась ко мне. И только один свидетель наблюдал за нами и обнимал нас, прятал от чужих взглядов. Незнакомый город начинаешь любить тогда, когда в его историю ты вписываешь страничку своей…
Вера есть, ума не надо
Субботние газеты оказались легче других. Во-первых, субботние газеты отнимали у меня всего полдня. А во-вторых, вчерашние события тронули меня настолько, что даже копать траншеи я был готов, напевая.
Распихав на этот раз всё, что только было возможно, я даже получил похвалу от экземного. Похвала, правда, была несколько снисходительной.
– Быстро бегаешь! Молодец! – пробормотал он, записывая на листочке мои подвиги. Вот-вот, и я стану Маленьким Муком и первым среди королевских скороходов. А там, глядишь, и начальником скороходов. Тьфу!
Меня вдруг заинтриговало Пашино предложение. Почему бы не развлечься и не сходить в «Бумагу» – послушать «Люляки Бяки» и ещё несколько не менее знаменитых групп. Можно было, конечно, воспользоваться одиночеством и что-то попробовать написать, но заведённый вчерашним организм требовал отнюдь не затворничества. Организм нуждался в песнях и плясках… И ещё мне хотелось послушать Эдика. Странного, молчаливого виртуоза.
Когда я вернулся, Паша готовился. Подготовка его выражалась в том, что, разложив тексты песен по всей комнате, на диване и на полу, он что-то правил, выписывал… При этом напевая какой-то свой мотивчик.
– Серый, – поднял он голову, когда я вошёл, – ты идёшь?
Я изменил своё отношение к Паше. Теперь его переезд казался мне спасением, ведь деньги, которые могли уйти на оплату комнаты, пойдут на более важные, книжные дела. Я смирился даже с его запахом в квартире.
– Да можно, – говорю.
– Хочешь – поехали с нами, а нет – встретимся там.
– Я бы поспал, – отвечаю.
– Тогда к семи в «Бумагу»… Ты же там был. На входе скажешь фамилию, – он как будто что-то недоговаривал… А! Гитара!
– Паша, гитару даю первый и последний раз!
Паша кивнул и, сразу успокоившись, собрал тексты с кровати со словами:
– Ложись…
Я ухмыльнулся.
Спустя час пришёл Эдик. Поздоровался в нос, откинул чёлку, взял несколько пробных нот и опять повторил, жуя сигарету:
– Отличный инструмент…
– А то, – подтвердил я с дивана.
Эдик не посчитал нужным отвечать.
Когда они ушли, я позвонил Артёму.
– Чего вчера не позвонил? – зевнул он. Не один я, видимо, в субботний день хочу спать.
– Да потом… – как-то уверенно произнёс я. Уровень уверенности рос с масштабами преступления.
– Ну слушай, писатель. Давай увидимся в воскресенье где-нибудь на природе, я не хочу, чтобы Олька про деньги знала. Сегодня я занят, а завтра утром позвони мне пораньше. Скажем, в девять, и мы с тобой договоримся…
– О кей! – деловито ответил я, не давая волю восторгам. Да, Олю в это впутывать не хотелось…
Если утром погода показалась мне приятной, сейчас она была просто чудесной. Высохшие под почти майским солнцем асфальты были пыльными. Птицы, неизвестно где гнездившиеся в редких, не тронутых урбанизацией деревьях, заливались, создавая в воздухе невидимое трепетанье.
До «Бумаги» я добрался пешком. После бесконечного времени передвижения с телегой, дорога до «Бумаги» показалась приятной прогулкой. Тем более что почти всю дорогу меня сопровождали птичий гомон и встречные девушки, решившиеся таки показать миру ноги повыше коленок.
Я не знаю, каким он был на самом деле, мой шаг, но мне он казался чётким и упругим. Пьющие пиво подростки не вызывали отвращения. Толпа, ожидающая у входа в «Бумагу», – приветливой.
Я вошёл внутрь, и в «Бумажной» темноте глаза первое время отказывались функционировать. Такой контраст с солнечным днем создавало клубное освещение. Молодой бритый охранник долго рыскал в бумагах, когда я назвал фамилию.
Потом пропустил, произнеся лаконичное:
– А, вот!
По крутой лестнице я спустился в полуподвальное помещение, где было накурено до рези в глазах. Да и накурившего до рези в глазах народу было предостаточно. Я огляделся в поисках знакомых.
Длинная очередь к пивному соску. Высокий бармен в серьгах (серёг не было разве что в пальцах) и татуировках наливал пиво, не закрывая сосок. Просто подставлял кружки одну за другой. Немногочисленные столы были заняты, и посетители пили прямо на весу, сдувая пену себе под ноги.
Я бы встал, наверное, в конец очереди и заказал чего-нибудь покрепче, но финансовая яма в таком случае зияла бы ещё глубже.
В углу, заняли-таки стол, я увидел Супруна со свитой. Подходить мне не хотелось, но они тоже заметили меня. Супрун замахал мне рукой. Я пошёл к ним, расталкивая толпу.
– Это Серый, кто не знает. Классный человек… – представил меня Супрун. На нем были старомодные клеша, вытертые на коленях. Из штанин торчали нитки. Длинная шея была замотана невероятной длины шарфом, который волочился по полу. Я был представлен так, как мне в своё время Слава представлял Птицына.
Компания Супруна несколько увеличилась. В придачу к Диме и уже заметно нагрузившейся Татьяне были ещё двое. Какой-то неуместный парень в костюмных брюках и такой же чёрной жилетке и полногрудая, чёрненькая, напоминающая головой снегиря – такие румяные были у неё щечки – девчонка.
Они что-то пили, наливая из-под стола, не особо таясь при этом.
– Это Стас Чернобров. А это – Вера.
Продолжая птичьи аналогии, Чернобров напоминал грифа – тонкая шея и крючковатый нос. Блондинистые волосы в темноте вполне могли сойти за знаменитую лысину этих помоечных птиц. Говорящая фамилия, кажется, была дана ему в насмешку.
– О, Сергей! – оживилась Татьяна и подставила щёку для поцелуя. Я клюнул.
– Серый, коньяк будешь, Серый? – заторопился Дима. Видимо, долг он хотел мне не отдать, а отлить.
– Давай, – отвечаю. Я уже всё понял про эту парочку. Живые деньги у них быстро конвертируются в жидкую валюту.
– Пашку видели? – спрашиваю.
– Да они уже готовятся, ёлы… – ответил Дима, орудуя бутылкой под столом.
Они все сдвинулись, потеснились, и я оказался на краю скамьи, по соседству с «это Верой».
– Не боитесь? – я указал глазами на ещё двух лысых вышибал в форме охранников, стоявших по краям зала.
– Да не… Мы же их знаем. Сказали только не очень светить… – Дима протягивал мне рюмку. Мы чокнулись.
Коньяк это напоминало слабо. В лучшем случае – коньячный спирт. О худшем я старался не думать.
– А вы? – спросил я у девочки-снегиря.
– Я – только пиво, – ответила она и окунула губы в полную кружку.
И тут на сцене показался Паша.
Зрители не обратили на него особого внимания до тех пор, пока он не включил гитару.
«Трень-брень» – попробовал. Потом повертел ручки усилителя и ещё раз – «трень-брень».
Куда-то в полутьму, за свою кухню, уселся барабанщик. Разом выползли гитарист и басист. Вышел Эдик с моей акустикой, воткнул её и встал сбоку. Под конец к крайнему микрофону пристроился трубач. Которого при первой встрече Паша представил мне как «мощного дядьку». «Мощный дядька» производил впечатление мощно пьющего человека.
Зритель примолк.
– Паша, давай! – выкрикнул кто-то из толпы.
И полилась музыка.
Паша мог быть трижды мудаком. Мог, как Точилин в перспективе, гадить у меня под дверью. Но пока длилась музыка, я готов был ему это прощать.
Я потом ещё много раз вспоминал тот концерт. Я не знаю, совпало ли то, что играли они, с моим настроением или они создали это моё настроение сами, но на второй песне я почувствовал поднимающийся от спины холод мурашек. Волосы на руках встали дыбом, я это ощущал. Я уже не мог сидеть, встал, пытаясь увидеть что-то важное на сцене. И встали все – и Дима, и Татьяна, и Супрун… И «это Вера» тоже встала, и мы все вместе взялись за руки.
Мир на несколько мгновений стал огромным и непостижимым. Хотелось вдохнуть как можно глубже… Не воздуха, а всей жизни вдохнуть и этой жизнью дышать, слушая биения чужих, но близких сердец. Хотелось беспричинно плакать и в то же время смеяться. Потому что весна. Потому что… любовь! Я наконец почувствовал и смог определить для себя это слово!
Потом, конечно, градус упал. Но дело было не в музыке, а в том, что ощущения такого накала не длятся долго. Градус упал, но мы сделались уже другими!
– Охренеть! – выкрикнул в паузу Дима, и он был прав. Охренеть!
«Люляки» играли полчаса, не более того, но жизнь, которую они вдохнули, билась во мне даже тогда, когда они покинули сцену.
Менее впечатлительные, чем я, зрители вернулись к пивному соску. Супрун, поводя сигаретой, объяснял что-то Черноброву, выглядевшему синим чулком. Хорошенькая «это Вера» робко спросила у меня сигарету и совсем неумело закурила. Я думал – она подруга Черноброва. Нет, он держался в стороне.
Мне было нужно что-то ещё. Ещё музыки, ещё… не знаю… коньяка?
– Крепкие, – кашляла «это Вера», смахивая слезу.
– Вы же не курите? – предположил я.
– Я и не пью, – подтвердила она и скосила глаза на пустую стопку. Выпила?
– Ве-ерка-то… – рассмеялась Татьяна, подтверждая моё предположение.
Тут к столу подошёл Паша.
– Павлик! Умница! – бросилась обнимать его Татьяна.
– Старик, очень… – оценил музыку Супрун.
– Спасибо. Дайте выпить…
Через некоторое время половина «Люляков» переместились за наш стол. Паша пообщался с барменом, и нам принесли ещё одну скамейку. Мои догадки относительно «мощного мужика» оправдывались.
Когда заиграла следующая группа, разговаривать стало невозможно.
– Может, к нам? – проорал мне на ухо Паша.
Я согласно кивнул. Даже если бы я этого не хотел, я не мог ему отказать. Странною гурьбой, как голуби с проводов, мы снялись с места и, протискиваясь сквозь толпу, двинулись к выходу.
– Всё? – миролюбиво спросил у Паши охранник на выходе.
– Да класть мы хотели на остальное, – в никуда высказался Дима. Охранник засмеялся.
Парами, составляющими толпу, мы шли по весеннему городу. Красивую и алкогольно-дерзкую Татьяну пошатывало. Супрун придерживал её под руку и всё доказывал Черноброву что-то своё. За ними шёл Дима, нашедший общий нетрезвый язык с «мощным мужиком» по имени Вадим. Паша с Эдиком – победители – с банками пива музыкально жестикулировали, перебирая пальцами по невидимому грифу.
Мы с Верой замыкали шествие. Остальные «Кибяки» разошлись по своим делам.
– Я такая пьяная, – вдруг произнесла она мне доверительно. По ней я бы этого не сказал. Чуть раскрасневшаяся – да! Из-под чёрной чёлки чуть более обычного блестят глаза, подведённые чёрным же.
– Да ничего, – ответил я и спросил: – А ты их откуда знаешь?
– Я – Танина сестра, – отвечает.
Ого!
– Она за тебя отвечает? – улыбнулся я, видя, что Татьяна не отвечает сейчас и за самое себя.
– Нет, – мило рассмеялась она, – она двоюродная…
– Это меняет дело.
Помолчали.
– Вам понравилось? – попыталась она снова завести разговор.
– Да, – говорю. – И давай на ты.
– Давай… те, – улыбнулась. – Давай…
– А ты где учишься? – она же ждала вопросов.
– Я – в Мухе!
– Муха – это кто? – не понял я.
– Мухинское училище… – она подняла на меня глаза и невидимые из-за чёлки брови.
– Я не из Питера, – признался я и заметил, как нелегко теперь даётся мне это признание.
– А откуда? – удивилась она.
– Из Краснодара, – отвечаю. Вряд ли М-ск ей вообще хоть что-то скажет.
– А, так вы… ты тот Сергей, о котором Таня говорила?
– И что же она говорила? – поинтересовался я.
– Она сказала, что ты интересный и задумчивый.
– Задумчивый? – повторил я.
– И интересный, – засмеялась она, как бы говоря от себя.
– Так что же Муха? – перевёл я разговор.
– А, художественное училище, – отмахнулась она.
– Это плохо? – говорю.
– Да нет. Хорошо… А куда мы идём? – вдруг спросила она, и я понял, что она – да, несколько более пьяная, чем я ожидал.
– К нам… С Пашей, – добавил я почему-то.
– Ну пойдём, – беззаботно согласилась она и сунула в рот жевательную резинку.
Пока Паша запускал гостей, я вызвался купить алкоголь. «Люляки» кое-что заработали за выступление и небольшой банкет вполне заслужили.
– Можно с тобой? – попросилась Вера.
– Отчего нет, – отозвался я. После нашего с ней общения симпатичная Вера стала мне ещё симпатичнее.
– Только вино! – настаивал ни копейки не выделивший, но очень активный Супрун. Может, он боялся за свою подругу? Так это было бесполезно – подруга, и так улетевшая слишком далеко, и с бутылки пива проследует ещё дальше.
Мы с Верой купили огромное количество вина в картонных коробках, еле донесли пакеты до квартиры.
В комнате уже гораздо более чем громко играла магнитофонная музыка. Заботами Супруна струны и душу рвал всенепременный БГ.
С наличием Веры, я заметил, в этой пьянке для меня появился какой-то смысл. Симпатичная, пусть и бесперспективная особа всегда желанна в любой компании. Симпатичной Вера была. А о перспективах я не думал.
– Я чего, вино, что ли, буду? – спрашивал сам себя Дима. – У нас ещё коньяка осталось… Кто будет со мной?
И достал из рюкзака литровую бутыль, как я и подозревал, неизвестного розлива.
Мы уселись в какой-то неровный круг, Супрун и его драгоценная пьянь, конечно, на полу. Зубами пооткрывали коробки с вином, принесли всю тару, что была в доме. Насыпали в блюдца купленных мною орешков.
– Коньяк, – ответил я на заданный Димой вопрос. Вера так тепло примостилась по соседству со мной, что между внутренностями и наружностью хотелось создать гармонию.
Пока Дима распоряжался коньяком, Вадим, разбрызгивая на пол, наливал вино в бокалы и чашки.
– Не, ребята, я крепыша… С винчика башка оловянная.
Характерная фраза, подумал я, вспомнив своего отчима. У того тоже похмелье объяснялось только неграмотной смесью напитков.
Эдик, как мне показалось, принципиально молчал, от вина, правда, не отказываясь. Супрун искал, в каком месте лучше всего поддержать кренящуюся Татьяну, и очередной раз понимал, что место это – грудь. Его рука на время застывала там, но как только пальцы начинали наигрывать что-то, Татьяна гневно сбрасывала расхулиганившуюся руку. Чернобров с опаской и восторгом расположился на краешке дивана.
Вера же сидела молча и улыбалась.
– Ну, поздравляю вас, господа… – поднял я чашку, которую обычно использовал под кофе.
– Вот, Сергей, и я присоединяюсь… – подтвердила Татьяна, как-то пристрастно сделав ударение на мое имя. – Выключите этого козла… – заявила вдруг.
– Ну сейчас, – угодливо произнес Супрун, не делая, однако, ни одного движения в сторону магнитофона.
– Ладно, – миролюбиво привстал я и нажал «стоп».
– Супрун, хватит меня лапать, – продолжала она недовольство, после того как очередная алкогольная доза понеслась в её буйную кровь. – Посмотри, Сергей-то Верку не лапает…
– Не лапаю, – подтвердил я, но насторожился. Неужели достаточно подумать об этом, чтобы Татьяна заявила мою мысль во всеуслышание?
А Вера вдруг обожгла меня взглядом и покраснела.
Все, включая Веру, как-то одновременно закурили, и я подумал ещё раз, что, если мои помидоры выживут, на них вместо плодов появятся сигареты.
– Нет, ребята, сегодня сыграли что надо… – подтвердил Вадим. Все покивали, а Эдик взвился вдруг:
– Да где там что надо… Ты куда там рубишь а-ля марчио… Барабан не может из такта вступить. Из гармонии выпадаете…
Опа!
– Да Эдик, да ладно тебе! – забеспокоился вдруг Вадим. – Ты вот винчику выпей…
– Я выпью… Только басиста надо менять. И тебе ещё работать и работать.
Атмосфера становилась напряжённой.
– Эдик, замолчи! – поддержал коллектив Паша.
– А чего замолчи? Будто ты всего этого сам не знаешь…
И тут соло выступила Татьяна.
– Послушай, музыкант! – она привстала, не с первого, правда, раза. – Чмо ты конченое, понял? Пришёл он в новый коллектив, а понты колотит, карась… Пошёл вон отсюда…
Эдик тоже встал. На мгновение мне показалось, что он сейчас замахнётся. Вместо этого он потушил в пепельнице сигарету и с ленцой в голосе произнёс:
– Ну ладно…
И вышел из комнаты в полной тишине.
Слышно было, как он шебуршит одежкой, как обувается. Потом дверь захлопнулась так, что я испугался за дверную коробку.
– Ты где такого борзого отыскал? – продолжала Татьяна, обращаясь к Паше. На колготках у неё я заметил длинную стрелку.
– В трамвае познакомились…
Все захохотали.
Паша получил от меня ещё один жирный плюс. Пусть и трамвайная, но это была его удачная находка.
Уход Эдика почему-то сплотил нас. Или здесь не обошлось без действия алкоголя? Заулыбался даже Чернобров. Улыбка у него оказалась вязкая.
Спустя полчаса БГ орал на всю комнату. Паша и Вадим сидели в обнимку. Дима с Чернобровым сооружали на кухне глинтвейн из коробочного вина.
Супрун с переменным успехом облизывал Татьяну.
А я вдруг сказал раскрасневшейся, почти прекрасной Вере:
– Давай поцелуемся.
– Давай, – охотно согласилась она.
Мы попробовали друг друга на вкус. После чего я почувствовал её зубки и неумелый язычок. Все смотрели на нас. Даже Супрун оторвался от Татьяниного уха.
– Серый, – отвлёк меня Паша, – Серенький… – видно, вино размягчило и его.
– М-м, – чуть отпустив её губы, отозвался я.
– Если что – у меня есть ключ…
Я не понял, что он имеет в виду, но оторвался от Веры.
– Ключ от бабкиной комнаты… Я могу дать, – он сказал это громко, так что слышали все.
– Дай лучше нам, – оживился Супрун.
– Нет, Верке, – твёрдо отвергла предложение Татьяна.
Я посмотрел на Веру. Она чуть кивнула в знак согласия.
Паша порылся в ящике стола.
– Я ей раньше цветы поливал… – и бросил мне маленький ключик.
Я поймал его вспотевшей рукой.
Потом мы, пошатываясь и хихикая, брели в тёмном коридоре, в котором пахло корицей. Долго вставляли ключ в скважину…
В тёмной комнате мы повалились на бабкину кровать.
– Аварии не будет? – спросил я. Она ведь такая молоденькая, Вера.
– Нет, – выдохнула, – я уже пробовала…
– Тогда раздевайся, – прошептал я, стягивая футболку.
– Не смотри, – шепнула она. Привстав, завозилась у меня за спиной.
– Не смотрю, – подтвердил я.
– Носочки снять?
Спустя минут сорок в дверь таки постучали. Я, прикрывшись футболкой, бросился открывать.
В темноте коридора вырисовывалась Пашина фигура.
– Ну? – коротко спросил я.
Он пытался заглянуть за меня, но я был выше его ростом, да и дверь только лишь приоткрыл…
– Слушай, они собираются… А здесь на ночь я вас не оставлю. Если она (меня резануло, но я промолчал) остаётся, идите на диван. Да и Танька спрашивает.
– Сейчас.
Я прикрыл дверь и вернулся к Вере.
– Я слышала…
– Вер… – я приобнял её за плечо. Я был благодарен ей за разбуженную во мне нежность.
– Серёжа, можно мне остаться? – она поднялась на постели, обняв одной рукой, поцеловала в подбородок.
– Да можно… – ответил я, не думая. Просто спать с Верой я тоже хотел.
– Тогда иди, я сейчас…
Я быстро оделся, вышел в коридор и вернулся в яркий свет комнаты.
– Ну чего? – я выглядел даже бодро, тогда как остальные уже засыпали на ходу.
– А-а, совратитель, – усмехнулась Татьяна. За то время, что нас не было, она вдруг сделалась трезвее.
– Вера сказала, что останется…
– Ну ещё бы… – лихо взъерошила волосы Татьяна. Поникший почему-то Супрун осоловело вращал глазами и периодически сморкался в платок. По-моему, ему было нехорошо.
Пришла Вера.
– Молодец! – сказала ей Татьяна. Вера покраснела.
Стали собираться. Долго искали свитеры и куртки, то и дело проливая недопитые стаканы с вином, стоящие на полу. Вадим с извинительным бормотанием прятал в карман недопитую бутылку. Чернобров выглядел довольным и трезвым. И каким-то вдохновлённым от причастия… к музыкантам, что ли?
Долго прощались. Татьяна шушукалась с сестрой в коридоре. Наконец я запер дверь за всей компанией. Как только дверь захлопнулась, отворилась другая. Как будто её распахнуло сквозняком. Перед нами, в ночнушке уже, стояла вторая наша соседка.
– Молодые люди!
Я замер. Изысканно выражаясь, если палево было, то полным.
– Проветрите, пожалуйста, а то курите втроём, а дышать уже нечем.
И тут меня переполовинил хохот.
Вера помогла нам с Пашей убраться. Мы как следует проветрили помещение, подогревая себя глотками оставшегося вина. Без него, я уверен, мы просто рухнули бы спать. Потом Паша демонстративно достал раскладушку, включил ночник.
– Ложитесь, я на лестнице покурю…
Этого я побаивался.
Когда он вышел, она выглядела растерянной. Видимо, даже не знала, в каком виде я хочу видеть её в постели. Я только вдруг стал понимать, как обошёлся с фактически ребёнком.
– Возьми мою футболку, – помог я ей.
Достал из шкафа чистую, хотел бросить на кровать – потом всё-таки протянул.
– Ложись, – говорю, – я пойду умоюсь.
– Мне надо косметику смыть…
– Ну дуй, я подожду.
Ловко избежал уединения с Верой. А привкус того, что она пошла смывать, ещё оставался у меня на губах сладковатым воспоминанием.
Потом довольно быстро вернулась, и в ванную отправился я.
Когда я умылся, она лежала с открытыми глазами, натянув одеяло на подбородок. Паша сидел на раскладушке и, стягивая брюки, что-то ей говорил, совершенно не стесняясь своих не аполлоновских, неразвитых ног.
В её возрасте свежесть можно вернуть несколькими горстями воды. Умытый, розовощёкий ребёнок смотрел в потолок, невпопад отвечая на Пашины вопросы.
– Выключаю? – спросил я Пашу. Это он, не она, ещё не разобрался со своими желаниями – болтать или всё-таки устраиваться спать.
– Ну, – подтвердил Паша, шумно забираясь в свой гамак и скрипя пружинами.
В наступившей темноте, где звуки стали слышны громче и резче, я тоже разделся. Потом, вместо того чтобы лечь, в одних трусах прошлёпал к двери балкона. Приоткрыл шпингалет, и отворенная тут же сквозняком дверь впустила в комнату ещё немного тёплого, почти сухого воздуха.
Я курил, успокаивая впечатления многоцветного, широкоформатного дня. И ощущение, что я буду спать не один, делало комнату, постель уютнее.
Об Оле я не думал вовсе. Она не то чтобы отодвинулась на другой план, просто эти миры – наш с Олей и мой мир с другой, милой и трогательной девчонкой – не могли пересечься у меня в голове даже гипотетически.
Прикрыв балкон, я залез под одеяло. Почувствовал, как зашевелилась она, поворачиваясь ко мне. Почувствовал губами невидимый поцелуй. Грех снова показался привлекательным, когда моя ладонь ощутила под футболкой влажные и гладкие, как тюленья кожа, выпуклости.
– Не надо, – прошептала она в темноте одним дыханием.
Моя рука остановилась. Я ощутил запах её волос и тяжесть головы на груди. Шершаво провёл по волосам ладонью. Не удержавшись, чмокнул её в макушку. Потом откинул голову на подушку. Не надо!
Зачем-то построенная нежность между нами была невесомой, как пыльца на бабочкиных крыльях. И такой же, как эти крылья, ломкой.
Мне было жаль этой нежности, которая непременно должна исчезнуть утром.
Подписано в печать
Я проснулся оттого, что боялся её разбудить. Всю ночь я спал, как спят на карауле хорошие солдаты. Только что не с открытыми глазами. Я боялся потревожить Верин сон!
Птичье утро уже вовсю ломилось в нашу квартиру, а она продолжала спать, повернувшись на живот, спрятав голову мне под мышку и держа меня возле себя правой рукой.
Естественно, хотелось пить. Я аккуратно переложил драгоценную руку на кровать, поднялся. Посидел немного на краю, прислушиваясь к Вериному дыханию, и ухмыльнулся тому, как Паша дрыхнул с открытым ртом. Да и к тому же поставив на пол ногу, как будто собираясь во сне куда-то идти.
Вера спала, и спало её желание, не чувствуя мучительного утреннего моего.
На кухне я напился из-под крана, включил кофеварку. Кофеварка досталась мне бонусом непосредственно к Паше. Возвращённое ему приданое.
Наступало похмелье. Не алкогольное, нет, а то, которым расплачиваешься за слишком развесёлые эмоции накануне.
Ну что я ей скажу, Вере?
Я вдруг стал тяготиться её пробуждением, но когда кофеварка, заурчав, притихла, взял полный кофейник и обречённо понёс его в наше логово.
– Серый, там на столе, в пакете?.. – у Паши даже не хватило сил задать полноценный вопрос.
Я поставил кофейник, взял со стола пакет, ощущая в нём перекатывающуюся тяжесть, протянул лежащему Паше. Вера, казалось, ещё спала.
– На. Только не увлекайся…
Он издал благодарное «угу», глотая прямо из дырки в пакете. По уголкам его рта побежали быстрые, розовые струйки.
Я сполоснул в раковине чашки, пальцами отмывая от красных ободков их внутренности, вернувшись, разлил кофе.
– Вер! – позвал я её.
Она с готовностью приоткрыла один глаз. Не спала, значит.
– Держи, – я протянул ей дымящийся кофе.
– Кофе в постель, – ожидаемо пошутило она не очень, впрочем, весело.
– А мне в чашке… – банально отозвался резко порозовевший Павел.
– Ха-ха, – мрачно подытожил я.
Потом мы хмуро завтракали бутербродами с плавленым сыром. Вернее, хмуро завтракали мы с Верой, а развеселившийся Паша весело опохмелялся. Я ему завидовал, потому как даже не чувствовал повода опохмелиться.
– Серёжа, мне надо одеться…
– А-а…
Мы с Пашей вышли на лестницу. Паша закурил, а я молча стоял рядом.
– Что-то вы не очень весёлые, – начал он.
– Заметно? – съязвил я.
– Заметно. Я думал ты с ней…
– Что? – попробуй-ка, Паша, сформулируй.
– Ну не так…
– Как – не так?
– Знаешь, иди ты, Серый… – вдруг вскипел он. – Я думал, что у вас что-то начнётся. Она же отличная девчонка.
– Извини, – говорю, – не оправдал твоих ожиданий, – ответил я ему и пошёл в квартиру.
– Серёжа, ты меня проводишь? – она красилась, глядя в маленькое зеркальце, и я не видел её лица. А голос мне показался будничным…
– Да… – эхом ответил я. Её будничный голос мне показался неприятным. А что я хотел? Бурных и ненужных объяснений? В чём? В любви, конечно… Мне просто показалось, что она поступила со мной так же, как и я с ней? А!
Мы молча вышли на улицу. Воскресное утро не баловало нас наличием прохожих. Я злился.
– Серёжа, – вдруг остановилась она, – возьми мой телефон, вдруг тебе захочется мне позвонить, – к этой фразе, кажется, она готовилась целый квартал. И удавшаяся ей маска равнодушия все-таки была маской.
– Диктуй, – улыбнулся я, – я запомню.
И вдруг произнёс волшебные, целительные слова:
– Я позвоню.
Блестящий выход! Как я не догадался о нём раньше. И волки сыты… Продолжать не стоит. Никакой овцой Вера не была. Забегая вперед, скажу, что тогда я проживал последние недели, считая себя волком. Пока ещё не так ощутимо, но откуда-то уже потянуло псиной.
Мы распрощались возле башенки метрополитена. После моих слов Вера оживилась и даже попробовала чему-то засмеяться, что получалось у неё мило и как будто бы виновато.
– Ну, всё? – произнёс я, когда мы стояли у самого входа. Потом, помедлив, подарил ей фальшивую надежду в губы, почувствовав запах кофе.
– Ну да… – отдала она и погрустнела опять.
– Беги.
– Бегу…
Когда она скрылась в полутьме вестибюля, я заспешил назад. Нужно было звонить Артёму. Мне нужны были деньги-деньги-деньги…
– А, писатель, выбиваешься из графика… – поднял трубку Артём, что-то жуя при этом.
– В смысле? – состояние было такое, что разбираться в артёмовской недосказанности не хотелось.
– Половина одиннадцатого… Слушай, ну давай часа через два у Зоопарка. Немного пройдёмся?
– Пройдёмся, – согласился я, – через два так через два…
– Жду, – коротко распрощался он.
Пока я провожал Веру, Паша глубоко углубился в познание алкоголя. Спустился за бутылкой «Массандры» и сидел перед ней, надувшись, словно заклинал прячущегося там духа.
Косо на меня взглянул.
Я ответил тем же. Чернобровая Вера, как та чёрная кошка, пробежала между нами.
Потом он всё же на что-то решился, глотнул.
– Серый, – вздохнул он так, будто готовился к долгому разговору.
– Ну.
– Тебе не кажется, что как-то некрасиво вышло?
– А кто под меня Майку подкладывал? – помянул я ему прошлое.
– А-а… Так Майке нужно было, чтобы кто-то трахнул её нарциссизм.
– Это ты решаешь? – осклабился я.
Он промолчал.
– И вообще, Паша, не лезь. Я постараюсь никого не обидеть. А на твоём месте я бы с этим поаккуратнее, – я показал на бутылку.
– А я чего-то Настьку вспомнил, – неожиданно грустно выдавил он.
О нет! Бежать от этих Пашиных приступов сентиментальности. На душе и так – словно в выгребной яме.
– Кстати, Серый… Эдик про твой инструмент спрашивал…
– И…
– Я сказал – не продаётся.
Гонимый алкогольным болотом, куда медленно и охотно погружался мой сожитель, я выскочил из дома. Доехал до Зоопарка. Выпил кофе в открытом кафе, глядя на играющих ребятишек. С ужасом подумал вдруг, что могу встретить здесь Олю. Я как-то позабыл, что она тоже была мамой.
– Мама Оля, – с усмешкой произнёс я.
Мне казалось, что достаточно дожить до нашей совместной поездки к озеру, чтобы потом всё пошло иначе. Главное, что я не задумывался – как?
Артём появился незаметно. Сменив «Алабаму» на лёгкую ветровку, он сделался уже в плечах. И как-то мягче в походке.
Он плюхнулся рядом со мной на скамейку, достал сигареты. Потом предложил:
– Пойдём прогуляемся.
Мы шли вдоль ограды зоопарка, где остро пахло зверями и сеном. Артём аккуратно перепрыгивал лужи и чем-то был доволен.
– Весна, мать её, – приговаривал он с удовлетворением. – Что пригорюнился, писатель?
– Да как-то всё… – неопределённо отвечал я.
– Спокойно. Деньги я тебе дам. Работай себе нормально. Я, в конце концов, тебе Югина посоветовал… – с ударением на «я». Как будто он в чем-то виноват. – Будет у тебя книжка.
– Книжка-малышка? – усмехнулся я.
– Да перестань… Кто там начинал за свои деньги – Гамсун… Ещё кто-то…
– Огромный список, – опять съязвил я.
– Да не важно. Лишь бы было от чего плясать. Ты, кстати, на праздниках чем занят?
Я чуть не поперхнулся сигаретой. С твоей женой за город собираюсь…
– Писать буду, – солгал я. С появлением в моей жизни женского желание писать отвалилось, уступив место другому – природному.
– Не хочешь прокатиться на Онегу?
– Куда? – удивился я, заметив, как устал фальшивить.
– В Петрозаводск! Там у меня родственники. Я к ним каждый год на майские езжу…
– Нет, Артём, нет… У меня же ещё работа. Только первого и второго отдыхаю.
– Капиталисты! – выругался он. – Кому, скажи, нужны эти газеты третьего мая?
– Да они и двадцать третьего ни к чему, – отозвался я.
– Ладно. Не хочешь в Петрозаводск, тогда насчёт денег!
Он полез в задний карман, достал сложенный вдвое конверт.
– Здесь в баксах. Так и вернёшь. Пересчитай, чтобы потом не было недосказанностей.
На рычащих согласных речь его опять заскрежетала орехами.
Мы долго и бессмысленно гуляли по Петропавловской крепости. Пили кофе в кафе бастиона. Фотографировали каких-то девиц рядом с памятником Петру Первому. Артём потешался над огромными ступнями памятника:
– У Петра был тридцать восьмой размер обуви… А это что за лапти, а, девчонки?
Я ему не поверил. Девчонки рассмеялись.
Напоследок Артём спросил:
– Чего-то ты, Серёга, не в себе?
– Хорошо, что не в тебе! – сострил я.
– Ну иди, добивай Югина. Тебе же сегодня ему звонить?
– Да.
Я решил возвращаться пешком. Набережной я дошёл до Литейного моста, глядя на блеск Невы, на непонятно чего ждущих возле уходивший в воду лески рыбаков, напряжённо вглядывающихся в воду, на выкрашенный серой краской революционный крейсер.
Пройдя мост, переулками и закоулками, скорее по наитию, вышел к площади Восстания.
Тоска не проходила – напротив, усиливалась. Я понимал, что набрал на себя кучу обязательств, которые мне предстоит как-то исполнить. Я вообще не любил долги (а кто их любит, долги?), но долги моральные мне не нравились вдвойне.
Вера, Оля… Артём… Я, кажется, запутался во вранье. Мне следует вести себя более осторожно.
Единственный человек, которому я бы мог пожаловаться и получить понимание, лежал сейчас на м-ском кладбище. Больше близких людей у меня не было.
Паша спал. Видно, его одолели мысли о жене. Ополовиненная «Массандра» светилась в солнечном свете ореховым, богатым цветом. Дурно пахла переполненная пепельница, забивая собой все другие запахи. Раньше я любил, когда в моей м-ской квартире пахло Катей. И сейчас мне бы хотелось, чтобы и Верин запах не выветривался подольше, однако ж вот – пепельница.
Мне нечем было себя занять. С тех пор как в моей комнате утвердился сожитель, я не написал ни буковки. Более того – не видел перспективы какого-либо изменения. Место жительства надо было менять как можно скорее.
Я вытащил деньги. Перепрятал их в ящик стола. Деньги, которые будут уплачены мною за путёвку в жизнь, думал я, и где-то в глубине души своей понимал шаткость этой надежды. Откидывая сомнения только тогда, когда уверял себя, что просто не знаю этой «кухни». Рецепта, по которому следует варить писателя…
Делать было решительно нечего. Разве что высыпать пепельницу и закурить, стряхивая сигарету в чистую емкость. Такая ёмкая перспектива…
Потом я улёгся на диван, и, всё в трещинах, передо мной раскрылось пространство потолка, предоставляя возможность плевать в любую его, потолка, точку. Хотя неотложных дел стало куда больше, чем написанных слов.
«Писателями так не становятся», – сделал я вывод и, обессилев от очевидности, испуганно заснул.
В своих рассказах я никогда не описывал сны! Скучно, не так ли?
Когда человек в разговоре с тобой всегда ровно бодр, это вызывает подозрение. Таким был Югин. Мне казалось, что сообщи я ему, что, например, в его дворе догорает его же автомобиль (наличие автомобиля я предположил гипотетически), Югин отреагировал бы примерно следующим образом:
– Ну ничего, всем сейчас тяжело. Разберёмся.
Исходя из этого, звонил я ему уже без волнений – всё одно получишь ровную, спокойную ленту информации. Моё восхождение на Олимп воспринималось Югиным естественно.
На этот раз телефон заговорил женским голосом. Жена? Дочка? По голосу – скорее жена.
– А кто его спрашивает?
Я назвался.
– Андрюша! – Жена!
– Да, Сергей… Надумали?
– Надумал, – ответил я.
– Ну и правильно, – легко подтвердил он. – Рукописям в столе не место… Так, по денежке мы с вами определились, – беззаботно продолжал он. «По денежке», – подумал я. Ничего себе денежки… – У вас есть набранные тексты?
– Конечно, – ещё бы у меня не было…
– Обложку вы продумали?
– Нет, – ответил я, хотя прикидывал в уме, что мне хотелось бы видеть на лице моего будущего… – Только идеи…
– Ну это с Юлией обсудим… Так-так-так, – соображал он и как будто бы барабанил пальцами по столу. – Приезжайте завтра часика в четыре в издательство… У вас визитка осталась? Там есть адрес. Зайдёте под арку, там сразу направо. Там табличка такая маленькая – «Светозар».
– Часика в четыре я не могу – у меня работа…
– Не мо-же-те? Ну хорошо, давайте полшестого? Юлия до шести… Возьмите дискету с рассказами. Ну деньги – само собой. Если что не так – подвезёте…
Юлия – это кто? Редактор? Корректор? Дизайнер? Какая разница – главное, что она до шести…
Ободрённый конкретикой, я немного успокоился. Скудный ужин и небольшая прогулка (или наоборот) – достойный закат безумных выходных.
В воздухе комнаты витал запах «Массандры». Проснувшийся Паша глотал вино прямо из бутылки.
Я обошёлся без комментариев…
Паша тоже обошёлся без моих замечаний. Только выдохнул:
– Завтра на репу…
Репа – репетиция. Где-то за Александро-Невской лаврой они собирались три раза в неделю. Я знал, что на «репах» на алкоголь группой было наложено табу.
– Слишком дорогое питейное заведение… – как-то обмолвился Паша. В том смысле, что помещение обходилось недёшево, чтобы собираться там с пивом. Если бы такие штуки понял в своё время Оса…
Поздно вечером, когда я вернулся, раздался звонок. Это была Оля.
– Серёш? – она звонила мне впервые…
От неожиданности я даже не знал, как ответить. Потом выдавил:
– Привет…
– Я соскучилась… А Артём вышел за сигаретами…
Сплошные перспективы
Днем, вернувшись за очередной полутонной газет, я подошёл к экземному. Его звали Влад.
– Влад, мне надо уйти пораньше…
Он посмотрел на меня так, словно я говорил ему что-то вовсе ненормальное.
– Пораньше – это как? – в голосе его звучало подозрение. Такое, будто оставшееся рабочее время я буду пахать на конкурирующую организацию.
– В полпятого, – говорю.
– Твое дело… – как-то отвернулся он от меня, и я не стал уточнять. Моё – значит, моё!
Я подготовился ещё с вечера. Купил дискету и с горем пополам скопировал туда имеющиеся файлы. Обменять деньги, выданные Артёмом, я рассчитывал в рабочее время. До издательства «Светозар» от места моей работы ходили трамваи. Переехал через мост, сбоку от которого Колизеем раскинулся стадион, где играет команда «Зенит», и ты уже на Васильевском острове…
Вернувшись на работу около четырёх, я оставил в коридоре проклятую телегу и тихонечко, не привлекая внимания, вынырнул вон. Пусть! У нас есть дела поважнее!
«Светозар» я нашёл сразу. Вообще мне непонятно, зачем долго и занудно объяснять схему проезда, когда есть адрес! Упражнения для идиотов. Замечательным было то, что «Светозар» находился в таком же примерно подвале, что и моя знаменитая газета.
Я нажал кнопку звонка. Подождав немного, железная дверь приоткрылась. Швейцаром подрабатывал здесь сам Югин.
– О, Сергей! – мягкая рука сунулась ко мне через порог. – Проходи…
Мы как-то незаметно и в одностороннем порядке перешли на «ты».
Потолки светозаровского коридора были мне не по росту. К тому же на потолке были проложены коммуникации с влажными, в капельках пота, трубами.
Он провёл меня под трубами, открыл одну из дверей. За дверью, уже с потолком нормальным, была отделанная комнатка, холодно освещённая экраном монитора. За монитором сидела маленькая женщина средних бед – не молодая, но и не старая. И как-то некрасивая в меру.
– Юля, это Сергей Степнов.
– Угу, – кивнула она, – насчет макета, – сказала себе.
– Ну, Сергей, вы тут с Юлией разбирайтесь, а потом зайдёшь ко мне…
Я сел. Юлия резкими движениями мышки то удлиняла, то уменьшала какие-то прямоугольники на экране.
– Сейчас…
– Да я не тороплюсь.
– Давайте, – наконец оторвалась она от синего свечения.
– Что?
– Дискету!
Я достал из внутреннего кармана пластмассовый квадратик со словами. Потом конверт с разменянными деньгами.
Она вставила дискету в узкую щель компьютера. Внутри него раздался скрежет.
– Текст есть, – сказала она, опять щёлкая мышкой с профессиональной быстротой, отчего то мои слова на экране приобретали разные шрифты, то уменьшались или увеличивались размеры страничек. – Текст есть, теперь обложка. А название?
Этот вопрос поставил меня в неожиданный тупик. Для собственной книжки названия у меня не было. Книга была как взрослая собака без имени…
Я быстро стал перебирать названия своих рассказов, как перебирают пальцами быстрые медсёстры карточки учёта в регистратуре поликлиники.
«Жил был он», «Судьба барабанщика», «Обычные встречи»… Пусть будут «Обычные встречи». Так и сказал.
– Вы уверены? – почему-то ей казалось, что это не лучший вариант.
«Пусть, – думал я. – Пусть будут…»
Это было… как рожать впопыхах. Или как подписывать приговор между делом.
Потом мы долго ковырялись с обложкой. Мне хотелось видеть на картинке поражённый омелой тополь. Фон мне виделся чёрным. Моя тогдашняя безвкусица привела Юлию в замешательство.
– Насколько я знаю, – заметила она, – омела – паразит?
– Да, – подтвердил я.
– Может, и книжку так назовём? – хохотнула она, а я глупо обозлился. Деньги-то платил я, хотя и заказывал музыку впервые.
Серый фон она всё-таки отстояла.
Серый и вправду был предпочтительнее!
Решив наконец все вопросы, я пошёл к Югину. Его кабинет находился в конце коридора.
На себя Югин денег не жалел. Или на него не жалело вышестоящее начальство? Уютные бежевые обои, стол красного сукна с множеством ящиков, дорогой письменный прибор.
Я сел.
– Так… Денежку? – как бы невзначай произнёс он, зная ведь, что вошёл я расплатиться.
Я достал конверт.
К его холёным ручкам шли большие деньги! Хотя большими мои деньги были только в моих руках.
Он медленно пересчитал купюры, положил их в стол.
– Ну вот, недельки через три…
– А договор? – неуверенно спросил я.
– Подпишем, конечно! – заверил он меня. И встал, направляясь к вешалке, где висело его изящное бежевое пальто. – Я побежал… Позвони мне недельки через две… После праздников.
Мне было нечего сказать, хотя вопросов накопилась уйма. Начиная с того, что деньги я ему отдал безо всяких подписей и документов.
– Договорились, – пробормотал я. – До свидания…
– Пока, – бросил он мне, кутаясь в шарф.
Пятясь, я вышел на улицу. Я всё ожидал, что он скажет: «Подожди, я ведь забыл…» Нет, не сказал. А с другой стороны – он всё-таки известная личность, чтобы рисковать своей репутацией… Да!
Я вернулся домой. в пустую комнату. Паша уехал на «репу», что было видно по отсутствующей на месте его гитаре. Следов алкоголя тоже замечено не было. Правда, не выкинутая, под столом стояла пустая «массандровская» бутыль…
Всё, что мне оставалось, – ждать. Три недели – до звонка Югину, неделю – до прихода краснодарских денег. Я надеялся отдать с них половину занятой у Артёма суммы. Три дня – до Первого мая. Дня, когда мы с Олей сможем остаться наедине… А, ещё и до первой за неделю зарплаты оставалась пара дней. Влад пообещал выплатить эту сумму до праздников. «Чтобы был не только хлебушек, но и маслице к празднику»! Его слова граничили с издевательством…
Газеты я возненавидел в любом их воплощении. Все они – начиная с еженедельных и толстых и заканчивая теми худышками, что раздавали такие же, как и я, рабы, – были противны мне даже на ощупь. К тому же я заметил вот что: нелюбимую работу вполне можно терпеть, но как только возникает возможность отлынивать от неё – это происходит всегда. Почему, например, я всегда выкидывал в мусорный бак пачку-другую? Распихать их – плёвое дело на фоне титанических, сизифовых при этом трудов целого трудодня. Однако, связанные верёвкой, эти газеты, со странным мягким шлепком падающие на дно бачка, как бы ознаменовывали конец рабочего дня. Они были символичны! Но! С каждым днем их становилось всё больше. Я прибавлял к обречённым на утилизацию газетам штук по пять, по семь и никогда не снижал выкидываемую норму.
Когда пришёл день зарплаты – а утром Влад объявил это во всеуслышание, – я вообще расхотел работать. Мне хотелось дожить до вечера, а главное – главное случится завтра. Оля сказала, что позвонит мне вечером сама, когда проводит Артёма…
В подтверждение моих свободолюбивых мыслей с утра зарядило какое-то особенно ласковое солнце. Тёмные подъезды с напоминающим о помойках запахом никак не влезали в перспективу этого дня.
Распихав чуть ли не бегом первую телегу, я не рванул по обычаю за второй. Сидел и грелся на каменных ступеньках непонятного учебного заведения. Потом медленно курил на набережной Карповки. Всё же заставил себя вернуться в подвал за следующей порцией.
Вечером Влад выдавал зарплату. Он по одному пропускал в свой кабинет своих скороходов, и через некоторое время те выходили с несколько отрешёнными лицами, складывая пополам тощие пачечки купюр. Я сидел долго, вошёл к нему почти последним.
Когда вошёл я, Влад протянул мне рукописную ведомость. На его плечах, очень даже заметные, виднелись чешуйки его болезни.
Заглянув в ведомость, чтобы расписаться, я вдруг не поверил своим глазам. Сумма, стоявшая напротив моей фамилии, была на треть меньше той, что рассчитывал я в уме. А Влад как-то нехорошо отводил глаза.
– А почему так мало? – спросил я без вызова. Хотя Влад и не производил впечатление строгого начальника, но, чтобы вот так сразу не вылететь отсюда, гордость свою нужно было оставить за порогом.
– Ну вы же брали полдня за свой счет… – Влад уже подготовил ответ на мой вопрос, это было понятно. Понятно теперь и то, почему он вызвал меня одним из последних. Хотел испортить себе настроение в последнюю очередь.
– Влад! – взвился я. – Я брал полтора часа!
– У нас так считается.
Умник! «У нас»! У кого – «у нас»? Снял с себя ответственность…
– Хорошо, – говорю, – но всё равно – мало!
– Неделю полностью – одни деньги. А так – шаляй-валяй – другие! В договоре всё написано, – он прятал глаза так, что к концу разговора мог обнаружить их в собственном кармане.
– Шаляй-валяй?! – переспросил я, вылупив глаза.
– В договоре всё написано! – ещё раз повторил он, пытаясь быть твёрдым.
Я понял, что разговаривать с ним бесполезно. Взял лежащие на столе деньги. Чиркнул в ведомости убогую закорючку. Встал.
– Хороших выходных, – облегчённо пожелал он мне вслед.
– До свидания, – выдохнул я, не обернувшись. Прозвучало это угрожающе.
Ладно! Я исполнил свои обязанности, как мог, а на удочку я попался потому, что карась ещё… А не рыбак.
Я выбрался из убогого подвала, засыпанного экземой, а солнце всё так же продолжало бить в лицо безразлично и беззаботно!
– Тебя! – холодно бросил мне Паша. Я весь вечер караулил телефон, а он перехватил звонок по пути на кухню. Не хватало ещё, чтобы он узнал Олин голос. Хотя, по её словам, виделись они раза два…
– Серёжа? – ласковый шёпот послышался в трубке.
– Почему ты шепчешь? – спросил я. Если бы Артём никуда не поехал, она бы вообще не позвонила.
– Ну так Венька…
О! Я вообще как-то позабыл о его существовании, да и что мог услышать такой маленький ребенок.
– Мы встретимся завтра?
– Да… – я всё больше надеялся на какую-нибудь подвернувшуюся подругу с ключами.
– Тогда так! Я Веньку бабушке сдаю в девять. Где-то в десять я – в Девяткино. Там и встретися – на платформе, у первого вагона. Угу?
– В метро? – не понял я.
– Нет. На платформе, – повторила она. – Там электрички ходят. Выходишь из вагона – и сразу платформа…
– Хорошо, Оля! Очень хорошо! Надо, наверное, что-то взять? – я не имел понятия, что берут в загородную поездку в Петербурге. У нас в М-ске всё просто! Вышел на берег М-ской… И никаких поездок!
– Я всё приготовлю. Ты же не был в Кавголове! А я была!
Что это за место с головастиковым названием?
– Я очень хочу тебя видеть… – опять зашептала она.
– А без «видеть»? – вдруг спросил я. Я разрешил себе вольность только в ответ её вольности. Вольности шёпота! Но какого шёпота!
– Ещё больше…
Ледяные страсти
На перроне было такое количество народа, что я испугался. Как в такой толпе я разыщу Олю? Сделав буквально несколько шагов по направлению движения, услышал её голос:
– Серёжа!
Взглядом я попытался отыскать среди прочих её хорошенькую головку.
– Я здесь! – и я увидел, как она помахала мне рукой и двинулась ко мне, расталкивая старушек с рассадой.
– Ну вот и я, – сказала, когда очутилась рядом.
– Ну вот и мы! – уточнил я и поцеловал её в макушку.
– Скоро поезд. Подержи, – она стащила с плеча рюкзачок и, отойдя в сторонку, стала завязывать шнурок на высоких ковбойских сапогах, поставив ногу на урну.
– Пойдём вперёд, – позвала меня.
Оделась она по-походному. Синие, заправленные в сапоги джинсы, крупной вязки свитер под кожаной коричневой курткой, одинаковой с цветом волос. В этой одёжке ей ещё больше шёл макияж. Темноватые в этот раз губы, подрисованные контуром, подкрашенные ресницы. Клоунские печальные слёзы, о которых знаю только я.
Медленно подползающий поезд вызвал сумятицу на платформе. Старушки подхватили пакеты с торчащей ботвой. Вот бы им мои сигаретные помидоры…
Нас с ней притиснули друг к другу в тамбуре, и от этих прикосновений веяло устаревшей советской эротикой. Я был вынужден обнять Олю раньше, чем планировал. И уж совсем не так, как хотел. Разговаривать было невозможно – каждое твоё слово слышал весь тамбур, и поэтому мы только ойкали и хихикали, когда толпа, тесно обжимавшая нас, активизировалась.
– Ехать долго? – спросил я её.
– Минут двадцать…
Я дотрагивался до неё осторожно. Злился, когда нас толкали особенно сильно. При людях заниматься прелюдией не хотелось.
А потом мы всё-таки, разъединившись, выскочили на платформу.
От озера тянуло прохладой. Оно находилось метрах в ста от платформы. Впереди, по ходу поезда, озеро вообще было с двух сторон от железнодорожной насыпи. Оно было настолько огромным, что противоположный берег его терялся в весенней дымке.
Мы спустились с платформы, пошли вдоль железнодорожного полотна…
– Нам туда! – показала Оля в далёкие, стоящие плечом к плечу сосны.
– А там что? – спросил я, все ещё надеясь на какое-то жилище.
– Там – ничего! – ответила она. – Но главное – никого!
– Это плюс! – отозвался я.
– Несомненный! – засмеялась Оля.
Тем временем береговая линия сделалась неровной, тропинка кончилась, и впереди начались бесконечные и непроходимые заросли ивняка. Мы поднялись наверх и пошли по шпалам. Сосны стали ближе, и я заметил, что путь к ним преграждает болото.
– Я там тропинку знаю, – хитро сообщила Оля, когда я указал ей на преграду.
Мы подходили к болоту, воздух сделался сырым и холодным. В синеватых тенях сохранились островки потемневшего снега.
Обогнув болото, мы вышли на ярко освещённую, неожиданную поляну. И на этой поляне, окружённой соснами, было тепло.
– Тебе нравится? – спросила она, подойдя к самой кромке воды. Солнце било прямо в лицо и нагревало черноту моей куртки.
– Как на сцене! – пошутил я. – Вот мы, а вот кулисы, – я обвёл руками темные от влаги сосновые стволы. – Только занавеса не хватает…
– Нам не нужны зрители, – серьёзно сказала Оля. Я обнял её сзади, и она взяла в холодные руки мои ладони.
Мы оживили дремавшее всю зиму, невостребованное кострище. Я натаскал опавших сосновых веток, и задымило бело и густо. Когда огонь разгорелся, мы сели на бревно, очевидно, лежащее здесь не первый год и отполированное многими туристами.
Ольга скинула куртку, и то же сделал и я. Становилось жарко. Я вспомнил о сигаретах… Достал из кармана пачку.
– Здесь? – засомневалась Оля, когда я предложил сигарету ей. – Ладно, давай. Не-не, я от костра, – отбранилась она от протянутой ей зажигалки. Закурив, оправдалась:
– От костра вкуснее…
Воцарилась тишина, и, видно, что-то почувствовав в этой тишине, мы побросали в костёр недокуренные бычки. Хотя, наверное, дело было не в тишине. Просто здесь нам никто не мешал…
– Нет, нет, хороший мой, давай не так, сыро…
В прибрежных камышах, обречённый, плавал ноздреватый лёд. Неподалеку от нас, в зарослях ивняка, щебетала птица неизвестной породы. Мы вернулись на бревно, сидели, обнявшись, слушали весну. Смотрели весну… Наше внимание переключилось с друг друга на окружавшие нас красивые вещи…
Говорить было незачем. Всё было сказано и сделано уже в предыдущие минуты. Теперь же нам хотелось побыть статистами, и время и место с лёгкостью позволяли нам насладиться этой ролью…
От костра толчками исходило к нам тепло, рождённое почти невидимым в солнечном свете пламенем. Ольга сидела, набросив на спину крупно вязанный свитер, который мешал нам немного раньше. Я поленился надевать даже футболку.
Она вдруг зашевелилась, прогнулась, пролезла мне под руку и положила голову мне на колени. Я погладил её по плечу, потом по растрепавшимся волосам.
– Возвращаться не хочется, – сказала она тихо.
– Не хочется, – устало подтвердил я.
– Я, наверное, дура, но мне хочется плакать…
– Поплачь, – ответил я, очень понимая эту её фразу. Рукою почувствовал, как она вздохнула.
– Серёжа, как… – она подбирала слово, – как прекрасно. Но, выходит, по-предательски одновременно….
Она хотела ещё что-то сказать, но я прервал её.
– Жизнь многогранна, – произнёс я оправдательно (не мог же я обвинять её в неверности мужу), – как-то так и должно быть… Я раньше писал стихи, – признался я, – там была такая строчка: «Но страдать будет тот, кто достоин страдать…»
– Ты действительно так считаешь?
– Более чем.
– Забавно.
– Забавно – что? – не понял я.
– Забавно, как ты это коротко сформулировал… Я, наверное, думаю о чём-то подобном довольно часто. Но никак не могла найти подходящих слов.
– Дело не в словах – «А мое-то дело – в словах», – подумал вдруг. – Дело в чувствах… Точнее, в чувствительности… Я же не идиот, чтобы воспринимать мир однобоко. Говорить – «мир хорош». Или «не хорош».
– Не идиот, – услышал я и почувствовал, как она там, в коленках, улыбнулась. Я тоже таял, как последний в этом году майский лёд. Только в моём случае это было не от солнца, а от нежности…
– Ты не обижайся, Серёш, но я всё про Артёмку теперь думаю…
Я не обиделся, но прислушался к ней. Незримый Артёмка не вмещался в мои сегодняшние планы.
– Вот что я поняла, когда мы с ним около полугода прожили. Я поняла, что выходить замуж надо за того, с кем вдвоём можно… скучать!
– Скучать? – удивился я.
– Да… Страсти проходят, а остаётся скука… Если она совместная, из неё и выход ищешь вместе. А когда скука по раздельности…
– Мне никогда скучно не было, – возразил я.
– Ты никогда и в браке-то не был… Совместная жизнь – это ещё не брак. Всегда можно уйти, переждать скуку и вернуться. А потом – страсти, страсти… – она опять улыбнулась. – Я ведь хорошая жена хотя бы потому, что понимаю это.
– А мир при этом более многогранен, чем рамки, которые ты для себя поставила…
– Ну как-то так. У нас бы никогда ничего не произошло, если бы не тот разговор на кухне.
– Тогда с Берлиным?
– Ну да, да… Когда ты Артёмку потрепал. Я слышала, что ты хотел ему сказать, лучше, чем он сам. Ты правильно говорил неприятные вещи. И в понимании этого – твоя смелость. Мы вообще – специалисты по зарыванию таланта в денежные знаки.
Вот поэтому меня привлекает Точилин! Хотя он и омерзителен…
На её плечо села медленная весенняя муха. Я согнал её взмахом ладони.
– Талант, талант, – пробормотал я, – все говорят о таланте, а я и не знаю, в ком из нас он есть, а в ком его нету…
– Серёш! – Она привстала с моих коленей, натянула свитер. – У нас на Моховой был один парнишка. Саша Лесь такой. Его имя и фамилию все произносили одним словом. Когда нам было восемнадцать, ему – двадцать шесть. Как его приняли – я не знаю. Такой, знаешь, добродушный, улыбчивый пенёк. Говорили: «Ну что ты, как Сашалесь…» Высшая степень заторможенности! Таланта у него не было вообще! Как… как вот пальм в этом лесу. Или страусов. Но театр он любил начиная с вешалки. Над ним смеялись, а он молчал и занимался. Знаешь, где он теперь? – она выждала паузу, чтобы произвести наибольшее впечатление. – В театре… кукол! Да! И ему наплевать на бесталанность – своего-то он добился…
– Ну и пойду сочинять… этикетки на бутылках! – ухмыльнулся я.
– Пиши, дурачок… А что закопать – всегда найдётся.
Мы ещё помолчали, вглядываясь в водную гладь, освещённую высоким солнцем.
– Оль, а расскажи мне про Розина…
Она повела бровью, насторожилась.
– Зачем?
– Потому, что Розин – противоположность Артёма.
– Да… Розин… – она встала, подняла с земли прутик, подошла к воде. – Серёш, ему просто было на меня наплевать. Наплевать на мои чувства, которые не относятся к нему. Он любил быстро, ел острое, пил только крепкое… Чай или коньяк – не важно. Словом мог ударить. Дела делал – мгновенно. В нём было понимание жизни! Он стал эгоистом потому, что разочаровался во всём остальном. Он никогда не восторгался – всегда снисходил.
Я с каким-то мазохистским восторгом дорисовывал себе черты этого человека. Привлекательный тип! Отвратительный до привлекательности.
– А ты?
– А что я? – она села на корточки, опустила в воду прутик. – Я устала… Как-то летом принёс золотые серёжки. «Подарю, – говорит, – если голой на балконе сигарету выкуришь». Хиханьки-хаханьки, а потом смотрю – он серьёзно! А у него третий этаж, и народу внизу толпы ходят. Я разделась и пошла! Он со мной. Покурили. Он протягивает серёжки, а я коробочку шварк с третьего этажа людям под ноги. А он мне: «Вот за это тебя и люблю!» Нежным ненадолго сделался…
Розин сказал мне об Ольге больше, чем она сама.
Оля достала из рюкзачка термос и бутерброды с колбасой и рыбой. Колбаса случилась сырокопченой. Лоскутки рыбы были ярко-алого цвета.
– А, у меня вот что ещё есть, – она вынула свёрнутую в несколько раз полиэтиленовую скатёрку.
– Потом постелим, – неопределённо произнёс я.
Поняв, куда я клоню, промолчала, отложив скатерть в сторонку.
Солнце было ещё высоко, когда в воздухе почувствовался вечер. Коротко свистнув, прошёл вдалеке железнодорожный состав. Скатерть-самобранка растерзанно отдыхала на возвышении…
– А я хотел, чтобы ты раздобыла ключи от подругиной квартиры… – улыбнулся я. Мы сидели, обнявшись, прикрыв голые спины одной на двоих курткой. Сзади дуло, но нам не хотелось одеваться.
– Дурачок… – она погладила меня по руке. – У меня нет таких подруг. У меня вообще нет подруг. Есть только приятельницы.
– И у меня. У меня тоже нет друзей.
Помолчали, ещё теснее прижимаясь друг к другу.
– Оль… – хотел задать я вопрос, который мучил меня с самого начала, с первого нашего поцелуя. Прозвучало до того хрипло и неуверенно, что она поняла, о чём речь… Поняла и прикрыла мне рот ладошкой.
– Ты хотел спросить, что будет дальше? – мы практически касались лбами.
Я согласно покивал головой.
– Я не знаю… – ответила. – Ведь мир многогранен. Так?
– Я, например, влюбился в чужую жену… – произнёс я осторожно и зажмурился. Произнёс признание, наверное, первый раз в жизни! Семнадцатилетние сопли не в счёт.
– Серёш, – она благодарно сжала мою ладонь, – не говори о любви. Ладно? Пока хотя бы…
Слова её были по-своему мудры. Любовь подразумевает под собой ещё и ответственность…
– Пора одеваться, – грустно сказала она и прижалась ко мне ещё крепче.
– Олька! – я обнял её крепко-крепко и не смог сказать того, что чувствовал.
Обратно мы брели, взявшись за руки. И чем дальше отходили от того заповедного места, что показала мне она, тем сильнее сжимал я руку, чтобы не отпустить Олю от себя. В мире, в котором кроме тебя есть ещё масса народу, удержать любимую куда сложнее…
Мы расстались в метро. Провожать её не стоило. Мало ли удивительных и ненужных встреч подсовывает нам судьба.
– Ты позвонишь мне завтра? Я буду ждать.
– Конечно. А когда приезжает Артём?
– Четвёртого…
– А завтра… – во мне промелькнула робкая надежда.
– Завтра я с Венькой…
Ах да! Я опять забыл про то, что у неё есть сын!
Я медленно шёл по своей улице. Идти домой не хотелось. Потому что дом с появлением Паши перестал быть мне домом, логовом – да. Хотя в логове звери зализывают, а не бередят полученные раны.
Теперь у меня была актриса. Но жизнь моя не сделалась слаще – напротив, долги и отсутствие человеческого жилья превратили роман с актрисой в мелодраму с отсутствием перспектив.
Как бы я хотел, чтобы какой-нибудь злополучный трамвай переехал Артёма, гуляющего с ребёнком. От мысли этой мне вдруг сделалось гадко, но при этом мысль никуда не девалась. Эта единственная мысль, в которой я видел – о ужас! – надежду.
Подходя, я поглядел на своё окно. Свет горел, а значит, меня ожидал тесный остаток вечера с Пашей под боком.
Что ж! Мир многогранен!
К полюсам
А в последующие дни стало только хуже. Я вдруг начал казнить себя за несостоятельность. Я чувствовал себя воздушным шариком, в котором проделали дырочку, и из дырочки утекает воздух, дающий шару упругость.
Мне везде мерещилась Оля, и все остальные дела вызывали во мне в лучшем случае равнодушие.
Она звонила мне пару раз, но что можно сказать женщине по телефону, после того как пережил с ней один из лучших дней… Беспечной же болтовни не получалось. Мне надо было видеть, чувствовать её – телефонное оцепенение было вообще ни к чему. Мне были неинтересны последние её новости, чужды заботы… Мне хотелось вечного Кавголова.
После злополучного инцидента на работе я вообще прекратил разговаривать с Владом. Хмуро получал свои газеты и в компании телеги двигался по своему маршруту.
В перерыве между праздниками я нашёл банкомат, чтобы снять свои краснодарские деньги. Не глядя на экран, привычно набрал код. Аккуратная семейная пара, живущая в моей краснодарской квартире, посылала деньги первого числа каждого месяца.
Денег не было! Это было странным! Может быть, по каким-то причинам, из-за праздников например, перевод денег задержался? Я бы не стал волноваться, если бы не знал аккуратность моих съёмщиков. Так или иначе – денег не было.
Вечером я набрал свой краснодарский номер. После долгих щелчков услышал гудки. Они кажутся особенно длинными тогда, когда не ожидаешь ответа. Ответа не было! Я положил трубку. В конце концов, семейная пара не должна сидеть возле телефона, ожидая моего звонка. Да и телефон матери Юрки – временного хозяина квартиры – у меня был. Я начал беспокоиться. Не за семейную пару, на них мне было плевать! Я начал беспокоиться за свои деньги! Дальше – через запятую: честь и совесть.
Набрал номер.
– Юру? – переспросил глухой женский голос. Мама?
– Юру, Юру! – заторопил её я.
– Юрочка…
В трубке что-то завозилось.
– Да!
– Юрка! Это Степнов…
– Ну слава богу! – чему-то обрадовался он. – Я тебе в М-ск не могу дозвониться…
Мои подозрения как-то нехорошо оправдывались.
– Я в Питере!
– Ого! А я-то думаю… В общем, я тебе весь апрель звонил – хотел сказать. Мы с Натальей разбежались…
Дальше я почти ничего не слышал. После этих слов всё стало понятно. И в первую очередь то, что я взял на себя непосильные обязательства. Деньги Артёма ушли Югину! Просить их обратно – ниже любого достоинства.
– Как приедешь – ключи у меня…
Я что-то вяло отвечал.
– Хорошо ты устроился, – напоследок заметил Юрка.
Тебе бы так!
Я чувствовал себя приговорённым к смерти. И самое главное – мне вдруг стало стыдно! Стыдно за мои литературные попытки, хотя сейчас я заменил бы их словом «потуги». Стоило ли тужиться не для того, чтобы родить живое, а только лишь чтобы исторгнуть из себя чужеродное. Распрощаться с глупыми, ой какими глупыми мечтами.
Я закурил, приоткрыв дверцу балкона. Паши, к счастью, не было. Только его мне сейчас не хватало для полного несчастья.
От стыда кожа под волосами горела. Не кожа – шапка! «Пиши, дурачок!» – вспомнил я Ольгину фразу.
– Ум-м, – замычал я, стесняясь этого и не обладая мужеством сдержаться. Закурил вторую.
– Думай… Думай! – бормотал себе я, ходил кругами по комнате, соря пеплом в растопырившие зелёные лапы помидоры. Если я задевал рукой один из листиков, помидорная ботва начинала покачиваться, как будто бы кивая…
На чёрный день у меня оставалась ещё гитара. Хотя говорят, что проще продать свою жену. Но жены не было, и мне не с чем было сравнивать. Паша что-то говорил насчет Эдика…
Паша вернулся поздно. Наши отношения, охлаждённые историей с Верой, так и оставались прохладными.
– Паша, – обратился я к нему, когда он только вернулся. Сел на кровать, поставил на пол пакет с какой-то снедью, – дай мне телефон Эдика!
Он холодно фыркнул:
– Что вдруг?
– Он хотел гитару?
– Ну хотел…
– Ну вот.
Он как-то недобро посмотрел на меня, встал. Взял со стола записнушку:
– Пиши…
Телефонный Эдик оказался ещё хуже Эдика живого.
– Я же карась… – сдержанно ответил он, когда я объяснил ему свой звонок.
Я не знал, как солгать ему, что это не так. Потом ответил:
– Я тебе просто предлагаю инструмент. Паша сказал, что ты хотел купить…
– Ну допустим. Сколько?
Я назвал ценник, отпилив от него третью часть реальной стоимости. Вдогонку посулил бесплатный чехол.
– Смеёшься? – с издёвкой произнёс он. А я – я принялся ему что-то объяснять… Зачем?
Его логика мне была ясна. Если после такой ссоры ему звонит кто-то из обидевших с предложением, значит, этому кому-то очень срочно нужны деньги. Если ему срочно нужны деньги – предложение можно принять, когда цена станет смешной.
– Сколько ты дашь? – обессилил я. Пресмыкаться перед Эдиком мне надоело.
– Баксов двести…
Твою мать! Баксов двести – это и есть та сумма, которую я откусил. Подавился своим же куском!
– Ну ты и мудак, – только и смог произнести я. И повесить трубку.
Возвращаясь в комнату, я споткнулся о пакет с едой, так и оставленный Пашей посреди комнаты.
Споткнувшись – выругался. И злобно произнёс, обращаясь как бы не к Паше:
– Убирать надо…
Он посмотрел на меня искоса, ничего не ответив.
Назавтра ничего не изменилось. Нести инструмент в скупку я не хотел – деньги, полученные там, вряд ли оказались бы много больше тех, что предложил Эдик. К тому же временные рамки реализации были неопределёнными. Я тонул, чувствуя себя тем, что, по поговорке, вообще-то никогда этого не делает.
Когда вся страна отмечала День Победы, я испытывал горечь поражения. К Великой войне, к счастью, это никак не относилось. Десятого Оля играла спектакль. После него мы договорились встретиться. Оля была единственным живым человеком, которого мне хотелось видеть. Только она способна уберечь меня от проблем. Вернее, мне казалось, что с ней я забуду о проблемах. Пусть даже на время. О том, что проблемы надо решать, а не бежать от них, я как-то не думал.
После четырёх или пяти дней холодного ветра и мрачных, почти снеговых туч опять наступило тепло. Неподвижный воздух наполнился юным запахом зелени. Пускай даже сама зелень проступала лишь горсткой листьев с цветочками мать-и-мачехи возле канализационных люков и едва уловимой дымкой на немногочисленных в центре города кронах деревьев.
Мне не терпелось. Я ходил по освещённой комнате, курил больше обычного, попытался что-то писать, но рука выводила «ОляОляОляОльга» с замысловатыми вензелёчками. К имени присовокуплялись изображения губ, глаз… клоунских слёз… Купленные мною краски так и оставались нетронутыми в ящике стола.
На спектакль я не попадал. Мы как-то не подумали о проходках, не было возможности встретиться, а билет я не купил… При том что помимо денег не было ещё и настроения.
Около шести – а оставалось ещё часа два, не меньше – я был готов. Оделся по моде. Моду в этом году диктовал себе я сам. Зимой – телогрейка… Сейчас – приобретённая ещё в марте джинсовая светло-голубая куртка с удобными карманами для паспорта и пачки сигарет.
Закрыл входную дверь, спустился по холодной даже в это время года лестнице. И пошёл к театру пешком, с полуулыбкой вспомнив моё первое путешествие.
Наглотавшись Достоевского, я был уверен, что таких дней в Петербурге нет. Мне казалось, что дождливая, расхлябанная весна сразу переходит в жаркое, раскольниковское лето с пылью и духотой. Пожив здесь, стал подозревать, что что-то подобное сегодняшнему дню вполне вероятно. Но прожить в нём – в таком восхитительном дне – этого мне ещё не выпадало.
Фонтанка была голубой и ослепительной. Как будто бы с весной воды очистились и река, сбросив старую кожу, вылиняла и помолодела. Так проходят нестрашные ожоги – на смену дряблой, наполненной буроватой жидкостью болячке приходит младенческая розовость. Розовость в случае с Фонтанкой была окрашена в голубые оттенки.
На Аничковом мосту, тягаясь ослепительностью с Фонтанкой, фланировали длинноногие красавицы. Человек-бутерброд, закованный в фанерные щиты с рекламой, зазывал прокатиться «по рекам и каналам» в хрипящий и невнятный громкоговоритель.
Когда я свернул с Невского на набережную, стало потише. Большая часть грациозных женских созданий достаётся главному проспекту. Так и должно быть.
По реке то и дело, качаясь на воде, как пустые мыльницы, проходили теплоходы с беспечными, восторженными пассажирами. С одного из них доносилась громкая, веселящая музыка, и я подумал, что таким дням вообще идёт торжественность, не чуждая веселью.
Ах, если бы всё не так! Если бы жизнь была чуть менее многогранна. Если бы я не поторопился и брошенные на ветер и волны слова так и остались бы там, ожидая своего часа. Если бы незнакомая мне машина уже не конвертировала бы деньги Артёма в мои, те самые слова, за которые я не могу расплатиться.
Всё, что я просил сейчас, – немного беззаботности! Капля немецкой крови, столкнувшись с не свойственной ей торопливостью, не смогла удержать меня от необдуманного шага. И об этом я тоже пытался не думать! Как об известной обезьяне, показывающей миру свои седалищные мозоли!
Я долго сидел на скамейке в скверике неподалёку от театра. Съел мороженое, выкурил несколько сигарет. Пары на соседних скамейках сменяли друг друга. Молодые и – да! – беззаботные. Наверняка без… работные. Студенты, как будто… Одни пили пиво, другие ворковали и нестрастно целовались. Все страсти у них ещё впереди, и это вроде бы само собой разумеется. А когда страсти позади – это мудрость или… старость? А?
Вот так я размышлял, пока не пришло время. Я встал, отряхнул с джинсов сигаретный пепел. Пора!
Появилась она рано. Одна! Торопливо оглянулась в мою сторону, показала рукой: «Иди».
Я вышел за ограду, медленно пошёл по тротуару. Она догнала меня и выдохнула:
– Пойдём… – быстрыми шагами мы стали удаляться ещё дальше по Фонтанке. – Пойдём, пойдём, – торопила она, – сейчас наши начнут выходить…
– И стрелять в спину, – пошутил я.
– Ну, – говорит.
Когда мы отошли достаточно далеко, она замедлила шаг.
– Ну, куда? – спросила.
– Ты же обещала показать мне Калинкин мост…
– Далековато, – странно ответила Оля. В её голосе слышалось плохо скрываемое недовольство.
– Хочешь на крышу? – вдруг загорелась она. – Хочешь?
– А можно?
– Ну я же предлагаю…
Мы шли молча. Вернее, мы обменивались информацией, а не беседовали. Я относил это к тому, что мы наметили цель. И молча идём к ней, не размениваясь на разговоры.
Мы перешли мост, прошли квартал, свернули в жёлтую подворотню. Остановились возле металлической двери с кодовым замком. Дверь была приварена так небрежно, что уродовала даже этот грязный, асфальтовый двор.
– Это Точилин нашёл… – объясняла она, подбирая код. Потом распахнула дверь в полутёмный подъезд.
Пыльно затопала кроссовками вверх по лестнице.
– Подержи, – на последнем этаже она протянула мне сумку. В потолке последнего этажа оказался люк, к которому вела тонкая лесенка. Оля уцепилась за перила, поднялась на пару ступенек и откинула деревянную дверцу.
Из отверстия посыпалась извёстка и хлынул свет.
– Фу! – отплёвывалась Ольга и уже мне: – Лезь.
Из тесного чердака мы ступили на загрохотавшую под ногами крышу.
Это была не очень высокая крыша. В одну сторону с неё были видны только соседние дома и немного куполов, но с другой – с другой перед нами распласталась своими изгибами Фонтанка.
Я поставил её сумочку на тёплое железо. Сел сам, доставая сигареты… Протянул ей.
– Вон театр, – сказала она, прикуривая.
– А вон Никольский собор, – показал я свои знания.
Мы курили и молчали, а я почему-то не мог её поцеловать. Хотя десять дней назад мы были гораздо ближе.
– Как спектакль? – спросил я её.
– Да как тебе сказать… Обычный. Когда их много – это становится работой. Сегодня отработала нормально. Завтра – хуже, послезавтра – лучше. Так-то, Серёш…
– Я скучал, – вставил я, чтобы как-то сократить дистанцию до поцелуев.
– А мне некогда было, – «Скучать или вообще?» – подумал я. – У Веньки сопли пузырями, Артёмка рыбы привёз. Два дня чистила – до сих пор не проходит! – и она протянула мне руку вверх ладонью. На пальцах виднелись чуть схватившиеся корочкой царапины.
– Пройдёт, – ободрил её я. – Иди ко мне…
Оля сжалась и полезла ко мне под мышку. И даже когда стало теснее, я ощущал её непонятный мне холод. Из движений её исчезла тёплая гибкость.
Её грудь оказалась у меня прямо под ладонью. Оставалось приблизить ладонь на несколько сантиметров. Потом сжать посильнее. Потом… Никогда бы не подумал, что несколько сантиметров могут оказаться преградой. Я же не прыгун в высоту.
Я немного отстранился. Взял в ладонь её красивое лицо. Посмотрел в глаза, не увидев на щеках знакомых клоунских слёз. И наконец поцеловал. Ещё раз…
Как будто плескал ей на лицо воду, чтобы разбудить.
Она ответила. Сначала неуверенно, мягко, пробуя на вкус перспективу… Потом мягкость исчезла. А потом я уже не задавал вопросов.
– Здесь могут быть другие… – через поцелуй добавила: – романтики, – свободной рукой она махнула в сторону дверцы.
– Пусть видят, – сказал я что-то ужасное, такое, что любила она. Стоять на балконе Розина… чтобы все… глядели… на её наготу.
И в подтверждение этому сама помогла мне с пуговицами.
Оля елозила попой по крыше, натягивая джинсы. Я – только застегнулся.
Внизу, там, где не было неба, по углам ожили прятавшиеся весь день сумерки. Нагретая за день крыша с неохотой отдавала своё тепло.
Натянутые провода разлиновывали небо.
Она вдруг спросила, сосредоточенно опустив глаза, как если бы вопрос давался ей с трудом:
– Спускаемся?
По крыше, утробно курлыкая и царапая коготками, бродил голубь. Увидев какое-то резкое движение с нашей стороны, захлопал крыльями.
– Взлетаем… – предложил я, указывая на удаляющуюся птицу.
– Нет, Серёш… Спускаемся, – во фразе был нехороший подтекст, которому я не хотел верить. В этом смысле я был для неё своего рода Станиславским!
Мы полезли вниз. Я угодливо подставил ей объятия, спустившись по лесенке первым.
– Я сама… – отреагировала.
Мы шли по ступенькам вниз. Четвёртый этаж… Третий… Первый… Подвал. Ад! Увлёкся… Металлическая дверь первого этажа выпустила нас на улицу.
Я не знал, что мне делать, понимая, что веселить Олю бессмысленно. Мне некуда было девать руки, и я спрятал их в карманы джинсов. Там рукам было тесно, и тогда я прикурил ненужную сигарету. Молчание тяготило, а к тому же я понимал, о чём говорит такое молчание.
На мосту через Фонтанку она вдруг остановилась. Долго смотрела на очередной прогулочный теплоходик, опершись руками о перила моста. С теплохода, исчезающего прямо под нами под мостом, доносился смех.
– Какие счастливые люди, да? – сказала, доверчиво наклонив голову. Она так и не поправила причёску, и спутанные волосы делали её лицо подростковым. Я поправил ладонью её челку. Положил руку ей на плечо.
– Счастливые, да…
– Ну пойдём, пойдём… Меня ребёнок ждёт…
«Ах да, у тебя ребёнок», – чуть не сказал я. Не сказал только потому, что сегодня-то про ребёнка я помнил. И что самое обескураживающее – сегодня, в отличие от предыдущей встречи, она тоже про него помнила.
В метро было пусто. Напраздновавшийся народ не вылезал из домов в последний вечер праздников, предпочитая готовиться к рабочей неделе.
Мы спустились по эскалатору, сделав несколько шагов, остановились в сторонке. Ехать нам надо было в разные стороны.
Она помялась, видимо, подбирая слова прощания.
– Прости меня… – прошептала. Заменив слова прощания на… слова прощения. – Наверное, больше говорить нечего? – и улыбнулась так жалко.
У меня поплыло в глазах. Мир на несколько мгновений покачнулся, как палуба того самого теплохода, где плыли сейчас окружённые ласковой водой, счастливые люди. Когда качка исчезла, уступив место тошноте, я услышал себя:
– Наверное, нечего… Я всё же хотел, чтоб ты знала…
Она опять, как и тогда в Кавголове, прикрыла мне рот рукой. Вернее, остановила меня, приложив к губам два пальца и навесив на губы невидимый замочек.
– Не надо, Серёш, говорить о том, о чём потом будешь жалеть…
Мне хотелось кричать. Задать вопрос всем – полупустому вестибюлю, редким пассажирам, ей: «Почему?» И не делал я это по одной только причине – ответ я знал! Я знал ответ на вопрос «чем это кончится?» ещё тогда – в скверике больницы, когда поцеловал Ольгу впервые. Я просто не задавался другим вопросом, куда более важным – «сколько это продлится?»
Чтобы сохранить достоинство, надо было уйти! Но так невозможно было оторваться от её лица и глаз. И теперь недоступных, как створки навсегда сомкнувшейся раковины, губ. И к чёрту несуществующие, придуманные мною клоунские слёзы…
– Ну всё? – к счастью, она замкнула мои слова и спокойно могла говорить сама.
Я кивнул.
Она сделала шаг назад, развернулась… Пошла, не оборачиваясь. Я только сейчас заметил, какая у неё гордая осанка. С такой осанкой даже врать проще…
Деревянными пальцами я достал сигарету. Потом вспомнил, где я. Убрал сигарету в пачку фильтром вниз. У Кати была такая примета – если такую сигарету выкурить последней и загадать желание… Желание я бы загадал, но до последней сигареты в этой едва начатой пачке было ещё далеко!
Под страхом жизни
Долги никуда не делись. Я стал понимать, что без краснодарской квартиры мне не протянуть. Вернее, протянуть, но ноги.
Работа давалась мне всё труднее. К весу газет теперь прибавилось ещё одно, не менее тяжёлое бремя. И даже когда газеты кончались, тяжёлые мысли – нет! Я волочил домой ноги и этот, не менее энергозатратный груз.
Капля немецкой крови не давала мне уйти в алкоголь. Даже просто крепко выпить и отпраздновать поражение. Хоть что-то в этой жизни должно быть упорядочено – даже если это череда несчастий.
Труднее всего было думать об Оле. Вернее, не думать о ней – вот что было труднее всего. Несколько дней после злополучной встречи я ждал звонка. Вечерами сидел, как пёс, но не под дверью – у телефона. Надеялся, что она вдруг придёт. Понимал, как это глупо, и продолжал надеяться.
С Пашей я вообще не разговаривал. Обмолвился в раздражении, что съеду недели через две. Он только кивнул. Наверное, следовало бы переехать на раскладушку, но я не знал, как ему об этом сказать. А тем временем подходил день зарплаты.
На вторую половину праздников Влад вообще куда-то уехал. Дама, меня на работу принимавшая, сказала, что деньгами заведует только он.
Когда он появился – с лёгким загаром, отчего его экземные пятна стали ещё заметнее, – хмурые утренние работники оживились. Получив подтверждение о наличии денег – загалдели. Я же – напрягся. Я подсчитал все рабочие часы и минуты. Я подготовился, если надо, отразить любое его покушение на мои копейки.
Вечером он вызвал меня одним из первых. Когда я вошёл, он курил в кабинете. До этого я не замечал за ним таких вольностей.
– Здрасьте… – неприязненно произнёс я и сел.
Вместо ответа он протянул мне ведомость. Напротив фамилии – сумма. Вся! Верно рассчитанная и мной, и моим руководством… Рукоблудством.
– Сергей… Как бы это ещё не всё… – проговорил Влад, опять пряча глаза.
– Вычеты? – издевательски спросил я.
– Как бы не сработались… – вдруг произнёс он, и я не сразу понял, что он имеет в виду.
– Это как? – я даже привстал.
Он напрягся, словно бы в ожидании удара.
Понтов как бы до… ну, в общем, почти по пояс, – и он длинно и отвратительно сплюнул в пепельницу. Потом, поняв, что дал слабину, поправился:
– И работаете медленно.
Теперь я понял, почему вошёл в кабинет в первых рядах. Если что – за стеной сидела целая свора его опричников.
Что-либо опротестовывать было незачем. Говорят, беда не приходит одна. В моём случае их пришла целая стая, этих бед. Причём стая не благородных волков, а отвратительно тявкающих собачонок.
Я молча расписался в ведомости. Сгрёб деньги, лежащие на столе, в карман. Сказал, глядя Владу в его поганую, заразную физиономию:
– Рыло бы тебе набить, урод…
– Сева! – громко, с подвизгиванием выкрикнул он. На пороге появился заячьегубый. – Заходи…
Я встал и вышел. Не глядя на сидевших, бывших теперь, коллег, прошёл по коридору. Открыл подвальную дверь…
Первый этаж… Второй… Пятый… Ад! Я увлёкся.
Из подвала попал сразу на улицу.
Капля немецкой потерпела сокрушительное поражение. День Победы таким образом коснулся меня вплотную, хоть и запоздал почти на неделю.
Последнего гуся можно было резать… Теперь я не смогу отдать Артёму и половины всех денег.
Сегодня Карповка текла в кафе… То есть я шёл по её течению и, что называется, уткнулся. В неожиданной солнечным днем полутьме было прохладно. Из динамиков негромко, но навязчиво, словоблудил Хиль. «Тро-ло-ло-лоло-лол-лол-лоло». Хиль! Хи-хиль… Хи-хи-хиль…
На дне графинчика нелепо плескались заказанные мною сто граммов водки. Зачем так усложнять, когда можно налить в обычную рюмку? Я бы не обиделся!
Сейчас закончится Хиль и начнется Лесь, отвлечённо подумал я. По радио будут передавать спектакль кукольного театра. Хиль! Лесь! Гнусь! Звучит привлекательно.
Я налил из графинчика, выпил и задумался.
«Надо уезжать, – думал я. – Как-то сказать всё Артёму, собрать вещички и валить в солнечное и жаркое сейчас болото М-ска, где уже отцвела вишня. Постыдно истраченные деньги – сомнительная дорога к славе. Дождаться выхода книги и бежать».
Оля – вот фактор, ломающий мою схему. Как меняется всё в течение нескольких дней! Несколько дней назад я был с ней так близко, ближе некуда, и вот теперь готов отдать всё что угодно за возможность увидеть её краем глаза. Уехать – значит, потерять любую возможность свидания. Уехать – может быть, навсегда! А какое неприятное слово – «навсегда»! Скажи мне в своё время, что я навсегда, например, покину школу… Вроде естественно. А на деле – всё же неприятно! Бороться? Зная, что при любом исходе борьбы напорешься непременно? На вопрос «кто виноват?» ответ у меня был. А вот на извечный второй…
Югин просил позвонить ему недельки через три – стало быть, осталось менее недели. Деньги на это время у меня были… Устраиваться куда-то сейчас не имело ни смысла, ни возможности. Я вернусь, когда сдам краснодарскую квартиру. Хотя без тех накоплений, что образовались за время работы с Осой, это будет сделать сложнее. Возвращение может затянуться!
За это время Оля с Артёмом могут сделать ещё одного малыша или малышку! У, глупость какая.
«Забудь, – приказывал я себе, забыв о том, что легче поддаюсь просьбам, а не приказам. – Забудь», – просил я… И не мог… Никак не мог этого сделать. Потому что даже весенний воздух в этом городе сделался неотделим от моего короткого, как хвост добермана, счастья.
Я долил остатки, выплеснул в рот. Закурил… Иногда водка действует как хорошее успокоительное. Если выпить достаточно. И я попросил повторить!
Мир многогранен! Ощущение катастрофы и щемящее чувство одиночества усилились алкоголем, но тот же алкоголь добавил этим ощущениям непонятную полноту и даже какую-то сладость. По однажды сформулированному Катей сценарию: «Сделай ещё больнее – тогда хорошо будет».
А вот дома меня ждал сюрприз!
Уже войдя в квартиру, я услышал шумящих в нашей комнате гостей. Судя по голосам, их было несколько.
Я открыл дверь в комнату. Ага! У Паши гостили Супрун с Татьяной. Пришли причём недавно. На столе гостила только что начатая бутылка вина. Девственная вторая примостилась рядом.
Зная, что будет так, я, наверное, погулял бы подольше… Посидел бы ещё где-нибудь, смакуя мечты и отплёвываясь от реальности. Отступать, однако, было некуда, и я произнёс:
– Привет…
– Здорово… – развязно ответил Супрун. Паша промолчал. Татьяна посмотрела на меня из-под шапки волос. Потом официально выдавила:
– Привет, Сергей.
– …Ну и короче, – продолжил Слава прерванный с моим приходом монолог, – они притащили на выступление отбойный молоток… И врубили его на весь зал!
– В комбик? – пошутил Паша.
– Не важно… Вот это был полный панк. Народ повалил из зала… Полный сюр!
– А ты? – вставила Татьяна.
– Я? Я нет… Такой сюр!
Понятно! Если не умеем играть – пользуем отбойный молоток! Сойдёт за панк… Или за сюр?
Я чувствовал себя не к месту. За стол, что показательно, меня никто не приглашал… Ладно Супрун. Симпатий в мой адрес от него я и не ожидал. От Паши – тем более. Но ведь Татьяна всегда была на моей стороне. Я, признаться, думал, что ей приятен.
Супрун разлил в чашки вино. Порожняя бутылка отправилась под стол, встретившись там с какой-то подругой, нежно звякнула. Значит, всё-таки сидят уже какое-то время…
В такую ситуацию я попал впервые. Мне просто некуда было себя деть. Разве что под рассказы Супруна почитать в уголке…
Они выпили! Потом скопом закурили, стряхивая пепел в блюдечко. И молчали! Молчали, потому что думали обо мне!
– Сергей! – наконец прервала эту неприятную паузу Татьяна. И тут я подумал, что они ждали меня! Может быть, подсознательно, хотя Татьяна наверняка шла сюда именно за этим!
Я повернулся к ней.
– С Веркой-то некрасиво получилось, а? – она с вызовом сощурила на меня тёмные глаза.
– Почему? – занял я неловкую оборону.
– Я думала, она тебе нравится! – наступала Татьяна, распалённая ещё и моим несогласием.
– Она мне нравится! – подтвердил я. Тем более что и не лгал.
– И ты… – она надула щёки и сделала это так нелепо, что я усмехнулся.
– А что ты хотела? – спросил я издевательски. – Ты хотела сестру пристроить? Тебе показалось, что я для этого гожусь?
Это был алкоголь. В нормальном состоянии я бы этого никогда не сказал.
Супрун и Паша проморгали секунду. Зачарованные спором, не уследили за Татьяной всего чуть-чуть…
Она поднялась из-за стола. Не поднялась даже – прыгнула. Неловко замахнулась обеими руками и влепила мне подряд две, слева и справа, пощечины. И если первая пришлась аккуратно в мякоть щеки, вторая удалась хуже. Татьянины ногти прошлись по скуле, оцарапав кожу.
Я не знаю, как это получилось… Алкоголь или чувство несправедливости оказались на первом плане. Скорее всего – и то и другое.
Я неожиданно для себя выбросил правую руку и тыльной стороной ладони ткнул Татьяну в лицо. Больно ей не было – это был охлаждающий удар. Но всё дальнейшее можно было предположить с большой долей вероятности.
– Ах ты… – бросился на меня со своего места Паша.
Я сделал несколько шагов к окну, наблюдая ещё и за Супруном. Мы были разделены столом, и Супрун не мог броситься на меня так сразу. Но он тоже, опрокидывая полную бутылку, бросился помогать Паше.
С ними двоими мне было не справиться, хотя по отдельности только Паша представлял для меня какую-то опасность.
Отступать было больше некуда. Я искал глазами, чем я мог бы себя защитить.
Всё это продолжалось долю секунды.
Паша бросился на меня с кулаками, прикрыв по-боксёрски голову.
– Руки коротки… – прокомментировал я с ухмылкой, скользнув кулаком по его челюсти. Супрун неловко мялся рядом. А меня охватил отчаянный азарт. Когда Паша разбил мне губу, ухмыляться стало больнее.
Загремела посуда. Мы с Пашей лежали на полу, нанося друг другу несильные – некуда было размахнуться – удары. Супрун, а это именно он сбил меня с ног, пытался поймать мои руки. Сверху на меня посыпалось что-то мягкое. «Земля! – догадался я. – Земля из-под помидоров!»
Когда они меня поприжали, я хохотал. Сделать большего они не могли. Не бить же меня, лежащего и обездвиженного.
– Отпусти его, – посоветовал Супрун.
Паша перекинул через меня ногу, встал. На его руке проступила кровь.
«Моя», – подумал я отвлечённо, не прекращая смеха.
– Да это истерика, – убеждённо проговорил Супрун. Тем самым говоря, что ничего, мол, страшного…
– Донкихоты… – проговорил я, успокаиваясь.
Ободрённый успехом Супрун подался ко мне. Паша остановил его жестом.
– Да его просто надо вывести отсюда! – продолжал Слава. Ноты в его голосе были трусливо-высокими.
Я поднялся. Потрогал пальцами разбитую губу. Отряхнул волосы от насыпавшейся в них земли. Вообще-то хорошо! Обычно, если земля на тебя сыпется сверху, отряхиваться уже незачем!
– Завтра я вещи заберу! – спокойно сказал я Паше. – А ключи – на тумбочке оставлю… Я тебе ничего не должен? – добавил я с презрением. Он-то мне – ещё две недели!
– Нет… – пробормотал Паша. До него, кажется, начало что-то доходить… По поводу справедливости случившегося выше.
– Таня, – обратился я к притихшей зачинщице, – зря ты так… А меня извини – я случайно. Не хотел я!
Супрун, словно бы ограждая девушку от моих слов, встал между нами, попытался её приобнять…
– Да убери ты свои руки! – вдруг взорвалась она. Вскочила, стряхивая бесценную супруновскую длань со своего плеча, и направилась в коридор.
– Съели… – устало заключил я и направился за нею.
Уходили мы порознь. Она – торопливо одеваясь, что-то несущественное опрокидывая, рывком сдирая с вешалки лёгкую куртку, хлопая дверью. Я – скорее вяло. Куда я пойду, я не знал. Знал я только, что это не будет местом, где можно зализать раны. Если же не зализать – разбередить! Посередине я не умею.
Я не умею много чего, думал я, спускаясь по лестнице. Я не умею жить спокойно и влюбляться взаимно. Я не умею быть скромным, когда надо быть скромным и лёгким, когда… Да что там! Почему-то мне всё время достаются, одно за другим, поражения. Но тогда не я ли сам виноват во всём этом? Я намеренно создал хаос в своей жизни! Чего же я ожидал?
Татьяна ждала меня внизу! Это было даже не сюрпризом, потому как какой же сюрприз в том, что какая-то часть жителей Петербурга до сих пор существует по Достоевскому? Тем более таких, как Татьяна…
К моему удивлению, она всхлипывала.
– Ну что? – пройти мимо неё возможности не было.
– Извини, – она пошмыгала носом. Тушь с её ресниц стекала по щекам грязными серыми дорожками.
– Да ладно… – миролюбиво ответил я.
– На, вытри, – указав глазами на разбитую губу, она достала из сумочки бумажный платок, протянула мне.
– Спасибо…
– Ты куда сейчас?
– Я не знаю.
Сквозь слёзы прорвался смешок:
– И я не знаю… Пойдём выпьем куда-нибудь? Деньги есть.
– Тебе уже хватит.
– Не учи меня жить…
– И не пытаюсь, – я вдруг вспомнил, что Татьянины проблемы для меня сейчас – это слишком. Будь она хоть трижды привлекательна и хороша собой, но на сегодня мне хватит.
– Не пойдёшь?
– Нет! – я стоял на своём.
– Ну тогда хоть проводи меня, а?
Оказалось, что жила Татьяна довольно близко. Минут двадцать пешком для такого огромного города – всего ничего.
– Какая чудесная ночь! – восхищалась Татьяна довольно театрально, хотя и была права. После нашего насквозь прокуренного логова любая ночь покажется чудесной. Театральности же ей, наверное, не хватало на работе. Работающая в театре Ольга оставляла свою театральность за кулисами, как ненужные декорации.
Я шёл с ней рядом, вяло соглашаясь с её восторгами. Мне хотелось спать.
– Давай купим пива? – очарование ночи в ней было неотделимо от алкогольного очарования.
– Я не хочу.
– А я куплю, – и она ускорила шаги в сторону светящейся ночной лавки. Я даже не стал её догонять. Потом ждал её на улице, глядя сквозь стекло, как Татьяна расплачивается. Потом с неприязнью глядя, как она открывает…
Глотнув пива, Татьяна ещё больше расчувствовалась.
– А ты дурак, Степнов! Хоть и не дурак. Ты что, думаешь, я свою сестру под каждого встречного подкладываю?
– Я так не думаю…
– Она в тебя влюбилась. Я Верку такой никогда не видела. Аж похорошела!
– Тань… – я помолчал, подбирая слова. – Мне неприятно об этом.
– Хы! – она отняла губы от бутылки. – И она говорит «не лезь»! Ты бы хоть ей позвонил!
– Зачем?
– Да… – она призадумалась. Сделала бы она это немного раньше – там, у Паши.
– Я уезжаю, – наконец вымолвил я после долгих раздумий. Озвученное желание превращалось в подобие факта.
– Куда? – дурацкий вопрос.
– Домой, – я вдруг почувствовал, как срывается голос. Не ожидал.
– Домой? – переспросила она. А я вдруг разоткровенничался:
– Не получилось у меня, Тань… Из М-ска идея попасть в Питер казалась замечательной… А вышло всё вот как. Меня сегодня с работы попёрли.
– За что? – удивилась она.
– За длинный язык. «А в сущности – за короткий. За то, что свою правоту выражал односложно и невежливо!» – подумал я.
– Да у нас у всех… Вон Супрун вообще языком асфальт подметает.
«Вот и намёл мусора в голову», – чуть не сказал я.
– В общем, поеду, – мне тяжело было это произносить, но таким образом я убеждал себя, не её…
– Мы пришли! – внезапно остановилась она. Я и не заметил, как пролетело время.
– Ну пока, – она привстала на цыпочки и поцеловала меня, обдав кислым пивным перегаром. – А Верке позвони попрощаться. Я ничего ей не скажу… Телефон знаешь?
Я продиктовал всплывший в памяти номер. Для ненужных вещей моя голова очень вместительна.
– Ну ладно… – подобрела она. Поставила пустую бутылку на асфальт. Скрылась в тени арки.
А я пошёл обратно. Не ходить же всю ночь в бесполезных поисках ночлега.
В комнате было темно и страшно накурено. Паша спал на раскладушке, завернувшись с головой в одеяло.
Я открыл балкон. Постоял, слушая редкие звуки, доносившиеся с улицы. Погладил шероховатый, со сколотой там и тут краской пустой подоконник, где теперь не было моих прокуренных помидоров. Ну а что – любовь прошла, вот они и завяли…
Неприятно защекотало в глазах, и к горлу приплыл непрошеный комок. Впору было унывать, потому что уже ничего нельзя было сделать!
Гость в горле
Проснулся я рано и решительно. На моё пробуждение Паша отреагировал тем, что перевернулся на другой бок.
Нужно было куда-то уходить! Есть пара телефонов. Если нет… Не надо так думать, можно накаркать!
Прибрав кровать, я бросился звонить. И за пять минут решил для себя все проблемы: ночевать мне пока негде. Один телефон не отвечал, по другому сонно сказали, что Володя здесь давно не живёт. Это ещё хорошо, что сегодня суббота и мои сомнения рассеялись, не дожидаясь вечера. Оставалось только позвонить Артёму! Боже упаси! Хотя он, наверное, нашёл бы что-нибудь… Артём! У меня же есть ещё одна записнушка, которую он мне подарил в больнице.
«Он ушёл, весь широкоплечий и интригующий, с упругим, как грудь его жены, кошельком», – прочёл я свои впечатления, записанные тогда в больнице. При любом воспоминании об Ольге у меня возникало ощущение, что мне в сердце вставляли иглу! Эта же запись – туча игл! Тогда я ещё не знал, что грудь у Ольги не такая уж и упругая. Хотя это обстоятельство ничего не меняло. Природная внимательность позволяла мне написать целое эссе о её груди… А что толку?
Сладко поскорбев над записью, я нашёл, казалось бы, ненужный и оттого записанный даже без имени телефон.
– Миша? – спросил я, услышав недовольное «Аллё» в трубке.
– Ну! – судя по голосу, по случаю субботы Миша причалил в алкогольную гавань.
– Слушай! Это Сергей. Мы с тобой в больнице…
– А-а, – оживился он. А я брякнул, пропуская объяснения:
– Можно у тебя переночевать?
– Так утро же… – с испугом произнёс он. В том смысле, что вдруг не утро.
– Я знаю, – из последних сил усмехнулся я.
Он долго молчал, соображая.
– Ну приезжай, разберёмся… – и, не спрашивая лишнего, продиктовал адрес.
Хоть что-то… В понедельник – контрольный звонок Югину. Мне хотелось надеяться, что к понедельнику всё решится хотя бы с этим.
А Артёму всё равно надо было позвонить. Сообщить, куда я делся… Ладно, это можно сделать и вечером.
Я с сожалением принялся собирать пожитки. Заметил, как разросся мой гардероб за эти почти три месяца. Барахло едва влезало в дорожную сумку. Собравшись, я огляделся. Вот оно, пристанище, которое я покидал. Без меня в нём ничего не изменится. Может быть, накурено будет немного больше обычного. Да и порядка будет гораздо меньше. Но те же, а теперь с каждым днем более ласковые и тёплые, солнечные лучи будут проникать в эту комнату на рассвете. Тот же воздух будет наполнять комнату, если вдруг немного приоткрыть балкон. Если бы комната была одушевлена, она бы любила меня за чистоту и относительную тишину. Пока не пришли вот эти… и не сломали наше единодушие. Уничтожив даже единственные зелёные ростки, которые придавали комнате уют.
Я подхватил сумку и гитару, выложил ключи на стол. Даже не стал будить хозяина. Всё!
Жил Миша на Васильевском острове. Так он мне продиктовал. Я вышел на одноименной станции метро, поспрашивал у прохожих. К моему удивлению, Васильевский остров обслуживали две станции метро. Так вот мне надо было на вторую.
– Это, сынок, возле Ленэкспо, – решив, что этим всё сказано, старушка проследовала по своим делам, а я сразу чуть не забыл названную ею замысловатую аббревиатуру. Потыкался ещё.
«Ленэкспо, Ленэкспо», – твердил я себе, садясь в автобус. Спросил про Ленэкспо у пассажира. Тот невнятно проворчал, что скажет, когда выходить.
Минут через десять тронул меня за плечо.
Дом я нашёл сразу.
Он находился чуть в глубине от проспекта, по которому шёл автобус. Обычный сероватый дом с пыльным налётом на окнах первых этажей. Унылый подъезд без лифта. Пятый этаж. Маловероятное утверждение маркером на стене: «Моррисон жив». О, луна Алабамы…
Мишке достаточно было приоткрыть дверь, чтобы я всё понял.
Эта была классическая петербургская семья… алкоголиков. Хотя семьи алкоголиков во всех городах одинаковы.
– Сергей, заходи! – поприветствовал меня Михаил, и я перешагнул через порог.
– Здрасьте, – хмуро кивнула бледная женщина с татарским лицом.
– Ну раздевайся… – подтолкнул он меня. – Это Гуля!
Хмурая женщина с птичьим именем взяла со стола сигарету.
Я прошёл на кухню, уже жалея, что сюда позвонил. Хотя на вокзале было бы нисколько не лучше.
– Ну садись, – уговаривал он меня. Гостеприимство в назойливой форме.
Я сел.
– Ну рассказывай… – и он достал из ободранного, урчащего холодильника полуторалитровую бутылку пива. – Я сбегал, – пояснил. Ожидая, наверное, что я его похвалю…
От его понуканий рассказывать хотелось всё меньше. Да и что я мог рассказать? Про Югина? В этой семье после такого рассказа меня сочтут идиотом.
– Да нечего рассказывать. Вроде в понедельник уезжаю… Мне бы до понедельника… – я знал, что это не совсем так, за эти два дня я что-нибудь придумаю. Лишь бы Югин подтвердил дату, когда можно забрать книги.
Я думал, хмурая Гуля откроет рот. Закричит. Замашет худыми руками.
Она же, как фельдшер в переполненной больнице, определила меня сразу:
– Положим на кухне матрас… – и подхватила чашку пива, налитую ей Мишей.
Он поставил чашку и мне. Кинул на стол пакетик с орешками. Сам пил из большой пивной кружки, уведённой, наверное, в дешёвом баре. Налил половину, выпил, ворочая кадыком. Потянулся за пакетиком. Закурил. Из него получился бы прекрасный живой манекен. Глотнул, куснул, покурил. Глотнул, куснул…
Я, конечно, не из князей, но моя недобогема была мне всё-таки ближе… Даже тот же Супрун с его нелепыми прыжками с невидимой гитарой. Они мне были понятнее. Этот же кайф был как-то мрачноват. Меня не покидало ощущение, что чтоёто должно случиться. Не говоря о том, что во втором часу дня он уже не опохмелялся, а выпивал полноценно, не загадывая вперед. Хотя бы и на полдня.
– Ну куда ты куришь? – возмущалась Гуля, когда Михаил ронял столбики пепла себе на брюки. «Как куда? – казалось мне. – В себя! Известно куда!»
– Да иди ты!
Гуля не обижалась. Трудно обижаться на молодого мужа, когда тебе за сорок и зубы во рту торчат через один. Как несбитые городошные чушки после не очень удачного броска.
Я держался до последнего. Михаил, заметив это, пододвинул ко мне стакан:
– Ты пей, не стесняйся, – по его мнению, отказаться от алкоголя в середине дня можно только из стеснения.
Бутылка кончилась довольно быстро. Михаил впал в какое-то замешательство. При том что Гуля совершенно не тяготилась отсутствием выпивки.
– Серёга… А у тебя… можно… занять? – захмелевший Миша сделался азартным и стеснительным.
– Да я так дам, – с готовностью ответил я. Чем-то я должен им отплатить! Жаль только, что этим…
Он сбегал и за второй.
И за третьей!
Потом они захотели спать. Предварительно накормив меня каким-то непонятным, вкусно пахнущим варевом.
Я сказал, что пойду прогуляюсь. Оставаться одному в этой, лишённой даже книжек квартире было пока что тяжеловато.
Вот то, к чему я пришёл к третьему месяцу жизни в этом огромном городе. Любовник актрисы! Писатель! Мудрая жизнь расставила всё по своим местам! И место моё сейчас было именно здесь! Лечь, что ли, к ним третьим?
Во дворе, подёрнувшемся уже пенкой зелени, мне стало полегче. На скамейках сидели одетые по-зимнему старушки. Вдоль стен скользили изящные полосатые кошки.
Я не мог себе признаться, куда я иду. Поэтому, стесняясь самого себя, бочком дошёл до автобусной остановки. Так же, мимоходом, сел в полупустой транспорт. В какой-то маете добрался до метро. Нырнул туда, глядя на себя как бы со стороны. А потом уже честно поехал на «Горьковскую»!
Сладость момента заключалась в моём воображении! Я выхожу на станции, подымаюсь по эскалатору. Навстречу – спускается она. Видит меня. Громко кричит, так что все оборачиваются:
– Серёш! Степнов!
Я оборачиваюсь. Она кричит, ещё больше привлекая внимание пассажиров:
– Подожди меня наверху…
Я отрицательно машу головой.
– Подожди! Я люблю тебя…
Или так: она…
К чёрту! К чёрту сериальные сопли. Ты знал всё с самого начала! Ничего не вернуть. Просто тебе очень хочется её увидеть!
И всё же, когда эскалатор скользил вверх, я всматривался в спускающиеся мне навстречу лица.
Сначала мне казалось, что я еду сюда для того, чтобы просто посидеть на скамейке в парке. Очутившись на скамейке, понял, что этого мало.
Я досадовал на выпитое. Знал, что, если бы не спиртное, я бы бежал подальше от этой станции и этого, невидимого пока, дома! Более того, когда алкоголь начал выветриваться, мне захотелось добавить! А это – лишние потраченные деньги и поедание себя впоследствии. Плюс ко всему место, которое выбрали для проживания Верховенские, почти центр города, – не то место, где можно посетить кафе без особого ущерба для моего исхудавшего в последнее время кошелька.
Нужно было встать и уйти! Но для этого шага необходима была другая, холодная голова.
Скамейка себя исчерпала. Я встал, повинуясь непонятной и неправильной силе. Направился в сторону магазина. «Так или иначе, я все равно добавлю», – думал я и ускорял шаги.
Вспомнил почему-то, что Паша любит «Массандру». Правда, пиво он тоже любит, а вот я – нет.
Потом я переместился поближе к её дому. Вернее, не так – я прошёл мимо её дома по другой стороне улицы и в поисках скверика двинулся дальше.
На детской площадке развернул пакет, на дне которого тяжелела бутылка. Теперь у меня не было ключа от Пашиной квартиры, которым ловко открываются такие бутылки. В карманах, кроме сигарет и дешёвой пластмассовой зажигалки, было пусто.
Я осмотрелся. Среди песочной пыли и высохших окурков не было ничего, чем можно было раскрошить пробку. Это маленькое недоразумение, эту заглушку между мной и вином.
В юности я любил разгадывать кроссворды… Вот и сейчас – увлёкся.
В ход пошли палочка из-под мороженого и сучок, который я отыскал под деревьями. Я долго ковырял бутылку, потом пропихивал внутрь остатки пробки. Вино чмокнуло и пролилось мне на брюки.
С каждым глотком во мне крепла решимость. При том что только этой решимости мне и не хватало, чтобы совершить задуманное. Я опять всё знал заранее. И то, что я окажусь здесь. И то, что собираюсь делать дальше.
Пустая бутылка неприлично загремела в урне. Во мне появился трусивший доселе азарт. И крепкий, алкогольный кураж! Нормы приличия вдруг расширили свои границы.
Самое худшее, что может быть, – это то, что дома я вообще никого не застану. Но об этом я пытался не думать. Если дома будет Артём, я всегда смогу найти причину своего прихода. Рассказ о моем переезде – чем не повод… Если они будут вдвоём – тоже неплохо. Она поймёт, для чего я приходил… И может быть, признает ошибку. Если она будет одна… Ох, если бы она была одна.
Я долго мялся перед закрытой дверью подъезда, не решаясь позвонить. Вдруг она одна и не откроет! Потом, на моё счастье, дверь распахнулась, выпуская на свет пожилую женщину. Я юркнул в парадную. Доехал до нужного этажа и позвонил.
Кровь стучала в висках, как железнодорожный состав в длинном тоннеле. Когда Оля, не спрашивая, открыла дверь, я произнёс:
– Артём дома?
– Нет, – ошарашенно ответила Ольга, – только вечером будет.
– Хорошо, – ответил я и вошёл в квартиру.
– Не надо, Серёш… У меня Венька спит, – Ольга, однако, пропустила меня и закрыла дверь.
– Я попрощаться! – я понизил голос до шёпота.
– Для этого не обязательно проходить на кухню, – вяло опротестовала она моё поведение.
Я подвинул ногой табуретку и сел.
– Послушай… – зашептал я. Голос срывался. – Садись.
Она села, скрестив на коленях руки. Подсознательно закрывая руками женское.
– Оля! – начал я. Я не подготовил никаких слов, я ожидал, что меня вывезет красноречивая «Массандра».
– Оль, – повторил я, – мне жаль, что так вышло. Я всё равно считаю тебя самой лучшей на свете женщиной, пусть даже и чужой.
Я заметил, что она немножко расслабилась. Может быть, боялась, что я буду выяснять отношения?
– Серёш…
– Не перебивай. На следующей неделе я уеду. Насовсем. Мне бы не хотелось, чтобы обо мне у тебя осталась дурная память, – с этими словами я попытался взять её ладонь в свои руки, но она мягко отвергла моё прикосновение.
– Я не буду говорить о чувствах. Мои чувства – это мои проблемы… Тем более что я знал, чем всё это кончится.
– Знал? – переспросила она заинтересованно.
– Конечно! Ведь у меня нет ни жилья, не денег… Странно было на что-то рассчитывать.
– Странно, – повторила Оля, и мне показалось, что она имела в виду что-то другое.
– Спасибо тебе, что ты была в моей жизни, – патетично заключил я, надеясь, что «массандровское» красноречие не кончилось вовсе, а только лишь взяло паузу.
– Артист! – улыбнулась она вдруг.
– Ещё какой! – подтвердил я и сжал её не испугавшуюся уже ладонь.
Она осторожно погладила меня по голове.
– Много выпил? – спросила беззлобно.
– Крепкого, – ответил я, – и наелся – острого!
– Всё помнишь, – я заметил, как её шёпот перешёл с вынужденного на естественный.
– Всё, – подтвердил я. И почувствовал, где надо проявить наглость.
– Нет! – всё тем же шёпотом сопротивлялась она, когда я, поймав её губы, запустил ладонь ей под футболку. Пальцы нащупали неподвластный её словам, отвердевший сосок…
Потом была короткая борьба за джинсовую пуговицу. Потом – уже менее активная за белье в голубой цветочек.
И короткое и повторяющееся, как пластинка, споткнувшаяся на одном слове:
– Нет!
– Ты же хочешь так? Любишь? – заговаривал я её «нет».
– Да, – прошептала. – Да!
Сзади меня что-то зашевелилось. Мелко застукало по полу.
Она замерла и напряглась. Я обернулся.
На пороге кухни стоял её сын. Одной рукой в длинном пижамном рукаве он вытирал заспанные глаза. Потом произнёс: «Мама» и негромко захныкал.
– Уходи! – закричала она. – Венечка, сынок, это я не тебе – это дяде!
Она застёгивалась, не попадая пуговицей в петлю. Потом бросилась к сыну.
– Уходи немедленно, Степнов! Уходи навсегда! Я прошу тебя – уходи…
Я замер, ошарашенный. Что может быть убедительнее самки, защищающей своего детеныша?
Я медленно пошёл к выходу. И не находил слов. Такие слова ещё просто не изобрели. Я видел, как Оля оправляет на себе канареечную футболку. Как склоняется к малышу, подталкивая того обратно в комнату. В голове звенели брошенные ею слова. И к лицу приливала краска.
Я вышел на лестницу, тихонько прикрыл за собой дверь. Потом развернулся и со всей дури ударил кулаком по металлической двери лифтовой шахты. Звуки удара гулко разлетелись по всей парадной и затихли где-то наверху.
Это всё, Степнов. Вот это действительно всё!
Тощий кошелёк уже не был преградой. При чём тут кошельки, когда рушится всё остальное…
Первый раз в жизни я не помнил, как добрался домой. Хотя слово «дом» здесь уже совсем неуместно. В метро меня, кажется, остановил патруль, но почему-то отпустил восвояси.
Забыв номер Мишиной квартиры, я кричал Мишу на весь двор, пока тот не спустился и не уволок меня внутрь. Но это Миша мне рассказал наутро.
Принес пива. Сбегал ещё за одной.
Потом ещё.
А потом пришёл понедельник.
Фига – лучший подарок
Утром мне хотелось выть и выпить. Ни того ни другого я не сделал. Когда Миша уходил на работу, он даже не спросил меня, когда я уеду. Поднял меня с перегораживающего пол кухни матраса, угостил растворимым кофе жуткого качества. К тому времени Гуля уже ушла на работу. Оказывается, Гуля работала поваром в детском саду.
Со словами «приду часов в шесть» Миша оставил мне ключи. Вот так вот – запросто. Потом хлопнул дверью, уходя.
Я остался один.
Включил телевизор, от которого успел отвыкнуть. Налил воды в пахнувшую пивом чашку. Лёг на застеленную кровать и уставился в потолок. Выходить на улицу не имело смысла.
Я пролежал почти целый день, следя за тем, как на потолке изменяются тени. Спасительный сон не приходил. Но и явь была какая-то нереальная! Огромная, ватная явь, которую хотелось сбросить, как вонючее одеяло.
Потом пришла Гуля. Спросила, не плохо ли мне? Я помотал головой. Она пригласила меня поесть. Выложила из принесённой сумки пакет с порционными кусками рыбы. Именно такие куски получают на завтрак голодные дети в детских садах. Некоторые куски были испачканы картофельным пюре. С тарелок она их собирала, что ли?
Меня затошнило.
Ближе к шести вернулся Михаил. Я заметил сразу – с запахом. Достал полуторалитровку из сумки. У них так что, каждый день?
– Это ж пиво… – опротестовал Миша мой немой вопрос. – Будешь?
Вечером было уже можно.
– Буду…
И я рассказал Мише всё как есть.
И про Югина, и про неопределённые сроки моего отъезда. Я умолчал только про деньги. Здесь прикидываться нищим было бы и вовсе негоже.
Миша отреагировал спокойно.
– Да, Серёжка, живи… С тобой всё веселее.
Странно, как-то я его веселю, сам того не желая.
Сегодня надо было звонить писателю. И я, сидя напротив Михаила, всё откладывал этот момент. Боялся? Да. Чего? Я боялся, что он мне скажет что-то типа: «Сергей. Я тут посмотрел… Не доросли ещё. Не доросли…»
Когда бояться было больше некуда, шёл десятый час, я набрал его номер.
– Да!
– Андрей Семёнович… Это Степнов.
– А, да… Сергей! Ну что я вам могу сказать? Книга в работе… Сами понимаете, праздники…
– Конечно, – бодро отозвался я. В глазах Югина мне хотелось казаться непринуждённым и неторопливым. На это слово ушёл последний её, бодрости, запас.
– Ну позвоните мне через недельку, – Югин тоже держал беззаботный тон. «Неделька» в его устах выглядела приблизительно.
Я замер. Даже если кормиться исключительно пищей из детского сада и только изредка добавлять Михаилу жидкую плату за проживание, денег на билет обратно у меня не оставалось.
– Да… Да… – говорил я и, выслушав ненужные напутствия, повесил трубку.
– Миша, – говорю, – ещё неделя…
– Ну и ладно… – употребив слово «ладно» в устаревшем его смысле. Ладно – красиво и хорошо!
Мне было жаль расставаться с гитарой. Но, к сожалению, это стало неизбежностью. Я знал скупку инструментов на Садовой. На следующий день я направился туда.
Зайдя в магазин, подошёл к продавцам.
– Дима! – крикнул один из продавцов куда-то в подсобку.
В подсобке я показал инструмент усатому человеку с низким голосом.
– Сколько ты за него хочешь? – усатый человек был краток.
Я сказал.
– Ну пусть повисит… Хотя за такими инструментами у нас приходят нечасто. Фанеру – да, враз сметают.
– И сколько он будет висеть?
– Откуда я знаю. Может, неделю, может, месяц. Звони! Уйдёт когда-нибудь!
Я наступил на горло своей гордости и тихо произнёс:
– А сразу нельзя?
– Ишь ты… Нет, в эти дела я не вкладываюсь.
– Мне это не подходит, – пробормотал я.
Деньги нужны были живыми. На потенциальные я уже один раз понадеялся…
Возвращался я пешком. Только перебравшись к Михаилу, я ощутил, как длинны здесь, казалось бы, небольшие расстояния. И всё – центр. Невский, Садовая… Петроградская сторона и Васильевский остров.
Я вышел на главный проспект. Дотопав до Дворцовой, пересёк её и, пройдя по мосту, оказался на Стрелке.
Петербург, открывающийся отсюда, прекрасен всегда. Даже в те, первые, холодные дни моего приезда. Не раз и не два я проходил это место и всегда останавливался. Сейчас, находясь здесь, я впервые почувствовал, как я привык к этому городу. Неподалёку отсюда находится дом, проходя мимо которого я уже никогда не посмотрю на его окна равнодушно. Пусть даже Верховенские съедут оттуда навсегда. Я надеюсь, что в М-ске мне приснятся крепость, на куполах и шпиле которой играло сейчас весёлое солнце, набережные, дворцы…
«Я вернусь», – сентиментальничал я и сжимал зубы, чтобы не заплакать. Петербург же смотрел на меня равнодушно и ничего не отвечал.
Над рекой, похожие на стриженную бумагу, летали чайки. Я загадал, что если одна из них сейчас сядет на воду, то я вернусь. Щуря глаза, я следил за полётом выбранной мною птицы. И всё-таки потерял её из виду. Мой вопрос остался без ответа. Как без ответа оставались ещё многие и многие вопросы…
Прошла неделя. За это время я так и не нашёл денег. И откладывал их поиски на завтрашний день. Так и не позвонил Артёму. Я не знал, как связаться с ним, не рискуя, что Оля возьмёт трубку. Она же не знала, что у меня и Артёма есть общие дела. Которых, кстати сказать, лучше бы и не было.
В пьянстве Мишу я больше не поддерживал. Зато исправно сидел с ним, пока он выпивал вечерами. Первую бутылку он приносил сам. Я давал ему денег на вторую. Мы были квиты, и, по-моему, он был даже доволен таким симбиозом. Молчаливая Гуля разогревала на троих детсадовские харчи.
В понедельник на мой телефонный вопрос Югин выдал неожиданное:
– Ну приезжайте…
И я впервые за это время воспрял духом!
Всё произошло слишком просто. Зайдя к нему в кабинет, я увидел тяжёлые стопки книг. Они лежали на полу. На упаковочной бумаге я прочёл свою фамилию, небрежно написанную шариковой ручкой.
– Ну, я вас поздравляю! – поприветствовал меня Югин.
– Спасибо, – ответил я. И позабыл обо всём! О договоре. О каких-то, подписанных бумагах, которые он мне обещал.
– Остальное – как договаривались, – начал он, – список библиотек я вам дам через пару недель. Там Москва, Петрозаводск… Я сейчас не помню.
– Да… Да… – мне не терпелось разорвать обёртку, но не мог же я сделать это прямо в кабинете.
Я подхватил две связки книг. Удивился их весу. Верёвки, которыми были обвязаны стопки, резали пальцы.
– Ну приедете ещё раз, – улыбнулся Югин и погладил свою аккуратную бородку.
Я вышел во двор. Поискал глазами скамейку и, не найдя её, сгибаясь под ношей, пошёл на остановку.
Сел. Надорвал немного шершавую бумагу и трясущимися руками вытащил верхнюю книгу.
«Сергей Степнов. Обычные встречи» – прочёл я на обложке. Во всю обложку разросся непонятный куст на фоне уходящей куда-то дороги…
Я начал листать. Страницы приятно хрустели. Открыв книгу в конце, я прочёл оглавление. Все мои рассказы были на месте. Я удовлетворённо вернулся к первой странице и начал читать!
Редактура книги была явно небезупречна. Вплоть до того, что вместе с ошибками грамматическими я заметил несколько вольностей, которые позволил себе редактор. Так, в одном месте слово «бухта», используемое мной для обозначения корабельной верёвки, вызвало у редактора другие ассоциации. Ведь в другом значении бухта – ещё и гавань! Вот и вылезло: вместо «я привязал катер надёжной бухтой» стояло «я привязал катер в надёжной бухте». Погорячилась с бухты-барахты!
За книгами я ездил два раза. Хорошо, что «Светозар» тоже находился на Васильевском острове. Потом, обессиленный ношей, сидел возле дома, листая книгу ещё и ещё раз.
Странное дело – какого-то трепета я не испытывал. Подсознательно понимая, что за деньги можно напечатать всё что угодно – от поваренной книги до справочника психопата.
Но ведь Югин похвалил меня! И мою книгу можно будет разыскать теперь в библиотеке!
Миша отреагировал на подаренную книгу сдержанно:
– Ну почитаю! Пиво будешь? И с тебя простава… – он хитро указал глазами на стоящие в углу кухни стопки.
Вечером я всё же набрал тот самый номер. К счастью, сразу попал на Артёма.
– О, нашёлся, писатель… Ты куда пропал? Мне Олька говорила, что ты заходил?
«Больше тебе Олька ничего не говорила?» – подумал я.
– Артём, книга у меня.
– Ну я тебя поздравляю! Нам надо встретиться…
– Давай, – подтвердил я.
– Ты не понял, писатель! Это очень важно. Плохо, что книга уже у тебя…
– Чем? – испугался я.
– Потом, писатель, не по телефону! Завтра в пять, как тогда, у крепости…
– Ну ладно. Артём опоздал. Я было подумал, что я что-то напутал. Потом увидел его – в лёгкой сетчатой футболке и ярко-синей джинсе.
– Извини, писатель, за опоздание! – он был возбуждён.
Я протянул ему книгу. Он повертел её в руках, не открывая.
– Да, Серёжа… Нас с тобой жестоко накололи!
– В смысле? – не понял я.
– Знаешь, сколько стоит эта книга?
– Ну знаю, конечно! Дели сумму на двести!
– Ага! А не хочешь – на пятьдесят!
– Ну, пятьдесят-то только моих, остальное – в библиотеки… – во мне вдруг шевельнулись сомнения.
– Ты договор подписывал?
– Да ничего я не подписывал.
– Молодец! А оставшиеся книги видел?
– Югин сказал, что они на складе…
– А склад где? – плохо ухмыльнулся он. – У него на бороде? Слушай сюда. Никаких книг нет. И не будет. Андрюша кинул тебя, как телёнка! Я тут, пока ты неизвестно где шлялся, навёл справки! Если тебе от этого легче – он кинул не одного тебя.
– А… где… – спросил я. – Где ты навёл эти справки?
– Я же журналист, а не слесарь…
Мир опять, как и в последнюю встречу с Олей, рухнул куда-то под ноги. На спине выступил пот. Телёнком я ощущал себя впервые. На моей шее болтался невидимый, но ощутимый колокольчик!
– И что же делать? – глупо спросил я.
– Это я готов с тобой обсудить! В конце концов, это я подкинул тебе этого «грейта» с мелкоуголовными замашками.
Убийство
Артёма за рулём я увидел впервые. Он подкатил, как договаривались, к пяти. Из открытого окна небрежно свисала рука с сигаретой.
– Садись! – приказал он мне. Я распахнул дверцу. Едва уместился на сиденье рядом с водителем.
– Тесно? – спросил Артём, трогаясь. Не дожидаясь ответа, дёрнул рычажок справа от себя, и кресло поехало назад.
– Ольке места хватает, – полоснул он меня по живому. Я опять промолчал.
– Слушай, а если он не сядет? Если испугается?
– Кто? Югин? – Артём лихо выворачивал с набережной. – Сядет! Сядет, как миленький. Я же его приглашу, а не ты… Будь проще, писатель. На вон, глотни…
Он потянулся к бардачку, и едва ли не на колени мне из бардачка выскочила плоская бутылка.
– Страшно, – честно признался я. Отвернул пробку, сделал маленький глоток.
– А чего тебе страшно, Серёжа? – так он называл меня раза два или три. В тех случаях, когда чувствовал превосходство.
– Не знаю…
– Я же тебе всё объяснил.
Из-под колёс автомобиля то и дело вырывались шумные и короткие очереди брызг. Накануне прошёл ливень, оставив после себя лужи. В воздухе чувствовалась духота.
За час до нашей встречи я позвонил в «Светозар». Спросил у какой-то женщины, может быть, Юлии, на месте ли Андрей Семёнович. Получив положительный ответ, поинтересовался, до какого часа сегодня будет Югин… «Часиков до шести. Но вы так поздно не приходите, у нас мероприятие!» – хихикнула гипотетическая Юлия.
– Он будет пьяный? – спросил меня по телефону Артём. – Это прекрасно!
Мы остановились возле красивой белой церкви, втиснутой между домами. Через дорогу мы могли видеть арку, из которой должен был показаться Югин.
Выбросив сигарету, Артём тут же закурил вторую. «Все-таки волнуется», – подумалось мне.
Артём посмотрел на часы.
– Ещё минут пятнадцать минимум. Так что расслабься.
– Я уже расслабился, – ответил я. С артёмовской бутылкой мне и вправду стало полегче.
Мы сидели в коробке автомобиля и наблюдали за выходом.
– Может, он за рулем? – вдруг предположил я.
– Нет у него никакого руля. Я узнавал… Вот он, Серёжа! Вот он!
Из арки и вправду появился Югин. Он двигался неторопливо. В его походке была даже какаяёто военная выправка. В левой руке его покачивался портфель.
Артём глянул в зеркало заднего вида, потом открыл дверцу и быстро выскочил прочь.
– Пригнись немного, – кинул мне на ходу.
Не замечая машин, он бежал через улицу, догоняя Югина.
Они долго и неслышно спорили. Артём размахивал руками и делал пригласительные жесты. Югин ему что-то говорил. Потом они вместе стали переходить дорогу, и я пригнулся ещё ниже.
– Садитесь назад. Мне всё равно в ту сторону… – каркал Артём.
– Ах-ха-ах, – смеялся чему-то Югин.
Он распахнул заднюю дверь и только тогда увидел мой затылок.
– Здрасьте, – бросил мне, очевидно, не узнавая.
Я обернулся.
Наверное, в этот момент ему хотелось отказаться от нашего гостеприимства. Только вот как это было сделать, не теряя лица? Нельзя же показывать пацанам, что он струсил!
– А, Сергей… – рассеянно произнёс он и секунду спустя полез в машину.
– Поехали? – поторопил Артём и включил зажигание. Потом резко рванул с места.
– Веденяпин, – продолжал он начатый на улице разговор. – Представьте себе! Веденяпин!
Югин улыбался. Я видел его улыбку в зеркальце, и мне непонятно было – искренне или нет.
– Ну мы что-нибудь сможем придумать, – рассудил он. Что там ему наплёл Артём, интересно?
– Может быть, Лажечников? Или Забродин? Что-нибудь запоминающееся. Типа Усенко! – в голосе Артёма я уловил издевательскую нотку. Такую неявную, которая понимается только близкими людьми…
– Ну попробуем, – повторил Югин, как мне показалось, с беспокойством.
На набережной Артём круто свернул вправо.
Югин заёрзал, стуча пальцами по портфелю, который он держал на коленях двумя руками.
– Слушайте! – вдруг произнёс он. – Здесь надо было налево!
– Да мы небольшой крючок сделаем… – ухмыльнулся Артём и добавил газу.
– На, держи… – свободной рукой Артём протянул мне доселе стоявшую у него между ног борсетку.
Кожаная и маленькая, она вдруг показалась мне очень тяжёлой.
– Сейчас пробки начнутся, так ты его постереги, чтобы не делал глупостей.
С замиранием сердца я открыл сумочку. Моя догадка оправдалась. В борсетке стволом вниз лежал пистолет!
Обеими руками я вытащил оружие из сумки. Вложил в левую, и пистолет слился с ладонью.
Югин молча бледнел!
– Нет, парни, так дело не пойдёт! – вдруг довольно смело подал он голос.
– А оно уже не пошло! – нагло заявил я и глотнул из фляги, наставляя оружие на писателя. Как им пользоваться, я не знал. Не знал я также, снят ли пистолет с предохранителя. До этого я ни разу в жизни не держал боевого оружия и во всём надеялся на Артёма.
– А в чём… В чём проблема? – в голосе Югина не чувствовалось того страха, которого я ожидал. Тёртый кулич!
– А проблема в библиотеке! Ты куда Серёгины книжки отправил? – Артём внимательно следил за дорогой.
– Я ещё не отправлял, – опять же спокойно заверил он.
– А собирался?
– Москва. Петрозаводск… Что-то в городе останется.
– Так вот, дорогой Андрей Семёнович! Повторяй по буквам! Хабаровск! – Артём выждал паузу. – Уфа! – и, осклабившись: – Йошкар-Ола!
Изящно!
– С чего вы взяли? – он сделался даже вызывающ!
– Со Светланы Назаровой. И… – Артём вспоминал. – Да, с Игоря Мудрова… Такой дед смешной, в кучеряшках! Они тебе привет передавали.
Хорошо Артём подготовился!
И вот тут Югин струсил. И я это сразу почувствовал. Он словно бы стал меньше в размерах и ещё больше выставил вперёд свой портфель, стараясь защититься им от дула, которое я водил вверх-вниз. У меня устала рука.
Старые дома вдруг кончились. Пошли хрущёвки. Потом и вовсе – новострой! Куда мы ехали, я не знал. Когда мы готовились, Артём беспечно махнул рукой – «за город».
Новострой всё не кончался… Артём был прикован к дороге, мы с Югиным молчали.
Потом прошли и новостройки. Мы ехали по берегу залива. Серая поверхность воды возле берега, как в игре «Морской бой», была утыкана поверженными временем корабликами. Потом дорога свернула в сосны.
– Куда мы едем? – спросил наконец Югин.
– На рандеву с медведем, – в рифму ответил Артём. – Скажи мне, Андрей Семёнович, сколько ты денег из воздуха достал? И что, неужели думал, что тебя никто не прищучит?
Югин молчал. Потом вдруг тихо произнёс:
– Вы же не убивать меня едете? Деньги я отдам…
– Ага! А потом нам пришьют за вымогательство! Ты же всё посчитал, а?
– Нет…
– Что нет? Не посчитал или не пришьют?
– Не посчитал.
Артём вдруг свернул на грунтовку, уходившую в сторону залива. По её обочинам в неглубоких канавах стояла ржавая, мёртвая вода. Машина остановилась, проехав метров сто.
Нас обступил влажный низкорослый лес. Откуда-то тянуло гарью.
– Ну выходи… – сказал он Югину. Тот зашевелился.
Я выскочил первым и направил в ноги писателя дуло. Небрежно вылез и Артём.
Югин, отбросив портфель на заднее сиденье, выбрался. Вздохнул вдруг полной грудью.
– Хорошо… – он больше не боялся нас, меня и Артёма. – Знаете что, Артём? Вы, конечно, правы… Но ведь люди, – он посмотрел на меня с некоторой опаской, – люди платят за свою мечту, а не за мои услуги. Я чуть-чуть зарабатываю на их мечте. Ну и что? А вы – вы всегда пишете то, что вам по душе?
И тут я вспомнил наш с Артёмом разговор после мехового показа.
– Нет, Андрей Семёнович, не всегда… – ненависти у Артёма заметно поубавилось. Это почувствовали все.
– Если у вас не хватает таланта и вы идёте таким путём, я могу вам помочь… Но зачем, скажите мне, библиотекам такое творчество?
Я незаметно для себя опускал пистолет.
Артём открыл дверцу машины, достал из бардачка начатую мной бутылку. Со вздохом протянул её Югину.
– Выпить хочешь?
Югин протянул руку и взял бутылку.
Артём сел на корточки.
– И вправду хорошо. Но дождь будет… – а потом, обращаясь к Югину: – Иди отсюда…
– Может, вы меня подвезёте обратно? – спокойно спросил тот.
Артём усмехнулся.
Югин уже не смотрел в мою сторону, обращаясь исключительно к Артёму.
Я положил пистолет на землю рядом с машиной. Медленно подошёл к Югину сзади. И ледяным голосом спросил:
– Может, тебе и денег дать на дорогу?
Он обернулся. Я без замаха ударил его в лицо. Костяшки пальцев правой руки почувствовали мягкий ворс его бороды.
– Сука! – проговорил я, добавляя ему с левой и не попадая в нос.
– Серёга! – бросился ко мне Артём. Югин удержался на ногах, но я ударил его ещё, и он, теряя равновесие, замахал руками.
Сцепившись, мы покатились по земле. В небольшом его тельце оказалось немало сил, но мои сантиметры и килограммы всё же брали своё. Подмяв его под себя, я без раздумья попадал кулаком ему в голову раз за разом.
Артём подлетел сзади. Схватил меня за руку.
– Ты же убьёшь его, идиот!
– Убью… – подтверждал я и продолжал вырываться.
– Держите его! – проговорил Югин, поднимаясь с мокрой земли. К его костюму прилипли иголки и прошлогодние листья. Из носа текла кровь, и капли её расплывались на голубой рубахе.
– В машину! Оба! – скомандовал Артём. – Возьмите, – у него в руках я увидел новенький платок. Он поднял с земли пистолет и положил его на водительское сиденье.
– Нет уж, – пробормотал Югин. – Дайте мне портфель, я машину поймаю…
Артём полез в машину.
Я поднял бутылку, оброненную Югиным. Сделал глоток. Писатель-«грейт» быстрыми шагами удалялся к шоссе. Мы с Птицыным молчали. Я к тому же тяжело дышал.
– Что ж ты его так… Хотя за дело, – Артём что-то недоговаривал… Не хотел причинять мне неприятностей?
– Ты тоже так думаешь?
– Что именно? – Артём понимал и только взял лишнюю секунду для ответа.
– То, что он говорил…
– Он мошенник, но не дурак… А думаю ли я так? Нет, писатель. Я думаю – жизнь рассудит!
Легче от этого мне не стало.
– Артём! – позвал его я. Он успел сорвать сухую травинку и жевал её, часто сплёвывая.
– Артём, – повторил я дрогнувшим голосом, – я не могу сейчас отдать тебе деньги!
Он ещё раз сплюнул, бросил травинку.
– Я знаю, писатель. Знаю, что ты без работы. Я даже знаю про Верку. Я много чего знаю. Что ты уезжать собрался, например, – немного самодовольно улыбнулся он.
«Знал бы ты всё – не стоял бы сейчас со мной!» – подумал я.
– Откуда?
– Таньку видел. Она от Супруна опять ушла…
– Почему опять?
– Да потому что Танька не может без того, чтобы чьи-то сопли на свой кулак не наматывать.
– Понятно…
– Какая погода, а? Сейчас бы здесь шашлычок замутить. Да и вообще – дачку бы здесь, а, Серёг?
И он весело посмотрел на меня. От его взгляда мне стало тоскливо и тошно. Захотелось выть волком. Но волки, кажется, не виляют хвостом. А я – примерно этим я сейчас и занимался.
В машине я сидел молча. Когда Артём вырулил на шоссе, резкий дождь вдруг забарабанил по крыше. Неровные струи его косо стекали по стёклам. Артём включил дворники. «Может, и меня выметут?» – подумал я.
– Артём, – я давно хотел задать этот вопрос, – откуда у тебя пистолет?
– Купил, – ответил он так, будто пистолет – это колбаса, продающаяся в каждом магазине.
– В смысле?
– Ты не понял, что ли? Это же травматика… Не боевой!
– А-а… А Веденяпин? А Светлана Назарова и этот… другой?
– А… Веденяпин? У меня сотрудница про декабристов писала… Вот мне фамилия и засела. А Назарова и Мудров – типа тебя. Доверились известной фамилии. Куда ты прёшь? – сказал он про кого-то на дороге.
Там, где шоссе вплотную подходило к заливу, Артём притормозил.
– Красиво, а? – вытащенные на берег, покинутые и ржавые, на песке в разных позах лежали несколько погибших корабликов. Вернее, катерков… Один из них ощетинился мачтами. Мачтами-мечтами… Но Артём глядел не туда, а куда-то дальше, в самую глубь залива. Серые скучные волны укачивали взгляд.
– Знаешь, писатель, я тебе завидую… Я бы хотел посмотреть на свой город новыми, не привыкшими глазами.
Мы помолчали…
– Ну всё, поехали… Сейчас машину поставим и где-нибудь посидим. Если бы не руль, я бы давно присосался…
– Текилу? Ты будешь текилу? – вопрошал он меня спустя полчаса. – Или ром?
– Я не пил ни того ни другого.
– Это как?
Когда на столе появилось по рюмке и того, и этого, я произнёс:
– Артём, ты ведь знал, что я уезжаю. Почему ты не спросил меня о деньгах?
– Ну, наверное, потому, что я верю в дружбу, писатель… Ты где сейчас?
– Да тут, у одних… В больнице познакомились.
– Когда едешь? – опять спросил он осторожно.
– Да хоть сегодня, – усмехнулся я.
– И когда обратно? – я вдруг понял, что для Артёма моё возвращение очевидно.
– Квартиру сдам…
– Так а у тебя…
– Да съехали.
– А-а…
– В любом случае деньги я пришлю раньше, чем приеду.
– Дело не в деньгах! Я знаю, что ты вернёшь! Я не уверен, что ты вернёшься…
– И я… – пришлось признаться мне.
– Ты потерпел поражение? Прими его и сделай выводы.
«Знал бы ты, Артём, сколько поражений я успел потерпеть!»
Выводы я сделал. Теперь каждый камень этого города вызывал во мне жгучий стыд. Я побывал любовником актрисы! Попробовался в писатели! Выяснил же, что не гожусь даже в почтальоны! Петербург настойчиво напоминал мне, что я лишний в его хозяйстве. И наверное, пригожусь там, где мне довелось родиться. Выяснилось, что кубанские немцы не приживаются на петербургской земле. Может, не стоило и пробовать?
Чувство стыда перекрывало все остальные чувства настолько, что я не ощущал даже опьянения.
Когда Артём отлучился в уборную, мне захотелось встать и уйти! Но, увы, в отличие от волка у каждой собаки должен быть хозяин. И собака обязана подчиняться его прихотям.
– Позвони мне, когда купишь билет, – мы прощались под козырьком кафе. Дождь лил с удвоенной силой. Мы должны были перекрикивать его шум.
– Ага…
Я достал записную книжку, подаренную им в больнице. Написал в ней мой м-ский телефон. Вырвал листочек и протянул Артёму.
– Это… Если что…
Мы пожали друг другу руки.
Артём не знал, что денег на билет у меня не осталось. Беды накатывались лениво и неотступно, как волны Финского залива сегодняшним вечером.
К Осе
Проводив Мишу и Гулю на работу, я принялся искать деньги. Вариант с гитарой был глух – разве что встать с ней где-нибудь в пешеходном переходе. Причём в качестве товара, а не инструмента. Родилась и тут же увяла мысль устроиться грузчиком – я не мог себе позволить не спаивать Михаила ещё хотя бы неделю. Мне хотелось бежать! Было стыдно даже выходить на улицу.
К книгам я не прикасался. Они были зримым и постоянно напоминающим о себе теснотой в углу кухни памятником моей глупости. Что было с ними делать – я не знал.
Телефонная книга была исчерпана. Я даже позвонил Максу в М-ск, надеясь попросить его прислать мне денег на обратный билет.
Когда я представился, его мать заговорила со мной радостно и взволнованно. Я понял, что в М-ске меня давно потеряли. По её словам, Макс уехал в Коктебель и вернётся не раньше, чем через две недели. «Две недели в Коктебеле…»
Решать надо было что-то прямо сейчас!
Я вышел на балкон. Закурил, глядя на играющих в песочнице малышей. До меня доносились их отдельные реплики. Две мамы, одна из них с коляской, сидели неподалёку. Детская идиллия казалась мне абсолютной.
– Вера, ну помоги ты ему встать! – оторвалась от щебетанья с подругой та, что без коляски.
Там, в песочнице, старшая девочка тянула руки к годовалому малышу. Подымала его, и малыш, делая несколько шагов, снова падал в песок.
В другом настроении я бы улыбнулся.
«Вера, – думал я механически, – помоги ему встать, – и снова, стряхнув наваждение: – Вера, помоги ему встать…»
С чердака головы, как старые, пыльные книги, на меня посыпались цифры.
– Вера! – проорал я в трубку, когда услышал соединение.
– Сейчас позову, – откликнулись там. Я немного погорячился.
– Аллё! – детский, встревоженный её голос заставил меня поморщиться от стыда.
– Вера! Это Степнов! Сергей… Ну? – я бы не удивился, если бы она положила трубку.
– О! – обрадовалась она. Так, будто нашла в придорожной пыли монетку. Зря ведь!
– Вера, нам надо увидеться! Я бы хотел немного объясниться! – я покраснел даже перед телефонной трубкой.
– Ну давайте… – ещё и на «вы».
– Мы же перешли на «ты».
– Давай, – несмело повторила она. Вера даже не знала, как со мной разговаривать, а я вот так. Что если на всю жизнь у неё останется сомнение в людском благородстве? Нет! Не сейчас! Чтобы отдать все материальные долги и разобраться с моральными, мне нужно было сбежать!
– Где? Во сколько? Я подъеду…
– Я вообще болею… Может быть, вечером?
– Да когда угодно! – легкомысленно пообещал я.
– Давайте в семь на «Владимирской»…
– Вера, куда тебя несёт, больную? – услышал я голос за кадром.
– Мама! – жёстко одернула её Вера. Связи ещё сильны… Ребёнок, отстаивающий свои права!
– На выходе, – уточнил я.
– Ну да…
– Хорошо! До встречи!
Только бы она пришла! Только бы…
Я знал, что она появится раньше! Для этого совсем не обязательно иметь психологическое образование. Достаточно было поставить себя на её место!
Эскалатор медленно волок меня вверх. За моими плечами в чехле болталась гитара.
Вера, конечно, уже ждала.
Я спрыгнул с уходящей под гребёнку ленты. Помахал ей рукой. Она робко ответила и улыбнулась.
Поздоровавшись, мы вышли из полутёмного вестибюля на солнце. Прямо перед нами матовыми чёрными куполами возвышался Владимирский собор. Под ногами же копошились, предлагая несущественную снедь, бабушки.
– Ты больная совсем, – посочувствовал ей я. Вера то и дело доставала платок, несколько раз тоненько чихнула. Кончик её носа покраснел, глаза слезились.
– Да… – только и сумела сказать.
Здешних забегаловок я не знал, а тащить Веру в первый попавшийся кабак, пусть даже и ради кофе, у меня не хватало духу. В Питере так – иной кофе вдруг окажется дороже бокала пива. И счёт принесут уже после того, как от твоего кофе останется лужица чёрной жижи.
– Ну, куда? – спросил-таки я.
– Здесь есть мороженица, – сообщила она, шмыгнув носом.
– Только мороженицы тебе и не хватало! – проговорил я с родительской интонацией, но вовремя спохватился.
– Заказывай… – разрешил я, пробежав глазами по цифрам.
Она шумно высморкалась.
Я закурил, наблюдая, как она выбирает десерт, склонившись к меню. Отросшая ещё больше чёрная челка наполовину закрывала её лицо. Подбородок она кутала в невесомое подобие шарфа.
– Клубничное, – робко сказала она.
– Может, всё-таки чаю с пирожным?
– Нет, клубничное, – повторила она упрямо, пряча улыбку в шарфик.
Я ограничился кофе.
– Вера! – начал я, болтая ложечкой в чашке и не глядя в её сторону. – Вер, я уезжаю.
Мне казалось, что я рушу её надежды. Что с этими словами она вдруг заплачет. Я подготовился к этой её реакции, даже не думая о том, что ей, Вере, уже может быть всё равно.
– В Краснодар? – спросила она.
– Да, – подтвердил я, краснея. – Вера, я урод! – признался вдруг я, от чего мне стало легче. Стоит сформулировать главное, чтобы потом всё остальное стало лишь подтверждением этого тезиса. – Я не хотел того, что вышло… Я сделал невероятное количество глупостей, за которые мне ещё придется заплатить!
Я мог бы размазывать ещё долго. Каяться. Просить прощения. Давить на жалость. Но неизбежность перехода к главному и… и гнусному придавала моим раскаяниям ненужную сейчас легковесность.
– Мне нужны деньги на билет! – оборвал я. О том, куда увянет разговор, если она простодушно скажет, что денег у неё нет, я старался не думать.
– Деньги? – переспросила она. Мне показалось, что Вера превратилась в больного воробышка, так вдруг она нахохлилась, ковыряя ложечкой неестественно розовый, пышный десерт.
– Я отдам тебе свою гитару, – продолжил я. Довод, придуманный мной, кажется, лишал меня хоть чуточки унижения.
– А на чем же вы… ты будешь играть? – Вера казалась рассеянной.
– Я не буду… – отмахнулся я, почувствовав, что сказал глупость, и, чтобы как-то разбавить неловкость, произнёс:
– Почему ты никогда не называешь меня по имени?
Она устало улыбнулась:
– Стесняюсь…
Будь она немного повзрослее, я бы постельно пошутил. Тут – не тот случай.
– Деньги я тебе пришлю через две недели…
И тут я заметил, что она сейчас заплачет. Собирающиеся в уголках глаз слёзы уже невозможно было приписать насморку!
– Вера… – позвал я её.
Слеза медленно потянулась по скуле, оставляя за собой блестящую дорожку.
Вера же – улыбнулась.
– Вера… Я приеду! – с надеждой в голосе проговорил я. Только кому – ей или мне – была нужна эта надежда?
Она закивала головой.
– Приезжай… Приезжай скорее, – забормотала вдруг.
– Ну скажи… Скажи: «Серёга, приезжай!» – тормошил её я.
– Се… Серёга… – всхлипнула она сквозь слёзы.
Я пододвинулся ближе к ней и приобнял её за плечи.
– Ну… Ну… – утешал я её, не до конца понимая, отчего она плачет.
Мы поехали к ней домой. Я долго стоял внизу, у подъезда, ожидая, когда она вынесет деньги.
Потом неловко прощались. Я снял с плеч гитару, поставил её перед Верой.
– Вот, бери!
– Я возьму! – сказала она. – Это – монетка!
– В смысле? – не понял я.
– Ну монетка. Которую кидают, чтобы вернуться, – она привела себя в порядок ещё там, в мороженице, и смотрела на меня сейчас чистыми глазами и немного улыбалась.
– А-а…
– Поезжай! Она тебя будет ждать.
– Спасибо! Я пойду? – спросил её я. Поддавшись слабости, нагнулся к её губам.
– У меня насморк, – сказала она и увернулась.
Деньги были найдены! Больше ничего, кроме покупки билета, не связывало меня с этим городом.
Я возвращался в моё пристанище. Контуры понятия «совесть» очерчивались всё яснее. А она – совесть – терзала меня, хотя в это, наверное, никто, кроме меня, уже не верил.
На следующее утро я купил билет. Прямые поезда были давно забронированы. Оставались только те, что с пересадкой в Москве. Мне было всё равно! Лишь бы бежать вон из моего позора. Туда, где действительно можно зализать нанесённые Петербургом раны.
Вечером, перед самым отъездом, мы с Михаилом крепко выпили.
– Дождался бы белых ночей… Пошли бы смотреть мосты… – сокрушался он по поводу моего отъезда.
– Нет, Мишка, не могу… Противно.
– А это ты как потащишь? – он указал глазами на так и стоявшие в углу кухни пачки книг.
– А вот так! – я встал, взял две пачки книг в обе руки. – Помоги…
Книги мы выставили на помойку. Поставили стопки рядом с мусорным бачком. Я поступил решительнее, чем поступал, работая почтальоном. Один экземпляр я всё-таки оставил себе.
– Ну ты даёшь! – восхищался Мишка. Разбежался и ударил по надорванной пачке ногой. Обёртка разорвалась ещё, и одинаковые книги разлетелись по асфальту. «Сергей Степнов. Обычные встречи», «Сергей Степнов. Обычные встречи», «Сергей Степнов. Обычные встречи». От одинаковости рябило в глазах.
Я достал зажигалку.
– Давай, – говорю, – устроим пожар.
– Нет, ну его в дупло – аутодафе, – отвечал Мишка. – Пусть бомжи возьмут на макулатуру!
Хорошее дело! Аутодафе, да ещё и в дупло.
Когда мы вернулись в квартиру, я вышел на балкон. Сверху книг уже не казалось так много. Серые квадратики величиной с почтовую марку. Их приклеили для того, чтобы отправить из Петербурга меня…
Несмотря на позднее время, солнце висело ещё высоко. Последнее, провожающее меня петербургское солнце. Когда я приехал сюда, меня тоже встречало солнце. Но то солнце, я помню, было куда более весёлым, невзирая ни на какие морозы.
Миша рвался меня провожать. Я еле отговорил его от этой затеи. Мне хоть какое-то время следовало побыть одному. Артёму я так и не позвонил. Одно то, что Ольга могла взять трубку, приводило меня в полуобморочное состояние.
Всё! Все вещи были упакованы. Концы – обрублены. Якоря – подняты.
Я крепко пожал Мишкину руку, закинул на плечо тяжёлую сумку. Вышел во двор и медленно двинулся к трамвайной остановке.
Когда я приехал на вокзал, до поезда оставался ещё целый час. И тут мне стало казаться, что я никуда не еду… Я вспомнил тот день, день моего приезда. Как я звонил Паше. Как подарил местным обитателям телогрейку. Вспомнил надежду, которую привёз с собой в этот прекрасный город, о который потом так неосторожно разбил себе морду. И сейчас, когда начинаются белые ночи, я вынужден бежать из этого города. Бежать, растеряв слова и репутацию на его пронзительных, как стрелы, улицах.
Я достал сигарету, вышел на площадь перед вокзалом. Неосторожный хмель колыхался в крови, придавая прощанию трагические нотки.
«Прощайся, Степнов», – подумал я о себе в третьем лице. Так думать о себе было удобней – хоть какая-то крупица позора ложилась не на мои, а на его, Степнова, плечи.
Вдруг я как-то резко и полно вспомнил Ольгу. В то, первое наше свидание на озере. Слова, которые она говорила. Она назвала меня «хороший мой»…
Рано или поздно нервы всё же должны были сдать. Я только не ожидал, что на такой банальности. Она называла меня «хороший мой». Хороший мой… Хороший… Эти слова… Как стая одинаковых голубей…
Если мужчины не плачут, то это как называется? Или я уже не…
На перроне, на подходе к поезду, у моей сумки отвалилось дно. Зимние вещи со дна сумки повалились прямо на землю. Только этого ещё и не хватало. Немолодая женщина с телегой протянула мне скотч. Собрав вещи, я обмотал сумку липкой лентой.
– Возьми себе, авось пригодится, – махнула рукой женщина, поглядывая на мои мучения.
Скотч я положил сверху, рядом с бутербродами, которые мне сделала сердобольная Гуля.
Больная сумка была восстановлена, и я обречённо вошёл в вагон.
Когда поезд тронулся, я ещё раз подумал: «Всё!» – и наклонился к раненой сумке, чтобы пожилой попутчик не видел моего лица…
«К Осе», – думал я, сдерживая слёзы отчаяния! И сам не знал, что имею в виду!
В. Н. Л.
Я открыл дверь и проник в пустующую, молчаливую квартиру. На столе, написанная Катей, белела, очевидно, очень давно, короткая записка. На обрывке газеты вензельным её почерком было выведено: «Это как?»
Я повертел записку в руках.
А вот так! Хотя что тебе эти ответы спустя несколько месяцев?
Я бросил сумку, поскрёб отросшую за несколько дней щетину, лег на кровать, не снимая обуви.
В Петербурге осталось всё то, за что или против чего я боролся. Здесь, в М-ске, бороться было не за что. И если там я пытался выжить – здесь для этого не требовалось никаких усилий.
На улице шёл дождь. Он перекрывал все остальные звуки, становясь шелестевшей, шуршащей тишиной. В этой тишине можно было пролежать не одни сутки, слушая только этот монотонный, успокаивающий шум. Выкурить бесчисленное множество сигарет. Побренчать что-то на гитаре. Ах да… То есть наоборот – нет!
Я встал, отвернул в ванной комнате краны и, пока набиралась вода, принялся раздеваться. Раздевшись, погрузился в горячую, успокаивающую воду. Я смотрел на свои руки, лежащие вдоль тела. Вот, фиолетовые и напряжённые, на руках протекают вены. Если дотронуться до них бритвой, подковырнуть их, из вен брызнет бурая, густая кровь… И мне будет всё равно – Артёмы, Ольги, Веры… Исчезнут все. Исчезнут и перестанут меня тревожить! Какая пронзительная идея! Пусть бы только быстро… А в этом нельзя быть уверенным. Может быть, вода остынет быстрее, чем кровь вытечет из меня, и меня ожидает долгая, слабая смерть…
Я намылил голову, плечи… Смыл под струёй воды. На поверхности плавали мутные пузыри грязи.
«Сколько её? Сколько грязи-то, а? – медленно думал я. – Откуда столько грязи?» – я не находил ответа.
Я ведь был счастливым ребёнком. Независимым, вполне жизнеутверждающим подростком. Любил рисовать… Писать что-то…
Вот, написал! Написал и этим написанным до неузнаваемости изменил собственную жизнь. Только из грязи хотелось известно куда, а в итоге вот – лежу в ней по горло.
Как быть, когда вся жизнь осталась в другом, чужом городе, там, где тебя знают только по сумме, которую ты должен?
Писатель!
Гробокопатель.
Членовредитель.
Как случилось так, что я возомнил себя тем, кто способен заниматься этим ремеслом?
Я не находил слов, хотя не так давно с лёгкостью бросал их на ветер! Поток иссяк. Поток потёк так-сяк, потом иссяк!
Стоило получить щелчок по носу – и всему твоему писательству грош цена. Так твоё ли это дело, Серёжа, если ты отступаешь от него так просто. Вот и ответ! Стоило его получить, щелчок, в самом начале пути, чтобы падать было не так болезненно. Но ведь ты не боялся боли?
Боль, в отличие от стыда, можно перетерпеть. Да и терпеть боль – занятие куда более достойное.
Я вытянул пробку из ванны, встал, схватился за полотенце.
Из ванной комната показалась мне совсем пустой. Даже гитары не было на прежнем месте. Пустая комната казалась более органичной… Я в ней был лишним. Сторонним наблюдателем. Как фотограф, снимающий на фотоплёнку живописный пейзаж. При всем желании фотограф никогда не поместит в кадр самого себя. Как бы ему этого ни хотелось…
Я, не одеваясь, подёргал залипшие за зиму рамы. Открыл для дождя окно. Почувствовал животом холод попадавших на подоконник капель. Взял сигарету.
Назойливая память раз за разом возвращала меня в Петербург, к его обитателям. Разум отказывался работать в «здесь».
Я ощущал себя человеком, выброшенным на необитаемый остров. Человеком, всё прошлое которого и есть он сам. И никакого будущего… Только горбатые м-ские холмы, позеленевшие теперь кучерявой шёрсткой.
И жаловаться на это можно было только себе самому.
Я не умел бороться за счастье в пустоте. Ведь счастье – система отношений с другими людьми, а не с самим собой. Даже пресловутая внутренняя гармония возникает только при наличии внешних факторов.
Здесь, в М-ске, внешних факторов просто не было. Когда-то такими факторами были Катя, Оса! Одиночество переносится легко тогда, когда его можно прервать в любой момент.
Я потушил окурок, полез в сумку за одёжкой. Отодвинул колечко молнии. Сверху, как неясное пока предложение, лежал серый моток скотча.
Я медленно вытащил его из сумки, поймал язычок и так же медленно принялся разматывать ленту.
Вера! Нет, не та Вера, облапанная мною пьяной ночью в другом, огромном городе, а вера – та, что от слова «верить». Веры не было. Вера есть только тогда, когда ещё не потеряно хоть что-то… Когда потеряно всё, на смену вере приходит отчаяние.
Это р-раз… Зубами я оторвал порядочный кусок и отложил его в сторону.
Я понял, почему тогда, в ветреном доме Осы, я натыкался на серые липкие полоски. В свою последнюю ночь Оса думал о том же, о чём и я…
Надежда! Надежда умирает последней. Когда умирает вера, остаётся только она – надежда. У религиозных людей, наверное, иначе, однако на этом поле мне похвастать нечем. Но надеяться может лишь человек, верящий в то, что всё ещё поправимо. Замкнутый круг. Надеяться может больной – на выздоровление! Голодный – на кусок хлеба… Я не был ни тем ни другим. У меня не было самого предмета надежды. Надежда просто на лучшее – слабый жизненный стимул.
Я отмотал ещё один кусок и скрутил его с первым. Попробовал их на прочность. Ага!
Любовь… Которую я, почувствовав, тут же захотел пощупать! Не дожидаясь слов любви с противоположной стороны. К тому же взял чужое! Хотя с детства мама мне говорила… Ма-ма!
Ещё один кусок… Из таких кусков можно сплести буксир для автомобиля, не то что…
Оса! Умный пьяный Оса!
Любовь… Отведав такой любви, не очень-то просто представить что-то подобное снова. Для этого нужна вера. И надежда. И любовь – нужно обладать любовью, чтобы подарить это чувство кому-то другому.
У меня не было ни того, ни другого, ни третьего. У меня были синие шапки туч, с шумом протекающие на потемневшую от влаги зелень холмов. Пустота… И память!
Я продолжал отмерять ленты одинаковой длины, сплетая их в косичку. Просто так. Лишь для того, чтобы посмотреть, что это будет за изделие.
От неожиданного телефонного звонка я вздрогнул. Покосился на аппарат. Телефон, словно подтверждая своё существование, весело пиликнул ещё раз. И ещё.
Брать трубку было незачем, но телефон всё звонил и звонил…
Я отложил косичку в сторону. Поднялся.
– Алло, – произнёс медленно, почему-то не рассчитывая на ответ.
В трубке закряхтело. Потом послышался треск, и трубка вдруг закартавила Артёмом:
– Почему ты так долго не подходил, писатель? Ты что, спал?
– Я только приехал… – ответил я ошарашенно. Я и не подумал, что Артёму вдруг может пригодиться листок, который я дал ему после несостоявшегося убийства.
– Я прикинул, – неторопливо продолжал он, – что ты зря огорчался. Югин сделал всё правильно! Он указал нам наше нынешнее место… Только вот он своей бородатой головой знаешь о чём не подумал?
– Ну?
– О том, что это – начало! Вот так вот.
– Где начало?
– Дурак! Начало – это место, где всё начинается. Где всё только начинается! Ты меня понял?
– Кажется…
– Ты что делал в Питере? Вот скажи мне, а?
– Жил… – ответил я, чтобы отвязаться от вопроса.
– Жил, – произнёс он с усмешкой. – Всё только начинается – ты слышишь меня? Вот теперь пиши! А иначе зачем всё то, что с тобой случилось?
Я попытался улыбнуться. Всё то, что со мной случилось, Артём знает, может быть, на две трети. И этих двух третей ему вполне достаточно для жизнеутверждающих выводов. Мне же – мне было недостаточно даже трёх, чтобы не опускать рук.
– Ты правда так думаешь?
– Я уверен в этом, писатель. Я – уверен! Ладно, спи… Это я так… Позвони мне потом!
– Артём, деньги я…
– При чём тут деньги. Я же знаю, что ты вернёшь… И желательно – при личной встрече.
– Хорошо, – ответил я и снова улыбнулся ему в трубку.
Тихо положив телефон на место, я посмотрел на своё нелепое рукоделие. Оно показалось мне сброшенной змеиной шкуркой, легковесной и бессмысленной.
Тогда я ещё не знал, насколько был прав Артём. Я стоял перед открытым окном в чём мать родила. Курил, стряхивая пепел. Дождь расстреливал меня, отскакивая от подоконника холодными свинцовыми каплями. Расстрельная команда состояла из тридцати трёх ненавидящих меня букв, с которыми я не смог совладать.
Но ведь было ещё и моё прошлое! И оно вдруг на миг показалось мне чужим, но привлекательным. Авантюрным. Какое-никакое, это было единственное моё прошлое – другого уже не будет… Мне мучительно хотелось пережить его снова. Всё, чем я мог это повторить, были листы бумаги и тридцать три расстрельные буковки, где первой буквой алфавита значилась буква «я». Сначала был я!
На этом я ставлю точку, дату, размашистую подпись – «Степнов, Санкт-Петербург».



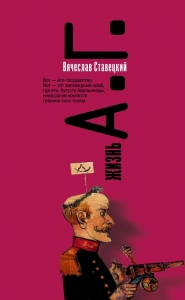







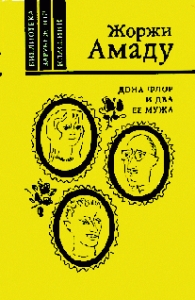
Комментарии к книге «В.Н.Л. (Вера. Надежда. Любовь)», Сергей Авилов
Всего 0 комментариев