Уильям Дерезевиц Уроки Джейн Остин. Как шесть романов научили меня дружить, любить и быть счастливым
© William Deresiewicz, 2011
© Я. Кучина, перевод на русский язык, 2017
© О. Белякова, перевод на русский язык, 2017
© Livebook Publishing Ltd, оформление, 2017
* * *
Посвящается Джилл, а также памяти Карла Кребера
Глава 1. «Эмма»: проза жизни
Мне было двадцать шесть, и я был эгоистом – не редкость в этом возрасте, – но встретил женщину, изменившую всю мою жизнь. То, что она умерла за двести лет до нашей встречи, не играло ровно никакой роли. Имя ей Джейн Остин, и благодаря ее урокам я понял, что действительно имеет значение в нашем мире.
У меня перехватывает дыхание при мысли, что я вообще не собирался читать ее книги. Все получилось почти случайно и, можно сказать, против моей воли. За год до описываемых событий, решив продолжить учебу и получить кандидатскую степень, я жаждал восполнить пробелы в своем образовании – познакомиться с произведениями Чосера и Шекспира, Мелвилла и Мильтона. Но существовала определенная область английской литературы, которая вызывала у меня глубочайшее презрение и даже отвращение: дамские романы XIX века. Что может быть тоскливее длинных, тяжеловесных сочинений о повседневности, написанных высокопарным стилем тех времен?
Даже названия звучали нелепо. «Джен Эйр», «Грозовой перевал», «Мидлмарч». И венцом этого унылого, ограниченного творческого наследия считались романы Джейн Остин. Той самой, что писала глупые романтические сказки. От одной мысли о ней меня неудержимо клонило в сон.
Я рвался изучать модернизм: сложные, неоднозначные, виртуозные работы Джойса, Конрада, Фолкнера, Набокова. Они покорили меня как читателя и сильно повлияли на мое мировоззрение. Как и многим юношам, мне нравилось причислять себя к мятежникам, и революционные настроения модернизма отлично сочетались с этим образом. Я влачил дни в тумане злобного сарказма, слонялся по Бродвею в куртке точь-в-точь как у Джона Леннона и обращал к небу пламенные речи, отрицая все традиции, убеждения и религии разом. Я прятался в тени зданий, подобно пугливой крысе, и упивался чувством оторванности от мира. Если мне некуда было пойти или приходилось кого-то ждать, я садился прямо на тротуар, погружался в мир Керуака или «Уловки-22» – и плевать я хотел на все и вся. Я курил травку, слушал The Clash, насмехался над продавшимися офисными приматами. Как и все модернисты, я мечтал изменить мир, только не представлял пока, с чего начать. Но, по крайней мере, я точно знал, что не дам миру изменить себя. Я – человек из подполья Достоевского, против общества. Я – Стивен Дедалус Джойса, мятежный художник, швыряющий камни во взрослых. Я – Марлоу Конрада, уставший от жизни правдолюб, пробивающий путь сквозь паутину лжи и лицемерия.
Совершенно очевидно, что окружающим приходилось со мной нелегко. Удивительно, что друзья вообще меня терпели. Подобно большинству молодых людей, я искренне верил, что достойными разговора темами можно считать лишь рассуждения о книгах, истории, политике и прочих возвышенных вещах. При этом я всегда был на все сто уверен в своей непогрешимой правоте. Не давая собеседникам довести мысль до конца, я оглашал свое мнение с таким видом, словно только что спустился с горы Синай. Я пер напролом, как танк, игнорируя мысли и чувства других людей. И ведь даже в голову не приходило взглянуть на мир чужими глазами.
Однажды моя лучшая подруга представила меня девушке по имени Онор[1]. Я уже было собрался выпалить все глупости, немедленно пришедшие на ум, – «Да, Ваша Честь», «Какая Честь встретиться с Вами», и все в таком духе. Но подруга, заметив мою дурацкую ухмылку, остановила меня прежде, чем я успел опозориться. «Билли, – сказала она медленно, с расстановкой, словно я был трудным подростком, – поверь, все это она уже слышала». Что ж, подруга знала меня куда лучше, чем я сам себя знал. А вот я не понимал ни себя, ни других.
Личная жизнь не складывалась. Я увяз в отношениях, которым следовало закончиться давным-давно. Мы сошлись прошлым летом, провели вместе целый год, но кроме секса нас ничто не связывало. Она была взбалмошной красавицей и умелой любовницей; у нее был взгляд опытной женщины и смех, говорящий о том, что ей на все наплевать. Мы выбирались из постели, шли на танцы и снова возвращались в исходную позицию.
Что же касается настоящей привязанности, вряд ли я тогда вообще был на нее способен. Я и раньше встречался с девушками, иногда даже думал, что влюблен, но все всегда заканчивалось ужасно: ссоры, обиды, взаимные упреки и слезы. На этот раз расставание прошло гладко. По крайней мере, без скандалов. Да и вообще без лишних разговоров, – мы не сказали ни слова о наших отношениях или чувствах. Вместо этого я, как обычно, разглагольствовал на общие темы, в глубине души полагая, что оказываю ей тем самым большую честь. Ведь я окончил Колумбийский университет, а она едва осилила колледж; я собирался чего-то добиться в жизни, а она прожигала время, работая официанткой (на мой взгляд, сложно было найти более бессмысленное занятие) и пытаясь понять, чем хочет заниматься в будущем. Одним словом, я ее не уважал, и представить, что она способна сказать что-то дельное, было выше моих сил.
Я прекрасно понимал, что подобные связи едва ли можно назвать настоящими отношениями, но упрямо твердил себе, что это именно то, что мне требуется: регулярный секс и никаких обязательств. Предел мечтаний любого подростка. Только я уже не был подростком. А может, думалось мне тогда (каким же я был бесчувственным чурбаном!), может, я никогда и не встречу человека, которого смогу полюбить. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось.
На самом деле в глубине души я прекрасно понимал, что прожить всю жизнь без любви для меня невозможно; что даже мысли об этом – признак душевного нездоровья. И все же я упорно игнорировал голос разума, словно у меня его вообще не было. Кроме того, думал я, стоит только влюбиться, и тебя мигом потащат под венец. А я никогда, ни за что не женюсь – в этом я был уверен совершенно твердо.
На втором году обучения в аспирантуре я записался на курс «Роман как тема исследования» – не потому, что действительно интересовался этим литературным жанром, а потому что звучало подходяще. Курс начинался с романа «Госпожа Бовари», книги, которая вознесла искусство сочинительства на совершенно новый уровень. Затем шел признанный шедевр Генри Джеймса «Послы». Наконец-то я изучал стоящую литературу!
А потом мы взялись за «Эмму». Я много раз слышал, что книга гениальна. Что это один из лучших романов, когда-либо написанных на английском языке. Что этот роман сложнее и многограннее работ Пруста и Джойса. Но с первых же страниц мое предубеждение против Остин только утвердилось. Все было до жути плоско и банально. Сплошная болтовня между кучкой заурядных личностей в каком-то захолустье – и больше ничего. Никаких грандиозных событий, душевных терзаний и, что весьма необычно для любовного романа, ни одной романтической истории.
Эмма, а точнее Эмма Вудхаус, «красавица, умница и богачка»[2], жила в фамильном имении Хартфилд вместе со своим немощным, недалеким стариком-отцом. Ее жизнь отличалась удручающим однообразием. Мать умерла, когда она была еще ребенком; сестра Изабелла жила в Лондоне; а гувернантка, которая вырастила Эмму-девушку, недавно вышла замуж. У мистера Вудхауса не хватало сил даже на то, чтобы хоть ненадолго покинуть пределы имения. Лучшими друзьями старика, постоянно навещавшими его, были глупая старая дева по имени мисс Бейтс и ее престарелая матушка, вдова священника.
Прямо скажем, далеко не самая интересная компания. Герои только и делали, что сидели кружком и разговаривали: кто-то заболел, у кого-то накануне играли в карты, кто-то кому-то что-то сказал. Обычная прогулка по собственному саду представлялась мистеру Вудхаусу чуть ли не выходом в свет. Самым волнующим событием дня герои единодушно признавали чтение писем. А поездка за покупками в Хайбери, городок возле Хартфилда, где жили мамаша и дочка Бейтс и где имелся один-единственный магазин, – оборачивалась настоящим приключением.
Все это было тривиально до изумления. Посещая другие лекции, я слушал, как Д. Г. Лоуренс проповедует сексуальную революцию, как Норман Мейлер, чертыхаясь, продирается сквозь события Второй мировой. А я все читал и читал про очередную партию в карты. Вот Изабелла с семьей пожаловала домой на Рождество, и целая глава романа состоит лишь из вереницы бессмысленных диалогов – персонажи пересказывают друг другу новости. Сюжет замер и на протяжении более полудюжины страниц не сдвинулся ни на йоту. Да, по правде говоря, во многих фрагментах текста действие как таковое практически отсутствовало. Что-то вроде бы происходило, герои понемногу раскрывались, но ни одно слово, ни один поступок не давали толчка к развитию событий, особенно в том направлении, в котором я ожидал: не было и намека на появление романтического избранника главной героини.
К чему же все эти длинные, бессвязные речи мистера Вудхауса о внуках или целебной овсянке? Вот, например, он разговаривает с Эммой о сыновьях Изабеллы:
– Генри – славный мальчуган, настоящий мужчина, а Джон – вылитая мать. Генри – старший, его назвали в честь меня, а не отца. В честь отца назвали второго, Джона. Кому-то, я думаю, может показаться странным, что не старшего, но Изабелла настояла, чтобы его назвали Генри, чем я был очень тронут. Удивительно смышленый мальчуган. Впрочем, все они на удивление понятливы, и такие милашки! Подойдут, станут подле моего кресла и скажут: «Дедушка, не дадите ли мне веревочку?», а Генри однажды попросил у меня ножик, но я сказал, что ножи делают только для дедушек.
Наверняка Эмма помнила эту историю наизусть. Да и мы ничего нового и полезного из нее не почерпнули. Дети и их сообразительность, так же как их любовь к ножам и бечевкам, не имели никакого отношения к повествованию. И всем уже давно понятно, что общество старого мистера Вудхауса утомительно. Так зачем нам это знать?
Впрочем, словеса мистера Вудхауса ничто по сравнению с монологами мисс Бейтс. Его речи занимали абзацы, ее же – целые страницы. Я сидел в кофейне, окруженный людьми с томиками Кьеркегора и Хомского в руках, и продирался сквозь фрагменты текста вроде того, где мисс Бейтс рассказывает Эмме о письме от своей племянницы Джейн Фэрфакс.
По крайней мере, пытается:
– Ах, вот оно! Я же помню, что оно должно быть где-то здесь, просто, видите, нечаянно поставила сверху рабочую корзинку и закрыла его от глаз, а ведь только сейчас держала в руках и наверное знала, что оно должно быть на столе. Сперва читала его миссис Коул, а когда она ушла, перечла еще раз матушке, для нее это первое удовольствие – письмо от Джейн! – без конца готова слушать, и я уверена была, что оно где-то под рукою, так и оказалось, прямо под рабочей корзинкой, и раз уж вы любезно изъявили желание послушать, о чем она пишет, – но прежде позвольте мне, как того требует справедливость, извиниться за Джейн, что письмо такое коротенькое, всего две странички, и то неполных, – у ней вообще такая привычка, испишет целую страницу и половину вымарает.
И это лишь вступление, вернее, первая его половина; мы не узнáем ни слова из письма еще страницу, не меньше.
В реальной жизни я в упор не замечал таких людей, как мистер Вудхаус и мисс Бейтс – нудный старик и болтливая соседка. Смотрел сквозь них, спеша по своим делам, или рассеянно кивал, соображая, какие книги надо продлить в библиотеке. Еще не хватало тратить свою жизнь на чтение о подобных персонажах.
Забавно, но мнение Эммы совпадало с моим. Хайбери нагонял на нее такую же тоску, как и на меня. Ей тоже казалось, что ничего интересного там не происходит, и только ее отчаянная решимость устроить все по-своему вносила интригу в сюжет. Эта девушка меня озадачивала. Вроде бы я был на стороне Эммы, но она хваталась за все так самонадеянно и безрассудно, все ее планы проваливались с таким оглушительным треском, что я съеживался всякий раз, как она открывала рот.
В самом начале повествования, придумывая себе занятие, Эмма свела дружбу с девушкой по имени Гарриет Смит. Наивная, покорная, необразованная, Гарриет преклонялась перед подругой, ловила каждое ее слово и тем самым всячески потакала тщеславию Эммы. Гарриет к тому же была очень хорошенькая: «невысокого роста, пухленькая и белокурая, с ярким румянцем, молочно-белой кожей, голубенькими глазками и правильными чертами лица, хранящего удивительно ясное выражение». Это навело Эмму на мысли: «Нельзя, чтобы эти томные голубые взоры, чтобы все эти природные прелести расточались напрасно в низком обществе Хайбери и его окрестностей», ведь Гарриет «для полного совершенства недоставало лишь немного искушенности и лоска». И, подобно Генри Хиггинсу, «изваявшему» Элизу Дулиттл, Эмма решила потрудиться во благо своей подружки. «Она сама обратит на нее внимание, разовьет ее способности, отвратит от дурного общества и введет в хорошее, образует ее суждения и манеры. Это будет увлекательное и, конечно же, доброе дело, в высшей степени подобающее ее положению, досугу и способностям».
Ну нет, это уж слишком. Какая самоуверенная, назойливая девчонка – ведь ей самой было чуть за двадцать, и наивностью она едва ли уступала Гарриет. Эмма ни капли не сомневалась в том, что брак между гувернанткой и местным джентльменом – ее личная заслуга, хотя на самом деле она просто раньше других догадалась, к чему идет дело. И вот теперь мисс Вудхаус задалась целью соединить Гарриет и мистера Элтона, нового священника. Чистой воды безумие! Ведь Гарриет была внебрачной дочерью неизвестного мужчины, у нее не имелось приданого и положения в обществе. Но Эмму это не смущало.
Хуже того, она сбила с толку и саму Гарриет, убедив ее отклонить предложение руки и сердца от мистера Мартина, очень достойного молодого человека, который к тому же нравился Гарриет.
Наблюдать эту душераздирающую сцену было невыносимо, словно смотреть на то, как мучают щенка:
– Та к вы полагаете, ему следует отказать, – сказала Гарриет, потупляя глаза.
– Следует? Гарриет, моя милая, что это значит? У вас есть сомнения на этот счет? Я думала… но, впрочем, простите, я, возможно, заблуждалась. Я понимала вас неверно, раз вы сомневаетесь, каков должен быть смысл ответа. Мне казалось, вы спрашиваете лишь, какие выбрать слова.
Гарриет промолчала. Эмма с некоторою сдержанностью продолжала:
– Итак, я заключаю, что вы намерены дать ему благоприятный ответ.
– Да нет – то есть не то, чтобы намерена… Ну, как мне быть? Как вы советуете? Мисс Вудхаус, миленькая, умоляю вас, скажите, что мне делать?
‹…›
– Ни за что вам не стану советовать ни того, ни другого, – сказала, ласково улыбаясь, Эмма.
Она была просто невыносима! Разве можно так бездумно рисковать чужим счастьем в угоду собственному тщеславию? По мнению Эммы, никто в Хайбери не мог считаться ей ровней, и мистер Мартин оказался недостоин мисс Смит вовсе не потому, что Гарриет такое уж совершенство, а потому, что она подружка Эммы Вудхаус! А мисс Бейтс с матерью? Эмма прекрасно знала, что ее визит скрасит день двух одиноких женщин, живущих на грани бедности, но не могла заставить себя бывать у них почаще. Когда же, наконец, она удосуживалась появиться, то искала любой предлог, чтобы поскорее удрать. Джейн Фэрфакс, племянница мисс Бейтс, замечательная девушка, ровесница героини, талантливая и образованная, каждый год приезжала в Хайбери на несколько месяцев, но Эмма старательно ее избегала. Разве родственница ничтожной мисс Бейтс может оказаться собеседницей, достойной несравненной мисс Вудхаус?
В конце концов, пренебрежение Эммы к окружающим обернулось против нее самой. В Хайбери приехал погостить пасынок ее гувернантки Фрэнк Черчилл. Этот жизнерадостный, симпатичный повеса так усердно увивался вокруг мисс Вудхаус, что ее самомнение взлетело до небес. Стояло лето, и Эмма, Фрэнк, Гарриет, Джейн, мисс Бейтс и мистер Элтон решили отправиться на пикник. К тому времени, как вся компания добралась до места, воркование Эммы и Фрэнка до такой степени подавило общую беседу, что остальные были вынуждены помалкивать. Тогда Фрэнк придумал отличный план, чтобы развлечь свою прекрасную леди: «Вас здесь семеро… и каждому вменяется всего лишь сказать либо одну очень остроумную вещь, либо две не очень, либо три отъявленные глупости». Бедная безобидная мисс Бейтс, которая хорошо знала, каким утомительным бывает ее общество, ужасно смутилась. «О, прекрасно! – воскликнула мисс Бейтс. – Тогда я могу не волноваться. Три отъявленные глупости – это как раз по моей части.
Мне только стоит рот открыть, и я тотчас брякну три глупости, не так ли?»
И тут Эмма, окрыленная вниманием Фрэнка и чувством собственного превосходства, выдала: «Видите ли, сударыня, тут может встретиться одно затрудненье. Простите, но вы будете ограничены числом – разрешается сказать всего лишь три за один раз. Какая жестокость! А хуже всего то, как жертва приняла ее:
Мисс Бейтс, обманутая притворною почтительностью ее обращенья, не вдруг уловила смысл сказанного, но и когда до нее дошло, не рассердилась, хотя, судя по легкой краске на лице, была чувствительно задета. – А, вот что!.. Понимаю. Да, мне ясно, что она подразумевает, и я постараюсь впредь придерживать язык. Видно, – обращаясь к мистеру Найтли, – от меня стало совсем невмоготу, иначе она бы не сказала такое старому другу.
И тогда я, наконец, понял, куда с самого начала метила Джейн Остин. Жестокий проступок Эммы, так возмутивший меня, был отражением моей собственной черствости. Книга вызывала у меня скуку и презрение вовсе не потому, что была плохо написана. Напротив, именно этой реакции и добивалась Остин. Она нарочно провоцировала меня, чтобы выявить, выставить эти эмоции мне же напоказ. Создав героиню, которая вела себя точь-в-точь, как вел бы себя на ее месте я, и которая чувствовала то же самое, что чувствовал бы я, автор поставила передо мной зеркало, где отразилось мое собственное уродливое лицо. Осуждая Эмму за ее презрение к мисс Бейтс, за глубокое пренебрежение ко всему городку Хайбери, я осуждал самого себя.
Я вдруг понял, что Остин писала о самых обыденных вещах вовсе не потому, что ей больше не о чем было рассказать. Напротив, она хотела, чтобы мы осознали, до какой степени важна обыденность. Все эти мелочи жизни казались бессмысленными лишь до тех пор, пока Остин не подвела нас к пониманию того, что в них-то и заключен главный смысл. Остин вовсе не была глупой или поверхностной, она оказалась намного, намного умнее – и гораздо мудрее, – чем я мог вообразить.
Я вернулся к чтению с совершенно иным настроем. Банальности мистера Вудхауса и болтовню мисс Бейтс – их бесконечные сплетни и пустые разговоры – Остин включила в книгу потому, что ценила своих героев, она и не думала смеяться над ними. Она ловила каждое их слово и хотела, чтобы я тоже прислушался. Пока я воспринимал все эти беседы как некий пролог и пролистывал их, не вдумываясь, я находил их невероятно скучными. Но стоило вчитаться, и я уловил их особенную красоту, достоинство и глубину.
Драгоценные письма Джейн Фэрфакс, спрятанные в самых неожиданных местах, сообразительность маленьких Джона и Генри – все обрело смысл, поскольку это было интересно самим героям. Полотно их бытия соткано из мелочей жизни, и именно эти детали придают их существованию особую неповторимую фактуру. Наконец-то я понял. Убрав из повествования всевозможные происшествия, которые обычно увлекают читателей, – приключения и аферы, любовные интриги и накал страстей, – а временами и сам сюжет, Остин хотела обратить наше внимание на то, что мы так часто упускаем в книгах и в жизни. Незначительные, обыденные частицы повседневности – что сказал племянник, что сделал сосед, что услышал друг, – из которых час за часом складывается наш день. В таких мелочах, говорит нам Остин, и заключается наша жизнь. В них – вся она.
Даже Эмма чувствовала это, сама того не сознавая.
…И не было на свете человека [речь идет о гувернантке Эммы, миссис Уэстон], с которым она [Эмма] могла бы делиться столь откровенно… говорить со столь твердым убеждением, что ее выслушают и поймут с полуслова, с интересом входя в подробности домашних дел, как приятных, так и затруднительных; в подробности будничных событий и недоразумений, относящихся к ней и ее батюшке. Все, что имело касательство до Хартфилда, находило живейший отклик в душе миссис Уэстон, и не было для них обеих большей отрады, чем посидеть полчасика вдвоем, толкуя о тех незначащих предметах, из коих ежедневно слагается счастье домашней жизни.
Эмму все время тянуло не в ту сторону. Сердце-то у нее было на месте – вот почему я все-таки простил ее, да она и сама смогла, в конце концов, выбрать верную дорогу, – но ум так и норовил свернуть с правильного пути. Эмма строила планы и грезила о несбыточном, в то время как «счастье домашней жизни» находилось прямо у нее под носом в «домашних делах, как приятных, так и затруднительных… в событиях и недоразумениях» – в предсказуемости каждого дня, в каждой его секунде.
В романе есть название для основы, из которой сплеталась словесная ткань повседневности, выражения, на которые я натыкался раз за разом: «малейшие подробности», «мне любопытны тысячи подробностей», «не пропускайте ни единой подробности». Не просто «подробности», а все, даже самые «малые», «мелкие». Жизнь проживалась под увеличительным стеклом. Я только теперь понимаю, сколь многое в этой книге было «маленьким, мелким»[3] – мелкие «домашние дела… события и недоразумения». Все, что исходило от Гарриет, всегда было небольшим и миленьким. У ее друзей жила коровка, прехорошенькая коровушка, а в саду стояла миленькая беседочка всего на двенадцать человек. История разворачивалась в пределах Хайбери, и само пространство, казалось, сузилось до размеров этой тесной рамки. Расстояние между домами Эммы и миссис Уэстон составляло примерно восемьсот метров, но даже поездка в гости выглядела утомительным путешествием. В «Эмме» четыре сотни страниц, но масштаб происходящего столь мал, словно толпу людей изобразили в миниатюре.
Я не сразу разглядел глубину произошедших событий, столь очевидную для Остин, но это не совсем моя вина. Как и все великие учителя, она ждала, когда читатели додумаются до всего сами. Она облекла важнейшие истины в неприметные одежды. Крошечные масштабы ее повествования были оптической иллюзией, проверкой. Вспомните Иисуса, который рассказывал притчи, чтобы ученики, поразмыслив самостоятельно, своим умом дошли до сути. Он знал, что иначе истину не постичь. Читая Остин, я вспомнил также слова Платона о своем великом наставнике Сократе, который тоже поучал, рассказывая истории:
…На первых порах речи его кажутся смешными… На языке у него вечно какие-то вьючные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики… и поэтому всякий неопытный и недалекий человек готов поднять его речи на смех. Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и содержательны, а потом, что речи эти божественны…[4]
Слова, которые выбирала Остин, поначалу казались мне неподходящими, смешными. Я привык к стилистическим красотам, способным вскружить голову: синтаксические лабиринты Джойса, тайнопись Набокова, пробирающая до костей точность Хемингуэя. И как я должен был отнестись к роману Остин, если с самой первой страницы то и дело спотыкался об абзацы вроде этого:
Мистер Вудхаус на свой лад не чуждался общества. Он очень любил, когда к нему приходили друзья и, по совокупности разных причин – таких, как старожительство в Хартфилде и прирожденное радушие, как богатство, и дом, и дочь, – мог большей частью регулировать дружественные визиты в пределах своего тесного кружка, как ему нравилось. Ни с одним семейством за пределами этого кружка он не поддерживал особых сношений; беседы допоздна и многолюдные званые обеды внушали ему ужас, он мог водить близкое знакомство лишь с теми, кто соглашался навещать его на его собственных условиях.
Ни метафор, ни образов, ни полета воображения. Не верилось, что передо мной художественная литература. Лексика немного устарела, а в остальном похоже на устную речь.
Но потом я пригляделся внимательнее. Мистер Вудхаус был, говоря языком тех дней, человеком болезненным, профессиональным страдальцем. Не найти на свете существа слабее и беспомощнее. Но всего лишь в трех предложениях Остин тонко дает понять, что мистер Вудхаус умело использовал свою болезнь, чтобы контролировать окружающих. В этом отрывке нет и сотни слов, причем семнадцать из них – то есть примерно каждое пятое[5] – местоимения, связанные с мистером Вудхаусом: «он», «ему», «его». «Его» богатство, «его» дом, «его» дочь – все принадлежало «ему». Абзац начинается его именем, и каждое предложение подчеркивает его власть – он не чуждался общества «на свой лад», «как ему нравилось» и «на его собственных условиях».
Так строится вся речь Остин. Ни напряжения, ни театральности, никаких попыток произвести впечатление или удивить. Обычные слова в привычном порядке – язык, ничем не привлекательный сам по себе, но естественный, как дыхание. Феномен прозы Остин не в используемых словах, а в том, как она их выстраивает, сочетает, уравновешивает. То же самое можно сказать и о персонажах. Тысячи авторов писали романы о простых людях, но лишь один создал «Эмму». Все герои Остин вышли из-под ее пера живыми и полнокровными, поскольку она «расставила» их на страницах повествования так же естественно, без снисхождения и оправданий, как в жизни. Эмма с Джейн Фэрфакс, мисс Бейтс с Гарриет Смит, мистер Мартин с мистером Элтоном – все они, подталкивая друг друга, заставили историю двигаться и разыграли сцены настолько непосредственно, что вышло совсем как в реальной жизни. И какое значение имеет размер картины, если она вмещает целый мир?
Как выяснилось, первое впечатление людей от книг Джейн Остин очень напоминало мое собственное. Отзывы современников Остин предостерегали читателей, что произведения «несерьезные», «не слишком разнообразные», «далеки от совершенства», а также «начисто лишены изобретательности» и до такой степени «скупы на события», что сложно даже сказать, о чем они. Остин, которой нравилось собирать мнения друзей и родственников о своих работах, записала слова некой миссис Гитон об «Эмме»: «…слишком реалистична, чтобы заинтересовать». Мадам де Сталь, известная французская писательница и интеллектуалка, называла ее романы «мещанскими»; так что, может, и к лучшему, что Остин отказалась встретиться со своей знаменитой современницей на торжественном обеде в Лондоне, когда представилась такая возможность. Джейн и сама понимала, что ее книги не для всех. «Едва ли нужно мне писать, – говорила она о “Гордости и предубеждении”, перефразируя строки из поэмы Вальтера Скотта “Мармион”, – для тех, в ком остроумья не видать». Что же касается «Эммы», то Остин догадывалась, что публике будет особенно сложно принять эту книгу. «Я представлю героиню, – писала Джейн, – которая не понравится никому, кроме меня».
Но во все времена находились проницательные читатели, умевшие разглядеть гениальность за неброским фасадом. Сам сэр Вальтер Скотт, популярнейший тогда автор, создатель эпических поэм и масштабных исторических романов, таких, как «Айвенго» и «Ламмермурская невеста», признал ее превосходство:
У этой юной леди есть дар описывать соприкосновения, переживания и характеры из повседневной жизни; я не встречал ничего более удивительного. Высокопарно изъясняться я могу сам, и делаю это, но тонкий подход, превращающий обыденные, привычные вещи и образы в нечто занимательное благодаря правдивости слов и чувств, – мне не доступен.
Другой критик насмехался над читателями, не видевшими «никакой заслуги в том, чтобы заставить персонажей говорить и вести себя совершенно так же, как живые люди, которых мы встречаем каждый день», и не понимавшими, подобно современникам Моцарта и Рембрандта, что высшее искусство – в безыскусности. Такие люди, шутливо замечал критик, подобны человеку, недоумевающему, почему все вокруг восторгаются актером, который «ведет себя на сцене совсем как в жизни».
Слава писательницы понемногу росла, однако в начале XIX века существовало лишь два мнения о Джейн Остин: ее либо любили, либо терпеть не могли. Марк Твен, знаменитый жизнерадостный ненавистник, клялся, что, читая Остин, чувствует себя «барменом, стоящим у врат Царствия Небесного». «Меня ужасно огорчает, – насмешничал он, – что ей позволили умереть своей смертью. Всякий раз, как я читаю “Гордость и предубеждение”, мне хочется разрыть ее могилу и дать ей по черепу ее же берцовой костью».
Но, полюбив Остин – открыв ее для себя, – вы словно становились членом тайного общества со своими особыми словечками, знаками и степенями посвященности. «Это была приверженность, – по словам одного писателя, – не менее пылкая, чем религия». А «признание “Эммы”» – самой утонченной ее книги – являлось «последней проверкой перед получением подданства в этом королевстве». Редьярд Киплинг, «верноподданный» королевства Остин, написал рассказ «Джейнисты» о почитании Джейн Остин – где бы вы думали? – в окопах Первой мировой войны.
Хамберстолл, простодушный ветеран, главный герой этого рассказа так говорил об Остин:
– Джейн? Да она просто старая дева, написавшая с полдюжины книг сто лет назад. И ведь ни о чем, уж я-то знаю. Приходилось читать. Ни приключений, ни смачных подробностей – ничего интересного, одним словом – все про девчонок лет семнадцати, которые никак не решат, за кого бы выйти замуж; одни танцы, да пикники, да карты по вечерам, а их ухажеры тем временем катаются в Лондон верхом, чтобы подстричься да побриться. [Именно этим и занимался Фрэнк Черчилл в романе «Эмма».]
Но однажды и Хамберстолл был допущен в «клуб»:
Это сообщество только для избранных, и ты должен быть джейнистом до мозга костей. Теперь я перечитываю все ее шесть книг просто ради удовольствия, в перерывах между работой. Уж поверьте мне, братья: когда придется туго, никто не поможет тебе лучше Джейн. Благослови ее Бог, кем бы она ни была.
Автором первой рецензии на «Эмму» стал не кто иной, как сам сэр Вальтер Скотт. Он писал, что если люди не в состоянии оценить роман о повседневной жизни, если они считают его книгой, в которой «ничего не происходит», то лишь потому, что читатели пристрастились к романам, где происходит слишком много всего. Остин жила в эпоху «дешевой» литературы – готических, сентиментальных и эротических романов. Это означало упоминание полуразрушенных замков, скрипучих дверей, тайных переходов; прекрасных дев и коварных соблазнителей, душераздирающих криков и потоков слез, сумасбродных поездок и захватывающих побегов; кораблекрушений, предсмертных речей, похищений, чистосердечных признаний, нищеты, страданий, насилия и кровосмешения. И, конечно, в последний миг – по воле автора и по стечению обстоятельств – все заканчивалось хорошо.
Будучи подростком, Остин безумно веселилась, высмеивая подобный вздор. Ее ранние произведения, многие из которых созданы до двенадцати лет, – сатирические сценки и миниатюры, написанные ради забавы большой образованной семьи, – полны ядовитых пародий на эту модную макулатуру. В одной из историй две юные героини – как и положено, очень чувствительные особы – «по очереди падают в обморок на диван». В другом сочинении в стоге сена находят новорожденную девочку – целую, невредимую и уже умеющую говорить. В третьей истории некий юноша был «так ослепительно прекрасен, что лишь орлы осмеливались смотреть ему в лицо». Люди влюбляются с первого взгляда, дети воруют родительские сбережения, какой-то мужчина одного за другим находит своих четверых внуков, пропавших довольно давно.
Другими словами, Остин точно знала, что делает, когда сочиняла книгу про обычную жизнь. Это вышло не случайно, как если бы она, не задумываясь, писала все, что придет в голову. Перед нами смелое, почти революционное, решение мастера, бросившего вызов обычаям и ожиданиям современников. Именно поэтому многие поклонники не приняли «Эмму», и ее слава заблудилась в пути.
Остин не считалась с традициями не только в литературе. Ее собственная судьба кажется непримечательной: она не вышла замуж, жила в тихой английской деревеньке вместе с сестрой и матерью, никогда не уезжала из дома дальше, чем на сотню миль, опубликовала первый роман в тридцать пять и умерла всего шесть лет спустя. Но в то же время вокруг нее разворачивались драматические события, захлестнувшие весь мир и ее собственную семью. Джейн родилась на заре Американской революции, в 1775 году, взрослела во времена Французской революции и жила в эпоху Наполеоновских войн, ознаменованных великими сражениями между Великобританией и Францией, которые завершились битвой под Ватерлоо всего за два года до ее смерти. На ее жизнь пришелся период активного завоевания Индии и становления Британской империи.
Казалось, эти события происходили где-то вдалеке, но все же они коснулись и Джейн. Сестра отца, умница и красавица, нареченная эксцентричным именем Филадельфия, как и многие девушки того времени, уехала в Индию, чтобы найти себе мужа среди честолюбивых молодых людей, устремившихся в развивающуюся колонию в надежде сколотить состояние. Но в Индии она нашла не только супруга, но и любовника, Уоррена Гастингса, блестящего молодого деятеля, который впоследствии стал первым генерал-губернатором Индии и одной из самых влиятельных фигур в истории Королевства. С тех пор семьи Остин и Гастингс были тесно связаны. После восьми лет замужества, за два года до встречи с новым деловым партнером мужа, Филадельфия родила дочь. Девочку назвали Элиза; то же имя носила дочь Гастингса, умершая во младенчестве. Гастингс, овдовев, стал крестным отцом и наставником Элизы, а позже подарил ей колоссальную сумму денег – десять тысяч фунтов. Кроме того, он отправил своего маленького сына на воспитание в семью недавно женившегося брата Филадельфии – а это был не кто иной, как отец Джейн.
Остин так и не познакомилась с мальчиком, он умер от дифтерии несколько месяцев спустя после приезда в Англию. Зато она хорошо узнала двоюродную сестру, на долю которой тоже выпало немало приключений. Филадельфия вернулась в Англию, когда ее дочери исполнилось три года. Элиза росла жизнерадостной и хорошенькой кокеткой, в девятнадцать лет она вышла замуж за французского графа Капо де Фейид. Через несколько лет – Джейн исполнилось десять – Элиза нагрянула в тихий дом священника Остина во всем блеске французских мод и своих французских приключений. Несмотря на разницу в возрасте, между сестрами возникла глубокая привязанность, их дружба продолжалась до самой смерти Элизы.
Тем временем в Англию возвратился Уоррен Гастингс; после двенадцати лет службы на посту главы Британской Индии он был обвинен Палатой общин в коррупции и оказался в центре самого громкого судебного разбирательства того времени, растянувшегося на семь лет. Семейство Остин ревностно следило за происходящим, поддерживая своего покровителя. В итоге, Гастингса оправдали по всем пунктам. К этому времени Элиза испытала на себе последствия Французской революции. Ее муж потерял имение, а госпоже графине – Элизе нравилось, когда ее так называли, – запретили возвращаться во Францию. В конце концов, графа отправили на гильотину. Элиза, по всей видимости, находилась тогда в доме Остинов. Вскоре после этого она породнилась с семьей, которая стала ей особенно близка после того, как Элиза вышла замуж за старшего брата Джейн, Генри; он был младше невесты на десять лет.
Наполеоновские войны подступали к дому все ближе и ближе. Двое из шести братьев Джейн ушли служить во флот – гордость Британии, – державший первую линию обороны. Фрэнк был на год старше сестры, а Чарлз, самый младший ребенок в семье, моложе ее на четыре года. Фрэнк плавал на Дальнем Востоке, сражался на Средиземном море, к двадцати шести годам он дослужился до капитана, немного не успел к победоносному Трафальгарскому сражению (о чем всегда горько сожалел), но преследовал французов в Атлантическом океане и сыграл решающую роль в бою при Сан-Доминго, крупном военно-морском сражении между Британией и Францией. Позже, в 1812 году, Фрэнк противостоял американцам. На долю Чарлза, куда менее удачливого в карьере, тоже выпало немало опасностей: он преследовал французский военный корабль более трехсот километров и в результате потопил его, захватил еще одно судно на маленькой лодке во время шторма, уничтожил корабль приспешников императора после его побега с Эльбы, охотился на греческих пиратов в Эгейском море. Джейн следила за этими событиями по письмам, слухам, статьям в газетах; затаив дыхание, слушала рассказы братьев, когда они приезжали домой между рейдами.
Но ее собственное окружение было не менее колоритно. По словам Клэр Томалин, биографа писательницы, в «список действующих лиц» входили «герои войны… незаконнорожденные отпрыски аристократов… разорившиеся сквайры»[6] и «удачливые иностранные фабриканты»[7]. Взять, к примеру, хоть лорда Портсмута – слабоумного аристократа, помешанного на похоронах и скотобойнях. После смерти супруги его обманом женила на себе дочь адвоката (лорд Байрон был свидетелем на их свадьбе, но не подозревал о том, что происходит), которая увольняла слуг одного за другим и истязала мужа регулярными порками и побоями. Чем не готический роман?
Сказки об Индии и Франции, морские приключения и великосветские скандалы – золотое дно для любого романиста. Но Остин отклонила все это с вежливой улыбкой. Уоррену Гастингсу и Элизе де Фейид она предпочла мистера Вудхауса и Гарриет Смит. Наполеоновским сражениям и тайным пыткам – драматические моменты партии в бридж и пикника на природе. Она точно знала, чего хочет достичь, и не поддалась соблазну свернуть с намеченного пути. Сам принц-регент, действующий правитель Великобритании при немощном отце, Георге III, выразил пожелание, чтобы «Эмму» посвятили ему. Пожелание, естественно, было выполнено. После этого с Остин связался библиотекарь и постоянный посредник принца, напыщенный священнослужитель по имени Джеймс Станьер Кларк. (Конечно, принц не встречался с Джейн Остин лично, хоть она и была одним из его любимых писателей.) Кларк позволил себе подвергнуть Остин стандартной пытке, на которую обречены успешные авторы, подав ей идею для книги.
«Исторический роман о династии Кобургов [младший сын из этой знатной семьи должен был жениться на дочери принца] был бы сейчас чрезвычайно интересен», – откровенно намекнул он.
«Я ничуть не сомневаюсь, что Исторический Роман принесет мне куда больше Прибыли и Популярности, чем картины тихой Деревенской Жизни, о которой я пишу, – ответила Остин (под “романом” здесь подразумевалось нечто вроде жизнеописания). – Но я всерьез возьмусь за Настоящий Роман лишь под страхом смерти; только это не избавит меня от нее, поскольку придется перестать подшучивать над собой и ближними, и потому я, вероятно, повешусь еще до того, как завершу первую главу. Нет, позвольте мне писать в своем стиле и следовать своим путем».
Этот путь – создавать произведения искусства из тех мелочей, что привлекали внимание Остин день за днем. Самым близким ей человеком была старшая сестра Кассандра, с ней она делила комнату с детства и до самой смерти. Две сотни писем, которыми сестры обменялись за время разлуки, наполнены точно такими же незначительными подробностями, как те, что Остин виртуозно вплетала в свои повествования:
Мы с Мартой вчера обедали у Дина вместе с Паулеттами и Томом Чютом… Платье миссис Паулетт кои-то веки было дорогим и более чем откровенным; мы позабавились, обсуждая ее Кружева и Муслин (другими словами, угадывая их цену), сама же она говорила слишком мало, чтобы развлечь нас как-то иначе… Миссис Джон Лифорд до такой степени понравилось быть вдовой, что она решила овдоветь еще раз: она выходит замуж за мистера Фендола… человека богатого, но намного старше ее… Как ты, должно быть, удивишься, узнав, что меня пригласил на танец – однако это так – джентльмен, которого мы с капитаном Д’Оверном повстречали в воскресенье. С тех пор мы кивали друг другу при встрече и, очарованная его карими глазами, я заговорила с ним на Балу, в результате чего и была приглашена. Но я по-прежнему не знаю его имени – он так плохо говорит по-английски, что, боюсь, карие глаза останутся единственным его достоинством.
Ко всеобщему удовольствию, вынесли Столы… Оба принарядились в зеленое сукно и шлют тебе свой горячий привет… Складной Стол составил компанию Буфету… А Столик, что стоял там раньше, отправился в лучшую спальню… ну, довольно об этом; перехожу к иной теме, совершенно другой, какой, собственно, и полагается быть иной теме…
И так далее, и тому подобное. Страницы, изобилующие колкостями, глупостями, весельем, семейными новостями, описаниями платьев, погоды, танцев и простуд. В сравнении с судьбами ее братьев, сестер, тети и, очевидно, почти любого из нас жизнь Джейн могла бы показаться скучной. Но ее разум подсказывал, что и такие судьбы полны событий; любая жизнь насыщена происшествиями, надо только уметь видеть. Остин не считала свое существование обычным, пресным или неприметным, она находила его приятным и увлекательным и хотела, чтобы мы относились к своей жизни точно так же. Ведь то, чем заполнены наши дни, питает наши сердца, а то, что живет в сердцах, – становится книгами.
Все это я понял не сразу, и на то есть причина. В конце концов, я парень. А нас, парней, не очень-то учат дорожить «мелочами жизни». Сплетни, говорят нам, – женское занятие. В самом слове «сплетни» прячется что-то сарафанное, мелочное и унизительное. Подобно Эмме и миссис Уэстон, Джейн и Кассандре представительницы прекрасного пола способны часами болтать с подружками о всяких пустяках. Нам же, мужчинам, суждено хранить суровое молчание или обсуждать общие темы – девчонок, машины, спорт. Ну и, если мы много о себе воображаем, политиков и социально значимые дела.
Во времена Остин все обстояло точно так же, даже сама формулировка «мелочи жизни» подчеркивала это. Мистер Найтли, друг семьи, сообщает героине интереснейшие новости о Гарриет Смит. Эмма пытается выведать у него все подробности, но Найтли беспомощно вскидывает руки:
– Ваша приятельница Гарриет при встрече с вами будет рассказывать об этом гораздо пространней. Не упустит ни одной малости, какие умеет интересно преподнести только женщина. Мы, мужчины, сообщаем о крупном…
То есть говорим лишь о чем-то значимом. Последнюю фразу он произнес в шутку – Найтли никогда не отличался завышенным самомнением, – но в остальном сказал то, что думал. Женщины рассказывают «пространно», мужчины – нет. Читая эту сцену, я вдруг понял, что задумала Остин. За дюжину страниц до конца книги она использовала Найтли, чтобы растолковать нам свою теорию и утвердить свой писательский триумф. Существует такое расхожее выражение – «женская болтовня». Так вот, «Эмма» – это женская болтовня. И Остин удалось превратить «пустые женские мелочи», эту «бестолковую» и «бессмысленную» болтовню в нечто увлекательное. Она написала длинную историю о душевных переживаниях, о том, что сама Эмма назвала «женской дружбой и женскими чувствами». На протяжении четырех сотен страниц Джейн Остин сплетничала с нами, как с подружками, посвящала нас «в подробности домашних дел, как приятных, так и затруднительных; в подробности будничных событий и недоразумений», а мы слушали ее с пониманием: ведь это было так занимательно и вовсе не «бестолково» и не «бессмысленно».
Она рассказала, каково это: думать, видеть, говорить по-женски. До встречи с Остин мне даже в голову прийти не могло, что подобные знания стоят моих усилий. Не далее как семестр назад, на одном из занятий, я во всеуслышание высказал общепринятое мужское мнение по поводу «дамских романов». Это был семинар по беллетристике, и его вел настоящий мачо ростом под два метра, с лицом стареющего Кларка Гейбла; он прокуренным басом рассказывал о том, как во времена джаза тусовался в клубе The Village, и о том, как однажды Норман Мейлер дал ему под дых. После нескольких недель истинно мальчишеского удовольствия – «Франкенштейн» и «Дракула», Шерлок Холмс и Эдгар Аллан По, «Я – суд присяжных» и «Мальтийский сокол» – мы добрались до «Ребекки» Дафны дю Морье (книги, которая легла в основу знаменитого хичкоковского фильма) – самого настоящего «дамского романа». Едва начался семинар, профессор сразу заметил апатию, охватившую большую часть его слушателей.
– В чем дело? – спросил он аудиторию, состоящую преимущественно из парней. – Вам не понравилось произведение?
– Даже не знаю. – Я, как всегда, вылез первым. – Сложно сопереживать персонажам. Какая-то девчачья книжка.
Ребята забормотали нечто одобрительное. И тут одна из моих одногруппниц заметила, что женщинам приходится учиться отождествлять себя с мужскими персонажами, поскольку литература зачастую не оставляет им выбора, а вот от мужчин требуется лишь представить себя на месте другого мужчины.
И вот, пожалуйста, всего пару месяцев спустя я зачитываюсь самой девчачьей книгой всех времен, написанной крестной матерью «дамских романов». Остин не просто открыла мне мир женщин; она убедила меня в том, что он представляет интерес. Джейн научила меня слушать и слышать таких людей, как мисс Бейтс и мистер Вудхаус. Не только потому, что, как и любой человек, они заслуживают уважения; не только потому, что их чувства столь же глубоки и неподдельны, как и мои; но и потому, что мне есть чему поучиться у них. И впрямь, как только я обратил внимание на этих двоих, до меня стало медленно доходить: какими бы глупыми они ни казались, в каждом из них есть искорка жизненной мудрости, каждый преподносит читателю свой урок, которых в романе немало.
Мистер Вудхаус и впрямь одержим здоровым образом жизни и правильным питанием, но лишь потому, что искренне заботится о благополучии окружающих:
– Мисс Бейтс, я рекомендовал бы вам отведать яичко. От яйца всмятку не может быть большого вреда. Никто так не умеет сварить яйцо, как наш Сэрли, я никогда не предложил бы вам яйцо, сваренное не им… Да вы не бойтесь – видите, какие они мелкие, – одно маленькое яичко, это не беда.
Вот «добрый старый джентльмен» с «обезоруживающей приветливостью» разговаривает с Джейн Фэрфакс, племянницей мисс Бейтс:
– Мисс Фэрфакс, мне прискорбно слышать, что вы сегодня утром попали под дождь! Юным девицам следует вести себя осмотрительнее. Юная девица – нежный цветок. Ей следует оберегать свое здоровье и цвет лица… Добрая бабушка ваша и тетушка, надеюсь, здравствуют? Мы с ними старинные друзья. Жаль, что здоровье не всегда дозволяет мне быть им хорошим соседом. Поверьте, вы нам сегодня оказали большую честь. Мы с дочерью чувствительнейше вас благодарим, для нас величайшая радость видеть вас в Хартфилде.
Его слова прозвучали так ласково; это один из самых трогательных моментов в книге, неоспоримый довод в пользу человеческой доброты и заботы о чувствах других людей – в этом мы с Эммой одинаково безнадежны.
А урок, который преподала мисс Бейтс, пожалуй, самый важный в книге. Остин писала о ней так:
Молодые годы ее прошли не отмеченные ничем примечательным; зрелые посвящены были заботам о дряхлеющей матери и стараниям как-то сводить концы с концами при более чем скудных доходах. А между тем она была счастливою женщиной – женщиной, которую никто не поминал иначе, как добром. Творило эти чудеса ее собственное доброе расположение к людям, ее умение довольствоваться малым – она всех любила, принимала к сердцу благо каждого, в каждом умела разглядеть хорошее, себя считала истинной избранницей судьбы, которая осыпала ее своими дарами…
Вот – вечно недовольная окружающим миром Эмма, у которой было все; вот я, блуждающий в тумане досады и уныния; а прямо перед нами мисс Бейтс. Она с трудом перебивается, целиком зависит от чужой доброй воли, и впереди ее ожидает лишь одинокая нищая старость, но она счастлива. И речь ее, состоящая сплошь из женских мелочей, льется без остановки, подобно неиссякаемому потоку, лишь потому, что она, как и сама Остин, находит мир вокруг себя необычайно интересным.
Обращать внимание на все «мелочи жизни» означает замечать настоящее прежде, чем оно обратится в прошлое. Но в этом кроется и нечто большее. Обсуждая свои каждодневные дела (не просто вспоминая их, но проговаривая и проговаривая все детали снова и снова), одни и те же истории (сначала коротко, затем во всех подробностях; сначала в одном доме, потом в другом), герои «Эммы» утверждали собственное существование. Они плели паутинку сообщества, где вместо нитей тянулись разговоры. Они создавали мир, беседуя о нем.
А у главной героини опять ничего не получалось. Конечно, она любила посплетничать со своей драгоценной миссис Уэстон, но стоило мисс Бейтс появиться на сцене, как Эмма сбегала при первой же возможности, а уж письма Джейн Фэрфакс были для нее наказанием страшнее смерти. Самая умная, самая красивая, самая богатая и знатная из своего окружения, мисс Вудхаус считала, что заслуживает куда более интересную жизнь, чем та, которую она вела в Хайбери. Как плохой читатель, она искала лишь интриг и приключений, а в результате отдалилась от окружающих. И, в конечном итоге, даже от самой себя. Забавно смотреть, как героиня, безоговорочно уверенная в себе и своих суждениях, все время попадает впросак. Но причина этого совсем не забавна: Эмма не понимает себя, как не понимал себя и я. Она не чувствует собственных чувств и не знает, чего хочет.
В конце концов Эмме все же удается понять, что в обычной повседневной жизни куда больше радости и сильных впечатлений, чем она могла себе вообразить; куда больше удовольствий и переживаний, чем во всех мечтах и планах, что она лелеяла. В них Эмма лишь воображала чувства, которые на самом деле поджидали ее в старой доброй повседневности. И как только Эмма осознала все это, она сразу поняла, за кого надо выходить замуж. Я же наконец понял, к чему вело меня повествование. Любовная линия присутствовала здесь с самых первых страниц, но она была надежно спрятана – так же, как и сюжет, тоже искусно замаскированный. Лишь в последний момент все части сюжетной головоломки встали на свои места, словно металлические стружки, притянутые магнитом.
Эмма научилась жить реальностью, и, читая об открытиях главной героини, я ощутил, что и моя жизнь становится более весомой. Раньше мои дни незаметно пролетали мимо, но больше я не собирался их терять. Читая «Эмму», я научился воспринимать жизнь Гарриет Смит или Джейн Фэрфакс так же серьезно, как и они сами. Не примерять на себя увлекательные судьбы блистательных героев, не погружаться в гламурные будни знаменитостей и перипетии судеб выдающихся личностей, отчего незаметно начинаешь считать и самого себя важной персоной. А принять обычную жизнь обычных людей, единственное достижение которых – сам факт их существования. И это, наконец, заставило меня задуматься о собственной жизни.
Не то чтобы я совсем не принимал всерьез свои великие планы и амбиции – еще как принимал. А вот о чем я никогда не размышлял, так это о незначительных событиях, мимолетных ощущениях, из которых на самом деле состояла моя жизнь. Я вовсе не был Стивеном Дедалусом или Марлоу Конрада. Я был Эммой. И Джейн Фэрфакс. И мисс Бейтс. Не был я никаким мятежником, я был обычным дураком. Я не парил над толпой на недосягаемой высоте, а являлся частью этой толпы, простым человеком. Но, значит, я все-таки был личностью.
Всерьез задумавшись о себе, я впервые задумался и о мире вокруг. И поразился: до сих пор мне казалось, что я отношусь к нему так серьезно, так ответственно. Разве не я рассуждал о великих политических проблемах, социальной справедливости и светлом будущем? Разве не я часами спорил с друзьями, решая, как все должно быть устроено? Но все, о чем мы говорили, существовало лишь на словах и заключало не больше подлинных чувств, чем проекты Эммы по устройству чужих браков. Остин же научила меня серьезно относиться к своим словам; благодаря ей я понял, что такое настоящие моральные обязательства. Это когда ты берешь ответственность не за все мироздание, а лишь за небольшую его часть. То есть за самого себя.
Благодаря урокам «Эммы» моя жизнь обрела значимость, которой я раньше не ощущал. На меня снизошло озарение. Я вдруг оглянулся вокруг и увидел мир словно впервые: это был настоящий, реальный мир, а не набор каких-то отвлеченных понятий. Вода здесь и вправду мокрая, небо – действительно голубое, и иного мира нам не дано. Не случайно Вирджиния Вулф – самая проницательная читательница Джейн Остин – вкладывает в уста своего персонажа такие слова: «прожить хотя бы день – очень-очень опасное дело»[8]. Не потому, что жизнь опасна, а потому, что она быстротечна.
Мои тогдашние представления о литературе, как и многие другие представления о самых разных вещах, не пережили наших с Джейн отношений. Возлагая цветы на алтарь модернизма, восхваляя его высокомерные позы и громкие заявления о собственной философской значимости, я верил, что истинная литература обязана быть запретной и доступной лишь немногим: полной аллюзий, которыми щеголяет их учение, напичканной образами и символами, которые надо скреплять, словно кусочки гигантской мозаики. Книга, если она чего-то стоит, должна содержать истины – невразумительные, как метафизика, и неоспоримые, как библейские цитаты; должна сулить знания о природе языка, личности или времени. Модернизм был высшим искусством для избранных и, вероятно, самым снобистским литературным течением всех времен. Неудивительно, что я презирал толпу: я научился этому у Элиота и Набокова, ведь каждая строка их произведений выражала пренебрежение к обычным людям. «Эмма» опровергала убеждение, что искусство непременно должно быть сложным, порицала отношение к обществу, которое проповедовал модернизм. После знакомства с Джейн Остин я не разлюбил модернизм; просто я больше не считал, что это единственное течение, достойное существования; и уж точно он не являлся идеалом, ориентируясь на который, следовало строить свою жизнь.
Но как же быть с величайшим модернистским романом, книгой, сформировавшей меня как читателя, – «Улиссом» Джеймса Джойса? Любой филолог скажет вам, что «Улисс» также превозносит повседневность. Джойс стремился создать произведение, сравнимое по величию и размаху с шедеврами Гомера, Вергилия и Данте, вершинами западной литературы, но в центр событий он поместил не героическую фигуру Ахиллеса или Одиссея, а самого ничтожного человека, какого смог вообразить, – недотепу, рогоносца, нелюдимого неудачника, рекламного агента-еврея по имени Леопольд Блум. Эпическое великолепие романа заключается в символических лабиринтах, которые Джойс выстраивает вокруг него, начиная с заглавия. Незаметно для себя Блум становится Улиссом наших дней, а его путешествие по Дублину длиной в один день приравнивается к десятилетнему странствию среди богов и чудовищ, выпавшему на долю его прославленного предшественника.
Эта мысль волнует, кружит голову. Как и Остин, Джойс дает понять, что любая жизнь, включая твою, в каком-то смысле является подвигом. Но, в отличие от «Эммы», форма, в которой Джойс преподносит нам эту истину, не дает читателю возможности прозреть. Символика произведения слишком навязчива, а художественные эффекты излишне нарочиты, и в итоге тебе начинает казаться, что значимость фигуры Блума не имеет никакого отношения к самому Блуму, все дело в его создателе. Мантия героя дана Блуму напрокат; наше внимание сосредоточено не на его жизни, а на том, с каким непревзойденным мастерством ее преподносят. Фигура, притягивающая взгляд в истории Блума, – это Джойс, несравненный и необыкновенный. С этой точки зрения послание «Улисса» прямо противоположно посланию «Эммы». Обычная жизнь интересна только в изложении Джеймса Джойса, без него она мало что значит.
Между прочим, однажды мне пересказали теорию, согласно которой «Эмма» (по единодушному мнению критиков, лучшая книга Остин) была также задумана как нечто эпическое. Неоцененный вклад Остин в традицию, к которой век спустя столь громогласно присоединился Джойс. Например, сцена с пикником, где Эмма так низко пала с моральной точки зрения, должна была стать своеобразной версией нисхождения героя в преисподнюю, центральным эпизодом западного эпоса, и все остальное в том же духе. Тут, правда, надо иметь в виду, что теорию излагала поклонница Остин; при таком раскладе Джейн вставала в один ряд с высочайшими классиками. Но для меня подобные суждения противоречат всему, что Остин пыталась выразить, и даже умаляют ее достижения. Ни к чему гримировать романы Остин под эпические, чтобы оценить их по достоинству. Ей не обязательно выступать в высшей лиге. Ее скромная женская игра не менее хороша и величественна. Остин прославляла обычную жизнь по-своему – без претенциозности Джойса, без модернизма, исторических прототипов, целого арсенала эпических приемов. Она предложила нам взглянуть – если мы готовы всматриваться – на самые обычные дни, без всяких прикрас. Роману Остин не требуется снисхождение. Он очень личный и откровенный, и оправдания ему не нужны.
После встречи с Эммой Вудхаус во мне изменилось еще кое-что – мое отношение к другим людям. Впервые присмотревшись к себе, я вдруг увидел окружающих. Я стал замечать их, принимать их в расчет и не на шутку заинтересовался чужими ощущениями и переживаниями. Люди вдруг обрели глубину и яркость литературных персонажей, а их истории оказались занимательными, словно книги. Я почти научился сопереживать им во время разговора и замечал черты характера, которые они стремились мне показать. Все, что раньше едва просматривалось сквозь завесу скуки, вдруг стало четким и ясным. Все оказалось таким интересным, таким важным, каждая беседа могла привести к новому открытию. Из моих ушей будто вытащили затычки. Мир вдруг стал больше и просторнее, чем я мог себе представить, словно передо мной распахнул двери дом с тысячью комнат.
Помимо этого меня начало интересовать, что люди думают и говорят обо мне, как мои слова и поведение влияют на них. Вот это да! Оказалось, что многое выводит их из себя. Так легко обидеть другого человека, если ты, фигурально выражаясь, не видишь и не слышишь его. Теперь я понимал, что если хочу найти друзей, вернее, по-настоящему подружиться со своими друзьями, надо менять себя. Пора перестать быть подозрительным, злобным, зацикленным на себе придурком.
Как-то раз, примерно в это время, я разговорился с одной из своих приятельниц. Мы с ней встречались, когда учились в колледже, и тогда я не слишком хорошо с ней обошелся. А сейчас она рассказывала мне о своем новом парне, жаловалась, что в последнее время они не так близки, как прежде. Слушая об отношениях, которые были куда более близкими, чем я мог себе представить, я волновался все больше и больше и, в конце концов, не выдержал и перебил ее. «Что, – спросил я, – что для тебя значит “близкие?”» Это был не риторический вопрос. Я вдруг осознал, что мне очень важно, что она скажет, потому что сам я не в состоянии дать ответ. Меня вдруг охватило чувство растерянности, утраты – все эти годы что-то необыкновенное, грандиозное обходило меня стороной, а я даже не догадывался об этом и теперь не понимал, как это обрести. «Вот мы, например, – поинтересовался я, – были близки? То, что между нами сейчас, – близость?» Ее взгляд многое прояснил: «Несчастный болван, конечно, мы не близки. Разумеется, это не близость».
Мне было досадно от осознания своей обделенности. Я не знал, что делать, не представлял, как избавиться от этого чувства, как выбраться из ямы, в которой, оказывается, сидел столько времени. Но дальше так продолжаться не могло. В конце года я набрался храбрости и объявил своей подружке, что мы расходимся. Я уже начинал понимать, какими должны быть настоящие отношения, но у нас с ней оказалось слишком мало общего, да и я успел наломать столько дров, что бессмысленно было пробовать начинать сначала. (Кстати, она-то давным-давно решила, что нам надо расстаться, и была очень рада, что все, наконец, закончилось.) Быть одному оказалось не так-то просто, но я понимал, что это первый шаг к тому, чтобы стать когда-нибудь нормальным человеком. Хотя нет, это был второй шаг. Первым шагом стало знакомство с «Эммой».
Глава 2. «Гордость и предубеждение»: пора взрослеть
На первых курсах аспирантуры я жил в университетском общежитии, деля убогую, замызганную квартирку с незнакомыми студентами факультета управления. Они вечно пропадали на корпоративных вечеринках и возвращались разгоряченные бесплатными коктейлями и разговорами о будущей работе, а иногда приводили с собой дружков и галдели у телевизора. Я прятался в своей комнате, словно хомяк в норе. Норка была невелика. Столом мне служил кусок доски на двух тумбах, кроватью – старый тощий матрас, который я раскладывал прямо на полу. Жесткий, неудобный стул, крохотный шкаф для книг, подержанный компьютер – вот и все мои пожитки. Я спал до полудня, читал ночи напролет, завесив окно истрепанным шерстяным одеялом – оно держалось на двух гвоздях, вбитых в раму, – чтобы свет уличных фонарей не бил в глаза. В три часа ночи я шел на кухню ужинать, зажигал свет, ждал с минуту, пока тараканы разбегутся по углам, ел лапшу или разогревал мини-пиццу.
Другими словами, мне стукнуло почти тридцать, а я все еще жил как студент-первокурсник. Я никак не мог повзрослеть; собственно говоря, именно поэтому я и поступил в аспирантуру. Уже несколько лет я вел вполне самостоятельное существование, работал там и сям, но по-прежнему не понимал, как управляться с этой жизнью. Меня пугала элементарная покупка шампуня. Я замирал посреди магазина, пытаясь понять, как меня сюда занесло и что я должен сделать. «Значит так, – логически размышлял я. – Ты хотел вымыть голову. Сюда пришел за шампунем. Ну вот, теперь иди к кассе и заплати за него».
Впрочем, в моей беспомощности во взрослом мире не было ничего удивительного. Я младший из троих детей в нашей семье – причем разница между нами довольно большая, почти шесть лет, – и со мной всегда обращались как с ребенком. Мама безмерно любила меня и поддерживала всегда и во всем. Я был «ее» сыном, только я походил на нее, во мне она узнавала своего обожаемого отца, и она вечно нянчилась со мной. Однако главным в семье был папа, и все в доме ему подчинялись. Взыскательный и вечно недовольный результатом, он относился ко мне как к младенцу, но, в отличие от матери, не мог ни приласкать, ни поддержать. Он требовал всегда очень многого, но при этом всем своим видом давал понять, что я вообще ни на что не годен.
Теперь я понимаю, что его постоянно преследовал страх – как за наше материальное положение, так и за физическую безопасность. Во время Второй мировой войны его родителям вместе с ним удалось покинуть Европу – и тем самым спастись от Холокоста – в самый последний момент. Остальные члены семьи бежать не смогли, и, хотя отец усилием воли сумел избавиться от чешского акцента, окончательно от пережитых в юности потрясений он так и не оправился. Он ни разу не потратил лишней копейки, ни одну скрепку не выбросил зря. Он был с нами суров и деспотичен – орал и раздавал затрещины, требуя отличных оценок, – и вместе с тем пытался уберечь от всего, словно наседка цыплят.
Отец не желал, чтобы его сыновья рисковали, самостоятельно пробовали свои силы или пускались в открытое плавание; он уже все продумал за нас; нам оставалось только следовать разработанному им плану: избрать своим поприщем естественные науки – отец был инженером, – поступить в медицинский университет и как можно раньше начать зарабатывать на жизнь. Не тратить времени попусту, не размениваться по мелочам. Мир опасен; чем меньше ошибок мы допустим, тем лучше. Отец уже просчитал, чем нам нужно заниматься, дабы обеспечить себе безбедное существование, и нечего понапрасну обдумывать это самим.
Каждый раз, заметив, что я затрудняюсь что-то сделать – открыть банку в десять лет или написать сочинение в пятнадцать, – отец бросался делать это вместо меня, не позволяя самостоятельно справиться с проблемой. Намерения его были исключительно благими: он хотел оградить меня от страданий и неудач на пути к той или иной цели. «Я уже совершил эти ошибки, – всегда говорил отец. – Учись на моем опыте». Однако в своей воспитательной методике он не учел одну мелочь: он не сможет вечно быть рядом, чтобы подстилать соломку. В результате я так и не научился заботиться о себе, разговаривать с продавцами, распределять деньги; вообще, жить самостоятельно. И поэтому в свои двадцать восемь лет стоял посреди магазина и пялился на шампунь.
Поступление в аспирантуру при Колумбийском университете не сделало меня самостоятельней. Отец преподавал на одном из факультетов этого вуза, и для его детей обучение было бесплатным, поэтому колледж я заканчивал там. После колледжа я мог бы уехать в Чикаго, но страшно было даже представить, что я перееду в незнакомый город, за сотни километров от всех, кого знаю. Словом, я остался на прежнем месте, в квартирке, расположенной практически за углом отцовского офиса.
Время от времени я заглядывал к нему, и он вел меня в китайский ресторан. Отцу не нравилось мое увлечение английской литературой – он уже заранее представлял, как будет содержать меня до конца своих дней, – и мы препирались по этому поводу, пока ели лапшу. «Если бы я владел собственным бизнесом, – ворчал он, – я бы нашел тебе местечко. Хотя ты бы все равно отказался». В ответ я напоминал ему о разногласиях между ним и моим дедом, который держал лавочку в Швейном квартале (отец не горел желанием продавать застежки так же, как я не стремился лечить людей), но подобные увещевания на родителя не действовали.
На самом деле отец не верил в то, что я закончу аспирантуру. Собственно, он изначально не думал даже, что я туда поступлю. Какое бы испытание мне ни предстояло, он никогда не сомневался в моем провале. Ведь, по мнению отца, ему постоянно приходилось мне во всем помогать. Он не ждал от меня успешного окончания первого курса. По французскому у меня вечно были тройки, и отец – сам-то он владел шестью языками – считал, что экзамен по языку я завалю. «Спасибо за поддержку», – бормотал я, благодарил его за ужин и плелся обратно в свою убогую берлогу.
Я жил в этой квартире, когда читал «Эмму» и, как результат, расстался со своей с девушкой; я жил там и год спустя, когда настал черед остальных романов Джейн Остин. Дело было на летних каникулах после третьего курса аспирантуры. Семинары закончились (между прочим, языковой экзамен я сдал), и теперь полным ходом шла подготовка к страшному испытанию: осенью меня ждал устный квалификационный экзамен. Последняя академическая проверка на прочность. За четыре месяца следовало прочитать сотню книг, а в день экзамена мне предстояло зайти в аудиторию, где четыре профессора должны были учинить двухчасовой допрос с пристрастием. Похоже на обряд посвящения. Зато, как только я его пройду – вернее, если пройду, – сразу стану на шаг ближе к зрелости и к тому, чтобы в свою очередь когда-нибудь занять место одного из этих профессоров. (Отец, ясное дело, был уверен, что я провалюсь. «За что боролся…» – буркнул он.) Что же касается взросления в целом, не только в учебе, я тогда не думал, что меня могут ожидать какие-либо сложности.
Тем летом квартира осталась в моем полном распоряжении – сосед, богатенький выпускник частной школы из Дартмута, нашел себе жилье поприличнее, – и я читал с утра до ночи. Я читал, когда чистил зубы, когда ел лапшу; я читал, даже когда шел по улице (что, как выяснилось, требовало изрядной сноровки). И вот в один прекрасный день где-то в середине лета я совершенно неожиданно влюбился.
Объектом моей нежной страсти стала Элизабет Беннет. Разве мог я устоять перед чарами главной героини романа «Гордость и предубеждение», когда другим это оказалось не под силу? Такого пленительного образа я в жизни не встречал. Великолепная и остроумная, смешливая и задорная – рядом с ней жизнь казалась ярче. Когда ее старшая сестра Джейн восторгалась новым знакомым: «он именно такой, каким должен быть молодой человек… умный, добрый, веселый»[9], Элизабет насме шливо заметила в ответ: «К тому же он недурен собой… что также говорит в пользу молодого человека, если к нему это относится». Кроме того, она – смелая и великодушная, решительная и преданная – бросается защищать своих близких, словно львица. Во время визита в соседнее имение, где проживают знатные друзья, Джейн заболевает. И тогда младшая сестра, не раздумывая, идет три мили пешком по грязи, чтобы позаботиться о старшей; Лиззи глубоко безразлично, что такой поступок могут счесть недостойным девушки ее положения.
Элизабет, как и мне, тоже досталась непростая семья. Джейн – идеальная сестра, милый, терпеливый и надежный друг. Но три младших сестры были несносны. Мэри, средняя, – педантичная зануда, которая все свои мысли черпала из книг («Гордость и тщеславие – разные вещи, хотя этими словами часто пользуются как синонимами»). Младшие, Китти и Лидия, – пустоголовые вертихвостки. Отец семейства был умен (я выпрямлял спину, стоило ему заговорить, хотя с Элизабет он держался весело и шутливо), однако все силы тратил на пререкания со своей вздорной супругой – средоточием нервозности и безрассудства. Отношения четы Беннет напоминали затянувшуюся комедию, и, что хуже всего, они об этом знали. «Вам доставляет удовольствие меня изводить. Конечно, вам нет никакого дела до моих истерзанных нервов», – жаловалась миссис Беннет. «Вы ошибаетесь, моя дорогая. Я давно привык с ними считаться. Ведь они – мои старые друзья. Недаром вы мне толкуете о них не меньше двадцати лет», – парировал ее муж.
Мне нравилось и то, что Элизабет, так же как я, мало интересовалась браком (стоит ли осуждать ее за это при таких-то родителях?). «Если бы я задумала приобрести богатого мужа, – говорит Элизабет, – или вообще какого-нибудь мужа…» Разумеется, взгляды Лиззи никоим образом не влияли на чаяния ее матери. Каждое утро, как только на окнах распахивались гардины, миссис Беннет, терзаемая мыслью о том, как бы поскорей выдать дочерей замуж, начинала докучать мужу просьбами нанести визит Чарлзу Бингли – молодому человеку со средствами, который недавно переехал в соседнее имение, – пока другие мамаши до него не добрались.
Вскоре сестры были представлены мистеру Бингли и его другу, мистеру Дарси, располагающему еще бóльшими средствами. Один – полная противоположность другого. Бингли походил на бойкого, дружелюбного щенка бигля. «Клянусь честью, – признался он своему другу на первом балу, – я еще ни разу не встречал за один вечер так много хорошеньких женщин». Дарси, напротив, держался надменно, словно сиамский кот, который, стоит к нему прикоснуться, тут же принимается брезгливо вылизывать себя. Ему даже хватило наглости пренебрежительно отозваться об Элизабет сразу после знакомства: «Что ж, она как будто мила. И все же не настолько хороша, чтобы нарушить мой душевный покой», – пытался уклониться Дарси, когда Бингли предложил ему потанцевать с Элизабет. Для меня подобное заявление прозвучало как личное оскорбление. Каким надо быть идиотом, чтобы не очароваться ей так же, как я? Лиззи была полностью со мной согласна. Она не последовала примеру сестры и Бингли (по мнению Джейн, он был «именно такой, каким должен быть молодой человек»), сразу же влюбившихся друг в друга. Напротив, Элизабет мысленно прозвала Дарси самодовольным пижоном. А вскоре приехал и третий молодой человек, знавший Дарси с детства и подтвердивший все ее подозрения насчет несносного характера последнего. Тем временем Дарси с тревогой наблюдал за увлечением друга и держать свое мнение при себе явно не собирался. Положение Джейн в обществе было ниже, чем у Бингли, к тому же члены семьи Беннет, за исключением Джейн и Лиззи, вели себя чрезвычайно бесцеремонно. Судьбу Джейн решил бал в доме Бингли. Там присутствовали все соседи, и Беннеты воспользовались чудесной возможностью выставить себя на посмешище. Миссис Беннет во всеуслышание ликовала по поводу предстоящего брака старшей дочери – «более того, как много хорошего это событие сулит ее младшим дочерям, которые после замужества Джейн окажутся на виду у других богатых мужчин», – не волнуясь о том, что ее рассуждения могут быть превратно истолкованы или подхвачены злыми языками. «Кто такой для меня твой мистер Дарси, чтобы мне его бояться?» – фыркнула она в ответ на попытку Элизабет утихомирить мать. Мэри, несмотря на полное отсутствие дарования, весьма охотно ублажала публику скверной игрой на фортепиано. Последней каплей стало поведение родственника Беннетов – напыщенного и вместе с тем угодливого священника по имени мистер Коллинз, заявлявшего: «Я… ставлю служение церкви, в смысле почетности, вровень с исполнением самых высоких обязанностей в королевстве – конечно, если только не забывать, что это служение должно осуществляться с подобающим смирением». Коллинз, один из первосортных болванов в мировой литературе, позволил себе возмутительную бестактность – обратился к мистеру Дарси, не будучи официально ему представленным.
Элизабет сгорала от стыда за каждую выходку своей родни: «…если бы все члены ее семейства нарочно сговорились выставить в этот вечер напоказ свои недостатки, им едва ли удалось бы выполнить это с бóльшим блеском и добиться более значительного успеха». И я страдал вместе с ней. Поведение родни полностью подорвало все шансы Джейн (единственного стóящего человека в этой семейке, помимо Лиззи) на счастливое замужество. Исправить ситуацию не представлялось возможным, Дарси видел более, чем достаточно. И, похоже, его совсем не волновало то, что его друг и Джейн любят друг друга. А когда Беннеты спохватились, было слишком поздно – оба молодых человека уже уехали; судя по всему, Бингли оказался потерян для Беннетов навсегда. Джейн впала в отчаяние, Элизабет – в ярость. У меня чесались руки свернуть Дарси шею.
Эта книга оставляла совершенно иное впечатление нежели «Эмма», и не только потому, что я сам изменился. С первых строк романа Эмма была кругом неправа. Она раздражала меня до тех пор, пока Остин не показала, как много общего между мной и главной героиней. Теперь же, дочитав «Гордость и предубеждение» уже до середины, я не просто был полностью на стороне Элизабет – я соглашался с каждым ее словом, с любым суждением. Мне нравились ее друзья и были ненавистны враги. Я поддержал бы ее, восстань она хоть против целого мира.
Но тут происходит резкий поворот событий, и все встает с ног на голову. Лиззи встречается с человеком, которого никак не ожидала увидеть вновь. И этот человек делает ей совершенно неожиданное признание. В порыве негодования она позволяет себе наговорить лишнего и в ответ получает длинное холодное письмо, которое представляет все события первой части романа в абсолютно ином свете. Элизабет читает его – и отвергает доводы Дарси. Потом перечитывает еще раз и вдруг понимает, что все это время жестоко ошибалась.
По мнению Элизабет, окружающие должны были заметить чувства Джейн к Бингли просто потому, что для нее самой они очевидны. Джейн – дивное существо, и Лиззи отказывалась верить в то, что манеры ее семьи могут помешать счастливому браку сестры. Будучи не в меру гордой, Элизабет с трудом переносила высокомерие других. Ее суждения о людях оказались в корне неверны, а ведь ей так льстила уверенность в собственной прозорливости. Она не сомневалась в своей способности с первого взгляда разгадать сущность человека. Но, как оказалось, первое впечатление обмануло ее; она поверхностно посчитала одного молодого человека хорошим только потому, что он держался приветливо и дружелюбно. И наоборот, назвала другого мужчину плохим, поскольку он был холоден, надменен и замкнут.
Теперь Элизабет осознала, как глубоко заблуждалась. С присущей ей прямотой и твердостью она выносит себе суровый приговор: виновна в «слепоте, предубежденности, несправедливости, глупости». Она осуждает себя: «Как позорно я поступила!.. Я, так гордившаяся своей проницательностью и так полагавшаяся на собственный здравый смысл!»
Но, раз ошибалась Элизабет, значит, ошибался и я. Мы оба были бескомпромиссны в суждениях. Этот роман преподал мне новый урок, отличный от урока «Эммы». Тогда писательница предлагала мне посмеяться над главной героиней с ее нелепыми планами. На сей раз она смеялась надо мной.
Я был так околдован умом и очарованием Лиззи, что мне и в голову не пришло усомниться в правоте ее суждений. Я был настолько самоуверен, что легко позволил обмануть себя и с радостью идентифицировал себя с главной героиней, а этого-то и добивалась Остин. И тут оказалось, что мое сходство с Элизабет далеко не так лестно, как я воображал. Мы с ней слишком доверяли собственным оценкам. В своем окружении Элизабет была умнее всех, кроме, пожалуй, отца, который неустанно твердил дочери, какая она умница. Поэтому Лиззи незаметно уверилась в том, что ее мнение всегда верно просто потому, что это ее мнение. Она даже не давала себе труда внимательно выслушать собеседников. Да что они могут ей сказать? Она и без них все знает.
В черновике роман назывался «Первые впечатления». Элизабет не была предвзята в современном смысле этого слова. Она не составляла мнение о людях до встречи с ними и не судила о них по социальному статусу. Но тем не менее она выносила приговор, едва познакомившись с человеком, поскольку ей казалось, что она замечает все мгновенно и видит нового знакомого насквозь. Название «Первые впечатления», я полагаю, имело двоякий смысл. Во-первых, оно указывало на склонность Элизабет делать скоропалительные выводы; во-вторых, на то, что мы и сами склонны совершать те же ошибки, что и Лиззи.
Возможно и третье толкование. «Первые» в значении «первый жизненный опыт» – то, что случается с нами, когда мы только начинаем самостоятельную жизнь. По большому счету, этот роман вовсе не о предубеждении или гордости, даже не о любви. Ошибки, допущенные Элизабет – а ей было чуть больше двадцати лет, – заблуждения юности, промахи человека, который еще никогда не совершал глупостей, или, по крайней мере, никогда не сталкивался с необходимостью признавать их за собой. За колким остроумием, которым Лиззи прикрывалась, словно сверкающими доспехами, пряталась всего лишь неопытная девчонка. «Если бы я задумала приобрести богатого мужа или вообще какого-нибудь мужа…» – такое вряд ли скажет женщина, которая точно знает, чего хочет от жизни; скорее та, которая лишь начинает размышлять об этом. Свой обвинительный приговор самой себе – «слепота, предубежденность, несправедливость, глупость» – Элизабет заканчивает выводом: «Вот когда мне довелось в себе разобраться![10]» Гордость Дарси и предубеждение Элизабет, его предубеждение и ее гордость – непростые отношения героев, безусловно, делают роман увлекательным. Но, проведя нас с Лиззи через все испытания – мы вместе делали ошибки и вместе учились на них, – роман преподал мне настоящий урок о том, как нужно взрослеть.
Взросление может стать самым значительным поступком в жизни. Казалось, только на днях кто-то бил младшего брата деревянной уточкой по голове, а всего лишь несколькими днями позже он уже заводит собственное дело, пишет книгу или воспитывает детей. Как это происходит? С точки зрения физиологии все ясно. Питание и зарядка делают свое дело, и мы, не прилагая к тому никаких умственных усилий, постепенно становимся старше, выше и волосатее. Но у взросления есть и другая сторона. Мы рождаемся маленькими комочками, которые ничего не знают и умеют только постоянно чего-то требовать от окружающего мира. Так откуда же со временем в нас берется способность находить общий язык с остальными и тем более любить их?
Вот о чем, как выяснил я тем летом, повествуют романы Джейн Остин. Ее героиням шестнадцать, девятнадцать, двадцать лет (в те времена женщины выходили замуж совсем юными). В произведениях чаще всего описан короткий промежуток их жизни: недели, месяцы или год. И за этот период они – иногда шаг за шагом, а иногда очень быстро – преображаются, переходят из одного качества в другое. Они появляются на свет, открывают глаза, издают первый крик, жадно хватают ртом воздух, а затем, успокоившись, принимаются разглядывать новый, незнакомый мир, в котором им суждено обрести себя. Они предстают перед нами еще девочками и день за днем, страница за страницей, прямо на наших глазах превращаются в женщин.
И то, как это происходит, стало для меня настоящим открытием. Я привык думать, что «взрослеть» значит ходить в школу, а потом на работу: сдавать экзамены, поступать в университет, получать грамоты и дипломы, обретать навыки, знания и прочие доказательства профессиональной пригодности. Так считали родители (и все, кого я знал). Если бы меня спросили – хотя это маловероятно, – какими личными качествами нужно обладать, дабы назвать себя взрослым, я бы сказал об уверенности в себе и высокой самооценке. Что же касается черт характера или достойного поведения – разве кто-то еще помнит подобные слова? Лично меня от них передергивало, до того угрожающе и бескомпромиссно они звучали. Они наводили на мысль о школьной форме, монашках, бьющих учеников линейками по рукам, холодном душе в морозное утро и прочих пытках, которыми взрослые во все времена мучили детей.
У Остин, как выяснилось, было другое мнение на сей счет. Для нее взросление никак не зависело от навыков и знаний, но было напрямую связано с характером и поведением. Ни характер, ни поведение не улучшатся от того, что вы зазубрите имена римских императоров (американских президентов) или научитесь вышивать (освоите высшую математику). Уверенность в себе и высокая самооценка в этом тоже не помогут, полагала писательница. Если уж на то пошло, они только помешают, поскольку из-за них мы забываем о том, что все еще остаемся невежественными требовательными комочками. Взрослеть по Джейн Остин – значит совершать ошибки.
Это был первый урок, который я извлек из романа «Гордость и предубеждение». Ошибки Элизабет – вовсе не случайные оплошности, которых можно было избежать; так проявлялся ее характер, причем лучшие его черты – живость и уверенность в себе – столь любимые мною. Вы не можете ликвидировать свои ошибки, – говорила Остин, – так, словно они существуют сами по себе, вне вас; и предотвратить ошибки тоже нельзя. Человек не рождается идеальным, а самоуверенностью и высокой самооценкой он лишь прикрывается, чтобы казаться невероятным совершенством. Всем нам предстоит пережить столько провалов, что впору писать роман о каждом из них. Нет, отец не мог уберечь меня от промахов, но, пожалуй, мои промахи могли бы уберечь меня… от меня самого.
Мы с Элизабет были юны и, как большинство молодых людей, даже не догадывались, до какой степени. К слову сказать, всем двадцатилетним кажется, что жизнь уже позади. Т. С. Элиот в свои двадцать писал стихи о том, как он чудовищно, чудовищно стар. Распрощавшись с детством, вы чувствуете себя таким опытным, и умудренным, и уставшим от жизни. Вы надеваете тренчкот или предпочитаете черное, дабы показать, как много вы уже повидали на своем веку. Часто говорите «плевать» или «ежу понятно», ведь все кругом до смерти скучно и предсказуемо. По этой же причине Элизабет Беннет зарекается выходить замуж и, совершив свою самую большую ошибку, заявляет: «Прости, пожалуйста, но мне-то ясно, что об этом следует думать».
Поразительно, как спокойно ко всему этому относится Остин. Большинство взрослых людей, вспоминая о своем поведении в юности, сгорают со стыда, а при виде юнца, ведущего себя подобным образом, с трудом удерживаются от того, чтобы не дать ему по лбу. Остин принимает подростковые выходки с юмором и пониманием. Она сочувствует этим взрослым детям, хотя признаёт, что ведут они себя глупо. Самое невероятное заключается в том, что Остин начала писать «Гордость и предубеждение», когда ей самой было только двадцать.
Другими словами, описывая историю Элизабет, автор рассказывала и о себе. Лиззи обожала танцевать, и Джейн Остин тоже. Элизабет обожала читать, и ее создательница тоже. Лиззи обожала прогулки, и Остин тоже. У Элизабет была Джейн, а у Остин – Кассандра, кроткая и добродетельная старшая сестра, наперсница, надежда и опора, задушевный друг. («Если бы Кассандре отрубили голову, – однажды сказала их мать, – Джейн потребовала бы разделить участь сестры».) Важно отметить, что Остин наделила героиню своими качествами: проницательным умом и острым язычком. Лиззи демонстрировала свои достоинства в дерзких разговорах с мистером Дарси, Остин – в письмах к Кассандре. Элизабет, к примеру, говорила: «Что ж, я вполне убедилась, что мистер Дарси свободен от недостатков. Да он этого и сам не скрывает». Остин не ограничивалась столь короткими замечаниями. Вот посмотрите, как она сплетничает о бале, который посетила накануне:
Красавиц на балу было мало, да и те, впрочем, не блистали. Мисс Айермонгер выглядела нездоровой, так что миссис Блаунт была единственной дамой, которая притягивала взоры. На этот бал она явилась в том же обличье, что и в сентябре: с тем же круглым лицом и толстой шеей, с тем же бриллиантовым бандо и в тех же белых туфлях, под руку с тем же розовощеким мужем. Были на балу и сестры Кокс; в одной из них я узнала ту самую вульгарную девушку с крупными чертами лица, которая восемь лет тому назад танцевала в Энхеме… Видела сэра Томаса Чемпниса и вспомнила бедняжку Розали (служанку, приглянувшуюся ему несколько лет назад); видела его дочь – странное создание с белой шеей. О миссис Уоррен я когда-то составила мнение как о приятной молодой даме и теперь жалею об этом. Отделавшись от некоторых из своих детей, она без устали танцевала, и пышность ее фигуры отнюдь не бросалась в глаза. Муж ее чрезвычайно уродлив, уродливее даже своего кузена Джона; на вид, однако же, не так стар, в отличие от брата. Обе мисс Мейтленд весьма недурны и очень походят на Энн смуглой кожей, большими темными глазами и выдающимися носами. Генерал страдает Подагрой, миссис Мейтленд – Желтухой. Обе мисс Дебери, Сьюзен и Салли, прибыли во всем черном, и я была вежлива с ними настолько, насколько позволяло мне их зловонное дыхание.
Ничего себе! Но как бы вольно Остин ни позволяла себе высказываться о соседях в письмах, когда дело шло о поведении в обществе, она всячески старалась не оскорблять их чувства. В этом же письме – буквально в следующем абзаце – она рассказывает о том, что в будущий четверг ей предстоит навестить друзей, если, конечно, она не решит пойти на очередной бал. И добавляет: «Ежели я не останусь на Бал, то ни в коем случае не позволю себе поступить столь невежливо в отношении Соседей, как провести это самое время в другом месте, и уж тем более называть это причиной того, что прибуду к ним не раньше утра четверга».
У Остин беспощадное чувство юмора и вместе с тем доброе сердце, поэтому и у Элизабет остроумие уравновешено душевностью. Неудивительно, что героиня «Гордости и предубеждения» оставалась любимицей Остин до конца ее дней. «Хочу сообщить тебе, что из Лондона прибыло мое дорогое Дитя», – пишет она Кассандре, как только получает первые экземпляры своего романа, и не совсем ясно, говорит ли она о книге или героине. «Должна признаться, – продолжает Джейн, – что считаю ее прелестнейшим созданием, когда-либо существовавшим на бумаге, и не представляю, как буду выносить тех, кому она хоть самую малость придется не по нраву».
Спустя пару месяцев Остин отправляется в Лондон и во время поездки посещает художественные галереи в поисках портретов Элизабет и Джейн. «Я чрезвычайно довольна», – пишет она Кассандре, отыскав изображение Джейн, соответствующее тому образу, что она себе представляла. «Я все-таки тешила себя надеждой увидеть ее Сестру», – продолжает она. Но найти портрет Элизабет ей не посчастливилось. «Мне остается только думать, – заключает Остин, – что мистер Дарси настолько ценит любое ее Изображение, что не захотел бы выставлять его на обозрение публики. Я полагаю, что ему должно быть свойственно подобное чувство – смесь Любви, Гордости и Сдержанности». Очевидно, что Остин очень довольна своей героиней. Во-первых, она рада ее замужеству не меньше самой Элизабет. А во-вторых, ни одна картина не может сравниться с мысленным образом Лиззи, нарисованным Остин. Первым человеком, влюбившимся в Элизабет Беннет, была сама ее создательница.
Стоит ли упоминать о том, что писательница вовсе не питала иллюзий насчет совершенства своего чада? Она знала, что Лиззи еще только предстоит повзрослеть, то же самое касалось и автора. И действительно, по мере того, как Остин становится старше, из ее писем почти исчезают дерзость и сарказм. Она начала писать «Гордость и предубеждение», когда ей было около двадцати. К тому времени, как роман опубликовали, ей уже исполнилось тридцать семь (оригинальную версию, «Первые впечатления», издатель отверг, не читая, и многие годы Джейн к ней не возвращалась), и теперь ее письма звучат совсем иначе, нежели то бойкое и ехидное описание бала.
«Мудрость важнее Остроумия, – пишет Остин своей любимой племяннице Фанни Найт примерно в этот же период, – и в итоге последнее слово окажется за ней». Фанни, двадцати одного года от роду, в ту пору как раз раздумывала, стоит ли выходить замуж за некоего молодого человека, серьезного и заботливого, которому, однако, не хватало лоска и блестящих манер. У тетушки Джейн возникли сомнения насчет глубины чувств Фанни к поклоннику. Тем не менее она твердо верила: «Его необыкновенно добродушный нрав, незыблемые принципы, справедливые суждения и добрые привычки – все это ты можешь оценить по достоинству, все это имеет необычайную важность, все это так положительно его характеризует». Доброта, – напоминает она своей племяннице, – важнее бойкости и общительности.
Эти выдержки из письма Остин говорят о том, что ее заботило воспитание Фанни, равно как и всех многочисленных отпрысков ее братьев (при жизни у Джейн было более двадцати племянников). Ей не довелось познать счастье материнства, но она стала заботливой тетушкой, особенно для детей своего брата Эдварда – Фанни и ее братьев и сестер, мать которых умерла при родах. «Ведут они себя во всех отношениях прекрасно, – пишет Остин о двух старших племянниках, присланных из пансиона после кончины их матери на попечение тети и бабушки. – Они способны на проявление чувств в той мере, в коей подобает мальчикам, и о батюшке они отзываются очень ласково».
Старшая дочь Чарлза, другого брата Остин, не удостоилась таких похвал; несколько лет спустя Джейн пишет: «Кокетка Кэсси обрадовалась мне не столь искренне, как ее сестры; иного, впрочем, я не ожидала – у нее нет склонности к нежным чувствам». «Природа не обделила ее талантами, а вот Воспитания (другими словами, работы родителей) не хватает». Тем не менее два года, проведенные на попечении Джейн, Кассандры и их матери, идут малышке Кэсси на пользу. «В душе ее, по всему вероятию, постепенно зарождается склонность к достойным поступкам», – пишет ее тетя; кроме того, девочка стала «истинной отрадой» для своего отца. Вскоре заботам Остин вверили новое поколение – детей ее племянницы Анны. «Нрав Джемаймы несносен и отвратителен, – сообщает Джейн в очередном письме. – Надеюсь, Анна своевременно распознает его недостатки и будет неусыпно следить за тем, чтобы Джемайма получила достойное воспитание».
Когда Остин писала о детях, она всегда уделяла особое внимание их характеру. Не красоте, не творческому потенциалу, не даже умственным способностям, а именно поведению, темпераменту и способности сострадать и чувствовать. Она наблюдала за тем, как растут ее племянники и племянницы, направляла их как могла, ведь она знала, как тяжело взрослеть. Остин понимала, что дети будут совершать ошибки, но твердо верила, что ошибки – не конец света.
Прочитав «Гордость и предубеждение», наконец-то осознал это и я. Поступая правильно, – учила меня Остин, – вы, возможно, заслужите похвалу, но ошибки дают вам нечто более ценное – помогают понять, кто вы на самом деле. Однако и это еще не все. Взрослеть было бы легче легкого, если бы от нас требовалось просто совершать ошибки. Я и так без конца ошибался. Более того, я вечно наступал на те же грабли, как и Элизабет.
Но благодаря Остин, я осознал, что ошибки – всего лишь первый шаг. Младшая сестра Элизабет, Лидия – шумная, сумасбродная и беспардонная, – вела себя непозволительно: зевала, не прикрывая рта, тратила деньги на безделушки, бесстыдно флиртовала с молодыми офицерами, и взросление ей определенно не грозило. Жизнь миссис Беннет – матери Элизабет – была сплошной чередой конфузов, заблуждений и просчетов, в число которых вошло воспитание дочерей и поиск для них мужей; но все это не мешало ей оставаться той же беспокойной, глупой и самовлюбленной дамой, какой она являлась всегда.
Даже если вам укажут на ваши ошибки, этого все равно недостаточно, – объясняет Остин. Наш мозг мгновенно находит оправдание нашим проступкам. Мы суетимся, как бобры, укрепляя плотину своего самомнения. Кто? Я? Да нет же, вы просто не так поняли. Я не это имел в виду. Разве это важно? Я же случайно. Я больше не буду. Клянусь, со мной такое впервые. Ошибка? Какая ошибка?
Как я узнал тем летом, героиням Остин снова и снова указывали на их промахи, только им это не помогало. Они упорно отказывались взрослеть до тех пор, пока не стрясется что-то по-настоящему серьезное. Зрелость приходила к ним через страдания, потери, боль и, прежде всего, через унижение. Они совершали какой-нибудь ужасный поступок – не просто глупый, а несправедливый и оскорбительный – и делали это на глазах у человека, чье мнение волновало их больше всего. Так, Эмма бессердечно обидела мисс Бейтс, а Лиззи бросила несправедливые обвинения в лицо мистеру Дарси. А потом появлялся некто и открывал им глаза на содеянное, вынуждая их признать свою неправоту.
Читать эти сцены было нелегко. Я мучился вместе с героинями Остин, переживал за них, ведь, попав в унизительное положение, они становились совершенно беспомощными. Реакция на происходящее была одна – слезы. Элизабет повезло больше других. Она узнала правду из письма, значит, у нее, по крайней мере, была возможность остаться наедине со своими чувствами. Но осознание всех своих ошибок, признание того, что она на самом деле их допустила, причинило ей не меньше страданий, чем остальным героиням. Она ошибалась насчет Джейн, ошибалась насчет своей семьи, ошибалась насчет всего. «…Сколь слепа… сколь пристрастна, предвзята, нелепа»[11] – это не просто трезвая оценка самой себя, это чувство стыда, которое жжет ее изнутри. «Как унижает меня это открытие! И как справедливо я унижена!» – говорит она самой себе. Именно тогда, именно в то мгновение Элизабет выносит себе окончательный приговор: «До сего мига я не постигала себя»[12].
В драме такие сцены называются узнаванием. Эдип обнаруживает, что совершил страшное убийство. Король Лир понимает, как несправедливо обошелся с младшей дочерью. К счастью, ошибки Элизабет не настолько ужасны и непоправимы. «Гордость и предубеждение» все же не трагедия, а комедия, как и все прочие истории о молодых людях, у которых, как правило, есть время, чтобы исправить свои промахи. Хотя в тот момент, когда Лиззи открылась суровая истина, роман действительно мог обернуться трагедией. Элизабет не просто поняла, что неправильно вела себя, она к тому же осознала, как дорого ей это обошлось. Огромное счастье было совсем близко, но, ослепленная гордостью и предубеждением, она сама его оттолкнула.
Уверен, никто из нас не желает для себя и тем более, для своих детей подобных прозрений. Но, – обнадеживает Остин, – если повезет, они вас не минуют. Мой отец был неправ; нельзя учиться на чужом опыте, извлечь урок можно только из собственных ошибок. Остин заставляла свою любимицу страдать, потому что знала: другого способа повзрослеть нет. Мало осознать свою неправоту, необходимо ее прочувствовать.
Тем летом и у меня появилась возможность в полной мере прочувствовать последствия своих ошибок. Дело в том, что мое сердце покорила не только Элизабет Беннет. Я сходил с ума по девушке, которую повстречал той весной. Мне исполнилось двадцать восемь, ей – двадцать один, если подумать – любимый возраст Джейн Остин. Девушка недавно закончила колледж; мои чувства к ней напоминали жгучую смесь страсти и заботы. Она была очаровательная, ласковая и умная, с задумчивой улыбкой, словно озаряющей ее изнутри, с тонким чувством юмора и звонким смехом. Наши отношения развивались стремительно и бурно. Я видел перед собой человека, способного стать для меня настоящим другом.
Моя жизнь в тот период была очень простой. Экзамены и она – вот все, что тогда меня волновало. Голова занята чтением сотен книг, сердце – пылкой любовью, и одно не отделялось от другого. Она стала моей музой, моим идеалом; ее лицо я видел на страницах книг, которые читал с утра до ночи. Только встречи с ней нарушали мое монашеское затворничество. Гуляя по городу, мы часами напролет обсуждали искусство, идеи, общих знакомых. Ходили по музеям и театрам, беспрестанно шутили, сравнивали впечатления, делились наблюдениями.
Но я вечно все портил. Каждый раз я умудрялся ляпнуть какую-нибудь обидную чушь, из меня лезли высокомерие, женоненавистничество и снобизм. «Обрати внимание, как Матисс играет с цветом» (ну прямо аудиогид какой-то), или «тебе все-таки следует читать больше Фрейда» (хотя она была начитанна куда больше, чем я), или «поймешь, когда доживешь до моих лет» (до моих лет! о да, мне ведь целых двадцать восемь!). Контролировать себя не получалось. Хотя чтение «Эммы» помогло мне осознать, что вокруг вообще-то живые люди, которых можно задеть или обидеть и я научился быть отзывчивее и добрее, все же я, как и Элизабет, по-прежнему мнил себя чертовски умным и был готов делиться мудростью с остальным человечеством. Я так сильно упивался чувством собственного превосходства, что просто не мог не демонстрировать его своей возлюбленной, при каждом удобном и неудобном случае. И всякий раз она отвечала мне взглядом, настороженным и бесстрашным одновременно, в котором ясно читалось, что она считает меня полным придурком. И мне тут же хотелось провалиться сквозь землю. Потому что я опять все испортил, потому что теперь-то она уж точно не захочет остаться со мной.
Так и произошло. Она была мне другом, но моей девушкой – никогда. Зато жгучий стыд за свое поведение и цена, которую я за это заплатил, помогли мне крепко-накрепко усвоить очередной урок. Эта девушка была не первой и далеко не единственной из всех, кто называл меня высокомерным зазнайкой, однако именно ей удалось достучаться до меня, потому что она так много значила в моей жизни.
Поэтому, принявшись через пару месяцев за «Гордость и предубеждение», я как никто понимал переживания Элизабет, или, вернее сказать, видел в них отражение своих собственных страданий. Наше эго, – подсказывала мне Остин, – мешает нам осознать свои ошибки и недостатки и, стало быть, его нужно сломить; именно этой цели служит унижение, и вот почему оно заставляет нас чувствовать себя такими никчемными. Глагол «унижать» происходит от слов «низ», «низкий». Унижение смиряет наши порывы, спускает с небес нашей самонадеянности на землю. Роман «Гордость и предубеждение» научил меня не только тому, что в жизненных ошибках нет ничего зазорного, но и тому, что угрызения совести по поводу содеянного вполне естественны. Взросление должно быть болезненным, а иначе никакого взросления не произойдет.
К тому времени, как я дочитал «Гордость и предубеждение», было уже слишком поздно надеяться на то, что мой роман закончится так же счастливо, как роман Элизабет. Зато я пришел к выводу, что завершение процесса взросления – само по себе счастье. Даже надежду на то, что этот процесс когда-нибудь завершится, уже можно считать счастьем.
Нелегко испытывать чувство стыда и унижения, если вам с детства внушали, что жизнь не должна приносить страданий. Остин, кстати, привела яркий пример человека, который не желает знать ничего про эти чувства, – это Лидия Беннет, – и продемонстрировала, к чему в конечном счете приводит подобное поведение.
Лидия – точная копия матери (нетрудно представить себе, какой пустоголовой кокеткой была когда-то миссис Беннет), донельзя избалованная, ни в чем не знающая отказа. Ее никогда не ругали, никак не ограничивали, с ней нянчились, над ней тряслись, все выходки сходили ей с рук. Перед нами классический случай сверхотождествления: мать отчаянно пытается удержать свою молодость, как бы заново проживая ее при помощи своей младшей дочери; а та только тому и рада.
К пятнадцати годам Лидия стала совершенно неуправляемой. Всегда кричит, смеется и флиртует, ничего не принимает всерьез – даже свою жизнь. Лидия вечно всех позорит; а совершив действительно безнравственный поступок, получает статус скандально известной личности. Тем не менее и в конце романа она по-прежнему весела и абсолютно довольна собой. Она даже умудряется ляпнуть: «Сестрицы мне, верно, ужасно завидуют», хотя сестры, скорее всего, мечтают утопить ее в озере. «Я была бы в восторге, если бы им хоть вполовину так повезло». Как бы ни страдала из-за нее вся семья, Лидия никогда не чувствует себя хоть чуточку виноватой.
Взросление невозможно без страданий, а страдания, в свою очередь, невозможны без размышлений. Мы должны проанализировать свои поступки, прочувствовать их, и, в довершение всего, запомнить. Опозорившись, Лидия, не испытывает «ничего, что хоть сколько-нибудь могло омрачить… воспоминания. Ничто в прошлом не вызывало [у нее] сожалений». А угрызений совести она не испытывает, потому что притворилась, будто ровным счетом ничего не произошло. Но Лидия не одна такая – общество, в котором вращается семья Беннет, весьма далеко от совершенства. После того как открылась отвратительная правда о молодом джентльмене, который всех покорил, члены этого общества стали считать «его самым испорченным человеком на свете и наперебой клялись, что никогда не были введены в заблуждение его внешней привлекательностью». Нужно иметь смелость, – говорит нам Остин, – чтобы признать свои ошибки, и еще бóльшую смелость, чтобы запомнить их.
Как заманчива перспектива приукрасить себя, и как хорошо нам знакома ситуация, когда человек, пережив момент истинного самопознания после расставания, неудачи или греха, совсем не меняется. Для Остин зрелость – это способность заставить себя помнить. Унижение для нее суть бесконечное благо. «Вспоминай что-нибудь только тогда, когда это доставляет тебе удовольствие», – заметила Элизабет в конце романа со свойственной ей иронией. Кстати, она сказала это именно тому человеку, который (она точно знала) будет взывать к ее честности, продолжая указывать на ошибки и напоминать о том, что она совершила.
Элизабет в конце концов осознала, что такое взросление; она поняла также, что, если правильно подойти к этому вопросу, взросление не кончится никогда. Мы не рождается идеальными, и нам никогда таковыми не стать. Зрелость – не повод для самодовольства. И снова Остин приводит отличный пример того, чего не следует делать. Мистер Беннет – прекрасный человек. Но он обеспечил себе пожизненную деградацию, выбрав супругу, не способную побудить его к дальнейшему развитию, поскольку рядом с ней он и так всегда чувствовал собственное превосходство. Жизнь с такой женщиной, как миссис Беннет, превратила его в самолюбивого, нравственно ленивого человека, а пострадали от этого дети. Ведь он мог бы сделать для своих дочерей куда больше, к примеру, обеспечить их финансовую независимость. Когда же в семье случилось несчастье, мистер Беннет оказался ни на что не годным. Чтобы взрослеть и дальше, – объясняет Остин, – следует всегда быть в отличной форме: не терять интереса к жизни, уметь мыслить ясно и самостоятельно, быть готовым к переменам. К счастью, мне повезло больше, чем Элизабет и ее отцу, ведь я держал в руках настоящий учебник взросления – роман «Гордость и предубеждение».
Джейн Остин не было и года, когда один английский писатель высказал мысль, которая могла бы стать эпиграфом ко всем ее книгам. «Жизнь – комедия для тех, кто думает, – писал Хорас Уолпол, – и трагедия для тех, кто чувствует». Каждый из нас думает и чувствует, но Остин задавалась вопросом: «Что для вас на первом месте?» Комедия – история со счастливым концом. Вы можете повзрослеть и обрести счастье, – дает понять Остин, – только если будете готовы расстаться с чем-то очень важным. Нет, не с чувствами, а с уверенностью в них, с убежденностью в том, что чувствам можно слепо доверять.
С этим нелегко смириться. Мы склонны верить в то, что сквозь призму эмоций видим мир таким, каков он есть на самом деле. Как часто мы говорим, что у нас хорошее предчувствие – неважно, идет ли речь о поступлении в колледж, лотерейном билете или очередных отношениях, – а на деле обнаруживаем, что наши надежды не имеют ровным счетом никакого отношения к тому, как сложится ситуация. Взрослые очень любят повторять ободряющие фразы: «Я знаю, у тебя все получится», «Они просто обязаны принять тебя на работу», «Уверена, все будет отлично». Да неужели? Вы уверены? Почему? Лишь потому, что я вам небезразличен?
Читая «Гордость и предубеждение», я осознал, в чем заключалась проблема Элизабет. Она верила в свою правоту, потому что так ей подсказывали ее чувства. Мистер Дарси обидел ее, стало быть, он плохой человек. Ее сестра Джейн мила, так с какой же стати кто-то не желает, чтобы мистер Бингли взял ее в жены? Элизабет казалось, что она слышит голос разума, на самом же деле в ней говорили чувства – возмущение, любовь, страсть, – а блестящий ум лишь усугублял эту иллюзию. И только после унизительного признания своих ошибок она поняла, что разум и чувства могут противоречить друг другу, и в этом случае прислушиваться следует к рассудку.
Этот конфликт Остин обозначила в названии своего первого опубликованного романа «Разум и чувства»[13] и воплотила его в ситуации, произошедшей с двумя главными героинями. Элинор Дэшвуд благоразумна, ее младшая сестра Марианна – порывиста и чувствительна. В романе между ними завязался спор, из которого становится ясна суть конфликта. Старшая сестра упрекает младшую в том, что та уехала на прогулку с молодым человеком без сопровождения. «Боюсь, – сказала Элинор, – приятность еще не залог приличия»[14]. Другими словами, то, что приносит удовольствие, может идти вразрез с правилами поведения. «Напротив, Элинор, более верного залога и найти нельзя. Преступи я истинные требования приличия, то все время чувствовала бы это: ведь, поступая дурно, мы всегда это сознаем, и в таком случае вся приятность была бы для меня испорчена», – отвечает Марианна.
Как легко было бы жить, если бы мы всегда понимали, когда ведем себя неправильно! Марианну смело можно назвать романтиком. Она верила, что любовь важнее всего прочего, и, уж конечно, важнее приличий, столь почитаемых ее благонравной старшей сестрой. Кроме того, Марианна поддерживала романтическое движение, которое охватило Запад во времена Остин. Но романтики не внушали доверия писательнице как раз из-за их представлений о том, как должны быть взаимосвязаны чувства и рассудок. Романтизм учил тому, что устои общества ограниченны, неестественны и губительны, разум же – лишь один из этих устоев, а не колыбель истины. По мнению романтиков, источником истины можно считать только природу, и если бы человечество следовало своей внутренней натуре – спонтанным порывам и чувствам, – то непременно стало бы прекрасным, счастливым и свободным. Главное, чтоб сердце было на месте, полагает романтик, а что говорит разум, не так уж и важно. Именно это имела в виду Марианна: эмоции – наш внутренний компас, который всегда указывает верный путь. То, что приятно, не противоречит приличиям. Если нам что-то нравится, значит это хорошо.
С точки зрения культурологии Остин вступила в неравный бой. Идеи романтизма легли в основу едва ли не всех основных направлений в искусстве двух последних столетий. Благодаря им у нас есть Вордсворт и Байрон, Уитмен и Торо, современные танцы, картины импрессионистов, поэзия битников и многое другое. На смену понятиям о мыслях и чувствах времен Остин пришли понятия романтизма, которыми мы оперируем по сей день. В современных песнях чаще всего употребляется слово «я», а не слово «любовь». Еще одно распространенное слово – «хочу». Поп-музыка – сплошной пронзительный крик страсти, единый призыв к свободе и удовольствию. Поп-психология шлет нам те же сигналы, не говоря уже о рекламе. Нам повторяют снова и снова: «доверься чувствам», «слушай свое сердце», «делай то, что нравится».
Есть в жизни определенный этап, когда следует усвоить этот урок. Мне-то он точно был необходим. Я вырос в ортодоксальной еврейской общине, окруженный сплошными ограничениями и правилами. Не ешь свинину. Не слушай музыку в шабат. Встречайся только с еврейками. Не путайся с теми, кто не состоит в общине. Любое действие предписано древней традицией, а выбор ограничен ценностями сплоченного сообщества. Покрывай голову. Читай молитвы три раза в день. Учись на отлично, поступи в хороший колледж, живи так, чтобы твои родители гордились тобой. С годами я понял, что мои личные желания и чувства тоже что-то значат, но, самое главное, я научился понимать, что именно я чувствую и чего хочу, благодаря чему обрел колоссальную внутреннюю свободу. Мне было необходимо осознать, что я волен поступать со своей жизнью так, как считаю нужным, просто потому, что я так хочу. Понимание того, что я имею право на чувства, что они важны и значимы, стало ключевым этапом моего взросления.
Героиням Остин тоже пришлось пройти через это испытание. Девушки были неопытны и готовились открыть для себя мир собственных чувств, и если потребуется, то и отстаивать их.
Элизабет, Эмма и Марианна освоили эту науку. Они положились на интуицию. Они слушали свое сердце. Если оно подсказывало, что это хорошо, героини следовали его голосу. И тем самым совершали типичную юношескую ошибку: придавали слишком большое значение собственным чувствам. Они уже начали процесс своего взросления – привыкли доверять себе, но теперь предстояло сделать следующий шаг на пути к полноценной взрослой жизни – нужно было научиться сомневаться в своей правоте.
Именно эту науку в конечном счете освоила Элизабет. Письмо мистера Дарси перечеркнуло все ее убеждения, поэтому ей пришлось перечитать его снова. Доводы, до отвращения разумные, были прямо противоположны ее чувствам. И чувства взбунтовались. Но после второго прочтения честность по отношению к себе заставила Элизабет задуматься. Рассказывая историю Лиззи, Остин призывала нас совершить очень непростой поступок, идущий вразрез с нашими инстинктами, нашим внутренним чутьем. Да, именно так. Автор предлагала нам научиться держать в узде собственные эмоции, побуждающие делать то, что хочется, и на первое место ставить рассудок – логику, неопровержимые доказательства, объективность, существующие отдельно от нас и никак не зависящие от наших желаний.
Этот урок удивительным образом раскрепостил мое сознание. Я был вынужден признать: даже если мне кажется, что кто-то меня задел, это еще не означает, что прав я, а не он. Я обижался на слова, но, возможно, я просто неправильно понимал то, что до меня пытались донести. Я бесился оттого, что кто-то безобразно ведет себя по отношению ко мне, но, может быть, я сам спровоцировал подобное поведение. Чувство и причина его появления – не одно и то же. Чувство – всего лишь представление, субъективная оценка происходящего. Так, чувства Элизабет основывались на ее восприятии конкретной ситуации. Джейн безусловно любит Бингли, семья Беннет не так уж плоха, мистер Дарси невыносимый гордец – все это некие представления, на которых основывались чувства Элизабет; и все эти представления оказались неверны. Восприятие может быть ложным, и, следовательно, основанные на нем эмоции тоже окажутся ложными. Получается, не нужно придавать значения необоснованным чувствам. Эмоции существуют, я это признаю, но подчиняться им вовсе не обязательно.
Разумеется, не каждый готов признать, что его чувства не являются истиной в последней инстанции. Кстати, именно поэтому многие терпеть не могут Джейн Остин. Они находят ее холодной, слишком правильной, называют училкой и занудой. Наша группа в аспирантуре разделилась на два лагеря – за и против Джейн Остин, – и страсти кипели вовсю. Однажды нам задали подготовить лекцию по одному из романов XIX века. Существует много отличных произведений того периода, но почти все аспиранты предпочли либо «Гордость и предубеждение», либо «Джен Эйр». Казалось бы, подумаешь, какое дело, однако не тут-то было (в аспирантуре все серьезно). Мы не просто выбирали тему лекции, мы декларировали свою веру, личные убеждения, ведь две эти книги представляли собой ярчайший пример диаметрально противоположных взглядов на жизнь.
В романе «Гордость и предубеждение» разум торжествует над чувствами и желаниями. В романе Шарлотты Бронте «Джен Эйр» – типичной романтической истории взросления – эго и эмоции преодолевают все препятствия. У тех, кто выбрал «Гордость и предубеждение», не укладывалось в голове, как вообще можно решиться на чтение такого незрелого и витиеватого текста, как «Джен Эйр». А сторонники Бронте не могли поверить в то, что мы готовы приговорить своих слушателей к такому чопорному и пресному произведению, как «Гордость и предубеждение». Наш выбор, безусловно, отражал наши характеры. Адепты Бронте, как виделось нам, последователям Остин, были склонны к позерству и идейному максимализму. Себя мы, конечно же, считали ироничнее и круче.
Бронте четко сформулировала обвинения в адрес своей знаменитой предшественницы в письме к подруге:
Удивительно, как недурно она справляется с поверхностным описанием жизни благородных англичан; она не тревожит читателя безрассудствами, не занимает его ничем глубокомысленным; что такое Страсти ей решительно неведомо, ведь она отгородилась глухой стеной от этих мятежных Искусительниц; она изредка удостаивает чувства любезным, хоть и весьма беглым кивком. Душа человеческая интересна ее перу вполовину меньше, чем глаза, рот, руки и ноги; она берется описывать лишь тех, кто зорко видит, хлестко говорит и изящно двигается, однако тем, что скрыто от глаз и пульсирует внутри столь живо и неистово, тем, что разгоняет кровь, Мисс Остин пренебрегает.
Но Остин отнюдь не пренебрегает чувствами (Элизабет и ее история переполнены ими) и, безусловно, ей известны страсти. Лидия вся состояла из одних желаний, и на долю Лиззи выпало немало страданий. Фразу «Как позорно я поступила!» не мог произнести бесстрастный человек. Остин ценила чувства и страсти, просто полагала, что мы не должны им подчиняться.
Мои однокурсники – ценители Бронте – отвергали идеи старшей романистки еще по одной веской причине, которую вряд ли бы поняла сама Бронте. Доказывать, что рассудок должен управлять эмоциями, в первую очередь означает отрицать современное утверждение: разум и чувства неразделимы. За последние сто лет Фрейд и прочие умники научили нас считать объективность иллюзорной, а выводы нашего ума не чем иным, как воплощением скрытых порывов или завуалированных проявлений эгоизма, особенно, когда речь идет об образе действий и мыслей, о чем, собственно, и повествует Джейн Остин в своих романах.
Однако Остин непоколебима. Автор письма, перевернувшего все представления Элизабет, пишет о чувствах Джейн к Бингли: «Разумеется, мне хотелось прийти к заключению о ее безразличии к мистеру Бингли. Но смею утверждать, что мои наблюдения и выводы не часто зависят от моих желаний и опасений. И я решил, что сердце ее свободно, вовсе не потому, что меня это больше устраивало. Такой вывод я сделал с беспристрастностью…» Самоуверенность Дарси в первой части этого отрывка возмущает, а заключение кажется неправдоподобным, но Остин хочет, чтобы мы согласились с ним. Для нее «беспристрастность» – то есть, умение мыслить шире наших ограниченных суждений – это абсолютно реальная способность разумного человека И автор письма ею обладал. Суть взросления для Элизабет сводится к тому, чтобы научиться судить так же трезво, как Дарси.
Ошибаясь и осознавая свои ошибки, противопоставляя чувствам логические рассуждения, героиня «Гордости и предубеждения» освоила самый важный урок. Она поняла, что не является центром вселенной. Повзрослеть для Остин означает взглянуть на себя со стороны и увидеть человека с весьма скромными способностями. В этом автор видит спасение; а в унижении – том самом мучительном чувстве стыда – она может разглядеть благо.
Согласно понятию о комедии и трагедии, установившемуся еще со времен Аристотеля, роман «Гордость и предубеждение» строится вокруг парных событий: узнавания и перипетии[15]. Героиня узнает что-то о себе, о своем поведении, и в результате ее судьба меняется. Остин основательно переработала эту традиционную модель. В классическом комедийном сюжете двух влюбленных разлучает внешнее препятствие, «блокирующая фигура», олицетворение вечного конфликта отцов и детей: властный отец, ревнивый муж, законы и нравы старомодного, жестокого общества. Остин же переносит эту помеху внутрь героя. И вот мы сами для себя становимся «блокирующими фигурами», от которых идут все наши беды. Мы сами стоим на пути к собственному счастью. Как только Элизабет обретает внутреннюю готовность к счастью, ее перестает волновать мнение старших. Для Остин разум есть избавление, а взросление – истинная свобода.
К таким же выводам пришел и я. Той осенью я сдал квалификационный экзамен; все лето я читал так рьяно, словно под дулом пистолета; жуткую предэкзаменационную ночь я провел без сна, а утром вполз в аудиторию к моим инквизиторам; два часа спустя я вышел оттуда, шатаясь, но с пятеркой. Несколько позже один из профессоров спросил, не планирую ли я вплотную заняться диссертацией.
– Я хотел бы немного передохнуть, – ответил я.
– Отличная идея, – одобрил он. – Пусть мозг расслабится.
– Расслабится? – переспросил я. – Да он просто отключится.
Но на самом деле, у меня уже созрел некий план. Прочитав истории Джейн Остин о взрослении, я решил, что пришла пора подрасти и мне. Я больше не мог оставаться в той замызганной комнате с непонятными соседями, расположенной в той части города, где я обитал с семнадцати лет. И, что самое главное, я не желал больше жить в тени своего отца. Почти все мои друзья к тому времени переехали в центр Нью-Йорка или в Бруклин, и я намеревался последовать их примеру. Найти квартиру, купить настоящую мебель и, в конце концов, начать самостоятельную жизнь.
На следующий день после экзамена отец пригласил меня пообедать; мы пошли в клуб при факультете, ведь нам было что отпраздновать. За порцией запеченной семги я рассказал ему об экзамене, но, как только упомянул о дальнейших планах, отец резко помрачнел. Такие перспективы пришлись ему не по душе. «Будешь тратить там гораздо больше», – тут же предупредил он. Но я понимал, что дело не в этом. Да, расходов будет больше, но ненамного. Отец же хотел, пользуясь своими связями в университете, перевести меня в другое общежитие; он снова рвался решить за меня мою проблему (ему так казалось), а это обошлось бы мне гораздо дороже.
На самом деле речь шла не о деньгах. И отец это отлично понимал, хотя ни за что не признался бы вслух. Я не просто переезжал в другой район, я покидал его. А он не хотел меня отпускать. Бруклин? Какой еще Бруклин? В Бруклине он жил, когда только приехал в США накануне войны. Это стартовая площадка, откуда уезжают, но уж никак не возвращаются туда. Кому и зачем вообще может прийти в голову туда переехать?
Я знал зачем. Переезд в Бруклин мог стать огромной ошибкой; пусть так, но это будет моя собственная ошибка. Мне надоело быть ребенком, я устал бояться – бояться провалов, бояться разочаровать отца своими провалами. Я был сыт по горло этой затянувшейся драмой о порицании и неповиновении, об опеке и протесте. Я был готов к новой главе своей жизни. Как и Элизабет Беннет, я наконец обрел свободу.
Глава 3. «Нортенгерское аббатство»: век живи, век учись
С самого начала моя любовь к Джейн Остин тесно переплеталась с симпатией к профессору, который нас «познакомил». Посещая его семинары, я прочел «Эмму», позже под его опекой я сдал устные экзамены и, в конце концов, он вдохновил меня на немыслимый поступок – написать диссертацию.
Но прежде профессор совершил невозможное: нашел для меня хорошую и дешевую квартиру в Нью-Йорке. Неделями я мотался по городу в поисках жилья, заполнял анкеты в сомнительных агентствах недвижимости, пытался заселиться в пятиэтажки без лифта, проходил кастинг на роль четвертого соседа в апартаментах размером со спальню, рассматривал варианты, где ванная помещалась на кухне, кухня – в гостиной, и повсюду воняло гнилой рыбой с китайского рынка под окнами. И тут профессор при мне обмолвился, что его соседка ищет жильца в таунхаус.
Я такого насмотрелся за эти дни, что дом показался мне дворцом, а плата вполне приемлемой. Все складывалось сказочно, и я не стал напрягаться по поводу того, что поселился бок о бок с человеком, которому предстояло курировать мою научную работу до конца учебы. Панике я поддался лишь однажды. Через пару дней после заключения договора мы с друзьями курили травку, и тут меня озарило: «Господи, я буду жить рядом с профессором! Теперь все решат – и он в первую очередь, – что я ищу замену отцу». Какая ирония: улизнуть от одного родителя, чтобы тут же повиснуть на шее у другого! Я прямо-таки ощутил себя мальчиком в мокрых штанишках. Но все же мне удалось взять себя в руки и довериться интуиции. Нельзя сбегать от человека, у которого ты можешь столь многому научиться.
Он был наиболее молодым стариком из всех, кого я знал. Когда я начал заниматься у него, профессор уже вышел на пенсию, но при этом оставался самым неутомимым человеком на факультете. Он был научным руководителем у огромного числа выпускников, вел курсы по множеству предметов (литература XIX века, романтическая поэзия, литература коренных народов Северной Америки, детская литература, научная фантастика, шедевры мировой литературы и так далее), консультировал восемь профессиональных журналов, примерно раз в три года издавал по книге и неофициально вел факультативные занятия; словом, являлся прирожденным педагогом. Квартирантка профессора – будущий медик, упрекнуть ее в праздности было невозможно, однажды рассказала, что каждое утро просыпается от звука его стремительных шагов по лестнице. Она еще только выбиралась из постели, а он уже бежал навстречу новому рабочему дню.
Но дело было не только в его энергичности. Профессор не утратил способности смотреть на мир свежим взглядом. Его седые волосы вечно топорщились надо лбом, словно от удивления; стоило ему услышать что-то новое, и его лицо мгновенно становилось внимательным и сосредоточенным. Он всегда интересовался нашим мнением, независимо от того, как сильно мы запинались, пытаясь подобрать слова, и никогда не упускал возможности получать знания.
Я смог оценить это далеко не сразу. В первый день занятий я быстро пришел к выводу, что ошибся, записавшись на его семинары. Представьте: в аудиторию ворвался седобородый старичок с охапкой книг под мышкой; он двигался как-то слишком резко, даже нервно, его взгляд постоянно перебегал с предмета на предмет. Время от времени профессор хмыкал себе под нос, явно не собираясь объяснять свою реакцию. Он выглядел большим оригиналом, если не сказать маразматиком, и его вопросы только усугубили это впечатление. Они казались банальными до крайности, затертыми до дыр, наивными и даже бестолковыми, их было глупо задавать даже первокурсникам, не говоря уже о студентах аспирантуры.
Но стоило только начать отвечать на эти вопросы, как сразу стало ясно, что все совсем не так просто, как кажется. Сложность вопросов заключалась в том, что они касались вещей – романов, языка, чтения, – о которых мы давно перестали задумываться, принимая их как данность. Например, что значит отождествлять себя с литературным персонажем? Я думал, что знаю ответ, но так ли это было на самом деле? Значит ли это поставить себя на его место? Да, но не только. Или одобрять его поступки? Но мы с готовностью сравниваем себя и с отрицательными героями, стоит лишь нас подтолкнуть. В конце концов я пришел к выводу, что отождествление себя с персонажем – это некое промежуточное, трудно объяснимое состояние, когда ты – это он и не он одновременно. Едва ли подобное можно считать ответом.
Или, к примеру, профессор заявил, что в «Мадам Бовари»[16] есть фраза, которую никогда не переводили на английский язык. То есть как?! «Это название», – сообщил нам профессор, а затем поинтересовался, почему же его все-таки не перевели. Я был страшно возмущен, даже рассержен подобной дерзостью – разве можно задавать такие вопросы? Но, с другой стороны, действительно, как перевести эту «мадам»? «Леди Бовари»? Но она не аристократка. «Миссис Бовари»? Слишком примитивно. Пришлось признать, что в английском языке не существует эквивалента французскому Madame, и английское Madam тут не подходит. Один простой вопрос показал, сколь велико различие между двумя культурами и, как следствие, продемонстрировал мне мою неспособность осмыслить роман полностью, отчего я был вовсе не в восторге.
Примерно через полчаса до меня стало доходить, чего добивается профессор, – в моей жизни это был первый подобный опыт! Старик стряхивал пыль с наших извилин. Он показывал нам, что под сомнение можно поставить все что угодно, а то, что, казалось бы, очевидно и известно лучше всего, – в особенности. Он учил нас смотреть на мир с любопытством и сознанием собственного невежества, а не с самоуверенностью знатоков, к которой мы так упорно стремились. Чтобы ответить на вопросы профессора, нужно было забыть то, чему нас учили, и начать с самого начала. «Все лежит на поверхности, – объяснил он позже. – Идите на улицу, и у любого глупца найдутся для вас ответы. Фокус заключается в том, чтобы задать правильные вопросы».
Я понял, насколько мне повезло. Я записался на еще один курс – романтической поэзии, и регулярно посещал занятия. Сидеть прямо напротив профессора и разговаривать с ним лицом к лицу казалось особой привилегией. Он всегда вел себя с нами как с равными, хотя нам было до него далеко. При этом старик любил ехидно похихикать и мог слукавить. (Узнав, что он преподает еще и литературу коренных народов Северной Америки, я мысленно обозвал его Койотом[17] – он был типичным трикстером. У нас вообще вошло в привычку мифологизировать нашего преподавателя. Мой друг-индиец называл его Ганешей – слоноголовым богом мудрости.) Если вы мямлили что-то неопределенное и не могли закончить фразу, профессор притворялся тугодумом, чтобы вы, пытаясь объясниться, точнее выразили свою мысль. Я поймал себя на том, что выхожу из его кабинета пятясь, словно передо мной королевская особа.
Я мечтал, как однажды, став преподавателем, начну оказывать такое же влияние на студентов. Начиная с третьего года обучения в аспирантуре, мы вели английский язык у трех потоков первокурсников. Испытание не из легких, но я всегда хотел быть учителем и теперь, вдохновленный примером моего профессора, жаждал войти в аудиторию. Однако после первой же попытки я сдулся, словно проколотый воздушный шарик. Было совершенно очевидно, что я делаю что-то не так, но что именно – неизвестно. Готовясь к очередному занятию, я тщательно продумывал цепочку вопросов, которая должна была подвести студентов к определенным выводам, но они почему-то отвечали не так, как я планировал, и весь семинар превращался в игру в загадки.
Вместо того чтобы чутко внимать каждому моему слову, подростки складывали руки на груди, усаживались поудобнее и сверлили меня скептическими взглядами. Атмосфера в аудитории накалялась донельзя, время застывало подобно желе. Уже через десять минут после начала занятия я мысленно отделялся от тела и, взмыв под потолок, в течение часа как бы со стороны наблюдал за собственной агонией. Это напоминало ночной кошмар, когда ты стоишь на сцене и не можешь вспомнить ни слова из подготовленной речи. Со звонком я, умирая от стыда, вылетал вон из аудитории, словно беглый преступник, либо вещал ученикам что-то вслед, надеясь исправить ситуацию в последний момент. Естественно, они удирали со всех ног.
Что касается их сочинений – предполагалось, что я должен помочь студентам набить руку, – то они сдавали два эссе в неделю, и я часами разрисовывал их красной ручкой, подобно ангелу возмездия истребляя неуклюжие причастия и лишние запятые. «Не важно, что во время семинаров дела у нас обстоят из рук вон плохо, – рассуждал я. – Моя правка им обязательно поможет». А затем ученики сдавали мне следующие работы, и я обнаруживал все те же ошибки на прежних местах. Я был готов рвать на себе волосы. Мы же это проходили! Почему они не стараются? Неужели они не видят, как много я для них делаю? Я пытался обвинять во всем студентов, но в душе понимал, что не стал для них тем учителем, каким мечтал быть, и уж точно был далек от того идеала, каким был для меня мой профессор. Я начал подумывать, что вся эта затея с научно-преподавательской деятельностью – громадная ошибка.
Учитывая обстоятельства, я был только рад, что могу заняться чем-то помимо преподавания. Стоит ли говорить, что первую главу своей диссертации я посвятил Джейн Остин. Для начала я заново перечитал все ее произведения, на сей раз в хронологическом порядке. Это значит, что начал я с легкого и короткого романа «Нортенгерское аббатство»; по-юношески живой и очаровательный, он пленил меня еще в первый раз, но тогда я многое упустил из виду.
Кэтрин Морланд всего семнадцать лет, она одна из самых юных и самых наивных героинь Остин. Наверное, автор списывала эту девушку с себя, используя при этом все оттенки иронии. Если прообразом Элизабет Беннет стала Джейн в юности, то Кэтрин походила на нее же в подростковом возрасте. У обеих – Джейн и Кэтрин – отец был священником в тихой деревушке. Обе происходили из большой семьи: у Остинов было девять детей, у Морландов – десять; обе взрослели в окружении старших братьев. Десятилетняя Кэтрин росла сорванцом: «Она была шумной и озорной девочкой, терпеть не могла чистоту и порядок и больше всего на свете любила скатываться по зеленому склону холма позади дома»[18]. Такой же склон был рядом с домом Остин.
В четырнадцать Кэтрин предпочитала «бейсбол, крикет» (бейсбол! Как удивительно воображать юную Джейн на позиции шорт-стопа[19]), «верховую езду и прогулки» чтению. По крайней мере, чтению серьезных книг. Кэтрин обожала романы и ненавидела историю – совсем как Остин, которая в этом возрасте сочинила сатирическую «Историю Англии», «написанную предвзятым, предубежденным, невежественным историком».
Однако в пятнадцать лет «впечатление, которое она производила на окружающих, стало понемногу исправляться». Кэтрин научилась завивать волосы, полюбила танцевать, начала читать стихи о любви и наряжаться. Она похорошела и к семнадцати превратилась в привлекательную девушку. Не хватало одного: по соседству не нашлось ни одного юноши, способного пленить ее сердце. Но час пробил, и она отправилась на каникулы в Бат, самый модный курорт в Англии, город театров и балов, магазинов и сплетен, величественных особняков и прекрасных пейзажей, куда приезжали на других посмотреть и себя показать; кстати, это было излюбленное место отдыха семейства Остин. Они останавливались в доме богатого дяди Джейн, который ездил на воды лечить подагру. А Кэтрин гостит у Алленов, самой состоятельной семьи в округе, также приехавшей в Бат поправить здоровье.
В Бате Кэтрин проводила время в компании новых друзей, и те пытались по-своему повлиять на нее и научить жизни. Брат и сестра, Джон и Изабелла Торп, тщеславные и лживые молодые люди, навязывали Кэтрин свои представления о мире. Джон был болтливым и поверхностным юношей, во времена Остин таких называли «пустозвонами»:
– Я вызову на дуэль любого человека, который скажет, что моя лошадь пробегает в упряжке меньше десяти миль в час… вы видели за свою жизнь существо, более приспособленное для быстрого бега?.. Настоящих кровей!.. Взгляните на ее передние ноги. Взгляните на круп. Только посмотрите на ее поступь. Такая лошадь не может пробегать в час меньше десяти миль, даже если ее стреножить.
Джон попросту глуп, но Кэтрин слишком неопытна, чтобы понять это. Она слушает болтовню самодовольного молодого человека «со скромностью и почтительностью, подобающими юной девице, которая не осмеливается иметь собственное мнение, отличное от мнения самоуверенного кавалера», и ей не остается ничего, кроме как верить ему.
Однако по сравнению с эгоистичной и хитрой лицемеркой Изабеллой Джон не так уж плох.
«Это мое любимое местечко, – сказала Изабелла, усаживаясь между двумя входами – отсюда можно было легко наблюдать за всеми, кто в каждый из них входил или выходил, – оно такое укромное». Изабелла на четыре года старше Кэтрин и взялась обучать свою протеже искусству фальши: как флиртовать, как лгать, как поддразнивать. Манипулируя своей новой подружкой в угоду Джону, она сделала все возможное, чтобы подтолкнуть ее к брату. Когда он предложил Кэтрин покататься с ним вдвоем (совершенно непристойное поведение для того времени), Изабелла тут же его поддержала. «Как это будет чудесно! – обернувшись, сказала Изабелла. – Кэтрин, дорогая, я почти вам завидую. Но, Джон, я боюсь, третий седок у тебя может не поместиться».
Худшим подарком Изабеллы стали книги, к которым она приохотила свою юную подружку. «Нортенгерское аббатство» – сатира на готические романы, столь популярные в дни Остин, на то самое чтиво, о котором она столь резко отзывалась в своих ранних сочинениях. Даже название романа – пародия на высокопарные заглавия типа «Удольфские тайны», «Замок Отранто» (Нортенгер в те годы считался глухой провинцией). В юности Остин и сама, наверняка, зачитывалась подобными книжками, испытывая смешанные чувства, что-то среднее между удовольствием и стыдом. Она просто не смогла бы так непревзойденно высмеять эти произведения, если бы прежде не проглатывала их десятками – а никто не тратит время на то, что презирает. Но беда Кэтрин заключалась в том, что она верила прочитанному. Все эти нелепые истории о порочных аристократах и замках с привидениями, которые читали подруги и которые Кэтрин по наивности принимала за правду, вкупе с наигранными манерами Изабеллы давали неопытной девушке ложное представление о мире.
Но нельзя перекладывать вину только на Торпов. Все окружение Кэтрин, для которого учтивое притворство, поддельные эмоции, бессмысленные традиции были нормой, пыталось ввести ее в заблуждение. По прибытии в Бат миссис Аллен сразу отправилась со своей юной подопечной на бал, но, поскольку они не встретили знакомых, Кэтрин осталась без партнера:
– Как досадно, что у нас здесь нет ни одного знакомого человека! – прошептала Кэтрин.
– Разумеется, дорогая моя, – бесстрастно отозвалась миссис Аллен, – это в самом деле очень досадно.
Когда Джеймс, старший брат Кэтрин и друг Джона Торпа по колледжу, также приезжает в Бат, девушка восторженно отзывается об Изабелле. «Это приятно слышать. Я бы хотел, чтобы ты подружилась именно с такой молодой особой. У нее столько здравого смысла, столько очарования и ни капли притворства», – говорит он.
Кэтрин не могла сопротивляться натиску общественного мнения; незаметно для себя она стала подражать окружающим ее людям. Вот мистер Аллен приезжает, чтобы забрать с того первого, неудачного, бала жену и юную подопечную:
– Надеюсь, мисс Морланд, – спросил мистер Аллен, появляясь, – бал доставил вам удовольствие?
– О да, очень большое, – ответила Кэтрин, тщетно скрывая зевок.
К счастью, Кэтрин подружилась также с братом и сестрой Тилни. Генри Тилни, который, как Изабелла, был значительно старше нашей героини, подошел к ее образованию с совершенно иной стороны. Поначалу Кэтрин никак не могла понять умного и жизнерадостного Генри, настолько он казался странным и несерьезным. Вот их диалог во время первого танца на балу:
– Простите, сударыня, мою нерадивость – в качестве партнера по танцам. Я до сих пор не осведомился у вас – давно ли вы сюда приехали, приходилось ли вам бывать в Бате прежде, посетили ли вы Верхние залы, театр и концерты и какое этот город произвел на вас общее впечатление. Я недопустимо пренебрег своими обязанностями. Но не найдете ли вы возможным дать мне соответствующие разъяснения, хотя бы с опозданием? Если не возражаете, я примусь за дело тотчас же.
– Вам незачем, сэр, по этому поводу беспокоиться.
– Помилуйте, сударыня, мне это не причинит ни малейшего беспокойства. – И, изобразив на лице жеманную улыбку, он спросил более высоким голосом:
– Давно ли, сударыня, вы прибыли в Бат?
– Около недели тому назад, сэр, – ответила Кэтрин, стараясь удержаться от смеха.
– В самом деле?! – воскликнул он с нарочитым удивлением.
– Почему, сэр, вы этому удивляетесь?
– Вы, разумеется, правы, – произнес он обычным тоном. – Но ведь нужно же было выразить по поводу вашего приезда какие-то эмоции. А при подобных обстоятельствах удивление кажется вполне уместным и ничуть не уступает любому другому чувству. Итак, продолжим…
Вместо того чтобы обучать Кэтрин премудростям жизни в обществе, как это делали Изабелла и миссис Аллен, неосознанно требуя от нее слепого повиновения, Генри пытался достучаться до нее, показывая, насколько нелепы условности. Он не читал нравоучений, не восклицал: «Посмотрите, мисс Морланд, сколько фальши вокруг!» Он тормошил ее, удивлял, смешил, заставал врасплох, вынуждая угадывать причины и следствия, побуждая думать самостоятельно, без подсказок. Через несколько дней они снова танцевали вместе. Джон Торп, праздно за ними наблюдавший, неторопливо приблизился к паре и попытался привлечь внимание Кэтрин болтовней о лошадях (во времена Остин на балах менялись партнеры). Генри, снова оказавшись в паре с Кэтрин, заявил:
– Контрданс, по-моему, – подобие брака. В том и другом главные достоинства человека – взаимные верность и обязательность. И мужчинам, которые предпочитают не жениться или не танцевать, не может быть дела до жен или дам их соседей.
– Но это такие разные вещи!
– По-вашему, их нельзя сравнивать?
– Разумеется, нет. Те, кто женятся, не могут разойтись и обязаны вести общее хозяйство. А те, кто танцуют, только находятся в большом зале друг против друга, проводя вместе лишь полчаса.
‹…›
– В браке мужчина доставляет средства существования женщине, а женщина хлопочет о домашних радостях для мужчины… В танцах же обязанности распределяются обратным образом. Радовать, угождать должен он. А она – заботиться о веере и лавандовой воде. Должно быть, именно это отличие в распределении обязанностей привлекло ваше внимание и заслонило основное сходство.
– Вовсе нет, я об этом даже не думала.
– В таком случае я просто теряюсь.
Теперь Генри ведет разговор иначе, у него другие намерения. Он по-прежнему шутит, но на этот раз высмеивает традиции, а не пародирует, и, вместо того чтобы смутить Кэтрин вопросом о социальных устоях, проверяет ее способность переосмысливать общепринятые догмы. Брак это одно, танцы – совсем другое, но так ли велика разница? И да, и нет; Генри предлагает ей рассудить самой. Прошлая беседа была скорее монологом: он говорил, она смеялась. На этот раз он пригласил ее вступить в разговор. Генри побуждает Кэтрин высказать свое мнение; он не боится показаться глупым, делая вид, что не совсем понял ее, и тем самым давая ей возможность подобрать слова и точно выразить свои мысли.
И тут я, наконец, нашел ответ на вопрос, мучивший меня все это время. Я понял, в чем моя ошибка как учителя. Хитроумный, неугомонный, насмешливый, готовый выставить себя глупцом ради того, чтобы студент научился думать, немного странный и резкий, но всегда необыкновенно интересный собеседник – таким был Генри Тилни. Таким был и мой профессор. Именно эти качества делали его великолепным педагогом; не гениальность и начитанность (хотя ни того, ни другого у него не отнять), а то, что он заставлял нас думать самостоятельно (как Генри заставлял Кэтрин). Профессор умело подталкивал нас к пересмотру общепринятых литературных штампов, а также собственных суждений (так же поступал Генри) о наших способностях понимать роман, его персонажей, его язык.
В конце концов, мы все походили на Кэтрин – выпускники, неуверенно начинающие новый жизненный этап. Но нет, пожалуй, это слишком лестное для нас сравнение. Кэтрин понимала, что наивна, хоть и не осознавала насколько. Скорее, мы вели себя как Торпы: молодые люди, которые скрывали собственную неуверенность, притворяясь друг перед другом, что знают гораздо больше, чем это было на самом деле. Профессор вел себя совершенно иначе. Он, в отличие от нас, прикидывался невеждой, отказываясь от роли мудреца и гуру. Почему? Потому что «знал, что ничего не знает»; знал, что все мысли, в том числе его собственные суждения и представления, нуждаются в постоянной переоценке.
Он учил нас, задавая вопросы. Я пытался следовать его примеру, вот только вопросы у меня были не те, – наконец-то до меня дошло. Это были все те же ответы, только замаскированные под вопросы. Да я просто издевался над своими студентами, как ведущий викторины «Своя игра». Я стал не учителем, а мучителем. Мои студенты, подобно юной Кэтрин в Бате, окунулись в изумительный новый мир; они ходили по колледжу с вытаращенными глазами, ослепленные новыми перспективами и возможностями. И тут им явился я, но не в качестве Генри, а в качестве Изабеллы. Было мучительно больно признаться даже самому себе, как часто я, теша собственное самолюбие, манипулировал студентами вместо того, чтобы помогать им. Я указывал им, о чем думать, а затем делал все, дабы они под видом собственного мнения озвучивали мои мысли, – а я, мол, здесь ни при чем. Вместо того чтобы дать им возможность развиваться самостоятельно, я подсознательно пытался превратить их в подобие себя.
Мой профессор, задавая вопрос, не имел на него точного и окончательного ответа; он искренне желал услышать наши соображения. Точно так же рассуждения Генри на тему танцев и брака не несли в себе определенного подтекста, урока или морали. Он просто хотел, чтобы Кэтрин задумалась, и они смогли обсудить мысль вместе; разговор обещал быть куда интереснее чем: «Разумеется, дорогая моя… это в самом деле очень досадно», или «Это мое любимое местечко… оно такое укромное», или «Я вызову на дуэль любого человека, который скажет, что моя лошадь пробегает в упряжке меньше десяти миль в час…» и так далее. Генри предлагал разговор, позволяющий почерпнуть что-то новое, благодаря которому можно было лучше узнать собеседника и проникнуться к нему интересом.
Мой профессор был таким же, как Генри, а значит, таким же, как Джейн. Сама Остин – насмешливая, хитроумная, вызывающая – смотрела на нас со страниц «Нортенгерского аббатства». Ее читатели стали ее учениками: она воплотилась в Генри, мы заняли место Кэтрин, и Остин заговорила устами мистера Тилни. То, чем Генри делился с Кэтрин, несомненно, предназначалось и нам. Когда Генри высмеивал светские беседы, мы неизбежно вспоминали свою пустую болтовню. Когда он учил Кэтрин думать по-новому, в нашем инертном сознании зарождались свежие идеи.
В первом разговоре Генри преподал Кэтрин урок с помощью перевоплощения. Он прикинулся другим человеком – фальшивая улыбка, вкрадчивый голос, явное самодовольство – и сделал все, чтобы нелепость его поведения была очевидна аудитории, то есть Кэтрин. Остин никем не притворялась, но, на наших глазах, примерила множество разных масок. Фразы вроде «дорогая моя», «мое любимое местечко» и «я вызову на дуэль любого» аналогичны выступлению Генри на тему «Давно ли, сударыня, вы прибыли в Бат?». А ирония, которой проникнуты все эти высказывания, заставила нас взглянуть свежим взглядом на самые, казалось бы, обычные разговоры и поведение. Остин, как и Генри, учила, показывая, стараясь заинтересовать, а потом и задуматься.
Джейн Остин писала романы, а не эссе, и больше, чем любой другой автор, боялась испортить свои работы субъективностью. Она никогда не наставляла и не объясняла, никогда не прерывала повествование, чтобы навязать свое мнение о герое или поделиться своим суждением об устройстве мира. Она не искажала образы персонажей, вкладывая в их уста собственные мысли. В письме Кассандре о публикации «Гордости и предубеждения» Остин шутливо высказалась на этот счет – она часто говорила о серьезных вещах с иронией: «Работа получилась слишком уж легкой, красочной и живой… непременно следует разбавить повествование длинными главами, совершенно не связанными с сюжетом, чем-нибудь глубокомысленным, если выйдет, а если нет, тогда подойдет напыщенный вздор: например, эссе о писательстве, рецензия на Вальтера Скотта, история Бонапарта». Остин не может удержаться, чтобы не проехаться по этой удручающей привычке некоторых романистов.
Сама Остин никогда не поучала и терпеть не могла, когда этим занимались другие. В «Гордости и предубеждении» Мэри Беннет сыпала умными цитатами, мистер Коллинз любил читать вслух толстые серьезные книги, и к ним обоим относились как к глупцам. Генри не имел привычки наставлять Кэтрин; он увлекся лишь однажды, и Остин тут же мягко посмеялась над ним. Это случилось, когда Генри, Кэтрин и Элинор, старшая сестра Генри, подруга нашей героини, поднялись на холм, чтобы посмотреть на Бат с высоты. Тилни «стали обозревать местность, как это делают люди, занимающиеся живописью», и обсуждать, «в какой мере она подходит для пейзажа». Остин высмеивает моду на английский живописный стиль – впечатляющие пейзажи, созданные по определенным канонам того времени: таинственно потемневшие небеса, причудливо изогнутые деревья, колоритные развалины. Кэтрин в этом не разбиралась, но мистер Тилни с удовольствием просветил ее:
…Она с огорчением призналась в своей недостаточной осведомленности и заявила, что за умение рисовать была бы готова жертвовать всем на свете. В ответ незамедлительно последовала лекция о прекрасном, в которой объяснения ее спутника были настолько доходчивыми, что она тут же стала любоваться всем, что казалось красивым ему, и к которой она выказала такое серьезное внимание, что он ощутил полнейшее удовлетворение ее выдающимся природным вкусом. Он говорил ей о передних планах, расстояниях и далях, боковых фонах и перспективах, свете и тенях. И Кэтрин оказалась столь способной ученицей, что, когда они поднялись на вершину Бичен-Клиффа, она сама отвергла вид на город Бат в качестве возможного объекта для пейзажа.
Как известно, Остин и сама была большой поклонницей живописного стиля, так же как и готических романов. Но она отлично понимала, что любое течение в искусстве, любая идея, любая привычка, если принимать ее бездумно и безоговорочно, очень быстро превратится в штамп, клише. Стоит только начать относиться к чему-либо слишком серьезно, и сам не заметишь, как начнешь слишком серьезно относиться к самому себе, а там уже недалеко и до мистера Коллинза – нудно поучающего вместо того, чтобы смеяться и удивлять. И тогда ваши студенты, проникнувшись вашим же внушением, начнут нести полную чушь: «И Кэтрин оказалась столь способной ученицей, что, когда они поднялись на вершину Бичен-Клиффа, она сама отвергла вид на город Бат в качестве возможного объекта для пейзажа».
Теперь мне стало ясно, почему роман начался с такой необычной фразы. «Едва ли кто-нибудь, кто знал Кэтрин Морланд в детстве, мог подумать, что из нее вырастет героиня романа», – говорилось в первом же предложении. Это шутка, отсылка к готическим романам, и далее автор продолжает в том же духе – отцу Кэтрин «не было нужды держать своих дочек в черном теле», «среди знакомых Морландов не было ни одной семьи, которая вырастила бы найденного на пороге мальчика неизвестного происхождения» и так далее. Намеки весьма прозрачные. Но, помимо этого, первая строка привлекает наше внимание к тому, что в книге обыгрываются и высмеиваются разного рода социальные условности. Героиня и романтическая история, мистер Совершенство и мистер Главный Злодей, опасности и недопонимания, конфликты и осложнения, разоблачения и неожиданные повороты сюжета и в итоге счастливый конец – на этом основывается каждая книга Остин; она не может обойтись без условностей, как автор детективов без трупа. Однако Остин не хочет, чтобы мы увязли в этих условностях, доверчиво погрузились в иллюзию, ошибочно принимая художественный вымысел за незыблемую реальность. Будьте бдительны, – говорит Остин. Не принимайте сказанное за данность, даже если автор – я.
Иными словами, будьте внимательны. В первую очередь к своим собственным чувствам, чутью. Окружающая действительность вечно пытается заставить нас лгать себе: «О да, очень большое, – ответила Кэтрин, тщетно скрывая зевок». Нашим чувствам, – дает понять Остин, – неведома вежливость, они доставляют неудобства окружающим. Друзья и родственники всегда не прочь подсказать нам, что именно мы должны ощущать, чтобы сделать их жизнь легче или занимательнее. Вот Изабелла говорит Кэтрин о Генри, с которым героиня встретилась к этому моменту всего один раз:
– Не смею вас за них упрекать. Если сердце занято – мне это так знакомо! – внимание посторонних его не радует. Все, что не связано с его избранником, кажется таким заурядным и скучным! Ваши чувства вполне понятны.
– Вам незачем убеждать меня, что я много думаю о мистере Тилни, которого, быть может, никогда не увижу.
– Никогда не увидите? Милочка моя, как можете вы так говорить? Поверьте, если бы вы и впрямь так думали, вы были бы глубоко несчастны.
Именно Изабелла пристрастила героиню к любовным романам. Она хотела, чтобы в жизни Кэтрин (а заодно и в ее собственной) бушевали страсти, которыми изобиловали глупые книжки, а если это сделает ее подружку несчастной – тем интересней.
Генри вел себя совершенно иначе. Ближе к концу повествования Остин вставляет разговор между Генри и Кэтрин об Изабелле, невольно заставляя нас сравнивать характеры Генри и Изабеллы. К этому времени лживая сущность интриганки мисс Торп уже стала очевидной и девичья дружба подошла к концу:
– Вам, наверно, кажется, что, потеряв Изабеллу, вы потеряли половину своего собственного «я». В вашем сердце возникла пустота, которую невозможно заполнить… Вы чувствуете, что у вас нет больше друзей, с которыми вам хотелось бы свободно делиться мыслями, на чье участие вы могли бы положиться, чьему совету по поводу любого затруднения – последовать. Не правда ли, вы испытываете все это?
– Нет, – ответила Кэтрин, немного подумав, – не испытываю. С моей стороны это нехорошо? По правде говоря, хоть мне и больно, хоть я и огорчена тем, что не могу больше ее любить, что никогда уже не услышу ее голоса, даже, наверно, ее не увижу, – я себя не чувствую такой несчастной, как можно было ожидать.
Генри, рассуждая о чувствах окружающих, черпал вдохновение в том же море словесных клише, что и Изабелла; во все времена люди, заводя речь о романтике и дружбе, использовали высокопарные формулировки (фразы изменились – «заклятые друзья», «настоящая мужская дружба» и «друзья на веки вечные», – но суть осталась прежней). Однако Генри не разъяснял Кэтрин, что она должна чувствовать, а лишь просил ее прислушаться к собственным переживаниям. Это поворотный момент романа: благодаря Генри героиня научилась понимать себя.
«Вы, как всегда, чувствуете то, что делает честь человеческой природе. Такие чувства достойны изучения, чтобы они могли узнавать сами себя», – говорил ей Генри. Читая «Гордость и предубеждение», я вместе с Элизабет учился слышать голос разума в хоре эмоций.
Теперь пришло время разобраться в их сложных взаимоотношениях. Прекрасно знать о своих чувствах, но еще лучше думать о них. По Остин, изучение чувств – важный шаг к познанию мира, общества и окружающих. Когда приходит время выносить суждения и делать выбор, мы начинаем со своих переживаний.
Кэтрин переменила свое мнение об Изабелле. Сначала сработало внутреннее чутье, и лишь потом, осмыслив свои чувства и ощущения, Кэтрин осознала произошедшее рассудком. Несколько страниц спустя, когда Изабелла с помощью льстивого письма попыталась снова втереться в доверие, героиня уже была начеку: «Такое явное лицемерие не могло ввести в заблуждение даже Кэтрин. Непоследовательность, противоречивость и лживость письма бросились ей в глаза с первых же строк. Ей было стыдно за свою бывшую подругу и стыдно, что когда-то она могла ее любить», – говорит нам Остин.
Идеи Остин звучали в унисон с тем, чему пытался научить меня мой профессор все это время, хоть он и не сообщал об этом прямо. В его занятиях много чего не было, и это являлось самым необыкновенным. Привычные ритуалы, призванные превратить нас в профессиональных филологов, начисто отсутствовали. Никаких списков вторичных источников или рекомендуемой литературы, никаких теоретических основ и профессионального жаргона. И никаких письменных заданий, хотя они считались главным инструментом обучения: эссе на двадцать пять страниц со сносками и библиографией – первые шаги к будущим публикациям. Вместо них мы каждую неделю сдавали профессору страничку текста. Одну-единственную страничку и никаких цитат из произведений или критической литературы. Только ты, книга и парочка его фирменных, до жути простых вопросов.
Он пытался показать нам, что для изучения литературы не требуется знать секретный язык или владеть арсеналом средств выразительности. И нам не обязательно превращаться в новую, глубоко профессиональную личность. Что нам действительно нужно – так это начать читать как раньше, вернуть себе радость, которую приносит чтение, осознать ее, обострить, углубить. «Такие чувства достойны изучения, чтобы они могли узнавать сами себя».
Надо доверять своим оценкам, но проверять их.
Мы судим о романе в первую очередь по тем эмоциям, что он вызывает; книги подобны тренировочным площадкам, где оттачиваются наши ответы миру, воображаемый храм, где взращиваются ценности и испытываются решения. Романист работает с нашими чувствами, как с красками на палитре. Разве не мои чувства смешивала Остин в «Эмме», когда решила преподать мне урок о скуке и пренебрежении, или в «Гордости и предубеждении», когда рассуждала об уверенности в себе? Любопытство, замешательство, веселье, звон в голове, смятение в душе – с этим, говорил мой профессор, и надо работать, а еще – с любовью к чтению, которая привела меня в аспирантуру; с этого начинается мастерство.
Я даже не заметил, когда и как чтение превратилось в рутину. А «Нортенгерское аббатство» подсказало мне секрет, очевидный для профессора и Остин: как сложно иногда заметить то, что находится прямо перед тобой, даже если кажется, что смотришь во все глаза. Нельзя сказать, что до знакомства с Генри Кэтрин ничего не ведала о мире; нет, дела обстояли гораздо хуже – общение с миссис Аллен, Изабеллой и прочими подобными превратило ее в невежду.
Сцена у Бичен-Клифф демонстрирует неудачу Генри как учителя. До того как он начинает говорить, Кэтрин просто не разбирается в живописи («У нее не было ни малейших представлений о рисовании и художественном вкусе»), но после его лекции она вообще перестала что-либо понимать. Да, она видела передние планы, расстояния и дали, боковые фоны и перспективы, свет и тени – все, что необходимо знать о живописи с точки зрения одного-единственного художественного течения. Но сам город Бат она уже не видела и красоты открывшегося перед ней вида не замечала.
Но это только присказка, героине еще предстоит поездка в старинное, полуразрушенное аббатство в готическом стиле, принадлежащее семейству Тилни. Начитавшись книжек Изабеллы «Замок Вольфенбах», «Чародей Черного леса», «Страшные тайны», «Полуночный колокол», Кэтрин заранее представляла, что ее ждет и, кажется, не ошиблась. Ночь. За окном завывает ветер. Она одна в своей комнате, нервы ее напряжены до предела, обостренный слух готов уловить скрип половиц и дребезжание цепей, взгляд ищет тайную дверь в стене. И, конечно, девушка обнаруживает старый шкаф, который просто обязан хранить жуткие тайны:
Сердце Кэтрин учащенно билось, но она не теряла мужества. С выражением надежды на лице и горящим от любопытства взором она ухватилась за ручку ящика и потянула его к себе. Он оказался пустым. С меньшим волнением и большей поспешностью она выдвинула второй, третий, четвертый ящики. Все они были в равной мере пусты. Она осмотрела все ящики до последнего, но ни в одном из них не нашла ровно ничего… Оставалось необследованным только среднее отделение… Прошло, однако, некоторое время, прежде чем ей удалось открыть дверцу, – внутренний замок оказался столь же капризным, как и наружный. В конце концов и он отомкнулся. И здесь ее поиски оказались не такими тщетными, какими были до сих пор. Жадный взор Кэтрин тотчас же заметил задвинутый в глубину, очевидно для лучшей сохранности, бумажный сверток – и ее чувства в этот момент едва ли поддаются описанию. Лицо ее побледнело, сердце трепетало, колени дрожали. Неверной рукой она схватила драгоценную рукопись…
Темный дом, ночная гроза, таинственный свиток… ее мечты сбывались:
Рукопись, найденная при таких необычайных обстоятельствах… Какое этому могло быть дано объяснение? Что она содержала, к кому была обращена? Каким образом она так долго оставалась незамеченной? И как раз на долю Кэтрин выпало ее найти!..
Жадным взглядом впилась она в одну из страниц. То, что она увидела, ее ошеломило. Могло ли это быть на самом деле или чувства ее обманывали? Перед ней был всего лишь написанный современными корявыми буквами перечень белья!
Но это только начало. Одним уколом реальности не излечить воображение героини; она тут же выдумала подробную историю о зловещих секретах и жестоких преступлениях семейства Тилни. Подозрения Кэтрин оказались небеспочвенны, в шкафах Нортенгерского аббатства и в самом деле «прятались скелеты», правда, дело касалось не физического насилия, а моральной атмосферы в доме. Но Кэтрин ничего не замечала до последнего мгновения, а все потому, что упорно смотрела не в ту сторону. Ее фантазии оказались не просто глупы, но и опасны для нее самой. Подземные ходы и старые комоды не имели никакого отношения к происходящему, в поместье не было ничего таинственного. И от правды Кэтрин отделяла лишь мелочь – ее собственная выдумка.
Мы приходим в мир со свежим незамутненным взглядом, – учит Остин, – но к возрасту Кэтрин, когда настает пора поступать в колледж (не говоря уже об аспирантуре), наш взгляд на мир уже сформирован. Теперь я понял, зачем профессор задавал нам «раздражающие» (как он сам их называл) вопросы. Ему было недостаточно выслушивать нас или общаться на равных. К тому же такой подход к преподаванию стал очень популярным в последнее время: сейчас принято стимулировать учеников высказываться, признавать их идеи и раздавать комплименты, словно леденцы.
Но ведь студенты приходят в аудиторию не с пустыми головами, напротив, они полны убеждений (о «передних планах, расстояниях и далях»), и им не терпится найти им подтверждение во всех книгах сразу. В колледже хочется «символизма», «предзнаменований» и «пришествия Мессии». В аспирантуре наступает пора «отчужденности», дискуссий о «сексуальности» и «цикличности власти». В результате мы, подобно Кэтрин, замечаем не окружающую нас действительность, а теорию о том, какой ей следует быть. Генри заставляет Кэтрин смотреть и видеть; профессор поступает также со студентами; Остин призывает снять шоры всех своих читателей. Работа преподавателя, понял я, не в том, чтобы соглашаться со взглядами учеников, и не в том, чтобы насаждать свои. Его задача – сформировать у студентов привычку мыслить независимо.
Романы помогали нам (не без помощи профессора) и вводили в заблуждение Кэтрин. Но и профессор, и Джейн Остин знали, что важна не сама книга, а то, как ее читают. Учиться читать – все равно, что учиться жить. Смотреть на каждую страницу свежим взглядом – значит научиться видеть мир вокруг себя. Я нашел секрет молодости моего профессора. Он не почивал на лаврах уверенности, напротив, он постоянно сомневался и проверял свои суждения, и нас призывал к тому же. Мы испытывали его, а он нас. В самом сердце книги Остин скрывался парадокс. Она объясняла нам, как повзрослеть, но при этом остаться юными. Ее героини становились старше, но взрослые персонажи Остин обычно производят не самое лучшее впечатление. Вот, к примеру, как Кэтрин и миссис Аллен проводят утро в Бате:
И после завтрака она спокойно уселась за чтение, решив… не прислушиваться, как обычно, к рассуждениям и возгласам миссис Аллен, которая из-за недостатка интереса к чему-либо и от непривычки о чем-то думать, хоть не была говорливой, но и молчать толком не умела.
Миссис Аллен была предупреждением для увлеченной книгой Кэтрин; более того, она была предупреждением всем нам. Смотрите, не станьте такими, как она, – говорила нам Остин.
Остин любила юность именно потому, что на этом этапе нашей жизни мы еще открыты для новых впечатлений. Главной темой ее книг были внутренние перемены и люди, способные на них. В ее произведениях, проницательных и ироничных, полно молодежи со своими заботами и бьющей через край энергией; взрослые же часто низводятся до закулисных персонажей, как родители в семействе Пинатов[20] (или миссис Аллен в то утро в Бате). Из двадцати девяти героев «Гордости и предубеждении» лишь восемь старше двадцати пяти. В «Нортенгерском аббатстве», куда менее объемном романе, семь молодых людей и лишь двое взрослых, играющих относительно значимую роль. Взрослые казались Остин скучными, вернее, они слишком часто позволяли себе быть таковыми.
Как видно из ее писем к племянникам и племянницам, Остин прославляла юность не только в книгах, но и в жизни. Она приглашала в гости и с удовольствием общалась со своими юными родственниками, интересовалась их разговорами. Когда ее брат Фрэнк привез молодую жену в поместье старшего брата Эдварда, Остин сочинила стихи для тринадцатилетней дочки Эдварда Фанни, пытаясь представить происходящее с точки зрения девочки. Когда у Кэролайн, дочери другого брата – Джеймса, – в возрасте десяти лет появилась племянница, тетя Джейн прекрасно поняла ее чувства. Она писала:
Теперь ты стала Тетей, на тебе лежит ответственность; все твои действия станут предметом живейшего Интереса. Я всегда превозносила важность Теть, как могла, теперь и ты присоединишься ко мне.
В словах поддержки Остин не было и намека на высокомерие. Трое ее племянников, вдохновленные, без сомнения, успехом своей тети, пробовали себя в сочинительстве. Джейн всегда возвращала им черновики, полные как обоснованной критики, так и похвал. Даже рассказ девятилетней Кэролайн получил серьезный отзыв:
Я была бы рада так же быстро сочинять истории, как ты… И я благодарна тебе за образ Оливии, ты очень хорошо над ним поработала, но никчемный отец, причина ее ошибок и страданий, не должен уйти безнаказанным.
В последние годы жизни писательницы ее старшие племянницы Фанни и Анна стали ее ближайшими друзьями по переписке; и маленькая Кэролайн – тоже. Когда Остин скончалась, старшим девочкам исполнилось по двадцать четыре, а Кэролайн – всего двенадцать. Но письма, которые писала ей Джейн в последние месяцы своей жизни, обращены к разумному, вполне взрослому человеку; они также пронизаны искренним удовольствием от переписки.
Примерно в то же время Джейн отвечает Фанни, которая поделилась с тетей какими-то своими мыслями:
Ты неповторима, неотразима. Ты свет моей жизни. Эти письма, эти удивительные письма, которые ты присылаешь! В них заключена вся твоя необыкновенная душа! Ты образчик всего, что Неразумно и Чувствительно, общепринято и эксцентрично, Грустно и Отрадно, Вызывающе и Интересно.
То же самое она могла бы написать Кэтрин Морланд. Строки ее писем обеим племянницам одинаково полны радостью жизни. А вот послание девятилетней Кэсси, дочери брата Чарлза, составленное однажды в январе. Каждое слово в нем написано задом наперед; начинается оно так: «Яом яагород Иссэк, я юалеж ебет яьтсачс в мовон удог», а заканчивается: «Яовт яащябюл ятет, Нйежд Нитсо». Неудивительно, что ятет Нйежд была любимицей у своих племянников и племянниц.
Парадокс, скрытый в романе Остин, – вовсе не трагедия. Можно повзрослеть, – говорит она, – и остаться юным. И, вероятно, именно страх упустить возможности, страх превратиться в еще одного скучного господина с супругой и домом, мешал мне повзрослеть все эти годы. Но теперь я по-другому представлял свою будущую жизнь.
Поселившись рядом с профессором, я стал периодически встречаться с ним на улице. Он затеял долгосрочный проект по перекраске железной ограды вокруг дома (они с женой всегда уезжали на лето, и дело продвигалось медленно). Нередко, направляясь куда-либо со студенческим рюкзачком за плечами, я встречал его возле ограды с кистью в руке. Мы тут же принимались беседовать обо всем, что придет в голову. Однажды мы заговорили про «Нортенгерское аббатство», и он обратил мое внимание на сцену, над которой я прежде не задумывался.
– Это тот эпизод, когда Кэтрин сообщает Генри: «Я полюбила их [гиацинты] только недавно», – процитировал он. – Интересное наблюдение, не правда ли?
– Хм, наверное, – ответил я (это была моя обычная реплика).
– Остин говорит, что нам необходимо учиться любить, это не всегда выходит само собой. Но это очевидно не каждому.
– Пожалуй, нет, – возразил я. – Ведь любовь должна зарождаться сама, естественным образом, вроде любви с первого взгляда.
– Это, конечно, верно, – хмыкнул он. – Но, что самое невероятное, этому действительно можно научиться. Обрати внимание, что ответил ей Генри (в отличие от меня, профессор помнил сцену наизусть): «…кто знает, если у вас родилась любовь к цветам, не распространится ли она и на розы?.. Хорошо уже, что вы научились что-то любить».
Способность к обучению – вот что важно. Если Кэтрин научилась любить гиацинты в семнадцать лет, – объяснял мне профессор – вернее, с его помощью объясняла Остин, – то и я могу научиться впускать в свое сердце что-то новое на протяжении всей жизни. Благодаря профессору я научился любить саму Джейн Остин, несмотря на предубеждение, не менее твердое, чем у Кэтрин перед визитом в аббатство. Я начал понимать, как поразительно устроена человеческая жизнь: если ты действуешь правильно, она удивляет тебя снова и снова. Даже если для вас нет ничего скучнее гиацинтов (или разговора о гиацинтах, или авторов, которые пишут о гиацинтах), в один прекрасный день эти цветы могут стать для вас еще одним источником радости.
Кэтрин мерещилось то, чего в аббатстве на самом деле не было, но, по словам профессора, роман не призывал читателя усмирить воображение. Он лишь порицал обманчивые иллюзии, стереотипы, устоявшиеся мнения, будь то размышления о том, что все балы должны «очень нравиться», или о том, что все старые дома скрывают страшные секреты. Настоящее воображение, – говорил мой профессор, – это способность видеть новые горизонты и в жизни, и в искусстве. Миссис Аллен и прочие скучные герои Остин не были такими уж глупыми или невежественными, но у них начисто отсутствовала фантазия. Вокруг них никогда ничего не менялось, да они и представить не могли, что это возможно.
Но в рецепте вечной молодости от Остин заключен еще один парадокс. Заново перечитав сцену с гиацинтами, я вспомнил, что именно помогло Кэтрин полюбить эти цветы: «Этому научила меня ваша сестра – не понимаю сама каким образом. Миссис Аллен много лет старалась меня заставить их полюбить. Но у нее ничего не выходило – пока я их не увидела на Мильсом-стрит». Молодым людям надо учиться быть молодыми, важно разбудить их, открыть для них зримую красоту этого мира (прелесть гиацинтов) и их собственную нравственную красоту (способность любить цветы). Им нужно учиться у знающих людей, таких как Генри, мой профессор и Джейн Остин. Следует брать пример с других («…не понимаю сама, каким образом»), а не выслушивать бесконечные поучения, которые легко можно себе представить, зная мисс Аллен.
Потребность в учителе для современного человека – нечто неприемлемое, противное равноправию или демократии. Наше самомнение страдает от необходимости признать неполноценность собственной личности перед другим человеком. Какое это оскорбление для нашей романтической натуры, уверенной, что внутреннее «я» самобытно и самодостаточно. А если же учитель – мужчина, а ученица – женщина (как в «Нортенгерском аббатстве»), да учитель, к тому же, старше ученицы, взбунтуются поборники феминизма.
Однако Остин принимала и поддерживала такой порядок вещей. Для всех ее героинь находились учителя, да и в ее собственной жизни, как мы знаем, было много строгих наставников. Брат Джеймс (он был старше писательницы на десять лет), судя по записям его сына Джеймса-Эдварда, первого биографа Джейн, «многое сделал, чтобы направить ее в чтении и развить в ней вкус». Элиза, великосветская французская кузина, ворвавшаяся в жизнь семейства Остин, стала другом и кумиром Джейн. Анна Лефрой, жена священника из соседнего прихода, очаровательная, пылкая, сообразительная и остроумная, увлеченная книгами, сделалась «любимой наставнницей Джейн»[21]; по словам Клэр Томалин (биографа Остин), она была своего рода «“идеальная” мать»[22], к которой малышка Джейн обращалась за советом и поддержкой. И наконец, горячо любимая сестра Кассандра, которую Остин, по словам Джеймса-Эдварда, «даже будучи уже взрослой дамой», считала «мудрее и лучше нее самой».
Как-то, когда мы с профессором в очередной раз разговорились у ограды и разговор снова зашел об Остин, ее взгляды на наставников и взросление, он лукаво заметил: «Остин советует проводить время с выдающимися людьми. И я советую тебе то же самое: проводи время с выдающимися людьми».
Я пришел в аспирантуру с совершенно иными представлениями об образовании, позаимствованными у отца. Он был человеком, который получил три ученые степени, говорил на шести языках, самостоятельно изучил классическую музыку, европейское искусство и западную историю; человеком, для которого образование означало обретение комплекса знаний, набора фактов. А знания были нужны, чтобы получить образование, гордиться причастностью к «интеллигенции» (и ощущать превосходство над остальными). Замкнутый круг. Знание, культура, эго. Я вырос в семье, где считалось, что есть вещи, которые «надо знать». «Слышать что-то» о Брамсе и Джотто было само по себе добродетелью, даже если все знания сводились к тому, что один был композитором, а другой художником. По мнению моего отца, вполне было достаточно один раз увидеть произведение искусства, чтобы считать себя «ознакомленным» с ним.
Отец никогда не увлекался художественной литературой, расценивал ее выдумкой. Он предпочитал книги, наполненные реальной информацией. Но, после того как я поступил в аспирантуру, он начал проявлять к литературе интерес – чтобы иметь возможность обменяться со мной впечатлениями. Когда я слушал курс о Бене Джонсоне, он прочел биографию драматурга, но не заглянул ни в одну из его пьес. Когда мы проходили Шекспира, я предложил отцу открыть какое-либо из его произведений. «Я их уже читал, – ответил он. – Когда мне было лет двадцать». Можно не сомневаться: он купил полное собрание сочинений и изучил все от корки до корки, чтобы «поставить галочку» в своем списке необходимой информации.
Знание, культура, эго. Пусть мои представления о знакомстве с произведениями литературы или искусства были глубже отцовских, во времена аспирантуры я все-таки жил еще по его установкам. Это могли бы подтвердить все мои ученики-первокурсники, не говоря уже о девушке, в которую я был влюблен в то лето перед устными экзаменами, или подружке, с которой я встречался в период знакомства с «Эммой». Но теперь, благодаря другому «отцу», с которым я так боялся сблизиться, переезжая на новую квартиру, я начал мыслить иначе. Я получил новые представления об образовании, новый взгляд на то, что значит быть человеком культуры – и вообще, настоящим человеком. Не обязательно быть самоуверенным, чтобы быть сильным; незачем подавлять людей, чтобы добиться от них уважения. Настоящие мужчины не боятся признать, что им есть чему поучиться – даже у женщин.
Именно Остин смогла подвести меня к размышлениям о знании и образовании. Она терпеть не могла невежества; ценила людей, которые много знали и могли поддержать интересную беседу, тех, кто был в курсе того, что происходит в мире, и мог разумно об этом рассуждать. Остин высмеивала людей, делавших чрезмерный упор на образовании детей и самообразовании, если это сводилось к бездумному заучиванию фактов. Сестра Элизабет Беннет, Мэри, была не просто скучна – она была глупа. Отец дразнил ее:
– А ты, Мэри, что думаешь по этому поводу? Ты ведь у нас такая рассудительная девица, читаешь ученые книги и даже делаешь из них выписки.
Мэри хотела сказать что-нибудь глубокомысленное, но ничего не смогла придумать.
Что касается общепринятых рамок образования в те времена (особенно тех крох, что были доступны девушкам), то Остин высказала свое мнение об этом в маленькой поэме под названием «Об Университетах»:
Наш Кембридж и Оксфорд – хранители знаний, Вся мудрость сокрыта в стенах этих зданий. Ведь каждый вошедший немного отдал, Но кто видел тех, кто хоть каплю забрал?
В письме к Кассандре, навещавшей друзей в соседнем поместье, Джейн злословит:
Леди, что прочли все эти невероятно великолепные и глупые издания ин-кварто, которые всегда можно видеть в утренней гостиной, должно быть, знают о мире все. Я ненавижу формат ин-кварто. Книга капитана Пэйсли слишком хороша для Общества этих дам. Они не поймут мужчину, который доверил свои Мысли томику ин-октаво.
Формат ин-кварто использовался для так называемой «серьезной» литературы; издания, которые выходили в формате ин-октаво, были в два раза меньше по размеру и куда менее напыщенны. Что же касается книги капитана Пэйсли «Размышления о военной политике и военных учреждениях Британской империи», то Остин писала о ней: «книга, которую я отклонила поначалу, но после нашла великолепно написанной и в высшей степени занимательной». Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что писательнице была не чужда любовь к серьезным сочинениям жанра нон-фикшн, а также что Джейн судила, насколько книга интересна, по тому, как она была написана. Ее неприязнь к формату ин-кварто была вызвана не содержанием подобных изданий, а их тяжеловесностью во всех смыслах.
Естественно, превыше всего она ставила романы. Пусть это было немодно; романы считались слишком банальными, предназначенными только для женщин. Но Остин ревностно защищала их. Описывая Кассандре новую библиотеку, открывшуюся по соседству (библиотеки были частными, подписка подразумевала внесение абонентской платы), она отмечает:
Чтобы убедить нас подписаться, миссис Мартин сообщила, что в ее Коллекции не только Романы, но и другая Литература, и все такое прочее. Ей следовало приберечь свои речи для другого семейства, мы читаем Романы и не стыдимся этого, но, боюсь, благодаря им, она завоевала половину подписчиков.
В «Нортенгерском аббатстве», книге о чтении романов, Джон Торп выставляет себя жутким снобом, когда Кэтрин спрашивает, читал ли он «Удольфские тайны»: «“Удольфо”? Бог мой, увольте. Я не читаю романов. У меня достаточно других дел».
Остин уже научила нас презирать подобные ответы. Она была не против «Удольфских тайн» и схожей литературы, ей только категорически не нравились выводы, которые делали из этих книг некоторые читатели. И, чтобы ее поняли правильно, на первых же страницах «Нортенгерского аббатства», сразу после того, как говорится, что Кэтрин – поклонница романов, Джейн заявляет:
Да, да, роман, ибо я вовсе не собираюсь следовать неблагородному и неразумному обычаю, распространенному среди пишущих в этом жанре, – презрительно осуждать сочинения, ими же приумножаемые, – присоединяясь к злейшим врагам и хулителям этих сочинений и не разрешая их читать собственной героине, которая, случайно раскрыв роман, с неизменным отвращением перелистывает его бездарные страницы. …Существует чуть ли не всеобщее стремление преуменьшить способности и опорочить труд романиста, принизив творения, в пользу которых говорят только талант, остроумие и вкус. «Я не любитель романов!», «Я редко открываю романы!», «Не воображайте, что я часто читаю романы!», «Это слишком хорошо для романа!» – вот общая погудка. «Что вы читаете, мисс?» – «Ах, это всего лишь роман!» – отвечает молодая девица, откладывая книгу в сторону с подчеркнутым пренебрежением или мгновенно смутившись. Это всего лишь «Цецилия», или «Камилла», или «Белинда», – или, коротко говоря, всего лишь произведение, в котором выражены сильнейшие стороны человеческого ума, в котором проникновеннейшее знание человеческой природы, удачнейшая зарисовка ее образцов и живейшие проявления веселости и остроумия преподнесены миру наиболее отточенным языком.
Так-то вот. Что касается истории – общепризнанно «серьезной литературы», – то Кэтрин, которая ее ненавидела, отзывается о ней следующим образом: «Споры королей и пап, с войнами или чумой на каждой странице! Мужчины – ничтожества, о женщинах вообще почти не говорится – все это невыносимо». Великолепное описание, особенно вторая его часть. Эта фраза – «о женщинах вообще почти не говорится» – не случайна. Так как у женщин не было права голоса в общественных делах, о них и не упоминали – тем более об их частной жизни и переживаниях. Роман же, как литературный жанр, посвящен именно личной жизни женщин, и в дни Остин их писали преимущественно женщины; вот две причины, по которой люди так быстро откладывали романы в сторону.
История рассказывает о том, что произошло, но романы способны научить нас не менее важным вещам, поскольку говорят о том, что могло бы случиться. Первая фраза «Нортенгерского аббатства» – тонкая насмешка над готической литературой и демонстрация того, как можно обыграть условности. Однако тут скрыто кое-что еще. «Едва ли кто-нибудь, кто знал Кэтрин Морланд в детстве, мог подумать, что из нее вырастет героиня романа». Маленький первый шаг навстречу великому будущему. Кэтрин не стала героиней в общепринятом смысле, она не кружилась в вихре страстей, не пускалась в эпические странствия, о которых мы так любим читать. Ей была уготована лучшая участь.
Она открылась миру, сумев освободиться от самодовольства и цинизма, открылась новым возможностям – а для этого нужна истинная сила и храбрость – и тем самым превратила всю свою жизнь в одно большое приключение. Вот в чем, по Остин, заключается настоящий подвиг. Если вести себя правильно, жизнь будет удивлять вас ежедневно, а больше всего удивлять самого себя будете вы сами. Гусеница не в силах вообразить бабочку, ребенок не может представить себя взрослым, и никому из нас не дано познать любовь до того, как она случится. Нам не постичь глубин своей души, и мы не знаем границ собственных возможностей.
Проверять эти уроки на практике можно было бы всю оставшуюся жизнь, но в первую очередь я опробовал их на своих учениках. Перестав воспринимать семинар как процесс транспортировки знаний из моей головы в головы студентов, я вдруг понял, что могу подтолкнуть их к изучению скрытого потенциала, который дремлет внутри них, и тогда мы здорово удивим друг друга.
Я сменил прежний девиз – «хороший урок – тот, где я прошелся по всем пунктам темы» на новый – «кажется, я и сам чему-то научился на этом занятии». Я вовсе не гнался за знаниями, но каждое мое открытие подтверждало, что мне удалось научить студентов думать свободно, без оглядки на меня.
Неожиданно я стал получать удовольствие от преподавания. Я заходил в аудиторию, предвкушая новые впечатления, а покидал ее, пребывая в восторге. Время всегда пролетало слишком быстро, меня окружали единомышленники, на занятии я находился в центре увлекательного приключения, как если бы висел под куполом на трапеции и в нужный момент разжимал руки, отступая от плана, и просто летел вперед, уверенный, что кто-то на той стороне подхватит меня. Было страшновато, но очень здорово.
Студенты больше меня не раздражали, напротив, они стали мне симпатичны. Каждый из них оказался умным и интересным человеком, а всё потому, что я перестал подавлять их таланты ради зыбкого ощущения собственного превосходства. Я тоже начал им нравиться, они научились доверять мне и заходили просто поговорить, а иногда и пооткровенничать. А главное, с некоторыми из них у меня завязалась дружба, та особая дружба между учеником и учителем, которая и связывала меня с необыкновенным человеком, жившим по соседству.
Значит, я все-таки не ошибся, решив стать преподавателем. Просто понадобилось время, чтобы раскрыться и лучше понять свои возможности. Я начал учиться преподавать. Но, самое главное, – просидев за партой двадцать лет, я наконец-то понял, как нужно учиться.
Глава 4. «Мэнсфилд-парк»: что такое хорошо
Перебравшись в Бруклин, я понял, что в моей жизни начался новый этап. Впервые я сам снимал квартиру; мне было настолько психологически комфортно, что я чувствовал, словно я выпрямляюсь и становлюсь выше ростом. Я купил кровать, пару стульев на гаражной распродаже на моей улице, даже отважился приобрести цветы и научился ухаживать за ними. (На вопрос, не испортится ли грунт, если я не использую его сразу, продавец в цветочном магазине ответил: «Хотите знать, не протухнет ли эта грязь? Ну, вы прямо как маленький, ей-богу».) Я перестал питаться по ночам мини-пиццей. Зато купил поваренную книгу, стал приглашать гостей и угощать их жареной картошкой с мятой или цыпленком, запеченным с чесноком, лимоном и розмарином. Спустя еще пару месяцев я завел кошку (да, я наконец-то взял на себя серьезную ответственность) – маленькое серое существо, нуждающееся в заботе. Она сворачивалась клубком на столе возле меня, пока я работал.
Переехав, я стал реже встречаться с однокурсниками из Колумбийского университета. У меня появился новый круг общения благодаря одному приятелю, завязавшему отношения с девушкой, которая выросла в Верхнем Ист-Сайде и училась в престижной частной школе на Манхэттене. Ее друзья, получив образование в колледже, вернулись в город, пробовали заниматься то одним, то другим, вели светский образ жизни; с такими людьми я и проводил время. Разве я мог иначе? То были сливки общества, мир Эдит Уортон и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда на современный лад, рафинированные молодые люди – пафосные, гламурные и экстравагантные. Этот мир манил и соблазнял меня, я стремился к нему, как мотылек на свет. Я и мечтать не мог, что когда-нибудь попаду в подобное общество, и благодарил судьбу за возможность видеть его собственными глазами.
Среди моих приятелей была наследница хозяина огромного торгового центра, она держала маленькое элегантное кафе в Ист-Виллидж и встречалась с парнем, который поговаривал о съемках в фильме. Еще был преемник торговой империи, взявший в жены девушку из художественной студии. Была и прелестная голубоглазая дочь президента одного из университетов Лиги плюща. А у одной девицы денег было больше, чем у всех остальных вместе взятых; на роль бойфренда она выбрала высокого голландца с модельной внешностью. Каждый раз, когда эта богачка предлагала посидеть в «уютном ресторанчике за углом», где десерты стоили от двенадцати долларов, начинали брюзжать даже наследники целых состояний.
Я ходил на их светские мероприятия, после которых тусовался со всей компанией в фешенебельных мансардах в центре города. Я бывал на изысканных бранчах и роскошных ужинах при свечах в таунхаусах района Коббл-Хилл. Как-то раз меня привели в одну из высоток Ист-Сайда, где прошло детство девушки моего друга; когда открылись двери лифта, я увидел на этаже всего две двери: одна вела в ее апартаменты, другая – в апартаменты соседей. Я часто проводил выходные на Лонг-Айленде в ее семейном загородном доме с четырьмя спальнями, бассейном и газоном – почти тридцать квадратных метров зеленой травы на берегу пролива.
Вот он, – думал я, – тот сказочный, пленительный мир Нью-Йорка, который был так близок и так недосягаем. Мальчику, чье детство прошло в пригороде, Нью-Йорк казался Страной Оз, сияющим миражом в пустыне, и десять лет, прожитых в этом мегаполисе, не изменили моего отношения к нему. Я гулял по улицам, просиживал в барах бесчисленные вечера моей студенческой юности, пробовал пирожки с черной фасолью в Китайском квартале, блины на Брайтон-Бич, суп из рубца (под названием «фляки») в польском ресторане. Я ходил в центр современного искусства The Kitchen, в клуб The Knitting Factory, в студию перфоманса P. S. 122, но всегда чувствовал себя чужаком. Настоящий Нью-Йорк (я представлял его волшебным королевством, где живут красивые придворные в шикарных одеждах, ведущие умные беседы в залах с приглушенным светом) жил своей жизнью; складывалось ощущение такое, словно я попал на церемонию вручения Оскара, вот только меня не пускают за бархатные канаты вдоль красной ковровой дорожки.
И вдруг мне словно выдали пропуск – ничего, что с ограниченным доступом. Мы подружились-таки с девушкой моего приятеля (она, кстати, оказалась чрезвычайно обаятельной особой, отличной рассказчицей и проницательной собеседницей), однако все прочие игнорировали меня. Я не виню их за это. Одевался я безвкусно, вечно путался под ногами, не умел себя вести на вечеринках и заказывать напитки. Поэтому я держался в стороне от центра внимания, глазел на женщин и отрабатывал свое пребывание в компании остроумными замечаниями. Мне очень хотелось прижиться среди бомонда, хотя в моем случае оставалось только уповать на чудо. Я представлял, как они разглядят во мне интеллектуала и высоко оценят мою способность сдобрить беседу щепоткой литературной цедры. Ребята зауважают меня, девчонки обратят внимание. И, в конце концов, одна из них – абсолютно не важно, кто именно, – сочтет, что я достаточно интересен для того, чтобы стать ее парнем.
После таких бурных вечеров и выходных тяжело было снова приниматься за диссертацию и корпеть над главой, посвященной Джейн Остин. Научная работа – невероятно долгое и утомительное занятие; я только начал ее, а уже постоянно спрашивал себя, чем все это закончится и устроюсь ли я на достойную должность, когда стану кандидатом наук. Иногда я даже злился на писательницу, особенно при мысли о романе «Мэнсфилд-парк». Я прочитал его дважды, но не нашел ничего, что бы мне в нем понравилось, и совсем не мог понять, как Остин вообще ухитрилась написать эту книгу. Произведение отрицало все, во что верила писательница, что так восхищало меня в «Эмме», «Гордости и предубеждении» и «Нортенгерском аббатстве»: ум, любознательность и жизнерадостность. Тон повествования был мрачным, даже печальным, мироощущение героев казалось сложным для понимания и старомодным.
Хуже всего то, что я был вынужден проводить время в компании крайне неинтересной героини. Фанни Прайс – бедная родственница, которую в возрасте десяти лет удочерила семья ее богатого дяди. Ошеломленная великолепной обстановкой нового дома в поместье Мэнсфилд-парк, подавленная самоуверенностью и красотой четырех кузенов и кузин, малышка выросла безропотной и пугливой девицей, слабой телом и душой. Она не обладала ни смелостью Эммы, ни остроумием Элизабет, ни искренним жизнелюбием Кэтрин Морланд и, кажется, просто не умела быть счастливой и радостной.
Покорность Фанни можно объяснить и оправдать, но временами мне чудилась в ней скрытая агрессия. Когда братья и сестры Фанни, желая развлечься с друзьями, решили поставить домашний спектакль (кстати, обычное дело для семьи Остин; когда Джейн росла, в их доме часто устраивали представления), девушка наотрез отказалась участвовать в такой, якобы непотребной, затее. Однако просто держаться в стороне ей было недостаточно. Похоже, ее брала досада при одной мысли о том, что остальные радуются:
Вокруг нее каждый был весел и деятелен, упоен собственной значительностью и собственными успехами, у каждого был свой интерес, своя роль, свой костюм, своя любимая сцена, свои друзья и союзники, все были заняты, совещались, сравнивали или находили развлеченье в шутливых причудах. Она одна была печальна и никому не нужна; ни в чем не участвовала, могла уйти или остаться, могла окунуться в их шум и суету или удалиться… и никто ее не замечал и ни разу ее не хватился[23].
Меня так и подмывало воскликнуть: «Невелика потеря!» Фанни не просто жалела себя. Это была ее модель поведения, постоянная маска великомученичества, мол, не тревожьтесь обо мне, я посижу одна в темном углу. Однако, когда Фанни тихонько бродила, наблюдая за репетициями, ей «казалось, что она извлекает из этой затеи ничуть не меньше невинного удовольствия, чем любой из участников». «Невинное удовольствие» – верный признак ее лицемерия, которым она отгораживалась ото всех. Сначала Фанни получала наслаждение, наблюдая за репетициями пьесы, а затем – от порицания ее.
В свои восемнадцать лет Фанни по доброй воле оставалась той маленькой девочкой, которая когда-то впервые переступила порог Мэнсфилд-парка. Даже в «Восточной комнате» – ее собственных тесных владениях под крышей, – служившей когда-то классной комнатой в доме Бертрамов, до сих пор стояла детская мебель. Словосочетание «невинное удовольствие» подобрано верно. Пьеса (романтическая история под названием «Обеты любви») неприятна героине, потому что репетиции становятся чудесным предлогом для флирта между актерами. Сталкиваясь со взрослым миром чувственности, правильная, приличная, пристойная, порядочная и педантичная Фанни просто не знала, как себя вести. В довершение всего наша героиня не любила читать романы; она считала их слишком уж пикантными и развязными.
Но приходится признать, что прочие обитатели Мэнсфилд-парка оказались ничуть не лучше, а даже хуже, чем Фанни, у которой, помимо недостатков, имелись все же и достоинства. Да, она жалела себя, но была готова к самопожертвованию. Была пассивна, но терпелива, бескорыстна и уступчива. Поведение остальных домочадцев можно назвать в той или иной степени отвратительным. Дядя Фанни, сэр Томас Бертрам, – сухой и властный глава семейства, чье присутствие угнетало всех в Мэнсфилде. (Только его отъезд по делам позволил молодежи устроить домашний спектакль.) Супруга сэра Томаса, леди Бертрам, вялая и бесполезная особа: «нарядно одетая, она целыми днями сидела на диване и занималась каким-нибудь бесконечным рукодельем… думая при этом все больше о своем мопсе, а не о детях»; она была настолько мила, умна и предприимчива, насколько может себе это позволить дорогая диванная подушка.
Мария и Джулия – двуличные и капризные дочери супругов Бертрам. («Тщеславие у них было такого превосходного свойства, что казалось, они полностью его лишены», – описывала их Остин.) Старший сын Том – безответственный повеса. И, конечно, самый гадкий персонаж во всем творчестве Остин – сестра леди Бертрам, язвительная, жадная, подлая миссис Норрис. Женщина, которая после смерти мужа «утешилась мыслью, что прекрасно может обойтись без него», и которая, словно злобная мачеха, изводила Фанни: «И помни, где б ты ни оказалась, ты должна быть тише воды, ниже травы». Одним словом, вся семья Бертрамов обращалась с приемной девочкой ничуть не лучше, чем с прислугой, – если вообще замечала ее существование.
Впрочем, нет, не вся семья. Младший сын Эдмунд, добрый и внимательный юноша, был оазисом порядочности в этой пустыне эгоизма. Но и к нему моя душа не лежала; он был такой же невыносимо правильный и благопристойный, как Фанни. Собственно говоря, именно он, любимый кузен и обожаемый старший друг и наставник, воспитал в девушке эти качества. К тому же Эдмунд и сам был склонен к лицемерию. Поначалу он тоже возражал против пьесы, однако быстро передумал, когда понял, что репетиции дают ему возможность ухаживать за той, в которую он, кажется, влюбился. Ничего дурного юноша, конечно же, не замышлял. Просто в постановке не хватало одного актера, и Эдмунду пришлось согласиться выйти на сцену, чтобы тем самым помешать вопиющему намерению брата – пригласить на эту роль едва знакомого джентльмена. И так уж получилось, что Эдмунду выпало играть в паре с девушкой, к которой он испытывал нечто большее, чем просто интерес.
Дело в том, что Остин ввела в роман еще двух молодых людей. Появление Генри и Мэри Крофордов, гостивших в Мэнсфилде у сводной сестры – жены тамошнего священника, – привнесло в ход событий то, чего, по моему мнению, так не хватало; их приезд подобен порыву свежего ветра в затхлом царстве Мэнсфилд-парка. Энергичный и обходительный Генри обладал хорошим вкусом и даром рассказчика, знал о жизни куда больше Тома, стоял на своем куда тверже Эдмунда, и с ним было куда интереснее, чем с любым из братьев. Что до его «необыкновенно хорошенькой» сестры, то она (резвая и пышущая здоровьем, кокетливая, остроумная и независимая), как никто другой, напоминала мне Элизабет Беннет. «Я очень крепкая», – сказала Мэри, спрыгивая с лошади. «Меня никогда ничто не утомляет, кроме того, что мне не по вкусу». Она даже позволяет себе весьма дерзкие высказывания. Так, она надменно заявляет: «Жизнь в доме дяди, конечно же, свела меня с кругом адмиралов» (Генри и Мэри Крофордов вырастил и воспитал дядя-адмирал), а затем выдает пикантный каламбур[24] на тему сексуальной ориентации офицеров британского военно-морского флота.
Крофорды были богаты и независимы; деньги давали им внутреннюю свободу, невиданную прежде в тягостной атмосфере Мэнсфилд-парка. Их приезд оживил как семейство Бертрамов, так и сам роман. Пешие и конные прогулки, поездка в соседнее имение, спектакль: внезапно все завертелось, закружилось. Фанни, естественно, была взволнована и возмущена. Эти люди, их представления о том, как нужно проводить время (сама Фанни предпочитала спокойно сидеть), были ей не по душе. А когда Мэри и Эдмунд увлеклись друг другом – его спокойный уравновешенный характер притягивал мисс Крофорд как магнит, – нашу героиню охватила жгучая ревность.
Но если Фанни питала тайную неприязнь к Мэри, то последняя, напротив, вела себя по-дружески и тактично и, кажется, делала это вполне искренне. Миссис Норрис при всех отчитывала Фанни за то, что та отказалась играть в пьесе.
– Я и не собираюсь ее принуждать, – резко отвечала миссис Норрис, – но… я буду почитать ее весьма упрямой и неблагодарной девицей… весьма неблагодарной, принимая во вниманье, кто она и что. Эдмунд так был возмущен, что не мог произнести ни слова, но мисс Крофорд, удивленно поглядев на миссис Норрис, а потом на Фанни, у которой уже навертывались слезы на глаза, тотчас сказала не без язвительности:
– Не нравится мне мое место, для меня тут слишком жарко. – И отодвинула стул к другому концу стола, поближе к Фанни, а усевшись, ласково, тихонько заговорила:
– Не огорчайтесь, милая мисс Прайс… это досадливый вечер… все досадуют и сердятся… но Бог с ними.
Генри, неисправимый донжуан, нравился мне гораздо меньше, чем Мэри; во время репетиций спектакля он заигрывал с Марией Бертрам, прекрасно зная о ее помолвке с богатым, но не слишком сообразительным молодым джентльменом, а двигало мистером Крофордом вздорное желание потешить свое самолюбие. Следующей в его списке стояла Фанни; он хвастался сестре планами: «…мне нужно затронуть ее сердце», но вскоре его настойчивость сыграла с ним злую шутку. Генри очень удивился, когда понял, что пленен доброй и кроткой натурой Фанни – в свое время Мэри также была удивлена своим чувством к Эдмунду. Стоило мистеру Крофорду начать ухаживать за своей избранницей всерьез, и в нем проснулись такие чудесные качества, как терпение, такт и чуткость, он показал, что у него развитой ум и пылкое сердце.
Мистер Дарси и Элизабет дополняли друг друга, указывали на недостатки и исправляли их. Поэтому, читая «Мэнсфилд-парк», я по аналогии выискивал признаки такого же союза между Бертрамами и Крофордами: Эдмунда с Мэри и Фанни с Генри. Благопристойность уравновесит смелость, постоянство – живость. Братья и сестры повзрослеют, заведут свои семьи, и будут счастливы.
И тут произошло событие, которое заставило меня изменить мнение не только насчет «Мэнсфилд-парка», но и самого себя. Примерно через год после того, как я стал вхож в тусовку золотой молодежи, мой друг женился на своей девушке. Свадьба больше смахивала на коронацию: ужин накануне заветного дня в изысканном ресторане с видом на Ист-Ривер, пышная церемония венчания в грандиозной епископальной церкви в Ист-Сайде и роскошный, безупречно организованный прием в частном клубе неподалеку. Ради такого случая я выудил из недр своего шкафа лучшую пару ботинок и купил новый костюм (старый висел еще с бар-мицвы[25]). Собрались сотни гостей, большинство из них – бизнесмены, сделавшие головокружительные карьеры, и полезные знакомые, приглашенные родителями невесты. Пока я и другие холостые парни наблюдали за танцами (наследница огромного торгового центра была одета в маленькое черное платье с изящной меховой оторочкой по вырезу, от которого мы не могли оторвать глаз), один из них сказал про моего друга:
– Он своего добился.
– О чем ты? – не понял я, отыскивая глазами в толпе новобрачного, который, широко улыбаясь, пожимал руки друзьям своего тестя – крутым, уверенным в себе мужчинам, сильным мира сего.
– Он стал «своим», – ответили мне. – Он годами шел к этой цели.
Мой друг действительно не принадлежал к привилегированному кругу. Он вырос на юге; его отец, правда, имел высшее образование, но мать работала стюардессой, а дед был патрульным полицейским. Мой товарищ постепенно поднимался вверх по академической лестнице: получил высшее образование, затем защитил диссертацию; для путешествий выбирал исключительно северо-восточное направление и вскоре перебрался в Нью-Йорк, где стал делать карьеру, получая одно повышение за другим. Но я и представить не мог, что он настолько расчетлив.
Чисто теоретически я предполагал, что иногда люди женятся из-за денег. Из романа «Великий Гэтсби» я знал, каково это приехать в Нью-Йорк, чтобы похоронить свое прошлое и попытаться войти в высшее общество всеми правдами и неправдами. Но какое это может иметь отношение к моим друзьям? Мы же встречаемся только с теми людьми, которые нам симпатичны! Мы же обязательно женимся по любви! В голове всплыло слово «карьерист», и, кажется, я впервые осознал его значение. А потом я вспомнил один эпизод, который произошел вскоре после того, как друг познакомил меня со своей девушкой. Они хотели свести меня с ее школьной подругой, однако у них были сомнения на этот счет.
– Она привереда, – сказали мне.
– Как это? – спросил я (фильм «Когда Гарри встретил Салли» я еще не смотрел).
– Значит, хуже не бывает, – ответил друг, пытаясь как можно точнее передать ужасный смысл этого определения. – Хуже, чем некрасивая. И даже хуже, чем бедная.
Забавно, ведь тогда я не придал этому значения, или придал, но мысленно отмахнулся. Эти двое любили поразвлечься, с ними никогда не было скучно. Я не желал задумываться над истинным смыслом слов моего друга или, скорее всего, просто не поверил ему. Но теперь, на свадьбе, когда тот самый мир, в который я неожиданно попал, предстал предо мной во всей красе, явив свои законы, я невольно задумался о его подноготной (за маской изысканности скрывалась алчность, за роскошью стояла жестокость) и особенно о том, нужен ли он мне. Если мой друг – карьерист, то кто же, черт подери, я сам? Я не строил таких конкретных планов, как он, и даже не думал о том, к чему все это приведет, но разве моя тяга к блестящему кругу и потуги быть принятым в него не говорили о моих амбициях? В кого я превращался? Кем я уже стал?
Мне бы очень хотелось сказать, что в тот же вечер я потерял всякий интерес к этой публике, но все оказалось намного сложнее. Молодожены оставались моими друзьями, и, потом, устоять перед таким искушением совсем нелегко. Но я стал замечать то, что прежде ускользало от моего внимания; к примеру, как эти люди обращались с окружающими, а также до чего они довели самих себя. И я вдруг понял (как только вновь сел за диссертацию), что кто-то уже рассказывал мне о привилегированном обществе еще до моего знакомства с ним, вот только я плохо слушал. Догадываетесь, в каком из романов Остин я очутился? Чем было это царство роскоши и жестокости, гламура и жадности, равнодушия и развлечений, если не современной версией «Мэнсфилд-парка»?
Открытие потрясло меня до глубины души. Я многое узнал о себе, читая Остин, но разве можно было предположить, что наши миры в чем-то похожи? Я живу в демократическом обществе, а во времена Остин страной правила знать. Сегодня любой человек способен добиться высокого положения благодаря таланту и упорному труду, в ее век преодолеть социальный барьер было практически невозможно. Сейчас люди женятся по любви (по крайней мере, я так предполагал); а тогда брак по расчету (ради денег или статуса) принимался как должное. Но невероятное сходство наших эпох стало вдруг очевидным, и примером тому послужила ситуация, свидетелем которой я оказался. За столь, казалось бы, различными общественными установками скрывались все те же моральные ценности, намерения и амбиции. Хотел я в это верить или нет, но в моей стране, оказывается, существовала аристократия, в чем я и убедился. После свадьбы друга я продолжил свое исследование бомонда – только теперь более осознанно и осторожно, – но процесс переосмысления уже пошел. Благодаря «Мэнсфилд-парку» я понял, что со мной происходит; благодаря происходящему со мной я понял, о чем идет речь в «Мэнсфилд-парке».
Кем же я был в кругу богатых манхэттенцев? Аутсайдером, тихоней, серой мышкой, на которую никто не обращал внимания. Словом, я был Фанни Прайс. Какой же я идиот, раз решил, что смогу стать «своим» в этой тусовке, и как же я жалок, если вообразил, что добуду себе модную подружку своей ученостью (размечтался)! Наконец-то я понял, почему в романе так много внимания и сил уделялось пьесе, которую молодежь ставила исключительно ради развлечения. Театральная канитель доказывала очевидный факт: Фанни была и могла быть лишь сторонним наблюдателем в прямом и переносном смысле. Она сознательно, по собственному выбору, предпочла не участвовать в спектакле и остаться лишь зрителем; однако за реальной жизненной драмой под названием «деньги и статус», состоявшей из балов, увеселений, флирта и сводничества, она (да и я тоже) была вынуждена следить со стороны независимо от своего желания или нежелания. Мы не знали своих ролей; да если бы даже и вызубрили весь текст назубок, никто все равно не пустил бы нас на сцену. Название пьесы, «Обеты любви», подобрано отлично. Фанни не имела наследства, поэтому не питала надежд, что когда-нибудь произнесет брачный обет (интерес к ней со стороны Генри был маленьким чудом, сотворенным Остин).
Мне также стало ясно, как важна роль самого Мэнсфилда в книге. Это не единственный роман Остин, которому дано название какого-либо имения или поместья, но никакое другое имение не заполонило роман так, как Мэнсфилд-парк. Только в этой книге место действия четко ограничено размерами усадьбы. Роман начинается и заканчивается упоминанием Мэнсфилд-парка. Мы узнаем о заведенных в нем порядках, знакомимся со слугами, нам рассказывают о том, на какие средства содержат поместье. Мы можем представить его обстановку в мельчайших деталях, коих не встречали в остальных произведениях Остин: гостиная, где обычно собиралась вся семья; бильярдная, которая, по мнению молодежи, подходила для театральной постановки; Восточная комната, где укрывалась и зализывала раны Фанни; сады, конюшня, дом священника, парк. Неудивительно, что Остин дала роману название имения. Мэнсфилд-парк был самым важным персонажем этого произведения за исключением разве что главной героини.
Я не сомневался в правильности своих выводов – стоило только вспомнить себя, семнадцатилетнего мальчишку из пригорода. Мэнсфилд-парк был для Фанни тем же, чем для меня Нью-Йорк. Он поражал воображение, изумлял, пугал, таил в себе невероятные возможности. Это был лабиринт непостижимых моральных ценностей с закоулками глубокого тайного смысла и душевных привязанностей. Мы не знаем почти ничего о Лонгборне, где выросла Элизабет Беннет, или о Хартфилде, где жила Эмма, потому что родной дом не представлял для девушек тайны; привычный и обычный, он не мог быть предметом особого интереса. Точно так же, если бы рассказ о Мэнсфилд-парке велся от лица Эдмунда, то дом отошел бы на задний план.
Однако мы видим поместье широко распахнутыми глазами провинциалки Фанни. Для нее в Мэнсфилд-парке все важно, все имеет значение. Кстати, книга, помимо всего прочего, рассказывает и о знакомстве Фанни с новым домом. Мэнсфилд становится одним из основных персонажей романа по той же причине, по какой Нью-Йорк не раз становился главным героем многих фильмов и телесериалов, таких как «Таксист», «Энни Холл», «Сайнфелд», «Секс в большом городе». Мэнсфилд или Нью-Йорк – это не просто географические точки на карте; это особая атмосфера, настроение, культура. Каждый из них обладает собственным климатом, диктует свои условия.
Вероятно, поэтому Бертрамы и Крофорды моего поколения – дети Манхэттена – имели надо мной такую власть. Их манера держаться несла в себе дух волшебного места, где они обитали. Крофорды, те вообще олицетворяли нечто большее, чем Мэнсфилд, – Лондон, в котором они выросли; город, окруженный тем же ореолом, что сейчас Нью-Йорк. На их фоне и Бертрамы казались провинциалами. Крофорды принесли с собой блеск и дыхание столицы. Они казались такими искушенными, сведущими во всем, уверенными в себе.
В какой-то момент молодые люди принимаются обсуждать весьма модное для того времени занятие – «переустройство» или, говоря современным языком, «реконструкцию» поместья. Мэри со свойственной городской жительнице небрежностью заявляет:
– Будь у меня собственная усадьба, я была бы премного благодарна любому мистеру Рептону [известному ландшафтному дизайнеру], лишь бы он взялся за это и с помощью моих денег навел там всю красоту, на какую способен; и покуда он все не закончит, я ни разу ни на что и не гляну.
Красота за деньги: мисс Крофорд не просто кичится своим состоянием, она демонстрирует свое безмятежное столичное отношение к окружающему ее миру – лондонцы не опускаются до мелочей, достаточно им щелкнуть пальцами, и весь мир сам вскакивает и начинает суетиться.
Можно ли считать Мэри заносчивой выскочкой? В какой-то степени да. Впрочем, это было ее обычное поведение. Она очаровывала всех вокруг. Однако я только сейчас осознал, что это значит. Все-таки «очаровывать» это глагол, действие, а не просто черта или качество. Очарование Мэри не сравнить с очарованием Элизабет Беннет и Кэтрин Морланд; у них это было естественным продолжением их индивидуальности. Мэри же сознательно задавалась целью расположить к себе людей. Она исполняла роль, играла, действовала. (Я еще раз убедился в том, насколько важна тема пьесы для романа, насколько гениальна задумка сделать ее ключевым элементом сюжета, ведь почти все герои книги постоянно притворяются.) Но поведение мисс Крофорд в определенной степени противоречит здравому смыслу. Зачем той, которая затмевает всех своим блеском, доказывать свое великолепие каким-то жалким провинциалам? Очень просто: таким, как она, жизненно необходимо постоянное подтверждение того, что вы знаете об этом великолепии. Какими бы уверенными в себе ни казались Мэри и ей подобные, они на самом деле не до конца убеждены в собственном превосходстве над окружающими.
Мэри Крофорд была до жути похожа на жену моего друга. Тем вечером, когда мы познакомились, она совершенно очаровала меня своими рассказами, находчивостью, дерзостью и смешливостью, но лишь теперь, вспоминая нашу встречу, я понял, насколько все было продуманно и выверенно. Разумеется, я поддался ее обаянию – так и предполагалось. Ну конечно! Жена моего друга поступила со мной так же, как Крофорды поступили с обитателями Мэнсфилда – и с читателями.
Наконец-то я начал понимать изящную сюжетную паутину, сплетенную Остин в «Мэнсфилд-парке». Пока Мэри соблазняла Эдмунда, а Генри – Фанни, писательница следила за тем, чтобы их шарм подействовал и на читателей. Обаяние Крофордов – не случайный просчет автора, не сумевшего справиться с персонажами; наоборот, именно так все и было задумано. Остин снова перехитрила меня, совсем как в «Эмме» и в «Гордости и предубеждении». Она сама спланировала мою реакцию на тех или иных героев, чтобы потом показать мне, на что я купился. Она хотела, чтобы я начал симпатизировать Крофордам, а затем предложила подумать, что меня к этому подтолкнуло. Но на сей раз я понял ее мысль далеко не сразу.
Можно, конечно, предположить, что жена моего приятеля прилагала усилия, дабы понравиться мне, поскольку я был его давним другом. Но, по большому счету, никакие причины или поводы для того, чтобы очаровывать меня, ей не требовались. К тому же (как восхитительно вымысел перекликается с реальностью!) она сама была когда-то актрисой – пробовала играть в студенческом театре, но потом бросила, заявив: «Лучшее, на что я гожусь, – это роль в рекламе шампуня». Вместо этого она начала изучать право: «Как юристу мне достанутся гораздо более выигрышные роли, чем как актрисе». Она гордилась своим умением «обрабатывать» знакомых и хвасталась, что способна оказывать влияние на присяжных, внушая им то, что нужно ей.
Подобно Крофордам, она управляла чувствами других людей ради собственного удовольствия, ради возможности увериться в силе своих чар. Мэри тоже с легкостью просчитывала поведение и реакцию окружающих. Эдмунд как-то признался Фанни:
– Я не знаю никого, кто бы так хорошо разбирался в людях… Она, без сомнения, понимает тебя… а что до некоторых других, я могу представить, по иным ее живым намекам, по нечаянно сорвавшимся с языка словам, что если бы не свойственный ей такт, она могла бы с такою же точностью отозваться о многих.
Что касается жены моего друга (да и его самого, ведь он тоже мог гордиться своей проницательностью), то чувство такта никак не мешало им высказывать мне свои соображения насчет наших общих знакомых, начиная с ярлыка «она привереда» и заканчивая выводом, что любительница двенадцатидолларовых десертов приобрела себе роскошного бойфренда, «словно купила красивенькую книжку». Лишь тогда мне вдруг пришло в голову, что точно так же эти двое обсуждали с другими и меня, и точно так же манипулировали мною.
В «Мэнсфилд-парке» дела обстояли схожим образом. Когда Мэри успокаивала Фанни после очередных ядовитых нападок миссис Норрис, ею вполне могла двигать искренняя отзывчивость (как остроумно заметила Остин, «истинно добрые чувства, которые почти одни ею сейчас и руководили»), но при этом мисс Крофорд манипулировала сразу двумя людьми. Она точно знала, что путь к сердцу Эдмунда лежит через Фанни, а к сердцу Фанни – через ее брата Уильяма, моряка, единственного члена родной семьи, к которому она была сильно привязана. И действительно, стоило Мэри начать расспрашивать о нем и выражать желание познакомиться с ним, Фанни «не могла устоять перед столь понятной лестью и невольно слушала и отвечала куда оживленней, чем хотела бы».
Миссия выполнена. Но Мэри не могла без манипулирования. Она манипулировала сэром Томасом и леди Бертрам, она даже манипулировала – без всякой на то необходимости – миссис Норрис. Однако настоящий мастер-класс по манипулированию людьми преподал нам Генри, когда вздумал ухаживать за главной героиней. Вот он делится с сестрой планом завоевания Фанни:
– Не знаю, как вести себя с мисс Фанни… Она серьезная? Чудачка? Жеманница?.. Еще никогда я не проводил в обществе девушки столько времени, пытаясь ее развлечь, и так мало в том преуспел!.. Я должен попытаться взять над нею верх. Всем своим видом она мне говорит: «Вы мне не понравитесь. Ни за что не понравитесь», а я говорю, что понравлюсь.
Когда же Мэри попыталась уговорить его не разбивать сердце столь ранимого создания, как Фанни Прайс, брат отвечает:
– Нет, я не причиню ей зла, этой милой малышке! Мне только и надо, чтоб она смотрела на меня добрыми глазами, улыбалась мне и заливалась краской, берегла для меня место подле себя, где бы мы ни оказались, и мигом оживлялась, когда бы я на него садился рядом и заводил с нею разговор, пусть думает, как думаю я, пусть ее занимает все, что меня касается, и что доставляет мне удовольствие, пусть постарается задержать меня в Мэнсфилде, а когда я уеду, пусть чувствует себя навеки несчастливой.
Эта речь представляет собой шедевр искусства манипуляции. Зачарованно следуя за оратором, мы и сами не замечаем, каким образом приходим к заключению, которое вовсе не собирались делать.
На самом ли деле Генри влюбился в Фанни? Сначала я не сомневался, что он и сам в это верит; но позже возник вопрос: что могла значить Фанни для такого человека, как он, и что значила дружба с Фанни для его сестры? Мэри говорила: «…с помощью моих денег навел там… красоту». Крофорды жили в мире вещей, приобретенных для собственного удовольствия; думаю, и к людям они относились так же, как к вещам. В этом смысле богатые манхэттенские детки недалеко ушли от Крофордов. Слова моих друзей – «словно купила красивенькую книжку» – не отличались добротой, зато были весьма метки.
Намерения Генри кажутся еще более гнусными при мысли о том, какого рода сокровище он хотел заполучить. Фанни была хорошенькой девушкой, но что действительно зацепило мистера Крофорда, так это ее встреча с братом Уильямом, произошедшая спустя пару месяцев после домашнего спектакля. Тем самым братом Уильямом, о котором ее расспрашивала Мэри. «…Как она заливается румянцем, как блестят у ней глаза, как она захвачена, с каким глубоким интересом слушает брата… Генри Крофорду хватало душевного вкуса, чтоб оценить то, что он видел…» «Душевный вкус» – какое тошнотворное словосочетание! Лучшие черты характера Фанни Генри низводит до свойств хорошего вина или изысканного блюда, которое можно выбрать, купить, отведать и оценить.
Больше всего меня бесило не то, что за внешним лоском моих гламурных приятелей скрывались весьма сомнительные моральные ценности, и не то, что они перемывали мне (как, впрочем, и всем остальным) косточки; а то, что они относились ко мне, как к предмету, существующему для их удовольствия. Они не просто безумно любили поразвлечься сами, но ясно давали понять, что им безумно нравится, когда их развлекают. Подобно Генри Крофорду, которому «было совсем не по вкусу подолгу жить под какой-нибудь одной крышей либо ограничивать себя каким-нибудь одним обществом», они не желали скучать ни секунды. До меня начало доходить, что рядом с ними я не расслабляюсь ни на минуту – как странно, ведь мы так много времени проводили вместе! И я постоянно оставался в вечном напряжении, был начеку, чтобы в любой момент выдать красное словцо или смешную историю.
Моя личная жизнь, полная переживаний и оплошностей, превратилась в серию кратких комических зарисовок, которыми я веселил своих «друзей». В определенном смысле такая публичность имела свои плюсы – боль разочарования отходила на второй план; но в то же время, мои «анекдоты» не предполагали ответного сочувствия или сопереживания. Признаться, я сам сделал все для того, чтобы ко мне относились, как к шуту гороховому, с готовностью валял дурака ради места за общим столом. Но, должен заметить, особого выбора «роли» у меня и не было. С такими людьми нельзя откровенничать (тут же обзовут за глаза «привередой»), невозможно даже оставаться самим собой. В конце концов я все же понял, что был для них настоящей игрушкой: они могли не вспоминать обо мне неделями, а потом «доставали» когда вздумается из ящика, играли – если моя болтовня казалась им интересной – и, заскучав, бросали.
В «Мэнсфилд-парке» события развивались по тому же сценарию; на это намекала Мэри, впервые услышав от Генри о его планах на сердце героини. Мария Бертрам вышла-таки замуж за богача-простофилю, и ее сестра Джулия (первый трофей повесы Крофорда в Мэнсфилде) уехала с молодоженами на время медового месяца (это было распространено во времена Остин). «Довольно с тебя двух ее кузин», – заявляет Мэри, уговаривая брата оставить свои намерения в отношении Фанни. «Все дело в том, что… тебе не на кого обратить внимание, а без этого ты никак не можешь… если ты и вправду намерен завести с нею флирт, ты никогда меня не убедишь, что это благодаря ее красоте, а вовсе не из-за твоего безделья и безрассудства». На тот момент Фанни была для Генри не более чем развлечением наряду с верховой ездой или охотой. Сам мистер Крофорд выразился следующим образом: «Ну, и как… развлекаться в дни, свободные от охоты?»
Бертрамы, Крофорды… Но почему же Остин столь нелестно отзывается об аристократии, если сама принадлежит к этому сословию и любит его? Потому что ни то, ни другое не верно. Вопреки сложившемуся мнению, Остин не была аристократкой и аристократию не жаловала (что подтверждают все ее книги, и «Мэнсфилд-парк» в особенности). Ее героини чаще всего имели кое-какие деньги, но богатыми их точно не назовешь, и мужья им доставались не самые состоятельные; настоящих толстосумов Остин делала изрядными подлецами, при этом чем внушительнее кошелек – тем подлее персонаж.
Отец Джейн был священником, и большинство ее родственников – дяди, братья, друзья – трудились на церковном, юридическом либо военном поприще. Да, все они имели благородное происхождение, но не относились к знати. Остины жили в достатке, но не более того; не владели ни землями, ни титулами в отличие от семей, описываемых Джейн. Если бы Бертрамы и снизошли до общения с Остинами, то это было бы весьма поверхностное знакомство; в лучшем случае семью Джейн изредка приглашали бы на балы вместе с остальными уважаемыми семействами округи.
Элизабет Беннет и ее сестер не обременяли домашними обязанностями; леди Бертрам и ее дочери были выше этого – они проводили время за изящным рукоделием, которым принято было развлекаться у знатных дам в те времена. А вот маленькие Джейн и Кассандра с утра до вечера хлопотали по хозяйству: они шили одежду для себя, отца и братьев, помогали матери на скотном и птичьем дворах, на кухне и в саду, пекли хлеб, варили пиво, варенья, желе и даже брались за грабли во время сенокоса.
После смерти преподобного Остина его дочери (Джейн было двадцать девять) не унаследовали по тысяче фунтов, на которые могла претендовать каждая из девочек в семье Беннет, и уж тем более по двадцать тысяч – а вот Мэри Крофорд такая сумма принадлежала с рождения. Сестры Остин вообще не получили ровным счетом никакого наследства. Они полностью зависели от других, то есть от матери, чье состояние тоже было очень невелико, и прочей родни. Именно из-за отсутствия денег Джейн и Кассандра до конца своих дней жили вместе с матерью и еще одной женщиной в маленьком домике, который предоставил в их распоряжение добрый родственник.
В эпоху Остин у одиноких бесприданниц (замужество почти всегда зависело от размеров капитала невесты) практически не было возможности хоть как-то обеспечивать себя. «Незамужние Дамы обладают скверным свойством: они бедны», – напоминает Джейн своей племяннице. Пожалуй, девушка, принадлежащая к социальному кругу Остин, могла добывать средства к существованию только одним способом – работая гувернанткой в чужой семье; Джейн Фэрфакс в «Эмме» сравнивает этот труд, которым ей самой приходилось заниматься, с рабством. Поэтому семья чрезвычайно экономно расходовала деньги, наконец полученные Остин за ее романы, – первый издали, когда Джейн исполнилось тридцать пять. Ей выплатили сто сорок фунтов за «Чувство и чувствительность», сто десять – за «Гордость и предубеждение». «Хоть мне, как и всем остальным, нравится получать похвалу, получить Звонкую Монету, как говорит Эдвард, я тоже не прочь», – однажды заметила Остин. Книги она писала не только ради собственного удовольствия.
Несмотря на то что Остин не родилась аристократкой и не стала ею, судьба подарила писательнице билет в первый ряд партера на спектакль под названием «Жизнь высшего общества». Ее третьему брату Эдварду несказанно повезло: его усыновили дальние родственники – богатая бездетная пара; он взял их фамилию Найт и унаследовал все состояние. История брата, возможно, легла в основу «Мэнсфилд-парка», в том числе и потому, что старшей дочери Эдварда (любимой племяннице Джейн) было столько же лет, сколько Фанни Прайс, когда писательница взялась за роман, и звали племянницу так же, как главную героиню. Если идею об удочерении подал Эдвард, а Фанни Найт «предоставила» свое имя, то характером – замкнутостью, отчужденностью, покорностью – героиня обязана самой Остин.
Каждый раз, когда Джейн гостила у брата в Годмершем-парке, когда общалась с племянницей, к ней относились, как к бедной родственнице. Так же как Фанни Прайс в Мэнсфилд-парке, как я в нью-йоркском кругу богатеев, Остин оставалась чужой, была неровней обитателям Годмершем-парка. Не стоит винить в этом Эдварда, он был исключительно благородным человеком (ему, кстати, принадлежал дом, в котором обосновались мать и сестры после смерти отца). Нельзя также упрекать в невежливости и его жену, которая на время родов (в общей сложности она дала жизнь одиннадцати детям) предпочитала звать на помощь Кассандру. Другая племянница Джейн писала: «Семья Бриджес из Гуденстоун-парка [то есть родственники жены Эдварда] открыла скромному таланту много дверей и, должно быть, многим удостоила его».
Просто таковы были законы общества. Джейн считали неровней вопреки кровным узам, уму, характеру. Формально она оставалась бедной родственницей, именно так к ней и относились. Спустя пятьдесят лет со смерти Остин Фанни Найт, которая к тому времени давно носила титул леди по праву наследования, описывала наставницу с беспощадной прямотой. Ее тетя, вспоминала она. «была не столь изысканной, как было бы дóлжно при ее таланте». Фанни продолжала:
[Семья Остин] была совсем не богатой, а знакомство они водили все больше с людьми и вовсе невысокого происхождения; словом, всех членов семейства нельзя охарактеризовать иначе, чем посредственными; хоть они, несомненно, могли похвастаться превосходным умом и подобающим воспитанием, однако занимали такое положение в обществе, какое могли обеспечить себе своей ограниченной изысканностью.
Далее Фанни писала:
[Кассандру и Джейн] воспитали в полном невежестве о Высшем Свете и его обычаях (я говорю о манере одеваться и прочих знаниях), и кабы Батюшка мой не женился столь удачно… и какими бы умными и приятными девицами они ни были, приличное Общество и круги его едва ли сочли бы их достойными.
И это при том, что Фанни Найт была любимой племянницей Остин. Но Фанни не злословит, она честно говорит то, что думает. Именно так рассуждали люди «Общества», «Света». Семья Остин состояла из чудесных, добрых людей, но эти качества не могли заменить «изысканность», «манеру одеваться» или «высокое происхождение». Кассандра приезжала к беременной невестке и искренне помогала ей, в этом нет сомнений, но, по правде сказать, другого выбора у нее просто не было. Эдвард предоставил дом матери и сестрам от всей души, однако это не делало их менее зависимыми от него. Неудивительно поэтому, что самым близким для Джейн человеком (их дружба длилась до конца ее дней) в поместье Годмершем стала – кто бы вы думали? – гувернантка, такая же незначительная, второсортная и зависимая, как сама Остин. Закономерно и то, что свою жизнь Джейн посвятила безмолвным наблюдениям, из которых сложился иронический образ аристократии в лице Бертрамов и Крофордов.
Остин помогла мне увидеть, как богатые и родовитые относятся к окружающим – как к вещам и инструментам, марионеткам и игрушкам. Но урок ее был гораздо глубже; Остин хотела показать, как власть и роскошь калечат людей. Неприятно иметь друзей, вечно требующих, чтобы их развлекали, но куда хуже самому быть тем, кого надо развлекать. Бесконечная активность Крофордов (Мэри любила прогулки верхом, Генри был в постоянных разъездах), которую поначалу можно принять за живость характера, в конечном счете оказывается просто глубокой неудовлетворенностью. Одним ненастным днем Мэри хандрила, сидя в доме сестры, бывшей замужем за мэнсфилдским священником.
[Она] жаловалась на гнетущий дождь и в полном унынии вздыхала по своим несбывшимся мечтам об утренней прогулке и хоть малой надежде увидеть в ближайшие двадцать четыре часа кого-нибудь, кроме собственных домочадцев.
Но на ее счастье мимо проходила промокшая до нитки Фанни; девушку пригласили войти.
…Тем самым продлилось блаженство мисс Крофорд оттого, что она увидела не приевшееся лицо и получила повод для свежих мыслей, и потому ее хорошее настроение сохранилось на время переодеванья к обеду и на самый обед.
Вроде бы мелочь, но тем не менее это упрек в адрес Мэри. Так беден был ее внутренний мир, – говорит нам Остин, – так ограниченна способность занять себя – почитать, порисовать или просто посидеть в тишине и подумать, – что пара часов наедине с собой становилась для нее мукой. Бесконечные забавы, привилегии праздного богача, похоже, превращаются в угрозу постоянной скуки.
Привыкнув получать все, чего хочешь, – учит Остин, – вы становитесь глубоко несчастными, если не можете добиться желаемого. С приездом Крофордов Мэнсфилд закружился в вихре удовольствий (пьеса, поездка в поместье жениха Марии Бертрам), но все затеи так или иначе шли наперекосяк. Каждый боролся за главную роль в постановке, за лучшее место в экипаже, за возможность пофлиртовать с избранником или избранницей. Другими словами, каждый стремился заполучить все самое-самое и обойти в этом других.
В разгар сенокоса из Лондона в ближайший к поместью городок доставляют арфу мисс Крофорд. И Мэри никак не может понять, отчего же так сложно нанять повозку, чтобы привезти инструмент в Мэнсфилд:
– Я изумилась, узнав, какое это вызвало недовольство. Мне казалось, здесь сколько угодно лошадей и повозок, и я велела своей горничной с кем-нибудь сговориться; ведь стоит мне выглянуть в окошко из моей туалетной, и я вижу деревенский двор, а гуляю в аллее – непременно пройду мимо другого двора, вот я и подумала, стоит спросить – и повозка к твоим услугам… Вообразите же мое удивленье, когда оказалось, что просьба моя самая неразумная и невозможная на свете, что я провинилась перед всеми арендаторами, всеми работниками, перед самим сеном во всем приходе.
Все очень мило, но смысл предельно ясен. «Я велела своей горничной с кем-нибудь сговориться», – мисс Крофорд не привыкла считаться с кучкой фермеров и не собиралась привыкать к этому. Она, как и ее брат, да и почти все Бертрамы, относилась к типу людей, для которых не существовало слова «нет».
Эдмунд, будучи младшим сыном, должен был сам зарабатывать на жизнь, поэтому решил принять сан священника. Уильям, брат Фанни, готовился стать морским офицером. Но вот старший сын Бертрамов, Том, не собирался становиться никем. Он уже был наследником – и считал, что «рожден лишь для того, чтобы сорить деньгами и получать удовольствие». Ну а Генри Крофорд? Как и многие молодые богатеи, известные мне (владелица элегантного кафе, потерпевшая неудачу на юридическом поприще, или ее дружок – полный профан в мире кино), Генри всего лишь дилетант.
Едва Эдмунд заговорил о своем будущем, Генри тут же представил себе, какой блестящий проповедник вышел бы из него самого: «Но, правда, мне нужна лондонская публика. Я мог бы читать проповедь только образованной пастве… И потом, мне навряд ли будет приятно читать проповеди часто».
Когда Уильям, брат Фанни Прайс, рассказывает о своих морских приключениях, Генри воображает, что было бы, пойди он служить в военно-морской флот. «Вот бы ему тоже побывать в море и столько же увидеть, совершить, перестрадать», – описывает его грезы Остин. Как точно подмечено! Генри представлял не то, как он отправится в море, а то, как он уже побывал в море, уже все совершил и перестрадал и теперь готов был пожинать плоды своих трудов.
Перед сияньем героизма, деятельности, неутомимости, выносливости его себялюбивая привычка потворствовать своим слабостям выглядела постыдно и жалко; и, недовольный собою, он желал бы оказаться неким Ульямом Прайсом и… собственным трудом достичь богатства и положения.
Однако стремление мистера Крофорда оказалось мимолетным. Зачем утруждаться, если в этом нет необходимости? Зачем ограничивать свою свободу, если денег куры не клюют? Генри хотел заниматься всем понемногу, но невсерьез, и в результате не занимался абсолютно ничем. Я знал немало ровесников из состоятельных семей, которые находились в таком же положении. Многие существовали абсолютно бесцельно, некоторые из них чувствовали себя действительно несчастными оттого, что от них ничего не требовалось и не ожидалось. Говорят, у богачей считается, что все хорошо, если не хочется наложить на себя руки. Это заставило меня задуматься: стали бы люди так отчаянно стремиться к большим деньгам, если бы заранее знали, во что они превратят их детей?
Искушенность Крофордов, которая поначалу восхищала меня, теперь казалась ограниченностью. Шутки Мэри по поводу сенокоса, ее неспособность признать другие приоритеты, помимо лондонских, свидетельствовали о весьма расплывчатом представлении о правах и обязанностях и, вдобавок, подчеркивали особую провинциальность, присущую людям, мнящим себя космополитами. Осознав это, я стал замечать ту же черту у многих своих друзей, но главное – у самого себя. Жители маленьких городов хотя бы догадываются о том, что за пределами их населенного пункта есть еще какой-то иной мир. Но если ты живешь в «центре вселенной» – Лондоне времен Остин или в Нью-Йорке наших дней, – ничего другого попросту не существует. Разве можно хотеть провести день за городом? Кому нужны люди, приехавшие бог знает откуда?
Еще до истории с сенокосом Мэри была крайне возмущена тем, что ее арфу не смогли довезти до места назначения и оставили в городке неподалеку:
– А все потому, что мы действовали слишком прямо: посылали слугу, ездили сами – от Лондона туда не будет и семидесяти миль, – но сегодня утром мы узнали про это верным путем. Арфу видел один арендатор и сказал мельнику, а мельник – мяснику, а зять мясника оставил записочку в лавке.
Очень напоминает насмешки ньюйоркцев над пиццей в Чикаго, культурой в Лос-Анджелесе или нелепыми тугодумами, которых они повстречали в Вермонте во время отпуска.
Это не просто снобизм, это абсолютное отсутствие любопытства. Мэри, привыкшую жить в мире «потребуй и получишь», в мире бездушных, обезличенных сделок и удовольствий за деньги, ни капли не интересовало своеобразие деревенской жизни, где новости передавались из уст в уста, и все сплачивались ради общего дела вроде уборки хлеба. Я также понял, что если человеку не к чему стремиться, ему не о чем и думать. Крофорды обладали по крайней мере живостью и смекалкой, а вот Мария и Джулия, которых с рождения избаловали и захвалили, были до неприличия пустоголовы; их же мать возвела праздную глупость в искусство.
Оказывается, я и сам не заметил, как поверил в древнюю сказочку о том, что люди из высших слоев общества непременно должны быть воспитанными, культурными и умными. Конечно, неплохо было бы обвинить Остин в том, что это она, наряду с другими писателями, задурила читателю голову, создавая столь обаятельных персонажей – всех этих остроумных Элизабет с мистерами Дарси. Но стоило лишь вчитаться, и сразу становилось ясно, что как раз Остин-то толкует нам совсем о другом, и упрекать ее просто смешно. Изысканные манеры и пытливый ум – две разные вещи; толстый кошелек и интересные мысли никоим образом не связаны между собой. Аристократ посвящал свободное время верховой езде и охоте, а не книгам. Современная знать, одетая по последней моде, не придумывает метких ремарок, она сыплет известными именами и обсуждает цены на недвижимость. Через полвека после смерти Джейн поэт и культуролог Мэтью Арнолд, называвший средний класс «филистерами»[26], использует для аристократии еще менее лестное определение – «варвары»[27]. Люди вроде Элизабет Беннет – редкое исключение. Даже умница Мэри Крофорд предпочитала упражнять тело, а не развивать мозг.
Однако от богатства и комфорта, – учила меня Остин, – деградирует не только ум. Когда один из сыновей леди Бертрам, Том, уезжает в Лондон и там тяжело заболевает, леди Бертрам постоянно держит Фанни, гостившую у своих родителей, в курсе дела. Но знатная дама, никогда не знавшая ни тягот, ни лишений, ни даже физической нагрузки, не способна прочувствовать в полной мере, что случилось с ее ребенком; другими словами, она не понимает, что вообще происходит в ее жизни. Послания тетушки к Фанни были смешением «веры, надежд, страхов» (вот красноречивая цитата: «…надеюсь, что он [Эдмунд] застанет бедного больного не в столь внушающем тревогу состоянии, как мы опасаемся…»); ее безупречная, шаблонная речь оставляет впечатление скорее «своего рода игры в перепуг», чем настоящего страха. Все вокруг происходит будто бы не с ней; словно она даже к собственной жизни прикасается исключительно в перчатках.
То же самое можно сказать и об остальных. При такой прорве денег, которыми можно откупиться от последствий своих поступков, не было ничего, что по-настоящему имело бы для них значение: ничего серьезного, ничего святого, ничего возбуждающего искренние чувства. И снова, в очередной раз, я подумал, как удачно вписывался в повествование домашний театр. Когда Генри решает завоевать сердце Фанни (его забава, которая могла окончиться для нее мучительным разочарованием), он становится сам себе сценаристом и сам себе режиссером. Остин выстроила отдельные эпизоды (Генри читал вслух Шекспира, рассуждал о проповедях) таким образом, что они кажутся нам мини-пьесами. Он играл то на чувствительности, то на хороших манерах, применяя те приемы, которые, по его мнению, лучше сработают, и одновременно все время любовался собственными выступлениями. Он исполнял роль самого себя и наслаждался ролью зрителя на спектакле собственной жизни.
В самом начале пребывания Крофордов в Мэнсфилде вся компания отправилась на прогулку в поместье жениха Марии Бертрам, где гостям показали старую церковь. «…Здесь всегда читал проповеди домашний священник», – объясняла миссис Рашуот. «Однако покойный мистер Рашуот [отец жениха] покончил с этим [то есть, домашнего священника после смерти хозяина больше не нанимали]». «Каждое поколение вносит свои усовершенствования», – съязвила Мэри, а спустя минуту, стоило ей узнать о будущих планах Эдмунда, горько пожалела о сказанном. «Посвящен в сан! – сказала мисс Крофорд. – Как, разве вы собираетесь стать священником?» Она не могла в это поверить, и уж точно отказывалась принять решение мужчины, за которого надеялась выйти замуж; снова и снова отговаривала его, делая все, чтобы он передумал. Желание стать священником казалось ей шуткой. Разве кто-то может всерьез относиться к религии и морали? Разве для кого-то могут быть значимы слова «долг», «поведение» и «принцип»? Лично ей, Мэри, вообще все было не важно.
Крофорды продолжали гостить в Мэнсфилде и, с каждым днем все лучше узнавая Эдмунда и Фанни, начинали постепенно догадываться: они упускают что-то в своей жизни. Генри обнаружил в Эдварде качества, которые желал бы обнаружить в себе, а Фанни оказалась той, кого он хотел бы назвать своей. Когда Мэри заставляет себя покинуть Мэнсфилд, чтобы нанести давно обещанный визит, она, прощаясь, говорит героине:
– Миссис Фрейзер многие годы была моя ближайшая подруга. Но у меня нет ни малейшего желания быть с нею рядом. Я только и могу сейчас думать что о друзьях, с которыми я расстаюсь… Во всех вас настолько больше сердечности, чем встречаешь повсюду в мире.
Слово «сердечность» – робкая попытка Мэри описать то, что она лишь начинает ценить: глубокую нравственность, серьезные чувства, постоянство стремлений. Богатый духовный мир не купить за деньги. Девушка, считавшая себя чрезвычайно богатой, вдруг осознает, до какой степени она бедна.
И все же (а это, к слову, самый грустный вывод, который можно сделать из романа и моего опыта общения с бомондом) Мэри не может заставить себя превозмочь свои привычки. Она любила Эдмунда, но не вышла бы за него замуж до тех пор, пока он не отказался бы от своего намерения стать священником. Просто потому, что он будет недостаточно богат для нее (хотя ее состояния хватило бы на безбедную совместную жизнь), да к тому же не столь изыскан. «Ведь чего можно достичь в церкви? Мужчины любят отличаться, и на любом другом поприще [юридическом или военном] можно отличиться, только не в церкви. Священник – ничто», – делится Мэри с Эдмундом. Мисс Крофорд, конечно же, говорила не о том, что «мужчины любят отличаться», хотя многие, действительно, к этому склонны. Она имела в виду, что женщины (во всяком случае, похожие на нее) желают видеть, как «отличаются» их мужчины. Выходит, без отличия (говоря современным языком, без достижений) мужчина – «ничто».
Не вступить в брак с любимым человеком просто потому, что успех и богатство тебе дороже! Что может быть ужаснее? Тем не менее я часто видел такое в Нью-Йорке. Даже девушка, в которую я был влюблен тем летом, когда готовился к выпускному экзамену, такая чуткая и умная, как-то с горьким сожалением призналась мне, что не вышла бы замуж за мужчину, который мало зарабатывает. Она была дочерью врача и росла в самых комфортных городских условиях. «Я виню отца в том, – иронизировала она, – что он приучил меня к определенному уровню жизни, и теперь я не могу по-другому».
Я знал еще одну женщину – блестящего ума, полную чувства собственного достоинства, куда более богатую и гламурную, чем моя подружка, – которая рассталась с симпатичным ей мужчиной только потому, что, по ее словам, ему недоставало стиля. Она решилась на это лишь после долгой череды разочарований. Женщина рассказывала мне, какой он добрый, привлекательный и умный, какой он чудесный любовник и, кроме всего прочего, прилично зарабатывает. Однако он вырос в Огайо и потому понятия не имел, как нужно одеваться, следить за собой или вести себя на коктейльной вечеринке. «Я знаю, это ужасно, – созналась она, – но я не могу иначе».
Когда я встретил ее в следующий раз, она шла под руку с элегантным болваном, который только и делал, что твердил о своих важных знакомых. Она взглянула на меня, словно бы говоря: «Да-да, знаю. Мне жаль».
Я сразу вспомнил Марию Бертрам; она тоже отдавала себе отчет, за кого выходит замуж: «То был скучный молодой человек, отличавшийся разве что здравым смыслом; но так как ни в наружности его, ни в обращении не было ничего неприятного, его избранница была очень довольна своею победою». Также Остин пишет: «…брак с мистером Рашуотом сулил ей [Марии] радость большего дохода, чем у отца». Вот уж поистине полное отсутствие воображения и тем более смелости. «Из всего, что мне доводилось слышать, самый верный залог счастья – большой доход», – позже высказалась мисс Крофорд; и, похоже, ни она, ни Мария, ни та модная молодежь, которую я знал («даже хуже, чем бедная!»), не догадывались о том, что есть другие рецепты счастья.
Выходит, можно было сказать, что я тоже «ничто»? Мой друг со своей женой познакомили меня как-то с молодой парочкой. Парочка выглядела вполне счастливой, но, как только гости ушли, мой приятель заявил: «Она не выйдет за него, пока он всего лишь младший помощник прокурора». Я не поверил ему (я уже давно перестал воспринимать всерьез его суждения), но это высказывание помогло мне сформировать окончательное мнение о нем самом. Говоря так, приятель в первую очередь думал про себя! Это он не мог быть достойным брака и любви до тех пор, пока не станет успешным. Вот почему он так отчаянно карабкался вверх по социальной лестнице!
Однажды его жена, уговаривая нас не принимать близко к сердцу нашу романтическую несостоятельность и с нетерпением ожидая того дня, когда наши карьерные достижения сделают нас желанными для утонченных дамочек (она, как никто, жаждала видеть своего мужчину «отличившимся»), сказала нам: «Сейчас, ребятки, вы всего лишь два куска мяса к ланчу. А через пару лет станете вкуснейшими антрекотами».
Мне надоело сравнивать людей с кусками мяса, и тем более надоело, когда с мясом сравнивали меня самого, пусть даже в переносном смысле. Но разве у меня был выбор? И дело тут не только в друзьях из гламурной тусовки. Сколько я себя помню, меня всегда учили мерить все категориями научного или иного профессионального успеха; таков местный менталитет (а Нью-Йорк – его яркий образчик). Согласно этим установкам, счастье вам гарантируют только деньги и статус.
Я продолжал размышлять о слове «ничто». Это же про Фанни Прайс; она и есть это самое «ничто», «тише воды, ниже травы», как выразилась ужасная миссис Норрис. Какая там Кэтрин Морланд из «Нортенгерского аббатства»! Из кого, казалось бы, никак не могла вырасти «героиня романа», так это из Фанни. И тем не менее именно ее Остин поставила в центр своего произведения. Именно Фанни (не Кэтрин, Эмма или Элизабет Беннет) была героиней в прямом смысле слова, не просто главным действующим лицом, а образчиком поведения. Именно ее Остин сделала, как бы неправдоподобно это ни звучало, примером для подражания. Сама незначительность Фанни должна была заставить нас задуматься о том, что же такого хорошего и замечательного видит в ней автор.
Фанни, понял я, не просто отличалась от своего привилегированного окружения, она была его абсолютной противоположностью. Аристократам принадлежало все, и они жаждали большего; у нее не было ничего, и она стремилась обходиться еще меньшим. Невзгоды не порождали в ней злобу и раздражительность, она принимала их стойко, мужественно и даже (если требовалось) смиренно. Маленькая Фанни вовсе не рвалась расстаться со своей семьей и уехать в Мэнсфилд, но она прижилась там, «и, постепенно привязываясь к нему все сильней, почти как к родному дому, росла не вовсе безрадостно в окружении кузенов и кузин». Обратите внимание на фразу «постепенно привязываясь» – это происходило не быстро, не само собой; девочка мало-помалу училась любить новый дом, прилагая к тому особые усилия. Еще интереснее фраза «не вовсе безрадостно». Фанни действительно нельзя назвать счастливой, и, учитывая обстоятельства, она вряд ли могла рассчитывать на милость судьбы. И все же, принимая свою жизнь за данность и стараясь видеть только хорошее, она, по крайней мере, не чувствует себя несчастной, чего никак не скажешь о ее двоюродных братьях и сестрах.
Генри и остальных, так умело командующих парадом развлечений, преследовал постоянный страх скуки; Фанни же создала для себя свой собственный богатый внутренний мир. Восточная комната, ее маленькое убежище наверху, стала отражением этого внутреннего мира, местом, где она могла найти «утешенье в каком-нибудь занятии или в раздумьях», где были «ее цветы, книги… конторка для письма, шитье для бедных и искусное рукоделие». Да, она была молчалива и застенчива, однако в душе ее кипела работа. Это стало для меня открытием, к которому я шел очень долго. Прелестная и очаровательная Мэри умела пробуждать у окружающих чувства. Фанни же сама обладала способностью глубоко чувствовать. Да, она благонравная и чопорная, но и чрезвычайно страстная тоже.
Стыд, благодарность, страх, счастье, ревность, любовь – ее эмоции не всегда были приятными, но она ощущала их каждой клеточкой своего тела. «…На Фанни нахлынули такие чувства, что ей казалось, она не способна их выразить, но само ее лицо и несколько безыскусственных слов в полной мере передали ее признательность и восторг…»; «Он увидел, что губы ее сложились для слова “нет”, но голос изменил ей, и она вся залилась румянцем». В отличие от Мэри, Генри, Тома или Марии Фанни жила настоящей жизнью. Опасности таили для нее больше угрозы, чем для них, удовольствия ощущались сильнее. Джейн Остин преподала мне величайший урок: по-настоящему умеют чувствовать только те люди, которые понимают, каково это – обходиться вовсе без чувств.
Только не подумайте, что Остин преклонялась перед бедностью. Изображение родной семьи Фанни говорит о том, что писательница не настолько глупа, чтобы идеализировать нужду. Дом Прайсов оказался шумным, суматошным и грязным, и о чьих-то чувствах там думали не больше, чем в Мэнсфилде. Мысль Остин гораздо глубже: быть порядочным человеком (к которому не относится описание «ничто») означает думать не только о себе, но и об окружающих. Когда у тебя много денег, это ни к чему, когда мало – сложно. Фанни стала героиней именно потому, что умела думать о других, забывая о себе.
В романе есть два очень важных слова: «усилия»[28] (те, что делаются ради других) и «долг»[29] – эти понятия почти забыты в наш век «занимайся-своим-делом» и «каждый-сам-за-себя». Фанни терпеливо и безропотно отдавала свои силы леди Бертрам и миссис Норрис; она помогала бестолковому жениху Марии учить роль для пьесы (несмотря на то, что ей не нравилась эта затея). Но самую мучительную жертву Фанни принесла, когда, переступив через свои чувства, помогала Эдмунду и столь неприятной ей Мэри репетировать их сцены.
Слово «долг» объединяет в себе обязанности, которые, в понимании Фанни, она должна была исполнять как племянница, сестра и друг; ответственность, которую готовился взять на себя Эдмунд после принятия сана; ответственность, которую нес Уильям, будучи морским офицером. Идеальным примером подобного бескорыстного поведения для Остин служили мужчины из ее собственной семьи: отец-священник, брат-моряк. Крофорды, естественно, имели иное, более современное, представление о чувстве долга. «Каждый должен получше о себе позаботиться», – говорит Мэри.
Однако самое важное слово в романе – «полезный». Эдмунд говорит Мэри: «…не только хорошими проповедями полезен священник своему приходу». У Генри, восхищающегося Уильямом Прайсом, хватило здравого смысла поставить «полезность» (точнее, почетность этого качества в глазах окружающих) в один ряд с «героизмом». И вряд ли кого-то удивит, что леди Бертрам «никогда и не помышляла о том, чтоб быть кому-нибудь полезной», – в устах Остин это, пожалуй, самое тяжкое обвинение.
Долгое время я не признавал модель поведения, основанную на том, чтобы быть кому-то полезным. Это звучало так буднично, так приземленно и прагматично. Разве «быть полезными» – все, на что мы способны друг для друга? А как же поддержка, сострадание и любовь?
Но постепенно я начал проникаться. «Быть полезным» означает понять, в чем сильнее всего нуждаются люди в данный момент, и дать им это – вот настоящая поддержка и сострадание. Как замечательно любить свою семью и друзей, но какая же это любовь, если вы не готовы прийти на помощь, когда им действительно что-то нужно, если не готовы сделать ради них малейшее усилие? «Любить» – это глагол, это действие, а не просто очередное красивое чувство.
Поскольку Фанни трудилась для других, не думая о собственных чувствах и жертвуя собой, – словом, старалась быть полезной, – только ей одной достало душевных сил достойно принять жестокий удар судьбы. То была кульминация романа и своеобразная проверка для всех героев. Что до остальных (из их числа я всегда исключаю Эдмунда), то богатство приучило их к слишком большой свободе действий. Перед ними никогда не стоял трудный выбор, который как раз и закаляет характер. Поэтому в сложных жизненных обстоятельствах они оказались совершенно беспомощными.
Остин знала, что горести рано или поздно постигают всех. Несчастье постучало в двери ее семьи, когда жена богатого брата Эдварда умерла спустя несколько дней после рождения одиннадцатого ребенка. Старшей девочке, Фанни Найт, было тогда всего пятнадцать. Джейн писала Кассандре, которая снова уехала в Годмершем помогать роженице:
Утрата Эдварада тяжела. Таковой она и должна быть; поистине, ему и его безутешной дочери теперь слишком рано проявлять Сдержанность в столь великом горе; однако мы смеем надеяться, что совсем скоро чувство Долга нашей дорогой Фанни по отношению к горячо любимому Отцу пробудит в ней желание к Усилиям. Она постарается быть спокойной и смиренной ради него, и то станет подлинным доказательством Любви к душе ее усопшей Матери.
Остин убеждала своих дорогих и близких в том же, что советовала и нам. Любовь – это действие, это умение проявить выдержку ради других и, в конечном счете, ради себя:
Любезной Фанни следует теперь понимать, что она есть главное утешение для своего отца, его истинный друг и тот единственный Человек, который станет мало-помалу восполнять ему, насколько это представляется возможным, такую потерю. Сама способность на такую заботу придаст ей сил, подбодрит ее.
Именно так все и сложилось. В очередном письме Кассандре, которая гостила в Годмершеме, стараясь быть полезной его обитателям, Джейн (на нее легли заботы о старших сыновьях Эдварда; они находились в пансионе, когда умерла их мать) сообщила:
Как же порадовали меня твои строки о Фанни… Мы думали и говорили о ней вчера… мы от души желаем ей нескончаемой радости и безмерного счастья, для которого она, по всей видимости, рождена. Пока она дарит счастье своим близким, то может не сомневаться в том, что и на ее долю выпадет оное.
Долг, усилия, смирение и, в результате, счастье – эти идеи Остин воплотит в истории той Фанни, которую придумает сама и поселит в поместье, очень похожем на Годмершем.
Существует, однако, еще один способ быть полезным (правда, я никогда не рассматривал его с этой точки зрения); Остин страстно хотела научить нас этому способу и потому написала о нем еще в начале романа. Десятилетняя Фанни жила в Мэнсфилде уже неделю и каждую ночь засыпала в слезах. Как-то раз Эдмунд, который был старше ее на шесть лет, застал девочку плачущей на чердачной лестнице. «И, севши рядом с нею на ступеньку, он всеми силами старался преодолеть ее смущенье… и уговаривал открыться ему». Поняв, что Фанни тоскует по родной семье, он предложил: «Давай выйдем в парк, и ты мне расскажешь про своих братьев и сестер». Этой простой фразы оказалось достаточно, чтобы они стали верными друзьями на всю жизнь. Никому другому это и в голову не пришло; о бедняжке просто-напросто вообще никто не думал.
Как сильно, наверное, отличался рассказ Фанни от тех баек, которыми я развлекал своего друга и его жену, от тех точно выверенных анекдотов, призванных увеселять публику. «…Ты мне расскажешь все про своих братьев и сестер». «Расскажешь все»: спокойно, не опасаясь, что тебя перебьют; не пытаясь поразить или рассмешить; не волнуясь, что собеседник, вместо того, чтобы слушать тебя, сосредоточенно соображает, как ему ответить, когда ты, наконец, умолкнешь. На самом ли деле Эдмунд интересовался братьями и сестрами Фанни? Вряд ли. Но он хотел утешить и успокоить девочку, а ей нравилось говорить о своих родных – и для него это было самое главное. Эдмунд понимал, что, только слушая людей, можно узнать об их чувствах, переживаниях, духовных ценностях и складе ума; лишь так можно изучить человека целиком и полностью. Остин не зря была писательницей: она знала, что за каждой историей стоит человек, а слушать чьи-то слова, вникать в чьи-то чувства, признавать чей-то опыт и есть высшее проявление человеколюбия, самый приятный способ быть полезным.
Общаться с весельчаками, безусловно, увлекательно. Однако наверняка у ваших знакомых есть куда более значительные качества, чем просто способность смешить. Поразмыслив о людях, которые подарили мне столько приятных и неприятных минут, о том великолепном жестоком мире, в который они меня ввели, я пришел к выводу, что нельзя судить о человеке по количеству доставленного вам удовольствия. Не «забавный или скучный», «стильный или не стильный», а «сердечный или равнодушный», «бескорыстный или эгоистичный». Люди, которые думают о других, или люди, которые думают только о себе. Люди, умеющие слушать, или люди, умеющие только говорить.
Я понял, что если даже распрощаюсь с тусовкой золотой молодежи (именно так я и поступил, когда привел в порядок мозги), если даже вовсе уеду из Нью-Йорка (и, возможно, когда-нибудь мне придется это сделать), уроки, полученные в этой компании, все равно пригодятся. Не многие из нас вращаются в высшем обществе, на которое мне удалось глянуть одним глазком, но все мы живем в мире, где очень высоко ценятся деньги, положение и слава. И потому все мы склонны превозносить тех, кто добился богатства и успеха, оценивать с этой точки зрения себя и свои достижения, жертвовать действительно важным на пути к этим мнимым благам.
Признаюсь честно, я так и не сумел полюбить Фанни Прайс и не смог вызвать в себе антипатию к Крофордам в той мере, в коей они этого заслуживали. Так же нелегко было ограничить общение с моим другом и его женой. Забавы забавны, очарование очаровательно, и к ним невозможно не тянуться. Но тут стоит вспомнить мысль из «Нортенгерского аббатства»: «Такие чувства достойны изучения, чтобы они [люди] могли узнавать сами себя».
Разум не помешает нам чувствовать, но удержит от нежелательных поступков, не даст чувствам накрыть нас с головой.
Подозреваю, что по замыслу автора, Фанни Прайс и не должна была нам понравиться. Полюбить ее трудно, однако писательница ставила перед собой иную задачу – ей нужен был полный антипод Крофордам. Не наделив Фанни ни живым умом, ни обаянием, Остин заставила нас сосредоточиться на тех чертах характера героини, которые важны для повествования. Элизабет Беннет тоже была щедра, добра, заботлива и бескорыстна, но ее очарование затмило все эти качества. Такое впечатление, что в образе Лиззи для Остин важнее всего были живая прелесть и остроумие.
А вот для «Мэнсфилд-парка» Остин требовалась совсем другая героиня – вялая и унылая. Писательница словно разделила образ Элизабет пополам: Мэри досталась прелесть, Фанни – великодушие, а нам предстояло решить, что (или кто) из них лучше. Остин не порицала живость ума и проворство, она просто показывала нам, что эти качества – не самые главные в жизни. «Мудрость важнее остроумия, и в итоге последнее слово окажется за ней», – писала она Фанни Найт в тот самый год, когда был опубликован «Мэнсфилд-парк». Конечно же, сложно и не слишком приятно предпочесть Фанни, а не Мэри, но Остин четко давала понять, что надо поступить именно так.
И я начал пытаться. Я прекрасно понимал, что никак не соответствую высоким требованиям Остин, поэтому решил наблюдать за собой и, да, стал предпринимать усилия. Я сознательно пытался быть полезным окружающим и в малом (к примеру, вовремя прийти на ужин), и в большом (вычитать диссертацию друга). Но прежде всего я учился не перебивать, а слушать, действительно слушать. Друзей, студентов, случайных знакомых. Их рассказы нередко были сбивчивы и безыскусны, но именно так и говорят от души. Самое сокровенное, что есть у людей, – их истории, и чуть ли не самое важное, что вы можете для них сделать, – это выслушать их. Пусть история Фанни так и не пришлась мне по душе, но, лишь внимательно выслушав ее, я усвоил очередной урок.
Глава 5. «Доводы рассудка»: настоящие друзья
Анализ непростых отношений с высшим обществом был не единственным моим занятием; большую часть времени я вкалывал, убивался, тянул лямку, иными словами – работал над диссертацией. Это не сравнимо ни с чем. За плечами почти двадцать лет учебы, включая годы в аспирантуре, и все это время кто-нибудь обязательно подсказывал тебе, что и как делать: выбери этот курс, прочти эти книги, ответь на эти вопросы. Кроме того, имелись еще и однокурсники – соседи по парте, с которыми всегда можно было посоветоваться, потрепаться, позлословить над учителями или совместно подготовиться к экзаменам.
И вдруг ты сам за себя. Затерялся в лесах без карты и компаса. Удачи, салага, дай знать, если выживешь. Тут ты понимаешь, что на этот раз придется справляться со всем в одиночку и за четыре, пять или шесть лет выдать сочинение толщиной с хорошую книгу. Ты никогда не писал книг, не представляешь, как это делается и с чего начать, но никто тебе не помощник, потому что есть лишь один способ научиться – сесть и написать.
К тому же нужно еще самому придумать тему – ах, да, – свежую и оригинальную.
Я решил посвятить диссертацию понятию сообщества в английской литературе XIX века. За главой об Остин должны были последовать главы о Джордже Элиоте (да, тот самый «Мидлмарч», когда-то наводивший на меня тоску и ужас) и Джозефе Конраде. Тема была мне очень близка, поскольку сам я получил бесценный жизненный опыт, став в старших классах членом молодежного еврейского движения. Многие считают это пустой тратой времени и закатывают глаза, вспоминая, как по настоянию родителей им пришлось присутствовать на каком-то идиотском празднике вместо того, чтобы спокойно курить в кустах и обжиматься с девчонками.
Но для нас с друзьями все было по-другому. Нашим «предводителям» было чуть за двадцать, все они являлись выходцами из движения, так что мы всё организовывали сами. Мы искали собственные моральные ценности, искали себя. Это движение было национальным, с филиалами в разных регионах и лагерями, куда дети приезжали из невиданных далей вроде Орегона и Иллинойса. Мы, как могли, старались создать собственный мир, или хотя бы мировоззрение; мы находили то, чего нам так не хватало в школьных джунглях: чувство общности, веру в идеалы, ощущение причастности к чему-то большему, чем ты сам.
Одним словом, мы создали сообщество. У нас была мечта переехать в Израиль и жить в кибуце – еврейской версии коммуны. Мы хотели делиться с друзьями всем, что имели, и быть всегда вместе. Как бы наивно это ни звучало, мечтая о таком мире, мы в нем жили. Мы собирались десятками или сотнями, встречались, путешествовали, проводили вместе выходные, каникулы, летние месяцы; мы пели, играли в игры, жгли костры, беседовали ночи напролет.
Мы обсуждали социальную справедливость и реформы, идеализм и самопознание, каково быть евреем и каково быть человеком. Мы говорили до тех пор, пока не слипались глаза, просто затем, чтобы быть вместе, чувствовать друг друга рядом. Мы собирались изменить мир, но незаметно менялись сами. Там я нашел ближайших друзей, самого себя, научился размышлять о мире. Там я впервые поцеловал девочку и, спустя пару лет, потерял девственность. Именно там я чувствовал себя по-настоящему дома.
Вместе мы пытались сбежать от серых школьных будней, и – это было ясно уже тогда – многие из нас таким образом сбегали от своих семей. Для подростков подобное желание естественно, но у меня были на то особые причины.
Дела дома были плохи; впрочем, как всегда. Отец измывался не только над нами, но и над матерью.
Не знаю, что для меня было тяжелее. Даже в подростковом возрасте меня с мамой всегда связывала первобытная, слепая, безусловная любовь; мне было хорошо просто находиться рядом с ней. Иногда после школы мы устраивались на кухне, и она рассказывала мне о своем счастливом детстве в Торонто до встречи с моим отцом. (Некогда она тоже участвовала в еврейском движении и прекрасно меня понимала. Отец был настроен неоднозначно. Ему нравилось, что я при деле до тех пор, пока я не принимал разговоры о кибуце всерьез.) Даже тогда я подсознательно понимал, что, слушая маму, я помогаю ей прийти в себя, восстановиться после нападок и насмешек отца. Она тоже всегда старалась защитить и утешить меня. Мы заключили негласный союз против общего врага, хотя никогда не решились бы сказать об этом вслух.
Но, стоило отцу ворваться в дом, каждый спасался как мог. Он проявлял чудеса изобретательности, выбирая способы помучить ее. Воспоминание из глубокого детства: мама заходит в гостиную позвать нас к ужину – она стояла над плитой полдня. Не обращая на нее внимания, отец продолжает читать газету. Да он скорее сгорит в аду, чем оценит ее усилия. Через долгих полчаса, когда стало казаться, что мамин зов мне приснился – не мог же отец вообще не заметить ее, правда? – я, чувствуя невыносимый голод, решился спросить: «Разве мама не сказала, что все давно готово?»
Вот так вели себя родители, и это еще были тихие, мирные вечера – иногда они кричали друг на друга, стоило отцу переступить порог. Дни проходили в нескончаемых битвах, слова обращались в оружие. Спустя годы я как-то поссорился со своей девушкой прямо перед ужином. Я сидел за столом, натянутый как струна, кусок в горло не лез, и тут я испытал давно забытое чувство. «Ну да, – подумал я. – Совсем как в детстве».
Неудивительно, что я цеплялся за еврейское движение, как кошка за дерево. Мы так же цеплялись и друг за друга, мои друзья и я; мы, в каком-то смысле, спасали свои шкуры.
Отрочество прошло. Я поступил в колледж, но остался в движении в роли «предводителя» – советчика, лидера. Потом все мы, конечно, переросли это увлечение. Наши пути разошлись, и я блуждал в огромном мире, тоскуя по делам давно минувших дней, и спрашивал себя, испытаю ли когда-нибудь вновь подобное чувство общности. Спустя семь лет, переехав в Бруклин, я был как никогда далек от нашего сообщества; сидел в пустой квартире, погрузившись в работу. Колледж остался позади, мои коллеги по аспирантуре окопались в завалах собственных диссертаций, а немногочисленные друзья разъехались по всей стране.
Один мой друг стажировался в университете Бостона, другой изучал религиоведение в Чикаго, моя приятельница воспитывала детей в Канзасе, еще один друг снимал кино в Калифорнии. Моя подруга, та, что знала меня лучше, чем я сам, – последняя ниточка, связывающая меня с движением, – осела в Нью-Гэмпшире и открыла собственную дизайнерскую компанию. Каждый жил своей жизнью, с возрастом все больше отдаляясь от других. Мечта снова испытать ощущение сплоченности, причастности к чему-то казалась недосягаемой. Поэтому, когда пришло время выбирать тему диссертации, я решил изучать то, чего мне так не хватало в реальности. Я поступил как настоящий мудрец. Раз не могу жить в сообществе, буду проводить дни в размышлениях о нем.
Прошло еще два года в Бруклине. Незавершенная глава об Остин преследовала меня, как хроническая болезнь; утешала лишь аспирантская присказка: закончил первую главу – считай, полпути к кандидатской степени пройдено, поскольку ты уже набил руку.
Я решил начать с Остин не только потому, что любил ее книги, но и потому, что ее творчество – отличный отправной пункт для моих исследований. Ведь она всегда изображала сообщество в самом традиционном смысле этого слова – как размеренный, устоявшийся сельский мирок среди зеленых лугов и полей, где все друг с другом знакомы и каждый на своем месте. Точная копия того, что я надеялся однажды обрести в собственной жизни! Я решил сосредоточиться на своих любимых книгах: «Гордости и предубеждении» и той, что со временем по-особому отозвалась в моем сердце и очень точно отражала мое теперешнее настроение, – «Доводах рассудка».
Последняя работа Остин выделяется среди прочих ее сочинений необыкновенной глубиной чувств и многослойной эмоциональной текстурой. Роман пронизан тоскливым, осенним настроением, погружающим нас в мир ностальгии и сожалений о несбывшемся, что не свойственно другим произведениям писательницы. «Доводы рассудка» – роман об одиночестве и потере – был закончен менее чем за год до кончины Остин. Знала ли она, что умирает (непонятная болезнь поразила ее в середине работы над книгой и долгое время то подкрадывалась, то отступала), – сложно сказать. Но известно, что когда Остин писала роман, ей исполнилось сорок лет; «Доводы рассудка» – взгляд зрелой женщины, переходящей на новый жизненный этап.
С первых строк понятно, что эта книга особенная. Героиня, Энн Эллиот, не из числа юных девушек лет семнадцати-двадцати, как Кэтрин Морланд или Элизабет Беннет, перескакивающих во взрослую жизнь навстречу романтическим приключениям. Энн исполнилось двадцать семь. Это не так уж много по нашим меркам, но по тем временам, ее лучшие дни остались далеко в прошлом. «Роман» ее жизни уже прочитан, и конец оказался несчастливым. Восемь лет назад она без памяти влюбилась в блистательного молодого морского офицера по имени Фредерик Уэнтуорт. Образ Фредерика во многом списан с брата Джейн Остин, Фрэнка. Оба стали капитанами в раннем возрасте, оба участвовали в бою при Сан-Доминго. Даже их имена созвучны: Фрэнк и Фредерик. Оба вернулись целыми и невредимыми с опасной службы и оба готовились к женитьбе, но лето 1806 года, когда Фрэнк женился на своей невесте, обернулось трагедией для Энн и капитана Уэнтуорта.
Он «блистательный молодой человек, прекрасный собою, с высокой душою и умом»[30], она «чрезвычайно хорошенькая девушка, способная чувствовать и наделенная сверх того скромностью, вкусом и благородством». Но Энн Эллиот происходила из столь знатной семьи, что по сравнению с ней Бертрамы из «Мэнсфилд-парка» кажутся поборниками равноправия. Поклонника без денег и родословной в этом доме ни во что не ставили. Отец Энн, сэр Уолтер – злобный, пустой и тщеславный, – счел «союз неравным и унизительным» и «отвечал таким удивлением, таким молчанием, такой холодностью, что не оставил дочери ни малейшей надежды» (при этом он не давал за ней приданого). Мать Энн, леди Эллиот, сердечная и достойная женщина, чьи здравые суждения всегда спасали мужа от худших проявлений его характе ра, могла бы вмешаться и восстановить справедливость, но она умерла, когда Энн исполнилось четырнадцать, а ее место заняла лучшая подруга леди Эллиот, леди Рассел.
В отличие от отца героини – достоинства Энн были выше понимания сэра Уолтера – леди Рассел души не чаяла в девушке, но и она не выказала восторга, узнав о помолвке. «Энн Эллиот, с ее славным именем, красотою, умом, – и в девятнадцать лет погубить себя… Энн Эллиот – такая юная; никто еще не знает ее, и достаться первому встречному, без средств, без связей!» Все тот же снобизм под маской доброты и участия. Лишившись поддержки единственного друга, Энн разорвала помолвку. Уэнтуорт уехал уязвленный до глубины души, а Энн, чья красота быстро увяла, а дух был сломлен произошедшим, осталась лицом к лицу с горькими и бесплодными сожалениями.
Спустя восемь лет героиня одинока как никогда, одинока как ни одна из прежних героинь Остин. Даже у Фанни Прайс были кузен Эдмунд, брат Уильям и искренняя, хоть и безучастная, привязанность тети, леди Бертрам. Но у Энн осталась только леди Рассел со всеми ее достоинствами и недостатками. Девушка не смогла забыть капитана Уэнтуорта, отказала местному джентльмену, просившему ее руки пару лет спустя после Фредерика, и теперь у нее едва ли был шанс устроить будущее с кем-то еще. Ее младшая сестра Мэри вышла замуж за Чарлза Мазгроува (того самого джентльмена, который сперва сделал предложение Энн). Ее старшая сестра Элизабет, холодная и злая, как отец (благодаря сходству характеров она стала его любимицей), относилась к Энн ужасно. Собственная семья отвернулась от героини, которая «в глазах отца и сестрицы была совершенное ничто. Ее сужденья не спрашивали, с ее желаньем не считались – она была всего-навсего Энн – и только».
У Фанни Прайс был Мэнсфилд-парк, но Энн Элиот хотели лишить даже любимого дома. Сэр Уолтер, руководствуясь собственными представлениями о том, чего заслуживает человек столь благородного происхождения, как он, нажил кучу долгов, и ему пришлось сдать поместье в аренду и переехать в Бат. Элизабет, конечно, отправилась с ним, но ее компаньонкой оказалась не сестра, которую она совершенно не ценила, а ушлая молодая вдовушка по имени миссис Клэй. Льстивая и податливая миссис Клэй приложила немало усилий, чтобы заслужить благосклонность старшей мисс Эллиот.
А Энн предстояло жить у Мазгроувов в роли незамужней тетушки, которую сама Остин не раз примеряла на себя. Отныне Энн будет заботиться о племянниках и слушать, как вечно обиженная на всех сестра Мэри плачется, что ее притесняют. Она будет играть контрдансы для жизнерадостных, прелестных сестричек Чарлза, Генриетты и Луизы (которые куда больше походили на персонажей Остин, чем Энн Эллиот). Она будет выслушивать жалобы родственников друг на друга и мирить их по мере возможности, а сама при этом станет держаться в тени, как и подобает старым девам. Энн считала, что это урок для нее: «…сколь мало значим мы за пределами своего круга». Однако Энн Эллиот и в своем кругу оставалась невидимкой.
У меня, понятно, была совсем иная ситуация, но я хорошо понимал ее чувство одиночества и тоски. Я не терял дом или кого-то из родителей, но сделал все возможное – все, что потребовалось, – чтобы сбежать и от того, и от другого как можно дальше. Я хотел быть сам по себе – и стал. Только я как-то не ожидал, что буду сам по себе до такой степени. Когда ты молод – учишься в старших классах или колледже, когда тебе едва за двадцать, – то принимаешь друзей как данность. Естественно, они всегда будут рядом. Куда они денутся? Зачем утруждаться поиском новых? И вот неожиданно – совершенно неожиданно, – вокруг никого. Кто-то переехал, кто-то женился, все вечно заняты, и толпа друзей и приятелей, всегда тебя окружавших, словно испарилась.
Я по-прежнему не собирался жениться, но и оставаться один тоже не хотел. Однако, как и Энн Эллиот, мне понемногу начинало казаться, что теперь я буду всегда одинок. Мне нравилось жить самостоятельно, не ощущая давления отца, но, сколько ни тяни, глава об Остин когда-нибудь да будет закончена. Хотя очень часто у меня не хватало сил даже взяться за нее. С трудом заставив себя выбраться из кровати, я сидел и пялился в пустоту. Время останавливалось, часы обличающе указывали на меня стрелками, кошка смотрела в упор, явно размышляя, не околел ли хозяин. Я чувствовал себя уродливым и ненужным. Энн, выражаясь языком Остин, была подавлена – то бишь, в депрессии, – и я, прямо скажем, тоже.
Обстоятельства, с которыми столкнулась героиня, несомненно, отражают события из жизни писательницы. Незадолго до того, как Джейн исполнилось двадцать пять, ей внезапно объявили, что отец покидает свой пост, – он был священником прихода в течение сорока лет. Это означало, что родителям и Джейн с Кассандрой придется переехать – как и сэру Уолтеру – в Бат. Новости стали сильнейшим потрясением для всей семьи; но на то, чтобы свыкнуться с ними, не было времени. Всего через пару месяцев домашний очаг, у которого Джейн провела всю жизнь, должен был прекратить свое существование.
С друзьями пришлось расстаться, с привычным миром – тоже. Многие вещи не повезли в Бат, а продали или отдали брату Джеймсу и его жене Анне – они в скором времени собирались занять семейное гнездо Остинов. Новым хозяевам досталось пианино, на котором Джейн когда-то училась играть; с детства знакомые картины и мебель; отцовская библиотека – «мои книжки», – говорила Остин. Можно представить, какую ценность они для нее представляли! Писательницу даже принуждали расстаться с одной значимой для нее личной вещью, но она решительно отказалась. «Я не позволю Щедрости диктовать мне свои законы, я не решусь отдать мое бюро Анне до тех пор, пока эта мысль не придет в голову мне самой», – писала она Кассандре. Ее лишили привычной жизни, налаженного сельского быта, изгнали из единственного дома, который она знала.
Спустя еще четыре года после переезда, прошедших в попытках прижиться на новом месте, на семью обрушился новый удар судьбы, также отраженный в истории Энн, – умер любимый отец Остин. «Потеря такого Отца должна ранить, разве мы животные? Разве можем не ценить отцовскую нежность?» – писала она Фрэнку. Конечно, нельзя проводить параллель между сэром Уолтером и миссис Остин, но мать Джейн была женщиной непростой, нервной и мнительной; Остин нередко высмеивала ее перед Кассандрой. И несомненно, писательница больше любила отца, так же как Энн сильнее любила мать.
После смерти преподобного Остина минули еще четыре года полной неопределенности, прежде чем мать и дочки нашли постоянный дом. Джейн, написавшая до двадцати четырех лет три романа – первые черновики «Гордости и предубеждения», «Чувств и чувствительности», «Нортенгерского аббатства», отложила перо на восемь лет. Единственное, что сохранилось, – начало произведения под названием «Уотсоны», заброшенного через несколько дюжин страниц. Может быть, судьба предыдущих работ повлияла на желание Остин писать? («Гордость и предубеждение» отвергли, даже не глянув; «Нортенгерское аббатство» купили за десять фунтов, но до публикации дело не дошло.) Или, чтобы писать, ей не хватало спокойной обстановки и уверенности в завтрашнем дне?
Конечно, и то, и другое влияло на писательницу. Но история Энн подсказывает, что, кроме того, всегда жизнерадостная Остин в то время страдала от затяжной депрессии. «Уотсоны» – книга о незамужних сестрах, ломающих голову, как избежать нищеты, когда умрет их больной отец-священник. За строками произведения легко угадываются обстоятельства, в которых оказались Джейн и Кассандра. В отзывах о романе то и дело мелькают эпитеты «безрадостный», «тоскливый» и «пессимистичный». По словам одного критика, Остин «словно пытается преодолеть некое давление, скованность и тяжесть, которые вредят ее стилю». За пару месяцев до смерти отца писательницу постигла еще одна утрата: ушла из жизни Анна Лефрой, ее «вторая мать», важнейший для нее человек со времен раннего детства. Неудивительно, что Остин не находила в себе сил писать.
И еще одно обстоятельство, должно быть, дополнило образ Энн и придало роману такой печальный настрой. В возрасте двадцати семи лет Остин отклонила последнее – она это прекрасно понимала – предложение выйти замуж. Претендентом стал Гаррис Бигг-Уизер, брат трех ее подруг и наследник огромного имения. Однако молодой человек был застенчив и неловок, к тому же на пять лет младше Остин. Сначала она дала согласие, но, промучившись всю ночь, наутро расторгла помолвку. Это решение стало неким водоразделом в ее жизни. Начиная с того времени, пишет биограф писательницы Клэр Томалин, она «причисляла себя к старым девам»[31], раз и навсегда примирившись с участью незамужней тетушки. Джейн Остин была не одинока, но в некотором смысле навсегда осталась одна. В лице Энн она создала героиню, «заглядывающую» в ту же пропасть.
Эта история не случайно начинается осенью, и Энн, столь непохожая на прочих героев Остин, не просто так погружена в мысли о прошлом. Во время прогулки с Генриеттой, Луизой и другими молодыми людьми Энн не участвует в общей болтовне, она печально думает о том, что год близится к своему концу. Обычно романы Остин полны иронии, но в этом произведении живой поток речи замедляется, невольно обретая размеренный, грустный ритм. Энн Эллиот по-своему наслаждается прогулкой:
Она старалась радоваться самой ходьбе и, глядя на прощальную улыбку года, какою провожал он поблеклые травы и порыжелую листву, перебирала в уме несчетные поэтические описания осени, совсем особенной поры, так воздействующей на воображение и чувства, что всякий сочинитель, достойный сего названия, уж непременно ей посвятил либо несколько нежных стихов, либо прозаический опыт.
Тут Энн, взглянув на спутников, сбивается с мысли, но при этом еще сильнее ощущает свою непричастность к безмятежному танцу юности:
Пришлось отставить дивные картинки осени и подождать, покуда какой-нибудь печальный сонет, украшенный метким сопоставлением ушедшего года с ушедшей радостью и сетующий на вечную разлуку с юностью, надеждою и весной – со всем сразу – не подвернется на память.
Но в голову приходили совсем иные мысли. Переехав в Бат, отец Энн, сэр Уолтер, сдал поместье адмиралу Крофту. И тут выяснилось, что жена адмирала оказалась сестрой небезызвестного капитана Уэнтуорта, которого героиня когда-то любила и с которым рассталась навсегда восемь лет назад.
«Еще несколько месяцев, и он, может статься, будет тут бродить», – сказала Энн, услышав известие. Так и случилось. Пришло время волнующей встречи:
Энн обуревали тысячи разных мыслей, из которых самая утешительная была та, что визит не продлится долго… Она избегала взглядом капитана Уэнтуорта. Он поклонился; она присела; она услышала его голос… казалось, гостиная полна, полна людей и голосов, и вот через несколько минут сразу все кончилось… гостиная опустела, и Энн осталась только завершить свой завтрак.
– Позади, позади! – взволнованно твердила она про себя, благодарная судьбе за эту милость. – Худшее позади!
Мэри болтала, Энн отвечала наобум и невпопад. Она повидала его. Они встретились. Они были под одной крышей.
Скоро, однако, она стала унимать свое волненье… Увы! Вопреки всем этим уговорам, восемь лет оказывались не властны над упрямым сердцем.
Прошлое ожило в Энн, но про ее бывшего жениха нельзя было сказать того же: «Генриетта спросила, как он тебя находит, и он ей сказал: “Так переменилась, что и не узнать”», – подколола сестру Мэри.
И все же, несмотря на горечь встречи, приезд капитана Уэнтуорта положительно повлиял на Энн. Он отдалил девушку от ее ужасной семейки и приблизил к людям совсем другого толка. Оказалось, что сослуживец и близкий друг Уэнтуорта, капитан Харвил, живет с женой неподалеку, в приморском городке Лайм. Однажды вся компания – Генриетта и Луиза, Чарлз и Мэри, Уэнтуорт и Энн – решает нанести им визит, и у героини внезапно возникает чувство родства с новыми знакомыми; никогда прежде она не испытывала ничего подобного.
Сестра капитана Харвила была обручена с его другом, капитаном Бенвиком, но умерла до того, как они успели пожениться. И все же «горестное событие, делавшее невозможным предполагаемое родство, только укрепило дружбу между Харвилами и капитаном Бенвиком, и теперь он поселился с ними вместе». Как только речь заходит о компании морских офицеров, в рассказе Остин всякий раз всплывает одно и то же слово – «дружба». Так, в одном разговоре капитан Уэнтуорт начинает уверять свою сестру, жену адмирала Крофта, много путешествовавшую вместе с мужем, что женщины слишком утонченные создания, чтобы находиться на судне. На это миссис Крофт отвечает, что Фредерик однажды сам перевозил жену и детей капитана Харвила. «Куда ты подевал тогда свое невиданное, тонкое понятье о рыцарстве?» – поддразнивает она его. «Все победила дружба, Софи, – отвечает капитан. – Чего не сделаешь для жены своего брата-офицера, чего не доставишь с конца света ради своего друга Харвила».
Вот Харвилы встречают гостей в Лайме: «…ничто не могло быть искренней, чем их готовность сразу принять в друзья всех, кто имеет счастье состоять в дружбе с капитаном Уэнтуортом, и чистосердечней их настойчивых приглашений на обед». А когда «они вошли к новым своим друзьям», то «оказались в комнатах до того тесных, что лишь от широты души можно было зазывать туда на обед такое широкое общество». Описывая то, что для Энн близко и желанно, Остин часто повторяет слова «друзья», «дружба»; но чем больше героине нравятся окружающие, чем больше офицеры и миссис Харвил проявляют теплоту, искренность и добрые намерения по отношению друг к другу, тем ей становится больнее. «“Ведь все это могли быть и мои друзья”, – думалось ей, и пришлось крепко взять себя в руки, чтобы вовсе не расчувствоваться».
В Лайме Энн нашла то, что, сама того не осознавая, искала все эти годы, – дружбу и привязанность. Чем больше я размышлял о книге, чем больше проникался ее философией, тем яснее понимал, что Остин, желая показать, как люди находят друг друга и привязываются, нарисовала свой идеал сообщества – круг друзей.
В книгах, как и в жизни, я все искал не там. Я перечитывал романы Остин, ожидая найти идиллическую картинку деревенского общества, некий штамп, автоматически всплывающий в сознании. Я смутно предполагал, что и в реальной жизни отыщу, наверное, нечто подобное – если вообще отыщу. Но теперь я понял, что в современном мире нет места такой структуре – надежной, стабильной, постоянной. Сегодняшние сообщества не похожи на кибуц или коммуну, пытающиеся воспроизвести что-то вроде родовой общины прошлых времен. Их не уподобишь замкнутым миркам, в которых можно существовать лишь в определенном возрасте (и которые ностальгически вспоминаешь через многие годы), – молодежным движениям и другим подростковым сообществам (старшей школе, колледжу, спортивной команде, студенческим братствам, летним лагерям). Нет, современный мир слишком хрупок и нестабилен, отношения между людьми чересчур изменчивы. Идеальным сообществом для взрослого человека может стать только круг друзей, единомышленников.
Понять это не составило труда, ведь люди общаются по такому принципу уже без малого два столетия, к тому же и Джейн Остин помогла мне разобраться что к чему. Скорее удивительно, как она сама сумела разглядеть будущее из окна маленького домика в английской глубинке во времена, когда нынешние нормы общения только пускали ростки. Теперь я осознал, что «Доводы рассудка» – роман о крахе традиционного уклада общества. Остин отвергала то сообщество, которое я так старательно искал на страницах ее книг, – жителей городка или деревни в сельской Англии. Она спешила распрощаться с ним, отрицала иерархию и феодальный порядок, которые породили самодовольного, напыщенного сэра Уолтера и Бертрамов из «Мэнсфилд-парка». Остин оставляла в прошлом приверженность старым обычаям, старинным связям, преемственности и стабильности, которые воспевала лишь в «Эмме», ее единственном идиллическом произведении.
Кажется довольно странным, что «Доводы рассудка» написаны сразу после «Эммы». Между завершением одной рукописи и началом работы над другой прошло всего четыре месяца. Но ход мыслей писательницы менялся очень быстро. Из застывшей в прошлом сельской Англии Остин легко перескочила в самую гущу головокружительных перемен. «Эмма», в которой нет никаких дат, существует как бы вне истории. «Доводы рассудка» начинаются шквалом дат, привязывающих повествование к конкретному историческому периоду – концу Наполеоновских войн. Можно подумать, что Остин обладала даром предвидения, настолько четко она ощущала, что хорошо знакомый ей мир стоит на пороге исчезновения. Привычный порядок вещей сменяется новым. Сэр Уолтер пакует вещи и съезжает, уступая место адмиралу Крофту. Аристократия сменяется меритократией[32], иерархия проигрывает равенству. Впредь люди все больше будут зависеть друг от друга не как хозяин и слуга, помещик и арендатор (даже муж и жена, прежде неравные в браке), а только лишь как друзья.
В «Доводах рассудка» Остин отказывается не только от уклада, ставящего сэра Уолтера выше капитана Уэнтуорта, речь идет не просто об общественных традициях. Сложно поверить, но, кажется, она отказывается от института семьи. К примеру, войдя в круг семей морских офицеров, Энн начинает надеяться, что ей не придется весь свой остаток дней мириться с присутствием ничтожного отца и сестер. По мере развития событий она все больше и больше избегает родственников. К сожалению, вскоре после поездки в Лайм приходит пора присоединиться к сэру Уолтеру и Элизабет в Бате. Нельзя сказать, что кто-то этого сильно хочет, но вечно сидеть на шее у Мэри тоже невозможно. Вернувшись к родным, Энн изо всех сил старается проводить с ними как можно меньше времени, а вскоре вновь встречается с компанией новых друзей, которые тоже приехали в Бат, только отдыхать.
Недовольство Энн родственниками достигает пика. Девушка начинает подозревать, что вокруг отца и сестры плетутся интриги, всерьез угрожающие их спокойствию. Обычно такое развитие событий становится центром сюжета; героиня спешит поделиться новостями и предотвратить грядущее несчастье. Но Энн ничего не предпринимает. Семья просто перестает иметь для нее значение.
Как такое возможно? Как Остин, автор любовных романов и великая устроительница браков, могла пойти против семьи? Однако, вспомнив сюжеты других книг, я вдруг понял, что среди десятка с лишним созданных ею семей есть лишь одна счастливая (Эмма счастлива и в браке, и в семейном кругу). Остин исправно выдает своих героинь замуж, но все истории заканчиваются воссоединением сердец, а сложности семейной жизни, борьба отцов и детей остаются за кулисами. Известно, что у Джейн Остин была дружная семья, она обожала своих племянников и племянниц, но, представляя себе счастье, она объединяла взрослых – супружеские пары, маленькие компании – в миниатюрные группки друзей.
Стоило мне заметить эту особенность на страницах «Доводов рассудка», как я начал находить ее повсюду. Снабдив героиню мужем, Остин тут же создавала для пары сообщество – круг братьев, сестер, друзей, с которыми радостно общаться после заключения брака. «Гордость и предубеждение» закончилось не просто союзом Элизабет и Дарси – две сестры вышли замуж за двух друзей, присоединив к этому сообществу братьев и сестер. «Эмма» завершилась тремя свадьбами, и герои проводили дни, окруженные «надеждой и верой горсточки преданных друзей». Один из критиков справедливо заметил, что для Остин дружба – «истинный свет жизни».
Остин научила меня тому, что друзья – это семья, которую мы выбираем сами. Эта истина стала избитой не так давно, но Остин она уже была хорошо известна. Наши друзья становятся нашей семьей, а наши родственники, по крайней мере, некоторые из них, – нашими друзьями. Уильям Прайс в «Мэнсфилд-парке» был для Фанни «братом и другом». Кэтрин Морланд в «Нортенгерском аббатстве» стала близка с Генри и Элинор Тилни, которые дружили между собой, но избегали непорядочного старшего брата. Элизабет Беннет дружила с Джейн и отцом, но с трудом терпела мать и младших сестер; миссис Дарси приняла в свое сообщество некоторых родственников, но четко исключила из него других.
Остин писала, что Энн завидовала золовкам Мэри – симпатичным и беззаботным девушкам Генриетте и Луизе Мазгроув – лишь в одном, она завидовала «царящему меж ними согласию и любви, которых самой ей так недоставало в обеих сестрах». Харвилы, одна из немногих счастливых семей в романах Остин, считали своего друга, капитана Бенвика, членом семьи; «морское» сообщество включало брата и сестру, капитана Уэунтуорта и миссис Крофт. Между семьей и друзьями нет четких границ; сообщества пересекаются, чувство дружбы распространяется и на тех, и на других.
Никто не осмыслил это лучше Остин. В ее письмах понятия «семья» и «дружба» тесно сплетены. Поддавшись порыву, она приняла предложение Гарриса Бигг-Уизера, но быстро осознала, что это неверный шаг, продиктованный стремлением породниться с его семьей, с его сестрами. Сестра Кассандра всю жизнь была лучшей подругой Джейн, а любимая племянница удостоилась приглашения в их тесный кружок в юном возрасте пятнадцати лет. «Я рада узнать твое суждение о Фанни. Этим летом я нашла ее именно такой, как ты описывала; она почти как сестра, я и подумать не могла, что племянница может столь много для меня значить», – писала Джейн Кассандре.
Позже, когда Фанни исполнилось двадцать, тетя и племянница постоянно обменивались трогательными письмами. В одном из них Остин пишет: «Ты и представить не можешь, какую радость мне приносит столь подробное изображение твоей души.» «О, сколь много я потеряю, когда ты выйдешь замуж», – добавляет она, заранее страшась того времени, когда их кружок распадется. Похоронив Остин, Кассандра пишет племяннице, что она стала ей «вдвойне дороже теперь, после ее [Джейн] ухода», и, зная, что та ее поддержит в этом, добавила: «Я обеднела, утратив сокровище, друга, сестру – ничто в целом мире ее не заменит».
В доме, где Джейн провела последние двенадцать лет жизни, также сложилось сообщество из семьи и друзей, совсем как у Харвилов. Роль капитана Бенвика отводилась подруге детства Марте Ллойд; ближе нее писательнице была лишь Кассандра. Подростками девочки нередко оставались друг у друга ночевать, болтали и хохотали до слез, лежа в постели. Когда отец Джейн и давно овдовевшая мать Марты умерли, Марта поселилась вместе с сестрами Остин и их матерью – в те времена это случалось нередко. Марта оставалась с ними, пока не вышла замуж за брата Джейн, Фрэнка. Остин заразила подругу любовью к театру, делилась с ней мыслями о политике, скандалах в королевской семье, своих произведениях и вообще о жизни. Джейн писала Кассандре, что Марта – «друг и Сестра, что бы ни случилось».
Друзья могут стать вашей настоящей семьей, но, прежде чем обрести свой круг, мне, как и Энн в Лайме, предстояло пройти длинный путь. Нам обоим было сложно найти даже единичных товарищей, не говоря уже о целой компании. Я и не заметил, как и когда изменилось мое окружение. И дело не только в том, что люди вокруг стали более занятыми, – они просто стали более закрытыми. Едва нам перевалило за тридцать, как юношеская контактность, готовность к новым впечатлениям и знакомствам, о которой так много писала Остин в «Нортенгерском аббатстве», начали таять на глазах.
Уже не получалось в одночасье стать закадычными приятелями с первым встречным, как бывало в пятнадцать, двадцать и даже двадцать пять. Новые знакомые, которые могли бы стать друзьями, вели себя сдержанно, осмотрительно, недоверчиво. Завязать дружбу стало так же непросто, как провести дипломатические переговоры на высшем уровне или решить заковыристую головоломку, в которой можно подставить лишь пару фрагментов за каждый ход.
Для Остин дружба значила слишком много, чтобы идеализировать ее. Она, как и Фанни Прайс, «размышляла о том, какие разные дружбы существуют на свете», и писала о них с детства. Во времена отрочества Джейн в моде была так называемая романтическая дружба – наигранно страстная привязанность, демонстрирующая способность к глубоким возвышенным чувствам. «Любовь и дружба», самое знаменитое из ранних творений Остин (в своем эссе о Джейн Остин Вирджиния Вулф говорит, что Джейн создавала его, «едва поспевая писать и не поспевая соблюдать правописание»[33]), обличает именно этот стереотип:
Представьте себе мои чувства, когда я, лишившись три недели назад ближайшей подруги… вдруг поняла, что вижу перед собой ту, что воистину достойна называться ею… Чувствительность была ее отличительной чертой. Мы бросились друг другу в объятия и, поклявшись быть верными нашей дружбе до конца дней своих, немедленно поведали друг другу самые заветные тайны[34]…
Представляю, как иронизировала бы Джейн Остин в наше время над Facebook, MySpace и Twitter, в мгновение ока создающими иллюзорные узы между людьми. Изабелла Торп пыталась связать таковыми Кэтрин Морланд в «Нортенгерском аббатстве», но в остальных книгах Остин персонажи лицемерят более умело. Мир «Доводов рассудка» населяют карьеристы, карабкающиеся вверх по социальной лестнице за счет дружбы и брака. Город Бат – маяк в моря честолюбия. Миссис Клэй, двуличная вдовушка, вцепилась в Элизабет Эллиот, словно пиявка, чтобы через нее подобраться как можно ближе к сэру Уолтеру, а затем стать его второй женой. Можно не сомневаться, что, достигнув цели, новая леди Эллиот тут же позабыла бы о дружеских чувствах по отношению к девушке. Некоторые люди милы с вами лишь до тех пор, пока им что-то от вас надо, а с такими друзьями и враги не к чему.
Однако самый ярый лизоблюд в «Доводах рассудка» – сам сэр Уолтер. Стоило мне это заметить, и многое встало на свои места. Любой, кто озабочен своим положением в обществе, должен заискивать перед теми, кто стоит ступенькой выше, и пренебрегать всеми остальными. Так же как под маской задир зачастую прячутся трусы, так и под личиной знатных снобов скрываются подхалимы; неудивительно, что Остин «обожала» аристократию. Объектом поклонения сэра Уолтера стали его кузина виконтесса Дэлримпл и ее дочь мисс Картерет – парочка посредственностей, у которых за душой не нашлось ничего кроме родословной:
Энн прежде не видела отца и сестрицу в отношениях их со знатью и теперь не могла не испытывать разочарования. Она ждала лучшего, полагаясь на их высокое мнение о собственном положении в свете, и невольно склонялась к желанию, которого и вообразить в себе не могла: она желала им побольше гордости; ибо речи о «наших родственницах леди Дэлримпл и мисс Картерет», «наших родственниках Дэлримплах» звучали на Кэмден-плейс с утра до вечера и безмерно ей докучали.
Дружба с кем-то вроде сэра Уолтера или миссис Клэй не может заинтересовать людей, менее податливых к лести, чем объекты их поклонения. Друзья могут быть куда более опасны и вероломны, чем враги, – предупреждает Остин, – даже если у них самые добрые намерения, иногда они не видят различия в том, что хорошо для других, и что – лично для них. Таким другом оказалась леди Рассел, которая, заменив героине мать, стала для нее единственным близким человеком. Самое грустное то, что Энн, чрезвычайно дорожа отношениями со старой леди, не позволяла себе заметить ее ограниченность. А после равнодушного приема, оказанного Энн семьей Мазгроув (полезный урок: «…сколь мало значим мы за пределами своего круга»), девушка в особенности начинает ценить «милость судьбы, пославшей ей такого верного и преданного друга, как леди Рассел». Ведь даже родная сестра Мэри относилась к отъезду из фамильного гнезда – трагедии, мучившей Энн многие недели, – с полнейшим безразличием. Да уж, после Мэри кто угодно мог показаться чудесным человеком, тем более – преданная старая дама.
Именно леди Рассел убедила героиню совершить величайшую ошибку в жизни – отвергнуть капитана Уэнтуорта, хотя, конечно, она сделала это из самых лучших побуждений. И позже, снова оказавшись в аналогичной ситуации, леди Рассел, как это ни удивительно, повторила свой совет, хотя прекрасно знала, как несчастна и одинока была ее подопечная все эти годы. Но к этому времени прозрела даже Энн. Было очевидно, что леди Рассел, осознанно или нет, заботилась о собственной репутации высоконравственной дамы, а вовсе не о благополучии девушки. Это себя, а не Энн, она пыталась уберечь от общения с человеком столь низкого и недостойного происхождения, с каким-то морским офицером.
Но что взять с леди, которая уверена, что заискивать перед виконтессой Дэлримпл – хорошо и правильно? Присмотревшись внимательнее к своей подруге, Энн поняла, что представления этой престарелой дамы и ее отца о том, чтó в человеке главное и насколько значимы его манеры и происхождение, по большей части совпадают. Однако стоило Энн решить для себя, как ей следует жить, – на этот раз самостоятельно, без помощи «друзей» – и леди Рассел «ничего не оставалось» (если она хотела сохранить дружбу с Энн), «как признать, что она кругом была не права, переменить свои сужденья, отринуть старые надежды и предаться новым». Проще говоря, Энн поставила леди Рассел перед свершившимся фактом. После того, как девушка ушла от отца и сестер, ей хватило бы решимости расстаться с любым, кто встанет на ее пути к счастью.
Такое происходит сплошь и рядом: друзья, казалось бы, отчаянно борются за ваше счастье, а на деле пытаются защитить собственное. Они убеждают вас порвать с тем, кто им не нравится, и жить только с теми, кто им приглянулся. Они уговаривают поскорее жениться, если сами в браке, или лелеют ваше одиночество, опасаясь, что иначе останутся в холостяках одни. Уверен, я и сам так поступал. Подобное происходит неумышленно – Остин это тоже знала – и, чтобы не идти на поводу у собственного подсознания, надо уметь отдавать себе отчет в своих поступках и, конечно, обладать определенным благородством.
Парочка, из-за которой я попал в компанию золотой молодежи, не страдала от избытка ни того, ни другого. «Слава богу, все позади!» – воскликнули они, когда я рассказал им о своем очередном неудачном романе. Под «всем» подразумевалась длинная череда неудач на любовном поприще – источник, из которого я черпал забавные истории, чтобы развлекать их. Вряд ли они хотели меня задеть, но такие комментарии давили на психику, особенно когда становилось ясно, что я снова выбрал не ту девушку и никак не могу разорвать с ней отношения. Приятель с женой считали, что «всему» уже пора закончиться, и я не должен разочаровывать их, оставаясь с неугодной им подружкой. Когда же я, наконец, решился на разрыв, их реакция оказалась вполне предсказуемой, хоть и не слишком ободряющей: «Нам жаль, что мы так никогда и не увидим тебя в окружении маленьких Билли». Что-что? Никогда? Хотите сказать, что моя песенка спета? По крайней мере, именно так это и прозвучало, словно я раз и навсегда доказал им, что абсолютно безнадежен.
По мнению Остин, настоящая дружба, как и настоящая любовь, – большая редкость. «Случается, что природа человеческая делается прекрасной от страданий, но, вообще говоря… себялюбие и нетерпенье встретишь там куда чаще, чем великодушие и стойкость. Как мало на свете дружбы истинной!» – заметила одна из второстепенных героинь «Доводов рассудка». Фраза принадлежала некой миссис Смит, у которой была очень нелегкая жизнь. По мнению Энн, эта женщина провела слишком много времени «среди людей, которые и побудили ее думать о человечестве хуже, чем оно того заслуживало». Во всяком случае, девушке хотелось верить, что человечество заслуживало лучшей оценки. И, пожалуй, это единственное, что ей оставалось, – верить. Героиня понимала, что миссис Смит, которая «очень много вращалась в свете», познала жизнь куда лучше, чем она сама. Несмотря на новые знакомства в кругу морских офицеров, собственный опыт Энн был не настолько велик, чтобы оспаривать суждения другой женщины.
Дружба между Энн и миссис Смит оказалась одной из тех самых драгоценных «редкостей». Они познакомились еще в пансионе, куда Энн приехала после смерти леди Эллиот: «…горюя о нежно любимой матери, скучая по дому, и страдала, как только может страдать четырнадцатилетняя девочка с чувствительной душою». Будущая миссис Смит, которая была старше Энн на три года, выказывала ей «доброту… старалась облегчить ее участь, утешала как умела, и Энн не могла ей этого забыть». Именно эти человеческие качества Остин превозносила в «Мэнсфилд-парке», и они значили для автора куда больше, чем все остроумие на свете.
Теперь наступила очередь миссис Смит уповать на людскую доброту. Овдовев, потеряв все средства к существованию, утратив способность самостоятельно ходить, она жила в двух темных неудобных комнатушках, и рядом не было никого, кто мог бы ей помочь. Сэр Уолтер не поверил своим ушам, когда узнал, что его дочь навещает женщину в таком положении.
– Уэстгейт Билдингс! – воскликнул он. – Пристало ль мисс Энн Эллиот посещать Уэстгейт Билдингс? И потом – кто такая миссис Смит? Вдова мистера Смита. Но кто был муж ее… И чем сама она взяла? Тем, что стара и больна! Да, мисс Энн Эллиот, странный же у вас вкус!
Но подлинную верность дружбе продемонстрировала все же миссис Смит. Ей было известно кое-что о человеке, очень близком Энн, однако правила приличия и личная заинтересованность мешали ей заговорить. С другой стороны, от ее слов зависело благополучие Энн! Миссис Смит не была святой. Она долго колебалась, не зная, как поступить. У нее оставалось не так много возможностей поправить свое финансовое положение и, побеседовав с Энн, она своими руками разрушила бы самую реальную из них. Но, в конце концов, миссис Смит собралась с духом и все рассказала.
Настоящая дружба, по мнению Остин, проявляется в умении ставить благополучие друзей выше своего собственного. Ты сам признаешься в ошибке, если не прав, и, что гораздо важнее, не побоишься поговорить с друзьями, если ошибаются они. Мне потребовалось немало времени, чтобы усвоить этот урок, ведь он пошатнул современные представления о дружбе, которые я полностью разделял. Считается, что между настоящими друзьями царят безоговорочные поддержка и согласие. Друзья обязаны щадить твои чувства, вставать на твою сторону в любом споре, оправдать тебя в любых обстоятельствах и никогда ни за что не осуждать. Но Остин думала иначе. Для нее жить счастливо означает постоянно совершенствоваться духовно, а совершенствование возможно только в том случае, когда тебе указывают на твои ошибки, заставляя их исправлять. Да, настоящие друзья желают тебе счастья, однако быть счастливым и быть довольным собой – не одно и то же; временами это прямо противоположные понятия. Настоящие друзья не скрывают от тебя твои ошибки, они указывают на них, даже если рискуют при этом потерять твое расположение; иными словами, рискуют собственным счастьем ради тебя.
Моя верность новому нестандартному пониманию дружбы подверглась испытанию в то лето, когда я, наконец, завершил главу об Остин. Мой лучший друг по колледжу уехал учиться в аспирантуру в другой город и за прошедшие годы постепенно изменился до неузнаваемости. Мы не потеряли друг друга из виду, но при встрече он всегда болтал о пустяках и ничем не делился. В какой-то момент я понял, что у него серьезные проблемы с алкоголем.
В один из выходных, когда он вернулся в Бруклин, мы решили встретиться. Жена знала о его пристрастии, но отпустила его под мою ответственность выпить пива в местном баре; по крайней мере, так мы себе это представляли поначалу.
Пока мы обменивались приветствиями и шуточками, он успел уговорить три бокала, а стоило мне коснуться серьезных тем, уводил разговор в сторону. В скором времени я уже считал минуты до конца встречи и думал только о том, как бы поскорее сесть в такси. Однако он настойчиво предлагал отвезти меня домой, пытаясь делать вид, что все прошло отлично, а я так боялся поссориться с ним, что не смог отказаться.
По дороге он свернул не туда и оказался – где бы вы подумали? – в нашем любимом баре в Ист-Виллидж. Ведь мы просто обязаны заглянуть в Blue&Gold, как в старые добрые времена, разве не так? Он взял очередной бурбон, я цедил пиво, смотрел на него и не мог понять, что же такое, черт возьми, приключилось с другом, которого я знал. Он тем временем заказывал еще, и еще, и, была ни была, последний стаканчик на дорожку.
Каким-то образом нам удалось добраться до дома целыми и невредимыми, но, перестав злиться, я вдруг сообразил, что тоже подвел его: не только потому, что пустил за руль в таком состоянии, но и потому, что не решился сказать ему в лицо все, что я о нем думал. Наши отношения никогда не выходили за рамки того давнего, полудетского приятельского общения, и я просто не знал, как начать столь серьезный и взрослый разговор. Я попытался написать ему через неделю: начал с обычного беззаботного трепа, но быстро сник. Не было сил прикидываться, будто я не замечаю того, что прямо-таки бросалось в глаза. В конце концов, я понял, что не смогу говорить с приятелем ни о чем до тех пор, пока мы откровенно не обсудим то, что с ним происходит.
Мне потребовался целый месяц, чтобы набраться смелости и вновь поднять эту тему. Я не сказал ни слова об алкоголизме, просто объяснил, что мне показалось, будто мы с ним больше не друзья, и это действительно паршиво. Я надеялся, до остального он додумается самостоятельно.
Он молчал несколько месяцев. Я уж думал, нашей дружбе конец. Но вскоре получил от него известие: он перестал пить – вступил в группу поддержки и все такое, – и мое письмо, в числе прочего, подтолкнуло его к этому. Не передать, как я был горд и счастлив. Но, разумеется, я прекрасно понимал, кто был моим тайным вдохновителем – Джейн Остин.
Конечно, я был рад, что смог поступить как настоящий друг, но еще больше обрадовался, когда понял, что у меня такой друг был всегда. Та девушка из молодежного движения, которая знала меня лучше, чем я сам. Когда-то меня страшно раздражала ее привычка заниматься моим воспитанием. Как в тот раз, когда она одернула меня: «Билли, все это она уже слышала», прежде чем я успел отпустить идиотскую шуточку про девушку с именем Онор. Моя подруга старалась быть тактичной, но я все равно обижался, чувствуя себя в ее присутствии маленьким и глупым. И только усвоив урок Джейн о честности и дружбе, я понял, как благодарен своей подруге за то, что она до сих пор не махнула на меня рукой. Она пыталась сделать из меня достойного человека – наверное, считала, что это возможно, – и верила в меня, и готова была ждать дня, когда это случится.
Естественно, многие интересовались, почему мы не начали встречаться. Этот вопрос меня жутко бесил. А что, мужчина и женщина не могут быть просто друзьями, без секса? Очевидно, согласно всеобщему убеждению, нет. Я, наконец, посмотрел «Когда Гарри встретил Салли»: главная мысль картины как раз и заключается в том, что такая дружба невозможна, потому что «здесь всегда примешивается секс». Кого ни спроси, все твердили одно и то же. Люди противоположного пола могут говорить, что они «просто друзья», но за этим всегда скрывается нечто большее.
Похоже, абсолютно все были убеждены, что мужчины и женщины могут интересоваться друг другом исключительно ради секса. Разговоры, сотрудничество, любые другие совместные занятия даже не рассматриваются. Можно подумать, речь идет о разных породах!
И это очередное убеждение, в которое Остин не желала верить. Как выяснилось, она была одной из первых, кто оспорил его; «Доводы рассудка» – первый роман, в котором она выразила свои мысли столь ясно.
Собравшиеся в Лайме герои были подобающим образом представлены друг другу; Энн и Мэри познакомились с Харвилами и капитаном Бенвиком. У Энн обнаружилось много общего с Бенвиком. Оба горевали об утраченных любимых: героиня о Фредерике, капитан о своей невесте Фанни Харвил. Оба были застенчивые, мягкие, чувствительные натуры. Оба – большие ценители поэзии. Они постоянно оказывались рядом: «Едва они вышли на улицу, капитан Бенвик очутился рядом с Энн», «Капитан Бенвик вновь очутился рядом с Энн» – два человека, свободных и одиноких, серьезно и искренне делились друг с другом мыслями о любимых поэтах, лорде Байроне и сэре Вальтере Скотте.
Но чувства остались платоническими, между Энн и капитаном не проскочило даже малейшей искры. Остин поддразнивала нас, наводя на мысль, что эти двое сойдутся, и готовилась преподать новый урок. Мужчина и женщина, даже молодые и свободные, могут беседовать между собой, понимать и сочувствовать, интересоваться друг другом и делиться сокровенными мыслями и чувствами, но при этом не испытывать никаких романтических симпатий. Иными словами, они могут быть друзьями.
Героиня подружилась не только с Бенвиком. Капитан Харвил, как человек женатый, был менее опасен для ее доброго имени, и все же даже в наши дни странно видеть в нем лишь преданного друга женщины. Главная сцена между ними происходит в конце романа. Встретив Энн в толпе, капитан Харвил приглашает ее побеседовать, он «подкреплял приглашение свое такой открытой улыбкой, будто они век целый были знакомы». Их разговор вскоре затронул тему преданности мужчин и женщин. Кто любит дольше и глубже? Каждый, конечно, защищал свой пол, пока Харвил не привел, с его точки зрения, неоспоримый аргумент:
– Однако, позвольте вам заметить, сочинители все против вас – все сочинения против вас, в стихах и в прозе. Будь у меня память, как у Бенвика, я вмиг нашел бы вам пятьдесят цитаций в подтверждение моей мысли, и я в жизни своей не открывал книги, где не говорилось бы о женском непостоянстве. Да ведь вы скажете, небось, что книги-то сочиняют мужчины.
– Быть может, и скажу. Нет, нет, с вашего дозволения, книги мы уж лучше оставим в покое. У мужчин куда более средств отстаивать свои взгляды. Образованность их куда выше нашей; перо издавна в их руках. Не будем же в книгах искать подтверждений своей правоты.
«Перо издавна в их руках». Теперь, конечно, все изменилось. Головокружительная сцена, благодаря которой над страницами английского романа забрезжил рассвет феминизма. Сама дискуссия представляет собой феминистскую декларацию. Энн и Харвил обсуждают общую тему, высказывая мужскую и женскую точки зрения, проявляя взаимное уважение и симпатию. Если мужчина и женщина способны говорить на равных, – утверждает Остин, – значит, они могут быть и друзьями.
К счастью, об этом я был хорошо осведомлен еще со времен участия в молодежном движении. И, наконец-то, благодаря моей старой приятельнице я вошел в некий дружеский круг, стал частью сообщества, которое искал столько лет. В аспирантуре моя приятельница обрела друга, чья семья жила в Новой Англии в самом чудесном старом доме, какой только можно вообразить; с просторной верандой, гостеприимной, как бабушкины объятия; с огромной, но уютной гостиной, где в те времена, когда здание принадлежало городу, устраивались танцы. Стрелки кухонных часов навсегда остановились на 10 часах 36 минутах: идеальное время, шутили мы, не слишком рано и не слишком поздно.
История моего знакомства с новыми друзьями до крайности напоминала «Доводы рассудка». Начнем с того, что дом стоял на побережье, – все, как в Лайме. (Кстати, до Лайма – того, что в Коннектикуте, – было не так далеко.) Его владельцем был моряк, грубоватый, практичный, но не лишенный той неподдельной теплоты, которая так заворожила Энн в его собратьях – морских офицерах. Как и Харвилы, он приглашал нас в гости от всего сердца. Как Харвилы, открывал двери для всех, кто хотел приехать, и все, кто приезжал, становились друзьями. Как Харвилы, делал все, чтобы каждый чувствовал себя как дома.
В выходные, в теплую погоду, друзья стекались к нему со всего северо-восточного побережья. Я приезжал из города, моя подруга – из Нью-Гэмпшира, несколько человек – из Коннектикута, и мы проводили время, бездельничая и дурачась. Пятна солнечного света разбегались по воде; чайки, крича, кружили над головами. Мы играли в мяч, поедали моллюсков, а по ночам пили пиво, играли на гитаре и говорили, говорили, говорили. Со временем мы все сблизились, словно горошины в стручке. Мы выслушивали друг друга, знакомились с девушками и парнями друг друга, притирались друг к другу.
Все мы оказались в этом доме по одной причине – нас объединило чувство пустоты, которое настигает всякого, кто перешагнул порог тридцатилетия и окончательно отдалился от родителей. Некоторые из нас уже нашли себе пару, другие – нет. С одной стороны, это неважно. С другой – что может быть важнее. Поэтому, когда хозяин дома вдруг по уши влюбился (осенью, после завершения главы про Остин), мы дружно приехали на выходные познакомиться с его избранницей – все произошло стремительно, и она уже жила у него. Той ночью за кухонным столом, смакуя десерт, который она приготовила, собралось человек восемь. Неярко горели свечи, ее кошки терлись о наши ноги, кто-то шутил. Я откинулся на спинку стула, огляделся и понял: «Да, я нашел свою семью».
Глава 6. «Чувство и чувствительность»: сказки о любви
Я жил в Бруклине почти три года, и жаловаться мне было не на что. Я сумел найти общий язык с отцом, и наши отношения более или менее наладились. Я больше не нуждался в его одобрении и смирился с тем, что сам он никогда не поменяется. Глава, посвященная Остин, была закончена, я уже написал около ста страниц о романе «Мидлмарч»; диссертация, можно считать, перевалила за середину, и появилась надежда, что работа когда-нибудь будет закончена. И, что самое главное, у меня образовался свой круг друзей.
И все-таки чего-то недоставало. Чего-то значительного, важного. Я до сих пор не встретил свою единственную. Девушку, с которой хорошо быть вместе, а не только спать. Мимолетные увлечения, интрижки и курортные романы меня больше не интересовали, я хотел настоящих, прочных, искренних отношений. Во времена молодежного движения, колледжа, первых лет аспирантуры было нетрудно найти подружку среди своих знакомых. Но я оказался совершенно не готов к тому кошмару, который представляли собой свидания в Нью-Йорке. Я словно блуждал в бесконечном лабиринте пустых разговоров, запутанном и унылом, как тоннели подземки. Вместо того чтобы налаживать связи через общих друзей, как я привык, приходилось заигрывать с незнакомками, которые отлично понимали, чего я от них хочу, да еще надо было суметь очаровать их за тот краткий промежуток времени, пока ожидаешь заказанный коктейль или подходишь к дому, куда тебя пригласили на вечеринку.
Но в Нью-Йорке на одном очаровании далеко не уедешь (я, впрочем, уже не понимал, чтó здесь считается очаровательным). Необходимо было заинтересовать, произвести впечатление человека успешного, говорить как победитель, особенно если ты мужчина. Чем ты занимаешься? С кем общаешься? Какую школу окончил? Я научился излагать свое внушительное резюме в первые пять минут разговора. Попытка познакомиться с незамужней женщиной больше всего напоминала мне собеседование перед приемом на работу. «Просто будь собой», – твердили все вокруг. Быть собой? Может, в этом и заключалась главная проблема?
Не обошлось и без оскорбленного самолюбия. Свидания вслепую. Розыгрыши. Как-то девушка пригласила меня на ужин, а потом заявила, что у нее уже есть парень и она даже не догадывалась о том, что у нас с ней свидание. Было множество женщин, которым я нравился, но «не в том смысле».
– Считай, что у тебя появился новый друг, – подбадривали приятели.
– Мне даром не нужны такие друзья! – бесился я.
Однажды я разговорился с девушкой на выходе из спортзала (тот редкий случай, когда все складывается само собой, так что не успеваешь даже оробеть). Она была умная, милая, интересная и хорошенькая. Дойдя до угла, где наши пути расходились, мы одновременно повернулись друг к другу и спросили: «А как тебя зовут?»
Ее звали Пэм. Пэм, Пэм, Пэм, Пэм, Пэм. Всю неделю я только и думал о новой встрече с ней. Но вот неделя прошла, а в спортзале она не появилась. Я начал терять надежду. Может, она придет через неделю? Нет, через неделю она тоже не пришла. В результате, окончательно пав духом, я поместил объявление в газете The Village Voice: «Отчаянно ищу Пэм», а также приписал дату, место нашей встречи и номер своего телефона.
Даю подсказку: никогда не указывайте номер своего телефона в таких объявлениях. Сперва позвонила женщина, которая выдавала себя за Пэм («Конечно же, я Пэм». – «Предположим. А кем работаете?» – «Ой, да ладно тебе»). Затем позвонила дама, которая сказала, что она не Пэм, но все равно надеется на встречу со мной. Потом позвонил парень из Нью-Джерси, дабы пожаловаться на то, как тяжело найти достойную партию («Может, тебе не стоит ходить на вечеринки вместе с другом, который богаче и симпатичнее тебя», – посоветовал я). Далее мне позвонил тип, который тоже назвался Пэм («Можешь называть меня Пэм, если хочешь»). И наконец, поздно ночью раздался звонок от мужчины, который скрипучим голосом сообщил, что будет счастлив познакомить меня с Пэм за определенную плату.
Всего один раз за эти годы у меня сложились довольно серьезные отношения. Началось все очень романтично. Мы встретились на свадьбе моего старого друга. Вообще-то, как я впоследствии выяснил, нас свели. Она выбрала меня из списка – из списка, вот именно, да еще и с фотографиями – подходящих парней, который мой друг составил по ее просьбе. Впрочем, перечень получился коротким. Претендентов было всего двое, включая меня. Но, как ни крути, сути это не меняло. Когда она рассказала мне об этом, наше знакомство стало казаться мне еще более романтичным.
Мой товарищ попросил ее забрать меня из аэропорта. Едва я сел в машину, мы сразу почувствовали, что между нами проскочила искорка, но речь идет не о сексуальном влечении, а скорее об ощущении легкости, близости и родства, как будто мы давно знали друг друга и сейчас лишь возобновили ненадолго прерванный разговор. Выходные мы провели вместе, были неразлучны, смеялись, не переставая, не могли поверить нашему счастью. Свадьба, на которой мы познакомились, была в Мичигане (моя новая знакомая и мой друг как раз завершили обучение в Мичиганском университете), а сразу после церемонии она уезжала в Бостон, где ее ждала работа и новая жизнь. Она предложила проехаться вместе с ней до Бостона, и я поддался мимолетному порыву, вспомнив дерзкий и романтический побег Бонни и Клайда.
Весь день мы травили байки, потом переночевали в мотеле у Ниагарского водопада (мы и не знали, что это место так популярно среди молодоженов). С трудом расставшись пару дней спустя, мы поклялись друг другу сохранить эти отношения, даже если нам придется поддерживать их на расстоянии. В наших разговорах промелькнуло даже слово «брак»: «Да, думаю, я хочу жениться, если у нас все получится». Я на самом деле так сказал! Невероятно, как же я повзрослел! Не зря, видно, назубок выучил уроки Джейн Остин, благодаря которым был готов к полноценному взрослому роману.
Впрочем, романтика быстро испарилась. Ссоры в Бостоне, ссоры в Бруклине, ссоры по электронной почте (которая тогда только появилась). Ссоры из-за моих чувств, потом из-за ее чувств, ссоры из-за ссор. Во время больших ссор возникали маленькие, с которыми нужно было разобраться, прежде чем продолжать ссориться по-крупному. Мы бесконечно звонили друг другу и разговаривали спокойно до тех пор, пока не всплывал какой-нибудь очередной повод, из-за которого мы ругались весь вечер.
Мне так нравилась идея зрелых отношений, было так приятно бросаться громкими словами («брак» и все такое), что я позабыл спросить себя, хорошо ли мне с ней. Честно говоря, мы были несовместимы; это выяснилось, как только миновал конфетно-букетный период и мы стали по-настоящему сближаться; мы даже не особенно нравились друг другу. Потребовались месяцы, чтобы окончательно признать это и сдаться, но меня так впечатлила романтическая завязка нашего любовного приключения – очаровательная история, которую однажды можно было бы рассказать.
Расставшись со своей девушкой, я почти зарекся вступать в серьезные отношения. Встреча, искра, ощущение родства – разве не так возникает любовь? Неужели моя интуиция подводит меня? Что, если бы я не успел спастись вовремя? Я, можно сказать, еле ноги унес. Для меня, страдающего аллергией на обязательства, такой опыт был подобен кошмарному сну. В конце концов я пришел к выводу, что все равно хочу найти возлюбленную, но вот жениться не стану ни за что.
Поскольку первая глава диссертации была давно закончена, я решил, что Остин можно пока отложить. Но именно в это время по ее книгам сняли сразу несколько фильмов: «Бестолковые», «Доводы рассудка», «Гордость и предубеждение» с Колином Фертом, «Эмма» с Гвинет Пэлтроу. Моей любимой экранизацией стала кинокартина «Разум и чувства» с Эммой Томпсон режиссера Энга Ли. Фильм легкий, прелестный, живой, хотя к самому роману такие эпитеты явно не подходят. «Чувство и чувствительность», так же как «Доводы рассудка» и «Мэнсфилд-парк», относится к мрачному периоду творчества Остин. Это сдержанное, я бы даже сказал, пронизанное горечью произведение: саркастическое, но не веселое, местами забавное, но не смешное. Именно в нем содержится моя любимая цитата: «Она была скупа на слова, ибо в отличие от большинства людей соразмеряла их с количеством своих мыслей»[35] (здесь ирония – палка о двух концах: с одной стороны, она касается всех и каждого, с другой – четко передает настроение книги). Но сам роман мне никогда не нравился.
Теперь я решил перечесть его, дабы понять, как же из такого удручающего произведения получился такой восхитительный фильм. Роман «Чувство и чувствительность» пришелся мне не по вкусу по той же причине, что и «Мэнсфилд-парк»: он требовал согласиться с тем, во что я отказывался верить, во что, по моему мнению, не верила и сама Остин. История производила впечатление нарочито неромантичной, даже антиромантичной. Остин представляет нам двух героинь с противополож ными взглядами на любовь и настаивает на том, чтобы мы приняли менее привлекательную точку зрения.
Марианна Дэшвуд – воплощение романтической героини. Молодая, красивая, страстная и порывистая. Она поет, словно ангел, с воодушевлением читает стихи и любит долгие уединенные прогулки в сумерках. Ее представления о возлюбленном возвышенны и требовательны. «…Чем больше я узнаю свет, тем больше убеждаюсь, что никогда не встречу того, кого могла бы полюбить по-настоящему», – говорит Марианна. Ее избранник должен обладать не только добродетелью и умом, но также импозантной внешностью, взглядом, полным чувства и огня. Однако и этого мало, чтобы удостоиться ее любви. «Я не могла бы найти счастье с человеком, чей вкус не во всем совпадал бы с моим. Он должен разделять все мои чувства. Те же книги, та же музыка должны равно пленять нас обоих». Марианна искала не просто мужа, она искала родственную душу. Вскоре, как по волшебству, появился именно такой мужчина. Как-то утром Марианна, попав под дождь, бежала домой, но упала и вывихнула лодыжку. И тут, словно из ниоткуда, возник некий джентльмен и кинулся ей на помощь. Подхватив девушку на руки, он понес ее в дом. Джентльмен был молод, хорош собой, элегантен и мужествен; при этом грациозен, с изысканными манерами и выразительным голосом. А тут еще выяснилось, что он разделяет все увлечения Марианны: музыку и поэзию, танцы и верховую езду. Казалось, их свела сама судьба. Вскоре Марианна поняла, что знает этого мужчину, словно саму себя. «Не время и не случай создают близость между людьми, но лишь общность наклонностей. Иным людям и семи лет не хватит, чтобы хоть сколько-нибудь понять друг друга, иным же и семи дней более чем достаточно», – уверена героиня. Джентльмена звали Уиллоби; они быстро и страстно полюбили друг друга.
У старшей сестры Марианны, Элинор, тоже имелся роман. Впрочем, таковым его можно считать весьма условно. В начале книги героини уезжают из Норленд-парка, где прошло их детство. После смерти мужа миссис Дэшвуд с дочерьми должна покинуть поместье, освободив его для приемного сына Джона с женой Фанни. Джон «вовсе не был дурным человеком – конечно, если черствость и эгоистичность не обязательно делают людей дурными»; Фанни – еще хуже. Джон, пусть скрепя сердце, готов был позволить мачехе и сестрам остаться в Норленде, но Фанни решительно хотела отослать их куда-нибудь подальше, особенно после того, как заметила, что между ее братом Эдвардом и Элинор завязалась дружба.
Эдвард – кроткий, неуверенный в себе, страшно застенчивый, без выдающихся талантов и определенных стремлений – был полной противоположностью Уиллоби и вряд ли мог стать чьим-либо идеалом. Бедняга даже не был красивым. Впрочем, Элинор тоже звезд с неба не хватала. Рассудительная и сдержанная по сравнению с порывистой и страстной Марианной, всего-навсего хорошенькая в отличие от красавицы-сестры. Старшая соблюдала приличия – младшая пренебрегала светскими нормами поведения; Элинор делала все, чтобы обуздать и заглушить свои чувства, и убеждала сестру не терять самообладания. Элинор и Эдвард стали друзьями, однако их невинная привязанность не грозила перерасти в нечто большее.
Как-то раз, по неосторожности, Элинор в свойственной ей учительской манере призналась сестре:
…Мне открылись его нравственные понятия, его мнения о литературе, об истинном вкусе. И я возьму на себя смелость утверждать, что ум его превосходно образован, любовь к чтению глубока, воображение богато, суждения остры и верны, а вкус тонок и безупречен.
Чудо, что она не заснула, не успев закончить свою мысль. Под натиском сестры в речи Элинор появляется нечто похожее, в ее понимании, на страсть. «Не стану отрицать, – сказала Элинор, – что я высоко его ценю, что уважаю его, что он мне нравится». Кажется, она готова произнести какие угодно слова, но не те единственные, что мы так жаждем услышать. «Уважаю! Нравится!» – вспыхивает в ответ Марианна, словно прочитав наши мысли. «Посмей повторить эти слова, и я тотчас выйду из комнаты!» – негодует она.
И эти, едва теплящиеся, чувства Элинор и Эдварда (а вовсе не пылкие и безрассудные отношения Марианны и Уиллоби) выдавались в романе за истинную любовь. По мере развития сюжета концепция Элинор побеждает, а представления Марианны рушатся. Отлично усвоив урок Остин о взрослении, я, конечно же, понимал, что Марианна придает слишком большое значение своим чувствам, чересчур романтична. К примеру, прощаясь со своим домом в Норленде, она умудрилась произнести семь восклицательных предложений: «Милый, милый Норленд!.. Когда перестану я тосковать по тебе!.. О счастливая обитель!..» и так далее. Марианна очень часто выглядит наивной и чрезмерно взволнованной, но это только подчеркивает предвзятость Остин и ее желание убедить нас (а порой, кажется, и саму себя) в превосходстве суждений Элинор над воззрениями младшей сестры. Остин хотела, чтобы мы отдали предпочтение рассудку, а не чувствам, но перед нами стоял другой выбор: любовь по Элинор или любовь по Марианне. На весах два вида чувств, два представления о том, что же такое любовь.
Думая о любви, мы сразу вспоминаем романтическую историю Ромео и Джульетты. Именно так люди представляли себе настоящую любовь и во времена Шекспира, и в эпоху Остин, и, наверное, будут представлять всегда. Мы, как Марианна, верим в любовь с первого взгляда. В тот судьбоносный день она едва успела рассмотреть своего спасителя, однако увидела достаточно, чтобы прийти к выводу: «Внешность его и манеры были в точности такими, какими она в воображении наделяла героев любимейших своих романов»; она жаждала узнать о нем все. Вторая встреча на следующий день лишь укрепила ее внезапные чувства. Марианну, как Майкла Корлеоне в романе «Крестный отец», «хватило громом»[36].
Мы, вместе с Марианной, верим в то, что настоящая любовь случается лишь однажды. Девушка была категорически против «вторых привязанностей» – так называли их в те дни, – а, стало быть, против вторых браков. Короткая продолжительность жизни во времена Остин сделала повторные браки обычным делом (в наши дни причиной повторных браков стали разводы). Сегодня мы, в отличие от Марианны и ее современников, вольны заводить столько романов, ведущих или не ведущих к браку, сколько захотим. Для нас отношения не такая серьезная штука, как для Марианны, и тем не менее мы склонны полагать, что в череде любовных приключений только один сердечный союз (как правило, последний) – настоящий, а остальные были ошибкой. Для мисс Дэшвуд имеет значение только первое чувство, для нас – последнее; но и она, и мы верим, что полюбить по-настоящему возможно лишь один раз.
Несмотря на то что наша жизнь сильно отличается от жизни Марианны, мы, как она, все еще верим в юношескую любовь. По крайней мере, судя по несметному количеству соответствующих книг, песен и фильмов, хотим в нее верить. Джульетте, когда она решила выйти замуж за Ромео, было тринадцать лет; не потому, что во времена Шекспира так рано вступали в брак, а потому, что для большинства людей истинная любовь неразделима с пылкостью, свежестью и целомудрием молодости. Любовь для нас – весна и начало всех начал. Самой юной героине Остин, Марианне, было шестнадцать. По ее мнению, «женщина в двадцать семь лет… уже должна оставить всякую надежду вновь испытать самой или внушить кому-нибудь нежные чувства» (именно так все думали об Энн Эллиот в «Доводах рассудка»), а мужчина в тридцать пять, «даже если некогда обладал достаточной пылкостью, чтобы влюбиться, несомненно давным-давно ее утратил». Теперь мы не согласны с арифметикой Марианны, но не оттого, что изменили свои суждения о любви; просто мы остаемся молодыми душой и телом намного дольше, нежели люди времен Остин.
Мы верим в родственные души, в то, что где-то в этом огромном мире нас ждет единственная настоящая любовь и звезды приведут нас к ней. На идиш это называется bashert, или «судьба». Одним из самых любимых древнегреческих мифов о любви у нас остается рассказ Платона о том, что изначально люди представляли собой существа с четырьмя руками и четырьмя ногами, которые были столь могущественны и совершенны, что боги решили разделить их пополам. И теперь мы скитаемся по свету в поисках своей второй половины, чтобы любовь воссоединила наши тела. «Ты дополняешь меня», – говорим мы друг другу, пытаясь выразить подобные чувства.
Итак, подлинная любовь, – казалось нам с Марианной, – это совершенное совпадение вкусов, идиллия без конфликтов. Схожие мнения высказываются и на сайтах знакомств с их единообразным изложением информации о себе и соответствующими названиями типа PerfectMatch.com или eHarmony.com[37]. Настоящий возлюбленный, – думается нам, – наше второе «я». Но тогда получается, что потеря любимого равносильна смерти? Ромео, увидев Джульетту бездыханной, наложил на себя руки; Джульетта, обнаружив мертвого Ромео, кончила жизнь самоубийством.
Марианну чуть не постигла та же участь. После нескольких недель блаженства ее грандиозный роман рухнул, чуть не погубив ее саму. Уиллоби уже готов был сделать предложение, но вдруг исчез, не оставив и следа.
Марианну охватывает лихорадочное смятение: что это значит? Она едет за ним в Лондон, шлет записку за запиской, отказывается что-либо объяснять сестре, и, наконец, отыскивает его на балу, где он публично и весьма грубо рвет с ней отношения; причины такого поведения мы узнаем гораздо позже. Марианна теряет всяческий интерес к жизни, она погружается в депрессию и пренебрежительно относится к своему здоровью. Если на свете существует только одна настоящая любовь и она безвозвратно утеряна, ради чего тогда жить?
Мы полагаем, что любовь случается с нами, что эта сила неожиданно обрушивается на нас и играет нами, как захочет. Она действует, не учитывая наши замыслы, не волнуясь о нашем благополучии, она подчиняет себе нашу волю. Купидон с безоблачного голубого неба пускает стрелу в наше сердце, и мы начинаем сходить с ума от страсти. В «Божественной комедии» Данте первыми в аду нас встречают Паоло и Франческа – грешники, которые вызывают больше всего сочувствия; любовь терзает их, и они, словно частицы в силовом поле, не могут сопротивляться ей. Греческие мифы рассказывают о том, как любовь в буквальном смысле разрывала людей на части. Любовь не просто бог, а величайший из богов, перед которым остальные бессильны. Она как огонь, поглощающий все на своем пути.
Стало быть, любовь для нас, и для Марианны тоже, – необузданное и свободное чувство, не знающее ни границ, ни правил. Мы прогуливаем лекции, занимаемся сексом где попало, берем на себя отчаянные риски, меняемся настолько, что наши друзья не узнают нас. Когда Марианна и Уиллоби стали встречаться, они начисто пренебрегали приличиями (именно это больше всего пугало Элинор): бесстыдно выставляли всем напоказ свою близость, плевали на обязательства перед соседями (вдобавок смеялись над ними за их спинами) и совершили весьма предосудительный поступок, уехав на прогулку по окрестностям вдвоем. Для Марианны (как для Ромео и Джульетты из враждующих кланов или для Паоло и Франчески, совершивших прелюбодеяние) истинная любовь обязана преодолевать общепринятые ограничения и нормы. Любовь по своей природе преступна, опасна и мятежна.
Я отлично понимаю Марианну. Мне самому довелось испытать такие же чувства как-то летом, когда мне исполнилось восемнадцать. Это, конечно же, произошло в лагере молодежного движения, хотя началось все немного раньше. Мы слонялись по нашему офису в Нью-Йорке в ожидании автобуса до лагеря, я завернул в одну из комнат и почувствовал, что краснею до ушей. Мое тело среагировало быстрее мозга, который не сразу догодался, что к чему. Передо мной была она; сидя на столе, она как будто ждала именно меня; она – самая красивая девушка, которую я когда-либо видел, нет, единственная девушка, которую я когда-либо видел.
– Привет, – сказала она с ангельской улыбкой.
– Привет, – ответил я и неуклюже попятился назад, как от сильного порыва ветра, не особенно отдавая себе отчета в том, что в этот момент делают мои руки и ноги.
Однако на какую-то долю секунды я поймал ее взгляд и прочел в нем вопрос «когда?», а не «что, если?». После этого между нами словно протянулась невидимая нить. Где бы я ни был – в автобусе или на территории лагеря, – я ощущал ее так, как будто она постоянно находилась позади меня. Мы стали проводить вместе ужасно много времени. Мое сердце уже не колотилось, бешено и несуразно, и нас тянуло друг к другу, как магнитом. Мы никогда ничего специально не планировали, но все время получалось, что мы то сидим вместе, то идем рядом, и, в конце концов… в общем, мы стали встречаться.
Господи, мне же было всего восемнадцать! Для меня не существовало ничего на свете, кроме ее лица, ее глаз. Время остановилось для нас, в мире царило вечное лето. Никогда прежде я не говорил «я люблю тебя», а теперь все прочие слова казались мне неуместными. Я ходил как во сне, не веря, что чувство может быть таким сильным, таким чистым. Мы целовались до боли в губах. Как-то днем мы сидели под яблоней, и я спросил:
– Тебе когда-нибудь казалось, что мы с тобой одно целое?
Она опустила глаза. Потом посмотрела на меня и ответила:
– Да.
Время летело. Наше вечное лето, как и все в этом мире, подошло к концу. Смена в лагере закончилась, вместе с ней закончилась и жизнь. От меня словно оторвали половину, и теперь мои руки, когда-то обнимавшие ее, обнимали пустоту. Она уехала домой, в Техас, заканчивать среднюю школу. Мы не говорили об этом вслух, но оба точно знали, что все позади. Лето прошло, у нас было не больше шансов вернуть это счастье, чем у Адама с Евой вновь войти в сад Эдема. Электронной почты еще не существовало, звонить по межгороду мы не имели возможности; мы еще не были хозяевами себе и своей жизни и не надеялись увидеться снова. Даже письма не спасли бы положение. Единственное, что хотелось сделать, так это свернуться в клубок, как будто тебя нет.
Итак, я полностью разделял чувства Марианны. Мне, как и многим, было близко ее понимание любви, и жутко раздражало то, что Остин придерживалась другого мнения. Во всяком случае, в этом произведении. Разве другие ее книги не были удивительно романтичными? Или я что-то упустил?
Экранизации еще больше сбивали с толку. Как удалось кинематографистам придать столько страсти этой истории? Я заново пересмотрел фильм, на сей раз более внимательно, и понял как: они сжульничали. Вносить изменения в роман Марианны и Уиллоби они не стали – в этом не было необходимости, – но точно приврали, рассказывая об Элинор и Эдварде. Последнего наделили тонким чувством юмора, приписали ему нежные братские чувства к Маргарет – самой младшей мисс Дэшвуд, которая в книге едва упоминается. И, конечно же, его роль играет не кто иной, как Хью Грант: он не просто самый очаровательный недотепа со времен Джимми Стюарта, но еще и невероятно красив. Кроме того, в фильме есть короткая сцена, которой нет в романе: перед тем, как покинуть Норленд, Элинор, исполненная светлой печали, задумчиво гладит лошадь, вызывая у нас тем самым глубокую симпатию.
Точно так же кинематографисты поступают с Марианной и ее новым женихом. В книге их союз еще более прозаичен, чем отношения Элинор и Эдварда, – Марианне приходится принять предложение мужчины, к которому она только начала хорошо относиться и которого точно не любит. Скомканное описание этого эпизода заняло в книге всего одну страницу, словно автор вдруг спохватилась, что совсем забыла о Марианне, и поспешила отделаться от бедняжки, открыто бросив вызов мнению читателей. Но кинематографисты и здесь приукрасили и романтизировали сюжет, позаимствовав сцену из «Эммы» – неожиданный подарок в виде пианино, а также из «Доводов рассудка» – шептание стихов тет-а-тет.
Понятно, что в кино обе пары влюблены и счастливы. Но почему же у Остин все так сложно? Конечно, «Чувство и чувствительность» – одно из ее ранних произведений, но вряд ли ей тогда не хватало навыков или желания написать упоительную любовную историю. Уже был создан самый умопомрачительный ее роман – «Гордость и предубеждение».
И тут я вспомнил две вещи. Во-первых, «Мэнсфилд-парк»: книгу, которая тоже противоречила всему, во что, по моему мнению, верила Остин. Во-вторых, мою связь с девушкой, встреченной мной на свадьбе в Мичигане. Разумеется! Как же я сразу не заметил? Ведь я совсем недавно пережил любовные отношения, подобные роману Марианны с Уиллоби; я не успел глазом моргнуть, как наше чувство погибло, сгорело дотла. Судьбоносность выбора, родство душ, любовь с первого взгляда, попрание осторожности – мы познали всё, что описано в мифах, и тем не менее все пошло крахом.
Так, может, во всем виноваты мифы? Уиллоби напоминал Марианне героев ее любимых книг, а я цеплялся за свои отношения, потому что сначала все было как в кино. Мы с Марианной заранее придумали, какой должна быть наша любовь, и эти ожидания ввели обоих в заблуждение. Повторился сюжет романа «Нортенгерское аббатство»: шаблонные представления, позаимствованные из литературы, не имеют, как оказалось, ничего общего с реальной жизнью.
Но разве другие произведения Остин не проповедовали романтические отношения? Основательно обдумав причины, по которым они казались мне романтичными, я, к своему большому разочарованию, сказал себе «нет». Остин заставила нас обожать ее героинь и восхищаться героями, с нетерпением ожидать, когда же они, наконец, соединятся. Она придумывала искусные уловки, чтобы разлучить их, а затем все же соединить, пользовалась целым арсеналом средств – ловушками, отвлекающими маневрами, неожиданными выпадами, – чтобы подразнить своих читателей. Но, как я ни старался, я не смог найти у Остин ни одного клише, в которые так упорно верил.
Я, сам того не подозревая, попросту проецировал свои представления о любви на романы Остин; полагаю, что режиссеры поступали так же. Экранизация «Гордости и предубеждения» с Кирой Найтли в главной роли не искажает канву романа; сюжет лишь приукрашен киномишурой: волнующей музыкой, легким ветерком, несущим листву по аллеям, восхитительными закатами. Элизабет принимает меланхолические позы, ее возлюбленный спешит к ней через луга, губы влюбленных сливаются в долгожданном поцелуе. Разве может быть иначе? Девушка, о которой мистер Дарси сказал: «… она как будто мила. И все же не настолько хороша, чтобы нарушить мой душевный покой», вдруг стала чертовски привлекательна. А вот «Мэнсфилд-парк» в руках режиссера Патриции Розема превратился в пародию (роль сэра Томаса в ней исполнял Гарольд Пинтер), робкая малышка Фанни Прайс стала дерзкой и самонадеянной мятежницей с озорными глазами и чувственным ртом. Фильм «Доводы рассудка» (1995 года) невероятным образом заканчивается публичным добрачным поцелуем. Даже в «Гордости и предубеждении» с Колином Фертом – самой близкой к роману экранизации – герой, перегревшись на солнце, ныряет в пруд (и томное «ах» разносится по всему миру) в одних подштанниках.
Остин предвидела все. Она догадывалась о нашей реакции, и в романе «Чувство и чувствительность» была на шаг впереди нас. Тут можно снова вспомнить «Мэнсфилд-парк». Остин говорит здесь об очень важных вещах – о том, что лучше быть добрым, чем умным. Но именно это мы упустили из виду в других ее книгах. Остин воплотила эти два качества в двух персонажах – Фанни и Мэри Крофорд – и заставила нас решать, кто из них лучше, вынуждая пойти против собственных эмоций. Тот же прием она применила в «Чувстве и чувствительности». Прочие романы Остин кажутся очень романтичными, и мы не задумываемся о том, что именно делает их таковыми. На сей раз, подав соус отдельно от мяса, она заставила нас познать истинный вкус и того, и другого. Элинор и Фанни Прайс против Марианны и Мэри Крофорд – менее приятный, но правильный выбор против более приятного и неправильного. У Марианны была сказочная любовная история, у Элинор, в понимании Остин, – настоящая любовь.
Как только я согласился с этим, все стало обретать смысл. Теперь, всерьез задумавшись, я понял, что любовь Элинор, Элизабет, Эммы и вообще любовь в романах Остин зиждется на доброте, взрослении, умении учиться и дружить.
Любовь для Остин – не то, что случается с вами нежданно-негаданно, а то, к чему необходимо себя подготовить. Пока Элизабет была уверена в своей абсолютной правоте, пока Эмма пренебрегала своими близкими, пока Марианна игнорировала советы сестры по поводу морального долга перед соседями и семьей, их сердца были наглухо закрыты. Прежде чем влюбиться в кого-то, нужно познать себя, – считала Остин. Другими словами, требуется повзрослеть. Любовь не изменит вас волшебным образом, не сделает лучше, не превратит в совершенно иного человека (еще одна сказочка, на которую я купился); любовь «наложится» на уже готовую сформировавшуюся личность.
Любви тоже надо учиться, – утверждает Остин в «Нортенгерском аббатстве». Правда, в книге речь шла о любви к гиацинтам и романам, и мне никогда не приходило в голову, что учиться нужно и самой любви, романтической привязанности к другому человеку. Казалось бы, что может быть более естественным, чем способность влюбляться? А вот Остин уверена, как бы странно это ни звучало, что способность любить не является у нас врожденной. С ее точки зрения, вовсе не обязательно быть молодым, чтобы испытывать глубокие чувства; скорее, наоборот, молодость препятствует проявлению глубоких чувств. Да, по нашим меркам, почти все героини Остин довольно юны, однако к тому времени, когда к ним приходила любовь, они успевали избыть наивность и невежество. К тому же одной из героинь было уже двадцать семь – возраст, так пугавший Марианну; еще двум – по меньшей мере тридцать пять. Что до Марианны, то шестнадцать ей в начале романа, а в конце – на три года больше: она достигла возраста сестры, и, наконец-то, стала так же мудра, как Элинор.
Однако познать только себя, по мнению Остин, недостаточно. Нужно еще понять человека, в которого влюбляешься, и, вопреки нашим с Марианной мечтам, это не происходит в одночасье. Для Остин любовь с первого взгляда – противоречивое понятие. Страсть с первого взгляда, вереница фантазий и образов, пробудившихся с первого взгляда, – это Остин признает. Но любовь с первого взгляда – никогда. Каким бы скучными ни казались суждения Элинор, они были правильными: необходимо часто встречаться, наблюдать за человеком, выслушивать его идеи и мнения. Для близкого знакомства недостаточно ни мгновения, ни недели; нужно много времени и терпения. Марианна, Элизабет Беннет и я, к нашему большому сожалению, на собственном опыте убедились, что нельзя моментально понять человека. И влюбляемся мы вовсе не в плоть и кровь, а в характер.
Конечно, это не делается специально; вряд ли кто-то составляет список положительных и отрицательных качеств избранника – вот вам еще одно клише – и подсчитывает, каких качеств больше. Я понял, что Элинор так же полагается на чувства, как Марианна, но судит гораздо глубже, чем младшая сестра. Любовь не поражает ее, как молния, более того, она не «поражает» в принципе. По мнению Остин, вы не знаете, когда именно влюбляетесь, просто в какой-то момент понимаете, что это так. «Ты давно его любишь?» – спрашивает Джейн у Элизабет почти в самом конце романа «Гордость и предубеждение». «Чувство росло во мне так постепенно, что я сама не могу сказать, когда оно возникло», – отвечает Лиззи. О том, когда влюбились Элинор и Эдвард, вообще не сказано ни слова. Сначала была симпатия, потом любовь; Остин дает нам возможность самим понять, что первая постепенно переросла во вторую.
Как-то раз я спросил себя: что, если бы Элинор никогда не встретила Эдварда? Что, если бы она «часто проводила время» с кем-то другим? И если бы она открыла для себя, что другой мужчина «превосходно образован», его «суждения остры и верны» и его «вкус тонок и безупречен»? Влюбилась бы она в этого другого? Ответ Остин предельно ясен: конечно, да. Не существует никакого «единственного» человека – вот что пыталась донести до нас писательница. Она не верит в судьбу или родство душ, в ерунду вроде вторых половинок, путеводных звезд, древнегреческих мифов или других мистических идей, с помощью которых мы превращаем любовь в нечто космическое, священное, в нечто большее, чем она на самом деле есть. В действительности любовь – это отношения, которые зависят не от судьбы, а от ее полной противоположности – случая.
Затем Остин делает еще один шаг вперед в своих рассуждениях – даже если вам случилось влюбиться, то не обязательно навсегда. Во времена писательницы развод был немыслим, но всегда имели место смерть и разочарования. И когда ты лишаешься возлюбленного, велика – и даже неминуема – вероятность влюбиться во второй раз. «Он еще воспрянет и будет счастлив с другой», – думала Энн Эллиот о капитане Бенвике, чья невеста не дожила до свадьбы. Сам Бенвик не верил в это, однако же полюбил другую – и намного быстрее, чем предполагала Энн. А Марианна вместо того, чтобы умереть от любви, как она когда-то мечтала, или отречься от мира, как планировала позже, продолжила жить, и в ее сердце зародилось чувство, которое ранее казалось недопустимым, – еще одна привязанность.
«Непросто излечиться от неодолимой страсти и перенести свою неизменную любовь на другого, – писала «первая леди» английской литературы, чьи произведения интерпретировали в десятках слезливых фильмов и душещипательных сиквелов. – На это разным людям потребно отнюдь не одинаковое время». Другими словами, никакая «страсть» не способна быть «неодолимой», а уже существующую «любовь» можно «перенести на другого». Наши чувства, равно как и наши мысли, переменчивы. Остин верила в любовь, но только не в ту, в которую верили мы с Марианной.
Все, чему учит нас Остин, – не теоретические соображения. Когда у нее просили совета в настоящих любовных делах, ее слова не расходились с делом. Ее любимая племянница Фанни Найт в двадцать один год не могла решить, выходить ли замуж за молодого джентльмена по имени Джон Пламптре. Девушка сомневалась. Он казался ей слишком уж чинным, религиозным и нравственным, да к тому же она не была уверена, достаточно ли сильно любит его. Свои переживания Фанни изливает в длинных письмах мудрой тетушке Джейн.
Переписка была засекречена: первое послание Фанни спрятала в стопке нотных листов, и даже Кассандру, сестру Остин, не включили в список посвященных. «Не представляю, смогла бы я как-то иначе скрыть получение этой посылки», – одобряет изобретательность племянницы Остин. «…Невзирая на то, что твой дорогой Отец с большим усердием шел по моему следу, пока не застал меня в одиночестве в Обеденной комнате, Твоя Тетушка К. заметила-таки в его руках сверток. Как бы то ни было, уверяю тебя, никто ничего не заподозрил». Впрочем, следующее письмо заставило Остин понервничать. «Моя дорогая Фанни, я буду несказанно рада вновь получить от тебя весточку, но… напиши и то, что можно будет прочесть [вслух] или рассказать остальным», – отвечала она.
Легко представить, что Остин читала письма с большим вниманием. «Я прочла его по получении в тот же вечер, улизнула от всех, осталась одна; не выношу бросать то, что начала, на полпути», – сообщает она племяннице. Остаться одной – задача не из легких при таких вездесущих домочадцах, как мать, Кассандра и лучшая подруга Марта Ллойд. «К счастью, Твоя Тетушка К. обедала у соседей, и мне не было нужды придумывать уловки, чтобы скрыться от нее; что до всех остальных, то они меня не заботят», – объясняет Джейн.
Ответ Остин на вопрос племянницы был противоречивым. Остин немного отвлекается от темы письма: «Моя милая Фанни, то, что я пишу, ни в коей мере не пригодится тебе. Чувства мои меняются каждую секунду, и едва ли я смогу дать тебе хоть один стоящий совет, который разрешит терзания твоего Ума». Фанни была твердо убеждена в обратном: сформулировав все «за» и «против» этого брака, Остин не только помогла племяннице принять решение, но и подтвердила романтические воззрения, которые высказывала в своих романах. Писательница давала родственнице те же советы, что и своим читателям.
Однако загвоздка была вот в чем: с одной стороны, мистер Пламптре – безусловно, достойный молодой человек. С другой, по мнению Остин, – симпатия Фанни к нему не так уж сильна. Рассуждая о качествах несостоявшегося жениха Фанни и утешая ее – ведь племянница полагала (пусть и ошибочно), что влюблена, – Остин снова меняет точку зрения:
О, дорогая Фанни, чем больше я пишу о нем, тем больше теплоты в моем сердце, тем яснее я понимаю, что за истинное сокровище сей Юноша, тем сильнее чувствую твое стремление вновь взрастить в своей душе любовь к нему. Вероятно, есть в этом Мире такие создания – их единицы на тысячу, – которых Мы с Тобой сочли бы совершенством, в которых Привлекательность и Пылкость идут рука об руку с Достоинством, в которых Воспитанность равна Сердечности и Осмыслению; однако подобный мужчина может не повстречаться на твоем пути.
Самое главное, чем следует руководствоваться в выборе супруга, – это его характер, – говорит племяннице Остин. Как прекрасно обладать привлекательностью, пылкостью и воспитанностью (качества Уиллоби, пленившие Марианну), но эти качества не заменят достоинства, сердечности и чуткости Эдварда. Как правило, герои Остин прекрасны внутренней красотой, и лишь единицы обладают еще и яркой внешностью.
В любом случае Остин меньше всего хотела склонить Фанни к браку по расчету. «Ты заставляешь меня усомниться в моем Рассудке», – уверяла племянницу Остин. «Знать о твоей преданности – величайшее удовольствие, но ты все рано не должна полностью зависеть от моих суждений. Твои чувства – твои, и ничьи больше – должны влиять на столь важные решения». Чувства, а не доводы. Характер избранника не может стать причиной для вступления в брак; причиной должны стать эмоции, которые вызывает у вас этот характер. «Можно избрать и вынести что угодно, но только не брак без Привязанности, а несчастье вследствие супружества без Любви, не сравнимо более ни с чем», – напоминает Остин племяннице.
Чувства переменчивы, и мы можем ими управлять. Фраза «стремление вновь взрастить в своей душе любовь к нему» звучит так, словно Остин предлагает племяннице совершить невозможное. Ясное дело, полюбить кого-то волевым усилием так же нереально, как стать выше ростом. Однако писательница верит в то, что более близкое знакомство с человеком, у которого хороший характер, может способствовать зарождению любви. Она говорит «взрастить в своей душе любовь», а не «влюбиться», то есть имеет в виду постепенное, естественное развитие чувства, а не гром среди ясного неба. «Я не вижу причин беспокоиться за твой брак с ним», – объясняет Остин. Она пишет: «В нем так много Достоинств, что совсем скоро ты полюбишь его, и вы будете счастливы вместе».
Остин рассуждает о замужестве, а не о помолвке. Дело в том, что финансовое положение мистера Пламптре не позволяло ему взять Фанни в законные жены в скором времени. «Он нравится тебе настолько, чтобы выйти за него, но не настолько, чтобы ждать его», – пишет Остин племяннице. Любовь зависит от случайности; именно так и никак иначе. Да, идеальный мужчина мог и не появиться в жизни Фанни, но ей был всего лишь двадцать один год, и Остин настаивает:
Когда я задумываюсь над тем, как немного молодых Мужчин ты знала на своем веку, как склонна ты (да, я все еще полагаю, что ты очень склонна) к тому, чтобы познать истинную любовь, как, вероятно, полны будут искушений ближайшие шесть-семь лет твоей Жизни (именно в эти годы появляются самые глубокие привязанности), я не могу желать, чтобы ты с теперешними весьма прохладными чувствами отдала ему всю себя.
И более того:
Это верно, что ты, может статься, не привлечешь внимание другого Мужчины, равному во всем ему; но коли тот другой Мужчина будет в состоянии увлечь тебя сильнее, в твоих глазах он будет самим совершенством.
Лучше любить, чем быть любимым, – этому не учили романы, в которых чувства по милости автора всегда исключительно взаимные. Остин пишет:
Бедный, милый мистер Д. П.[38], не сомневаюсь, он будет страдать сильно, безмерно, но быстротечно, когда поймет, что должен расстаться с тобой; однако, как ты, вероятно, знаешь, я убеждена, что подобные Разочарования не смертельны.
Вышло именно так: Фанни воспользовалась советом тети, и действительно никто не умер. Спустя три года Джон Пламптре женился, стал отцом трех дочерей и одобрительно высказывался по поводу высокой нравственности «Мэнсфилд-парка». Прошло шесть лет (как и предполагала Остин), и Фанни вышла замуж за вдовца с шестью детьми от первого брака; он был старше ее на двенадцать лет, она родила ему еще девятерых малышей.
Остин была против сказок о любви, но вовсе не отрицала романтику. Ее, написавшую столько книг о любви и браке, нельзя обвинить в том, что она неромантична. Между прочим, на фоне современников Остин кажется слишком романтичной лишь из-за ее уверенности в том, что выходить замуж нужно только по любви, а «несчастье вследствие супружества без Любви, не сравнимо более ни с чем». Во все времена одни люди пишут истории о безумной страсти, а другие – особенно молодежь – верят им; но когда дело доходит до брачных обязательств и решается будущее, многие начисто забывают о любви.
Век Остин был сплошной брачной ярмаркой, где юноши и девушки уходили с молотка, словно лоты на аукционе, оцениваясь при этом по вполне определенной и жесткой системе. От мужчины требовались деньги и статус, от женщины – деньги (если она располагала таковыми) и красота; курс обмена был точен, как в банке. Так, мерзкий сводный брат Элинор и Марианны Джон Дэшвуд, которому и в страшном сне не приснился бы брак по любви, крайне низко оценил шансы сестер на замужество. Когда Элинор сообщила ему о болезни Марианны (она слегла после выходки Уиллоби), он заявил:
– Весьма сожалею. В ее годы болезнь – неумолимый враг красоты. И как недолго она цвела! Еще в сентябре я готов был поклясться, что мало найдется красавиц, равных ей и более способных пленять мужчин… Помнится, Фанни [его жена] говорила, что она [Марианна] выйдет замуж раньше тебя и сделает партию гораздо лучше… Однако она, бесспорно, ошиблась. Я сомневаюсь, чтобы теперь Марианна нашла жениха с доходом более чем пятьсот-шестьсот фунтов годовых, и то в самом лучшем случае; и я весьма и весьма заблуждаюсь, если тебя не ждет нечто куда более внушительное.
Хуже всего было то, что никого не принуждали следовать этой системе. Родители могли уговаривать детей избежать мезальянса, могли лишить наследства, если их чада вступили в неравный брак или просто подумывали об этом, однако эра договорных браков давно прошла. У молодых людей был выбор, и они свободно делали его, но ценности брачной ярмарки – жениться благоразумно, сделать хорошую партию, пренебречь любовью – глубоко засели в подсознании, поэтому женихи и невесты вели себя так, словно решения им до сих пор диктовали родители.
«Удача в браке полностью зависит от игры случая. И… лучше… как можно меньше знать недостатки человека, с которым придется провести жизнь», – сказала одна их героинь Остин. «…Из сотни людей не найдется ни единого мужчины или женщины, кто бы, вступив в брак, не оказался в ловушке», – полагала другая героиня. «…Каждый ждет от другого куда более, чем во всякой иной сделке, а сам всего менее намерен вести себя по чести… брак хитрая штука». Раз счастье – просто «игра случая», а брак – «хитрая штука», вполне есть шанс преуспеть.
В своих романах Остин порицала такое мировоззрение наравне с романтическими грезами девушек вроде Марианны Дэшвуд. Первое приведенное мною высказывание принадлежит подруге Элизабет Беннет, Шарлотте, которая приняла предложение самого бестолкового – и, с точки зрения женитьбы, самого неприятного – мужчины на свете. Она объясняла:
– Ты знаешь, насколько я далека от романтики. Мне она всегда была чужда. Я ищу крова над головой. И, обдумав характер мистера Коллинза [да, того самого мистера Коллинза, одного из самых ярких болванов в английской литературе], его образ жизни и положение в обществе, я пришла к выводу, что мои надежды на счастливую семейную жизнь ничуть не уступают надеждам почти всех людей, вступающих в брак.
Кто бы сомневался! Второе суждение почерпнуто мною из «Мэнсфилд-парка»: Мэри Крофорд не смогла превозмочь себя и выйти замуж за человека, которого любила. Для Остин – это два разных способа обречь себя на страдания.
Писательницу не назовешь наивной. Она не осуждала богатство и не восхваляла бедность. Среди прочих доводов в пользу мистера Пламптре тетушка Джейн приводит и такой: «Он старший сын в Богатой Семье». Другими словами, деньгами он пока не обладает, однако в обозримом будущем должен получить огромное состояние. «Неужели счастье может зависеть от богатства и величия!» – романтически восклицает Марианна. На что старшая сестра отвечает ей: «От величия, может быть, и нет, – заметила Элинор, – но богатство очень способно ему содействовать». Остин же всего лишь утверждала – хотя в то время ее утверждение звучало революционно, особенно если считать его практическим советом, – что достаток не заменит любовь.
Героини Остин, так же, как и она сама, претворяли ее утверждение в жизнь. Фанни Прайс в «Мэнсфилд-парке» отклонила предложение мужчины, который сделал бы ее богатой. Элизабет Беннет в «Гордости и предубеждении» отказалась от двух выгодных браков. Племянница Остин – дочь состоятельного брата Эдварда, молодая леди, привыкшая вести определенный образ жизни, сумела бы его сохранить, выйди она удачно замуж: по совету тети она отвергает «старшего сына в Богатой Семье». Сама Остин, утратив всякую надежду на замужество, отторгла руку Гарриса Бигг-Уизера (чье предложение она приняла накануне своего двадцатисемилетия, а потом передумала в день своего рождения) – наследника огромного состояния.
Такие решения даются очень непросто. Для Фанни Прайс, Элизабет Беннет и тем более для Остин союз с упомянутыми мужчинами означал бы спасение от бедности и неуверенности в завтрашнем дне; помимо этого, подобный брак спас бы от бедности и их семьи. По словам биографа Остин, Клэр Томалин, писательница могла бы «обеспечить достойную жизнь своим родителям и дать приют Кассандре»[39], помочь карьере братьев. Она стала бы благодетельницей, а не иждивенкой, знатной леди, а не бедной родственницей. И тем не менее столь заманчивые перспективы не соблазнили ее на удачное замужество. Она слишком ценила любовь – настоящую, а не сказочную. Ценила настолько, что не променяла ее на благополучие, и свое творчество посвятила ее защите.
А что насчет секса? Благонравная старая дева Джейн Остин – не более, чем легенда. Создательница романа «Мэнсфилд-парк», в котором Мэри Крофорд позволила себе каламбур на тему гомосексуализма в рядах британской армии, вовсе не являлась стыдливой мимозой. Остин и сама была не прочь ввернуть нескромную шутку. Без тени смущения она пишет Кассандре о скором переезде семьи Остин в Бат:
…Мы намерены нанять умелую Кухарку, молоденькую ветреную Горничную и степенного Слугу средних лет, который, должно быть, возьмет на себя двойные обязанности: Мужа первой и любовника второй. Очевидно, что появление детей у обеих пар непозволительно.
Вот что пишет она своей незамужней племяннице о женщине, только что родившей восемнадцатого ребенка: «Ей и мистеру Д. я бы прописала режим раздельных спален». В другой раз она уже серьезно высказывается о Дон Жуане: «Должна заметить, что никогда не видела на сцене персонажа более интересного, чем это воплощение Бессердечия и Похоти».
В своих произведениях Остин обошла стороной сексуальные отношения вовсе не потому, что не подозревала об их существовании или боялась их, и не потому, что в те времена было не принято писать о таковых. Как бы не так. Книги, которые Джейн читала в юности, изобиловали чувственными сценами: похищения, соблазны, вопли и ласки; обнаженная грудь и страстные поцелуи; подлецы, распутники и развратники; похотливые монахи, похищенные девственницы, бесчувственные сводницы и мерзкие шлюхи; адюльтеры, вуайеризм, кровосмешения, изнасилования. Подобных эпизодов не было в ее романах, потому что она сама решила их избежать.
Однако нельзя сказать, что упоминание секса отсутствовало полностью. В романе «Мэнсфилд-парк» замужняя дама убегает от мужа и бросается в объятия любовника. В «Гордости и предубеждении» улыбчивый лжец совращает девочку-подростка. В книге «Чувство и чувствительность» перед нами оба варианта: молодая женщина изменила супругу и родила внебрачную дочь, которую по прошествии времени соблазнили и бросили беременной. Этих событий хватило бы на целый роман, но не на тот, что писала Остин. Они происходят за рамками сюжета; мы узнаём о каждом из них по слухам. Джейн не желала сочинять истории о молодых женщинах, которые сочиняли все. Ее героини не были послушными и жалкими, не были жертвами и не позволяли обращаться с собой как с игрушками. Они сами управляли своей судьбой, держались с ней на равных.
В ту эпоху управлять своей судьбой означало также управлять своими порывами. Невозможно представить, как изменились бы представления Остин о сексе, окажись она в нашем мире надежных средств контрацепции, разводов по взаимному согласию сторон и финансовой независимости женщин. Зато ясно как божий день, что она осудила бы современные нравы. Впрочем, речь не об этом. Остин порицала необузданные порывы не потому, что те могли повлечь за собой непоправимые последствия, а потому, что глупо считать всплески страсти поводом для вступления в брак. В романах Остин более чем достаточно примеров того, как умные мужчины совершили ошибку, женившись на пустоголовых красавицах, и горько жалели об этом до конца своих дней.
Один из них – мистер Беннет из «Гордости и предубеждения», приговоренный к вечной битве с «нервами» своей жены. Другой – сэр Томас из «Мэнсфилд-парка», гордый обладатель супруги, от которой в семейной жизни было столько же пользы, сколько от медали на шее. И третий в этом ряду – некий мистер Палмер из романа «Чувство и чувствительность», зять леди Мидлтон. Он взял в жены глупую «толстушку с миловидным личиком» (в гости к Дэшвудам «она вошла с улыбкой, продолжала улыбаться до конца визита, за исключением тех минут, когда смеялась, и попрощалась с улыбкой») и к двадцати пяти годам обзавелся привычкой не замечать свою благоверную в упор.
Остин умерла девственницей, но она отлично понимала все аспекты любви. На шкале ценностей ее героев сексуальное влечение занимало последнее место, никак не первое. Оно не являлось основой привязанности, а наоборот – возникало вследствие оной. Как правило, главные героини Остин – девушки симпатичные, но не блистающие красотой. (Если мы придерживаемся другого мнения, то это, опять же, благодаря фильмам.) В «Доводах рассудка» говорилось, что красота Энн Эллиот «поблекла». Фанни Прайс из «Мэнсфилд-парка» – «отнюдь не дурнушка». Кэтрин Морланд в «Нортенгерском аббатстве» – «почти хорошенькая». И, конечно же, Элизабет Беннет, которая «…как будто мила. И все же не настолько хороша, чтобы нарушить мой душевный покой». Другие юные леди – Джейн Беннет, Изабелла Торп, Мэри Крофорд, Генриетта и Луиза Мазгроув – часто затмевают их своей прелестью. Однако по мере того, как мы ближе узнаём наших «дурнушек», они нравятся нам все больше, западают нам в души. И в один прекрасный день до нас, наконец, доходит, что они – одни «из самых прелестных женщин, которых… приходилось встречать», как сказал мистер Дарси об Элизабет. Герои Остин – мужчины спокойные, надежные и чуткие. Их привлекательность также не бросается в глаза. А злодеи у нее – яркие, интересные, общительные, галантные. Остин нравилось, когда характер мужчины говорил сам за себя.
Однако все вышеупомянутое вовсе не означает, что ее герои, ее романы или она сама страдали от отсутствия страсти. Многие читатели годами не замечали пылкости Остин. Так, по мнению Шарлотты Бронте, Остин пренебрегала тем, что «пульсирует внутри живо и неистово». Марк Твен, читая книги Остин, чувствовал себя «барменом, стоящим у врат Царствия Небесного». Но причина этого кроется вовсе не в бесчувственности писательницы, а в ее такте. Не кто иной, как сэр Вальтер Скотт в одной из ранних рецензий на произведение Остин выказал недовольство по тому же поводу: «[В «Эмме»]… Купидон разгуливает благопристойно и с большой осторожностью, упрятав огонь факела под стекло фонаря, а не размахивая им вокруг так, что можно поджечь дом»[40]. Тем не менее здесь есть слово, которое для нас имеет значение, – «осторожность». Если Элинор отказывалась называть свои чувства к Эдварду «любовью», то лишь потому, что хотела (в отличие от темпераментной сестры) оградить свой внутренний мир от чужих глаз. Глубокие чувства слишком ценны, чтобы осквернять их разговорами.
Создательница Элинор придерживалась того же мнения. Несомненно, герои Остин были людьми страстными – это относится и к Элинор с Эдвардом, – только страсть их гораздо глубже и чище, чем порывы мотылька Уиллоби; отсюда и стремление скрыть свои чувства от посторонних. Примечательно, что любовные сцены, которые у Остин, как правило, являются апогеем романа, обрываются на самом интересном месте – чего не скажешь о кино. Герой вот-вот сделает предложение руки и сердца, героиня вот-вот согласится, их чувства вот-вот расцветут буйным цветом, и понятно, что мы не желаем более ничего, кроме как услышать, наконец, клятвы, скрепляющие их союз. Вот тут-то Остин и прерывает свой рассказ. В романе «Чувство и чувствительность» мы читаем: «…как он объяснился и какой ответ получил, рассказывать особой нужды нет». Остин пишет в «Эмме»: «Что именно [она сказала]? Да то самое, естественно, что и следовало. Что и полагается говорить в подобных случаях истинной леди». Это слишком личное, нас это не касается. И романтичнее этого нет ничего на свете.
Так в чем же заключалось счастье – счастье, которого добивались герои? Критик, заметивший, что в мире Остин дружба – «истинный свет жизни», был прав лишь наполовину, поскольку противопоставлял дружбу любви. Но для Остин дружба – основа любви. Как бы это заявление ни раздражало нас с Марианной, для Элинор оно имело глубокий смысл: «Не стану отрицать… что я высоко его ценю, что уважаю его, что он мне нравится». Перелистав другие книги Остин, я обнаружил те же слова. «Она уважала и ценила этого человека, была ему благодарна, искренне желала ему счастья», – прочел я об Элизабет Беннет. «Сердце у него предоброе, и я всегда буду испытывать благодарность к нему и большое уважение…» – сказала бесхитростная подруга Эммы, Гарриет Смит. Все девушки говорят об одном и том же.
В понимании Остин любовь начинается с дружбы, стало быть, должна подчиняться тем же законам. У любимых, как и у друзей, есть высокое предназначение: они помогают нам стать лучше, заставляют совершенствоваться, невзирая на риск ранить наши чувства. Влюбленные в романах Остин побуждают друг друга быть бескорыстнее, внимательнее, добрее и заботливее не только по отношению к избраннику, но и ко всем вокруг. Из ее произведений я понял, что любовь (как же изменились мои взгляды со времен мятежной юности) созидает, а не разрушает. Любящие люди не должны призывать друг друга к ниспровержению общепринятых ценностей, как поступали Марианна и Уиллоби, наоборот, они обязаны учить другу друга тому, как важно приличное и достойное поведение, убеждать в том, что общественные устои необходимо соблюдать. Любовь для Остин не является синонимом вечной молодости. Любовь для нее – синоним взросления.
Остин понимала, даже одобряла, юношеские страсти, но знала также, что все это преходяще. «…В предубеждениях юного ума есть особая прелесть, и невольно сожалеешь, когда они уступают место мнениям более общепринятым», – размышлял полковник Брэндон. То, что мы с Марианной имели свои иллюзии о любви и верили в них, естественно, и все же утрата таковых неизбежна, даже если эта утрата горька. Остин уважала Элинор, но все же ее любимицей была Марианна. Именно поэтому Остин желала видеть Марианну счастливой. А счастье, по Остин, – это способность меняться на протяжении всей жизни.
Единственное, что поражает до глубины души, это то, насколько предсказуемы влюбленные. Конечно же, Марианна и Уиллоби потеряли голову. Все знали, что это произойдет; они и сами знали – еще до встречи друг с другом, – что так будет. Но поистине героический и значительный шаг заключается не в этом, а в том, чтобы принять обдуманное решение, терпеливо взращивать взаимное уважение, заботу и понимание, с ответственностью подойти к совершенствованию друг друга, отказаться от упоительных грез и циничной расчетливости. Вот в чем подлинная свобода; только это позволит вам разорвать кандалы инстинктов и клише. Я вдруг осознал, что счастливые браки в конце произведений Остин – всегда неожиданность. Казалось бы, Уиллоби и Марианна созданы друг для друга, но Остин всегда выбирала в качестве суженых для своих героинь «не тех» мужчин: не того класса, не того возраста, не того темперамента. Ни один человек из окружения Эммы, Элизабет и Энн не догадывался о том, кто составит их счастье; даже самим девушкам это было невдомек.
Остин уверяла, что истинная любовь всегда удивляет, и если она действительно истинная, то будет удивлять и дальше. Что бы там мы с Марианной не напридумывали, влюбленные вовсе не должны соглашаться во всем друг с другом и обладать одинаковыми вкусами. Подлинная любовь для Остин есть вечный конфликт интересов и взглядов. Если ваш избранник изначально похож на вас, то вы оба будете топтаться на месте. Характер возлюбленного важен не только потому, что вы проведете с этим человеком всю жизнь, а потому что он непременно повлияет на становление вашей личности.
Чарлз Мазгроув из романа «Доводы рассудка» взял в жены Мэри – плаксивую и заурядную сестру Энн Эллиот. А «…женись он удачней, он мог бы развиться; женщина, поистине его понимающая, могла усовершенствовать его характер, сделать тоньше и тверже. Теперь же Чарлз старательно предавался одним забавам; остальное время тратил он впустую». Все произошло тихо и незаметно, но все же это человеческая трагедия. Даже Джон Дэшвуд, противный сводный брат Элинор и Марианны, выбери он себе иную суженую, мог бы стать человеком: «Женись он на более мягкосердечной женщине, то, быть может… сам умягчился сердцем, потому что вступил в брак он совсем юным и очень любил жену. Однако миссис Джон Дэшвуд была как бы преувеличенной карикатурой на него самого – еще более себялюбивой и холодной». Да, «преувеличенной карикатурой на него самого»; я понял теперь, что желание быть с кем-то, кто сильно напоминает вас самих, – на самом деле не любовь, а всего лишь себялюбие. Когда Марианна, в конце концов, выбрала супруга, Остин позаботилась о том, чтобы жених и невеста были разными, как небо и земля.
И тут я сделал судьбоносное открытие. От того, какого спутника жизни вы выберите, зависит не только ваше счастье, но и ваша личность, ваш нрав, ваша сущность. Любовь – не просто приятное чувство. Бесконфликтные отношения (предположим, что такие бывают) все равно что пустыня. Споры – это хорошо; разногласия и даже ссоры – это тоже хорошо. Эти идеи поразили меня до глубины души. Посвятив свою жизнь кому-то другому, вы не остановитесь в развитии, наоборот – будете развиваться бесконечно. Остин сделала для меня невозможное: заставила поверить, что женитьба не такая уж страшная штука.
Но меня ждал еще один урок. Из всех убеждений Остин о любви сложнее всего согласиться с тем, что не каждый способен на это чувство. Но, как только я ей поверил, в книгах тут же нашлись многочисленные тому подтверждения. Джон Дэшвуд не умел любить, его жена тоже, почти все члены семьи Эллиот из «Доводов рассудка» и Бертрамов из «Мэнсфилд-парка» и многие другие были холодными, честолюбивыми, думали только о себе. А чтобы полюбить, необходимо одно очень важное условие (оно важнее усердия и смелости) – любящее сердце. Остин считала, что не всякий наделен таковым от рождения.
Именно в этом уверяла она свою племянницу, давая романтические советы: «Я все еще полагаю, что ты очень склонна к тому, чтобы познать истинную любовь». Энн в «Доводах рассудка», обнаружив, что капитан Бенвик помолвлен во второй раз, подумала: «Сердце у него было нежное. Оно было открыто для любви». Все дело в склонности к любви: если она у вас есть, то в вашей жизни появится тот, кого вы полюбите. Если же ее нет – тут уж ничего не поделаешь. По мнению Остин, люди могут повзрослеть, однако измениться коренным образом – вряд ли.
Великая книжная сваха также не верила в то, что преобладающее число браков – счастливые. Люди женятся по ошибочным принципам, выбирают не тех спутников, они устают искать единственного суженого, вообще не созданы для семейной жизни, обстоятельства складываются против них. Персонажи Остин могут надеяться на светлое будущее лишь после долгого болезненного процесса взросления и взаимного познания. Женатые же пары в произведениях Остин (родители главных героев, соседи и т. д.) в подавляющем своем большинстве – примерно шестнадцать из двадцати – несчастливы.
А на что же в этой жизни мог надеяться я? Свою племянницу Остин обнадежила, но что она сказала бы мне? Обладаю ли я любящим сердцем или все мои расставания, обиды, неспособность брать на себя ответственность говорят о том, что я отношусь к тем людям, которым не стоит даже думать о браке? Может, изначально я был прав; может, интуиция подсказывала мне верный путь. По прошествии шести лет, после прочтения шести романов, я задавал себе вопросы, на которые натолкнула меня Джейн Остин. Я знал, однако, что ответов на них нет ни в одной книге.
В одном можно быть уверенным точно: сама Остин, конечно же, обладала любящим сердцем. И это величайшая загадка ее жизни. Вопрос не в том, откуда старая дева может знать так много о любви. Это легко объяснить ее гениальностью. Но почему женщина, столь сведущая в законах любви и обладающая столь пылким сердцем, так и не вышла замуж?
В возрасте Элизабет Беннет Остин чуть было не вступила в брак. Ее письма того периода читаются на одном дыхании. Ей двадцать лет, и она, переполненная чувствами, описывает сестре Кассандре бал, который посетила накануне вечером:
Мистер Х. начал танцевать с Элизабет, затем вновь пригласил ее; несомненно, что разборчивость им неведома. Я преподала им три урока и тешу себя надеждой, что они пойдут им на пользу. В твоем милом длинном письме, которое мне только что принесли, ты так сильно журишь меня, и теперь мне совсем уж страшно рассказывать тебе о том, как мы ведем себя с моим ирландским другом. Вообрази себе все самое непристойное и возмутительное, что только может быть в том, как мы танцуем и сидим подле друг друга. Между тем нам осталось лишь единожды выставить себя на суд общества; причиной тому его скорый отъезд из наших краев, уже в будущую пятницу – в этот день мы напоследок станцуем с ним в Эше. Спешу заверить тебя, что он весьма воспитанный, красивый и приятный юный джентльмен. Однако мне почти нечего сказать касательно наших с ним встреч помимо тех трех балов; в Эше на его долю выпало слишком уж много насмешек из-за меня; он очень стыдится приехать к нам в Стивентон; а когда пару дней назад мы навещали миссис Лефрой, он чувствовал себя столь конфузно, что просто убежал.
«Ирландским другом» был Том Лефрой (отец Тома в молодости обосновался в Ирландии), племянник Анны Лефрой – любимой наставницы Остин, заменившей ей мать. Молодой человек приехал на Рождество в Эш, расположенный в нескольких милях от дома Остинов в Стивентоне, чтобы повидаться со своими братьями и сестрами. Том и Джейн мгновенно воспылали чувствами друг к другу. Им потребовалось три вечера – три вечера танцев, флирта и разговоров, надежд, взглядов и смеха – чтобы увериться во взаимной симпатии. Шесть дней спустя, накануне бала в Эше, Остин снова пишет сестре:
Передай Мэри, что я жертвую мистера Хартли с его Поместьем в ее единоличное пользование и для ее будущей Выгоды, и не только его, а всех прочих моих Воздыхателей в придачу, коли она сможет их отыскать; да к тому же поцелуй, которым собирался одарить меня Ч. Полетт; все это потому, что сама я имею намерение в будущем ограничиться мистером Томом Лефроем, ведь он мне совершенно безразличен.
Остин, как всегда, подшучивает над чувствами, однако это не означает, что они не серьезны. Джейн была уверена, что вскоре настанет момент истины. Накануне бала она писала: «Я предвкушаю этот вечер с великим нетерпением, ведь я ожидаю, что мой друг сделает мне предложение». Да, предложение руки и сердца.
Но предложения так и не последовало. Неизвестно, что произошло тем вечером; ее письма того периода не дошли до наших дней (Кассандра сожгла те, которые показались ей слишком личными); нам доступна лишь переписка, датированная следующим летом. Но мы знаем, что семья Тома Лефроя была категорически против этого брака и желала положить конец их отношениям.
Том был старшим сыном в большой и отнюдь небогатой семье. Он учился на барристера, и ему только еще предстояло занять достойное положение в обществе, поэтому он не мог позволить себе взять в жены бесприданницу. Одна из его кузин говорила, что мать поспешила отослать его по каким-то делам «от греха подальше».
Попросил бы Том руки Джейн, как она того ожидала, если бы ему не помешали родственники? Неизвестно. Любил ли он ее так же сильно? В этом мы можем быть уверены. Спустя три года после того бала Том женился на богатой наследнице, со временем стал отцом девятерых детей, занял пост главного судьи Ирландии. Но даже через десятки лет, уже будучи стариком, он, по словам его племянника, «часто говорил о том, что любил ее, хотя сам же признался, что та любовь была юношеским увлечением». Вероятно, так оно и было, особенно с точки зрения пожилого человека… Однако спустя двадцать один год с момента их мимолетного романа, после которого они больше никогда не встречались, получив известие о смерти Джейн, Том поехал в далекую Англию, чтобы проводить ее в последний путь. Позже, на аукционе издательских архивов, он выкупил письмо к Остин, содержащее отказ в публикации первой версии «Гордости и предубеждения». Похоже, все эти годы любовь Тома к Джейн оставалась неизменной.
Насколько сильны были чувства Остин к Тому, сказать сложно. Она упоминает его в своих письмах всего один раз через три года после того злосчастного Рождества. Анна Лефрой – тетя Тома – как раз гостила у семьи Остин, и Джейн пишет:
Мне достаточно было возможности услышать все самое интересное, и ты с легкостью поверишь, когда я скажу тебе, что она не проронила ни слова о своем племяннике, и лишь вскользь упомянула о своем друге [о другом молодом джентльмене]. При мне она ни разу не произнесла даже имени первого, я же была слишком горда, чтобы самой расспрашивать о нем; однако мой отец позже осведомился, где он теперь, и стало известно, что он вернулся в Лондон, где намеревался остаться до своего отъезда в Ирландию, получить право адвокатской практики и начать таковую.
Все ясно из интонации письма: неизжитая обида, неугасший интерес, и все же, несмотря ни на что, ощущение того, что она сумела преодолеть свою боль. Благодаря Тому Лефрою она узнала, что такое влюбиться по-настоящему; но Джейн Остин – это вам не Энн Эллиот, страдающая по капитану Уэнтуорту. Разочарование в Томе Лефрое не превратило Джейн в старую деву.
Хотя бы потому, что недостатка в поклонниках Остин не испытывала. Судя по всему, она была весьма привлекательной девушкой: высокой и статной, с ясными светло-карими глазами и длинными каштановыми локонами; ее лицо сияло свежестью и румянцем, твердая поступь говорила о здоровье и живости. Не может быть никаких сомнений в ее способности поддержать разговор, в ее жизнерадостности и остроумии. Том Лефрой далеко не единственный мужчина, чье внимание привлекла Джейн Остин. Были и «мистер Хартли с его Поместьем», и Чарлз Полетт, желавший поцеловать ее, и одному богу известно, сколько еще прочих «Воздыхателей». Среди них был и друг Анны Лефрой, которого Джейн упоминает в письме, написанном через три года после романа с Томом; юный священник, ухаживавший за ней. И еще один молодой джентльмен на морском курорте (подробности туманны, словно английское побережье, поскольку Кассандра скрывала их долгие годы после смерти сестры), который, по воспоминаниям одного из племянников, «обладал такой очаровательной натурой, таким умом и воспитанностью, что Кассандра сочла его достойным обладать и способным добиться любви ее сестры»; при отъезде он «выразил твердое намерение вскоре увидеть их семью снова», но, к сожалению, вскоре внезапно умер. Еще был, конечно же, Гаррис Бигг-Уизер.
Смогла бы Остин «взрастить в своей душе любовь» к своему скороспелому жениху, как она советовала своей племяннице? Возможно. Она знала его с детства, любила его семью; да, он казался ей немного стеснительным и неуклюжим, но, отучившись в Оксфорде, Бигг-Уизер вернулся домой куда более уверенным в себе молодым человеком. Однако на сей раз Остин думала не только о любви. Девушка, в возрасте двадцати лет потерпевшая неудачу с Томом Лефроем, являлась всего лишь начинающей писательницей. А женщина, которая семь лет спустя отвергла брата своих друзей, была автором трех романов, пусть даже не опубликованных. Она стояла на распутье. Направо – замужество, семья, уверенность в завтрашнем дне и, может быть, любовь. Налево – творчество со всеми его взлетами и падениями.
Приходилось выбирать одно из двух. В те времена замужество означало в первую очередь материнство – материнство, которое нередко стоило женщине жизни. Жена Чарлза, брата Остин, за пять лет родила четырех детей, а затем умерла. Жена другого брата, Фрэнка, за шестнадцать лет дала жизнь одиннадцати малышам, а затем тоже умерла. Жена еще одного брата, Эдварда, за пятнадцать лет произвела на свет одиннадцать детей и – умерла. Миссис Остин была матерью восьмерых детишек. Сама Остин боялась думать о том, чем обернется семейная жизнь для ее любимой племянницы, когда та в один прекрасный день найдет себе мужа (что и случилось через несколько лет после романа с Джоном Пламптре). «О, сколь много я потеряю, когда ты выйдешь замуж!» – восклицала Остин, тем самым красноречиво давая понять, почему она осталась старой девой. «Я возненавижу тебя, как только игры твоего восхитительного Ума затихнут и сменятся привязанностями – супружеской и материнской», – сообщает она. Позже Кассандра будет вспоминать, как сестра в письмах торжествовала «над своими замужними знакомыми, ликуя над победой своей свободы» – свободы писать, творить и следовать за своим неподражаемым талантом, куда бы он ее ни влек.
К сожалению, свобода длилась недолго. В раннем уходе Остин (она скончалась молодой даже по тем временам – в сорок однин год) кроется горькая ирония, ведь ее семья отличалась долголетием. Из девяти ее ближайших родственников восемь прожили семьдесят лет, а то и больше. Кассандра умерла в семьдесят два. Миссис Остин – в восемьдесят семь. Фрэнк, служивший моряком, дожил до девяноста одного года и под конец Гражданской войны в Америке – спустя почти полвека с кончины Джейн – стал адмиралом флота королевы Виктории. Причина безвременной смерти Остин остается неизвестной. Сперва специалисты предполагали, что фатальную роль сыграла болезнь Аддисона, однако подробное изучение фактов развенчало эту теорию. Если причиной смерти стала какая-либо инфекция, то, кто знает, может быть, Остин прожила бы гораздо дольше с Томом Лефроем в Ирландии или с Гаррисом Бигг-Уизером в его поместье.
Жизнь Остин была бы долгой, но совсем иной. А так – пусть писательница не вышла замуж, однако дети у нее были; много детей, куда больше восьми или одиннадцати. Это Эмма, Элизабет и Кэтрин, Энн и Фанни, Элинор и Марианна. Это Генри, Эдвард, Уэнтуорт и Уиллоби, мистер Коллинз, мисс Бейтс и мистер Дарси. Они не просто долгожители – они бессмертны. Стань Джейн женой Тома или Гарриса, она, возможно, обрела бы счастье и богатство, познала бы материнство, жила бы долго. Но она не стала бы Джейн Остин, да и мы не были бы теми, кем являемся.
Эпилог
Шел мой четвертый год в Бруклине. К началу сентября я добрался до середины третьей, последней, главы диссертации и вновь вернулся к преподаванию. Мой друг из Коннектикута, тот, что влюбился в прошлом году, задумал жениться. Свадьбу запланировали на ноябрь, но в выходные после Дня труда[41] он и его будущая жена устроили вечеринку в новом доме, чтобы все друзья познакомились заранее.
Невеста выросла в Кливленде, и ее лучшая подруга – она была ей как сестра, все равно что Марта Ллойд для Джейн Остин – собиралась приехать на праздники. Я знал о ее визите, знал, что она свободна, но мы с самого начала не поладили. Когда я пришел к друзьям, они слушали Фрэнка Синатру; я большой поклонник его творчества, но мне зачем-то понадобилось привлечь всеобщее внимание едким замечанием: «Может, послушаем не такое старье?», и она тут же – вспомните Дарси и Элизабет – решила, что я придурок.
Потом мы потеряли друг друга из виду в толпе гостей, и я почти забыл про ее существование, как вдруг спустя пару часов обнаружил – еще одна сцена в духе «Гордости и предубеждения», – что мы поглощены увлекательным, серьезным разговором. Речь шла о политике; как я позже выяснил, моя собеседница, подобно героиням Остин, пыталась незаметно выяснить мои взгляды на жизнь. Пока мы общались, до меня понемногу стало доходить, что та, на которую я едва взглянул поначалу, – не представляю, о чем я думал, – была, по меткому выражению мистера Дарси, одной из самых прелестных женщин, которых мне доводилось встречать. Другими словами, она была не просто хороша собой, она обладала чарующей внутренней красотой.
Мы увлеклись друг другом не на шутку еще до конца вечеринки. Я задержался в гостях на все выходные и впал в отчаяние, когда пришла пора расставаться. Однако ни я, ни она не желали завершения этой истории. Вскоре мы обнаружили, что висим на телефоне часами, забыв про разделяющие нас восемьсот километров. Мы делали именно то, что посоветовала бы Остин: слушали и узнавали друг друга, проникаясь взаимным уважением.
Мы разговаривали о родственниках, описывали собственную жизнь, обсуждали все, что творится в мире. Мне нравился не только ход ее мыслей, но и манера выражать их. Технологии соответствовали эпохе, но в остальном все происходило совершенно так же, как между Элинор и Эдвардом и другими героями Остин. Я исследовал закоулки ее сердца и разума – ее «мысли», «суждения», «наблюдения», ее «воображение» и «вкусы»; она занималась тем же. Незаметно у нас возникло искреннее расположение и уважение друг к другу, которое строится на приятии характера человека, а не его внешности. Внешне-то мы уже давно друг другу понравились, и в те выходные после праздника успели не только поговорить, но, оказалось, что духовная близость представляет для нас не меньшую ценность, чем телесная. К сожалению, в отличие от героев Остин, мы не могли видеться. Наша связь была бесплотной: два голоса встречаются в ночи, две души заводят разговор и наслаждаются своим уединением. Только мы, и больше никого.
– Я схожу по ней с ума! – сказал я невесте своего друга.
– Держи себя в руках, – ответила она. – Ты ей тоже нравишься, но если будешь на нее давить, то все испортишь.
Я старался, но это было нелегко. Я вдруг понял, что женщина, чей голос ласкал мой слух по ночам, – интересная, яркая, чуткая, потрясающе проницательная. Она умела говорить и умела слушать. Она была умна, но не умничала, многое знала, но не кичилась этим. К тому же за словом в карман не лезла – Остин это явно оценила бы. Я рассказал ей о знакомом, который как-то хвастался большим словарным запасом и при этом не мог сказать, чем отличаются прилагательные «бессильный» и «безвольный», он просто не знал их значения. «Зато я знаю разницу, – выпалила она. – Один не может, другой не хочет».
Она была совершенно не похожа на меня и всех моих предыдущих женщин. Она выросла в обеспеченной семье, но не имела престижного образования и не стремилась сделать карьеру. Она трудилась официанткой, совсем как та девушка, с которой я расстался, когда впервые начал читать «Эмму», и которую тогда глубоко презирал. Она успела побывать чистильщиком обуви, продавцом в музыкальном магазине. И сейчас работала на полную ставку, одновременно завершая образование в местном государственном колледже. Более того, она дружила с людьми, с которыми я, сидя в своей башне из слоновой кости, едва ли перемолвился бы словом: рабочими, свободными художниками, панками, бродягами, старыми хиппи.
Голос члена Лиги плюща, звучащий в моей голове и доставшийся мне по наследству, захлебывался в истерике от непрестижности подобного знакомства. Голос жителя Нью-Йорка, в котором легко угадывались интонации моих богатых приятелей и друзей из давнего, привычного окружения, презирал это знакомство за «серость». Но благодаря «Эмме» я понял, что жизнь не изучишь только по книгам. А «Мэнсфилд-парк» напоминал, что человека делают не деньги и не «успешность». И теперь мне не было дела до чужих голосов. Я усвоил уроки Остин и знал, что не стоит искать собственное отражение; наоборот, нам нужен кто-то иной, нежданный-негаданный, способный помочь расти. Я чувствовал, что, преодолев свои дурацкие комплексы, открою для себя безграничные возможности.
Спустя месяц после памятной вечеринки она приехала в Бруклин, чтобы понять, стоит ли нам продолжать отношения, учитывая все грядущие сложности. Но, выясняя, способны ли мы полюбить друг друга, мы обнаружили, что уже любим. Чувство развилось так незаметно, что, как говорила Элизабет Беннет, невозможно было сказать, когда оно возникло.
Город никогда не казался мне таким прекрасным, как в те дни. Проходя по знакомым улицам, внезапно изменившимся до неузнаваемости, я нес свою любовь, словно невидимую корону. До сих пор мне казалось, я знаю, каково это – любить, но я ошибался. Раньше чувство жило внутри меня, но теперь оно словно вырвалось на свободу, преображая все вокруг, даже воздух, которым я дышал. Я всегда считал, что люди сами решают, начинать ли новые отношения. Но эти отношения я не выбирал – они сами меня выбрали. И ответ на вопрос, способен ли я любить, нашелся сам собой.
Естественно, не все шло гладко. Конечно, у нас случались ссоры. Люди не идеальны, по крайней мере, я – точно нет. Когда что-то случалось, я тут же уходил в глухую оборону. Но меня спасали две истины, усвоенные благодаря Остин. Первая – мнение моей девушки столь же важно, сколь и мое собственное, хотя до смерти тяжело вспоминать об этом в разгар спора. Второе – необходимо признавать свою неправоту, как бы ужасно и унизительно ни казалось проигрывать битву, в которой я так яростно и самовлюбленно защищаюсь. В итоге поражение шло мне на пользу.
В минуты или часы отчуждения, в вихре криков и оскорблений всегда наступал момент, когда в голове на мгновение прояснялось, и я чувствовал, что должен извиниться перед своей девушкой, чего бы мне это ни стоило, до того, как все мосты окажутся сожженными. И за это меня будет ожидать награда – я получу новое знание, стану взрослее. Мне не придется повторять свои ошибки; я вырасту духовно, как человек и как ее избранник. Это чувство было подобно спасительному канату, брошенному в подземелье, куда я сам себя загнал; оно позволяло мне выбраться наружу, обратно к свету и любви. С ней происходило то же самое. Мы учились друг у друга прощать и просить прощения.
Зимой я повез ее в Мексику, и мы устроили что-то вроде медового месяца. Она как-то рассказывала, что с детства любит каникулы у моря, и мне захотелось удивить ее чем-нибудь необыкновенным. Мы поселились в маленьком домике на острове рядом с Канкуном и неделю просто грелись на солнце, как две ящерицы, гуляли по улочкам деревеньки и гоняли на мопедах по окрестным дорогам.
Весной наши телефонные разговоры стали походить на настоящие свидания. Налив себе выпить, мы выспрашивали друг у друга новости о прошедшей паре дней. Погода стояла теплая, и я полюбил сидеть на пожарной лестнице, вдыхая аромат сирени, цветущей во дворе. Потом мы, не прерывая разговора, готовили ужин, обменивались шутками и впечатлениями, говорили до глубокой ночи, пока не начинали засыпать на полуслове.
Летом я поехал в Кливленд. Некоторые из моих нью-йоркских знакомых содрогнулись, узнав, что я встречаюсь с жительницей Среднего Запада. Как-то вечером я столкнулся с той гламурной дамой, которая порвала с парнем из Огайо, потому что тот не умел прилично одеваться, и она спросила: «Ты все еще встречаешься с этой девушкой из Сент-Луиса?»
Когда я представил свою возлюбленную еще одному из таких людей, сыну знаменитого современного художника, он заявил: «О, я бывал в Цинциннати. Я-то думал, там лишь пара торговых улиц, но выяснилось, не все так плохо».
Нет, Кливленд (я хотя бы знал разницу между Кливлендом и Цинциннати) был совсем неплох. Оказалось, жизнь есть и за пределами Нью-Йорка. Со временем я по-своему полюбил этот город, ведь там жила моя девушка. Мы бродили по улицам, и она делилась со мной воспоминаниями, показывала свои прежние дома и тайные убежища, рассказывала о них, знакомила с людьми, о которых упоминала. Она заново восстанавливала всю свою жизнь и вводила в нее меня.
Я установил компьютер в ее гостиной и принялся за вступление к диссертации – его всегда пишут последним. Я подсадил ее на Леонарда Коэна, которым увлекся еще во времена своей депрессии, она же научила меня правильно пить мартини. В июле на день ее рождения я спрятал с полдюжины подарков по всей ее квартире; она испекла мне печенье с забавными записками внутри. Конечно, моя кошка переехала в Кливленд вместе со мной – она полюбила спать, свернувшись клубком, на подушке между нами. Уезжая в Бруклин в конце августа, я оставил киску любимой, чтобы частичка меня осталась с ней.
Вскоре они вместе приехали ко мне. В декабре она собрала вещи и перебралась в мою квартиру. Теперь пришла моя очередь подарить ей город. Мы ели пирожки с черной фасолью в Китайском квартале, блины на Брайтон-Бич, суп из рубца (под названием «фляки») в польском ресторане. Мы гуляли по городу и любовались Бруклинским мостом в лучах заходящего солнца. Владелец магазинчика в Маленькой Италии поднял тост за наше счастье, наполнив крошечные рюмки бальзамом пятидесятилетней выдержки – густым и сладким, как кленовый сироп.
Все встало на свои места. Она была рядом, когда я, наконец, защитил диссертацию; мы были вместе, когда я – чудо из чудес – получил постоянное место работы в Коннектикуте. Теперь мы могли воссоединиться со своими друзьями, нашей второй семьей, благодаря которой мы и встретились.
Все это время я знакомил ее с важными для меня людьми. Она встретилась с моими родителями. Я впервые привел домой девушку, и мама с папой все никак не могли поверить, что их малыш (мне было тридцать три) наконец-то повзрослел. Она познакомилась с моим профессором, который пригласил нас на ужин и общался с нами на равных. Я представил ее паре из высшего общества, но они не приняли ее в свой круг. Она встретилась с моей лучшей подругой, которая и в самом деле отлично знала меня, потому что сразу поняла: я нашел человека, которого так долго искал.
В те первые судьбоносные выходные, когда любимая приехала ко мне в Бруклин, она привезла с собой книгу. Просто так, на всякий случай. Она знала, что я заканчиваю аспирантуру, но не представляла, что именно я изучаю и какова тема моей диссертации. Она просто взяла с собой книгу, которую читала.
Книга называлась «Гордость и предубеждение».
Так знай, читатель, я женился на этой девушке.
Благодарности
Прежде всего благодарю моего агента, Элис Чини; она воодушевила меня на этот проект и оказала бесценную, колоссальную помощь в его осуществлении. Я признателен моему редактору, Энн Годофф, которая дала мне возможность найти собственный стиль, а также сотрудникам литературного агентства Чини и издательства Penguin Press за их творческий подход и заботу. Спасибо моим друзьям, которые неустанно верили в эту работу и помогали мне верить в нее. Незаменимыми оказались две книги: «Жизнь Джейн Остин» Клэр Томалин и сборник писем Джейн Остин, составленный Дейдра Ле Фей. Шлю огромную благодарность Карлу Креберу, который затеял все это, и Ализе Джилл Нуссбаум, без которой не получилось бы такой отличной концовки.
Сноски
1
Honour (англ.) – «честь». Здесь и далее – подстрочные примечания переводчика.
(обратно)2
Здесь и далее приводятся цитаты из романа Д. Остин «Эмма» в пер. М. Кан.
(обратно)3
В русском переводе слово little практически не используется, вместо него переводчик употребляет уменьшительные суффиксы.
(обратно)4
Цитата из диалога Платона «Пир».
(обратно)5
В русском переводе этого отрывка восемьдесят семь слов; местоимений, связанных с мистером Вудхаусом, – десять.
(обратно)6
К. Томалин, «Жизнь Джейн Остин», пер. А. Дериглазовой.
(обратно)7
Там же.
(обратно)8
В. Вулф, «Миссис Дэллоуэй», пер. Е. Суриц.
(обратно)9
Здесь и далее приводятся цитаты из романа Д. Остин «Гордость и предубеждение» в переводе И. Маршака, если не указано иное.
(обратно)10
В оригинале романа: Till this moment I never knew myself.
(обратно)11
Цитата из романа «Гордость и предубеждение» в пер. А. Грызуновой.
(обратно)12
Там же.
(обратно)13
Более распространенный вариант перевода названия – «Чувство и чувствительность».
(обратно)14
Здесь и далее приводятся цитаты из романа Д. Остин «Чувство и чувствительность» в пер. И. Гуровой.
(обратно)15
Аристотель, «Поэтика» (отрывки), пер. В. Аппельрота.
(обратно)16
Другой вариант перевода названия – «Госпожа Бовари».
(обратно)17
В североамериканской мифологии Койот – хитроумное и неугомонное божество. Другие его имена, Плут, Насмешник, Старик, Оборотень и Обманщик, прекрасно отражают черты его характера. Тем не менее именно он украл у богов огонь, чтобы отдать его людям.
(обратно)18
Здесь и далее приводятся цитаты из романа Д. Остин «Нортенгерское аббатство» в переводе И. Маршака.
(обратно)19
Игровая позиция в бейсболе.
(обратно)20
Популярный американский комикс «Пинаты» (Peanuts), по которому снят одноименный мультсериал. Главный герой комиксов – песик Снупи.
(обратно)21
К. Томалин, «Жизнь Джейн Остин», пер. А. Дериглазовой.
(обратно)22
Там же.
(обратно)23
Здесь и далее приводятся цитаты из романа Д. Остин «Мэнсфилд-парк» в пер. Р. Облонской.
(обратно)24
В оригинале романа игра слов построена на названии военно-морских чинов, которые также означают некоторые особенности сексуальной ориентации. «My home at my uncle’s brought me acquainted with a circle of admirals. Of Rears, and Vices I saw enough». Слово rear-admiral означает «контр-адмирал», а также «гомосексуалист»; vice кроме «вице-» еще имеет значение «порок, зло; пагубное пристрастие; аморальное поведение».
(обратно)25
Бар-мицва – в иудаизме достижение религиозного совершеннолетия (13 лет для мальчиков и 12 для девочек).
(обратно)26
М. Арнолд, сборник очерков «Культура и анархия».
(обратно)27
Там же.
(обратно)28
В пер. Р. Облонской встречаются другие значения слова exertion: «напряжение», «силы», «старания», «усердие», «хлопоты».
(обратно)29
В том же переводе есть другие значения слова duty и схожие по смыслу слова: «обязанность», «дóлжно», «положено».
(обратно)30
Здесь и далее приводятся цитаты из романа Д. Остин «Доводы рассудка» в пер. Е. Суриц.
(обратно)31
К. Томалин, «Жизнь Джейн Остин», пер. А. Дериглазовой.
(обратно)32
Меритократия (от лат. «власть достойных») – принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.
(обратно)33
Пер. И. Бернштейн.
(обратно)34
Д. Остин, «Любовь и дружба», пер. А. Ливерганта.
(обратно)35
Здесь и далее приводятся цитаты из романа Д. Остин «Чувство и чувствительность» в пер. И. Гуровой.
(обратно)36
М. Пьюзо, «Крестный отец», пер. М. Кан.
(обратно)37
Perfect match (англ.) – «идеальная пара», harmony (англ.) – «гармония», «согласие».
(обратно)38
Джон Пламптре.
(обратно)39
К. Томалин, «Жизнь Джейн Остин», пер. А. Дериглазовой.
(обратно)40
В. Скотт, «Эмма», пер. К. Атаровой.
(обратно)41
Национальный праздник США, отмечается в первый понедельник сентября.
(обратно)





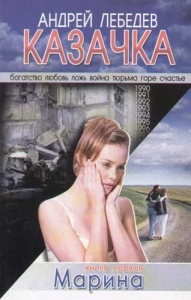

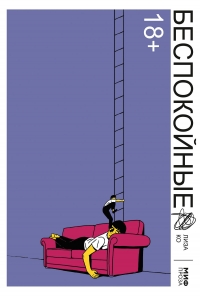

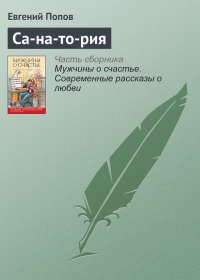


Комментарии к книге «Уроки Джейн Остин. Как шесть романов научили меня дружить, любить и быть счастливым», Уильям Дерезевиц
Всего 0 комментариев