Павел Долохов ЛЕНИНГРАД, ТИФЛИС… Роман, рассказы
Ленинград, Тифлис…
Часть первая ПРОСПЕКТ КРАСНЫХ ЗОРЬ
О Тифлисе Федя Дадашев узнал в блокадном Ленинграде, на проспекте Красных Зорь, в квартире на Петроградской. Это слово отец повторял часто. С каждым днем становилось холоднее. Кольцо блокады сжималось, и их большая квартира пустела. Первыми покинули ее веселый дядя Миша Годлевский с женой тетей Ксюшей и дочкой Машенькой. Уехали они куда-то на юг… Ушла на фронт другая соседка, тетя Катя Гросс, военврач. Ее фронт был где-то недалеко, и она иногда заходила их проведать в полушубке и с пистолетом на поясе.
К концу ноября во всей квартире жилой осталась лишь одна их маленькая комнатка. Там пылала буржуйка — к этому времени мебели уже почти не осталось; буржуйку топили книгами. Окно забили досками, завесили одеялами и пледами. Когда погасла большая люстра, отец включил маленькие лампочки от елки. Они горели яркими точками, но свет их с каждым днем тускнел. Некоторое время ниточки внутри лампочек светились розовым светом; потом погасли и они. Мама принесла откуда-то лампадку, ее фитилек горел неверным светом, по стенам прыгали тени, а лица родных казались неживыми, слепленными из прозрачного воска.
…Война для Феди началась в Вырице, и, как для всех, началась внезапно. Он только закончил третий класс в своей школе, где его дразнили: «Ну как ты там, тилигент? Опять уроки не выучил?»
В Вырицу Федю увозили обычно в мае. Там было хорошо: неторопливая речка Оредеж в мягких берегах, прохладный лес, барский дом на косогоре. А в тот год что-то не сложилось, уехали на дачу поздно, в июне; отца задержали на работе: он работал в большом синем доме на Каменном острове. Федя там несколько раз бывал на елках. Недалеко от этого дома, за железным заборчиком стоял большой, очень старый дуб.
— Это дуб Петра Первого, — сказал Феде отец.
— Того самого, чей ботик? — спросил Федя.
— Того самого, — ответил отец.
Слово «война» Федя услышал еще в мае. Кажется, от мамы. Отец отмахнулся.
— Никакой войны не будет. Глупости.
…В тот день, в тихое июньское воскресенье, о войне они узнали позже других. На их даче радио не было. Днем дачная хозяйка тетя Даша пошла в магазин и увидела там пьяных мужиков и ревущих баб.
— Что случилось? — спросила тетя Даша.
— Война, — ответила продавщица.
* * *
…В их семье первой о войне узнала Федина бабушка, она оставалась в городе. Ей позвонил Лилиенталь. Светлой ленинградской ночью он сидел дома у окна, смотрел близорукими глазами на Неву, крутил ручку приемника. Лилиенталь знал много языков и всегда слушал по ночам радио. В ту ночь слышимость была идеальной. Он настроился на Прагу. Передавали джазовый концерт. Конферансье рассказывал антисемитские анекдоты на берлинском диалекте. Публика одобрительно ржала. Трансляция внезапно прервалась, и диктор стал читать правительственное сообщение. Его повторили два раза. Потом заиграла военная музыка. Лилиенталь выключил приемник, подошел к телефону, набрал номер. Бабушка сняла трубку.
— Анна Марковна? Простите за поздний звонок.
— Это вы, Левушка?
— Это я, Анна Марковна… Я хотел сказать… la guerre[1].
— Quelle guerre?[2] — не поняла бабушка…
— Avec les boches[3], — сказал Лилиенталь и повесил трубку.
Дедушка и бабушка жили в маленькой квартирке на верхнем этаже в том же доме на проспекте Красных Зорь. Отец всегда звал их по именам: Паша, Анна. Лица их Федя помнил смутно. Они не пережили первую блокадную зиму. Он был у них, когда случился первый налет: надрывно заревели сирены. Дедушка взял Федю за руку, и они пошли вниз по темной лестнице.
Дед умер во сне — пришел с работы, сел в кресло, задремал. И не проснулся. Его завернули в одеяло, положили на Федины саночки, и отец повез его на Серафимовское кладбище. Трамваи уже не ходили — стояли замерзшие на занесенных снегом рельсах. Отец тащил саночки по окоченевшим проспектам, через обледенелые мосты. У кладбищенских ворот он оставил их. Таких саночек там было не меньше тысячи.
…В Вырице Федя оставался до сентября. Все дачи вокруг опустели, двери и окна заколотили; хозяева и дачники разъехались. Федя жил на даче один, без родителей, с тетей Дашей. Высоко в небе над облаками каждый день летали самолеты. Звук у них был непривычный, тяжелый, не наш.
Отец и мать приезжали к Феде в субботу вечером, а в воскресенье уезжали в город. Однажды, когда они сходили с электрички на Витебском вокзале, их задержали. Человек в кепке схватил маму за руку и громко закричал:
— Граждане! Это немецкая шпионка!
Мама пыталась вырваться, но человек держал ее крепко. Вмешался отец:
— Что вы делаете? Отпустите! Это моя жена!
Человек не унимался:
— Немецкая шпионка! Я ее узнал!
Федина мама и впрямь была похожа на немку: высокая голубоглазая блондинка, с острым носиком. Собралась толпа.
— Шпионов поймали… давить их гадов!
Появился милиционер:
— Пройдемте, граждане!
В отделении отец предъявил документы: паспорт, пропуск, бронь.
Милиционер сложил документы в конверт.
— Не беспокойтесь. В органах все выяснят…
Тогда отец протянул милиционеру бумажку.
— Очень вас прошу позвонить по этому телефону.
Милиционер поморщился, но позвонил.
Услышав в трубке голос, встал, вытянулся. Отвечал односложно:
— Есть! Слушаюсь!
Отдавая отцу документы, он пояснил:
— Извините, товарищ. Время военное.
На следующий день на служебной машине отец увез Федю с дачи.
— Берем только самое необходимое.
— Можно взять велосипед? — спросил Федя.
— Нет, поставь велосипед в сарайчик. Мы заберем его через неделю.
Через неделю в Вырице уже были немцы.
Осень стояла теплая, и Федя каждый день гулял на пустыре за домом. Там валялись искореженные огнем металлические болванки. Федя взял одну из болванок в руки, погладил ее блестящие бока.
— Что это? — спросил он у соседского вихрастого мальчишки.
— Зажигалка, — ответил мальчишка.
* * *
… Отец все чаще вспоминал Тифлис. Доставая с полки толстые альбомы в кожаных, с золотым тиснением переплетах, он листал тяжелые страницы, вынимал фотографии, протягивал их Феде. При тусклом свете лампадки люди на фотографиях казались живыми: они дышали, улыбались. Дед, бабушка и еще какая-то тетя с большими грустными глазами.
— Кто это, — спросил Федя.
— Это Вета, моя двоюродная сестра, твоя тетя.
— Почему я ее никогда не видел?
— Она умерла, — ответил отец.
Он перевернул страницу альбома.
Смотри — вот наш дом в Тифлисе. Дом только что отстроен… А это — Исай, твой прадед, сажает перед домом японские акации. Сейчас они, наверное, уже большие…
* * *
…Лилиенталь медленно угасал. Это началось давно. Тем утром, три года назад, когда Лилиенталь понял, что Веты больше нет. Он проснулся на рассвете. Встал, подошел к окну. Была белая ночь. Удивительная тишина стояла вокруг. По Неве неслышно двигались корабли. Именно тогда Лилиенталь осознал, что Веты больше нет. И нет надежды. И еще он понял, что жизнь его потеряла смысл.
Жизнь продолжалась, но шла она как-то сама по себе, без его участия. Он мало спал. По ночам крутил ручку приемника, слушал чужие голоса. Утром вставал рано, варил на электрической плитке кофе, закуривал первую папиросу, натягивал старое пальтишко и шел в Публичку. Ходил он привычным маршрутом: вдоль Зимней канавки, по Дворцовой, дворами — на Конюшенную, и дальше — по Невскому. В Публичке он всегда занимал свое привычное место у окна. Снимал с полки отложенные для него книги, раскрывал тетрадь и блокноты и работал часов до шести. Раза два выходил покурить, а ровно в двенадцать шел в буфет — выпивал стакан чаю и съедал тарелку морковного салата. В буфете и в курилке иногда встречал знакомых, обменивался незначащими фразами, но в разговоры старался не вступать. Труднее всего было возвращаться домой, подниматься по крутой лестнице на верхний этаж, вставлять ключ в замочную скважину, открывать дверь своей комнаты. Есть Лилиенталю не хотелось. Он заставлял себя разогреть на плитке суп и проглотить несколько ложек.
Когда началась война, Лилиенталь пошел записываться в ополчение. Накануне он привел в порядок свои бумаги, разложил по папкам, расставив их на полке и надписав большими буквами: «Переводы из Гете», «Переводы из Рильке», «Материалы к монографии».
Его забраковали на медкомиссии. Сильная близорукость и астигматизм.
— Молодой человек, вы и немца-то не увидите…
Телефоном Лилиенталь пользовался редко. Чаще других ему звонила Лидия Файнберг.
Она никогда не представлялась, но ее низкий грудной голос не узнать было нельзя.
— Лева, что нового?
Лидия Файнберг, кажется, была всегда. С первого курса института истории искусств.
— Лида, ты же знаешь… Что может быть у меня нового…
— Ну, тогда слушай!
Лидия Файнберг нигде не работала. Иногда вела семинары в университете, но не регулярно. В основном — литературная поденщина. Рецензии, обзоры… Но она всегда была в гуще событий.
Лилиенталь слушал невнимательно. Рисовал узоры на листе бумаги. Время от времени вставлял:
— Да ну! Не может быть!..
Раз в неделю звонил Анне Марковне…
— Ничего не слышно? Нужно ждать, Анна Марковна, нужно ждать… Я к вам забегу…
— Спасибо, Левушка. Спасибо…
Лидия Файнберг эвакуировалась в сентябре. Накануне отъезда позвонила:
— Лева, я внесла тебя в список. Завтра в семь подходи с вещами к Пушкинскому Дому.
— Спасибо, Лида. Но я никуда не поеду.
— Лева, не валяй дурака!
— Лида, мне надо быть здесь, в Ленинграде.
Морозы, бомбежки и артобстрелы начались в октябре. В Публичке было холодно. Лилиенталь в пальто и перчатках сидел на своем привычном месте, делая записи карандашом.
Дома было тоже холодно, но все же не так. Лилиенталь в одежде забирался на кровать, натягивал на себя одеяло и шерстяной плед. Приемника не было, его забрали еще в июле. В черном репродукторе тикал метроном.
В октябре Лилиенталь потерял свою продовольственную карточку. Норма служащего второго разряда, 150 грамм хлеба в день. Подумав, что заложил карточку в какую-нибудь книгу, он с библиотекаршей перелистали все книги на его полке. Карточки не было. Наверное, забыл в булочной. Там не вернут.
Лилиенталь обыскал весь дом. В глубине шкафа завалялась баночка крабов, на пестрой этикетке было игриво написано — «СНАТКА». Этой баночки Лилиенталю хватило на две недели. Он кипятил воду в кастрюльке и опускал в нее чайную ложку крабов. Когда крабы кончились, он опустил в кипяток пустую баночку. Казалось, что у воды — крабовый вкус.
Как-то в дверь постучали. Сперва Лилиенталь подумал, что это галлюцинация. Это случалось с ним все чаще, он слышал голоса, говорил с людьми, хотя знал, что их давно уже нет.
Стук не прекращался. Лилиенталь открыл дверь. Перед ним стоял военный с пушистыми рыжими усами.
— Вы меня не узнаете?
Лилиенталь покачал головой.
— Я — Голанд, режиссер-документалист. Работаю на Ленфильме. Мы с вами часто встречались…
Лилиенталь вспомнил. Голанд, конечно, Витя Голанд. Из другой, довоенной жизни. Только с усами.
Голанд вошел в комнату. Разложил на столе свертки.
— Я слышал, что у вас неприятности. Решил немного помочь.
Голанд развернул свертки. На столе появились буханка хлеба и кусок сала.
— Откуда у вас это?
— Мы на военном довольствии. Творческих людей нужно подкармливать.
Голанд подошел к книжному шкафу, провел рукой по корешкам.
— У вас тут ценные книги. Я мог бы кое-что приобрести. Обменять на продукты. Вот, скажем, это… — Голанд достал большой том «Мира искусства», — разрешите…
Лилиенталь взял из рук Голанда книгу, раскрыл титульный лист. Поперек страницы было написано:
Милому, милому Левушке. С любовью. Вета.
— Нет, только не эту…
Лилиенталь перелистал страницы. Из книги выпал небольшой конверт, а из него — красноватая десятирублевка. Голанд поймал ее в воздухе.
— Коллекционируете царские дензнаки?
Лилиенталь испуганно спрятал бумажку в карман.
Утром при свете он внимательно осмотрел бумажку, повертел в руках. Ничего особенного, обычная ассигнация и к ней прикреплена какая-то карточка с адресом по-немецки… Достав с полки папку «Материалы к монографии», Лилиенталь положил ассигнацию и карточку в конверт и засунул его между первой и второй страницами рукописи.
Голанд наведывался довольно часто. Приносил еду и уносил книги. Не брезговал и вещами. Прихватил старинный самовар, отцовский портсигар с камешками, костяной нож для разрезания бумаг.
Лилиенталь немного отъелся. Посвежел. Решил дойти до Публички. Часам к двенадцати добрался до Невского. Город был мертв. Посреди Невского стояли замерзшие трамваи. Лилиенталь пробирался по узкой тропинке, протоптанной вдоль домов. Ровно в час начался артобстрел. Взрывы слышались где-то впереди. Дрожала земля, и в окнах бились стекла. Пахло кислым.
— Наверное, бьют по Московскому вокзалу, — подумал Лилиенталь.
Он переходил Садовую, когда снаряд попал в угловой дом. Лилиенталя убило осколком.
Через несколько дней в его квартирку на Дворцовой набережной переехал Голанд. У него часто собирались веселые компании. Обычно это были морячки из школы юнг. Кто-нибудь из гостей всегда оставался у Голанда на ночь. Они валялись на широкой кровати, пили спирт и закусывали ломтиками сала. В углу весело пылала буржуйка. В ней горели рукописи Лилиенталя.
* * *
…Отец работал до начала января. Сперва его отвозили на машине. Утром у подъезда дома его ждала «эмка», а за рулем сидел курносый краснофлотец в черном бушлате. Потом «эмка» стала приходить реже, а с начала ноября не появлялась совсем. Отец шел на Каменный остров пешком. Это было не так и далеко: следовало пройти несколько кварталов по проспекту Красных Зорь, перейти по обледеневшему Каменноостровскому мосту Малую Невку, а дальше — прямиком по Березовой аллее, мимо замерзших дач до большого синего дома. В обычные дни — от силы час. Теперь дорога в один конец у отца занимала часа два. И с каждым днем давалась все тяжелее.
Федя так точно и не узнал, чем занимался отец. Ни он, ни его сослуживцы, иногда у них бывавшие, о работе никогда не рассказывали. Из обрывков услышанных фраз Федя все-таки догадался, что они что-то делали для подводных лодок.
Возвращался отец поздно вечером, когда стихал артобстрел. Иногда он приносил плитки черного американского шоколада. Их разбивали на маленькие кусочки, и почти все кусочки отдавали Феде.
В доме все чаще звучало слово «эвакуация».
— Скоро будет эвакуация, мы уедем.
Потом следовали названия городов, куда их наверное увезут: Омск, Красноярск, Чита.
Отец доставал с полки большой атлас, придвигал поближе коптилку, и они искали эти города на карте.
Однажды отец сказал:
— Кажется, мы едем в Тифлис.
Больше других разволновалась бабушка.
— Тифлис… Скорее бы в Тифлис…
Сразу после Нового года отец отравился. Он обедал на работе, в столовой. Давали по миске прозрачного супа и несколько ложек каши с комбижиром. На кухне комбижир воровали. Повариха уносила его домой, спрятав в противогаз. Вместо него она подливала в кашу масло для смазки двигателей. Сперва понемногу, потом все больше и больше. Произошло массовое отравление. Несколько человек умерло. Приехали особисты, повариху увезли.
У отца начались понос и рвота. Он ослабел, уже не вставал с постели. И как раз тогда у них появился человек в военной форме с бумагами.
— Вас с семьей эвакуируют завтра. Собирайтесь, машина придет в пять утра.
Отец попытался приподняться.
— Если я ехать не смогу, увезите семью.
Всю ночь мама и бабушка складывали чемодан, вязали узлы.
Двое военных положили отца на носилки и понесли вниз по лестнице. У подъезда стоял грузовик-полуторка с затемненными фарами. Военные закинули отца в кузов машины, как куль. Чьи-то руки подняли Федю, и вот он уже в машине, мама крепко прижимает его к себе.
Федя поднял голову. Увидел, что рядом с ним лежит отец, глаза у него закрыты. С другой стороны от Феди мама, а чуть дальше — бабушка. И еще много незнакомых людей вокруг. Заурчал мотор и он почувствовал: едем.
Федя очнулся от сильного толчка; понял, что куда-то падает. Очень темно, кругом снег, на губах снег и еще что-то сладкое. Федя пошевельнулся, попытался встать. Его крепко сжимали мамины руки. Сама мама здесь, рядом с ним, только у нее странно откинута голова и из носа течет кровь. А потом он увидел отца. Он уже на ногах, пытается поднять Федю. Федя еще подумал: «Зачем он встал? Он болен, ему нельзя вставать…»
Резкий свет фар, голоса людей. Их повели в другую машину. Федя обернулся. Их старая машина лежала в снегу вверх колесами. Новая машина — закрытая, и на потолке горит тусклая лампочка. Вот мама. У нее уже перевязана голова. А рядом отец. Он выглядит здоровым. Только изо рта по подбородку сочится кровь.
— Папа, где бабушка Аня?
— Ее увезли в больницу.
Федя никогда больше не увидел бабушку. Когда машина перевернулась, бабушка и еще трое из тех, кто был в кузове, погибли.
На следующий день они улетели в Москву на маленьком военном самолете. Позднее отец рассказывал, что когда они летели над Ладожским озером, по ним стреляли немецкие зенитки. Пилот бросил самолет в штопор и увернулся от вражеского огня. Всего этого Федя не видел. Он спал на руках матери, уткнувшись лицом в ее шубку.
По дороге в Москву самолет сделал посадку в Боровичах. Феде врезалась в память столовая. В большой комнате стояли столы с белыми скатертями, а на столах — миски с горячим супом и очень много хлеба. Люди в белых халатах рассаживали всех за столы и все время повторяли:
— Товарищи ленинградцы, пожалуйста, не ешьте много хлеба. Это опасно.
Из репродуктора звучала бодрая музыка:
«Выходила на берег Катюша…»
* * *
…Федя увидел Тифлис теплым апрельским утром 1942 года. До этого была задымленная Москва и бесконечная дорога в дребезжащем, пахнущем дезинфекцией вагоне. А однажды утром, проснувшись, Федя почувствовал, что из окна веет теплом. Он отодвинул занавеску: за окном убегала серая земля, а на горизонте виднелась ослепительная полоска.
— Это море, — сказал отец, — Каспий.
Море придвинулось и заняло все вокруг, а для поезда остались лишь краешек земли и лес нефтяных вышек. Федя догадался: скоро приедем.
Тифлис возник на рассвете россыпью разноцветных домиков на отрогах зеленых гор. Поезд остановился, и Федю вывели на перрон. Было очень жарко, поэтому мама принялась Федю раскутывать: сняла с него теплую шапку, расстегнула шубку. Но Феде все равно было жарко; он с трудом переступал ногами в тяжелых валенках. Пот застилал глаза; он едва мог рассмотреть обступивших его горластых людей. Усатый человек с красным лицом согнулся, и на спину ему взгромоздили чемоданы и баулы. Человек подпрыгнул и засеменил на полусогнутых ногах, все побежали за ним. Отец взял Федю на руки, и они тоже побежали вслед за человеком, правда, его уже не было видно, только чемоданы быстро плыли над пестрой толпой. Оказавшись на большой площади перед вокзалом, отец пересчитал чемоданы и дал несколько бумажек носильщику. Тот снял с головы фуражку, что-то сказал не по-русски, вытер красное лицо краем синего фартука.
— Кто это? — спросил Федя.
— Это муша́, — ответил отец и пояснил: — Носильщик.
На площади в несколько рядов стояли коляски и фургоны, запряженные лошадьми.
— Эй! — закричал отец, и один из фургонов подкатил к ним.
Возница, ловко затолкав чемоданы и баулы, подхватил на руки Федю и посадил верхом на чемодан. Затем он громко вскрикнул, щелкнул хлыстом, зацокали копыта, и перед Федей раскрылся Тифлис. Время качнулось и потекло вспять, назад тому лет на сорок, а то на сто и больше. Тогда точно так же стучали лошадиные копыта по тифлисским мостовым, и открывалась мутная Кура за Верийским спуском.
Еще один поворот, и они на тихой улице, наполненной утренним светом. Деревья с тонкими листьями и белыми цветами. Серый дом с балконом, на балконе маленькая женщина с седыми волосами, стянутыми на затылке. Отец машет ей рукой:
— Маша, это мы!
Мраморная лестница, дубовая дверь с бесконечными табличками. Темный коридор, двери открываются, из них выходят люди, стараются прикоснуться к Феде.
— Из Ленинграда… Живые…
Большая комната в конце коридора. В глубине комнаты — тетя Маша; она стоит спиной к свету и кажется, что вокруг ее головы — нимб. Подойдя к отцу, она берет его за руку и говорит тихим голосом:
— Марк, где Паша, где Анна?
— Они умерли, Маша…
— Вета?
Отец мнется:
— Я же писал… Десять лет… Без права переписки…
— Да, я помню… И Жоржа тоже… увезли…
Отец прижимает тетю Машу к себе. Гладит ее по волосам.
— Я знаю, Маша. Я все знаю.
Она смотрит на Федину маму, протягивает ей руку. Наклоняется к Феде. Крестит его. Потом отворачивается и, шаркая ногами, идет к балкону.
— Маша, ты куда? — спрашивает отец.
— Я жду Жоржа и Вету.
* * *
…С каждым днем становится жарче, и все выше поднимается солнце в полдень. Опали цветы на японской акации за окном, тонкие листочки свернулись в трубочки. Днем солнце палит немилосердно; кажется, весь город пожелтел и свернулся от зноя.
Федин мир становится понятней и шире. Они все втроем живут в маленькой комнате, которую уступила им тетя Маша.
— Здесь был кабинет Жоржа, — сказал отец.
Федя внимательно изучил эту комнату. Высокие стены с почерневшими обоями. Потолок с облупившейся лепниной. Очень много книг, и почти все не по-русски. Окно с медными шпингалетами. За стеной — комната тети Маши, где Федя бывает редко. Там — большой диван, мягкие кресла, на стенах — старинные картинки.
Тетю Машу Федя не любит и немного боится. В те редкие дни, когда их приглашают вечером на чай, она не оставляет Федю в покое.
— Как ты держишь вилку?
— Сиди прямо! Не расставляй локти!
А однажды утром она объявила:
— С сегодняшнего дня я буду говорить с Федей только по-французски. Comment allez-vous, Monsieur? Повторяй за мной: Merci, Madame, je vais bien.
Федя что-то бормочет и убегает в коридор. Коридор длинный, с бесконечным рядом дверей. Двери открываются, и из них выходят люди. Федя уже знает, кто они, как их зовут. Вот Нино, высокая, грудастая, с большими и грустными глазами. У нее — дочка, Луиза, но ее Федя видит редко. У Луизы какая-то странная болезнь. Даже днем она лежит в маленькой кроватке у окна и, не отрываясь, смотрит на небо. Несколько раз Федя видел Нино радостной. Она выбегала на кухню с треугольным листком бумаги в руках:
«Письмо от Гиви! С фронта!»
За следующей дверью — товарищ Исраэлян. У него, наверное, нет другого имени. Во всяком случае, все его называют только так — товарищ Исраэлян. У него что-то с ногой, он прихрамывает, а о себе говорит с уважением: «Я как старый чекист ответственно заявляю…» Позднее Федя узнал, что товарищ Исраэлян служил бухгалтером в милиции…
А в самом конце коридора — Додик. Ему пятнадцать лет, и с самого первого дня он взял Федю под свое покровительство. Водит Федю по окрестным улицам, рассказывает забавные истории. Федя гордится, что у него такой взрослый друг…
Через боковую дверь из коридора попадаешь в кухню с закопченными стенами, а за кухней — «галерея» — огромная, открытая веранда. Такие галереи есть во всех тифлисских домах. Летними вечерами, когда спадает зной, здесь собираются соседи. Пьют чай. Судачат.
С галереи по шаткой винтовой лестнице можно спуститься во двор. Когда-то посереди двора стоял фонтан. От него остались почерневшие мраморные плиты, да ангелочек с отбитым носом. Вдоль стены соседнего дома тянутся заколоченные гаражи. Ворота одного гаража как-то открываются, и Фединому взору предстает огромная машина. Под машиной на грязной подстилке лежит человек. Федя подходит к машине, трогает ее огромные фары.
Из-под машины высовывается голова.
— Ты кто такой?
— Я — Федя…
— Ты откуда?
— Из Ленинграда…
— Из Ленинграда? Ну, давай знакомиться.
Человек встает, вытирает руку о штаны, протягивает Феде.
— Я дядя Миша. Из Курска.
Федя замечает, что дядя Миша протянул ему левую руку. Правой руки у него нет. Пустой рукав засунут в карман.
Теперь Федя целый день во дворе. Помогает дяде Мише. Подает ему инструменты.
— Дядя Миша, как называется ваша машина? «Эмка»?
Дядя Миша морщится.
— Скажешь тоже, «эмка»! Это, брат, «линкольн»!
А Федя не отстает.
— Дядя Миша, а когда поедет ваш «линкольн»?
— Непременно поедет… Вот кончится война…
В темном закутке у тети Маши стоит сундук. Она там часто роется, перебирает старые вещи. Однажды подозвала Федю:
— Посмотри, что я нашла…
Федя подходит. Чувствует сильный запах нафталина.
Тетя Маша протягивает Феде длинную палку.
— Потяни за рукоятку…
Федя, крепко держась двумя руками, дергает за позолоченную рукоятку, и в руках у него оказывается длинный блестящий клинок.
— Что это? — спрашивает Федя.
— Офицерская шпага. Твоего прадеда.
Федя проводит рукой по блестящему лезвию. Внимательно рассматривает ручку.
— А что это за бляшка?
— Это герб, наш герб.
Федя показывает шпагу Додику. Они спускаются по винтовой лестнице во двор.
— Дядя Миша, посмотрите, что нашел Федя.
Дядя Миша внимательно рассматривает шпагу.
— Офицерская. Надо беречь.
Шпагу Федя не уберег. Не удержался, стал показывать соседским мальчишкам. Тогда в кино шли «Три мушкетера», и все мальчишки делали себе деревянные шпаги. А у Феди была настоящая.
Однажды пришел Гурам с соседней улицы. Пришел не один, а с целой оравой. Федя знал, что Гурам — вор, ему никто никогда не перечил.
— Покажи шпагу, — сказал Гурам.
Федя протянул шпагу. Гурам внимательно осмотрел ее с обеих сторон.
— Давай меняться. Дам за нее милицейскую шашку.
— Я не могу, — сказал Федя, — там мой герб.
— За герб дам еще фонарик-жужжалку.
— Я не хочу жужжалку, — сказал Федя.
— Не хочешь меняться, возьму так.
Тут появился Додик.
— Гурам, верни шпагу! Она не твоя!
Гурам ответил, не поворачивая головы:
— Молчи, придурок!
Додик со всей силы ударил Гурама ногой в живот. Дрались молча. Додику порезали ножом руку. Метили в лицо, но он успел закрыться. Дядя Миша кому-то заехал монтировкой, но его ударили доской в затылок, и он упал. Через пять минут все было кончено. Шпана разбежалась. Дядю Мишу отвезли на «скорой» в больницу. Своей шпаги Федя больше не видел.
Во дворе Федя больше не играет. Они с Додиком гуляют по Тифлису. Спускаются по тенистой Лермонтовской к Куре. Крутыми извилистыми улочками выходят к серным баням. Переходят Мухранский мост, идут мимо мрачного Метехского замка. Когда проголодаются, заходят в пурню, знакомый булочник протягивает Додику свежий чурек. Они ломают и едят горячую лепешку…
Если спуститься по улице Паскевича, выйти на Вельяминовскую, а потом свернуть направо, то до Эриванской площади — рукой подать. Ходьбы минут десять — под горку. Федя, как и отец, и тетя Маша, называет улицы по-старому, по «довоенному». Кажется, только товарищ Исраэлян и говорит «улица Махарадзе», «улица Кирова», «площадь Берия». На Эриванской площади всегда много военных. Часовые с ружьями у дверей серого здания, там — штаб округа.
На другой стороне площади — музей искусств. У входа — доска. На ней написано по-грузински и по-русски: «На этом месте была православная духовная семинария, здесь учился великий И. Сталин». Как-то раз мама привела Федю в этот музей. Большие светлые комнаты, картины на стенах. Что такое семинария — Федя точно не знал, но спросить постеснялся. Ему казалось, что это что-то очень мрачное, церковное, как притвор в Сионском соборе — это недалеко — вниз по Мухранской улице и вбок от нее по переулку. Он был в этом соборе на Пасху с мамой и тетей Машей.
От Эриванской площади идет Головинский проспект — самый большой в Тифлисе. В его начале — длинный дом с колоннами. Когда-то это был дворец наместника — графа Воронцова-Дашкова. А сейчас — Дворец пионеров. Федя там выступал со своим классом. Они пели хором:
«Сталин — наша слава боевая…»
Федя любит гулять по Головинскому. Дома там большие и красивые. В Ленинграде, на проспекте Красных Зорь, тоже много красивых зданий. Но здесь дома другие — теплые, радостные. И люди кругом — веселые, беззаботные. Громко разговаривают, смеются. Кажется, и не догадываются, что где-то война, холодно и умирают люди…
Много красивых домов на Головинском проспекте. Вот — гостиница «Тбилиси». Вращающиеся двери с зеркальными стеклами, на улице стоит швейцар в ливрее. Если украдкой посмотреть в большое окно, можно разглядеть ресторан; вечерами оттуда доносится музыка и видно, как танцуют между столиками.
А еще дальше — оперный театр. Федя бывает там довольно часто: его приводят на утренники. Первый раз он услышал там оперу, это был «Фауст». Накануне отец подробно рассказал Феде содержание, а тетя Маша сыграла несколько мелодий на рояле. Опера Феде понравилась. Дома он изображал Мефистофеля. Накинул на себя плед, отвел руку и громко запел:
Люди гибнут за-а металл!..
Ему хлопали.
Ночью Феде приснилась Вальпургиева ночь. Только это была ленинградская Вальпургиева ночь. Обнаженные ведьмы кружились в танце, летали по воздуху, и тут же была замершая Нева, и шел густой снег.
Дом Мухранских совсем недалеко от оперы. Собственно, это когда-то был дом Мухранских, «до войны». Сейчас из всех Мухранских осталось трое. Две очень старые тетушки — тетя Люся и тетя Лили, да Лена. Помещаются они все в двух маленьких комнатках на самом верхнем, четвертом этаже…
К Мухранским Федю привел отец.
— Познакомься, Федя. Наши родственники…
Тетя Люся и тетя Лили беззубо зашамкали:
— Федечка, такой большой уже… Надо же… из Петербурга…
Лена показалась Феде очень красивой и очень взрослой. Ей тогда только что исполнилось шестнадцать.
Лена поцеловала Федю в губы и засмеялась.
— Ну что же, братик. Давай дружить!
Федя почувствовал, что краснеет.
На следующий день они с Леной пошли гулять в Ботанический сад. Это совсем близко. Чтобы попасть туда, нужно свернуть на крутую Могинскую улицу и пройти мимо домов с голубыми балконами к армянской церкви, там начинается туннель. А за туннелем — Ботанический сад.
Там воздух дрожит от зноя, оглушительно трещат цикады, голова кружится от запаха диковинных цветов.
Федя держит Лену за руку.
— Скажи, Ленка, а почему ты Мухранская? В честь улицы или моста?
Лена смеется.
— Глупый! Я — княжна. Когда-то нам принадлежали пол-Тифлиса и пол-Грузии.
Они сидят на скамейке среди цветущих магнолий.
— Федя, сколько тебе лет?
— Скоро будет одиннадцать…
Лена наморщила лобик:
— Представляешь, когда тебе будет восемнадцать, я буду уже старухой…
Федя хватает Лену за руку.
— Лена, когда мне будет… когда я буду старше… давай поженимся…
Лена вздыхает:
— Когда ты будешь старше, у тебя будет другая…
Лена и Федя лежат на каменном полу на балконе дома Мухранских. Тихо. Небо, кажется, раскалывается от жары. На Лене — купальник. Федя губами дотягивается до Лениной руки.
— Я очень люблю тебя, Ленка…
— Не дотрагивайся до меня, мне жарко…
Лена гладит Федины волосы, шею…
— Ленка, а откуда они, все эти Мухранские, Дадашевы? Расскажи, ты все знаешь…
Лена уходит в комнату и возвращается с какой-то большой картинкой. Там множество цветных рисунков с надписями на непонятных языках, стрелки.
— Что это?
— Это генеалогическое древо. Его когда-то нарисовал мой папа.
— А что это значит, Лена?
— Я тебе объясню. Вот видишь эту надпись с завитушками, наверху? Это написано по-арабски. Означает «Мухраб». По преданию, он — родоначальник.
— Значит, Мухранские — арабы?
— В седьмом веке Кавказ завоевали арабы. Один из арабских правителей женился на грузинке…
— А Дадашевы?
— Есть легенда, что ваш род пришел сюда с Чингисханом…
— Но Чингисхан — монгол…
— Монголы пришли на Кавказ в тринадцатом веке… Но все это глупости, Федя. Все народы на свете давно перемешались. Вот — ты армянин, я — грузинка, а мы — брат и сестра…
— Я — русский, — подумав, объявил Федя.
— Правильно, по маме — ты русский, и моя мама — русская, и русский язык у нас — родной.
— А Додик?
— Додик — еврей, но наш, грузинский.
— А почему наши имена звучат как русские?
— Когда русские завоевали Кавказ, они стали всех переписывать, чтобы сосчитать, узнать, кто где живет, сколько кому платить налогов. Им было трудно записывать наши настоящие имена, и они переделали их на русский лад. Вот и стали мы Мухранскими, а вы — Дадашевыми.
— И они сделали вас князьями?
— Князьями мы были всегда… Русский царь пожаловал нам российское дворянство и подтвердил права на наши земли… А Дадашевы были князьями в Карабахе, это на юге. Они сразу перешли на сторону русских и стали служить в их войске. Посмотри на эту картинку. Вот — твой прадед. Его звали Исай. Родился он в 1840 году в маленьком городке, который называется Шуша.
Исай женился на Марии Тер-Арутюновой, дочери священника. Было у них четверо детей, два мальчика и две девочки. Паша — это твой дед, Жорж — отец Веты, нашей тетки, что пропала до войны в Ленинграде. Одна из девочек, Люся — моя бабушка — вышла за моего деда, князя Левана Мухранского…
* * *
… 1864 год застал Исая в горах западного Кавказа. Вот уже пять лет, как кончилась чеченская война; сдался Шамиль князю Барятинскому в роще возле аула Гуниб, а здесь все еще стреляют. Черкесские племена не хотят признать власть русского царя. Исай — сотенный командир карабахской милиции. Сотня конников на коротконогих карабахских лошадях стоит у аула Аибг, в горном лесном массиве.
Здесь все не так, как в родных карабахских местах. Крутые склоны гор, поросшие густым лесом, гулкие ущелья, влажная жара летом и непрекращающиеся дожди зимой. Здесь карабахцы впервые увидели море. Оно внезапно открылось за поворотом горной тропы. Был туманный зимний день. На каменистый берег с шумом накатывались волны.
Сотня Исая приписана к казачьему конному полку. Командир — полковник Недюжный — офицер храбрый и главное опытный. Людей бережет, дело знает. С Исаем отношения нормальные. Исай не всегда понимает, что ему говорят русские, но что не поймет — догадается, человек он сметливый.
Черкесы засели в урочище Кабада, в глухих, почти непроходимых лесах. Прежний командир пытался идти напролом, они заманили его в ущелье и там перестреляли всех, как куропаток. Ружей у черкесов много хороших, нарезных, с бездымным порохом. Говорят, по ночам англичане подвозят на турецких фелюгах.
Тогда привели сюда полк Недюжного. Теперь они в пекло не суются, продвигаются медленно, осторожно, зажимают черкесов в тиски. Пошел слух, что черкесы готовы сдаться. Ночью пришли на передовую заставу двое гонцов. Подошли скрытно, даже лошади их не учуяли. Говорят — веди к командиру, письмо везем от Али Мурата. Это черкесский старшина, славится коварством и жестокостью.
Привели гонцов к Недюжному. Старший гонец вытащил из нагрудного кармана-газыря записку. Она была свернута и запечатана сургучной печатью с арабской вязью. Недюжный сломал печать, развернул записку, прочитал при свете фонаря. Написано по-русски, грамотно:
«Готовы сдаться и принести присягу на верность. Только сдаваться будем самому главному российскому начальнику, фельдмаршалу Барятинскому».
Велел Недюжный гонцов отпустить, а записку отправил с нарочным в Майкоп. Через два дня пришла депеша: «Условия капитуляции принимаю 1 мая. Прибываю лично. Кн. Барятинский».
Вот уже несколько дней, как перемирие, по ночам не стреляют. На поляне развернули большую палатку, поставили столы, расстелили ковры. Привезли баулы с подарками. И вдруг новая депеша.
«Капитуляцию принимаю лично. Прибываю 5 мая. Великий князь Сергей Александрович».
Великий князь с конвоем прибыли за два дня до назначенной капитуляции. Расположились лагерем на соседней поляне. В охрану им выделили карабахскую сотню.
Утром великий князь выразил желание поохотиться. Для охоты выбрали рощицу в самом безопасном направлении. Черкесов там уже давно не видели. Охота началась удачно. Сергей Александрович убил большую косулю. Внезапно раздались выстрелы. Пуля просвистела над головой великого князя. Впереди, на лесной прогалине показались всадники с ружьями. Великий князь выстрелил в их сторону, обнажил саблю и пришпорил коня. Выстрелы раздались с другой стороны. Тогда он повернул голову, и пуля сбила с его головы фуражку. Великий князь остановился, вытер лицо и увидел, что со всех сторон на него нацелены ружья, а прямо на него на арабском скакуне движется невысокий черкес в белой папахе и говорит чисто, без акцента:
— Брось оружие, государь. Ты — мой пленник.
Тут стали стрелять со всех сторон, кто-то подскочил к великому князю, схватил его лошадь под уздцы, увлек в сторону.
Исай скакал вслед Али Мурату. Расстояние между ними не сокращалось. Арабский скакун, казалось, летел по воздуху. Исай несколько раз выстрелил, но промахнулся. Тогда он стал забирать влево, погнал Али Мурата к реке, туда, где в засаде лежал Арутин со своими людьми. Те не подвели. Подпустили Али Мурата поближе и дали залп. Али Мурат был еще жив. Исай перерезал ему горло кинжалом. Арутин разрезал саблей ему шаровары и поднял окровавленный кусок мяса над головой.
За этот подвиг Исай Дадашев был удостоен потомственного дворянства. Позднее, уже в Тифлисе, на большом приеме во дворце наместника великий князь вручил Исаю золотую шпагу. Подали шампанское. До Исая донеслись слова, сказанные княгиней Орбелиани:
— C’est celui qui a châtré Ali Mourat?[4]
Рядом с Исаем стоял граф Лорис-Меликов. Исай спросил его по-армянски.
— На каком языке говорит эта женщина?
— По-французски, — ответил Лорис-Меликов.
Исай одним духом выпил шампанское.
— Мои дети тоже будут говорить по-французски…
… В 1870 Исай женился на Марии Тер-Арутюновой, дочери священника из Гори. Венчались они в старинном Ванском соборе, что недалеко от Куры. В 1886 году возле этого собора похоронят графа Лорис-Меликова… На свадьбе было много гостей, военных и гражданских. Тифлисские купцы пришли с богатыми подарками. Наместник прислал с адъютантом поздравление.
В отставку Исай вышел в чине майора в 1875 году. К этому времени у него было четверо детей. Жили они в небольшом доме, в старой части города, на Бебутовской улице. Жили скромно, на военную пенсию. В Карабахе было у Исая родовое имение, но дохода от него не было никакого. Несколько раз предлагали Исаю это имение продать, там был редкий в тех местах буковый лес. Исай отказывался. Пусть останется детям.
Однажды к Исаю пожаловал с визитом Иван Минаевич Мирзоев, купец первой гильдии. Знал его Исай давно, Иван торговал шелком, основал в Тифлисе шелковую мануфактуру, неоднократно обращался к Исаю за содействием по поводу смягчения налогов, отсрочки выплат по векселям. Исай чем мог помогал. Иван был человек порядочный, а с Исаем в городской управе считались — герой войны, почетный гражданин…
Выпили по чашечке кофе, съели по кусочку пахлавы, и Иван перешел к делу. У него была аренда на большой участок для рыбной ловли в устье Куры, на Каспии. Места сказочно богатые — каждый год в путину идут туда на нерест осетровые рыбы. Предлагал Исаю взять эти промыслы в управление, с годовым окладом 5000 рублей золотом. Деньги по тем временам немалые. Исай согласился.
Когда Мирзоев делал свое предложение, он и не думал, что Исай возьмется за дело всерьез. Хотел предложить синекуру, отблагодарить Исая за услуги. Но Исай не любил получать деньги зря. Отправился в Соляны, на Каспий. Узнал, как идут дела, уволил вороватых управляющих, поставил людей честных и работящих, из ветеранов, что воевали с ним в черноморских горах. Уже через год Соляны стали приносить большой доход. Вылавливали отборные сорта рыбы, бочками солили икру. Договорились с каспийскими и волжскими пароходными компаниями. Рыбу и икру доставляли по воде в Россию, а оттуда — по железной дороге в Европу. Через два года за 300 тысяч рублей Исай откупил у Ивана право на аренду, сам стал хозяином.
Тогда Мирзоев предложил Исаю заняться нефтью. Нефть в Баку добывали давно. Рыли колодцы, ждали, пока колодцы наполнятся нефтью, вычерпывали густую черную жидкость кожаными ведрами, переливали в бочки. На верблюдах развозили бочки с нефтью по городам. Мирзоев нанял русских инженеров. Они построили вышку, стали бурить глубокие пласты. Из скважины рекой хлынула нефть.
— Вступайте в долю, — сказал Иван. Я взял в аренду Балханы.
Через несколько дней Исай принес Ивану чек на миллион рублей.
— Это все, что у меня есть. Я заложил имение.
Иван засуетился.
— Зачем вы это делаете? Это большой риск. А вдруг нефти не будет?
— Нефть будет, — ответил Исай.
— Зачем вам это нужно, Исай Маркович?
Исай помолчал.
— Я хочу… чтобы мои дети учились во Франции…
— Почему во Франции, а, скажем, не в Англии? — не понял Иван.
— Дети — во Франции… А в Англии — внуки… или правнуки…
* * *
…Шел 1878 год. В конце этого года в маленьком домике с плоской крышей, на окраине уездного города Гори, что в ста верстах от Тифлиса вверх по Куре, родился Сосо. Отец его, Бесо, родом из деревни Диди-Ладо, был крепостным крестьянином князей Мачабели. Как вышла воля, Бесо пошел в город, пробавлялся случайными заработками, чинил обувь и очень много пил. Руки у него были хорошие. Когда купец Баграмов получил большой подряд от армии и открыл в Гори сапожную мастерскую, он взял Бесо к себе на работу. Жена Бесо, Кеке, родилась в селе Гамбареули; в имении Гамбаровых, богатых армян. Венчались Бесо и Кеке в Гори, в 1874 году, в Успенском соборе. Сосо был четвертым ребенком. Трое первенцев умерли, едва появившись на свет.
В доме Бесо было темно и голодно. На керосин денег не хватало. Баграмов платил мало, и почти все деньги Бесо оставлял в духане. Подвыпив, дурачился, ерничал. Передразнивал собутыльников. Возвращался домой поздно. Наутро у Бесо болела голова, дрожали руки. Нередко приходил на работу пьяным. Баграмов два раза предупредил, а на третий раз выгнал Бесо с работы. С деньгами стало совсем худо.
Кеке стирала белье для богатых армян. Стирала в ручейке, что протекал за домом. Шла по городу с большой корзиной на голове.
Больше других ей платил Тер-Арутюнов, настоятель армянской церкви. У него — каменный дом с большим тенистым садом.
Как-то раз он сказал Кеке:
— Я слышал, что у тебя растет сын, приведи его ко мне.
Сосо у Тер-Арутюнова понравилось. Он еще никогда не бывал в таких больших домах. Тер-Арутюнов привел Сосо в комнату, где было много книг, снимал их с полки, показывал картинки.
— Можно я посмотрю сам, отец?
— Конечно можно, Сосо.
Сосо слюнил палец и переворачивал тяжелые страницы.
Бесо пропивал все деньги, что приносила Кеке. Теперь он пил только водку.
Раз в духане кто-то сказал Бесо:
— Твоя Кеке — блядь. Сама дает армянскому попу, а теперь и Сосо с собой водит.
В тот день Бесо не допил. Духанщик отказался наливать ему в долг. Пришел домой рано, злой.
— Принеси мне есть, Кеке.
В доме были только хачапури. Бесо съел все, что было, но злость не проходила.
— У тебя есть деньги, Кеке?
— Откуда, Бесо? Ты все у меня забрал…
— Что, мало тебе платит твой поп? Задаром ему даешь? Сосо к нему тоже задаром привела?
Кеке воздела руки.
— Что ты говоришь, Бесо! Господь лишил тебя разума!
— Врешь, сука!
Бесо со всей силы ударил Кеке по лицу, а когда она упала, стал бить ее ногами.
Откуда-то свалился Сосо, повис на Бесо.
— Отец, не убивай Кеке!
Бесо скинул с себя Сосо, он отлетел в угол. Когда мальчик поднимался, Бесо ударил его сапогом в лицо. Сосо успел закрыться, и удар пришелся по руке. Рука повисла, как плеть.
Отец Тер-Арутюнов смазал рану какой-то мазью и крепко забинтовал.
— Даст Бог, заживет.
Потом они сидели в саду в беседке, ели чурчхелы, пили чай из высоких пиал.
— Кеке, мальчику пора учиться. Ты хочешь учиться, Сосо?
— Я хочу стать священником, отец.
— Не слушайте его, святой отец. Мальчик не знает, что говорит. У нас нет денег, чтоб учить Сосо на священника.
— Не говори так, Кеке. Если ребенок так говорит, значит, Бог так хочет. А насчет денег… мир не без добрых людей…
Как-то раз, когда Кеке принесла корзинку с бельем, Тер-Арутюнов увел ее в сад.
— Садись, Кеке, и слушай меня внимательно. У меня есть богатые родственники в Тифлисе, я им написал письмо. И вот пришел ответ.
Тер-Арутюнов надел очки в золотой оправе, развернул бумагу.
— Сосо будет получать деньги, пока не примет сан. Двадцать рублей в месяц. Денег хватит и на духовное училище в Гори, и на семинарию в Тифлисе.
Кеке заплакала, встала на колени, стала целовать руки Тер-Арутюнова.
— Да продлит, Господь, дни Ваши, да благословенны будут родные Ваши, святой отец…
Тень сомнения пробежала по лицу Кеке. Тер-Арутюнов это заметил.
— Ты чем-то недовольна, Кеке?
— Я всем довольна отец. Но все же… мы православной веры…
Тер-Арутюнов улыбнулся.
— У нас один Бог, Кеке. У всех людей один Бог…
Когда Кеке уже уходила, крестясь и пятясь, он остановил ее и сказал тихо.
— Только никогда не говори об этом. Никому на свете. Говори, так решил попечительский совет. Ты запомнила, Кеке?
* * *
…Кажется, весь мир собрался в Париж на Всемирную выставку в 1900 году. Перестроили, переворошили Париж. Вокруг Эйфелевой башни возвели целый город: Большой дворец, Малый дворец, и каждой стране — по павильону. А у России — самый большой; вознеслись кремлевские башни на берегах Сены.
Приехали в Париж и Исай с Марией. На Восточном вокзале их встречали Паша и Жорж. Уже год, как они учатся в Париже. Мария прослезилась. Выглядят дети европейцами: в котелках, с тросточками. Сели в фиакр.
— Сперва покажите нам Париж.
Они проехали по Елисейским полям, свернули на набережную Сены. Кучер говорил, не замолкая.
— Что он говорит? — спросил Исай.
— Он говорит, что это Сена, — перевел Жорж.
— Я и сам это вижу, — сердито сказал Исай.
Жорж снял родителям шикарный номер в отеле у Оперы. Спустились в ресторан. Им подали шампанское и устрицы.
— Закажи водки, — попросил Исай.
Исай посмотрел, как устроились дети. Остался доволен. Они сняли две опрятные квартирки на тихой улице Гренель, недалеко от Сорбонны. Через неделю родители отбыли. У Исая много дел. Строит новый дом в Тифлисе. Проект заказан в Германии.
Паша и Жорж слушают лекции в Сорбонне, на факультете права. На лекции ходят исправно, но занятиями себя не утомляют. Приехали в Париж они ранней весной. Пахло жареными каштанами. На набережных целовались парочки.
— Пойдем в бордель, — предложил Жорж.
Бордель их разочаровал. Ничего особенного. И берут дорого. Сексуальный опыт у них был. Жоржу было четырнадцать, а Паше пятнадцать лет, когда они впервые переступили порог заведения мадам Войнович в Саперном переулке. Паша был романтик, у него даже возник небольшой роман с девицей по имени Зося. Она говорила, что приехала в Тифлис прямо из Варшавы. Потом выяснилось, что она — хохлушка из Полтавы. Зосю вскоре отправили в Баку, мадам Войнович постоянных отношений с клиентами не одобряла.
С Ириной Габриелян Жорж и Паша познакомились на сходке русских радикал-социалистов, куда забрели по чистому недоразумению. Кто-то им сказал, что там будет интересно. Сходка проходила в задней комнате бистро в Латинском квартале. Народу собралось человек двадцать, судя по выговору, в основном, евреи из Малороссии. Было несколько девиц, все, как на подбор, удивительно некрасивые. Говорили громко и все сразу. Друг друга не слушали. Одни были за террор, другие — против. Братья уже собирались потихоньку смываться, когда появилась девица в шляпке и села на стул рядом с Жоржем. Паша обратил внимание, что у нее неплохая фигурка.
— С этой, пожалуй, я бы переспал… — задумчиво сказал он Жоржу по-армянски.
— Вам бы никто не дал, — по-армянски отозвалась девица в шляпке.
Жоржа смутить было нелегко, но тут он покраснел. Вскочил, зашаркал ножкой.
— Прошу извинить моего брата. Он — невоспитанный хам. Позвольте пригласить вас на ужин…
Ужинали в ресторане на Буль-Миш. После ужина отправились к Жоржу на улицу Гренель. Пили шампанское. Незаметно перешли на «ты».
Ирина посмотрела на часики.
— Уже поздно. Я у тебя остаюсь. Хорошо?
Паша поднялся, чтобы уйти. Ирина его остановила.
— Оставайся с нами. Мы люди современные. Без предрассудков.
У них начался длительный роман втроем. Братья так и не узнали, где Ирина жила, чем занималась. Иногда она исчезала на месяц, на два. Приезжала к ним, как к себе домой. У нее были ключи от обеих квартир. Иногда приводила с собой друзей, просила приютить. Чаще всего это был армянин по имени Степан. Они с Ириной долго и горячо спорили. Упоминали имена: Плеханов, Ильин, Аксельрод…
Как-то раз, когда они были одни, Ирина спросила.
— А у вас есть вообще какие-нибудь убеждения?
Жорж пожал плечами:
— Самые общие. Конституционная монархия. Ответственное министерство.
Паша прибавил:
— Национальная автономия в рамках империи…
Ирина искренне рассмеялась.
— Детский лепет. Но для начала сойдет.
Потом стала серьезной.
— А вы понимаете, что царь сам свободы не даст? Согласны ли вы нам помочь? Совсем немного…
— Что нам нужно сделать, Ирина?
Ирина достала из чемодана несколько пачек.
— Я слышала, у вас есть друзья в посольстве. Отправьте эти пакеты в Тифлис дипломатической почтой. На ваш адрес. За ними придут.
— Это не бомбы, Ирина?
— Нет, это газеты.
Ирина разорвала одну пачку. Вытащила газету, напечатанную на папиросной бумаге. На первой странице крупными буквами «Искра».
Помолчала и добавила:
— А иногда могут потребоваться и бомбы. Революция должна уметь защищаться.
* * *
Комнатка Сосо в семинарии напоминает тюремную камеру. Койка. Стол. Полка с книгами. Распятие на стене. Узкое окно. Час перед вечерней молитвой Сосо обычно проводит за чтением. Сегодня ему не читается. Он не может сосредоточиться: сидит перед открытой книгой, а мысли его далеко. В дверь постучали. Вошел грузный старик в мешковатом сюртуке.
— Ты Иосиф?
Сосо узнал старика. Это был Илья Чавчавадзе.
— Что привело тебя в мою обитель, князь?
Чавчавадзе тяжело опустился на стул. Отдышался.
Вытер лицо платком.
— Не называй меня «князь». Мы братья.
Достал из кожаного портфеля несколько листков. Разложил на столе.
— Я тебе писал, Иосиф. Ты не ответил мне.
Сосо молчал.
— Я захотел посмотреть на тебя, Иосиф. Мне нравятся твои стихи. И псевдоним ты взял хороший — Коба.
Сосо сидел на табурете напротив Чавчавадзе. В лучах вечернего солнца волосы его казались рыжими, на лице выступили оспинки. Левая рука висела безжизненно, а на правой непрестанно шевелились пальцы.
— Я принес гранки, — Чавчавадзе протянул Сосо листок. Это твое последнее стихотворение. По-моему, оно тебе удалось. Я его напечатаю в следующем номере «Иверии».
Чавчавадзе помолчал. Вытащил из пачки еще несколько листков.
— Я готовлю большую антологию «Грузинская поэзия». Лучшее, что написали наши поэты. Я включил туда твое стихотворение.
Чавчавадзе еще раз взглянул на Сосо. Ему показалось, что тот сильнее сжал губы.
— Я хочу сделать тебе предложение, Коба. Не навечно же замуровал ты себя в этих стенах…
Чавчавадзе сделал широкий жест рукой.
— Я хочу предложить тебе место литературного редактора «Иверии». Оклад небольшой, но ты сможешь много писать…
Сосо заговорил:
— Благодарю за честь… У меня другие планы.
— Все-таки станешь священником?
— Нет, князь. Я ухожу из семинарии. Я более не верую в Господа…
Чавчавадзе опять вытер лицо платком.
— Во что же ты веришь, Иосиф?
— Народ… пролетариат…
— Я тоже верю в народ. Мы должны просвещать людей. Только образованный человек достоин свободы…
— Не тебе судить о народе, князь!
Чавчавадзе посмотрел на Сосо с удивлением. Рыжеватые глаза Сосо блестели.
— Народ нужно привести к свободе. Если сами не захотят — то силой.
Чавчавадзе сложил бумаги в портфель.
— Не смею более докучать тебе, Иосиф!
В дверях остановился. Наклонил седую голову.
— Учти, мое предложение остается в силе.
Сосо остался один. Солнце ушло и в комнате быстро темнело. Взял со стола корректуру, поднес к глазам. На шероховатой бумаге было напечатано грузинской вязью:
Звуки божественной лиры толпа Заглушила воплями, криками, бранью. Чашу с цикутой влили в поэта уста: «Пей и умри, унеси в мир иной свои песни, Забери и свободу, что наш осквернила покой!»* * *
… 1902 год был особенным в жизни братьев Дадашевых. Они вернулись в Тифлис, начали адвокатскую практику при Тифлисской судебной палате. В тот год оба женились на сестрах, дочерях купца Арутюнова: Жорж — на Маше, а Паша — на Анне.
Вышли замуж и сестры. Блестящую партию сделала Люся. За нее посватался князь Леван Мухранский, прапорщик Кутаисского полка. Род Мухранских — один из древнейших в Грузии. У них поместья в Имеретии и Картлии. Правда, в последние годы дела их несколько расстроились, поместья заложены.
Исай отстроил дом на улице Паскевича. Мраморный вестибюль с комнаткой для швейцара. Тяжелая дубовая лестница. Фонтан во дворе. У каждого из детей было по большой квартире, а у Исая с Марией — весь бельэтаж. Только Люся живет отдельно; переехала в дом Мухранских на Головинский.
Анна и Маша родили в один год, с разницей всего в два месяца. У Анны родился мальчик. Его назвали Марком, в честь деда. У Нины — девочка. Ее окрестили Елизаветой, все называли ее Ветой.
Когда началась японская война, Леван с полком отправился на фронт. Под Мукденом был легко ранен. Вернулся с войны летом 1906-го, ходил с тросточкой, слегка прихрамывал. На кителе появилась Георгиевская ленточка. В тот же год молодые Мухранские уехали в Петербург. Леван поступил в Академию генерального штаба.
В 1905 году в России вспыхнула революция. В Москве, на Пресне шли бои. На Кавказе тоже было неспокойно. В Гурии бунтовали крестьяне. Захватывали княжеские земли, жгли усадьбы. Власти действовали нерешительно. Боялись, что восстанут местные солдаты. Крестьяне стали захватывать города. Порядок навели казачьи части из России.
Когда опубликовали Манифест 17 октября, Жорж и Паша заказали ящик шампанского. Гуляли до утра. Пили за свободу, за царя-освободителя. В ноябре в киосках появилась газета «Тифлисский вольнодумец». Основатели и издатели — братья Дадашевы. Газета выступала за социализацию земель, немедленное принятие рабочего законодательства, гневно обличала произвол чиновников. В феврале 6-го года вышел закон об антиправительственной пропаганде. Газету закрыли. Вскоре в Авлабаре нашли подпольную типографию; там печатали листовки с призывами к всеобщему восстанию. Начались аресты. В городах появились черные сотни. Нападали на либеральных деятелей. Убили Илью Чавчавадзе.
Жорж и Паша остро переживали крушение надежд на скорую свободу. Ушли в дела. А дела как раз шли неплохо. Жорж стал играть на бирже и очень удачно.
…Было лето 1907 года. Швейцар принес в кабинет Жоржу конверт с запиской. «Нужна помощь. Приюти товарища». Подписи не было. Жорж показал записку Паше.
— Это — Ирина, — сказал Паша. Жорж кивнул.
— Что будем делать?
— Надо помочь, — сказал Паша.
Товарищ появился, когда стемнело. Прошел со двора, поднялся по винтовой лестнице. Постучал в окно. Это был грузин лет тридцати, в высоких сапогах, косоворотке. В правой руке небольшой саквояж. Левой рукой он владел плохо.
Жорж провел гостя на кухню. Подал вино, сыр, зелень.
Сказал по-грузински:
— Ванна истоплена.
Гость покачал головой. Ответил по-русски:
— Спасибо, не надо.
Жорж разлил вино по бокалам.
— Я хочу выпить за свободу.
Гость не ответил. Выпил молча, одним духом.
Дверь приоткрылась, и в кухню вошла Вета. Подошла к отцу, прижалась.
— Вета, почему ты не спишь? Уже поздно.
Девочка не ответила. Смотрела на гостя большими глазами.
— Папа, кто этот дядя?
— Это наш друг, — ответил Жорж.
Гость наклонился к Вете. Погладил ее по головке.
— Какая ты красивая…
Внезапно Вета обняла гостя ручонкой за шею, поцеловала его небритую щеку и тут же убежала из кухни, стуча по полу босыми ножками…
Жорж устроил гостю постель в маленькой комнате рядом с кабинетом. Встал рано, чтобы напоить его чаем. Но гостя уже не было.
День был жарким. Часов около 11 Паша вышел из дома, быстро зашагал по Паскевича: спешил на встречу с важным клиентом. Мимо проехал фаэтон. На повороте кучер придержал лошадей, и Паша успел разглядеть лицо Ирины. Рядом с ней сидел незнакомый офицер. Через несколько минут со стороны Эриванской раздались выстрелы, прогремел взрыв. Паша выбежал на Эриванскую, над площадью поднимались клубы удушливого дыма. Валялись обломки экипажей, окровавленные трупы людей и лошадей. Повсюду бестолково сновали солдаты и полицейские. Паша узнал в толпе знакомого чиновника.
— Что здесь произошло?
Чиновник был смертельно бледен. Говорил с трудом.
— Анархисты… на моих глазах… захватили казначейскую карету… Перестреляли конвой… Вытащили мешки с деньгами и скрылись… На моих глазах…
Два дня спустя швейцар принес в кабинет Жоржа большую коробку.
— Оставил незнакомый студент. Велел передать барину.
Жорж вызвал Пашу. Заперли дверь на ключ. Вскрыли коробку. Внутри был черный саквояж. Жоржу казалось, что такой же саквояж он где-то недавно видел. Саквояж был доверху набит пачками новеньких сторублевок. Сверху лежал конверт с запиской:
«Содержимое положите на ваш счет в швейцарском банке. Выдавать по требованию. Пароль: Вета».
Деньги пересчитали. Там было миллион двести тысяч.
Каждую осень молодые Дадашевы уезжали за границу. На этот раз решили ехать в Швейцарию. Заказали пансион на берегу Женевского озера. Пачки с деньгами засунули за подкладку чемоданов.
На пограничной станции Вержболово Паша заметно нервничал. Жорж, напротив, держался уверенно. Вложил в паспорт «катеньку».
Жандармский ротмистр брезгливо вытащил «катеньку» из паспорта.
— Ваша?
— Никак нет, — ответил Жорж по-военному, — ваша.
Ротмистр спокойно положил ассигнацию в карман кителя, отдал честь и проследовал дальше. С багажом их больше не беспокоили.
В Женеве Паша спросил Жоржа:
— Что будем делать с деньгами?
Жорж ответил:
— Надо отвезти в Цюрих.
В Цюрих Жорж поехал один. Зашел в неприметный банк на Банхофштрассе. Обратился к служащему.
— Могу я открыть счет на предъявителя?
Протянул пачку банкнот.
Служащий долго рассматривал банкноты под лупой. Сверился с каким-то списком.
— Банкноты настоящие, но находятся в розыске.
— Что вы можете для меня сделать?
— Могу обменять на швейцарские франки, но по пониженному курсу.
Служащий аккуратно пересчитал пачки, на выборку распечатал и пересчитал банкноты в трех пачках. Выписал расписку.
— Мне нужен какой-либо номер, удостоверяющий ваш счет. Любой документ с номером.
— Подойдет ли эта ассигнация? — Жорж протянул розовую десятирублевую бумажку.
— Подойдет, — сказал служащий. Аккуратно записал номер ассигнации в толстом гроссбухе и возвратил ее Жоржу.
* * *
…Дети подрастали, пора было учить их французскому языку. Выписали бонн, мадмуазель Прево и мадмуазель Оранш, из маленькой деревушки недалеко от Женевы. Им выделили небольшую квартирку на верхнем этаже. Бонны прожили в Тифлисе пять лет, но так и не выучили ни слова по-русски. Да и знакомств не завели; в маленькой протестантской церкви в Тифлисе, куда они ходили по воскресеньям на мессу, кроме них швейцарцев не было.
Особой теплоты к детям бонны не испытывали, между собой они называли их не иначе, как ces saligots (эти грязнули). Но дело свое они знали. Десять часов на дню в детской звучала французская речь. Через год дети уже сносно болтали по-французски, а еще через год говорили бегло, правда на всю жизнь сохранили привычку говорить septante и nonante[5]. Кроме этого, швейцарки привили детям хорошие манеры, аккуратность, сдержанность и протестантскую неприязнь к праздности.
Вете языки давались легко. В семье говорили исключительно по-русски, и к шести годам Вета сама, без посторонней помощи, научилась читать. На ночь брала в кроватку сказки Пушкина. Читала вслух. Вслушивалась, как торжественно звучат рифмованные строчки. Легко и незаметно Вета выучилась болтать по-армянски и по-грузински. Раз в неделю к детям приходил священник, отец Саркис. Учил армянской грамоте, читал Евангелие.
Марку языки давались хуже. С раннего детства у него была склонность к технике. Целыми днями он возился со старинными часами: разбирал их по винтикам и потом собирал вновь. Был вне себя от радости, когда механизм оживал, и стрелки приходили в движение.
Марк помогал провести в доме электричество. Соединил все комнаты звонками. В 10-м году Жорж купил автомобиль, «испано-сюизу». Марк не отходил от шофера, Ипполита Андреевича. Для машины во дворе построили гараж. Днем машину выкатывали из гаража. Ипполит Андреевич расстилал кожаную подстилку, залезал под двигатель. Марк стоял рядом, подавал инструменты. Потом они садились в машину, и Ипполит Андреевич учил Марка заводить мотор, переключать скорости. Разрешил несколько раз объехать вокруг дома, сам сидел рядом, придерживал руль рукой.
…Однажды поехали на машине в Коджоры, там у Исая был загородный дом. Ипполит Андреевич поставил машину на ручной тормоз, вошел в дом. Вете в доме было скучно, она незаметно проскользнула в дверь. Забралась в машину, села на шоферское место, стала нажимать педали и рычаги. Слегка толкнула вперед большой черный рычаг. Машина ожила и медленно покатилась вниз по склону.
Марк сидел со всеми в столовой. Случайно взглянул в окно и увидел Вету в катившейся под гору машине. Выпрыгнул в открытое окно; что было сил побежал вдогонку. Вскочил в машину на ходу, когда до поворота оставалось саженей двадцать. Обеими руками дернул на себя ручной тормоз. Машина замерла в двух шагах от обрыва…
* * *
…Война началась в июле 14-го внезапно, как все войны. Не верилось, что воевать придется именно с Германией. В Тифлисе жили немцы — коммерсанты, инженеры. Недалеко от Тифлиса были деревни немцев-колонистов. Все немцы казались на редкость дружелюбными, хотя и туповатыми.
В Германию русские ездили часто — пить воду на курортах, играть в рулетку, слушать музыку. Паша с Анной были в Германии летом 13-го. В Берлине им не понравилось. Чисто и уныло, как в аптеке. Блестят надраенные крышки люков. Блестят каски шуцманов. Никто не понимает по-французски. Пошли в оперу. Давали «Золото Рейна» Вагнера. Оркестр оглушил медью. На сцене надрывались полуголые валькирии и златокудрые викинги. В середине второго акта на Пашу напал неудержимый смех. На него оборачивались, шикали. От этого смеяться хотелось пуще прежнего. Паша прижал к лицу платок и бросился из ложи. Анна побежала за ним. Их сосед, красномордый старик с седыми волосами бобриком, презрительно бросил им вслед: «Russische Schweine!»
В год войны молодые Дадашевы поехали в Евпаторию — сняли два этажа в санатории доктора Фабера. Погода стояла дивная. Приятное, ласковое тепло, без изнуряющей, как в Тифлисе, духоты. Вета и Марк купались часами в прозрачной зеленоватой воде.
В середине июля был сильный шторм, два дня нельзя было купаться. После этого погода испортилась, днем дул сухой холодный ветер, вода в море стала мутной.
Столичные газеты приходили в санаторий с опозданием, на третий день. Жорж и Паша просматривали газеты после обеда, в беседке на берегу моря, за рюмкой коньяка. Солнце медленно опускалось в золотистые облака. С моря дул вечерний бриз. Газеты писали об убийстве эрцгерцога в Сараево, об австрийском ультиматуме Сербии. Все это казалось далеким и ненастоящим. Не вызвало у них беспокойства и сообщение о мобилизации.
— Пошумят и успокоятся, — сказал Паша. — Никто не будет воевать из-за эрцгерцога.
Утром 20 июля к постояльцам в столовую вышел доктор Фабер. В руках у него была телеграмма.
— Война, господа. Вчера Германия объявила нам войну.
— Нужно возвращаться в Тифлис, — сказал Жорж.
Уезжали пароходом из Ялты 5-го августа. Раньше уехать не смогли, все билеты были уже раскуплены. Пароход шел медленно, заходил во все порты: Феодосию, Керчь, Новороссийск. Море было неспокойное. Жорж и Паша нервничали. Они знали из газет, что в турецких портах стоит наготове германо-турецкий флот, которым командуют германские офицеры. Чаще других газеты упоминали два таинственных крейсера — «Гебен» и «Бреслау»: вот-вот они войдут в Черное море под турецким флагом и будут топить русские корабли.
Путешествие прошло благополучно. 7-го августа они сошли с парохода в Батуми, поездом добрались до Тифлиса.
Война с Турцией началась 29-го октября. Бои шли на границе. В декабре турки стали наступать, говорили, что ими командует германский генерал. В Тифлисе началась паника. «Если турки займут Тифлис, армянам несдобровать, вырежут всех».
Дадашевы собрались на совет.
— Нужно уезжать в Москву, — сказал Жорж.
— Я никуда не поеду, — сказал Исай. За последние месяцы Исай сильно сдал; ему недавно исполнилось 75. Но голова у него была на редкость ясной.
— Отец прав, — сказал Паша.
Жорж встретился с Иваном Адамовым, их дальним родственником — он занимал большой пост в армейской разведке.
— Как думаешь, Иван, отобьемся?
— Думаю, отобьемся, — ответил Иван.
Он оказался прав. Русские подтянули резервы, перешли в контрнаступление. Турецкий корпус попал в окружение. Турки потеряли убитыми семьдесят тысяч, двадцать тысяч сдались в плен.
И почти сразу стали поступать сообщения о турецких зверствах. В начале войны турки мобилизовали в армию армян, которых после неудач на кавказском фронте обвинили в пособничестве русским и почти всех расстреляли. В Константинополе были погромы. Армян арестовывали и вешали на площадях: писателей, художников, журналистов, депутатов меджлиса.
В начале 15-го года произошли восстания армян в Ване, Эрзеруме, Сюнике и Трапезунде. Позднее Адамов сказал, что эти восстания были спровоцированы турками. Восстания продолжались до начала мая. У восставших кончились оружие и боеприпасы. Они уходили в горы, уносили раненых, уводили с собой женщин и детей. В захваченных деревнях турки находили только трупы. Нескольким отрядам удалось прорваться к русским.
Массовые репрессии начались в мае. Войска входили в мирные деревни, где никто не принимал участие в восстаниях. Таких было большинство. Выгоняли всех жителей из домов. Мужчин убивали сразу. Женщин и детей строили в колонны и гнали на юг. В турецких сводках это называлось «депортация».
В мае в России появились первые беженцы. Те, кому удалось бежать до того, как в их деревню пришли турки; реже те, кому удалось спастись, обманув бдительность или подкупив конвоиров. Беженцы собирались в Эчмиадзине, около церквей.
Жорж и Паша отправились в Эчмиадзин с колонной грузовых машин. Ехали узкими горными дорогами, везли медикаменты и продовольствие. Зрелище их глазам предстало страшное. Несколько тысяч женщин, стариков и детей лежали на голой земле под палящими лучами солнца. Женщины хватали их за руки: «Воды, хлеба!». Волонтеры сбивались с ног.
Через несколько дней беженцев распределили по домам и больницам. Многих спасти не удалось. Жорж и Паша снимали у выживших показания. Их рассказы поражали сходством совершенных злодеяний. Турки выстраивали в колонну избитых и смертельно напуганных людей, гнали их горными тропами под палящим солнцем. Днем им не давали ни воды, ни пищи. Конвоиры прикладами добивали тех, кто падал от истощения. Привал устраивали вечером. Здесь депортированных поджидали заблаговременно подъехавшие на лошадях «возмущенные патриоты». Обычно это были полудикие курды или зажиточные турки из окрестных аулов. Следовала кровавая вакханалия. Девочек и мальчиков насиловали на глазах матерей. Потом всех забивали насмерть. Трупы бросали в реку.
В феврале 16-го русские начали генеральное наступление. Вскоре пал Эрзерум. В апреле взяли Трапезунд. Армия входила в безлюдные места. Армянские селения были разграблены и сожжены. Не было людей и в турецких аулах. При приближении русских турки уходили — боялись репрессий.
* * *
… Война стала рутиной. Известия с фронтов приходили неутешительные. На тысячи верст Европу перерезали рвы и траншеи. Гибли, задыхались в ядовитом дыму люди. После первых успехов в Галиции русские отступали. Отдали Польшу, отходили дальше на восток. Кавказ был далеко, но и здесь появились беженцы из Белоруссии. Хуже всего было то, что медленно, но верно приходил в расстройство механизм огромной страны. Плохо ходили поезда, бастовали заводы. Воровали пуще прежнего, кто-то на крови наживал миллионы.
В Москве заседали промышленники и земцы. Решили создать союз городов, земгор. Понемножку «брать» страну в свои руки. Пытались наладить производство оружия, обмундирования и лекарств, устраивали госпитали. Власти на их деятельность смотрели с недоверием, мешали, как могли.
Отделение земгора открыли и в Тифлисе. Жорж и Паша вошли в правление. Земгор постановил: «содействовать восстановлению нормального хода жизни и хозяйства разгромленного армянского населения». Жорж и Паша несколько раз ездили в прифронтовую зону. Восстанавливать, в сущности, было нечего. Армянского населения там уже не осталось.
Осенью 16-го Пашу откомандировали в Москву и Петроград. Вести переговоры с земгорским начальством. До Москвы Паша ехал поездом три дня — через Баку. Поезд часами стоял на темных полустанках — пропускал военные составы. В Москве Паша остановился как всегда в «Национале». Большого начальства в Москве не было — кто в Петербурге, кто на фронтах.
Пашу пригласили на торжественный банкет в «Славянском базаре». Там много пили, произносили прочувственные речи, и опять пили. В ресторане Паша впервые увидел пьяных до безобразия офицеров.
Утром на Николаевском вокзале в Петербурге Пашу встречал Леван Мухранский. Как всегда подтянутый, полковничья папаха, золотые погоны с аксельбантами. Паша заметил, что Леван постарел: седина в висках, мешки под глазами. У вокзала стоял казенный автомобиль с шофером в форме гвардии. Ехали по Невскому, запруженному конными экипажами и автомобилями. Надрывно звенели трамваи. Несмотря на сильный холодный дождь, народу на улице было много, среди толпы мелькало большое количество людей в серой военной форме.
Мухранские жили в казенной квартире на Миллионной. Люся бросилась Паше на шею.
— Господи, Паша, ты совсем не изменился…
Люся сильно пополнела и подурнела… А вот Костю, их сына, Паша совсем не узнал. Когда Мухранские уезжали, Костя был совсем ребенок. Теперь перед Пашей стоял бледный высокий мальчик в форме кадета Александровского училища.
На работу Леван отправился пешком. Паша пошел его провожать. Они миновали бурую громаду Зимнего дворца. Вышли на Дворцовую площадь. Дождь не прекращался. Уныло блестели мокрые торцы. Во влажном тумане проступали очертания арки Главного штаба. У входа в Штаб замерли часовые. Увидели Левана, щелкнули каблуками начищенных до блеска сапог. Леван небрежно козырнул и скрылся за тяжелыми дверьми.
Паша вышел на Невский. Дождь не прекращался. Паша подозвал извозчика.
— Куда поедем, барин?
Дел в тот день у Паши не было, он неопределенно махнул рукой.
Проехали Невский. Свернули на Лиговку. Паша поразился, как быстро меняется облик города. Только что проносились величественные фасады, мелькали витрины шикарных магазинов. Свернули за угол, и вот — облезлые домины смотрят подслеповатыми окнами, вода хлещет из ржавых водосточных труб…
Вечером у Мухранских был семейный обед. Паша отметил, что жили они на широкую ногу. В квартире на Миллионной было шесть комнат, Паше выделили большую, ее окна выходили во внутренний сад. За столом прислуживал камердинер, в кухне хлопотала кухарка. Обедали по-русски. Стол был рыбный. Выпили по паре рюмок лимонной водки, закусили икрой и расстегайчиками с семгой. Потом принесли уху из стерлядей. На второе — судак по-польски. К каждому блюду подавали новое вино. Камердинер незаметно подливал холодный прозрачный напиток, когда хрустальные бокалы пустели. После кофе и ликера Леван провел Пашу в кабинет.
Поставил ящик с сигарами, открыл пузатую бутылку мартеля. Паша курил редко, но сейчас затянулся с удовольствием.
— Леван, скажи, что происходит в мире? Когда кончится война?
Леван молчал. Сжимал в руке коньячную рюмку. Потом заговорил.
— Эту несчастную войну нам не выиграть, Паша. Нас в нее втянули помимо нашей воли и воюем мы за чужие интересы…
— Леван, а как же Турция, проливы?
— Не пустят они нас в Турцию! Дойдет до дележа — англичане уж тут, в Месопотамии, а надо будет — опять в Дарданеллах или где-нибудь еще высадятся…
Леван допил рюмку и налил еще. Он заметно возбудился.
— Нам эта война не нужна. Не готовы мы были к войне, это я тебе говорю как военный. Нам бы еще десять лет мирной жизни, и были бы мы в Европе — первые… И тогда и Турция, и что хочешь… А сейчас…
Леван горестно махнул рукой и затянулся сигарой.
Паша спорить не стал. Спросил тихо:
— А что же делать, Леван?
— Мириться нужно. Мир заключать, пока не поздно. Пока не подняли на нас штыки наши же солдатушки…
— Ну, это ты уж слишком, Леван. На это никто в правительстве не пойдет. Да и царь, наконец, не допустит…
Леван медленно разлил по последней.
— Да царь, Паша, у нас не вечен. А люди такие есть. Правда, все больше юродивые…
Ночью Паше долго не спалось. А потом приснилось что-то странное: Невский проспект, безлюдный, в глубоком снегу, а на рельсах стоят замершие трамваи…
Назавтра Паша встречался с Карло Чхеидзе. Паша хорошо его знал по Тифлису, несколько лет вместе заседали в городской думе. Чхеидзе принимал Пашу в просторном кабинете в здании Государственной думы на Шпалерной. С 1912 года он возглавлял в Думе фракцию эсдеков.
— … Сколько лет, Паша, сколько зим… Ты, как я понимаю, по поводу земгора? Так вот, вам необходимо расширить социальный состав… Ввести рабочих депутатов в состав военно-промышленных комитетов… Убедить рабочих прекратить забастовки… Пора возглавить народное движение…
Паша попытался перебить:
— Кого ты имеешь в виду, Карло? Какую-нибудь конкретную партию?
— Нет, Паша, нет. В России нет настоящих партий, и, тем более, нет такой партии, которая заявила бы: «Я готова взять государственную власть!»
Чхеидзе резко остановился. Достал из жилетного кармана часы, хлопнул себя по лбу.
— Прости меня, Паша. Опаздываю на заседание фракции… Обязательно позвони перед отъездом…
…Сложнее всего было добиться встречи с Челноковым, главуполномоченным земгора. Его кабинет был постоянно пуст, секретарь беспомощно разводил руками. «Михал Василич клятвенно обещал…»
Паше удалось поймать Челнокова в думском буфете. Он сразу узнал его — по фотографии. Небольшого роста, лысоватый, окладистая борода, по-купечески расчесанная надвое. Паша представился. Челноков вскочил, сорвал с шеи салфетку, вытер жирные губы и полез целоваться. Его жуликоватые глазки светились почти неподдельной радостью:
— Пал Исаич! Да кто же вас не знает! Весь Питер только о вас и говорит… Да вы присаживайтесь… Отведайте балычку… водочки… Василий, еще прибор!
Развернул и быстро просмотрел письмо тифлисского комитета…
— Так-так… Надо обсудить… Когда уезжаете? Послезавтра? Плохо, брат, совсем плохо со временем…
Челноков замолчал, что-то прикинул в уме.
— А знаете что, Пал Исаич? Подъезжайте-ко вы в Виллу Роде вечерком, часикам эдак к одиннадцати. Посидим, потолкуем… с людьми нужными вас познакомлю…
— Вилла Роде, где это? — спросил Паша у Левана.
— А зачем тебе? — удивился Леван.
— Встречу деловую мне там назначили.
— Ну раз встречу… — Леван почему-то скептически хмыкнул. — Да тебя любой извозчик отвезет.
Паша сложил бумаги в портфель.
В прихожей Леван сказал:
— Я думаю, что до утра тебя ждать не стоит. На всякий случай, предупрежу дворника… Смотри, не потеряй портфель!
Извозчик повез Пашу по Каменноостровскому. Проехали мосты, свернули на набережную Малой Невки. Большие дома кончились, пошли плохо освещенные хибары. Где-то рядом чернела река. Пролетка остановилась у большого дома с затемненными окнами.
— Вам, барин, сюда, — указал на дом извозчик.
Паша прошел мокрый сад, швейцар открыл перед ним тяжелую дверь. Паша отдал гардеробщику пальто и шляпу. Лакей ввел его в зал. Было около одиннадцати, но ресторан пустовал. На огромной эстраде наигрывал грустную мелодию румынский оркестр. Паша сел за столик у стены, заказал водки, икры.
Челноков появился ближе к двенадцати. С ним прибыла компания, человек двадцать, мужчины и женщины, все сильно навеселе. Челноков увидел Пашу, махнул ему рукой.
— Иди к нам!
Их привели в банкетный зал. Хлопнули пробки шампанского. Почти сразу же в большом зале послышалось громкое цыганское пение и топот ног. Челноков не обманул Пашу. По очереди подводил к нужным людям. Нужные люди, хоть и были изрядно пьяны, дело разумели. Оставляли Паше визитные карточки, что-то записывали в записные книжки.
— Насчет военных поставок поговорите с Рябушинским. Непременно будет здесь, чуть позже.
Паша вышел в зал. Веселье было в разгаре. Надрывался цыганский оркестр. На освещенном разноцветными лампочками полу в бешеном танце кружились пары. Паша заметил нескольких совсем молоденьких девушек почти без одежды.
Почувствовал на себе чей-то взгляд. Стал крутить головой. В углу, во главе большого стола, сидел человек с неопрятной шевелюрой, в мужицкой поддевке и смотрел на Пашу не отрываясь. У Паши по телу пошли мурашки.
Он отвел взгляд в сторону и увидел Ирину. Она сидела за столиком в противоположном углу. Рядом с ней — офицер в гвардейской форме, высокий блондин. Его лицо показалось Паше знакомым. Челноков подвел Пашу к их столику.
— Позвольте представить. Граф Юсупов… Наш гость из Тифлиса.
Юсупов встал. Щелкнул каблуками. Ирина протянула руку для поцелуя.
— Мы встречались с Павлом Исаевичем в Париже.
Паша посидел какое-то время за их столиком. Лакей открыл еще одну бутылку шампанского, принесли большое блюдо с пирожными.
Оркестр заиграл вальс.
— Пригласите меня, — сказала Ирина.
Они прошлись по залу. Паша не удержался, наклонился и поцеловал Ирину в плечо.
— Выйдем на свежий воздух, — попросила Ирина.
Швейцар открыл перед ними дверь, они спустились по мокрой лестнице в сад. Было зябко, от близкой реки поднимался желтый туман.
Ирина что-то сказала швейцару, ей вынесли манто, а Паше — пальто и шляпу. Бесшумно подъехал автомобиль.
Шофер посмотрел на Ирину.
— На Гороховую, — сказала она.
Какое-то время они ехали молча.
— Обними меня, — сказала Ирина, — мне холодно.
Паша обнял Ирину, стал целовать ее руки, глаза, волосы.
Он не замечал, куда они ехали. Машина остановилась, шофер открыл дверцу. Они поднимались по какой-то затхлой лестнице. Где-то на самом верху открылась дверь, они вбежали в комнату, бросились на кровать…
Паша открыл глаза. Он лежал один в кровати. Темно. Где-то на улице стали бить часы. Паша насчитал четыре удара.
Он приподнялся, увидел Ирину. Она стояла у окна, смотрела на улицу. На ней была прозрачная накидка. Паша подошел к Ирине, обнял ее за плечи.
Она сделала ему знак: «Молчи».
Паша проследил за ее взглядом. К дому напротив подъехали три автомобиля. Из них вышла большая компания странно одетых мужчин и женщин. Один из них выделялся, на нем был картуз, мужицкий зипун, из-под него виднелось что-то вроде рясы. Мужик снял с головы картуз и, приплясывая, пошел к подъезду, вся компания потянулась за ним. У подъезда он остановился, обернулся. Паша отпрянул от окна. Он узнал человека, который так пристально смотрел на него на Вилле Роде…
* * *
…Сообщения о февральских событиях в Петрограде и об отречении царя повергли в растерянность. Как же так, без государя-императора? Царь был в Тифлисе незадолго до войны. В тот день занятий в первой мужской гимназии не было. Гимназистов вывели строем и поставили в ряд на Головинском проспекте, против дворца наместника. Марк стоял в первом ряду, в руке у него был маленький триколор. Автомобиль царя остановился в нескольких шагах от Марка. Он успел его рассмотреть: немолодой человек в серой шинели с полковничьими погонами, мешки под глазами. Марку показалось, что царь взглянул на него своими голубыми водянистыми глазами…
Паша и Жорж сидели в кабинете. Пили коньяк, курили сигары. Говорить не хотелось. Паша закрыл глаза и вдруг вспомнил Виллу Роде, тяжелый взгляд человека в черной поддевке. Паша не сомневался, это был тот самый, кого Леван назвал юродивым. В те дни газеты много писали о нем, о его пророчествах. «Вот убьют меня, и не будет царя, не будет России». Паше вспомнился желтый туман, поднимавшийся над Малой Невкой. Его утопили где-то там, неподалеку, сбросили с моста. Отравили пирожными, застрелили, завернули в рогожу, швырнули в полынью… Паше стало зябко. Он налил еще коньяку, хлопнул залпом.
Изменения в Тифлисе происходили неспешно. Во дворце наместника теперь заседал «особый комитет». Там были старые знакомые — грузинские эсдеки, армянские дашнаки, азербайджанские националисты. Управляли они Кавказом по старым царским законам, клялись в верности «единой и неделимой», призывали бороться с врагами Отечества до полной победы. По образцу России возникли рабочие советы. Там тоже верховодили эсдеки и эсеры. Во главе совета в Тифлисе встал Ной Жордания, эсдек, давний знакомец Жоржа. Сразу после революции в Тифлисе открылось множество газет. Паша и Жорж возобновили своего «Вольнодумца».
Тревожные известия поступали с фронта. Армия волновалась. Участились случаи дезертирства. Солдаты не подчинялись командам; по ночам стреляли в офицеров. Говорили, что в войсках действуют опытные агитаторы.
В октябре все рухнуло. Сперва — в Петрограде, потом во всей России власть взяли большевики. О большевиках на Кавказе знали мало. Считали кучкой террористов. Паше сразу вспомнился 1907 год, теракт в Тифлисе, Ирина, человек с саквояжем…
События теперь разворачивались с пугающей быстротой. В Тифлис приехал Карло Чхеидзе. Но на первую роль уверенно выдвигался Ной Жордания. В начале 18-го осевшие на Кавказе думцы собрались в Тифлисе на «закавказский сейм». Провозгласили Кавказ федеративной республикой. В мае федерация распалась. Грузия, Армения и Азербайджан по очереди объявили независимость. В Грузии премьером стал Ной Жордания.
Как-то утром у Жоржа раздался телефонный звонок. Звонил секретарь Жордании. Предложил пост министра юстиции. Жорж согласился. Целыми днями просиживал в министерстве. Ездил по стране. Налаживал демократическое судопроизводство. Газетой занимался исключительно Паша.
Вскоре после Октября фронт рассыпался. Солдаты бросали оружие, целыми частями пробирались домой, в Россию, в деревни. Появилось множество вооруженных людей в странной форме, а то и вовсе без формы. В Грузии стали формировать национальную гвардию. Оружие отбирали у солдат.
В феврале 18-го большевики подписали с немцами мир в Брест-Литовске. Туркам отдали Карс, Ардаган и Батум. За эти города русские воевали двести лет. Большевики их отдали росчерком пера.
На фронте турки наступали, не встречая организованного отпора. Перешли Аракс, подошли к Эчмиадзину. Наскоро собранные и плохо вооруженные, армянские части вступили в тяжелые бои. Турецкое наступление остановили, но большего добиться не смогли. Когда в июне Армения и Грузия заключили с Турцией перемирие, у армян остались только Эривань и Эчмиадзин. От Грузии отторгли Батум.
В мае в Тифлис вошли немцы. Вели они себя прилично. В Александровском саду играл военный оркестр. Золотом блестели начищенные остроконечные каски. Немцы расплачивались оккупационными марками, которые очень быстро обесценились. В ноябре немцы растворились; в Компьене, недалеко от Парижа, в железнодорожном вагончике немецкие генералы подписали мир.
В декабре между Грузией и Арменией вспыхнула война, назревавшая уже давно. В Грузии всегда было много армян. Жили они все больше в городах. Занимались торговлей, ремеслами. Разбогатевшие на нефтяном буме, армяне застроили Головинский шикарными особняками. Грузин в городах было немного; жили они в деревнях, а в города приходили лишь на заработки. Когда провозглашали независимость, при размежевании использовали старые границы. В Грузию вошли Тифлисская и Кутаисская губернии. Там были уезды, где армяне были в большинстве. Спор начался из-за городов Ахалцихе, Ахалкалаки и Лорийской области. Их отнесли к Грузии, а жили там, в основном, армяне. В декабре армянские войска заняли все эти земли. Грузины выдвинули свою армию и национальную гвардию. Начались настоящие бои.
У грузин была большая, но плохо вооруженная армия. В некоторых частях офицеров было больше, чем рядовых. Солдат пригнали из далеких уездов, они плохо понимали, за что им нужно воевать. Армян было меньше, но они были местные и воевать умели. Брали не числом, а профессионализмом. После первых пограничных сражений грузинская армия покатилась назад. Армяне прислали ультиматум. Потребовали отдать им большую часть Грузии с Тифлисом и Гори.
В Тифлисе началась вакханалия, непрерывно шли уличные демонстрации и митинги. На Авлабаре стреляли. Грузинская милиция стала конфисковывать дома богатых армян.
Жоржа вызвал к себе Ной Жордания.
— Ты понимаешь, Жорж, в этих условиях…
Жорж все понимал; положил на стол заранее написанное прошение об отставке.
Паша опубликовал в «Вольнодумце» совместное письмо грузинских и армянских писателей: «Нельзя молчать! Прекратите братоубийство!» Газету запретили, тираж конфисковали.
Армяне были хорошими солдатами, но никчемными дипломатами. Им пришлось воевать на всех фронтах сразу. Опять стали наседать турки, азербайджанцы вторглись в Карабах. В Батуми высадились англичане, вскоре их части появились в Тифлисе. Английский посредник провел переговоры, в конце года военные действия приостановились. Армяне очистили все занятые ими земли. В Лорийской области было введено совместное управление.
Англичане пробыли в Тифлисе до весны. Однажды утром перед домом на Паскевича остановился зашарпанный автомобиль, из него выскочил Шалва Метревели. До недавнего времени он преподавал слесарное дело в реальном училище, теперь же работал в городской администрации комиссаром центрального района. Жоржа не было дома, швейцар проводил гостя в кабинет Паши.
Шалва Метревели держался подчеркнуто официально. Порылся в черном портфельчике, извлек оттуда бумагу.
— Могу я видеть Исая Марковича?
— Отец плохо себя чувствует…
— Ну что же, — вздохнул Шалва, — тогда потрудитесь подписать вы.
Шалва положил на стол бумагу с печатью. Паша надел пенсне, стал медленно разбирать грузинскую вязь.
Шалва выхватил бумагу.
— Я могу перевести. Распоряжение комиссариата. По ходатайству военного коменданта города в вашем доме конфискуется квартира для нужд армии. Просьба расписаться.
Паша окунул перо в чернильницу, поставил подпись.
Шалва быстро спрятал бумагу в портфель. Встал, откланялся.
— Не смею более беспокоить.
Паша спросил:
— Когда следует освободить квартиру?
— Немедленно, — ответил Шалва и проскользнул в дверь.
Вечером собрали семейный совет. Решили освободить для нужд армии одну из верхних квартир.
Прошло два дня. Было воскресенье, все сидели за столом, играли в лото. В дверь постучали. Вошел швейцар.
— К вам пришли.
Паша вышел в вестибюль. Там стояли двое военных. Один высокий, в форме защитного цвета. Второй ростом пониже, кряжистый, в военном френче и в шотландской юбочке-килте, в руке держал небольшой чемодан.
Высокий отдал честь. Представился по-русски, с сильным акцентом.
— Меня зовут капитан Коллинз. Иан Коллинз. А это — сержант Крейг.
— Вы говорите по-французски? — спросил Паша.
— Очень плохо, — ответил Коллинз.
Они поднялись по лестнице на верхний этаж. Швейцар отпер дверь, передал ключи сержанту. Тот спрятал ключи в сумочку на поясе.
Паша включил свет.
— Вот ваша квартира. Две спальни, гостиная, кабинет. Ванна здесь, — Паша указал на дверь в конце коридора, — я велел истопить.
При упоминании ванны капитан Коллинз явно оживился.
— Я очень сожалею, что мы причиняем вам неудобства. Но это — война.
— Я понимаю, — ответил Паша.
Чуть позже в дверь Пашиной гостиной постучали. На пороге стоял сержант Крейг. Протянув коробку, он щелкнул каблуками и торжественно удалился.
Коробку открыли. Там были несколько банок консервов, пачка галет и большая бутылка виски. Паша отдал коробку швейцару.
Марк выбежал на улицу. Перед домом стояла машина — защитного цвета «остин» с английскими номерами.
Капитан уезжал рано утром, возвращался обычно очень поздно, когда все спали. Марк слышал, как ревел «остин», взбираясь в гору по Паскевича, затихал перед домом, потом слышались осторожные шаги по лестнице.
Как-то в воскресенье пришли гости, у кого-то из детей были именины. Маша играла на рояле. В дверь постучали. Вошел Коллинз. Увидел гостей, хотел уйти. Паша вышел к нему.
— Извините, я не хотел помешать…
— Вы нисколько не помешаете. Заходите.
Коллинз вошел. Встал у стенки. Паша протянул ему бокал с вином, подвел к столу с закусками. Веселье угасло. Маша стала опять наигрывать прерванную мелодию, но никто больше не танцевал. Стало тихо. Гости потянулись к выходу.
Коллинз подошел к роялю.
— Можно я сыграю?
Не дожидаясь разрешения, ударил пальцами по клавишам. Раздались непонятные аккорды, потом зазвучала грустная мелодия, она повторялась в разных вариантах. Вета тихо сказала Жоржу:
— Я знаю, что он играет, это «Абердинский вальс». У меня есть ноты.
Она принесла маленький стульчик, села рядом с Коллинзом, стала ему подыгрывать. Мелодия оформилась, стала отчетливой, расцветилась вариациями.
Завершилась громким аккордом и медленно угасла. Все захлопали.
Гости разошлись. Коллинз некоторое время сидел за столом, маленькими глотками пил вино из бокала. Встал, поклонился. Протянул руку Вете.
— Вы очень хорошо играете…
Вета улыбнулась.
— Вы тоже…
— Нет, что вы…
Англичане ушли в конце февраля. Сержант Крейг погрузил нехитрый скарб Коллинза в «остин». Коллинз пришел прощаться. Принес небольшой альбом с фотографиями.
— Я хотел оставить вам на память, — он раскрыл альбом. На фотографии был старинный замок, — это мой дом.
Коллинз перевернул страницу — на следующей фотографии было четверо молодых людей в соломенных шляпах.
— Я здесь справа, самый маленький. А это братья — Том, Джон и Майкл. Из всех в живых остался только я…
…Французский лицей открыли сразу после Нового года. Городские власти выделили для него здание реального училища в тихом пригороде Тифлиса, на берегу Куры.
На торжественное открытие приехал министр просвещения. Посол перерезал ленточку. На флагштоке взвился французский трехцветный флаг. Военный оркестр нестройно сыграл «Марсельезу».
Вету и Марка записали в старший класс. Они уже были большие. Вете — 16, а Марку — 15. До этого они учились в тифлисских гимназиях: Марк в мужской, а Вета в женской.
Вета быстро повзрослела; в одночасье из угловатой девочки стала стройной маленькой женщиной. У нее удлинилось лицо, густые темные волосы приобрели золотистый оттенок. Вета на людях стеснялась, чтобы скрыть неловкость, она часто улыбалась, поэтому вокруг ее больших глаз с молодости пролегла сеть морщинок. Те, кто знал Вету, запомнили мелодичный тембр ее голоса.
Марк тоже повзрослел и сильно вытянулся, стал на голову выше отца. Он сильно сутулился, близорукость заставила его с четырнадцати лет носить очки в металлической оправе. Одевался Марк небрежно. Летом и зимой на нем была гимназическая тужурка и сдвинутая на затылок фуражка с золотыми буквами ПТГ — Первая Тифлисская гимназия.
Приемные экзамены принимал директор лицея — мсье Леклерк. Экзамен длился долго, и мсье Леклерк изрядно устал. В этом году ему исполнилось шестьдесят. До недавнего времени он был директором лицея в Руане и с удовольствием предвкушал пенсию, размеренную жизнь в нормандской деревушке у моря. И вдруг такое назначение… Его уговорил Анри Лионель, университетский товарищ, он теперь заведовал канцелярией в министерстве. Соблазнил орденом Почетного легиона и прибавкой к пенсии. И вот теперь мсье Леклерк на старости лет прозябает здесь, в азиатской глуши.
Абитуриенты были в основном дети министров и чиновников высокого ранга. Французский язык они знали плохо. Мсье Леклерк задавал нарочито простые вопросы: «Где умер Наполеон? Где родилась Жанна д’Арк? Между кем шли греко-персидские войны?» Дети обильно потели и издавали неопределенные звуки.
В дверь заглянул Эрнест де Вилье, учитель словесности.
— Мсье Леклерк, я могу вас подменить…
— Ради Бога, мсье де Вилье. У меня голова идет кругом…
Де Вилье сел за директорский стол.
— Следующий…
В кабинет вошла Вета. На ней было черное гимназическое платье с белым кружевным воротничком. Волосы зачесаны назад. У нее немножко дрожали руки… Де Вилье сверился со списком.
— Напомните, как вас зовут, мадмуазель…
— Дадашефф, — сказала Вета, — Элизабет…
Де Вилье нашел ее в списке. Поставил галочку.
— Мадмуазель, не могли бы вы прочитать мне какое-нибудь стихотворение… басню Лафонтена…
Вета облизала сухие губы.
— А можно я прочитаю что-нибудь другое?.. Другого поэта?..
Де Вилье чуть заметно пожал плечами:
— Например?
— Вийона… из всех поэтов я больше всего люблю Вийона…
— А что вы знаете из Вийона?
Вийона Вета знала наизусть всего, точнее, все, что она нашла в красной книжке, которую ей оставила мадмуазель Оранш. Как началась война, обе швейцарки отправились к себе домой. До Швейцарии они добирались долго, через Швецию и Францию.
Вета закрыла глаза и стала читать «Большое завещание».
Де Вилье откинулся в директорском кресле. Что-то написал на листке. Прервал Вету.
— Спасибо. Этого достаточно. Вы свободны…
Так начался лицей. Пожалуй, это было самое счастливое время в недолгой Ветиной жизни. Ей очень нравилось в лицее. Ей нравилось там все, а особенно уроки Эрнеста де Вилье. Она замирала, когда он входил в класс. Де Вилье немного прихрамывал, ходил с тросточкой. Лицо у него было молодое, но болезненно желтоватое, тонкая полоска усов, седые виски. Когда он говорил, его лицо преображалось, блестели глаза, появлялся румянец. Он рассказывал о «Песне о Роланде», о трубадурах. Когда дошел до Вийона, попросил Вету прочитать «Большое завещание». Вета была счастлива. Когда садилась, она поймала на себе недоброжелательные взгляды, услышала шепот: «больше других надо…»
Однажды после занятий де Вилье попросил Вету задержаться. Провел к себе в кабинет — маленькую комнатку, заваленную книгами. Пригласил сесть. Раскрыл тетрадь.
— Мадмуазель Дадашефф, я прочитал ваше сочинение…
Вета замерла.
— Я исправил несколько ошибок. Их немного…
Де Вилье помолчал. Он подбирал слова.
— Но в целом, очень хорошо. У вас есть стиль… Вы знаете французский с детства?
Вета кивнула.
— Я хотел бы так знать русский…
Вета, краснея, вытащила из портфеля бумажку.
— Мсье де Вилье… я сделала опыт… я попыталась перевести на русский Вийона…
Де Вилье покрутил бумажку в руках.
— Не могли бы вы мне это прочитать?
Вета стала читать. Сперва ее голос немного дрожал, потом окреп…
Де Вилье опять помолчал.
— Спасибо, мне понравилось. Я не понял слов, но уловил ритм…
Он встал и стал искать что-то на полках.
— А кого из новых поэтов вы знаете?
Вета стала неуверенно перечислять:
— Бодлер, Рембо, Малларме…
Де Вилье достал с полки несколько томиков:
— Почитайте этих, Поль Валери, Шарль Клодель, Поль Клодель…
Он подумал и достал из ящика стола измятый томик.
— А это — Гийом Аполлинер. Он мне особенно близок. Он, как и я, прошел через войну…
Они вышли на улицу.
— Вы разрешите, я вас немного провожу…
Они шли вдоль Куры. В тот год зима выдалась удивительно теплая. С гор веял ласковый ветер. Пахло сладковатым дымом, в садах жгли старые листья.
Они расстались у остановки трамвая.
Они гуляли так каждую неделю. Вета читала стихи русских поэтов, тех, кого любила больше всего: Блока, Ахматову, Мандельштама. Однажды де Вилье попросил:
— Не могли бы вы записать мне эти слова по-французски, я попробую перевести их стихами.
Вета записала подстрочный перевод нескольких поэм Блока.
Когда они встретились через неделю, де Вилье вынул из кармана сложенный лист бумаги и стал читать нараспев:
Я сидел у окна в переполненном зале. Где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале Золотого, как небо, аи…Вета не удержалась, захлопала в ладоши:
— Это прекрасно, мсье де Вилье…
Вскоре начались неприятности. Вета уже давно стала замечать на себе косые взгляды одноклассниц. Однажды она нашла у себя в портфеле написанную печатными буквами записку: «блядь французская».
Де Вилье вызвал к себе директор. Провел в кабинет. Запер за собой дверь.
— Извините, что побеспокоил по такому делу. Вот, ознакомьтесь.
Он протянул бумагу. Там на плохом французском было написано, что он, де Вилье, состоит в преступной связи с ученицей Дадашевой. Подписи не было.
Де Вилье вернул бумагу директору.
— Что я должен делать?
Директор мялся.
— Вы понимаете, де Вилье, в другой стране я не придал бы этому значения. Но здесь, в Азии…
Де Вилье встал.
— Я вас понял, господин директор. Я тотчас же составлю прошение об отставке.
Директор заблеял.
— Мне искренне жаль, де Вилье, поверьте…
Вечером де Вилье приехал к Дадашевым. Одет он был торжественно: черная тройка, галстук-бабочка, котелок, трость с костяным набалдашником.
— Могу я видеть господина Жоржа Дадашефф…
Жорж принял де Вилье в кабинете.
— Чем обязан, господин де Вилье? Могу я вам предложить коньяку?
Де Вилье от коньяку отказался. Минуту помолчал, подбирал слова. Потом встал и сказал неожиданно громко:
— Я пришел просить руки вашей дочери.
Жорж сперва не понял, переспросил.
— Руки моей дочери?
Де Вилье повторил.
— Да, вашей дочери… Елизаветы… Элизабет…
Жорж провел по лицу рукой… Налил и быстро выпил рюмку коньяку. Сказал первое, что пришло в голову.
— Но она еще слишком молода…
— Я знаю, господин Дадашефф, я знаю. Поймите меня правильно… Сейчас мне важно получить ваше согласие…
Жорж тоже вскочил, стал ходить по кабинету.
— Но, позвольте, господин де Вилье. Мы не в средневековье. Не кажется ли вам, что следовало бы поинтересоваться мнением самой… особы…
Де Вилье подошел вплотную к Жоржу. Его лицо казалось желтее, чем обычно.
— Господин Дадашефф, мне кажется, что вы не очень ясно представляете ваши обстоятельства. Не сегодня завтра в Тифлисе будут большевики. Вас захлопнут здесь, как в мышеловке. Они развели пожар в России и не успокоятся, пока в этом пожаре не сгорят все…
Стало очень тихо. Было слышно, как потрескивают дрова в камине. Де Вилье заговорил опять.
— Я не очень богатый человек, господин Дадашефф…
Жорж перервал его:
— У нас есть средства…
Де Вилье махнул рукой.
— Это не важно… Мы отправимся в консульство и зарегистрируем брак. Через неделю вы станете французскими подданными. Республика защитит вас при всех обстоятельствах…
Де Вилье повернулся и медленно направился к двери.
— Решение нужно принимать быстро. Не позднее завтрашнего дня…
В дверях де Вилье остановился, повернулся к Жоржу, сказал тихо.
— Я не хотел об этом говорить… Я был серьезно ранен на Марне… Я не вполне полноценный человек… Врачи положили мне жить пять лет…
На завтра вся семья была в сборе, держали семейный совет… Мнения разделились.
— Нужно ехать, — сказал Жорж. Большевики уже в Баку. У нас есть счет в Лионском кредите. Пока работают банки, я переведу туда все оставшиеся активы… Я поручу моему агенту подыскать дом в окрестностях Парижа, в Пуасси…
— Что будет с нашим домом? — спросил Паша.
— Дом нужно срочно продать. За любую цену.
Неожиданно для всех выступила Анна.
— Я из этого дома не уеду. Я остаюсь. И не пущу детей!
Исай, как всегда, сидел во главе стола. Он вскочил, громко ударил по столу кулаком. Все повернулись к нему. Лицо у Исая побагровело, на шее вздулись жилы. Он пробормотал что-то непонятное, схватился пальцами за воротник, повалился навзничь. Паша и Жорж бросились к нему, подняли, отнесли на руках в его спальню.
— Доктора, скорее доктора! — срывающимся голосом закричал Жорж.
Исая уложили на кушетку. Лицо его было искажено гримасой. Он мычал. Из глаз катились крупные слезы…
* * *
…«Свободные» республики Закавказья агонизировали. В апреле советскую власть установили в Баку. Скоро настал черед Армении. В Турции произошла революция — к власти пришел Кемаль-паша. Он сперва разгромил греков, потом двинул войска на армян. Турки начали наступление в июне, заняли Сарыкамыш. Грузия объявила нейтралитет. Советская Россия установила дипотношения с Кемалем, помогала ему оружием и деньгами. В ноябре турки заняли Александрополь, подошли к Эривани. Опять хлынули волны беженцев. К концу ноября все было кончено. Армянское правительство подписало с турками мир и кануло в небытие. В Эривань вошла Красная армия.
Грузия продержалась еще три месяца. В Тифлисе открыли советское посольство. Полпредом назначили низкорослого блондина с болгарской фамилией Киров. Между Тифлисом, Баку и Москвой сновали дипкурьеры. Одного из них, недоучившегося студента по фамилии Берия, задержали на границе, он вез планы расположения воинских частей. Несколько дней его держали в кутаисской тюрьме. Советское посольство заявило протест, Берию отпустили.
…Исай медленно умирал. Он так и не оправился после инсульта. Возле него суетились врачи, делали уколы. Мария от него не отходила, сидела днем и ночью. Когда силы у нее были на исходе, ее сменяла Вета. Исай лежал с закрытыми глазами, дышал тяжело, прерывисто. Иногда открывал глаза, пытался что-то сказать, повернуться. Потом затихал опять.
Занятия в лицее продолжались, но Вета потеряла к ним интерес. В особенности, когда на место де Вилье назначили нового учителя словесности, господина Мишо из Марселя. Новый учитель держался с учениками холодно и подчеркнуто вежливо; в разговоры, не касающиеся предмета, не вступал. На его занятиях было неимоверно скучно.
Вскоре после Рождества в Тифлисе появились беженцы из Армении. Сперва их было мало, потом становилось все больше. Паша и Жорж вошли в комитет содействия. Распределяли беженцев по домам. Несколько семей взяли к себе. Их поместили в квартире на верхнем этаже, там, где раньше жили англичане.
Теперь Вета в лицее появлялась редко, большую часть времени проводила с беженцами. К ним приходили сестры милосердия из американского Красного Креста. Они научили Вету делать уколы и накладывать жгуты. Вета плохо понимала язык беженцев, они говорили на западных диалектах. Составила для себя небольшой разговорник, стала вести дневник, записывала рассказы. Она подружилась с девочкой из Ани. Ее звали Сусанна, по-армянски Шушаник, ей было тринадцать лет, но глаза, как у взрослой. Шушаник плохо спала по ночам: болела плохо сросшаяся рука. Звала к себе Вету, та давала ей успокоительные таблетки. Однажды Шушаник никак не могла уснуть, таблетки не помогали, она не отпускала Вету, держала ее за руку.
— Вета-джан, спой мне песню, я засну.
— Я не знаю песен, Шушаник…
— Тогда я тебе спою, а ты слушай.
Песня была грустная и трогательная.
— Пой помедленней, Шушаник. Я запишу слова.
Шушаник знала много песен. Вета записала не меньше двадцати. Много лет спустя, уже в Ленинграде, Вета обработала свои записи, перевела песни на русский. Они вошли в книгу «Песни западных армян».
А в это время Марк строил радиостанцию. Из французских учителей ему больше других нравился мсье Риго, физик. Как-то раз в конце урока мсье Риго сказал:
— А теперь, дети, я вам расскажу про беспроволочный телеграф. Предположим, что у нас имеется кусок провода…
Автандил Джапаридзе, великовозрастный двоечник, сын министра почты и телеграфа, грубо перебил:
— Мсье Риго, вы же сказали, что телеграф беспроволочный!
Класс довольно заржал.
— Не перебивайте меня, сударь. Итак, кусок провода…
Но класс уже завелся, скандировал хором:
— Но телеграф беспроволочный!
Мсье Риго выбежал из класса в ярости:
— Дикари! Хуже сенегальцев!
Марк подошел к мсье Риго в коридоре.
— Я хотел извиниться за моих товарищей. Я очень хочу узнать, как устроен беспроволочный телеграф…
Риго провел Марка в лабораторию. Достал из ящика небольшой детекторный приемник. Подключил к сети. Протянул Марку наушники.
Марк прижал к ушам эбонитовые тарелочки и услышал, как звучит мир. Среди грохота электрических разрядов прорывались острые уколы морзянки.
— Что это, мсье Риго?
— Азбука Морзе, — Риго схватил листок бумаги и стал быстро записывать какие-то буквы и цифры.
— Метеостанция на Крестовом перевале, передает сводку погоды.
Риго покрутил ручку, и в наушниках зазвучала речь.
— Английская радиостанция в Батуми…
Риго опять покрутил ручку, и наушники заговорили по-русски.
— Говорит Баку… Передаем обращение Совета народных комиссаров к трудящимся Закавказья… Товарищи! Час освобождения пробил!..
Риго выключил приемник. Провел рукой по лицу.
— Если бы у нас была повыше антенна, мы услышали бы Париж… Эйфелеву башню…
Марк оживился.
— У нас есть дом в Коджорах. Это в горах, там высоко…
В Коджоры поехали в следующее воскресенье. Погрузили в машину катушки проводов, ящики с оборудованием.
Марк принес стремянку, зацепил антенну за верхушку тополя. Риго собирал приемник по схеме: колебательный контур… вариометр… диод…
Через две недели аппарат подключили к питанию, заземлили. Марк и Риго припали к наушникам. Опять электрические разряды, морзянка… Батуми и Баку, но гораздо отчетливей. Риго крутит ручку, и они улетают все дальше… Константинополь, София, Берлин.
Еще поворот — и сквозь дробь морзянки отчетливо доносится:
— Ici Paris!
И сразу же — аккордеон, разухабистая мелодия и женское пение.
— Это — Мистенгэт — наша лучшая певица, — говорит Риго и украдкой вытирает глаза платочком.
В феврале в Грузии началась война. Произошли восстания на юге; там, где жили русские колонисты, — среди них давно и успешно проводили работу агитаторы. В одном из захваченных повстанцами местечек, Шулаверах, недалеко от Тифлиса, провозгласили советскую власть. Первое время к восстанию не относились всерьез — «кучка мятежников». Ной Жордания выступал каждый день на митингах. «Грузия — оплот демократии, бастион против большевистского варварства… Запад нас не оставит… Тифлис — второй Верден…»
…В Грузию вступила 11-я Красная армия. Ее командарма, Анатолия Ильича Геккера, Жорж и Паша знали, его отец был полковым врачом здесь, в Тифлисе. Геккер-сын окончил Владимирское училище в Петербурге, в войну был штаб-ротмистром. Говорили, что сейчас в Красной армии у Троцкого, под комиссарским надзором, чуть ли не весь старый офицерский корпус. От кого-то Паша услышал, что и Леван перекинулся к «красным», служит у них в Генеральном штабе.
20 февраля «красные» были уже в десятке верст от Тифлиса. Холодным февральским утром Марк и Риго поехали на машине в Коджоры — забрать приемник. Вскоре после полудня они услышали цоканье копыт и громкие голоса. Марк выглянул в окно. Во дворе стоял конный разъезд. Рыжеватый солдат что-то крикнул, и тут же раздалась пулеметная очередь, в доме зазвенели, посыпались стекла.
Марк и Риго спустились вниз, там уже хозяйничали военные. Человек в потрепанной шинели, войлочном шлеме и обмотках, видимо старший, давал распоряжения, солдаты выносили мебель во двор.
— Что вы здесь делаете? — спросил Марк.
Офицер повернулся к Марку:
— Кто такой? Документы!
— Это мой дом, — сказал Марк, — а это господин Риго, он из Франции.
Сверху по лестнице спустился солдат, в руках у него был детекторный приемник.
— Товарищ Синюхин! Обнаружил вражеское гнездо и шпионское оборудование.
Офицер оживился.
— Молодец, товарищ Бабочкин! Славно получается. Бьем Антанту на всех фронтах! Отвести их!
Солдаты затолкали Марка и Риго в подвал, Марк слышал, как запирали дверь на висячий замок. В подвале было сыро, у Риго громко стучали зубы.
Когда совсем стемнело и голоса наверху поутихли, Марк толкнул Риго в бок.
— Мсье Риго, вы не спите?
В ответ послышался невнятный звук.
— Тогда идемте…
Этот подвал Марк знал наизусть — играл здесь в детстве в прятки. Он прополз узким боковым коридором, нащупал незапертую дверь. Они оказались во дворе. Было очень холодно, с гор опустился ледяной туман. На посту мирно посапывал часовой. Машина была на месте. Марк осторожно открыл дверцу, толкнул Риго на заднее сидение. Отпустил ручной тормоз. Машина медленно покатилась под уклон. На повороте Марк включил двигатель, и тут же раздались выстрелы. Но они были уже далеко, и еще через полчаса катились по замершим улицам Тифлиса.
Бои в районе Коджор продолжались четыре дня. Потом грузинская армия растворилась, бежало правительство, сперва в Батуми, потом в Париж. 24-го февраля в Тифлис вошли «красные».
А накануне умер Исай. Умер тихо, во сне. Утром пришла сиделка сделать укол, а он не дышит, и лицо у него спокойное.
Отпевали в Ванском соборе, а хоронили на кладбище в Дидубе. День был солнечный, и народу собралось видимо-невидимо. В городе — «красные», разъезжают конные патрули, но ведут себя мирно: ни обысков, ни арестов. За гробом шли молча. Хоронили не Исая, хоронили себя, прежнюю жизнь…
А жизнь хоть и продолжалась, сразу потускнела и съежилась. Исчезли газеты, частные магазины, банки, судебная палата, полиция. Словно ветром сдуло писателей, артистов и музыкантов, сбежавших в сытый Тифлис из голодной совдепии. Но не было и тех ужасов, которыми еще недавно пугали газеты, не было повальных арестов, расстрелов заложников. Предревкома стал Филипп Махарадзе, бывший семинарист и недоучившийся студент-ветеринар. Вертелся в Грузии и Киров, бывший полпред. Организовали ЧК — там, в одном из отделов трудился Берия, бывший дипкурьер.
Стали возникать какие-то странные советские учреждения — тресты, главки, управления. Жорж и Паша стали совслужащими, работали юрисконсультами в тресте «Закглавкабель», получали жалование, встали на учет в профсоюз, платили взносы в Осоавиахим.
Лицей закрыли. Учеников оставалось мало, дети министров разбежались, осели на чужих берегах. Все, кто был, выстроились на площадке перед лицеем. Была ранняя весна, но уже тепло почти по-летнему. Ветерок весело трепал триколор. Директор, господин Леклерк, говорил долго и невнятно. Марк и Вета стояли рядом, опустив голову.
Марк наклонился к Вете.
— Сейчас, наверное, будут петь Марсельезу, а я не знаю слов.
— Я тебе подскажу, — прошептала Вета.
Но марсельезу не пели. Леклерк махнул рукой, Риго опустил флаг. Леклерк театрально поцеловал флаг и прижал его к груди. На этом церемония закончилась.
Через месяц в помещении лицея открылся первый тифлисский трудовой техникум. Там преподавали трудовое воспитание, основы советского строительства, марксистскую политэкономию и основы исторического материализма. Преподаватели были в основном старые, из гимназий и реальных училищ: трудовому воспитанию обучал Шалва Метревели, бывший комиссар центрального района. Проучились в этом странном заведении Марк и Вета два года и в июле 1924 года получили диплом об его окончании. В тот же год они подали заявление о поступлении в Политехнический институт — Марк на физический, а Вета на общественный факультет.
В тот год в Москве умер Ленин, и в России расцвел нэп. Открылись частные магазины, стали понемножку выпускать за границу. А в Грузии 1924 год обернулся террором.
В эмиграции был создан Комитет независимости. В Грузию из Франции тайно пробрался Валико Джугели, его председатель, с планом восстания против большевиков. С самого начала все его действия контролировал Берия — это было началом его блистательной карьеры. Джугели дали походить какое-то время на свободе, отследили контакты, а потом взяли. Джугели сломался быстро, в газетах напечатали его покаянное письмо. На допросе Джугели выдал всех, рассказал все что знал, остальное додумали за него чекисты… Восстание началось в конце августа. Повстанцам дали захватить несколько мелких городков, а потом разгромили с необычной даже для большевиков жестокостью. Начались аресты. В газетах печатали постановления Коллегии ЧК Грузии о расстреле «активистов», с длинным списком бывших фабрикантов, князей, помещиков и их прислужников из интеллигентов.
Затем стали брать рядовых участников и сочувствующих. Арестовали и сослали в Сибирь Шалву Метревели. Дом Дадашевых конфисковали. Их самих «уплотнили» — переселили всех в одну квартиру. В освободившиеся квартиры вселили жильцов из пролетарских районов.
Марк и Вета не стали учиться в Политехническом институте. В сентябре они уехали в город, который недавно стали называть Ленинградом. На перроне их провожала вся семья.
Накануне у Веты был разговор с отцом. Они сидели за большим письменным столом, в старом кабинете Жоржа. Теперь из кабинета устроили гостиную и спальню; кровати отгородили ширмой. В соседней комнате размещалась их общая столовая, а дальше по коридору — комната Паши и Анны. В остальных комнатах были новые жильцы — пролетарии. В ванной теперь не мылись, там стирали белье, в уборной держался стойкий запах мочи.
Жорж передал Вете письма своим старым петербургским знакомым, «они обязательно тебе помогут, хотя бы первое время». Потом открыл ключом ящик стола, достал голубой конверт, на нем было напечатано «Hotel Suisse, Généve». В конверте лежала царская десятирублевая ассигнация и картонная карточка с надписью готическими буквами: «Bank Leu, Zurich, since 1795».
Жорж повертел ассигнацию и карточку в руках.
— Это — старая история, Вета. Я не знаю, удастся ли тебе когда-нибудь попасть за границу… Ты должна знать, что у нас там на счету есть деньги… Много денег…
Вета не поняла.
— На каком счету, папа?
Жорж показал ей ассигнацию.
— Достаточно придти в банк Лей в Цюрихе, это на Банхофштрассе, недалеко от вокзала, и показать кассиру вот эту бумажку…
Вета вздохнула.
— Я не думаю, что когда-нибудь попаду в Цюрих…
— Кто знает, Вета, кто знает…
Жорж решительно протянул конверт Вете.
— Мне кажется, он тебе пригодится…
Часть вторая ЛЕВАШОВСКАЯ ПУСТОШЬ
Зябким сентябрьским утром 1924 года Марк и Вета вышли из дверей Московского вокзала и по каменным ступенькам спустились на площадь Восстания. Одеты они были бедно и не по сезону. На Вете — легкий плащ и черный берет, на Марке — гимназическая куртка и фуражка. В руках — перетянутые ремнями баулы.
Они долго стояли на тротуаре, смотрели на столпотворение машин и извозчиков, на тяжелую статую Александра Третьего и на золотые буквы на черном на постаменте:
МОЙ СЫН И МОЙ ОТЕЦ ПРИ ЖИЗНИ КАЗНЕНЫ…
Движенье на мгновенье застопорилось, они перебежали площадь, встали на трамвайной остановке. Дождались, когда подошел «3-й» номер. Вагон был переполнен, они остались стоять на задней площадке. Поставили баулы на затоптанный пол, припали к заляпанным грязью окнам.
— Проспект 25-го октября! — громко закричал кондуктор, и за окном возник Невский — множество машин, ломовых и легковых извозчиков на мостовой, сложенной почерневшими, местами осевшими деревянными торцами. День был ветреный, по небу быстро пролетали тучи. Иногда между туч проглядывало солнце, в его лучах вспыхивали окна одинаковых серых зданий, витрины и покосившиеся вывески магазинов.
Трамвай, отчаянно звеня и подпрыгивая на стрелках, свернул на Садовую. Небо затянуло, стало темно, в окно застучал дождь. Промелькнули пожухлые газоны и угрюмые обелиски Марсового поля. Внезапно, сразу со всех сторон, открылась Нева. Громыхнув чугунными плитами, трамвай проехал по Троицкому мосту, закружил по Петроградской. Дождь перестал. Улицы, мощенные ровным булыжником, были пустынны.
— Площадь Льва Толстого, — объявил кондуктор.
Марк выпрыгнул на мостовую, подхватил Вету. Трамвай звякнул и растворился в тумане.
Они огляделись. Высокие мрачные дома. Прямые улицы. Редкие прохожие.
Марк достал из кармана куртки бумажку, поднес к глазам. Потом решительно указал рукой в сторону широкой улицы, в конце которой угадывалась Нева:
— Нам туда!
— Ты уверен? — спросила Вета.
Марк показал ей бумажку. Там было написано ровным почерком:
«Проспект Красных Зорь, быв. Каменноостровский».
Они шли по пустой мостовой, мимо темных домов с заколоченными подъездами. Холодный ветер дул в лицо. Дверь булочной «Верный путь, быв. Филиппова» была приоткрыта. На витрине стояли блюда с пирожными. Вета почувствовала острый голод.
— Потерпи, — сказал Марк. Уже недалеко.
Они увидели большой дом и мимо замерших на балюстраде гипсовых ангелочков прошли в глухой двор-колодец. Открыли заколоченную фанерой дверь, стали подниматься по черным ступеням лестницы, петлявшей вокруг мертвой клети лифта. Марк считал этажи: «… третий, четвертый, пятый…» На площадке пятого этажа они остановились, опустили баулы на пол. Марк нащупал на двери звонок. Нажал три раза. Через тяжелую дверь донеслась трель. Марк позвонил опять. Дверь ожила и приоткрылась на длину стальной цепочки. Испуганный женский голос спросил:
— Вам кого?
Марк сказал:
— Мы от Алихановых. Откройте!
Дверь рассердилась:
— Не знаю таких! Уходите!
Дверь захлопнулась, затрещали щеколды. Вета испуганно схватила Марка за рукав.
— Ты что-то перепутал…
Марк вытащил бумажку, поднес к близоруким глазам, долго читал при тусклом свете, струившемся из лестничного окна.
— Да нет, все верно, квартира 18, пятый этаж.
Он опять нажал на звонок.
Голос за дверью зазвучал угрожающе:
— Если не перестанете хулиганить, я позвоню в милицию!
За дверью снова послышались шаги, и чей-то голос спросил фальцетом:
— В чем дело, Ксюшенька?
И Ксюшин голос у двери:
— Опять хулиганы. Говорят, от каких-то Полупановых.
— Может быть от Алихановых?
Опять раздался треск запоров, дверь снова приоткрылась на ширину цепочки, и в щели показалось лицо обладателя фальцета.
— А не скажете, молодой человек, от каких вы именно Алихановых?
— От Ивана Саркисовича из Тифлиса!
Дверь наконец раскрылась и в тусклом свете прихожей проступили человеческие фигуры: женская — высокая и худая в легком халатике, и мужская — маленькая, толстенькая в вязаной кофте и в белых кальсонах с завязками.
— Так вы те самые, о ком писал Иван Саркисович… Очень рад, очень рад…
Толстенький человек церемонно кланяется, делает попытку щелкнуть отсутствующими каблуками, протягивает ручку калачиком:
— Годлевский Михаил Исидорович, студент Горного института.
Подталкивает Ксюшу:
— Познакомься… Родственники Иван Саркисовича, помнишь, у нас с ним были дела…
— Да, что-то припоминаю, Мишенька…
У Ксюши с лица не сходит выражение беспокойства. Она нехотя протягивает Марку руку. Марк снимает фуражку, целует ручку.
Ксюша подобрела, заворковала.
— Ах, что же вы, зачем же…
Вета достает из баула большую коробку.
— Здесь письмо от отца и кое-что из Тифлиса.
Они шествуют по бесконечному темному коридору. Мишенька шагает впереди, мелькают завязки его кальсон. Они входят на кухню, там появляются новые лица.
— Ma belle-mère…
Маленькая старушка смотрит на Вету и Марка сиреневыми глазками.
На антресолях что-то шевелится и чей-то простуженный голос:
— Кого бог принес…
Мишенька пресекает резко:
— Не встревай, Серафима, — и поясняет гостям:
— Угловая жилица…
Молодая женщина с копной рыжих непричесанных волос запахивает на груди халатик.
— Что за гости в столь ранний час…
Смотрит на Марка, чуть прищурившись:
— Дайте закурить, парниша…
Марк смешался:
— Извините, не курю…
Женщина смеется:
— Это шутка. Давайте дружить. Меня зовут Катя Гросс.
Марк наклоняется, чтобы поцеловать руку, Катя Гросс руку убирает, целует Марка в губы.
Марк побледнел, на висках у него выступил пот.
Катя Гросс выталкивает стоящего за ней сухопарого блондина в пенсне и со щеточкой усов.
— Ника Фредерикс. Мой сожитель.
Ника слегка наклоняет голову, блеснули стекла его пенсне.
И вот они сидят за длинным столом, здесь же на кухне, и Ксюша накладывает им в тарелку удивительно вкусные котлеты.
— Ешьте, ешьте, вы с дороги…
Марк бежит в переднюю, где стоят их баулы. Возвращается с бутылкой.
— Вот, коньяк… Эриванский…
Мишенька подносит бутылку к глазам.
— Надо же. Шустовский… Ксюша, бокальчики…
Марк выпивает залпом фужер коньяку и его развозит.
Ему тепло и весело; кажется, что он уже давно в этом славном доме, и всех этих людей знает давно… Катя Гросс сидит рядом, держит его за руку и говорит в самое ухо:
— Я чувствую, что мы подружимся… Я люблю кавказских мужчин…
Марк глупо смеется.
Фредерикс сидит подле Веты.
— Какие у вас планы на жизнь, мадемуазель?
— Я буду учиться… В институте истории искусств…
Фредерикс ковыряет во рту зубочисткой.
— У Зыбова?
— Да, в бывшем доме Зыбова, на Исаакиевской площади…
— Знаю этот дом…
— Ходили на лекции?
— Да, нет. Кутил…
Когда встали из-за стола, казалось, прошла вечность. Мишенька провел Марка и Вету в их комнаты, в конце коридора. Комнатки были маленькие, но удобные. Окна выходили во двор.
— До войны здесь жили бонны… Условия вы знаете. Деньги попрошу за месяц вперед.
Марк достает из внутреннего кармана бумажник и отсчитывает червонцы…
* * *
…Вета проснулась рано. В окно пробивалось солнце. Встала и, поеживаясь от холода, быстро оделась. Надела тапочки, вышла в коридор. Дверь в ванну была приоткрыта. Она зажгла свет. Повернула краны над большой синей раковиной. Кран зашипел, и из него полилась холодная с ржавчиной вода.
Вета прошла на кухню, стала искать чайник и увидела Фредерикса. Он стоял у открытого окна и курил.
Увидел Веру, поклонился.
— Хотите кофе?
— Да, очень…
Фредерикс снял с плитки кофейник, налил в чашку ароматную жидкость.
Вета сделала большой глоток.
— Кофе… настоящий…
Фредерикс улыбнулся. Снял крышку с хрустальной вазочки.
— Кекс. Английский…
— Это у вас из торгсина? — спросила Вета.
— Не совсем, — серьезно ответил Фредерикс.
Он затянулся папиросой.
— Какие у вас планы на сегодня?
— Я еду в институт искусств. На каком трамвае лучше доехать?
— Я вас провожу. Мне в ту же сторону.
Они спустились по лестнице, вышли во двор, прошли мимо гипсовых ангелочков.
У тротуара стоял черный автомобиль с треугольной звездой на капоте.
Когда они подошли ближе, из автомобиля вышел шофер в галифе и распахнул дверцу.
— Это ваша машина? — спросила Вета.
— Эта машина консула, — сказал Фредерикс, — усаживаясь рядом с Ветой. — Я забыл сказать, я работаю в германском консульстве.
День был холодный, но солнечный. Вета не отрывалась от окна. Быстро пролетел Каменноостровский, мелькнул купол мечети, и вот Нева и Троицкий мост. Они поехали по набережной, Вета вздрогнула, когда перед ними возникла громада Зимнего дворца. А потом, как на картинке из «Нивы», на них надвинулись Медный всадник и Исаакий.
Машина остановилась у дворцового здания.
— Вам сюда, — сказал Фредерикс и открыл дубовую дверь.
Вета остановилась у порога. Огромный вестибюль, фарфоровые вазы и античные статуи. Мраморная лестница, покрытая дорогим ковром. На самом верху лестницы появилась странная фигура: невысокий человек в ермолке, в бархатном пиджаке и с голубым шейным платком.
Фредерикс, засунув два пальца в рот, громко свистнул:
— Тоныч!
Человечек вздрогнул, помахал рукой и сбежал по лестнице вниз.
— Ника! Черт!
Они обнялись.
— Сколько лет…
— Я по делу, — прервал его Фредерикс, — привез тебе новую студентку, она из Тифлиса… Познакомьтесь, Вета — граф Зыбов, Валентин Платоныч…
Зыбов щелкнул начищенными штиблетами.
— Всегда рады юным дарованиям. Мадмуазель по какому разряду?
— По словесному, — тихо сказала Вета.
— Это к Фихтенбауму. Он сегодня здесь. Скажете, что от Зыбова.
И опять повернулся к Фредериксу.
— А ты, Ники, все еще там? — он сделал неопределенный жест в сторону.
— Все там, Тоныч, все там… А что, дело есть?
— Есть, Ника, есть… Может завтра, как всегда, в «Вене»?
— Давай в «Вене», — Фредерикс кивнул и что-то написал тонким карандашом на манжетке.
…День погас, и в зыбовском доме зажглись огни. Вета сидела на креслице перед дверью с надписью: «Зав. разрядом словесности». Ей показал на эту дверь швейцар, когда она спросила, где ей найти профессора Фихтенбаума. Она постучалась в дверь и оказалась перед столом, заваленным бумагами. За столом сидела черненькая полногрудая девица и ела яблоко. Взглянула на Вету неприязненно:
— Вам кого?
— Профессора Фихтенбаума…
— Виктор Михайлович занят…
Вета не уходила. Девица откусила от яблока и показала Вете на дверь:
— Подождите в коридоре. Вас вызовут.
Мимо Веты пролетали стайки студентов. В основном — девицы с накрашенными губами и подведенными ресницами, в коротких черных платьицах с низкой талией. Мальчики попадались реже. Она запомнила одного — длинного нескладного блондина с голубыми глазами. Он несколько раз прошел мимо Веты, потом сел на стул рядом, попытался заговорить. Вета отвечала односложно. Тогда блондин достал из потертого портфеля толстую книжку с закладками и углубился в чтение.
В конце коридора стояли высокие старинные часы. Вета смотрела, как медленно движутся резные стрелки. Когда часы мягко пробили шесть раз, дверь открылась. Появилась полногрудая девица и кивнула головой в сторону Веты:
— Проходите. Виктор Михайлович вас ждет.
Вета прошла мимо стола с бумагами. В конце комнаты была другая дверь. Вета толкнула ее и оказалась в небольшом уютном кабинете. Стены, затянутые шелком, тикают бронзовые часы, мраморный камин. За письменным столом из красного дерева сидел аккуратно причесанный человек неопределенного возраста в круглых очках. В руках у него были бумаги. Вета их сразу узнала: заявление и анкета, которые она написала утром в канцелярии.
Фихтенбаум оторвался от бумаг, посмотрел на Вету.
— Да что вы стоите. Садитесь, пожалуйста.
Потом снова взял анкету.
— Вы пишете, что вы армянка, из Тифлиса…
— Да, это так, — тихо сказала Вета.
— А родной язык — русский. Как это объяснить?
— У нас в семье всегда говорили по-русски… Мой отец учился в Москве…
— А чем занимается ваш батюшка?
— Мой отец — адвокат…
— Ах, да. Вот у вас тут написано: «правозаступник»…
— Он — член коллегии адвокатов. Юрисконсульт.
Фихтенбаум отложил анкету.
— Вы говорите по-русски очень чисто. А я нескоро избавился от провинциального акцента.
Фихтенбаум помолчал.
— Почему вы выбрали словесность?
— Я с детства люблю языки. И больше всех — русский…
— Какие еще языки вы знаете?
— Французский, немного армянский и грузинский…
— А французский вы знаете хорошо?
— Я окончила французский лицей. В Тифлисе.
— Кто из французских поэтов вам нравится?
— Из старых — Вийон, Ронсар. Из новых — Бодлер, Малларме…
— Прочитайте мне что-нибудь из Ронсара.
Вета закрыла глаза и тихо прочитала:
Amour me tue, et si je ne veux dire Le plaisant mal que ce m’est de mourir…Фихтенбаум встал из-за стола и несколько раз прошелся по кабинету. Остановился напротив Веты, снял очки:
— А теперь прочитайте из Пушкина.
Вета опять закрыла глаза и откинулась на стуле:
Брожу ли я вдоль улиц шумных, Вхожу ль во многолюдный храм…— Все, достаточно…
Фихтенбаум махнул рукой, сел за стол и стал что-то быстро писать. Протянул бумагу Вете:
— Передайте это Лиде Файнберг.
Вета догадалась, что Лида Файнберг — это полногрудая девица. В соседней комнате ее не было. Вета нашла ее в коридоре. Она сидела на стуле, рядом с длинным блондином и курила вонючую папиросу. Вета протянула ей бумагу.
Лида Файнберг, не выпуская папиросу изо рта, прочитала бумагу, фыркнула, передала ее блондину.
— Посмотри, Левушка. Наш Бум окончательно свихнулся… Сразу на второй курс, записал в свой спецсеминар…
Потом повернулась к Вете:
— А с тебя, девушка, коньяк. Желательно, ваш, эриванский…
…За окном ветер и дождь, бесконечные сумерки. А в семинарском зале тепло, уютно потрескивает камин. Огромный, на весь зал, дубовый стол, над ним — электрические светильники. За столом, в разных позах — скрючившись на стуле или опершись локтями на сукно, — сидят студенты. В конце стола — изящная кафедра. За кафедрой — Фихтенбаум. Перед ним — исписанные ровным мелким почерком листы бумаги, книги с разноцветными закладками… Фихтенбаум в них не смотрит. Читает стихи ровным монотонным голосом:
Я говорю: промчатся годы, И сколько здесь ни видно нас, Мы все сойдем под вечны своды — И чей-нибудь уж близок час.— Материал поэзии — слово… История поэзии — это история слов… Что есть образ?.. О каком городе идет речь? О каком храме? Кто они, эти безумные юноши? Сойдем под вечны своды… мы умрем… все мы умрем…
Громко скрипят перья. Где-то в коридоре хлопнула дверь… Вета сидит на кончике стула, старается записать, запомнить каждое слово. А ей почему-то привиделся храм в Дидубе… Похороны деда… И люди за гробом, молодые и старые, родные и близкие, и совсем не знакомые…
Она что-то пропустила. А Фихтенбаум все говорит…
— … Звуковой материал образует чередующиеся ряды четырехстопного ямба с одинаковыми концовками… специфический тембр у создает заунывность…
Голос лектора то куда-то уходит, то приближается:
— Семантическую роль enjambement легче всего проследить в стихах с прозаической конструкцией, как у Полонского:
Кура шумит, толкаясь в темный Обрыв скалы живой волной…Вета явственно увидела желтую Куру, Метехский замок и домики с голубыми балконами у обрыва…
Голос опять приблизился:
— Решающую роль в литературных революциях сыграло повышение акустического момента в стихе… Эквивалентом текста я называю заменяющие его внесловесные элементы. У Пушкина:
Мир опустел… Теперь куда же Меня б ты вынес, океан? Судьба людей повсюду та же: Где капля блага, там на страже Уж просвещенье, иль тиран…Захлопали отодвигаемые стулья, защелкали замки портфелей…
Вета натянула пальтишко, надвинула на глаза берет, выскочила на площадь и увидела высокого блондина. Он шагнул Вете навстречу, улыбнулся.
— Я не успел представиться, меня зовут Лева Лилиенталь.
Вета пожала протянутую Левину руку. Он не отставал.
— У меня предложение. Отпраздновать начало учебного года. Здесь в «Вене», это недалеко.
И прежде чем Вета успела ответить, ее крепко взяла под руку Лида Файнберг.
— Пошли, красавица. Здесь не принято отказываться. Особенно в те редкие дни, когда приглашает Лева Лилиенталь.
Они пересекли Исаакиевскую площадь. У Синего моста Вета увидала неуклюжее здание из серого гранита и спросила:
— А что это?
— Бывшее германское посольство, — пояснил Лева. Теперь у них здесь консульство. Посольство — в Москве.
Они перешли мост, повернули на Гороховую, остановились перед угловым домом с яркой вывеской «Вена»…
Они сидели в прокуренном зале, пили пиво из высоких белых кружек, высасывали белое мясо из раковых шеек. В таких заведениях Вета раньше никогда не бывала, и ей здесь нравилось. Лева пытался изображать завсегдатая. Он захмелел, стал громко читать Блока:
Я пригвожден к трактирной стойке. Я пьян давно. Мне все — равно. Вот счастие мое — на тройке В сребристый дым унесено…Лида Файнберг пила мало, но курила беспрерывно, прикуривала папиросу от папиросы.
— Я не люблю пива, — призналась она.
Вета заметила, что Лева уже сильно пьян. Ей захотелось домой.
— Может, пойдем домой? — спросила она Лиду.
— Сейчас пойдем, — ответила Лида. Вот только докурю.
Они оделись.
— Надо облегчиться, — сказала Лида и повела Вету в довольно грязный туалет. Дверей в кабинках не было.
— Не бойся, я тебя посторожу, — сказала Лида.
Они пошли на трамвайную остановку. Ветер усилился.
Когда переходили Мойку, Вета заметила, что вода сильно поднялась.
Лида прочитала:
Последний раз мы встретились тогда На набережной, где всегда встречались. Была в Неве высокая вода И наводненья в городе боялись…— Кто это? — спросила Вета.
— Это Ахматова, — ответила Лида.
Подошел трамвай. Перед тем, как вскочить на подножку, Лида поцеловала Вету в губы.
* * *
… На следующий день, 23 сентября, случилось наводнение. Утро было спокойное и солнечное. Пока Вета ждала трамвая на остановке, небо затянуло, пошел мелкий дождь. Поднялся ветер, взметнув в воздух водяную пыль и желтые листья и надрывно загудев в проводах. Подошел трамвай, стал медленно пробиваться через лабиринт улиц к мостам. Нева была неспокойная, темно-лилового цвета, там и тут возникали пенные барашки. Вета успела заметить, что исчез пляж у Петропавловки, волны плескались у стен гранитных бастионов.
Лекций в тот день было мало. Часов в двенадцать погас свет, сказали, что вода затопила подстанцию. Вместе с кучкой студентов Вета вышла из зыбовского дворца, пошла вдоль площади Декабристов к Неве. Ей не было страшно, скорее весело. В голове вертелись строчки из «Медного всадника»:
Нева вздувалась и ревела, Котлом клокоча и клубясь…На пути попадались водопроводные люки. В них угрожающе урчала вода.
На набережной было довольно много народу. Мальчишки бегали и весело визжали.
Вета подошла вплотную к гранитному парапету. Нева была совсем близко, в лицо Вете летела водяная пыль. Ей показалось, что мосты Лейтенанта Шмидта и Дворцовый съежились и осели, повисли над самой водой. У Горного института барахтался и непрестанно гудел черный пароходик.
Вета услышала крики и заметила, что стоит по щиколотку в воде, а веселые струйки разливаются во все стороны по гранитной мостовой. Вета бросилась бежать вместе со всеми. Спрыгнула на проезжую часть, там вода была глубже. Вета побежала в сторону Исаакия. По дороге чуть не угодила в водопроводный люк, оттуда с ревом вырывалась вода. Она где-то потеряла туфлю, чтоб бежать было удобней, скинула и вторую, осталась в чулках. Выскочила на тротуар, прижалась к какой-то решетке. Вода прибывала с каждой минутой. Вета стала пробираться вдоль решетки и не заметила, как оказалась у постамента Медному Всаднику. Там, наверху, между медных копыт притулился человек в косоворотке и махал ей рукой — давай сюда!
Вета поползла по гранитному постаменту, вскарабкалась по мокрым его уступам, уцепилась рукой за холодную змею. Парень протянул ей руку и потащил выше, к медным копытам. Вета прижалась спиной к холодным лошадиным ногам и стала смотреть вниз, на воду. Течение было быстрым, в воде проплывали поленья, бочки, разбитые ящики, шестиугольные торцы из разбитых деревянных мостовых.
Парень крестился и причитал:
— Кара нам за прегрешения… За царя, за души невинно убиенных… За Григория, святого человека… Быть Петербургу пусту…
— Сумасшедший, — подумала Вета.
В ушах у нее гудел ветер, глаза слезились.
— Только бы не упасть, только бы не свалиться… — она, что было сил, вцепилась в холодные ноги коня.
Вета на мгновенье закрыла глаза. А когда открыла, прямо перед ней на набережной стоял автомобиль. Человек в белой папахе показывал на нее рукой. Двое солдат подобрались к ней, взяли на руки, понесли к машине…
Вета показала рукой на памятник:
— Там еще человек…
Солдат покачал головой:
— Там никого нет …
… Вета открывает глаза. Большая комната. Приглушенный свет. Она лежит на диване. Пытается приподняться. Женские руки осторожно опускают ее голову на подушку.
— Полежи, деточка. Все будет хорошо…
— Где я? — спрашивает Вета.
— Ты у хороших людей…
Чьи-то шаги. Вета поворачивает голову. Перед ней — полный человек с одутловатым лицом. Спрашивает тенорком:
— Ну, как она?
— Пришла в себя.
— Ну и отлично! Пусть отдохнет…
Человек уходит. Вета припоминает. Тот, что был в автомобиле, в белой папахе.
Женщина спрашивает Вету.
— Как тебя зовут, где ты живешь?
Вета отбарабанила:
— Елизавета Дадашева, Красных Зорь, дом 48, квартира 15.
— Как ты сказала, Дадашева? Ты из Тифлиса?
Вета кивнула. Женщина подвигается ближе и смотрит в упор на Вету.
— Скажи, Жорж Дадашев — твой отец?
Вета сглотнула слюну и кивнула опять.
— Вы знаете отца?
Женщина отворачивается и закуривает.
— Мы когда-то встречались. Давно…
— Как вас зовут? Может быть, я о вас слышала.
Женщина затягивается папиросой.
— Вряд ли. Сейчас меня зовут Соня Равич. Когда-то меня звали иначе. Ирина Габриелян…
Вета встала с диванчика. У нее немного кружилась голова.
— Я пойду.
Женщина довела Вету до передней.
В невидимой комнате надрывался тенорок:
— Грабителей и мародеров расстреливать на месте. Без пощады. Как нас учил Ильич…
Она вышла на лестницу. Обернулась. На входной двери висела медная табличка:
ЕВСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЗАРУЦКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНСОВЕТА
На нижней лестничной площадке за небольшим столиком сидел красноармеец в синей фуражке. Когда Вета проходила мимо, он встал и козырнул.
Вета вышла на Каменноостровский. Было темно. Ветра не было. На небе ярко светила неестественно большая луна.
* * *
… Утром 7 ноября Евсей Заруцкий и Ирина на небольшой машине подъехали к Таврическому. Напротив дворца, на Шпалерной, стояли грузовики, на них — красные флаги, портреты Ленина, Маркса. Заруцкому и Ирине помогли забраться на грузовик. Около девяти появилась колонна демонстрантов. Свои, рабфаковцы. Красные флаги, портреты Ленина, Троцкого, Заруцкого. Лозунги: «Смерть бюрократизму! Долой правых!»
Заруцкий поднес к губам мегафон. Выкрикнул фальцетом:
— Товарищи! Уходя от нас, товарищ Ленин нам завещал …
— Товарищу Заруцкому ура! — неслось из колонны. А из мегафона раздавалось:
— Нет, нет и нет бюрократии! Не отдадим партию нэпманам и подкулачникам!
Рабфаковцы ликовали:
— Долой Сталина! Долой Бухарина! Ура!
На Шпалерной, со стороны Смольного и с боковых улиц, Таврической и Потемкинской, появились плотные колонны людей с красными повязками. Они смяли ряды рабфаковцев, прижали их к машинам. Кто-то из рабфаковцев попытался сопротивляться, в толпе замелькали кулаки. Рабфаковцев сбивали с ног, вырывали из рук портреты и лозунги.
Заруцкий силился перекричать толпу, но его уже не было слышно. Толпа внизу ревела:
— Смерть раскольникам! Смерть предателям!
Где-то совсем рядом раздался истерический визг:
— Бей жидов!
Заруцкий смертельно побледнел и опустил мегафон. Крепко сжал руку Ирины.
В кузов впрыгнуло несколько красноармейцев из отряда ОГПУ.
— Товарищ Заруцкий, товарищ Савич… В интересах вашей безопасности…
Их посадили в закрытую машину и куда-то повезли…
* * *
…Вета в доме на проспекте Красных Зорь бывала мало, уезжала рано утром, возвращалась поздно. А Марк первую неделю из дома почти не выходил. У него было рекомендательное письмо в Электротехнический институт, но идти туда он не торопился.
Большую часть дня Марк проводил в комнате Мишеньки, слушал его неторопливую трепотню. Мишенька рад был новому слушателю и, немного присочиняя, рассказывал трогательную историю своего отца, Исидора Годлевского. Тот родился в бедной еврейской семье в Лодзи, объехал пол-Европы и вот, представьте себе, стал полномочным представителем фирмы «Зингер» в Петербурге. Мебель, картины, книги с золотыми корешками — все это Исидорово наследство. Пятеро детей — и всех крестили, кого в православную, кого в лютеранскую веру… А потом — война, революция… Родители погибли на Украине, братья и сестры разбрелись по всему миру. Сам Мишенька с «красными» прошел всю Сибирь — бил Колчака. Теперь — квартуполномоченный, вечный студент Горного института…
За неделю Марк починил в квартире электропроводку, провел звонки во все комнаты, наладил протекавший кран в ванной. Часам к шести на кухне собирались все обитатели квартиры. Держали совет, как жить дальше. Жили они коммуной, деньги сдавали в общий котел. Беда в том, что денег обычно ни у кого не было. Катя Гросс — студентка-медичка. Деньги ей подкидывал престарелый отец — гинеколог с частной практикой — он жил в том же доме, на шестом этаже. Последнее время он часто болел, зарабатывает мало. Деньги водились у Ники Фредерикса, но он бывал у Кати Гросс нерегулярно, а свой взнос обычно сдавал натурой — деликатесами из германского консульства.
Когда все были в сборе, Мишенька достал потрепанную кожаную записную книжку и зачитал список благополучных знакомых. Жертву выбирали сообща:
— Абрамсон — жадина и у него невкусно… Базилевич — были уже два раза на той неделе… Буковский — уехал в Харьков… Давидович… пожалуй, подходит, давненько у него не бывали, и, помнится, кормили там неплохо…
Техника абордажа домов благополучных знакомых отработана до мелочей. Подходят часам к восьми, когда в петербургских домах обычно садятся за стол. Первыми в дверях появляются Мишенька и Ксюша.
— Семен Абрамович… Варвара Васильевна… сколько лет, сколько зим… Мы тут мимо проходили, дай, думаем, зайдем… Ах, да, мы, кажется, не вовремя, вы обедать собрались… Да нет, что вы, в другой раз… Ну, раз вы так настаиваете, чтоб хозяйку не обидеть… Да, дело в том, что мы тут не совсем одни… всем, можно сказать, беспутным домом…
На лестнице раздается молодецкий свист, и в дверь врываются все квартиранты, включая belle-mère и Серафиму, угловую жилицу. Хозяева заметно бледнеют, но путь к отступлению отрезан. Гости деловито располагаются за столом, и Ксюша, очаровательно воркуя, разливает хозяйские щи по тарелкам.
За гостеприимство приходится расплачиваться приемами, но и это делается с минимальными тратами. Мишенька загодя обзванивает гостей:
— Исачок, к нам тут гости из Тифлиса пожаловали, радость такая… Заходите на огонек с Софочкой… Только захватите чего-нибудь перекусить-выпить, а то мы с прошлого раза на мели…
Гости покорно тащат миски с салатом, тушеные кабачки, фаршированные перцы, бутылки муската и абрау-дюрсо. Вклад хозяев обычно сводится к бутылке московской очищенной и банке с солеными огурцами, торжественно поставленными посереди стола.
За столом весело и совсем не так, как в Тифлисе. У них дома тоже часто бывали гости, но там старались принимать, как в хороших русских домах. Сперва подавали закуски и водку. Потом приносили суп. Вина подавали ко второму блюду: красное — к мясному, белое — к рыбе. Потом — мужчины уходили в кабинет, пили коньяк и курили сигары.
В Ленинграде пили все подряд — водку, шампанское и десертное вино под любую закуску. Среди Мишенькиных гостей было много евреев. В Тифлисе тоже были евреи, горские, но они мало чем отличались от грузин. Во время войны стали появляться евреи — беженцы из России. Но среди них у Дадашевых было мало знакомых.
Здешние евреи были люди интеллигентные — врачи, адвокаты, журналисты. По большей части они родились здесь, в Питере, у многих были русские жены, да и вообще они во всем походили на русских. Разве что шумливее. Говорят все разом и друг друга совсем не слушают. Но Марку это даже нравилось. Особенно ему нравились шутки и анекдоты, которые за столом рассказывали в изобилии. Марка тоже не оставляли в покое:
— Марк, расскажите анекдот про кинто.
Марк набирает побольше воздуха и начинает:
— Подходит кинто к русскому генералу и спрашивает: «А скажи, га-а-спадин генерал, а ка-а-торый щас час…»
Весь стол хохочет, а Марк громче всех…
Как-то вечером в комнату к Марку постучала Катя Гросс:
— Марк, зайдите ко мне, у меня перегорела лампочка…
Марк берет инструменты, идет вслед за Катей. У нее большая комната, перегороженная ширмой, на стенах портреты каких-то генералов и дам в больших шляпах.
— Какая лампочка?
— Вот эта, — Катя показывает на потолок…
Марк щурит близорукие глаза.
— Я не вижу…
— Марк, по-моему, вы — адя…
Марк уже начинает привыкать к Катиному жаргону. «Адя» — означает «идиот».
Катя снимает халат.
— Обнимите меня. Мне холодно.
Они лежат в большой Катиной кровати.
— Марк, у вас холодные и мокрые руки… Скажите, вы — импо́?
— Я не знаю… А как же Ника…
Катя медленно натягивает на себя халат.
— Марк, вы адя и импо́. С Никой у нас нормальные отношения. Он — не адя… Он — контрик и немчура. Впрочем — я тоже.
Марк идет по коридору. Он слышит стук в дверь и тихий голос Кати.
— Мишенька, срочно нужна ваша помощь. Марк не смог ввинтить лампочку.
За дверью фальцет:
— Я иду, Катенька… Вот только дам лекарство Ксюше…
* * *
…Марк свернул с площади Льва Толстого на «отросток» Большого проспекта. Дворники в фуражках и синих фартуках лениво разбирали развороченные водой деревянные торцы. Марк вышел к Карповке. Там следов наводнения было еще больше: покосившиеся деревянные домики, перевернутые лодки, сваленные в кучи бочки и ящики. По хлипкому мостику Марк перешел на Аптекарский остров. Здесь было тихо, как в деревне. Широкие, мощеные неровным булыжником улицы. По-осеннему грустные деревья за оградой Ботанического сада.
Марк вышел на Песочную улицу и направился к кирпичным строениям Электротехнического института. Открыл тяжелую дверь и оказался в гулком вестибюле. За большими стеклянными дверьми угадывались очертания огромных машин. Марк огляделся. Где-то здесь была лаборатория, там профессор Попов показывал прибор, который регистрировал разряды молний.
— Вы к кому, молодой человек?
Марк оглянулся. За стеклянной конторкой сидел привратник с толстовской бородой и, оторвавшись от чтения газеты, смотрел на него поверх очков.
— К профессору Шателену, — сказал Марк.
— Николай Иванович Штепселен в аудитории номер восемь. Второй этаж, направо, — произнес привратник и вновь погрузился в чтение «Новой красной газеты».
Шателен, которого все за глаза в институте именовала «Штепселеном», оказался маленьким вертлявым старичком с эспаньолкой. Марк поклонился, передал письмо. Шателен бегло просмотрел письмо и радостно заблеял.
— Как же, как же, Гаприндашвили, Давид Георгиевич… До войны мы целый год стажировались с ним в Берне… Очень рад, очень рад… — он еще раз взглянул на письмо. — Значит, выбрали радио, похвально, мой друг, похвально…
Марка зачислили на второй курс. На следующий день он сидел в большой холодной аудитории и слушал, как профессор Шателен, энергично жестикулируя маленькими ручками, объяснял теорию электрических машин.
Студентов было мало. Скорчившись от холода, они сидели плотной группкой в первых рядах. Слова Шателена отражались от каменных стен, дробились и улетали в форточку под потолком… Кроме теории машин Марку нужно было ходить на лекции по сопротивлению материалов, органической химии и начертательной геометрии. Математику и физику он сдал еще в Тифлисе.
Больше чем лекции, Марку нравились лабораторные занятия. Их по вечерам проводил доцент Щукин. В лаборатории пахло изоляцией, канифолью и машинным маслом. Щукин диктовал задание и уходил в курительную. Марк собирал прибор по схеме, включал в сеть, записывал показания приборов. Свои задания Марк выполнял быстро, предлагал свою помощь другим.
Студенты были разные. Большинство — рабфаковцы, наука давалась им с трудом. Сидели за книгами по ночам, днем где-то работали, а все остальное время просиживали в курилках и до остервенения спорили о политике. К Марку они относились неплохо, но от помощи его обычно отказывались.
— Спасибо, Доша, как-нибудь сами…
Прозвище «Доша» к Марку пристало надолго.
Однажды к Марку подошел Саша Румянцев, староста группы.
— Слушай, Доша. Есть предложение. Ты за меня сдаешь лабораторию и начерталку, а я за тебя — химию. Идет?
Химию Марк не любил и с радостью согласился. Обмывали соглашение в небольшой портерной на Лопухинке. Сидели на мокрой верандочке, пили прохладное пиво из высоких стеклянных кружек. Напротив них остановилась пролетка, из нее вышел старомодный господин. Увидел Сашу Румянцева, приподнял котелок и засеменил дальше, к большому дому в глубине сада.
— Кто это? — спросил Марк.
— Академик Павлов, — ответил Саша. — Нобелевский лауреат.
После третьей кружки Саша разоткровенничался.
— Доша, а что ты думаешь делать потом, когда закончишь институт?
— Не знаю, Саша, я еще не думал…
— А зря, Доша, зря. Вот мне лично все ясно. Закончу и махну туда…
— Куда туда? — не понял Марк.
— Туда, — Саша сделал жест рукой, — в Европу…
— Почему, Саша?
— Плохо здесь, Доша. Плохо. А будет — хуже. Помяни меня, — хуже и страшнее…
…Однажды утром Марк шел на лекцию мимо привратника. Тот заметил Марка, помахал ему рукой:
— Вам письмо!
Марк разорвал желтый конверт. Внутри была записка, напечатанная на машинке.
«Просьба зайти 15 мая по адресу… комната №… 10 часов». Подпись была неразборчива.
Адрес был Марку знаком. Большой крашенный синей краской дом на Березовой аллее. Он несколько раз проходил мимо него, когда бродил по Каменному острову. В назначенный час он вошел в стеклянную дверь. Увидел надпись «Отдел пропусков». Протянул бумажку офицеру с синими петлицами. Тот сверился с записью в толстой книге. Передал Марку картонный квадратик. «Распишитесь здесь».
Вышел краснофлотец. Взял у Марка пропуск. Провел коридорами. Нажал на звонок. Дверь открылась. За столом сидел лысоватый человек в морской форме с орлиным носом и пронзительными голубыми глазами.
— Товарищ Дадашев?
Марк ответил по-военному.
— Так точно!
— Прошу садиться. Мне вас рекомендовал Вася Щукин. Моя фамилия Кребс.
* * *
…Стараниями графа Зыбова майским, почти по-летнему теплым днем Павловский дворец и Павловский парк были отданы на откуп служителям муз. Формальным поводом был праздник пролетарского искусства. Однако все знали настоящую причину: Тоныч сдавал дела. Уже несколько месяцев, как Луначарский подписал ему длительную командировку в Германию, а теперь пришла и виза из германского консульства.
С двенадцати часов в павильоне Росси играл камерный оркестр. Чуть дальше, в Круглом зале, там, где сходились аллеи, надрывался хор Пятницкого. На постаментах, у чугунных решеток, читали стихи поэты, пролетарские и не очень. В парадных залах дворца была развернута выставка «Художники Ленинграда — пятилетке».
Прием начался в шесть вечера. Зыбов с бокалом шампанского в руке стоял у входа в Итальянский зал. На нем был новый бархатный сюртук с розовым бантом, лиловый берет. Вета стояла в кучке студентов-словесников. Рядом с ней была Лида, называла ей новоприбывших.
— Этот почтенный старец, чем-то напоминающий святого Петра, — Замойский Фаддей Фаддеевич, филолог-классик. Он скоро уезжает на родину предков, в Польшу. Пришел попрощаться. А тот — высокий в очках — его сын, Адриан Аскольский, театровед. А вот — Сергей Сергеевич Бранденбург, академик, индолог… Джемс Альбертович Смит… Курбитов… Тротти…
Гости все шли и шли. Вета заметила Фредерикса. Он увидел Вету, поклонился, сверкнул стеклами пенсне. Появились деятели Ленсовета в полувоенных френчах, их жены путались в длинных шлейфах.
Рядом с Лидой вырос высокий юноша с копной золотистых волос.
— Лида, представь…
— Вета, наша новая студентка… Вадим Данилов, он же Данила… художник… ученик Кустодиева…
— Бывший ученик, Лидочка, бывший…
Заиграла музыка, взорвались хлопушки; Зыбов выкрикнул:
— Бал-маскарад! Прааашу!
Гости, молодые и старые, как по команде, вытащили припасенные маски и пустились в пляс…
Вета оказалась в объятиях Данилы, и он повлек ее в картинную галерею. Здесь была полутьма, приглушенный свет канделябров, едва доносилась музыка. Они танцевали, и у Веты перед глазами мелькали картины; кавалеры и дамы подмигивали и загадочно улыбались ей со стен. Где-то в углу оказался столик, Данила схватил и ловко откупорил бутылку, сладкая пена потекла Вете в рот, залила глаза. Стало смешно и весело.
Они оказались в парке и побежали по мокрой аллее. Стемнело, стало зябко; от Славянки поднимался липкий туман. На аллее за Старой Сильвией рядами стояли статуи, заколоченные в деревянные футляры. Один из футляров оказался пустым. Данила забрался в футляр, протянул руку Вете. Она протиснулась, прижалась к Даниле, почувствовала на себе его руки. Ей стало на мгновение больно, словно по ее телу прошел электрический ток.
Когда они вернулись во дворец, там было пусто. Лежали перевернутые стулья, валялись пустые бутылки от шампанского. Данила повел Вету куда-то под лестницу, открыл потаенную дверь. Они оказались в маленькой комнате, заваленной холстами и книгами. Всю комнату занимал огромный ковер. Вета опустилась на ковер и закрыла глаза. Почувствовав Данилу, она привлекла его к себе, радостно ощутила, как он медленно погружается в нее. Ей показалось, что кто-то над самым ее ухом читает Брюсова:
Губы мои приближаются К твоим губам, Таинства снова свершаются, И мир, как храм. Мы, как священнослужители, Творим обряд……В июле Вета поняла, что беременна. У нее была задержка на два месяца. Потом стало тошнить. Она записалась на прием в женскую консультацию. Дождалась своей очереди, вошла в белую комнату. Ее усадили в гинекологическое кресло.
Пожилая врачиха покачала головой:
— Поздравляю… Шесть недель…
Вета вышла на улицу, подошла к телефону-автомату. Набрала телефон, который ей когда-то дал Данила.
Незнакомый женский голос ответил:
— Вадим Николаевич в Москве. Когда вернется, не знаю.
Вета шла по Каменноостровскому. Было душно и жарко. Из подворотни пахло мочой и квашеной капустой.
Вета села на трамвай и поехала к Московскому вокзалу. Подошла к кассе, достала сумочку, пересчитала деньги. Протянула все, что было, в окошечко.
— Один плацкартный до Тифлиса.
Потом дала телеграмму отцу:
«Приезжаю послезавтра. Вета».
* * *
…В Первом отделе Марк заполнял бесконечную анкету: «Место рождения… социальное происхождение… служил ли в Белой армии… состоял ли в партиях… был ли исключен из рядов ВКП(б)…» Поставил число, расписался, передал в окошечко с надписью «Отдел кадров». Кадровик в синих нарукавниках внимательно прочитал анкету, поставил в нескольких местах птички.
— Вам позвонят.
Окошечко закрылось.
Прошло не меньше двух месяцев, прежде чем в дверь к Марку постучал Мишенька:
— Тебя к телефону!
В трубке металлический голос сказал:
— Вы должны явиться в завтра в 9.00 по адресу… Пропуск выписан…
Марка сразу провели в кабинет Кребса.
Кребс запер дверь на ключ, подошел к Марку вплотную и спросил свистящим шепотом:
— Почему вы не сказали, что вы из дворян?
Марк смутился:
— Карл Иванович, но вы не спрашивали…
Кребс расхохотался:
— Правильно, не спрашивал… Решил, что вы — закавказский пролетарий…
Кребс сел за стол и с удовольствием закурил трубку.
— Имел малоприятный разговор с чекистами… Мне сказали, что я устраиваю здесь дворянское собрание… Я ведь и сам… из баронов… Одним словом, за вас поручился.
Марк чувствовал себя неловко…
— Я виноват…
Кребс выпустил струю ароматного дыма.
— За это не извиняются… Думаю, мы сработаемся…
С этого дня у Марка началась трудовая жизнь. В институте он перевелся на вечернее отделение.
Лаборатория, куда определили Марка, занимала небольшой флигелек в глубине сада, чуть поодаль от синего дома. В лаборатории их было человек двадцать — инженеров, техников и чертежников. Марк был там самым молодым.
Сперва к нему относились настороженно, даже насмешливо. После того, как раза два он сделал толковые предложения, отношение к нему стало меняться к лучшему. Марка зауважали, когда выяснилось, что он знает языки. Помимо французского, которому Марка в детстве обучили швейцарские бонны, Марк свободно читал по-английски. Как-то к ним в лабораторию пришел Кребс с толстой папкой в руке.
— Нужно заказать перевод.
— Можно я посмотрю, — сказал Марк. Взял из папки статью и стал переводить «с листа».
— Молодец, — сказал Кребс, — через неделю попрошу подготовить реферат…
Лаборатория, в которой работал Марк, была в ведомстве РККФ — рабоче-крестьянского Красного флота. Эта лаборатория разрабатывала чувствительные акустические приборы, они должны были засекать на большой глубине вражеские подводные лодки. Такие исследования проводили все морские державы, и везде эта работа считалась секретной. В той папке, которую Кребс передал Марку, на некоторых статьях не было выходных данных. Марк догадался, что их раздобыла разведка.
Для работы над переводом Марку выделили особую конторку. В конце дня все бумаги и черновики нужно было сдавать в Первый отдел. Там их тщательно нумеровали, подшивали и скрепляли сургучной печатью.
В июне Кребс взял Марка с собой в Кронштадт. Нужно было испытать прибор в море.
Марка поселили во флотской казарме, выдали тельняшку, морскую робу, пилотку. Тральщик отваливал от стенки на рассвете, когда над водой поднимался холодный туман. Пока корабль бороздил воды Маркизовой лужи, Марк сидел с прибором в носовом отсеке, следил за показаниями осциллографа, прислушивался к дроби морзянки в радиотелефонах. Выходил на палубу к вечеру, смотрел, как солнце медленно опускалось за невидимый горизонт.
* * *
…Аборт Вете делал старый приятель Жоржа — доктор Абрамянц в гинекологической клинике Тифлисской горбольницы. На всякий случай ей заготовили справку: «гражданка Дадашева оперирована по причине обострения хронического аппендицита».
Операция прошла благополучно, без осложнений. В больнице Вета пролежала еще неделю. В Тифлисе было очень жарко, в палате открыли все окна. Соседки по палате непрерывно что-то ели и судачили о домашних делах.
Вета ни с кем не разговаривала. Лежала неподвижно и, не отрываясь, смотрела в окно. Во рту у нее было сухо, и ей все время хотелось пить. Учебу она решила бросить и в Ленинград больше не возвращаться. Но и в Тифлисе оставаться она не могла. «Куда-нибудь уехать… Может, в Москву…» Она вспомнила «Трех сестер» и улыбнулась: «В Москву! В Москву!»
Наконец, ее выписали. Она натянула на себя смятое платье, посмотрела в зеркало. «На кого я похожа… Бледная немочь… Одни глаза…» Вета медленно спускалась по лестнице. У нее дрожали ноги.
Когда она вышла в вестибюль, со стула встал высокий молодой человек. Вета его не узнала — в вестибюле было темно. Молодой человек подошел к ней и позвал ее:
— Вета. Это я — Лилиенталь…
— Господи, Левушка! — Вета прижалась лицом к Левиному плечу и громко зарыдала.
Лева прожил у них неделю. Его поселили в бывшем кабинете Жоржа. Вета водила Леву по Тифлису, показала Авлабар. Два раза они были в Грибоедовском театре.
Однажды, когда они были одни, Лева сказал как бы невзначай:
— Бум назначил твой доклад на октябрь.
— Какой доклад? — не поняла Вета.
— Доклад об армянской поэзии. Бум говорит, это — замечательная тема.
Вета помолчала.
— Ты знаешь, Лева, я решила бросать институт…
Лева вскочил и забегал по комнате.
— Не смей так говорить, Вета! Ты — самая одаренная из всех нас… Ты самая, самая…
Лева опустился на колени и стал целовать Ветины руки.
— Вета, я очень прошу тебя! Вета, выходи за меня замуж…
Лева положил голову Вете на колени, а она стала гладить его вихрастые светлые волосы…
…А в сентябре, в Ленинграде, Вета вышла замуж за Данилу. Он появился в ее комнате рано утром. Вошел без стука. Вета была в постели.
— Одевайся. Поехали.
— Куда? — спросила Вета.
— В ЗАГС.
Вета сама удивилась своему спокойствию.
— Ты опоздал, Данила. Я уже обещала Леве.
Данила сел на кровать. В руке у него что-то блеснуло.
— Если ты не согласишься, я перережу себе вену.
— Режь! — крикнула Вета.
Из руки Данилы фонтаном брызнула кровь.
— На помощь! — изо всех сил завопила Вета, бросилась к двери, стала колотить в нее кулачками и босыми ногами.
Комната наполнилась людьми. Катя Гросс наложила на руку Данилы жгут. Смертельно бледный, Данила лежал на Ветиной постели и тихо постанывал…
* * *
…Свадьбу праздновали у Годлевских — в большой столовой. Как всегда, закусок было мало: всего две миски с салатом. Зато питья — водки и шампанского — хоть залейся. Гостей было много, и все время подходили новые. Был почти весь курс из зыбовского института, к вечеру появился Бум. Были художники — друзья Данилы. Часам к двенадцати пришли балетные — в Мариинке закончился спектакль.
Марк пел чувствительные романсы, подражал популярному тенору Николаю Печковскому. Лилиенталь пришел с большим букетом, произнес длинный и запутанный тост, потом бросил букет, закрыл лицо руками и убежал в ванную. Гости кричали: «Горько». Данила обнимал Вету за плечи и целовал. Губы у Данилы были сухие и горячие.
Вета смеялась, целовалась, танцевала, и ей все время казалось, что все это не с ней, что она где-то далеко и смотрит на себя со стороны. И все люди здесь, на ее свадьбе, были не настоящие, а ряженые, и обыденные вещи приобрели особый смысл. «Наверное, это и есть отстранение, — подумала Вета, — как у Шкловского…»
Большие часы в столовой пробили двенадцать, открылась дверь и вошла Акуба. Поцеловала Данилу, перекрестила Вету. Вета никогда не видела Акубу так близко: скуластое лицо, нос с горбинкой, большие серые глаза. Бум протянул Акубе бокал с водкой, она выпила водку залпом и разбила бокал об пол.
Заиграла музыка, кто-то из балетных подхватил Акубу, и они стали танцевать. Акуба изгибалась всем телом.
Музыка замолчала.
— Прочтите нам что-нибудь, — попросил кто-то Акубу.
— Я не читаю своих стихов, — ответила Акуба и поправила сбившуюся прическу.
Стало тихо и кто-то произнес:
Я пью за разоренный дом, За злую жизнь мою, За одиночество вдвоем, И за тебя я пью, — За ложь меня предавших губ, За мертвый холод глаз, За то, что мир жесток и груб, За то, что Бог не спас…Балетный встал перед Акубой на колени, протянул ей цветы.
Дверь распахнулась, и в комнату вошел высокий, очень худой человек с недобрыми глазами. Подошел к Акубе, схватил ее за руку.
— Ты пьяна, идем домой.
Акуба сжалась, свет в ее серых глазах потух.
— Я сейчас, Сереженька, я сейчас…
Сереженька вырвал из рук Акубы цветы, стал рвать их и разбрасывать по паркету.
* * *
…Медовый месяц Вета провела в Публичной библиотеке — готовилась к докладу. Первый раз с ней пришел Лева Лилиенталь. Показал ей свое любимое место — стол у окна в литературном зале. Проводила там Вета целые дни — приезжала к открытию, к девяти утра, уезжала, когда уже темнело и в Екатерининском саду зажигались фонари.
Вета разложила на столе свои тетради, там были песни, которые она записала в 1920 году, со слов Шушаник, беженки из Ани. Лева показал, где стояли словари, где найти справочные пособия. За месяц Вета перевела два десятка песен. Сперва она сделала точный подстрочный перевод. Потом постаралась подобрать рифмы, восстановить ритмику. Она разбила тексты по жанрам — свадебные, любовные, комические, заупокойные. Многие песни в жанры не укладывались: в свадебных — слышались горькие нотки, а в заупокойных — юмор.
Вета показала свои переводы Леве. Он исправил несколько неудачных выражений. Отложил несколько листочков. «Мне как-то попался сборник балканского фольклора. Там есть что-то подобное. Я обязательно его разыщу. Ты знаешь, есть такая теория — бродячих сюжетов?..»
Прочитав Ветины переводы, Лида сильно возбудилась.
— Слушай сюда, деточка! Это же чистый Бахтин! Карнавальная культура, мелодика гротеска! Амбивалентность образов!
— Что такое амбивалентность? — спросила Вета.
— Двойственность переживания. Когда один и тот же объект вызывает противоположные чувства: благословение и проклятие, хвалу и брань, любовь и смерть…
«Семинарии» Бум проводил у себя на квартире на Васильевском. В кабинет набивалось человек двадцать. Рассаживались вдоль книжных шкафов. Сам Бум сидел за письменным столиком в углу, над ним как иконы висели портреты Шкловского и Ахматовой.
Студенты приходили на семинарии, как на праздник. Приносили вино, конфеты. Сегодня праздника не получилось. Бум был мрачен.
Когда все собрались и разговоры стихли, Бум откашлялся, постучал карандашом по стаканчику.
— Господа, у меня пренеприятное известие. Серьезно опасаюсь, что в ближайшее время нас прикроют…
— Виктор Михайлович шутит и, как всегда, неудачно, — с места сказала Лида.
Бум ее не поддержал.
— Сегодня у нас был Ученый совет. К нам приехал некто Корытов из Наркомпроса, представил нового директора. Это Генрих Иванович Штольц, историк искусств из Киева. Человек, судя по всему, порядочный, но бесхарактерный. Вместе с ним прибыл Пыжов, он будет у нас «выправлять» партийную линию…
Бум несколько минут молчал, собирался с мыслями.
— А потом было самое забавное. Вся троица, точнее Корытов и Пыжов, Штольц лишь поддакивал, стала приводить нас к присяге…
— К какой присяге… что за бред, — громко сказал Лева…
— Нам предложили торжественно отречься от буржуазного формализма и присягнуть на верность марксистскому социологическому методу…
— Ну и что?
— Ну и присягнули… Все, кроме меня…
В комнате стало очень тихо. А потом опять Лида:
— Виктор Михайлович, не тяните, что было потом?..
— Потом были оргвыводы. Нам указали, что кадры института засорены классово враждебными элементами, буржуазными формалистами…
Лида громко закричала:
— Мы с вами, Виктор Михайлович! Мы вас не оставим, не предадим!
Студенты одобрительно загудели…
Бум опять постучал карандашом по стаканчику.
— Киндер, ша! Работа семинария продолжается. Вета, ваше слово.
Вета собрала свои бумажки и стала говорить. Сперва сбивчиво, потом все уверенней. Пока говорила, несколько раз взглянула на Бума. Он сидел, откинувшись на стуле, прикрыв глаза рукой.
«Не слушает», — подумала Вета.
Бум открыл глаза.
— Прочитайте, пожалуйста, эту песню по-армянски.
Вета прочитала несколько куплетов.
— Кажется, вам удалось передать ритм, — сказал Бум.
Вета закончила, собрала свои записи.
— Что скажут господа семинаристы? — спросил Бум.
Первой выступила Лида.
— Это замечательно. Мы впервые обратились к фольклору… Вета блестяще доказала универсальность категорий Бахтина…
Ее поддержал Лева.
— Я особенно хочу подчеркнуть, что у Веты потрясающее чувство слова…
Бум подытожил.
— Семинарий рекомендует работу Дадашевой в печать в издательстве «Academia». Редактором назначаем Лиду Файнберг… Учитывая обстановку, рукопись следует подготовить в кратчайшие сроки…
* * *
… После свадьбы Вета переехала к Даниле в его квартирку на Зверинской улице. Квартира эта занимала мансарду большого доходного дома и состояла из мастерской с окном во всю стену и спальни с умывальником. Из окна был виден шпиль Петропавловского собора и деревья Зоологического сада. В мастерской стояли Данилины работы: эскизы декораций, виды Петроградской стороны, женская натура.
Так получалось, что Вета и Данила виделись только поздно вечером и ночью. Данила работал в театрах — оформлял спектакли в Мариинке и в Малеготе — Малом оперном. Часто приезжал после окончания спектаклей. Они пили вино, ели фрукты — их привозил Данила. Готовить Вета не любила, да было и негде: в квартире не было плиты.
Данила был к ней внимателен и нежен. Часто делал подарки: духи, косметику.
— Откуда это у тебя? — спрашивала Вета.
Данила отшучивался.
— Так. Достал…
Когда Вета уезжала утром, Данила спал, по-детски причмокивая губами.
Днем, в Публичке, отрываясь от рукописи, Вета смотрела в окно на заснеженный Екатерининский сад и думала о Даниле. «Вот мы женаты, спим в одной постели, а я его совсем не знаю…»
Как-то раз она вернулась домой, на Зверинскую, раньше, чем обычно. В квартире никого не было, но Вета сразу почувствовала, что совсем недавно здесь был Данила, и не один, с женщиной. Пятна от вина на скатерти, наскоро застелена кровать. Она провела рукой по простыне. Ей показалось, что простыня еще теплая.
Данила приехал поздно. Он был подшофе. Данила много пил, но пьяным его Вета видела редко. В состоянии опьянения у него стекленели глаза и злобно кривился рот. На этот раз Данила был пьянее, чем обычно. Он молча разделся и лег, повернулся лицом к стене.
Вета не могла заснуть. Лежала с открытыми глазами, смотрела в окно, на кусочек желтоватого петроградского неба.
Часа в три Данила встал, подошел к умывальнику, налил себе воды. Сел на кровать.
— Ты не спишь?
— Нет, — ответила Вета, — не сплю.
— Ты чем-то недовольна?
Вета натянула на себя одеяло. Сказала тихо:
— Почему здесь? В моей постели?..
Данила встал. Прошелся по комнате. Зажег папиросу.
— Я тебя понимаю… Ты права… Так нельзя…
Он лег на кровать, прижался к Вете.
— Я честно хотел это бросить, завязать. Я не могу. Это сильнее меня…
Вета чувствует, как у нее бьется сердце. Ей хочется заткнуть уши, убежать. А Данила все говорит, говорит…
— Эти короткие встречи, мимолетная близость… Как стакан воды, когда хочется пить… Каждый раз я говорю себе, это в последний раз… Проходит две недели и опять томится кровь… случайный взгляд, улыбка… я схожу с ума… меня поманят, и я бегу, забыв все на свете…
Небо за окном розовеет, а Данила все говорит.
— Я как-то видел сон… Будто мы в театре, на сцене… а вокруг нас женщины голые, и все они зовут меня. Я к ним не иду, я держу тебя за руку. Мы идем среди этих женщин, ты не смотришь на них, и вид у тебя гордый. А потом что-то случилось, ударил гром, и заиграла музыка. Я обернулся, а тебя нет…
Данила заснул под утро. Тут же затрещал будильник. Вета встала, оделась. Уходя, она обернулась. Данила мирно посапывал, его золотые волосы разметались по подушке.
* * *
…Морозным февральским утром Вета и Лида вышли на перрон Октябрьского вокзала. Лиде нужно было в Москву по издательским делам: поработать над рукописью с Осей Бликом.
— Поехали со мной, — предложила она Вете. Вета в Москве никогда не была и согласилась с радостью.
После ровного и причесанного Ленинграда Москва поразила Вету безалаберностью. Благородные особняки соседствовали с деревянными развалюхами и безликими многоэтажными монстрами. Одетые по последней моде денди шли под руку с золоторотцами в шубах на голое тело. Москва захлебывалась в чаду автомобилей, надрывалась матом ломовых извозчиков.
Они вышли на Каланчевскую площадь, зашли в кабак. Несмотря на ранний час, за одним из столиков было оживленно — там кутила, как видно с вечера, компания прилично одетых людей с испитыми лицами.
Появился половой:
— Дамы желают откушать?
— Расстегайчики имеются? — спросила Лида.
— А как же-с, — оживился половой. — Желаете с семгой, со щучкой?
— Неси со щучкой, — распорядилась Лида. — И сбитня московского!..
…Перед ними остановился извозчик.
— Мамзели, подвести?
Они забрались в коляску. Лида сказала:
— На Тверскую.
И добавила Вете:
— Дядя у меня там…
Дядя оказался пожилым адвокатом, обитателем квартиры, состоявшей из комнат-пеналов. Кроме него единственным жильцом был дог по кличке Джек.
Дядя по-родственному расцеловал Лиду, равнодушно кивнул Вете. Протянул связку ключей.
— Ты тут все знаешь. Распоряжайтесь сами.
Лида открыла ключом дверь комнаты в глубине коридора. Там было темно и пахло нафталином. На окнах висели тяжелые занавески. Посереди комнаты стояла огромная кровать под балдахином.
К Бликам они поехали, когда стемнело. Доехали автобусом до Таганской площади, оттуда пешком добрались до тихого Гендрикова переулка. Вошли в каменный дом, поднялись на второй этаж.
Им открыли дверь, и они оказались в маленькой, сильно натопленной квартирке. К ним вышла невысокая женщина с большими черными глазами и ярко накрашенными губами.
— Мы к Осип Осипычу, — сказала Лида.
— Осип Осипыч скоро будет.
— Вы, наверное, Лида Файнберг, — сказала женщина и протянула руку. — Меня зовут Лола Блик.
Они сидели на разнокалиберных стульях за крашеным столом в небольшой комнате. Кроме Лолы в комнате был еще один человек, невысокий брюнет.
— Гаранов, Ян Янович, — представила его Лола, — наш большой друг, называйте его просто Яня.
Яня молча кивнул.
Через некоторое время появился Блик, растерянно покрутил круглой головой. Увидел Лиду. Улыбнулся.
— Пошли в кабинет, Лидочка.
Пока Лиды не было, беседа не клеилась. Лола рассказывала о машине, которую ей привезли из Парижа. Вета ничего не понимала в машинах, но на всякий случай поддакивала. Яня молчал, сверлил Вету черными глазами. Блик и Лида возвратились, и тут же появились новые люди, принесли вино. Стало шумно.
Около двенадцати бесшумно открылась дверь, вошел поэт Мраковский и заполнил собой всю комнату. Обвел присутствующих тяжелым взглядом. Не вынимая папиросы изо рта, пошел в ванную, мыть руки.
Вернулся, сел на стул рядом с Ветой. Налил себе вина.
— Кто вы? — спросил Мраковский.
Вета ответила:
— Я — Вета. Словесник из Ленинграда.
— Вы подруга Данилы?
— Я его жена.
Мраковский, не вставая, протянул руку. Снял с полки книгу «Про это» с фотографией Лолы на обложке. Развинтил вечную ручку. Написал поперек Лолиной фотографии.
«Даниле и Вете
с Мраковским приветом».
И расписался: «Вл. Мрак. Москва, Гендриков».
Когда они шли к Таганской площади, Лида спросила Вету:
— Ты знаешь, кто такой Яня?
— Нет, — призналась Вета.
— Большая шишка в ЧК. Он вел дело Гумилева.
Они шли некоторое время молча. Вета сказала:
— А ты знала, что у Данилы был роман с Лолой?
— Что-то слышала… Но это было давно, задолго до тебя…
— Но он до сих пор не может ее забыть… Ты знаешь, почему они расстались?
— Почему? — спросила Лида.
— Данила говорит, что у нее было два недостатка. Она слишком много говорила об искусстве и никогда не кончала…
…Лида открыла ключом дубовую дверь. Они вошли в темную переднюю. К ним подбежал Джек, деловито обнюхал, повилял хвостом и побежал куда-то к себе, стуча когтями по паркету. Они вошли в дальнюю комнату. Лида зажгла свет и стала раздеваться.
— Здесь очень тепло. Я, пожалуй, буду спать без рубашки.
Лида полезла под одеяло, ее огромная грудь воинственно вздымалась.
Вета потушила свет, тихонько разделась и пристроилась с краешку.
Вета сразу заснула. Ей снился сон. Ленинградское наводнение. Она в лодке с Данилой. Лодку сильно качает. Но это не страшно, даже приятно и волны — теплые. Данила ее обнимает, и по ее телу разливается истома.
Вета открывает глаза. На нее навалилось что-то большое, белое. Она открывает глаза шире. На ней лежит Лида, тискает ей грудь, а другой рукой ласкает ей промежность.
Вета оттолкнула Лиду.
— Что ты делаешь?
Лида громко задышала:
— Я люблю тебя, Вета. Очень люблю…
Вета ударила Лиду по лицу.
— Не дотрагивайся до меня!
Лида медленно сползла с кровати и заскулила по-собачьи.
— Прости меня, Вета… Прости…
А Вета не могла успокоиться:
— Ты дрянь! Ты извращенка!
Лида перестала плакать и стала молча одеваться. Собрала свои вещи. Вышла в коридор.
В дверях она остановилась и тихо сказала:
— Ты мне наплевала в душу…
Хлопнула дверь.
Вета подошла к окну и отдернула занавеску. Тверская была пуста. Шел сильный снег, снежинки вспыхивали и гасли вокруг электрических фонарей.
Вета нашла ванную комнату. Долго лежала в горячей воде.
* * *
…Ранней весной 1930-го Марк перевез в Ленинград родителей: Пашу и Анну. Их переезду предшествовали грустные события: прошлой зимой, словно сговорившись, умерли старики: отец Кати Гросс и Мишенькина bellemère. Освободилась жилплощадь: большая комната в Мишенькиной квартире и маленькая квартирка на шестом этаже. Паша и Анна выбрали квартиру наверху.
Переезд был делом хлопотным. Марк взял двухнедельный отпуск и отправился в Тифлис. Старшие Дадашевы, Жорж и Маша, долго не могли решить, как им поступить. Сперва собрались было ехать, но в последний момент передумали:
— Поезжайте сперва вы, — сказал Жорж, — а мы посмотрим.
И вот, наконец, Ленинград, Октябрьский вокзал. Вереница носильщиков торжественно загружает дадашевское добро — картонки, коробки, ящики с книгами — в огромный «линкольн». На шестой этаж вещи переносят дворник Василий Михеич и двое запойного вида мужичков. Выбежал во двор Мишенька — в неизменной студенческой фуражке, галантно поцеловал ручку Анне, раскланялся с Пашей, стал командовать разгрузкой.
Через неделю вещи были расставлены. Блестели темным золотом корешки Брокгауза и Евфрона в ореховом книжном шкафу — наследство Гросса-старшего. Марка до слез растрогали вещички, которые он знал с детства, но о существовании которых он напрочь забыл: ломберный столик, персидский ковер, домашние туфли-чусты и даже огромный спичечный коробок — сувенир Всемирной Парижской выставки 1900 года.
Старики к Ленинграду привыкали трудно: холодно и все не как в Тифлисе. Марк целыми днями на работе, приходит поздно, усталый. Выручали книги, друзья, театр.
Вета несколько раз приглашала Пашу и Анну на Зверинскую. К ним сразу привязался Лева Лилиенталь, они помнили его еще по Тифлису: он приезжал за Ветой четыре года назад. Лева приносил им книги и новые выпуски журналов: «Обязательно прочитайте то, что я отметил красным карандашом…»
Вета присылала им контрамарки в Мариинку. Данила очень удачно оформил новую постановку «Пиковой дамы», а теперь получил в Мариинке постоянное место помощника главного художника. Ни оперы, ни балеты большого впечатления на Анну не произвели, она предпочитала им концерты в Филармонии.
Марк однажды посмотрел «Дон Кихот» и заболел балетом. Не пропускал ни одного спектакля. Когда билетов в кассе не было, он давал рубль знакомому капельдинеру, и тот его пропускал. Марк усаживался на барьер между ложами.
Несколько раз Марк видел в директорской ложе невысокого блондина с зачесанными назад волосами. Он появлялся, когда в зале гас свет и исчезал перед концом спектакля.
— Кто это? — просил Марк у капельдинера.
— Вы не узнали? — тот улыбнулся. — Это товарищ Киров.
Иногда, уходя из театра, Марк замечал большую черную машину у артистического подъезда. На заднем сиденье сидел блондин в полувоенном френче с зачесанными назад волосами. Марк видел, как в машину впархивали балерины…
…В мае дни стали длиннее, повеяло теплом. Как-то вечером Паша и Анна шли по проспекту Красных Зорь, мимо большого дома с гранитными колоннами. У подъезда стоял грузовик, красноармейцы грузили в него мебель. Рядом с грузовиком они заметили болезненного вида мужчину в белой папахе и женщину, закутанную в шаль.
Женщина окликнула Пашу по имени:
— Вы меня не узнали?
Паша посмотрел ей в лицо. Что-то знакомое, но где он ее видел, вспомнить не мог.
— Ирина Габриелян. Наверное, я сильно изменилась.
— Господи, — вскрикнул Паша. Он хотел что-то сказать еще, но осекся. К ним подошел человек в папахе.
— Познакомься, Евсей, — сказала ему Ирина. Это наш товарищ из Тифлиса.
Евсей неуверенно протянул руку.
— Из Тифлиса?
— Это друг, — сказала Ирина.
Паша пожал протянутую ему безжизненную руку.
— Нам нужно торопиться, — сказал Евсей.
— Мы уезжаем, — сказала Ирина. — Нас переводят на другую работу. В Ташкент…
* * *
…Год 1932-й был для Веты примечателен двумя событиями: она родила Татку и закончила «Песни западных армян». Ни одно из этих событий большой радости Вете не принесло. Наверное потому, что жизнь ее с Данилой разладилась. Вета знала, что у Данилы связи с женщинами и с этим смирилась. Данила часто уезжал в Москву. Он стал модным театральным художником. Его приглашали Мейерхольд и Таиров, он оформлял балетные спектакли в Большом. Данилины командировки длились месяцами, ему даже выделили небольшую квартирку в театральном доме на Неглинной. Кто-то из знакомых не без удовольствия поведал Вете, что в Москве у Данилы «постоянная женщина», и она открыто называет Данилу мужем.
Сообщение о том, что Вета беременна, Данила воспринял спокойно. Немного удивился.
— Постой, мы, кажется, уже давно…
— Нет, все сходится. Это было в январе, у тебя случился приступ нежности…
Они помолчали.
— Что думаешь делать? — спросил Данила.
— Буду рожать, — ответила Вета.
В мае Вета переехала на дачу в Толмачево. Дачу ей снял Лева.
— Тебе нужен свежий воздух.
Доехать до Толмачева было непросто. Поездом до Луги, а оттуда автобусом, по разбитой дороге.
На даче было хорошо. На деревьях появились липкие листочки, сквозь пожухлую прошлогоднюю листву пробивалась трава. Утром Вета надевала резиновые сапоги и по мокрой тропинке уходила в лес. Пробиралась на полянку, садилась на пенек и часами сидела неподвижно: смотрела на голубое небо, дышала воздухом, настоянным на березовых почках.
Лева приезжал каждую субботу. Привозил листы корректуры.
Несколько раз приезжала Лида Файнберг. Держалась она уверенно, даже развязно. О случае в Москве не вспоминала. Кто-то сказал Вете, что у Лиды появилась новая пассия: студентка-первокурсница из Сибири.
Как-то раз, это было уже в июне, приехал Данила. Притащил рюкзак с вином и закусками. В тот день там были Лева и Лида. Пошли в лес вчетвером. Данила развел костер. Попытался устроить шашлык: нанизал кусочки мяса на сырые березовые прутья, бросил их в костер. По лесу пошел запах горелого мяса. Вино пили прямо из бутылок, стаканы прихватить забыли. Данила выхлебал из горла полбутылки водки и очень быстро захмелел. Прыгал через костер, ползал на коленях, хватал за ноги Лиду Файнберг. Домой, на дачу, Данилу вел под руки Лева. Данила сильно качался и скулил:
— Левочка, ты Вету люби, она хорошая…
На даче Даниле постелили тюфячок, и он сразу уснул, даже не сняв выпачканных в глине ботинок.
Однажды Лева приехал на дачу озабоченный. В издательстве приостановили работу над уже готовой к печати Ветиной книжкой. Лева бегал по инстанциям, пытался выяснить, в чем дело. Через знакомого в Главлите удалось узнать, что пришло письмо, подписанное академиком Орбеляном. В письме говорилось, что появление книжки осложнит отношения СССР с дружественной Турецкой республикой.
Лева так просто не сдавался. Побежал к Фихтенбауму. Тот искренне возмутился:
— Орбелян? Я этого так не оставлю.
Позвонил в обком, в идеологический отдел. Те связались с ЦК. На счастье, в Москве готовилась декада армянского искусства, и Ветина книжка пришлась очень кстати. В издательство позвонил ответственный товарищ из Москвы и сурово посоветовал:
— Книгу Дадашевой издавать массовым тиражом. Об исполнении доложить.
Редактор побледнел и распорядился приостановить все плановые работы; пустить «Песни западных армян» в производство вне очереди.
Вета переносила беременность на удивление легко. Даже в июле ходила гулять в лес. Допоздна сидела на верандочке, смотрела в негаснущее небо, прислушивалась, как внутри нее зреет новая жизнь.
В августе ей стало хуже. Появились тянущие боли в животе. Доковыляла до почты, позвонила домой. Данилы, конечно, не было. Дозвонилась до Лиды.
— Заберите меня. Мне худо.
Назавтра Лида приехала с Левой. Машину достать не удалось. Собрали вещички, до автобуса шли пешком. Идти было тяжело. Болел живот, и кружилась голова.
Вету положили в клинику Отта на обследование, пролежала она там две недели. Врачи опасались осложнений. Обошлось. Ее отпустили домой.
Схватки начались в конце сентября, на две недели раньше срока. Вету сразу же увезли в роддом. Роды были тяжелые, почти непрерывные мучительные схватки. В какой-то момент ее сознание отключилось, она чувствовала нестерпимую боль и видела мелькающие вокруг нее белые халаты. Боль прекратилась и ей протянули красный кусочек мяса.
— Что это? — спросила Вета.
Чей-то голос сказал:
— Это твой ребенок. Девочка…
Через неделю ее выписали домой. Вета спустилась по лестнице в вестибюль, прижимая к себе розовый сверток. В вестибюле стоял Лева с огромным букетом цветов.
— Я заказал такси. Сейчас приедет.
От темной стены отошел Ника Фредерикс. Подошел к Вете, поцеловал ее в щеку. Осторожно взял у нее из рук сверток.
— Такси не надо. Мы поедем на моей машине.
Они подошли к большому черному автомобилю. Шофер открыл дверцу. Вета обернулась.
У дверей роддома стоял растерянный Лева с букетом в руках.
* * *
… Роман Веты с Никой Фредериксом начался два года назад, промозглым октябрьским вечером. Вета вышла из зыбовского дома и медленно двинулась по Исаакиевской площади в сторону Синего моста. Было ветрено, накрапывал дождь. Ехать на Зверинскую не хотелось. Дома было пусто и холодно. Ника возник неожиданно, материализовался из осенней питерской мглы. Увидел Вету, подошел к ней. Протянул зонт.
— Вы куда?
Вета не нашлась, что ответить. Ника взял ее за руку.
— Идемте. Я знаю здесь одно место…
Они прошли темными дворами Герценовского института, вышли на Невский, куда-то свернули и оказались в маленьком уютном кафе.
Нику здесь знали. Их усадили за угловой столик. Пожилой официант угодливо наклонился.
— Не изволите водочки… для сугреву…
Ника посмотрел на Вету, она молча кивнула.
Водку Вета не любила, пила редко. Но сейчас водка пришлась удивительно кстати.
Вета подержала в руке запотевший стаканчик, поднесла ко рту и проглотила одним духом, как ее когда-то учил Данила. Сразу стало тепло и весело. А Ника уже протягивал ей второй стопарь, пододвинул хрустальную вазочку с черной икрой.
Вета давно так красиво не пила и не ела. Им принесли какую-то удивительную уху, а к ней холодное белое вино в высоких бокалах. Потом они ели дичь и опять пили вино, теперь красное. Вета пила, ела, смеялась и болтала без умолку. Ей давно не было так хорошо. Словно она опять была в Тифлисе. А Ника больше молчал, подливал Вете вино, накладывал ей в тарелку мясо, поливал соусом. Когда они вышли из кафе, часы на башне Думы пробили одиннадцать.
Они постояли несколько минут на углу Невского. Вета опять с ужасом подумала о холодной квартире на Зверинской.
Ника взял ее за руку, наклонился и тихо сказал:
— У меня есть предложение. Идемте ко мне пить кофе. Это недалеко…
Они шли дворами. Вновь перед ними возникла Исаакиевская площадь. Они вышли на Мойку, прошли мимо мрачного дома с гранитными колоннами. Ника достал ключ из кармана, открыл входную дверь. Они вошли в какой-то другой мир, и опять Вета вспомнила Тифлис. Мраморная лестница, огромный ковер, начищенные до блеска медные ручки. Им навстречу вышел швейцар, узнал Нику, поклонился.
Они поднялись на второй этаж, щелкнул замок, и оказались в Никиной квартире. Вета медленно шла по темному паркету. Старинные гравюры, толстые книги в застекленных шкафах. Огромный письменный стол из орехового дерева. Глубокие кожаные кресла. Особый, знакомый с детства запах отцовского кабинета, запах сигар, коньяка и дорогого одеколона. Она обернулась. Перед ней стоял Ника с подносом: чашки с дымящимся кофе и маленькие стаканчики с ликером. Вета осторожно взяла поднос из рук Ники, поставила его на столик перед дверью. Затем подошла и провела рукой по его щеке.
…Они встречались редко. Каждый раз звонок Ники раздавался именно тогда, когда он был нужнее всего. Вот и сейчас, Данилы нет, исчезли, словно растворились, друзья и знакомые. Вета одна, сидит у окна в пустой квартире, глядит на желтоватое ночное петроградское небо.
— Жду завтра на Мойке. В шесть.
Весь день Вета смотрит на часы, время тянется медленно. В полшестого она выбегает из библиотеки, на ходу надевает шубку, открывает тяжелую дверь. На Исаакиевской холодно, бьет в лицо колючий снег. Знакомая фигура на мосту. Вета замедляет шаг.
— Ника. Вы? Какая странная встреча…
Ника не отвечает, берет за руку, ведет к дому на набережной.
Они почти не разговаривают. Ника протягивает ей стакан с горячим пуншем. Вета пьет маленькими глотками обжигающую жидкость. По телу разливается тепло, сразу исчезают страх и неловкость. Она первой идет в спальню и стаскивает с себя платье. Ей нравится развязывать Никин галстук, расстегивать ему запонки, даже расшнуровывать ботинки. Они лежат неподвижно в огромной старинной кровати с балдахином. Она чувствует на себе Никины руки, его губы, прерывистое дыхание… Она никогда не испытывала с Никой болезненной страсти, которую неизменно вызывал у нее Данила. Любовь Ники спокойна и размеренна, как, кажется, все в его жизни.
Около полуночи Вета встает и идет в ванную. Когда она выходит, Ника уже одет и причесан. Протягивает ей рюмку шартреза. Вета целует Нику в щеку, натягивает шубку, быстро пробегает по лестнице мимо недремлющего швейцара. На набережной ее ждет такси.
Связь с Никой придала Вете устойчивость, заполнила пустоту. Весной, когда дни стали длиннее, а лед на Мойке потемнел и растрескался, они стали встречаться чаще. Вета несколько раз оставалась у Ники на ночь.
Однажды, после продолжительной близости, с Никой что-то случилось. Они лежали, прижавшись, отхлебывали по очереди густой портвейн из пузатой бутылки, и Ника рассказал Вете свою жизнь. Он говорил об отце, генеральном представителе «Сименс и Гальске» в Питере, про учение в Петершуле, развеселую жизнь в Германии и Италии. Он рассказал, как познакомился с Зыбовым, как они собирали деньги на Институт искусств… О последующих годах Ника говорил менее подробно. В 1918 году отец вернулся в Германию. А Ника остался здесь, в Питере, стал работать в германском посольстве. Потом в консульстве, когда посольство переехало в Москву. Теперь он — атташе по культуре…
— Но ты же русский, Ника…
— Такой же, как ты — армянка. Я — русский немец. Ни я, ни отец не отказались от немецкого подданства. Даже во время войны…
— Вас не арестовали, не интернировали…
— Нет. У отца всегда были связи…
Ника показывает Вете свою коллекцию. Портреты Шаляпина, Рахманинова, партитуры Глазунова, Скрябина… Все с посвящениями… «Дорогому Фредериксу»… «Несравненному Нике…» А в этом шкафу — все о балете. Туфелька Кшесинской. Туника Карсавиной. Фотографии всех прим Мариинки и Большого, и тоже с автографами. А здесь — эскизы декораций и костюмов. Серов, Бакст, Бенуа. А вот и недавние — узнаешь? Конечно, Вета узнает Данилины эскизы к «Пиковой даме»… Из папки выпадает конверт. Там — фотография Данилы, а с ним очень красивая женщина в костюме Баядерки.
— Кто это? — спрашивает Вета.
— Ты не знаешь? Это Асадова, восходящая звезда Большого.
Вета подносит фотографию к глазам. Она вспомнила. Об этой женщине говорили, что она — новая любовь Данилы.
— Это та самая?
Ника не отвечает. Прячет фотографию в конверт и закрывает шкаф.
Как-то раз Ника куда-то вышел, и Вета осталась одна в кабинете. Подошла к книжной полке, провела рукой по корешкам. Что-то щелкнуло, полка разъехалась и за ней обнаружилась пустота. Вета протянула руку и вытащила пачку фотографий. На них были военные корабли, подводные лодки и улыбающиеся моряки. Вета обернулась. Перед ней стоял Ника с тонкой сигарой в руке. Он взял у нее фотографии.
— Мое хобби — морской флот. Кроме моего отца и меня, все у нас в роду были моряки.
— А у нас все — сухопутные… Разве что Марк, — сказала Вета и осеклась…
— Я знаю, — сказал Ника, спокойно пересчитал фотографии, положил их в сейф и нажал на невидимую кнопку. Полка задвинулась.
— Марк работает у Кребса.
— Откуда ты знаешь? — спросила Вета.
— Барон Кребс — мой двоюродный брат.
Фотографии с кораблями не давали Вете покоя. Однажды, после близости, она отодвинулась от Ники и посмотрела ему в глаза.
— Скажи, Ника, ты — шпион?
Ника ответил очень спокойно:
— Нет, Вета, нет.
— Так кто же ты?
— Я просто очень люблю родину…
— Какую, Ника?
— У нас одна родина, Вета…
Однажды Ника сказал:
— Я знаю, у тебя скоро день рождения… Я хочу, чтобы ты сама выбрала себе подарок…
Они поехали в Торгсин, в Гостиный двор. В таких магазинах Вета раньше не бывала, хотя много о них слышала. Запах дорогих духов и сигарного дыма. Приглушенная иностранная речь. Улыбающиеся продавцы.
— Чего желает сударыня?..
Ника знает продавцов по имени.
— Что нового из парфюмерии, Степан Степаныч?
— Извольте взглянуть… Набор Коти… Только что доставили…
Вета сжимает в руках дорогой флакон. Подносит к лицу…
— Тебе нравится?
Вета молчит. Закрывает глаза… Степан Степаныч укладывает набор в фирменный пакет, перевязывает розовой ленточкой.
— Заходите еще, мадам…
В машине Ника протягивает Вете маленькую коробочку.
— А это — мой выбор…
Вета открывает коробочку. Там — бриллиантовое колечко в золотой оправе.
Вета мурлыкает.
— Ник, ты сошел с ума…
Их роман продолжался уже год. Все это время Вета упорно и безуспешно пыталась достать денег на кооперативную квартиру. Об этом кооперативе ей впервые сказал Данила, когда у них были еще хорошие отношения. Собственно, разрыва у них не было и сейчас. Просто виделись они редко и мало общались. Кооператив работников искусств запланировал строить дом на Каменноостровском, рядом с кинофабрикой, там, где до войны был ресторан «Аквариум». Два года назад, когда Вете дали аванс за книгу, они сделали первый взнос. Теперь подошло время вносить основной пай. Издание книги задерживалось, и на гонорар рассчитывать не приходилось. Данила отмалчивался. Он аккуратно платил за квартиру на Зверинской, и время от времени присылал Вете на жизнь. Вета несколько раз заводила с ним разговор о кооперативе. Он отвечал неопределенно.
— Вот поставят «Баядерку»… вот поставят «Леди Макбет»…
А денег все не было. И Вета решилась.
Было воскресенье и они встретились с Никой раньше обычного. После обычной рюмки шартреза Вета перешла к делу.
— Ника, мне нужны деньги. Много денег.
Ника открыл бумажник.
— Сколько?
— Подожди, Ника, не торопись. Посмотри сперва на это.
Она протянула Нике маленький голубой конверт.
Ника надел пенсне и открыл конверт. Достал десятирублевую банкноту и карточку.
— Что это, Вета?
— Это счет на предъявителя. В цюрихский банк.
— На какую сумму?
— Что-то около миллиона. Золотом.
— В каком году?
— В 1907-м.
Ника встал из-за стола, прошелся по кабинету. Подошел к окну, достал сигару, закурил.
— Ты представляешь, сколько это сейчас?
— Нет, Ника, не представляю.
— А я тебе скажу… — Ника достал конторские счеты и постучал костяшками: — На сегодняшний день это около десяти миллионов швейцарских франков…
Вета обрадовалась.
— Вот и замечательно, Николя! Забирай эти миллионы себе. А мне выдай, — она поморщила носик, — двадцать тысяч червонцев.
Ника открыл ключом верхний ящик стола. Достал пачку банкнот. Пересчитал.
— Здесь 50 тысяч долларов. По обменному курсу это — чуть более 25 тысяч червонцев. Сейчас мы едем в торгсин, и я там вручу тебе требуемое… А это…
Ника аккуратно положил банкноту и карточку в конвертик и протянул его Вете.
— Это твое, запомни, это твое. Спрячь это получше…
Он минуту подумал.
— Нет, лучше отдай на сохранение… В надежные руки…
Вета с мольбой посмотрела на Нику:
— Может быть, ты… Я тебе верю…
Ника покачал головой.
— Нет, Вета. Мне нельзя.
* * *
…В первый раз Марк увидел Юлю зимой 1936-го, в столовой, в доме на Березовой. Ровно в двенадцать лабораторию во флигеле закрывали на ключ, и все отправлялись на обед — тропинкой, между сугробов — в главное здание. Марк обычно садился в сторонке, раскрывал газету и, не отрываясь от нее, быстро проглатывал дежурное блюдо — голубцы или сырники со сметаной. Но в тот раз он почувствовал на себе чей-то взгляд. Отложил газету, посмотрел по сторонам. За столиком у окна, там, где всегда щебетали девицы, он увидел новое лицо. Блондинка с острым носиком смотрела на него большими серыми глазами. Марк почувствовал неловкость. Быстро доел сырники, проглотил стакан холодного компота, засунул газету в карман и пошел к выходу. У дверей он обернулся. Блондинка все еще смотрела на него и улыбалась.
А на следующий день Марк увидел ее в лаборатории. Ее привел Кребс.
— Познакомьтесь. Наша новая чертежница. Будет работать с вами вместо Людмилы Васильевны.
Марк протянул руку.
— Очень приятно. Как вас зовут?
— Меня зовут Юля. А вы Марк?
— Откуда вы знаете?
— Мне о вас рассказали девочки… Я вас видела в столовой… Вы знаете, это очень вредно — читать во время еды…
Марк не ответил. Он не любил, когда ему делали замечания.
Работала Юля быстро и умело. Чертежи приходили в срок и почти без ошибок. Юля неплохо рисовала и даже сочиняла стихи. Часто сотрудники лаборатории находили у себя на столах смешные шаржи со стихотворными посвящениями. Марк был изображен поглощающим огромную булку, завернутую в газету, из которой выползал таракан. Все, кроме Марка, долго смеялись. Вскоре Юлины таланты были замечены, и профорг Нудельман привлек ее оформлять лабораторную стенгазету.
Как-то весной у них было срочное задание, они засиделись в лаборатории допоздна — нужно было выправить чертеж. Сдали чертеж на синьку, расписались в книге, отметили пропуска на вахте. Вышли на Березовую аллею, пошли в сторону Каменноостровского. Долго стояли на остановке. Трамвая не было.
— Идемте пешком, — сказала Юля.
Когда они добрались до Троицкого моста, Марк спросил:
— А где вы живете, Юля?
— Я на Гороховой. А вы?
— Мой дом уже позади. Я вас провожу… Вы не торопитесь?
Они перешли Неву и по Садовой добрались до Гороховой.
— Вот мой дом, — Юля остановилась у трехэтажного дома с облупившимся фасадом, — моя квартирка там, во дворе. Спасибо, что проводили.
Она протянула Марку руку в шерстяной перчатке.
Марк не уходил.
— Юля, давайте поедем в Детское Село…
— Когда?
— Да хоть в воскресенье.
— В это воскресенье не могу. У меня соревнования по лыжам. В ЦПКиО.
— Тогда в следующее…
— Мы договоримся. Пока!
Юля исчезла в темной подворотне.
В Детское они выбрались только в апреле. День был теплый и солнечный. На Юле была лыжная шапочка, короткая курточка с меховым воротничком, меховые сапожки. Марк взял с собой «лейку» и все время делал снимки. Юля на фоне Екатерининского дворца. Юля у Камероновой галереи, Юля у Плачущей девы. Они обошли Большой пруд, прошли Турецкую баню, вышли к Мраморному мосту. Марк попросил Юлю встать у перил.
— Я сниму вас снизу, со льда, будет очень эффектный кадр.
— Не выходите на лед. Провалитесь! — крикнула Юля.
Марк ее не услышал. Он спустился по крутому откосу, ступил на лед. Лед показался крепким. Марк шел, медленно переставляя ноги, чтобы не поскользнуться. Выбрал место получше, как раз посередине канавки. Юля сняла шапочку. На солнце ее волосы отливали золотом.
Марк поднял камеру. Лед у него под ногами треснул, и он стал уходить в черную воду. Первой мыслью у Марка было не замочить камеру. Он поднял ее высоко над головой.
Юля что было силы закричала:
— Помогите!
Ее не услышали. Парк был пуст.
Юля подбежала к берегу. Марк стоял по пояс в воде, высоко подняв руки с камерой. Он был очень бледен.
Юля стала медленно идти по льду в сторону Марка. Лед трескался у нее под ногами. Юля легла на лед и поползла.
— Подходите ближе. Дайте мне руку.
— Я не могу двинуться, — сказал Марк, — ноги увязли в иле.
Юля подползла ближе и схватила Марка за руку. Он не выпускал камеры. Юля медленно потащила Марка к берегу.
Когда они выбрались на берег, солнце уже садилось. Они сидели на берегу, мокрые и грязные, прижавшись друг к другу, пытались согреться.
— Вам нужно срочно выпить водки.
— Я не пью водки, — сказал Марк.
Юля зашла в гастроном, купила «мерзавчик». Пили они по очереди, прямо из горлышка.
В поезде Марк не отпускал Юлиной руки.
— Я вас очень люблю, Юля. Будьте, пожалуйста, моей женой.
— Я подумаю, — ответила Юля.
Расписались они в июне в Петроградском ЗАГСе, на улице Скороходова. Свадебный пир был у Мишеньки. Раздвинули большой стол. Мишенька извлек с антресолей припрятанное после революции столовое серебро. Марк волновался, как примут его новые родственники. Юлин отец, Федор Федорович, был механик, всю жизнь проработал мастером на Балтийском заводе. А мама — из крестьян.
Тесть по случаю торжества приоделся: шелковый галстук, целлулоидный воротничок, накрахмаленная манишка. Приняли родителей невесты хорошо, тем более, тесть, по выражению Кати Гросс, оказался «отъявленным контриком». Подвыпив, Федор Федорович осмелел:
— Ну что они со страной сделали!.. Разворовали, разбазарили… Нельзя нам без хозяина, нельзя…
Мишенька, сам уже пьяненький, соглашался:
— Именно нельзя, без хозяина и без городового…
Паша не выдержал, встрял:
— Ну что вы, господа, нельзя же так… Широкая демократия предполагает…
Выпили еще, и на Федора Федоровича напало слезливое настроение. Он обнял Мишеньку, расцеловал в обе щеки:
— Нет, что ни говори, брат, и среди евреев попадаются приличные люди.
Мишенька, будучи православным, к евреям себя не причислял.
— И не говори, Федор Федорович, не говори. Да и среди нас, русаков, сволочей в достатке…
Тесть гнул свое, повернулся к Юле:
— И Маркушка твой душа-человек, хоть и еврей…
— Он армянин, папа, — быстро сказала Юля.
— Этта, Юлька, один черт!
Юля сделала знак матери:
— По-моему, вам пора домой…
Медовый месяц Марк и Юля провели в деревне Шапки, под Тосно. У Юлиных родителей с довоенных времен там был домик. Пристройка при большой крестьянской усадьбе, которой когда-то владел дядя Семен, Юлин крестный. В коллективизацию дядю Семена раскулачили. Его и пятерых его сыновей выслали на Север, в Ухту. В доме поселили пропойц из комитета деревенской бедноты. Дядя Семен вернулся год назад, постаревший и спившийся. Сыновья разбрелись по России.
По случаю приезда молодых деревня пила три дня. Во дворе поставили огромный стол. Нанесли видимо-невидимо самогона, соленых грибов, дымящихся горшков с картошкой. Надрывались гармошки, нестройно пели бабы. Марк старался не пить, но два стакана самогона в него влили почти насильно. У него закружилась голова. Он встал из-за стола, его сильно качнуло. Он с трудом добрался до изгороди, долго блевал в бурьян, держась рукой за трухлявый штакетник.
Ночью он проснулся. Мучительно болела голова, хотелось пить. Рядом ровно дышала Юля. Из окна доносился лай собак и протяжные переливы гармошки.
* * *
…Когда ранней весной 1937-го Вете позвонили из кооператива и сказали, что нужно срочно вселяться, Данилы, как всегда, в городе не было. Он оформлял спектакль в Новосибирске, там открылся театр оперы и балета. Перевозил Вету Марк, ему выделили грузовичок и двух краснофлотцев. Выглядел Марк усталым — в начале зимы Юля родила сына, Федю. Жили все они в одной комнате в Мишенькиной квартире на Каменноостровском (теперь он назывался Кировским). По ночам Федя спал плохо, просыпался каждый час. Марк уходил на работу рано утром, злой и невыспавшийся.
Пожитков у Веты было немного; перевезли одним рейсом. Вета сидела в кабине. Прижимала к себе Тату. Ей уже шел пятый год. Тата обнимала Вету за шею ручонками. Смотрела на мир большими и умными глазками.
Через месяц объявился Данила. Вошел в квартиру, осмотрелся. Квартира ему понравилась. Весенний день уже клонился к вечеру. Мебели в комнатах почти не было, и вся квартира была наполнена призрачным вечерним светом. К Даниле подошла Тата, попросилась на ручки. Данила прижал Тату к себе и стал целовать ее шелковистые волосы.
С того дня Данила изменился. Стал реже уезжать в Москву. Обходил комиссионные магазины, покупал старинную мебель. Привез картины. Эскизы к спектаклям. В столовой повесил большую картину Кустодиева — своего учителя: «Москва купеческая». А в спальне, над большой из красного дерева двуспальной кроватью появился портрет Веты. Его нарисовал в самый первый год Ветиного приезда в Ленинград один художник, приятель Данилы. Портрет был выдержан в темных тонах; на Вете — черное кружевное платье и агатовое ожерелье.
В их доме поселились киношники, писатели, композиторы. В квартире напротив жил Шостакович, а этажом выше — Адриан Пиотровский, директор Ленфильма. Ходили друг к другу в гости. Много пили. Рассказывали анекдоты.
Каждый день Вета брала Тату и шла с ней гулять в парк Ленина, так теперь назывался Александровский сад. Тате очень нравилось карабкаться по гранитным волнам памятника «Стерегущему».
Однажды, это было в мае — деревья в парке уже зеленели — Вета почувствовала, что за ней кто-то идет. Обернулась и увидела высокую красивую женщину в шелковом платочке. Вета остановилась. Тата убежала играть в песочницу. Женщина стояла перед Ветой, смотрела на нее в упор.
— Что вам нужно? — спросила Вета.
Женщина достала из сумочки золотой портсигар. Закурила. Посмотрела на Тату. Ухмыльнулась.
— Что, берешь на живца?
Вета испугалась.
— Уходите! Я позову милицию!
Женщина не уходила.
— Сама убирайся в свой вонючий Тифлис! Не уберешься — хуже будет.
Женщина повернулась и быстро зашагала по аллее. И тут Вета вспомнила, где она видела это лицо — большие цыганские глаза и нос с горбинкой. На фотографии, которую ей показал Ника Фредерикс. Это была балерина Асадова.
…В Ленинграде исчезали люди. По ночам во дворы заезжали машины, хлопали двери, на лестнице слышались приглушенные голоса. А на завтра — пустой стол в конструкторском бюро. Пустые кресла на абонементном концерте в филармонии.
А по радио — веселая музыка и радостные лица в кинохронике. Героический дрейф папанинцев. Героический перелет через Северный полюс. Героическая борьба республиканцев в Испании. Фашизм не пройдет! Но пасаран!
Все началось холодным декабрьским утром 1934-го, когда какой-то выродок застрелил Кирова. Подкараулил в темном коридоре Смольного и выстрелил в затылок.
Так случилось, что на следующий день, рано утром, Вета была на Московском вокзале, встречала писателя, который приезжал на «Красной стреле». Вдруг по перрону побежали красноармейцы в синих фуражках, стали выталкивать людей с перрона. Вета обернулась и увидела недалеко от себя Яню Гаранова. За ним шел человек в кожаном пальто, низкорослый, темнолицый с рыжими усами. К нему подбежал высокий, в генеральской шинели. Низкорослый что-то кричал и размахивал левой рукой. До Веты донеслось:
— … Не уберегли, просрали… говнюки!..
А на следующий день во всех газетах фотографии Кирова в траурной рамке и крупными буквами: «погиб от руки убийцы, подосланного врагами рабочего класса». А потом пошли сообщения об арестах террористов-белогвардейцев. «Дела рассматриваются ускоренно… Без участия защиты и обвинения… Приговоры о расстреле приводятся в исполнение немедленно…»
И пошло, поехало… В Ташкенте арестовали Заруцкого, привезли в Москву, судили вместе с другими старыми партийцами. Заруцкий на суде во всем признавался. Как стал германским шпионом. Получал задания от Троцкого. Отравил Горького. Заруцкого, как и всех его подельников, расстреляли. Говорили, что когда Заруцкого вели на расстрел, он истерически смеялся.
Летом 37-го запретили Ветину книжку. В секретном распоряжении было сказано, что она «крайне вредна идеологически». Книжку изъяли из библиотек и забрали с книжных складов. Фихтенбаум на этот раз ничем помочь не смог. Его знакомый из идеологического отдела был арестован. Через два года, когда уже Веты не было в живых, к очередной декаде армянского искусства вышла богато иллюстрированная книга академика Орбеляна «Сказки и песни армянского народа». В этой книге было семь записанных и переведенных Ветой песен. Источник указан не был.
* * *
… В июне Лева Лилиенталь переехал на новую квартиру, на пятом этаже в доме на Дворцовой набережной. Квартирка была маленькая — комнатка и кухня, но с восхитительным видом на Неву и Петропавловку. Лева сказал, что это — наследство от дядюшки искусствоведа, всю жизнь проработавшего в Эрмитаже.
Устроили шумное новоселье. Гостей было много — бывшие соученики, литераторы, искусствоведы. Вета сделала Леве замечательный подарок — роскошно изданный альбом «Мир искусства». Надписала: «Милому, милому Леве. С любовью. Вета».
Подарок отдала Леве на кухне. Раскрыла альбом. Там между страниц лежал приклеенный клейкой лентой синий конвертик.
— Смотри, Лева, не потеряй. Я потом тебе все объясню.
Но в тот вечер объяснить не успела. А гости все приходили. Киношники, композиторы, поэты, многие были из Ветиного дома. Некоторых Лева видел впервые. К нему подошел Адриан Пиотровский, директор Ленфильма, представил молодого блондина.
— Лева, познакомьтесь. Это Витя Голанд. Очень талантливый сценарист.
Молодой человек протянул Леве холодную руку.
Было весело. Рассказывали анекдоты. Смеялись. Разошлись под утро.
Витя Голанд остался.
— Я вам помогу убрать со стола.
Надел фартук. Быстро убрал и перемыл посуду. Посмотрел на Леву колючими зелеными глазами.
— Можно я приму душ?
Вышел из душа в плавках. Протянул Леве стакан.
— Давайте выпьем еще вина.
Они выпили и Витя Голанд тут же налил еще.
У Левы закружилась голова. Он сел на койку и закрыл глаза. Почувствовал, что Витя Голанд расстегивает ему рубашку, стягивает с него брюки.
— Что вы делаете? — хотел крикнуть Лева, но не успел и завыл от боли и наслаждения.
* * *
… Осенью уехал Ника Фредерикс.
Позвонил днем.
— Буду тебя ждать в шесть у «Стерегущего».
Последнее время они виделись редко, раз в два-три месяца. Ника сильно изменился, постарел.
Накрапывал дождь. Ника взял Вету за руку, и они медленно пошли по мокрой мостовой в сторону Невы.
— Я уезжаю, — сказал Ника.
— Когда? — спросила Вета.
— Сегодня вечером. Поездом в Гельсинфорс.
— Надолго?
Ника пожал плечами.
Вете вспомнились строчки из Байрона, Fare thee well, and if forever…
Ника молчал. Вета остановилась и крепко сжала Никину руку:
— Ника, не уезжай! Мне страшно, Ник…
Ника прижал Вету к себе, поцеловал в губы.
— Не бойся, Вета. Я вернусь. Скоро…
Они некоторое время шли молча. Потом Ника остановился и стал громко шептать Вете в ухо.
— Слышишь, Вета! Скоро весь этот кошмар кончится. Будет война, скорая и бескровная. И все они сгинут, фашисты, коммунисты, все. Мы будем свободны и счастливы. Мы будем богаты, Вета!
Они некоторое время стояли неподвижно, обнявшись. Потом Вета оттолкнула Нику.
— Прощай!
Ника повернулся и пошел, не оборачиваясь.
* * *
…Ветина жизнь прервалась в ночь на 2 февраля 1938 года. Накануне у них с Данилой допоздна были гости. Вете показалось, что она не успела даже закрыть глаз, как в передней затрещал звонок. Накинула халат, пошла открывать.
Что было потом, она видела смутно. Словно это было не с ней, а она остранилась. Кажется, в комнату вошло несколько человек, двое военных, один штатский и еще один штатский — управдом Сидорычев. Ей показали какую-то бумагу.
— Распишитесь здесь…
Вытащили ящики из стола и вывернули содержимое на пол — бумаги, фотографии, старые письма. Сбросили на пол книги и картины, простучали пальцами стены.
Потом Вету увезли. Она успела поцеловать колючую щеку Данилы. Взяла на руки Татку, коснулась губами ее щек. Татка спала на удивление крепко. Не проснулась. Только чмокнула во сне губками.
Вету везли в закрытом кузове. Под потолком тускло горела лампочка. В углу — красноармеец с ружьем. Окон в кузове не было, но Вета зажмурилась и очень отчетливо увидела свой последний путь. Они проехали по пустому Каменноостровскому, мимо «Стерегущего», выехали на Троицкий мост. Обогнули памятник Суворову, проехали мимо Летнего сада, свернули на Шпалерную. Машина затормозила. Послышались голоса и лязг открываемых ворот.
Ветина смерть дурно пахла — когда за ней захлопнулась дверь, ее обступили запахи — карболки, экскрементов и человеческого пота. И уймища бумаг. Смерть была налаженным бюрократическим производством.
— Ваше имя, отчество, год рождения. Где родились? Тифлис? Такого города нет. Как он называется сейчас? Дбилиси?
— Вы неправильно написали.
— Не учите меня. Я правильно написал: Дби-ли-си… У людей, которые ее допрашивают, одинаковые лица. Когда они заполняют бесчисленные бумаги, морщат лоб и кусают ногти.
— Социальное происхождение? Из дворян?..
— Муж? Художник?..
— Образование? Среднее… незаконченное высшее…
— Место работы? Нет постоянного места работы? На содержании мужа? Так и запишем: иж-де-вен-ка…
— Где содержится… Лентюрьма УГБ НКВД…
— Распишитесь здесь…
— Ваш тюфяк… Получила… Распишитесь здесь…
Ветин ад состоит из коридоров и душных камер.
— Повернитесь лицом к стене… Руки назад…
— Ваше место в углу…
Сокамерницы тоже все на одно лицо. Расспрашивают. Дают советы.
— Ничего не подписывай. Ни в чем не сознавайся…
— Мне не в чем сознаваться…
— Все равно ничего не подписывай… Это смерть…
— А если не подпишу, отпустят?
— Дадут срок… Пошлют на лесоповал…
— Далеко?
— Сибирь…
Вета водит ложкой по дну алюминиевой миски.
— Ты ешь. Тебе силы нужны…
Вета делает несколько глотков.
Дни и ночи слились в бесконечные сумерки.
Лязгает замок. В камеру входит огромного роста военный.
— Всем встать!
Военный проходит вдоль ряда построившихся. Всматривается в лица. Останавливается напротив Веты.
— Что, новенькая?
Вета кивнула. Военный треплет ее по щеке.
— Отвечать по форме: так точно!
У Веры по спине пробежал холодок.
— Кто это? — спросила она у соседки, когда дверь с лязгом захлопнулась.
— Майор Поликарпов. Комендант.
А кто-то сверху добавляет:
— Командир расстрельной команды.
Прошла вечность, и Вету вызвали на первый допрос. Опять бесконечные коридоры.
— Руки назад. Лицом к стене.
Кабинет будничный. Закрашенные белой краской окна. Портрет Дзержинского на стене. Маленький блондин в лейтенантской форме за письменным столом согнулся над бумагами. Опять все сначала.
— Имя, отчество, год рождения. Где родились?
На этот раз без ошибки: Тбилиси… Лейтенант уже не спрашивает, подсказывает ответы, не отрываясь от бумаг:
— Из дворян… Отец нефтепромышленник…
— Мой отец правозащитник, адвокат. Он помогал большевикам.
Лейтенант поднимает глаза. У него красные от бессонницы глаза.
— Здесь записано «нефтепромышленник».
— Это ошибка.
— Разберемся…
Лейтенант опять погружается в бумаги.
— Расскажите про ваши контакты с иностранцами.
Вета немного оживляется. Откидывается на стуле.
— Начиная с Тифлиса?
— Да!
— В Тифлисе я училась во французском лицее. Там все преподаватели были иностранцы. Французы. Один из них сделал мне предложение…
— Дальше.
— У нас в доме жил английский офицер. Он очень за мной ухаживал…
— А здесь, в Ленинграде?
— Здесь я с иностранцами не встречалась.
Лейтенант опять поднимает на Вету красные глаза.
— Вы лжете, Дадашева.
— Я говорю правду. Клянусь!
— Вы знали Фредерикса?
— Господи, Ника? Так он же русский!
Лейтенант привстает на стуле и произносит торжественно:
— Фредерикс — агент германской разведки.
В кабинете тихо. Слышно, как где-то тикают часы.
— Вы были любовницей Фредерикса?
Вета отвечает чуть слышно:
— Нет…
— Опять лжете! У нас точные сведения.
Лейтенант берет со стола бумаги.
— Вот, что про вас тут написали… Артистку Асадову вы знали?
Вета не выдержала, закричала:
— Эта дрянь…
— Не ругайтесь. Ее заявление соответствует нашим агентурным сведениям. Фредерикс расплачивался с вами через торгсин?
— Ника раза два делал мне подарки…
— Чаще, Дадашева, чаще… Вот что пишет агент Семенов…
Вета вспомнила симпатичного Степан Степаныча, продавца из торгсина.
— Какие задания вам давал Фредерикс?
— Мы были просто друзья…
— Это он поручил вам написать идейно вредную книжку?
— Ника ничего не понимает в фольклоре…
— Будем отпираться? Зря. Ознакомьтесь и подпишите.
Лейтенант протягивает Вете несколько исписанных мелким почерком листков бумаги. Вета с усилием читает:
«Категорически отрицаю связь с представителями иностранных государств…»
— Подпишите и поставьте число.
— Какое?
— Уже 8 февраля.
… Лева Лилиенталь перешел Литейный, свернул на улицу Петра Лаврова. День был по-весеннему теплый и солнечный, из водосточных труб с грохотом падали и разбивались об асфальт глыбы льда. Лева вошел в парадную дома с чуть заметной вывеской «Комитет ОСОАВИАХИМ»[6], поднялся на третий этаж, позвонил два раза в звонок. Дверь сразу же открылась. Лева прошел по темному коридору и вошел в приоткрытую дверь. В комнате почти не было мебели: два письменных стола, шкаф и сейф. За столом сидели двое: один помоложе, другой постарше. Лева называл их по имени-отчеству, одного — Сергей Сергеевич, другого — Матвей Матвеевич. Так они представились восемь лет назад, когда Леву завербовали в осведомители.
Случилось это так. К ним в институт приехал искусствовед из Италии Антонио Вици. Итальянец писал книгу о древнерусском искусстве, и Леве поручили его сопровождать. С итальянцем они подружились. Антонио немного говорил по-русски, примерно так же, как Лева по-итальянски. Они вместе съездили в Новгород — итальянец фотографировал фрески Феофана Грека. Как-то уже перед самым отъездом Антонио они засиделись в институтской библиотеке. Выражение лица итальянца вдруг стало значительным. Он наклонился и тихо сказал:
— Лео, у меня к вам просьба от нашего общего друга, синьора Зыбова.
Лева насторожился.
— Не могли бы мы пройти в его кабинет.
Лева взял ключ на вахте. Они вошли в директорский кабинет. Лева включил свет.
Итальянец стал что-то измерять на стене. Потом достал из кармана маленький ключик и вставил его в едва заметное отверстие. Раздался легкий щелчок, и в стене открылся невидимый снаружи сейф. Итальянец запустил в сейф руку и вытащил несколько пыльных папок. Они открыли папки и разложили их содержимое на столе. Это были холсты и рисунки Врубеля, Коровина, Бакста, эскизы Малевича.
— Валентин очень меня просил привести все это ему в Рим…
Они отнесли картины в «Асторию» и аккуратно зашили их в подкладку чемодана. Антонио протянул Леве толстый конверт.
— Вам от Валентина.
Дома Лева раскрыл конверт. Там было десять тысяч долларов.
Итальянец уехал, и примерно через месяц Леве на институтский адрес пришла открытка с видом Венеции и двумя словами на обороте: Va bene!
А еще через месяц Леву попросили к телефону. Лева взял трубку и услышал незнакомый голос:
— Лев Соломоныч? Не могли бы вы на минуточку спуститься в вестибюль.
В вестибюле стоял молодой человек в большой коричневой шляпе и курил папиросу. Увидел Леву, пошел навстречу, протянул большую руку:
— Будем знакомы. Меня зовут Сергей Сергеевич.
Они вышли на площадь, и Сергей Сергеевич показал Леве маленькую красную книжечку, на обложке золотыми буквами было выбито ОГПУ. Лева почувствовал, как у него в животе опустились внутренности и потекла холодная струйка между лопаток.
Они вышли на бульвар Профсоюзов, пошли в сторону площади Труда. Лева едва передвигал ноги. Сергей Сергеевич все время что-то говорил, но Лева с трудом его понимал.
— Отчет? Я уже написал отчет в иностранную комиссию…
— Прекрасный отчет написали, Лев Соломоныч, отличный! Прочитали с огромным удовольствием! Но нам от вас нужон еще один отчетик, так сказать, приватный. С кем встречался ваш иностранец, какие завел контакты, что кому передавал… Усекаете, Лев Соломоныч?
У Левы от сердца отлегло. «Про картины не знают, не догадываются». Он быстро ответил:
— Усекаю… Напишу непременно…
— Вот и отличненько… Зайдете к нам через неделю на Петра Лаврова…
Лева поморщил лоб:
— Это Фурштадтская?
— Она самая. Дом 21, где ОСОАВИАХИМ, третий этаж, левая дверь, два звонка…
Через неделю Лева был на Фурштадтской. Вместе с Сергей Сергеевичем там был еще один чекист постарше. Представился Матвей Матвеевичем. Бегло просмотрел Левин отчет. Хмыкнул. Положил в синюю папку.
— А теперь давайте, Лев Соломоныч, говорить по существу. Вы — человек образованный, грамотный. Понимаете, как обострилась классовая борьба на данном этапе. В этих условиях нам ой как нужны грамотные люди, бойцы невидимого фронта. Вы ведь линию партии поддерживаете?
Лева заблеял:
— Я всегда поддерживал… Всецело… Да, человек я книжный… Мало кого знаю, ни с кем ни встречаюсь…
— Не прибедняйтесь, Лев Соломоныч, многих вы знаете. И не стесняются вас, говорят при вас в открытую. А вы запоминайте, кто, что, о ком… И к нам. А мы уж в долгу не останемся… Кстати, как у вас с жилищными условиями?
— Комната в коммуналке. На Пороховых…
— Можем поспособствовать…
— Да нет, правда, не смогу я вам помочь. Увольте!
Матвей Матвеевич посуровел.
— Да не удастся вам, Лев Соломоныч, отвертеться, не выйдет…
Он раскрыл синюю папку, вытащил Левин отчет.
— Не все вы тут расписали, Лев Соломоныч, ой не все…
И опять у Левы внутри что-то опустилось, и страх пополз по спине.
Подошел Сергей Сергеевич, положил перед Левой листок с напечатанным текстом. Буквы прыгали у Левы перед глазами.
«Я, нижеподписавшийся, обязуюсь оказывать всяческое содействие…»
— Подпишите и поставьте число.
Лева заскулил:
— Да я…
Сергей Сергеевич перешел на «ты»:
— Подписывай!
Лева взял ручку и криво расписался.
Приходил он в квартирку на Петра Лаврова регулярно, каждые два месяца. Всякий раз с подробным отчетом. Сперва мучался, плохо спал, появились боли в сердце.
Часто отчеты его браковали.
— Ну что ты тут понаписал? Все хорошие, все в одном строю… Откуда ж предатели и перерожденцы у нас берутся? А ну, иди в соседнюю комнату, там тихо, посиди, подумай…
Лева сидел, думал. Кусал ручку…
— Ну, вот так уже получше… Иди, работай…
…На этот раз Сергей Сергеевич и Матвей Матвеевич выглядели довольными. Говорил, как всегда, в основном Матвей Матвеевич; Сергей Сергеевич сидел тихо, поддакивал.
— Делаешь успехи, Лев Соломоныч, большие успехи. Твоя записка про зиновьевское гнездо в институте искусств пошла в оперативную разработку.
Лева покраснел:
— Да, что вы… Я же свой долг выполнял…
— Это и похвально, Лев Соломоныч, это и похвально…
Матвей Матвеевич встал и прошелся по узкому кабинету.
— Но вызвали мы тебя в неурочный час по другому делу. Успешно идет разработка связей германского шпиона Фредерикса. Ты с ним знаком?
— Мы изредка встречались.
— Знаю, знаю. А какие у тебя отношения с Дадашевой?
— А что с ней? У нее не отвечает телефон…
— Гражданка Дадашева арестована, находится под следствием.
Лева побледнел. Вскочил со стула.
— Не может быть! Она — честный, кристальной души человек!
Матвей Матвеевич встал напротив Левы, надавил ладонью ему на плечо.
— Ты слушай сюда, Лев Соломоныч! Дадашева попала в сети, запуталась. Ей помочь надо!
Лева бормотал:
— Ее нужно отпустить… Она честная, чистая…
Матвей Матвеевич говорил с Левой, как с ребенком.
— Конечно, отпустят твою Дадашеву. Только не сразу. Нужно объяснить ей, что к чему, что со следствием нужно сотрудничать…
Лева закрутил головой:
— Что нужно сделать?
— Мы тебя вызовем. Устроим вам очную ставку…
Лева опять вскочил со стула:
— Очную ставку? С ней? Никогда!
Сергей Сергеевич подошел к Леве сзади и слегка сдавил ему шею:
— Без истерик, Лев Соломоныч! Мало мы тебе помогали… Вот какую квартирку выхлопотали…
Лева сидел бледный. По его лицу катились крупные капли пота.
— Что я должен ей сказать?
* * *
… Вету стали опять допрашивать и, казалось, допросам не будет конца. Она сидит на маленьком неудобном табурете, а в глаза ей бьет ослепительный свет.
Вопросы те же самые.
— Когда завербовали?
— Какие давали задания?
— Где и с кем встречалась?
— Пароли? Явки?..
Вета устало отвечает:
— Нет… не знаю… не давали… не встречалась… я не понимаю, чего вы от меня хотите…
— Отойдите, станьте к стенке!
Вета стоит, прижавшись спиной к холодной стене. Закрывает глаза и куда-то улетает.
И тут же у самого уха, оглушительное:
— Не спать!
На Вету льется ледяная вода.
И опять неудобный табурет, и вопросы, вопросы, вопросы…
Лампа, направленная в лицо, на мгновенье тухнет, и Вета видит, что перед ней уже другой человек, черненький, густые волосы с сединой, пушистые усы, мягкий голос:
— Вы не волнуйтесь… Лучше сознаться… Вас отпустят… Немного подержат и отпустят…
— В чем я должна сознаваться? Я же ничего не знаю…
— Мы вам поможем, подскажем… Мы ж и так все знаем, вот сколько у нас материалу! — черненький показывает Вете толстую папку.
Вета молчит, закрывает глаза и слышит сквозь сон:
— Шпионаж на Балтийском заводе… Новые подводные лодки… Радиоизмерительные приборы… Как они попали к немцам?
Вета чувствует, как по телу у нее проходит ток: подводные лодки… радио… это Марк. Кто еще?
А черненький все говорит:
— Все эти сведения ваш дружок Фредерикс отправил в Германию. Кто ему их собрал? Соображаете?
Вета кричит:
— Я не знаю! Я ничего не знаю!
Кто-то сильно бьет ее сзади по голове, лампа чертит ослепительный круг и гаснет. И сразу же ледяная вода в глаза, уши, рот.
И опять перед ней маленький блондин:
— Ну что, Дадашева, очухалась? Будем работать дальше?
Вета собирает последние силы и плюет блондину в лицо.
Вета чувствует нестерпимую боль, пытается увернуться, закрыть лицо. Руки ее стянуты за спиной. Ледяная вода. И снова боль…
Вета стоит, прижавшись к холодной стене. Мокрое платье прилипает к телу. Боли уже нет. Только усталость. Закрыть глаза… Заснуть… Умереть…
Вокруг нее появляются люди. И Вета уже не знает, кто действительно тут, а кто ей привиделся. Блондин, черненький, а рядом с ними отец и Марк… О чем-то весело говорят, спорят…
Вета не удивилась, когда увидела Леву. Лева сидит чуть боком, опустив глаза, говорит слабым голосом:
— Я видел несколько раз Дадашеву у проходной Балтийского завода… Она попросила меня познакомить ее с военными моряками… Я видел, как она передавала какие-то бумаги Фредериксу…
Вета произносит с усилием:
— Лева, что ты говоришь, что ты говоришь, Лева…
Лева вскакивает, поворачивается к Вете, громко шепчет:
— Так надо, Вета, так надо! Надо, чтоб ты все это рассказала… И подписала… Тогда тебя отпустят… Иначе — расстрел…
Вета молчит. Потом с ней что-то происходит… Словно что-то сдвинулось в голове, пришло успокоение.
— Хорошо, Лева. Я тебе верю. Я сделаю, как ты сказал…
Опять блондин. Быстро пишет на бумаге. Скрипит перо.
— С иностранцами установила связь еще в меньшевистской Грузии… Была завербована агентами французской и английской разведок… По приезде в Ленинград вышла на связь с германским шпионом Фредериксом… Стала активным участником троцкистско-зиновьевской группы в институте истории искусств… По заданию Фредерикса вступала в половую близость с инженерными работниками Балтийского завода… Их имен я не помню… Смогла у них получить чертежи радиоизмерительных приборов… В обмен на полученные мной шпионские сведения Фредерикс делал мне ценные подарки в торгсине… Действовала сама, других лиц в шпионскую деятельность не вовлекала… Распишитесь и поставьте число.
Вета расписывается. Ставит число. 23 марта.
Ниже расписывается блондин: начальник XI отдела лейтенант Госбезопасности Рейнер.
Еще ниже оставляет подпись черненький, капитан Мигберт.
Протокол пошел по инстанции. Через два дня обвинительное заключение готово:
По заданиям Фредерикса Дадашева Е. Г. в течение 1933–1937 гг. производила сбор и передачу германской разведке шпионских материалов… Допрошенная Дадашева Е. Г. виновной себя полностью признала… На основании изложенного, Дадашева Е.Г. — армянка, из дворян, дочь нефтепромышленника… обвиняется в шпионаже в пользу Германии по статье 38 п. 6 УК РСФСР…
Обвинительное заключение утвердил… зам. начальника упр. НКВД Ленобласти майор Госбезопасности Шапиро…
… Когда Лева вернулся домой, уже пробило шесть часов. Он прошелся по комнате. Прибрал книги, разложил по ящикам папки с бумагами. Прошел на кухню. Плотно закрыл дверь и окно. Разорвал на тонкие ленты несколько газет и аккуратно законопатил все щели. Потом он включил все газовые конфорки, сел на стул и закрыл глаза.
Лева почувствовал холод и боль, с трудом разлепил глаза, он лежал на диване перед настежь открытым окном. Перед ним стоял Витя Голанд и бил его по щекам. Лева прижался к Голанду и громко зарыдал.
* * *
… Марк опять и опять набирал Ветин номер. В трубке раздавались долгие гудки. Марк надел пальто, вышел на Каменноостровский, вскочил на автобус, проехал одну остановку. В парадном дома № 14 он столкнулся с Данилой. Марк сперва его не узнал. На Даниле была старая изодранная кепка, пальто с оторванными пуговицами, растрепанный шарф вокруг шеи. Он был небрит, от него сильно пахло спиртом. В одной руке Данила держал чемодан, другой прижимал к себе Тату.
Увидев Марка, Данила испуганно отшатнулся.
— Что с вами, — спросил Марк, — где Вета?
Данила дико посмотрел на Марка, попятился назад.
— Тихо, ради Бога тихо, нас могут услышать.
— В чем дело? — переспросил Марк.
Данила глотал воздух, отвечал несвязно.
— Вету увезли… на той неделе… мы уезжаем в Москву… уходите, уезжайте и вы… поскорее…
— Куда увезли? — не понял Марк.
Данила оттолкнул Марка, выскочил на улицу. Марк услышал, как к дому подъехало такси.
Марк стал медленно подниматься по гулкой лестнице. На площадке у Ветиной квартиры он остановился, увидел разорванную бумажную ленточку на двери и внезапно все понял. Он повернулся, кубарем скатился вниз, выскочил на улицу.
— Господи, нужно что-то делать, куда-то бежать, звонить…
Он увидел будку телефона, схватил замерзшую трубку, набрал номер. Услышал знакомый бас.
— Это вы, Карл Иванович? Это…
— Я вас узнал… Я ждал, что вы позвоните…
— Нам нужно поговорить…
— Знаю… Завтра… в шесть…
— Где?
— Вы знаете ресторан Чвановой?
— Где это?
— Это недалеко… На Большом… Угол Рыбацкой… Завтра, в шесть…
В ресторане Ленобщепита, бывшем Чвановой, где когда-то кутили Блок и Горький, было темно и малолюдно. Марк дважды обошел плохо освещенные залы, прежде чем увидел Кребса за угловым столиком в самом дальнем зале. На Кребсе был кургузый пиджачок и не очень чистая рубашка. На столике перед ним стоял пустой графин и тарелка с солеными огурцами. Кребс кивнул, и Марк сел за столик. Тотчас же подошел официант, принес полный графин, поставил перед Марком большой фужер и тарелку с огурцами. Кребс наполнил фужеры до краев.
— За вашу сестру. Не чокаясь.
Обычно после таких порций Марк валился под стол. На этот раз он не почувствовал ничего. Просто прошла по горлу холодная жидкость. Марк подцепил вилкой дольку огурца и стал жевать. Кребс налил опять по полному фужеру.
Марк хотел что-то сказать, но Кребс махнул рукой.
— Потом. Сейчас пейте.
Они опять выпили. Кребс достал трубку и закурил. Марк почувствовал, что ему горло сдавил спазм. Стало трудно дышать.
Кребс затянулся. Положил трубку в хрустальную пепельницу. Стал медленно говорить, словно процеживая слова.
— Я никогда не видел вашей сестры… простите, кузины…
Опять затянулся и положил трубку.
— Я читал ее дело, и мне кажется, что я знал ее всю жизнь…
Марк хотел что-то сказать, но из горла у него вырвалось что-то невнятное. Кребс махнул ему рукой: помолчите…
— Понимаете, есть люди… обычно очень хорошие люди… которые в силу обстоятельств… обречены…
— Я вас не понял, — сказал Марк.
— Ваша кузина… помимо своей воли и желания… стала очень многим мешать… И не оказалось никого, кто смог бы ей помочь… Ее погубили те, кому она верила, кого любила…
Марк пил водку маленькими глотками…
— Это Фредерикс? — тихо спросил Марк.
— И он тоже… Вы знаете, что Ники — мой кузен? Мы очень дружили в детстве. Ники — наш человек. Его отец, мой дядюшка, давал деньги большевикам, помогал устроить революцию. Помните материалы, которые я вам давал на перевод? Их доставал Ники и его люди… Немцы тоже считали его своим. Он был, что называется, двойничок. Мы ему подкидывали материалы, которые он пересылал немцам. Но в Абвере тоже не идиоты… Нужно было давать что-то настоящее… Вот мы и подкинули им дальномеры…
— Их разрабатывал не наш отдел…
— Конечно, не наш. И подкинули мы устаревшие разработки… Обычно, все сходило. Но в прошлом году в нашей агентуре были большие перемены. Убрали и ликвидировали стариков профессионалов, прислали молодых неумех. Наш дальномер попался дурачку, которого наши внедрили в абвер. Тот отсигналил в Москву: измена и шпионаж… Полетели головы…
Рюмка у Марка оказалась пустой, и Кребс налил ему еще.
— А тут ваша сестра… простите, кузина… Взяли ее совсем по другому делу… На нее пришел целый букет доносов… Национализм, антисоветская агитация, связи с иностранцами, да и подходящее социальное происхождение… Я же говорил, она была обречена… И тут на нее навесили шпионаж и наш дальномер…
Кребс одним духом осушил фужер и понюхал огурец.
— Если бы она хоть раз упомянула вас, то всем нам…
Он сделал выразительный жест. Марк вопросительно посмотрел на него. Кребс покачал головой.
Кребс разлил остатки водки, они выпили. Несколько минут они сидели молча. Кребс спросил:
— Вы верите в Бога?
Марк замялся:
— Не знаю. Мой дед был священником. В Гори.
Кребс слабо улыбнулся.
— Мой тоже. В Ревеле…
Потом добавил:
— Здесь недалеко Князь-Владимирский собор. Пошли…
Они вошли под темные своды. Поставили по большой свечке. Марк услышал, что Кребс что-то бормочет по-немецки. Марк закрыл глаза и постарался вспомнить слова старинной молитвы, которой его когда-то учил отец Саркис…
…В холодном дворе Большого Дома извивалась очередь. Люди стояли молча, у всех в руках были бумажные свертки. Перед Марком раздвинулось фанерное окошко.
— Фамилия, год рождения.
— Дадашева. 1904 год. — Он просунул в окно сверток.
Военный за окошком перебирал картонные карточки.
— Передачу не принимаем. Ваша родственница осуждена.
И еще через мгновение.
— Десять лет. Без права переписки… Следующий…
Марк медленно шел по двору, сжимая в руке сверток.
Он столкнулся с пожилой женщиной, ему показалось, что она позвала его по имени. Женщина обернулась, и он узнал сильно постаревшую Акубу.
— Это вы, — сказала Акуба. — Я вас узнала. Вы к кому?
— К Вете, — сказал Марк.
— А я к Сереженьке и к Левушке… Их взяли… в один день…
Она что-то пробормотала.
— Простите, — сказал Марк.
— Это не вам, — сказала Акуба, — это стихи… Меня просили сочинить стихи…
Акуба шла, бормоча и пошатываясь.
* * *
…Часы в полутемном кабинете пробили один раз. В Кремле начиналась долгая ночь.
Коба неслышно мерял шагами кабинет, раскуривал трубку. Берия замер в углу, настороженно блестели стеклышки пенсне.
Ночь начиналась хорошо. Коба успел просмотреть и пометил птичками расстрельный список. Перелистал записи телефонных разговоров членов политбюро.
— Что еще, Лаврентий? Что сообщают товарищи на местах?
Берия затараторил:
— Ничего особенного. Все по плану, товарищ Сталин.
— И все же…
— Да вот в Тбилиси произошел прискорбный случай…
Коба присел на стул. Все, что происходило на Кавказе, вызывало у него особый интерес.
— Что именно?
— Наши люди взяли старого меньшевика… Георгия Дадашева…
Коба прищурился. Постарался вспомнить, где он слышал это имя.
— И что же?
— На допросе меньшевик повел себя агрессивно. Кричал на следователя. Вспоминал экс седьмого года. Называл вас, товарищ Сталин.
Экс седьмого года… Что-то щелкнуло у Кобы в голове. Словно карточка в детской головоломке упала на нужное место.
— Пришлось усмирить?
— Пришлось усмирить, товарищ Сталин.
— Что с ним сейчас?
— Умер. Обширный инфаркт.
Сталин затянулся трубкой.
— Что со следователями?
— Меры приняты, товарищ Сталин.
Коба грыз чубук трубки желтыми зубами.
— У меньшевика на счету наши деньги. Узнали подробности? Номера счетов, реквизиты?
Берия поежился.
— Не успели, товарищ Сталин. Он умер…
— Искали дома?
— Дома реквизитов нет…
— Плохо, Лаврентий, плохо…
— Не беспокойтесь, товарищ Сталин. Деньги не уйдут. У нас все на контроле.
— Деньги нужны сейчас, Лаврентий.
Коба достал трубку изо рта. Потряс пальцем в ухе.
— У этого меньшевика есть родственник в Москве. Военный…
— Так точно, товарищ Сталин. Мухранский. Бывший князь (Берия произнес «кыняз»).
— Где он сейчас?
— Два дня назад застрелился у себя в кабинете.
Коба матерно выругался.
— Ушел от ответственности, подлец…
Он опять встал и прошелся по кабинету.
— Прав, тысячу раз был прав Ленин, когда называл представителей нетрудовой интеллигенции говном…
— Именно так, — поспешил согласиться Берия.
Коба остановился. Провел рукой по лбу.
— Тогда у них в доме была девочка… Красивая девочка…
Берия раскрыл лежавшую у него на коленях папку и стал копаться в бумагах. Коба медленно цедил:
— Я кажется даже вспомню, как ее зовут, Вера… Варя…
Берия нашел нужную бумагу.
— Ее зовут Елизавета Дадашева.
— Где она сейчас?
В Лентюрьме НКВД. Проходит как член зиновьевского подполья. Диверсии и шпионаж.
— Реквизиты искали?
— Дома у Дадашевой реквизитов нет…
— Как идет дело?
— Дело в производстве, товарищ Сталин.
— Позвоните в Ленинград. Приостановите производство. Мне надо ее видеть.
Берия схватил трубку одного из телефонов и затараторил по-мегрельски. Через минуту он повернулся к Кобе.
— Дадашева оформлена несколько часов назад.
Коба опять матюгнулся.
— Торопитесь, Лаврентий. Вечно вы куда-то торопитесь…
Берия быстро заговорил:
— Выполняем ваши указания, товарищ Сталин. Чекистские кадры засорены. В нескольких областях мы опоздали на два-три года. Приходится наверстывать…
Кобу стал раздражать мегрельский акцент Берии. Хвастается, что закончил два института, а нормально по-русски говорить не умеет.
— Много говоришь, Лаврентий. Очень много. Знаешь, когда тебя будут расстреливать, тебе заткнут рот…
Коба забыл нужное слово… клямкой… кляпкой…
Берия вздрогнул и вытянулся на стуле.
Коба рассмеялся:
— Шучу, Лаврентий. Шучу…
* * *
— Дадашева, на выход!
Лязг отпираемых дверей.
— Румянцева, на выход! Рубинштейн, на выход!
Легкие шаги и стук кованых сапожищ.
На выход! На выход!
По всей тюрьме лязг дверей и стук сапог.
Теперь уже не страшно. Она где-то очень далеко. Смотрит сверху, как вспыхивают и гаснут огоньки.
Последняя дверь. Стол с зеленым сукном. За столом трое военных и ворохи бумаг. В центре — высокий с бритым блестящим черепом, справа и слева от него люди с неподвижными лицами. Вета поворачивает голову и видит еще одного. Это Поликарпов, комендант. Он стоит в глубине у самой стены.
Военный с блестящим черепом читает бумагу.
— Следствием полностью установлено…
Вета смотрит на людей за столом и видит над ними ореол смерти. Они все умрут, очень скоро. Их всех убьют, и прах их разлетится по холодным полям…
— Вина полностью доказана…
Поликарпов их всех переживет… Умрет жалким беззубым стариком на койке в доме для престарелых…
— Приговорена комиссией НКВД к ВМН…
— Что значит ВМН? Высшая мера…
— Приговор окончательный…
— И это все?
— Обжалованию не подлежит…
— И это все?
— Подойдите и распишитесь.
— Какое сегодня число?
— 28 июня…
… Белая ночь…
Дадашева, вперед! К стенке! Станьте на колени!
— Господи, прости и помилуй!
— Я сказал на колени! Ниже голову!
Опилки пахнут кровью и мочой.
— Господи, спаси и защити Тату!
— Гос…
… На основании предписания начальника УНКВД ЛО комиссара Госбезопасности 3-го ранга Литвина приговор приведен в исполнение. Осужденный расстрелян.
Комендант УНКВД
cm. лейтенант Поликарпов…
* * *
…Солнечным апрельским утром 1946 года Витя Голанд ступил на швейцарскую землю. Он сошел по трапу двухмоторного пассажирского Дугласа на аэродроме Клотен-Цюрих и остановился в изумлении. Вокруг возвышались зеленые горы с белоснежными вершинами. Лицо овевал теплый ветер. За Голандом ровным строем выстроилась вся советская делегация: киношники из Москвы, Ленинграда и Грузии. Оторопело смотрели по сторонам. Кутались в куцые советские плащи.
— Ну что, ребята, кажется, добрались!
Подъехал автобус. Выскочили загорелые швейцарские кинематографисты в пестрых куртках.
— Добро пожаловать в Цюрих!
Дальше все замелькало, как в калейдоскопе. Пятизвездочный отель «Сенатор». Легкий ленч с вином в гостиничном ресторане. Рядом с Голандом сел Шалва Кетовани из Тбилиси. Спросил у Голанда:
— Можно я скажу тост?
— Валяй, — сказал Голанд, — только недолго.
Кетовани уложился в полчаса. Швейцарцы мало что поняли, но дружно захлопали.
Делегации устроили экскурсию по городу — провезли на пароходике по озеру, показали Гроссмюнстер и собор Святого Петра. Вечером они снимали весенний праздник зекселаутен — проводы зимы. Члены городских гильдий в средневековых одеждах шли торжественным маршем по узким улицам — на Ратушную площадь. Там был большой костер, на котором горело чучело зимы.
Советские люди с удивлением разглядывали непонятный им мир, где не было войн и революций, где жили спокойной и неторопливой жизнью сытые и очень довольные собой люди.
На следующее утро Голанд встал рано. Быстро побрился, спустился на лифте в холл. Подошел к дежурному, показал ему карточку. В детстве Голанд учил немецкий, но разговорную речь понимал плохо. Дежурный взял со стойки карту, поставил точки. Здесь сядете на трамвай, поедете сюда, выйдете на пятой остановке. Голанд вскочил в голубой вагончик, протянул купюру седоусому кондуктору. Прижался лицом к стеклу, считал остановки.
Во внутреннем кармане пиджака Голанда лежал конверт с десятирублевой купюрой. Он отчетливо помнил тот вечер в блокадном Ленинграде, когда, собираясь отправить в буржуйку очередную порцию бумаг Лилиенталя, он случайно открыл одну из папок. Увидел голубой конверт, из него выглядывала розовая купюра и скрепленная с ней карточка с надписью по-немецки. Первой мыслью было: скорее сжечь! Но что-то помешало. Не сжег. Положил в дальний угол стола. А потом, несколько дней спустя, что-то в голове у него стукнуло. Нашел купюру, долго крутил в руках карточку. Банк Лей. Город Цюрих, Швейцария. И вспомнились ему рассказы покойного отца, владельца мехового магазина. «Заведутся деньги — беги в Цюрих. Там можно открыть счет по ассигнации…» Голанд даже вспомнил, как называется такой счет: «на предъявителя»…
Ай да Лилиенталь… Голанд осторожно спрятал конверт подальше. Тогда, в блокадном городе, когда где-то под окном бухали зенитки, мысль о деньгах в Цюрихе казалась далекой и несбыточной мечтой… И вот он здесь, Цюрих. Убегает за окном трамвая.
Кондуктор объявил: Банхофштрассе. Голанд выскочил из трамвая. Перед ним была улица, застроенная пятиэтажными особняками с огромными витринами. Отели, магазины, банки. Голанд нашел нужный номер. Толкнул дверь. В банке было темно и пусто. За стеклянной перегородкой сидел пожилой служащий, что-то писал в толстой тетради. Вопросительно посмотрел на Голанда.
Голанд сказал давно выученную фразу:
— У меня здесь счет на предъявителя, — и протянул купюру.
Служащий осторожно взял купюру. Потом сказал:
— Прошу меня извинить. Я сейчас вернусь.
Вернулся он минут через десять вместе с господином в черном сюртуке с накрахмаленной манишкой. Господин сказал Голанду:
— Прошу вас следовать за мной.
Открыл боковую дверь. Провел Голанда темным коридором в кабинет.
Предложил сесть, протянул руку.
— Меня зовут доктор Фишер. Я директор этого отделения.
Вошел служащий, принес кофе и сигары. Фишер предложил сигару Голанду. Тот покачал головой.
— Спасибо. Я не курю.
Фишер, не торопясь, закурил.
— Я очень прошу вас подождать несколько минут, пока мои служащие проверяют счет.
Голанд маленькими глотками пил кофе. Вошел молодой человек с безукоризненным пробором, передал Фишеру кожаную папку. Фишер надел очки в золотой оправе, раскрыл папку и погрузился в чтение. Через несколько минут он передал Голанду листок с рядом цифр.
— На вашем счету одиннадцать миллионов двести десять тысяч швейцарских франков. Какие будут указания?
Голанд опять ответил выученной фразой.
— Я хотел бы перенести десять тысяч на срочный вклад, а остальное получить наличными.
Фишер сделал пометку в гроссбухе.
— Это ваше право. Как вы понимаете, нам потребуется некоторое время, чтобы собрать требуемую сумму. Сколько дней вы пробудете в Цюрихе?
— Пять дней, — ответил Голанд.
— Сумма будет готова послезавтра в десять утра, — Фишер встал и поклонился.
Голанд вприпрыжку бежал по Банхофштрассе, выскочил на набережную Кэбрюкке. Увидел столики на веранде отеля. Сел за столик, перед ним застыл официант. Голанд ткнул пальцем в меню.
— Горячий сэндвич… пиво…
Есть не хотелось, Голанд откусил от сэндвича и бросил его голубям. Отхлебывал холодное пиво из огромной кружки, смотрел, как голуби вырывают друг у друга куски мяса…
… Доктор Фишер закрыл дверь кабинета на ключ. Достал записную книжку. Взял трубку старинного телефона, набрал номер.
— Господина Кальцинского…
— Вас беспокоит доктор Фишер из банка Лей в Цюрихе… Только что был затребован интересующий вас счет… Послезавтра в десять утра… Рад служить…
… Через два дня Голанд толкнул знакомую дверь. Его ждали. Служащий с безукоризненным прибором открыл перед ним дверь.
— Пройдите в боковой кабинет.
Через несколько минут другой служащий принес небольшой саквояж. Щелкнул замком. В саквояже лежали плотно упакованные пачки банкнот.
— Прошу проверить.
Голанд пересчитал пачки. Наугад распечатал и пересчитал содержимое двух пачек. Все сходилось.
— Ваше такси у подъезда, — сказал служащий.
Голанд, сжимая ручку саквояжа, вышел на улицу.
Шофер в фирменной фуражке открыл перед ним дверцу машины. Сел за руль. Вопросительно посмотрел на Голанда:
— Куда ехать?
Куда ехать… Теперь перед Голандом был открыт весь мир. Сперва в Европу… Потом в Америку… А для начала…
— Вы знаете хороший ресторан?.. За городом…
Шофер кивнул, и машина рванула с места… Паутина маленьких улочек расступилась, они выехали к озеру. Приятно шуршали шины… Теплый ветер обдувал лицо… Из радио доносилась легкая музыка… Голанд задремал…
Машина резко затормозила. Голанд открыл глаза. В лицо ему смотрело дуло пистолета.
— Выходи, — сказал по-русски шофер. Голанд забился в угол машины и прижал к груди саквояж.
Дверца резко открылась, и чья-то сильная рука вытолкнула Голанда на дорогу. Он огляделся. Рядом стояла другая машина и из нее выходили двое. Голанд перепрыгнул через кювет и, не выпуская из руки саквояжа, быстро побежал по крутому склону вниз, к озеру. Что-то едва слышно хлопнуло сзади, потом еще и еще. Голанд упал грудью на саквояж и пополз. Он старался доползти до озера, дотянуться рукой до холодной и прозрачной воды…
* * *
…Теплым майским утром 2004 года пожилая пара стояла на перроне Московского вокзала: мужчине было на вид за семьдесят, а женщине — лет сорок. Стояли они чуть в стороне от пестрой толпы, собравшейся встречать «Красную стрелу» из Москвы, и тихо разговаривали по-английски. Поезд медленно подошел под звуки Глиэровского гимна и замер. Из вагона номер шесть, как раз напротив которого стояла пара, вышла немолодая женщина в сером плаще с красным чемоданом. Мужчина подошел к ней, взял у нее из руки чемодан, поставил на перрон. Они расцеловались.
— Ты почти не изменился, Федя, я тебя сразу узнала…
— Ты тоже, Тата…
Федя представил женщину.
— Познакомься, Тата, это — Пенни… Она преподает русский в Оксфорде.
Пенни протянула руку.
— Здравствуйте, Тата. Федя о вас много говорил…
Они сидели в «Идеальной чашке» на Невском, пили кофе. Федя неспеша рассказывал:
— Вылетели из Лондона две недели назад. Несколько дней провели в Тифлисе… Уже неделю, как здесь…
— Как в Тифлисе?
— В центре понастроили шикарные отели, а чуть дальше — сплошные развалюхи. Наш дом еще стоит, но говорят, что его скоро снесут и построят на этом месте новую резиденцию для президента.
— Жив кто-нибудь из наших?
— Теперь уже никого. Лена умерла прошлым летом. Я был на ее могиле…
— А здесь…
— Папа и мама похоронены на Серафимовском… Мы заказали памятник… Сделали новую ограду…
Кажется, там сейчас уже вся наша квартира на Красных Зорь. Даже Катя Гросс и дядя Миша Годлевский умерли несколько лет назад… Кстати, дядя Миша последние годы жил у брата в Лондоне. Однажды на каком-то приеме к нему подошел мужчина. Дядя Миша сперва его не узнал. Это был Ника Фредерикс. Он расспрашивал о нас. Обещал зайти и передать что-то важное. Взял телефон и адрес. А несколько дней спустя в газете появилась заметка, что отставной дипломат Фредерикс погиб в случайной автокатастрофе…
Они помолчали. Тата раскрыла чемодан. Достала тоненькую синюю папку.
— Вот, посмотри…
— Это то самое, о чем ты говорила?
— Все, что осталось от маминого дела в ФСБ. Там завели новый отдел по связям с общественностью…
Федя перебирал бумаги и передавал их Пенни.
— Я вам поясню, — сказала Тата. Вот протокол первого допроса. Здесь мама отвергает все обвинения… Вот второй протокол, здесь Вета все признает… Вот обвинение… Приговор… Акт о расстреле… Справка о реабилитации… Всего двенадцать страниц…
Федя собрал бумаги и аккуратно сложил их в папку.
— Здесь нет главного, Тата. Доносов. Любое дело начиналось с доносов.
— Доносов в деле нет… Видимо, уничтожили.
Они помолчали. Тата протянула Феде брошюру.
— Это брошюра о Левашовской пустоши. Публикация общества «Мемориал».
Федя перелистал брошюру, передал Пенни.
— Расскажи поподробнее, — попросил Федя.
— Место массовых захоронений жертв террора. Обнаружили его в конце восьмидесятых. Там рыли котлованы и сбрасывали тела расстрелянных. По подсчетам, там похоронили тысяч пятьдесят…
— Сколько таких мест под Ленинградом?
— Много, Федя, много… Только там устроили мемориал… Поставили крест…
— Ты думаешь, Вета там?
— Не знаю, Федя. А впрочем, какая разница…
— Как туда доехать? На такси?
— Мне сказали, что проще на маршрутке… От метро «Проспект Просвещения».
Они вышли из метро и попали в другой город. Громко играла восточная музыка. Бородатые люди со смуглыми лицами толкались вокруг бесчисленных шашлычных. Подошел старенький микроавтобус.
— Это наш, — сказала Тата.
Они втиснулись в машину. Шофер круто развернулся и выехал на широкое шоссе. Замелькали одинаковые коробки домов.
Дома кончились и пошли зеленые массивы. Убогие дачки чередовались со строениями из красного кирпича с затемненными стеклами. Машина остановилась.
— Кажется, здесь, — сказала Тата.
Они вышли из автобуса и зашагали по песчаной дорожке вдоль глухого зеленого забора. Земля была мокрая, видимо, здесь недавно прошел дождь.
Увидели открытые ворота, пошли по широкой аллее. Вокруг шелестели сосны. Чуть в стороне от аллеи стоял большой православный крест, рядом — колокол.
Они углубились в лес.
— Смотри, — сказал Федя. Среди деревьев стояли кресты. На них имена, фотографии… И три даты: родился … расстрелян… реабилитирован… Они шли дальше, и табличек становилось все больше. Теперь они были прикреплены к деревьям… Расстрелян… Замучен…
— Посмотри, знакомые имена:
— Адриан Аскольский… Фихтенбаум…
Они остановились около дерева.
— Давай здесь…
Тата достала из чемодана металлическую пластинку…
ЕЛИЗАВЕТА ДАДАШЕВА
ЛИТЕРАТОР
1904–1938–1985
Федя достал молоток и гвозди. Аккуратно прибил пластинку к стволу. Пенни положила у дерева охапку цветов.
Они помолчали…
Когда выходили из ворот, они увидели на противоположной стороне шоссе странное сооружение из колючей проволоки и искореженных металлических брусьев. На постаменте было написано золотыми буквами:
«Родина вас не забудет».
Пенни тихо произнесла что-то по-английски.
— Что она сказала? — спросила Тата.
Федя перевел:
— Это так по-русски… Сперва растоптать, а потом поклониться…
ПРИМЕЧАНИЕ
Все персонажи и события — вымышлены. Кажущиеся совпадения — чисто случайны.
Автор
Рассказы
ПОЭТЕССА НЕВЗОРОВА
Осень 1915 года в Одессе выдалась теплой. Война громыхала далеко — в Галиции. А здесь все как обычно — ветер гоняет пыль по улицам, снуют пролетки, пароходы в порту гудят тревожно. Стало больше на улицах людей в серых шинелях: солдат в фуражках набекрень, офицеров, что из штатских, вольноопределяющихся. И гимназисты попадались чаще — совсем маленькие, фуражки на ушах, прыщавые подростки и усатые старшеклассники.
На Большом Фонтане тихо — дачники разъехались, дома стоят заколоченные. В садах пахнет сухой землей и гнилыми фруктами. А как стемнеет — жутковато: невидимое море бьется в известняк, степной ветер шелестит в тополях, стучит ставнями в пустые окна.
Как стемнеет, собираются на Большом Фонтане поэты. Идут ощупью знакомой улицей от последней остановки трамвая, мимо пустых дач, летят, как мотыльки, к дому у самого моря, где свеча в окошке. Ждет их там Эллочка Невзорова, поэтесса восемнадцати лет с длинной золотой косой, большие голубые глаза на светлом личике.
В доме Невзоровой пахнет старыми книгами, потрескивает камин, большая керосиновая лампа вздрагивает под потолком, свечи оплывают на столах и на окнах. Пляшут тени на стенах, летают в густом воздухе мелко исписанные листочки и звучат стихи, то торжественные, то насмешливые.
Эллочка Невзорова встречает всех на пороге, лобызает в лобик, воркует по-своему, по-эллочиному:
— Здравствуй, парниша. Отряхнись. Вся спина у тебя белая…
Поэтов немного — пятеро, шестеро. Все влюблены в Эллочку Невзорову, а друг друга не любят, завидуют и ревнуют. Все молодые и из богатеньких. Федя Остен-Сакен самый старый, ему двадцать восемь. Монокль на муаровой ленточке, перстень-печатка на пальце. Свои стихи Федя Остен-Сакен печатает в типографии — маленькими книжечками с золотым обрезом. Вале Кашину — двадцать, он — студент, невысокий сутуловатый, глаза карие, умные. Стихи и новеллы пишет ровным почерком в пронумерованных тетрадочках. А Васе Лохницкому — восемнадцать, и он из всех самый талантливый. Перед войной успел поучиться в Германии, в Марбурге. Стихи пишет на клочках бумаги, рассовывает по бесчисленным карманам. Вытащит бумажку, повертит в коротких ручках, поморгает близоруко и запоет… Влюблен Вася Лохницкий в Эллочку до безумия. А она его мучает, издевается. Называет то Васисуалием, то Лоханкиным.
А сама Эллочка свои стихи читает редко. Обычно под утро, когда все уже устанут, выдохнутся, свечи догорят, и небо посветлеет в окнах. И в тишине вдруг раздастся чистый Эллочкин голосок:
Во тьму веков помчался новый век, К истоку дней, сокрытому Всевышним, Нам не унять дней неумолчный бег, Пусть ни один тебе не будет лишним…Однажды вечером зажглись огни в большом доме в конце улицы. Несколько дней там убирали и чистили, привозили мебель на фурах из города. А потом появился хозяин — невысокий господин с седоватыми волосами бобриком. Эллочка столкнулась с ним на почте — он отправлял бандероль в Петербург. Она сразу узнала его — по фотографии на фронтисписе книги стихов. А когда он ушел, она попросила у служащего книгу записей и увидела написанное каллиграфическим почерком имя с завитушкой в конце.
Тем же вечером, когда собрались поэты, она объявила как бы невзначай:
— А вы знаете, кто поселился в Большой даче? Классик!
В тот вечер поэты стихов не читали. Тихо посидели, попили вина и рано разошлись.
Через неделю Федя Остен-Сакен и Валя Кашин напросились к Классику в гости. Приняли их в гостиной. Там было неприбрано: мебель в чехлах, книги в связках по всем углам. Вошла горничная, принесла чаю.
Классик полистал книжечки с золотыми обрезами, взял Валину тетрадку, открыл наугад, что-то прочитал, хмыкнул.
— Спасибо, друзья… Не смею задерживать… Извините за разгром…
И уже в дверях, пожимая протянутые руки:
— Я вам напишу… через недельку…
Валя получил записку по почте на третий день:
«Приезжайте в четверг, часам к шести…»
Классика Валя нашел в легком возбуждении — говорил Классик много и не всегда связно. Открыл шкафчик, налил себе стакан водки, выпил залпом. Усадил Валю в большое кресло, достал с полки тетрадочку. Стал читать вслух и комментировать:
— Вот это хорошо, здесь нужно усилить, а это убрать совсем…
Потом закрыл тетрадочку.
— А впрочем неплохо, очень неплохо… Оставьте это мне. Мы готовим альманах… Я выберу сам, что можно в печать…
Они вышли на веранду. Постояли молча, покурили. Классик сказал тихо:
— Спасибо вам, Валя. Теперь не так страшно уходить…
Валя вприпрыжку бежал по темной улице. Сердце у него колотилось радостно:
— Надо же! Классик благословил!
Остановился возле невзоровской дачи. Прошел сад. Дверь в дом приоткрыта, но голосов не слышно. В гостиной на полу — раскрытые книги, на столе — недопитая бутылка шампанского. Валя хотел позвать Эллочку, но голос у него осекся и он, стараясь не шуметь, пошел дальше. У дверей спальни он остановился, из спальни доносился стон. Тихонько отворил дверь и замер.
На кровати — Эллочка и Федя Остен-Сакен, голые. Эллочка лежала на животе, раскинув ноги, а Федя опускался на нее сзади. Валю они не заметили.
Валя постоял несколько мгновений, тихонько прикрыл дверь и ушел в густеющие сумерки.
А через несколько месяцев все разлетелось. Огненный смерч прошел по степи. Промелькнули, как в калейдоскопе, ряженые правители, а потом все улеглось, успокоилось. Стало серым, голодным и будничным. Кто смог — улетел. Исчез Классик из большой дачи, и долго носило его по свету, пока не прибило к колючим берегам Прованса.
А дачи на Фонтане оживали, селились в них люди из дальних станиц — по семье в комнате. И на невзоровской даче стало людно — жили там поэты и художники. У входа красовалась художественно исполненная вывеска: «МАРКСИСК — Марксистская коммуна свободного искусства».
Федя Остен-Сакен и Эллочка жили в маленькой комнатке на верхнем этаже. Федя днем спал, а вечером читал лекции о теории стихосложения. Эллочка работала машинисткой в Наробразе, и раз в неделю получала там продовольственный паек. Иных источников существования в коммуне не было.
Федю взяли под утро. Он спросонья долго не мог понять, что от него нужно людям в вонючих бушлатах. Долго читал ордер на арест. Эллочка тихо плакала.
Федю везли по городу в закрытом автомобиле. Потом повели по лестнице и заперли в подвале. Там было темно и душно. Кроме него там было еще человек двадцать, но лиц их Федя не видел. Он нащупал в кармане клочок бумаги и карандаш. Подержал карандаш во рту и стал что-то писать на бумаге.
Через два часа его вызвали на допрос. Он узнал следователя, это был Паша Вольский. Он раза два приходил к ним в коммуну, читал беспомощные романтические стихи. Федя обернулся. В углу, за письменным столом сидел Валя Кашин, что-то быстро писал в толстой книге.
Паша Вольский ходил по кабинету, говорил, что революция должна уметь защищаться. Валя Кашин скрипел пером.
Федю расстреляли на следующее утро. Вывели во двор, заставили раздеться. У стены их стояло человек десять, голых мужчин и женщин. Перед тем, как стрелять, завели мотор мотоцикла.
Когда трупы грузили на фуру, из мертвой Фединой руки выпала сложенная бумажка. Острым каллиграфическим почерком на ней было написано сто раз: «И. Остенъ-Сакенъ».
А Эллочка была рядом — за забором. Слышала, как надрывно залаял мотоцикл, видела, как тяжеловоз вывел из ворот покрытую брезентом фуру. Стояла неподвижно, как вкопанная. Услышала, что ее зовут. Обернулась. В конце улицы — Вася Лохницкий, нелепое желтое пальто, рот закрыт шарфом. Эллочка прижалась к нему, он гладил ее волосы. Эллочка бормотала сквозь рыдания:
— Васисуалий… Жуть! Жуть! Жуть!
Через два месяца Эллочка с Васей перебрались в Москву. В Москве было тепло и безалаберно. Коробки фабрик-кухонь прорастали сквозь россыпь особнячков.
Устроились в газету «Гудок» — помогли одесские связи. Вася сочинял стихи по случаю красных праздников, Эллочка стучала на машинке в секретариате. Друзья подыскали им и комнатку — в запутанной коммуналке на Чистых Прудах, Эллочка прозвала ее Вороньей Слободкой.
Вася днем валялся на продавленной кушетке, смотрел в потолок, шевелил губами. Сочинял он по ночам, сидел, сгорбившись, за столиком у окна, покрывал вязью строчек измятые бумажки. Иногда вдруг начинал читать вслух, нараспев — будил Эллочку. Ей хотелось спать. Она с трудом разбирала сложные сочетания звуков. Но сон проходил, и звуки завораживали. Вася замолкал, но звуки еще долго гудели у нее в голове. Эллочка подбегала к Васе, целовала его впалую грудь:
— Ты гений, Васисуалий, ты гений!
Однажды в редакцию зашел Валя Кашин. Он уже давно жил в Москве, стал большим писателем — печатал книжки о гражданской войне для детей и юношества. Столкнулся с Васей и Эллочкой в коридоре, заблеял.
— Загордились! Старых друзей забываете! В субботу жду у себя. Вот адресок…
Валя Кашин жил в писательском доме на Котельнической. Принимал их по-барски. Но столе среди разноцветья закусок стояла запотевшая бутылка водки. Вася взял бутылку в руки, провел ладонью по мокрому стеклу.
— У тебя что, дома — ледник?
Валя засмеялся.
— Электрический холодильник. Привез из Америки.
После обеда Вася читал стихи. Валя слушал молча, курил трубку. Эллочке показалось, что он как-то помрачнел, посуровел. Встал, принес бутылку коньяка, разлил по маленьким рюмочкам. Тихо сказал:
— За тебя, Вася, за тебя! Ты всегда был у нас самым-самым…
А потом вдруг сказал:
— А знаешь, Василий, сочини-ка ты нам оду!
— Какую оду? — не понял Вася.
— Да в честь Отца и Учителя. Юбилей близится…
Вася замялся:
— Да я как-то не очень, я ведь так…
А Эллочка поддержала Валю:
— Ну сочини, Васисуалий! Чего тебе стоит…
Вася стал сочинять оду. Была куплена стопка бумаги, набор перьев и ручек, новый чернильный прибор. Все выложено на столике у окна. Вася ходил вокруг торжественно. А Эллочка бегала по Вороньей Слободке, уговаривала жильцов не шуметь:
— Васисуалий сочиняет оду!
Ода у Васи не шла. Он покрывал страницу за страницей корявыми рисунками и кляксами. У Васи начались приступы астмы. Он просыпался в поту, закатывал глаза, кричал, что его душат. Как-то под утро вскочил, бросился к столу, стал судорожно писать. Эллочке написанное не показал, куда-то спрятал, но спать после этого стал спокойней.
Через неделю Вася приехал к Вале Кашину.
— Где ода? — строго спросил Валя.
Вася достал из кармана смятую бумажку и стал читать. Валя побледнел.
Васины стихи были о человеке с черной душой и черными пальцами.
— Сожги это, — сказал Валя. — Сожги это сейчас же.
— Нет, — сказал Вася, протягивая Вале бумажку. — Очень тебя прошу, спрячь.
— Но почему я? — спросил Валя.
— Кроме тебя, некому, — ответил Вася. А меня скоро убьют. Как Федю…
Валю Кашина вызвали в Союз, к Николай Николаевичу, референту. Валя встречался с ним регулярно, раз в два месяца, говорил о делах, о настроениях.
— Значит, говорите, все в порядке? — Николай Николаевич затянулся «Казбеком».
— Так точно, все в порядке, — отрапортовал Валя по-военному.
— Никаких колебаний? — поинтересовался Николай Николаевич.
— Колебаний не замечено, — в том же тоне отрезал Валя.
— Плохо, что не замечено, — сказал с досадой Николай Николаевич. А потом, порывшись в бумагах:
— Поэт Лохницкий вам известен?
— Попутчик, — быстро ответил Валя, — сочувствующий.
Николай Николаевич посмотрел на Валю с сожалением.
— А ведь мы вас в Испанию отправлять собирались. Доверие оказывали…
— Да я, да мы… — заерзал Валя.
В голосе Николай Николаевича зазвучал металл. Он постучал пальцем по столу.
— Клади сюда.
И Валина рука сама полезла в карман, вытащила смятую бумажку, положила ее на стол, рядом с пальцем Николай Николаевича, и тут же одернулась назад, словно обжегшись.
На допросе Вася все отрицал:
— Не писал, не видел, не знаю…
Ему устроили очную ставку с Валей. Валя дал на Васю подробные показания:
— Входил в контрреволюционную группу барона Остен-Сакена. Организовал троцкистскую ячейку в редакции «Гудка». Составлял прокламации с призывами к терактам…
Вася забился в истерике:
— Валя! Как ты можешь!
Валя сказал со значением:
— Имейте мужество, Лохницкий!
В Васиной камере было человек десять. Высокий грузин был, видимо, главный. Он протянул Васе руку, представился. Фамилия Васе показалась странной, Гигиенишвили.
— Значит стихи пишешь? — спросил Гигиенишвили, — это хорошо…
Ночью Васю изнасиловали. Разбудили ударом по голове и потащили к параше. Вася сопротивлялся, его били сапогами в лицо. В какой-то момент ему удалось вырваться, и он ударил коленкой в пах одного из мучителей. Тогда его стали бить по-настоящему. Скоро Вася перестал чувствовать удары. Когда его бросили головой в парашу, он уже не дышал.
Эллочка стояла во дворе на Лубянке, в очереди к зеленому окошку.
— Как вы сказали, Лохницкий? — спросил ее человек в форме.
Он полистал амбарную книгу.
— Этапирован по месту поселения. Без права переписки…
Эллочка хотела что-то спросить, но ее оттеснили от окошка.
Она еще долго стояла в темном дворе, сжимая в руках сверток.
К ней подошла какая-то женщина. Тихо сказала.
— Вы — писательница. Напишите об этом…
— Я не смогу, — ответила Эллочка.
Эллочка жила после этого еще долго. Переводила по подстрочникам стихи африканских поэтов. Как-то в ЦДРИ ее познакомили с молодым композитором из южной республики. Они стали встречаться, а месяца через два он переехал к ней, в ее квартирку у Елоховского собора. Композитор сочинял эстрадные песни, они пользовались успехом. Эллочка сочиняла для песен стихи. Они получили премию за цикл песен для армейской самодеятельности. Особо была отмечена песня про сержанта по имени Вано. В этой песне были Эллочкины строки:
Ведь он у нас фактически Во всем передовой, И по части политической, И по части боевой…Композитор получил заказ на большой мюзикл, работал над ним в доме творчества под Москвой. Ездил туда каждую неделю на новенькой «Волге».
Как-то вечером у Эллочки зазвонил телефон. Незнакомый человек представился начальником ГАИ, спросил ее о самочувствии. Помолчав, сказал:
— Ваш супруг попал в тяжелую аварию. Врачи борются за его жизнь.
Позднее Эллочка узнала, что машина стояла на обочине, когда на нее в темноте налетел самосвал. Вместе с ним была Людочка Бессонова, лучшая Эллочкина подруга. Оба погибли мгновенно.
И опять не кончилась на этом Эллочкина жизнь. Опять какие-то дела, переводы. Правда, все меньше и меньше.
А потом стали выходить Валины рассказы. Словно открылось у Вали второе дыхание. Чудесная проза, сочная, образная. Писал Валя про свою жизнь, слегка зашифровывал имена давно ушедших друзей и знакомых. Злые получались у Вали рассказы, мало о ком говорил он хорошо. Нашла Эллочка в одном рассказе и себя, узнала под прозвищем «Людоедка». Ей было посвящено скабрезное четверостишие, в котором слова «на соседней даче» рифмовались с «по-собачьи».
В ту ночь Эллочка не смогла заснуть, не помог нембутал. Утром оделась, попудрила носик и поехала на Котельническую. Прошла в садик, села на скамеечку, раскрыла книжку. Был июль, народу в садике мало, старички и старушки, многие собак выгуливают.
Валя появился часов в двенадцать, она не сразу его узнала — маленький сгорбленный старичок в темных очках. Шаркая, подошел к соседней скамейке, тяжело опустился, развернул газету.
— Валя, — тихо сказала Эллочка. Старик молчал.
Эллочка подошла к нему, подняла газету, осторожно сняла очки. На нее смотрели мертвые Валины глаза.
ВЫКРЕСТ
1. ИСИДОР
Михаил Исидорович Годлевский прожил долгую и богатую событиями жизнь. Умер он в возрасте 75 лет, пережив брата, сестру, да и большинство своих сверстников.
Родился он в Петербурге в очень далеком 1895 году. Тогда на мощенных деревянными торцами улицах еще не было машин; по Невскому тянулись конки. Счастливыми были ранние годы жизни Михаил Исидоровича. Отец его, Исидор (по паспорту — Ицхак Мейер) Годлевский, был генеральным представителем в России германской фирмы химических красителей и фармацевтических средств «Байер АГ». Владел он небольшим уютным домом на набережной Мойки, напротив арки Новой Голландии.
Сам Ицхак Мейер родился далеко от невских берегов, в дымной Лодзи. Был он самым младшим среди одиннадцати детей лодзинского раввина. Детство и ранняя юность Ицхака Мейера были тоскливы. В его памяти они слились в один бесконечный день в темном, пропахшем нафталином, доме.
Он убежал из этого дома, как только ему стукнуло восемнадцать. Вскочил в вагон третьего класса в поезде, шедшем в Берлин. У него был старенький саквояж, в кармане не по росту просторного сюртука лежали русский паспорт и сто рублей денег в потертом портмоне. А в подкладке сюртука было зашито письмо; его написал каллиграфическим почерком отец, и адресовано оно было раввину Цюриха.
Когда поезд остановился на станции Вержболово, пришли русские пограничники. Низкорослый унтер стал листать паспорт. Потом спросил:
— Как фамилия?
Ицхак Мейер задергался, русские слова перемешались у него в голове.
— Фамилия в Лодзи…
Пограничники захохотали.
— Зовут как?
— Зовут Ицхак Мейер. Еду до Берлина.
— Ты жид? — поинтересовался унтер.
— Так, так, — закивал Ицхак Мейер.
Его перевели в точно такой же вагон, стоявший напротив, на европейской, узкой колее. А через час в Эйдкунене пришли пруссаки. Затянутый в портупею, офицер взял двумя пальцами паспортную книжку, аккуратно перевернул страницы. Возвратил, небрежно притронулся рукой к фуражке. Когда он вышел, в купе остался запах кельнской воды и хорошего табака.
В Берлине было чисто и солнечно. Блестели витрины магазинов, блестели медью каски шуцманов. Ицхак Мейер побродил с час по городу. Он стеснялся своего огромного сюртука, стоптанных ботинок. Стал накрапывать дождь. Ицхак Мейер побежал в сторону Потсдамского вокзала. Дорогу он не спрашивал, стеснялся говорить на идиш, а настоящего немецкого он не знал.
А еще через час он сидел в углу чистенького купе и поезд нес его на запад, мимо аккуратных полей и игрушечных городков. А когда на следующее утро он открыл глаза и посмотрел в окно, полнеба занимали зеленые горы.
Ицхак Мейер шел узкими улицами Цюриха, они пахли снегом и жареным кофе. Он постучал железной колотушкой в дверь. Ему открыла очень старая женщина. Он протянул ей письмо. Она взяла письмо, что-то сказала, кивком пригласила войти в дом. Старый раввин долго читал письмо, шевелил губами. Отложил письмо, посмотрел на Ицхака Мейера прозрачными голубыми глазами. Что-то поискал среди записок на столе. Потом сказал на удивительно понятном Ицхаку Мейеру языке.
— Ты будешь работать младшим помощником аптекаря у Шапиро.
— Где это? — спросил Ицхак Мейер.
— На Таль-штрассе.
Аптекарю Шапиро было не больше сорока. Он был высок, худ и лыс. В отличие от раввина, идиша Шапиро не знал, он говорил на диалекте, швицертютч. Ицхак Мейер стал его понимать только через неделю. Семья у Шапиро была большая: жена, старушка-мать и семеро детей. Жили они в большой квартире над аптекой. Там же пристроили и Ицхака Мейера — в чуланчике, под самой крышей.
Ицхак Мейер приходил туда только, когда стемнеет. Весь день проводил в провизорской. Старался все понять и запомнить. Сперва часто расспрашивал Ганса, старшего аптекаря. Тот отвечал неохотно и малопонятно. Тогда Ицхак Мейер решил разобраться сам. Копался в толстых книгах, стоявших рядами вдоль стен, что-то выписывал в тетрадку. Примерно через год Шапиро стал ему поручать смешивать порошки, готовить микстуры. Когда Ганс болел, а болел он часто, Ицхак Мейер заменял его в аптеке. Он уже хорошо понимал швицертютч, да и сам говорил неплохо, хотя и с акцентом. Однажды в провизорскую пришли Шапиро и Ганс.
— Ты вчера дежурил в аптеке?
— Да, я.
— Ты сделал неправильную дозировку. Штатсрат Мюллер чуть не умер.
Ицхак Мейер побледнел. Достал свою тетрадь.
— Дозировка была правильная. Вот, посмотрите.
Ганс вырвал у него из рук тетрадку.
— Ты врешь, гаденыш!
Шапиро взял тетрадь и поправил на носу золотые очки.
— Все в порядке, Ицхак Мейер. Иди работай. Это моя ошибка.
Через год Ганс женился на Эсфири, старшей дочери Шапиро. А еще через два месяца Ицхак Мейер навсегда уехал из Цюриха.
Шапиро вызвал Ицхака Мейера к себе, в маленькую конторку, рядом с провизорской. Долго копался в бумагах.
— У тебя неплохая голова и хорошие руки, Ицхак Мейер. Тебе не место в Цюрихе.
Ицхак Мейер ждал, что будет дальше.
— Тебе нужно ехать в Германию. У меня есть друг в Вуппертале. Его зовут Фридрих Байер. У него там большая фирма.
Шапиро наконец нашел бумагу и показал ее Ицхаку Мейеру.
— Я написал ему письмо. Он мне ответил. Он подыщет тебе место.
Когда Ицхак Мейер встал, Шапиро добавил многозначительно:
— Фридрих Байер — протестант, Ицхак Мейер.
А на следующий день Ицхак Мейер уже ехал на север. На нем был новенький костюм, золотые швейцарские часы в жилетном кармане. Вот только тот же поношенный саквояж, что и год назад.
А еще через день Ицхак Мейер шагал по живописной набережной Вуппера. Он прошел мимо дома, в котором за полвека до того родился Фридрих Энгельс, его учение в дальнейшем пагубно сказалось на жизни Ицхака Мейера. Но кто такой Фридрих Энгельс, Ицхак Мейер тогда еще не знал, и дома того не заметил.
А фирма Фридриха Байера была совсем недалеко, в том же зеленом пригороде Вупперталя, Бармене. Приняли Ицхака Мейера там на редкость радушно. Сам Фридрих Байер прочитал письмо, разгладил пышные усы, позвонил в звоночек. Когда появился Георг, секретарь по общим вопросам, представил ему Ицхака Мейера:
— Познакомьтесь, Георг, это — господин Годлевский. Он из Цюриха. Его рекомендует мой друг Шапиро.
Георг провел его к себе в кабинет.
— Господин Годлевский, как я понимаю, мы почти одного возраста. Можно мне вас называть по имени?
— Да, сказал Ицхак Мейер. Меня зовут Исидор.
С того дня он стал Исидором Годлевским.
Он стал работать в отделе внешних связей. Фирма химических красителей Байера быстро расширялась. За несколько лет до этого она объединилась с фармацевтической компанией и теперь открывала отделения в европейских странах. Исидора Годлевского сразу подключили к переговорам. Он несколько раз ездил в Париж и Лион. По ночам учил французский. За день прочитывал сотни бумаг, вникал во все детали. Контракт с французской фирмой был заключен на удивительно выгодных условиях. Ему повысили жалование. Он купил себе квартиру в доме на Эйхенштрассе.
Однажды его вызвал к себе Фридрих Байер.
— Господин Годлевский, я слышал, что вы подданный России. Это так?
— Да, господин майер.
— Мы собираемся открыть отделение в Москве. Я собираюсь вас рекомендовать управляющим. Вы не возражаете?
Исидор вспомнил пограничников в Вержболово и улыбнулся.
— Я не возражаю, господин Байер.
В Москве дела пошли неплохо. Старую красильную фабрику в Зарядье перестроили заново. Инженеры были из Германии, а русских рабочих подбирал Исидор сам. По-русски он говорил бегло, но с сильным акцентом. Чтоб улучшить произношение, брал уроки у актера из Малого театра.
Он сперва снимал номера, а когда фабрика заработала, купил дом в Замоскворечье. Вечерами ходил в Большой театр. По совету актера-учителя, захаживал и в Малый, но пьесы Островского ему не понравились.
Стал устраивать приемы. К нему ходили в основном купцы и банкиры, реже — инженеры. После сытной еды собирались в кабинете. Курили сигары, пили портвейн. Среди приглашенных были евреи, но Исидор их никак не выделял. Все говорили по-русски.
А потом стали приходить плохие известия. Летом 1880-го внезапно умер Фридрих Байер, ему не было и 50. Во главе фирмы стал Иоганн Вескотт. Он вызвал Исидора в Германию. Они просидели несколько часов, разбирали чертежи и документы. Вескотт остался доволен.
— Дело идет хорошо, Исидор. Мы будем расширяться.
Было решено открыть отделения в Петербурге и Нижнем Новгороде.
А весной следующего года анархисты убили российского императора. Говорили, что среди заговорщиков были евреи. Тогда Исидор впервые услышал слово «погром». Евреев убивали в Кишиневе и Киеве.
Как-то раз к Исидору заявился полицмейстер. Исидор принял его в кабинете. Предложил сигару. Полицмейстер сигару взял.
— Могу я посмотреть ваши документы, господин Годлевский?
Исидор дал ему паспорт и, к удивлению, почувствовал страх, как когда-то давно, на пограничной станции Вержболово.
А полицмейстер жевал сигару.
— Видите-ли, господин Годлевский. Мы очень высокого мнения о вашей общественно полезной деятельности. Но, согласно уложениям, имеющим силу в Российской империи, лица иудейского вероисповедания…
Исидор слушал его внимательно.
— Господин полицмейстер, я слышал, что в московской полиции открыт подписной лист для вспомоществования семьям нижних чинов, погибших или изувеченных при исполнении служебных обязанностей…
Сигара застыла в углу рта полицмейстера.
— Позвольте от имени фирмы «Байер» передать вам небольшое пожертвование на это благородное дело.
Он вынул из ящика письменного стола толстый конверт.
— Не трудитесь писать расписку, ваше превосходительство.
Полицмейстер встал, защелкал шпорами, захлюпал носом.
— Премного благодарен от лица сирот, господин Годлевский. Не сомневаюсь, небольшое недоразумение разрешится к взаимному удовольствию.
В следующем году, фабрика Байера открылась в Нижнем Новгороде, а еще через год — в Петербурге. Тогда перебрался в столицу и Исидор. Уже в новом звании — генерального представителя фирмы «Байер АГ» в России. Контора его была в новеньком доме на углу Невского и Екатерининского канала, недалеко от того места, где бомба анархистов разорвала в клочки доброго царя Александра II.
В Петербурге Исидор женился. До этого женщинами он интересовался мало. Когда возникали желания, что было нечасто, шел в бордель.
С невестой своей, Серафимой, Исидор познакомился на приеме у ее отца, банкира Алоиза Гершфельда. Исидор сразу обратил на нее внимание. Голубые глаза, точеный носик, шатеновые чуть вьющиеся волосы. Она сидела в стороне, ни с кем не разговаривала. Исидор подошел к ней и что-то спросил. Она покраснела и ответила невпопад. А потом он встретил ее в нотном магазине на Невском. Исидор навел справки. У Алоиза Гершфельда состояние восемь миллионов, недавно купил имение под Житомиром. У дочери официальных женихов нет.
Исидор несколько раз приглашал Серафиму в театр. Ходили на оперу — в Мариинский и в Итальянский. А как-то утром Исидор надел визитку и отправился к Алоизу, просить руки дочери. Алоиз выслушал благосклонно.
— Мы современные люди, Исидор Мейерович. Пусть решает Симочка сама. Мы не станем мешать ее счастью.
Свадьба была в хоральной синагоге.
Сразу после свадьбы молодые отправились в путешествие, в Германию, Швейцарию, Италию.
Приехали в Петербург через два месяца и сразу же въехали в новый дом на Мойке.
Одним из первых посетителей был Мойше, раввин из хоральной синагоги.
— Я слышал, что господин Годлевский ожидает прибавления семейства. Я надеюсь, что все будет у нас?
Исидор ответил довольно сухо.
— Благодарю вас, ребе. Но мы решили крестить наших детей по христианскому обряду.
— Вы хорошо об этом подумали, господин Годлевский?
Когда раввин встал, чтоб попрощаться, Исидор протянул ему конверт с чеком.
— Это на нужды синагоги.
2. МИХАИЛ
Михаил родился в марте. Крестили его в Андреевском соборе, на Васильевском. Там же крестили и Соню, самую младшую, она родилась через три года. А среднего сына крестили в лютеранской кирхе Санкт-Паули, на Невском. И назвали его Максимилианом.
Когда дети подросли, их отдали в школы при лютеранском приходе. Мальчиков — в Петершуле, а Соню — в Аннешуле. Дети были разные. Макс пошел в отца. Учился блестяще. Особенно хорошо давались ему языки. У Сони был хороший слух. Ей взяли учителя из консерватории и тот не мог на нее нахвалиться. «У вашей дочери большой талант…» А Михаил был бездельник и хулиган. В четвертом классе он получил колы почти по всем предметам и разбил окно в уборной. Исидора вызвал директор школы Рихард Паппе. «Господин Годлевский, я боюсь, что с вашим сыном нам придется расстаться…» Исидор перевел значительную сумму в попечительский совет. Михаилу наняли репетиторов по всем предметам. Годам к четырнадцати Михаил успокоился. Учился неважно, но не хулиганил. Правда, Исидор замечал, что от Михаила попахивает табачком, а как-то раз ему показалось, что он видел сына в пролетке с веселыми девицами.
Школьные годы пролетели быстро. В 12-м году Михаил поступил в университет, на медицинский. А через год Макс уехал в Германию — учиться в Гейдельберге на химика. Хотели послать в Германию и Соню, но не успели, началась война. Соня поступила в Петроградскую консерваторию.
В тот день, в августе 14-го, когда Германия объявила войну, толпа разбила витрины «Байер АГ» на Невском. Исидор распорядился убрать немецкие надписи и прикрепить на фасаде большой триколор. Макс уехал в Гейдельберг в начале июля. Уже ходили слухи о войне. В Боснии убили эрцгерцога. Исидор долго сидел в кабинете, рассчитывал, что лучше для Макса, ехать или остаться. Потом решил: «Пускай едет». На Варшавском вокзале Макса провожала вся семья. Из тех, кто провожал Макса, только Михаилу довелось увидеть его снова, через сорок лет.
Михаил уехал на фронт вольноопределяющимся. С медицинским обозом стоял в ближнем тылу действующей армии, сперва в Белоруссии, потом на Двине. Делал по двадцати операций в день. Научился пить спирт.
В семнадцатом происходило что-то непонятное. Сперва почему-то отрекся государь. Затем солдаты бросили фронт и стали убивать офицеров. Летом Михаил вместе с несколькими офицерами, вернулся в Петроград. Город кишел пьяными солдатами. На Невском лузгали семечки. В октябре матросы разогнали адвокатов из Временного правительства, а рабочие разгромили завод Байера. Исидор сидел в кабинете у камина и пил портвейн. К Михаилу пришли офицеры из полка.
— Мы на Дон. Ты с нами?
— Я с вами, сказал Михаил. Они выпили шампанского.
На Дону было пьянство и неразбериха. Из Добровольческой армии Михаил перебрался на восток, в армию Колчака. Там было не лучше. Как-то раз во время сильной пьянки штабс-капитан Рыбников уставился на Михаила оловянными глазками и произнес, едва раскрывая рот:
— А что с нами делает этот жид?
Михаил вскочил, схватил обидчика за грудки:
— Я — русский офицер. Вы ответите!
Он посмотрел по сторонам. Все были сильно пьяны. Многие улыбались, сочувственно.
Ночью Михаил ушел к «красным». Перешел по льду широкую речку, едва не заблудился в лесу. Приняли его хорошо. В той части, куда вышел Михаил, уже был врач, доктор Живаго из Москвы.
— Ну как там у «белых», коллега?
— Там плохо, сказал Михаил.
— Здесь не лучше, — Живаго затянулся папиросой.
С «красными» Михаил прошел почти всю Сибирь. Его отпустили в Чите, после контузии.
До Петрограда Михаил добирался месяц, в насквозь промерзших поездах. В Петрограде было пусто.
Он вошел в дом на Мойке. Двери были выломаны, окна разбиты. Разбитая мебель, распоротые тюфяки. На полу лежали фирменные конверты: «Байер АГ». Людей в комнатах не было. В сторожке он нашел дворника Герасима. У Годлевских были обыски. Искали золото и офицеров. Исидора несколько раз увозили на Гороховую. После очередного обыска, зимой 19-го, они решили бежать. Поехали под Житомир, там у Серафимы была родня.
Позже Михаил узнал, что то местечко под Житомиром осенью 19-го разгромили гайдамаки Петлюры. Среди евреев не уцелел никто. Михаил приехал туда через несколько лет. Пытался найти захоронение. Бесполезно. Убитых бросали в овраг и забрасывали черноземом.
А жизнь продолжалась. Михаил пришел на свой факультет. Теперь он назывался «Первый медицинский». Учился еще два года. Ходил в довоенной студенческой фуражке. В доме на Мойке устроили коммуналки. Михаилу оставили кабинет отца с видом на Новую Голландию.
Михаил закончил институт летом 25-го. Он был самым старшим на курсе. В день окончания допоздна сидели в студенческой столовой, пили пиво и горланили песни. Потом отправились гулять. Добрались до островов. Была тихая белая ночь. Кто-то из девок захотел прокатиться на лодке. Михаил стал стучаться в дом лодочника. В окне появилось заспанное лицо.
— Господи, поспать не дадут. Люди вы или евреи?
Миша достал свою печать, дыхнул и оставил оттиск на объявлении о прокате лодок:
ДОКТОР М. И. ГОДЛЕВСКИЙ, ЛЕНИНГРАД
Михаил устроился на работу в Военно-медицинскую академию. Сперва вольнонаемным, потом его взяли в кадры РККА. Демобилизовался он майором.
В те годы много денег приносила частная практика. Он как-то сразу попал в обойму, стал модным врачом-практикантом. Одним из первых его пациентов был Мирзоянц, директор треста. Михаила вызывали по ночам. Звонила жена: «Доктор, приезжайте! Ашотику опять плохо. Такси у вашего подъезда». Михаил простукивал пальцами липкое от холодного пота тело Мирзоянца, считал пульс, давал выпить снотворное. Мирзоянц его не отпускал. «Доктор, вы возвращаете мне жизнь». В прихожей жена Мирзоянца протягивала Михаилу толстый конверт с червонцами. Мирзоянца вскоре расстреляли за крупную растрату.
Михаил стал покупать старинную мебель. Завел знакомство с комиссионерами. Когда приходило что-нибудь интересненькое, ему звонили. Тогда интересненькое попадалось часто — то, что растащили из разгромленных дворцов и имений. Он особенно удачно купил бюро и диван стиля Александра I — вещи музейные.
В 28-м году Михаил женился на Вере Масленниковой из Общей хирургии. Они стали встречаться еще в институте, Вера была на два курса младше. Жила вместе с матерью, тихой богомолкой Марией Ильиничной, в деревянном домике на Конной Лахте. Венчались в небольшой церкви на Петроградской. Позднее удалось обменять дом на Лахте на две комнаты в квартире на Мойке. Когда, год спустя, Мария Ильинична умерла, в одной из этих комнат устроили спальню. Дочь Маша родилась летом 30-го. Ей сделали спальню во второй комнате.
В 37-м пошли аресты. В отделении Михаила исчезли трое: двое стареньких врачей и один совсем молодой, из рабфаковцев. Михаил спал неспокойно, ждал, что за ним приедут. В графе «социальное происхождение» у него стояло «из служащих», о службе в Белой армии он не упоминал. А вот в пункте «есть ли родственники за границей», у него стояло «да, имею: брат за границей с 1914 г., связи не поддерживаю». Пронесло. Не взяли.
Осенью 39-го началась война с Финляндией; Михаила послали на Карельский перешеек. Зима выдалась морозной, армия к холодам была не готова. Михаилу приходилось ампутировать отмороженные конечности. Несколько раз его вызывали на экспертизу: определять следы пороха вокруг огнестрельных ран. В большинстве случаев эти следы были видны простым глазом. Михаил подписывал протокол. Самострельщиков судили и тут же расстреливали.
Начиная с осени 41-го, Михаил был на Ленинградском фронте. Его лазарет был недалеко от фронта, на Синявинских болотах. Война там была позиционная. Как-то раз, уже зимой, его послали на передовую. Во время боя местного значения на том участке прорвались немцы. Михаила контузило, и он попал в плен. Пришел в себя ночью. Лежал он на соломе в сарае и кто-то тряс его за плечо. «Доктор, очнитесь, доктор». Михаил открыл глаза. Рядом с ним лежал молоденький лейтенант.
— Нам надо бежать, доктор. Немцы нас расстреляют.
— Почему они должны нас расстрелять?
— Вы — еврей, а я — политработник.
— Я — русский. Могу предъявить военный билет.
— Немцы не смотрят в документы, доктор.
Их сарай охраняли плохо. Нахохленный часовой дремал, сидя на козлах.
Они долго шли по заснеженному лесу. Наконец, откуда-то донесся деловитый матерок. Они чуть не заплакали от радости. Разбитые части собирались в окрестностях Тосно. Михаила долго допрашивали в особом отделе. Он отвечал односложно:
«Был контужен. Долго лежал в лесу. Потом пришел в себя, выбрался к своим». Про плен — ни слова.
Остаток войны он провел в Ленинграде, на казарменном положении. Приходил домой по воскресеньям. В противогазе приносил кусочек масла и несколько буханок черствого хлеба. Когда в 43-м прорвали фронт на Волхове, стало немного легче. Маша стала ходить в школу. Вера держалась молодцом. Только у нее сильно запали глаза и вся она как-то высохла.
Когда война кончилась, жизнь стала понемногу налаживаться. И тут внезапно умерла Вера. Ее стало плохо с сердцем на работе, она потеряла сознание. Ей сделали укол, хотели отправить в стационар. Вера не далась. «Что вы, ни в коем случае. Меня ждут дома».
Второй раз ей стало плохо дома на лестнице. Она упала, потом поднялась на колени, поползла по мокрым ступенькам. Ее нашли соседи. Михаил втащил ее в квартиру, она была совсем легкая. Вызвал «неотложку». Вера умерла в машине.
После похорон Михаил вошел в комнату к Маше, крепко обнял ее и заплакал. Кажется, первый раз в жизни.
В начале 53-го стали увольнять евреев. Завкадрами Терешков просматривал личные дела. Долго изучал дело Михаила. «Фамилия какая-то подозрительная».
«Наверное из поляков», успокоил его замполит Покрышкин. Из их клиники уволили четверых, в том числе Ильюшу Абрамсона, институтского приятеля.
Илюша вечером приехал к Михаилу.
«Мишка, я написал письмо Сталину. Ты меня знаешь больше, чем другие. Может быть, ты тоже напишешь от себя? Я тут набросал несколько слов…»
«Обязательно напишу, Илюша. Только не сейчас. Сейчас — не время…»
Когда Илюша уходил, Михаил незаметно сунул ему в карман конверт с деньгами.
3. МАКС
Михаил комиссовался в конце 55-го, в чине майора. Ему выправили неплохую пенсию, с добавками как участнику войны и блокаднику. В академии он продолжал консультировать. Сохранилась и кое-какая частная практика. В свободное время он возился с мебелью. Что-то подчищал, полировал, подкручивал. Забот хватало. Машка уже большая. Закончила университет. Работала в библиотеке.
Однажды утром, когда Михаил был дома, раздался телефонный звонок.
— Михаил Исидорович?
Сердце Михаила екнуло. Голос был неприятный.
— Вас беспокоит майор Пронин Николай Николаевич. Я из комитета государственной безопасности.
Михаил почувствовал, что у него потеют руки.
— Чем могу служить, Николай Николаевич?
— У нас к вам пара вопросиков. Не сочтите за труд…
Николай Николаевич был лысоватый блондин с мясистым носом.
— Михаил Исидорович, вы в анкете пишете, что у вас брат за границей. Что вы о нем знаете?
— Да ничего не знаю. Брат уехал накануне империалистической войны. Никаких контактов не поддерживаю.
— И очень напрасно, что не поддерживаете, Михаил Исидорович! Сейчас времена другие. Мы поощряем контакты с соотечественниками за рубежом.
Николай Николаевич с удовольствием затянулся папиросой.
— Могу вас порадовать, Михаил Исидорович. Ваш братец, Максимилиан Исидорович, жив-здоров, живет в городе Лондоне. Разыскивает вас через международный Красный Крест.
— Что же мне делать? — спросил Михаил.
— А вот что. Берите лист бумаги. — Николай Николаевич протянул ему стопку.
— Берите ручку, да и пишите вашему братцу письмо по этому адресу.
Михаил прочитал странное имя — Макс Бичем — и адрес в Лондоне. Встряхнул ручку и вывел:
«Дорогой Макс, наконец я нашел время и место…»
А весной следующего года Михаил встречал Макса в пассажирском порту — тот приехал пароходом Балтийской линии из Хельсинки. Михаил сразу узнал брата в толпе, сгрудившейся у борта. Макс мало изменился; конечно, располнел, посолиднел, серебристые волосы волной падают на плечи. И вот они уже стоят рядом, целуются, хлопают друг друга по спине. Они удивительно похожи, только Михаил, лысый и сутулый, кажется лет на десять старше. К ним проталкивается высокая женщина с голубыми волосами. Макс берет ее за руку, представляет:
— Пенелопа, жена.
И тут подскакивает молодой человек, круглолицый, в сером плаще, надетом прямо на рубашку. Протягивает руку:
— Меня зовут Антони.
— Антони Рис-Вильямс, наш друг и коллега, — представляет его Макс.
Они едут на такси в «Европейскую». У них там забронирована анфилада комнат на бельэтаже.
Макс не отрывает глаз от Михаила.
— Мишка, черт возьми, Мишка! Сорок лет, целая жизнь!
Потом бросается к чемоданам.
— Мы тут кое-чего тебе прихватили…
Михаил отмахивается:
— Потом, Макс, потом…
На Мойку они идут пешком. Макс семенит впереди:
— Господи, я все помню. Вот наша Петершуле. Все, как было!
Берет за руки Пенелопу и Антони, что-то быстро тараторит по-английски.
Когда они подошли к дому на Мойке, Макс чуть не зарыдал. У него путались русские и английские слова.
— Смотрите: здесь была привратницкая, здесь жил дворник Герасим. Вот парадный подъезд. Вот наша обитель.
Михаил повернул ключ и они вошли в квартиру.
— Только, пожалуйста, потише, — предупредил Михаил. — Мы здесь не одни.
Когда они шли по коридору, двери открывались одна за другой, и из дверей высовывались любопытствующие жильцы.
Они вошли в кабинет. Макс подбежал к окну и застыл. Был солнечный мартовский день. Арка Новой Голландии плыла на фоне бледно-голубого неба.
Антони сделал стойку на мебель. Вытащил из кармана маленькую лупу, стал внимательно изучать инкрустацию. Повернулся к Пенелопе, что-то быстро сказал. Макс перевел.
— У тебя прекрасная мебель. Антони просит разрешения ее сфотографировать.
Антони извлек из сумки несколько аппаратов и защелкал.
Тут дверь отворилась и вошла Машка. К приезду гостей она прифрантилась, сделала прическу. Макс ее всю зацеловал.
— Машка! Какая красавица!.
Пенелопа достала из сумки большой пакет.
— Вот тебе немного здесь. Остальное — в гостинице.
Машка покраснела.
— Ей богу, не стоило. Проходите в столовую…
В столовой на большом столе красного дерева был собран небольшой завтрак: водка в хрустальном графине, икра в серебряной баночке, лососина на фарфоровых кузнецовских тарелочках.
«Сейчас принесу блины», — сказала Машка.
При слове «блины» Макс застонал, а Антони защелкал аппаратом.
Английские родственники гостили две недели, и эти две недели пролетели, как один день. Почти каждый вечер они были в театре, в Кировском или в Малом. Днем ходили по музеям, ездили в загородные дворцы. Везде Антони прилежно щелкал аппаратом, а Пенелопа, надев очки в золотой оправе, что-то быстро писала в маленькой книжечке.
В промежутках Макс рассказывал свою историю. Как он закончил университет в Гейдельберге и оказался без работы. После войны в Германии наступила глубокая рецессия. Кто-то посоветовал податься в Англию. В Англии поначалу было несладко. Жил в Лондоне, в маленькой квартирке в еврейском районе Голдерс Грин. А потом дела пошли лучше. Удалось устроиться в Империал Кемикал Трест. Там он быстро пошел в гору, стал менеджером крупного отдела. В 36-м его послали на год в Штаты. Там удалось заключить очень выгодный контракт. Обратно он возвращался на пароходе, только что построенном «Юнайтед Стейтс». За его столиком в ресторане оказалась красивая молодая американка — Пенни. Они разговорились. Она была журналисткой, ехала стажироваться в «Дейли мейл». Она была замужем. Муж ее — крупный финансист. Как-то после ужина Пенни постучалась в каюту Макса. В руке у нее была бутылка шампанского. «Мне очень захотелось выпить с вами, Макс».
Все остальное путешествие они редко выходили из его каюты.
А в Лондоне она переехала в его квартиру, у Макса к этому времени была большая квартира в Кенсингтоне.
Бракоразводный процесс продолжался несколько лет, о нем писали все газеты. Пенни (ее теперь называли не иначе как Пенелопа) удалось отсудить от бывшего супруга несколько миллионов. На эти деньги она купила маленький журнальчик «Тудей», едва сводивший концы с концами. За эти годы журнал стал едва ли не самым популярным изданием по обе стороны Атлантики, с тиражом в несколько миллионов. Антони, фотограф и художник, был главным помощником Пенелопы.
Когда они поженились в небольшой церквушке в Сохо, Макс взял ее фамилию — Бичем. Вскоре он основал собственную компанию — Бичем Лимитед. Он начал с химических красителей, а сейчас осваивает производство чувствительных фотопленок. У них большая квартира с видом на Гайд-парк и имение в графстве Саррей. «Ты все это увидишь, Мишка!»
Оформление визы затянулось. А тем временем Машка вышла замуж за пианиста Олега Кузнецова. Машка познакомилась с ним в гостях, у университетской подруги и влюбилась безумно. Олег Кузнецов, голубоглазый блондин, был аспирантом консерватории. Его отец был главным инженером крупного завода, членом «партхозактива». Ему довольно быстро удалось выбить для молодых двухкомнатную квартиру в Автово.
Вскоре Олег закончил аспирантуру. Его взяли в консерваторию доцентом. Он несколько раз подавал на международные конкурсы, но каждый раз его отсеивали.
Как-то раз молодые обедали у Михаила. Олег перебрал водочки и его понесло.
— Куда ж мне с моей фамилией на международный конкурс! Там уж все господа евреи давно между собой поделили!
— Ну, так уж и евреи… — мягко не согласился Михаил.
— Ну не они одни, — шумел Олег, — куда ни ткни — Додик Ойстрах, Зара Долуханова, Слава Ростропович — одни инородцы!
— Ну знаете ли! — завелся было Михаил, но увидел умоляющие глаза Машки и осекся.
Михаил прилетел в Англию летом 60-го. Его довольно долго продержали на паспортном контроле. Офицер иммиграционной службы внимательно изучал его паспорт, сверялся с записями в толстой книге. Что-то спросил по-английски. Михаил не понял, спросил, не понимает ли офицер по-немецки. С горем пополам договорились. Михаил улыбнулся и сказал, что немецкий — это язык их общего врага.
— Вы были на войне? — поинтересовался офицер.
— Да. Под Ленинградом.
— Ленинград… — с уважением повторил офицер, возвращая паспорт.
В зале ожидания его ждал Макс.
— Проголодался? Потерпи немножко. Сейчас будем обедать.
Лондонская квартира Макса чем-то напоминала их дом, таким, как он был много лет назад, до революции. Мраморная лестница с ковром, тяжелые дубовые двери с начищенными медными ручками. Обедали долго, с аперитивом, отменным вином к каждому блюду. После обеда прошли в кабинет, там Макс вытащил пузатую бутылку портвейна и раскрыл ящик с сигарами.
— Как у отца, — сказал Михаил.
Макс пожал плечами и улыбнулся.
На следующий день поехали в загородное имение, в Саррей. Там был огромный дом с флигелями.
— Сколько комнат? — спросил Михаил.
Никогда не считал, — признался Макс.
Макс показал Михаилу конюшни и парники, где росли диковинные овощи.
— Вот уйду на пенсию, продам к черту дом в Лондоне, уеду сюда, стану фермером, — сказал Макс.
— А как Пенелопа?
— Пенелопа не может без Лондона, — вздохнул Макс.
Всю первую неделю Макс водил Михаила по лондонским музеям. Потом они стали ездить по югу Англии. Побывали в Оксфорде, Кембридже, Стратфорде.
Однажды Макс сказал:
— Мишка, на той неделе у нас в имении большой прием. Тебя нужно приодеть.
В магазине на Оксфорд-стрит Михаилу купили смокинг, дюжину рубашек, галстук-бабочку.
Прием, точнее гарден-парти, проходил на лужайке перед домом. Лакеи в смокингах расставили столы на неестественно зеленой траве. Гости стали съезжаться к полудню. Макс и Пенелопа стояли у ворот, чинно приветствовали приезжавших. Михаил держался подальше и старался не высовываться. Время от времени Макс его выхватывал и подводил к знаменитостям. Вскоре Михаил безнадежно запутался в созвездии министров, журналистов, футболистов и актеров.
Михаил заметил движение в центре лужайки. За столиком сидел Антони Рис-Вильямс и женщина в черных очках. Она курила сигарету, вставленную в длинный мундштук. Чуть поодаль сидели двое молодых людей с сонным выражением лиц, свойственным агентам спецслужб во всех странах мира.
Макс подтолкнул Михаила к столику.
— Ваше высочество, мой брат.
Женщина в черных очках протянула руку в перчатке.
— Очень приятно. Меня зовут Каролайн.
— Принцесса Каролайн, — тихо сказал Макс.
— Моя невеста, — с улыбкой добавил Антони.
Макс с бокалом вина в руке тихо перетекал от одной компании к другой. Когда вино в бокале кончалось, сразу же откуда-то возникал лакей с бутылкой. Часам к трем ряды гостей стали редеть. От ворот отъезжали «роллс-ройсы» и «бентли».
Михаил стоял недалеко от Макса и Пенелопы, приветливо улыбался, пожимал руки. Вдруг он почувствовал, что его кто-то слегка обнял за плечо. Он повернулся и увидел незнакомого человека в изящном смокинге, с модной широкой «киской».
— Познакомимся, сказал человек по-русски, протягивая руку. — Я — Евгений Гришин, военно-морской атташе.
— Давайте выпьем.
Они подошли к бару, Гришин взял бутылку водки и налил по полному стакану. Они чокнулись.
— Со знакомством!
Гришин поставил стакан, вытер рот платочком и сказал, не поворачивая головы.
— Вам большой привет от Николай Николаича.
Михаил стоял молча, ждал, что будет дальше.
Гришин опять потрепал Михаила по плечу.
— Ну, я поехал. Я вам позвоню.
Гришин позвонил через неделю.
— Я жду вас завтра к семи. Запишите адрес…
— Я не уверен, что я найду.
— Попросите Макса вызвать вам такси.
Макс новое знакомство Михаила явно не одобрял.
— Смотри, осторожно. У Гришина сильно пьют.
Михаил расхохотался.
— Не беспокойся, Максик. У меня стаж с Первой мировой…
Гришин жил в большой квартире на Сохо. Михаил уже немного разбирался в ценах; он сразу понял, что такая квартира стоит состояние. Когда Михаил вошел, веселье было в полном разгаре. В просторной гостиной было, пять или шесть причудливо одетых мужчин и женщин. Все пили водку со льдом из больших бутылок, курили русский «беломор». Всем явно заправлял молодой человек с порочным лицом, его звали Джон. Михаил вспомнил, что он его видел на приеме. Это был Джон Бермудо, государственный секретарь по обороне.
Дверь открылась и в комнату вошла яркая блондинка с большим бюстом. Гришин подвел ее к Михаилу.
— Украшение нашего вечера. Лоррейн Килдин, звезда мюзик-холла.
Что было дальше, в сознании Михаила укладывалось плохо. Заиграла громкая музыка, свет потух, а откуда-то с потолка пошли электронные вспышки, они высвечивали фигуры людей, корчившихся в странном танце. Джон и Лоррейн двигались в центре и с каждой вспышкой на них оставалось все меньше одежды. Когда они были уже совершенно голые, кто-то протянул Джону длинный предмет. Раздался резкий свист, и Михаил понял, что этот предмет — хлыст, который рассекает голое тело Лоррейн. Михаил почувствовал тошноту и стал пробираться к выходу.
У двери стоял Гришин.
— Завтра я тебе позвоню. Ты кое-что заберешь у этого говнюка…
Однако Гришин ему не позвонил, ни завтра, ни послезавтра. А на третий день разразилась катастрофа.
Он проснулся, как всегда, около восьми, побрился и спустился в столовую. Обычно, там уже сидели Макс и Пенелопа, он — в муаровом халате, она — в пеньюаре, пили утренний кофе с тостами, просматривали газеты. А в то утро комната была пуста. На столе лежала записка: «Срочно уезжаем. Еда на кухне и в холодильнике».
Михаил раскрыл лежавшую на столе газету. Всю первую страницу занимали большие фотографии — мужчина и женщина в наручниках. Качество снимков было невысокое, но Михаил узнал этих людей сразу; это были Джон Бермудо и Лоррейн Килдин. На второй странице была фотография человека в темных очках и в надвинутой на лоб шляпе, поднимающегося по трапу самолета. И его Михаил узнал без труда: это был Евгений Гришин, советский военно-морской атташе.
Макс появился на третий день вечером. Выглядел он неважно. Казалось, постарел лет на пять. Он зашел в комнату Михаила.
— Завтра встаем в шесть утра. Едем на север.
— Куда это? — поинтересовался Михаил.
— Озерный край, чудесные места.
Они выехали рано и сравнительно быстро вырвались из паутины лондонских улиц. За городом Макс сразу развил приличную скорость. Михаил едва успевал читать указатели с названиями городов, проплывавших в стороне: Ковентри, Бирмингем, Ливерпуль. Несколько раз Михаил пытался заговорить, но Макс отвечал односложно и разговор не поддерживал.
Часам к семи вечера они приехали в Амблсайд, игрушечный городок у северной оконечности длинного и узкого озера. Кругом виднелись зеленые горы. Они остановились у маленькой гостиницы. Хозяин, подняв на лоб старомодные очки, сверился по книге и выдал Максу ключи.
«Миша, ты голоден?» — спросил Макс и, не дожидаясь ответа, купил в баре несколько сэндвичей и большую бутылку виски.
Весь вечер и большую часть ночи они просидели за этой бутылкой в маленьком гостиничном номере.
— Ты слышал про скандал с Бермудо? — спросил Макс.
— Я видел газеты. Честно говоря, я не все понял. Я надеюсь, что тебя это не коснулось…
Макс рассмеялся.
— О нет. Совсем чуть-чуть… Если не считать, что они меня разорили…
— Кто они?
Макс сделал неопределенный жест.
Максу пришлось повторить свою историю несколько раз, прежде чем Михаил начал его понимать.
— Ты понимаешь, Мишка, мы тут все живем взаймы. Это как тришкин кафтан. Берем в долг, чтоб расплатиться по другим векселям. Так делают все. Я, конечно, перебрал. Разработки и исследования стоят дорого, а прибыль появляется не сразу. Хуже всего то, что я забрался в кассу Пенелопы. Я истратил почти весь пенсионный фонд концерна «Тудей».
Михаил не знал, что такое «пенсионный фонд», но почувствовал, что то, что сделал Макс, — ужасно.
— Как истратил?
— Ну, конечно не на себя. Я вложил эти деньги в акции, казалось, надежные.
— Ну и что?
— А то, что конъюнктура рынка дело изменчивое…
— Эти деньги пропали?
— В общем, да.
— Ну и что дальше?
— А дальше то, что в течение последних дней все мои кредиторы, как по команде, потребовали вернуть им деньги.
— А так случается не всегда?
— Конечно, нет! Обычно удается получить отсрочку или взять новый кредит, чтоб расплатиться по старым… И тут выплыла эта история с пенсионным фондом…
— А связано ли это как-то с Гришиным?
— По-видимому, да.
— Ты имел с ним контакты?
— Самые минимальные. Кое-какие услуги. Да, кстати, это он помог мне найти тебя…
Они выпили виски и помолчали. Михаил отломил кусок сэндвича, Макс раскурил сигару.
— А как Пенелопа?.
Макс грустно улыбнулся.
— Пенелопа начала бракоразводный процесс. Она это умеет делать…
Михаил провел рукой по лицу.
— Так что же теперь будет, Макс?
Макс разлил по стаканам остатки виски.
— Да что-нибудь придумаем, Мишка. Давай выпьем и пошли спать.
Макс разбудил Михаила на рассвете.
— Слушай, Мишка, я забыл тебе сказать вчера вечером…
Михаил плохо соображал со сна.
— В чем дело, Макс?
— Я хотел передать тебе это, — он держал в руках кожаную папку.
— А что это?
Макс раскрыл папку. Там лежала толстая пачка бумаг с золотыми обрезами.
— Это акции. Для тебя и для Машки. Вы — единственные, кто у меня остался.
— Но почему именно сейчас?
— Именно, сейчас. И учти, это самые надежные акции. С ними ничего не случится. Их цена будет только возрастать…
— И сколько же здесь?
— Довольно много. Примерно на миллион.
— Да ты с ума сошел!
— Да нет. Я в здравом рассудке. И для меня очень важно отослать эти бумаги именно сейчас. Пока про них не пронюхала Пенелопа и ее адвокаты.
Они спустились к центру городка и на главной площади нашли здание почты.
— Какие вы можете предложить нам самые быстрые способы отправки? — спросил Макс.
Почтовый чиновник стал просматривать реестры.
— Самый быстрый способ — это DHL. Гарантированная доставка в течение суток. Но это дорого, сэр…
— Нам это подходит. Пиши адрес, Мишка.
Михаил аккуратно вывел адрес: «Ленинград… Набережная реки Мойки… Годлевской Марии Михайловне…»
А теперь едем в горы, сказал Макс, забираясь в машину. Они поехали по узкой дороге на запад от озера. Дорога круто шла вверх, петляла между зелеными отрогами. Примерно через час Макс остановил машину.
— Мишка, выходи. Посмотри, какой здесь вид.
Они стояли на перевале. Под ними громоздились зеленые, серые и коричневые холмы, а где-то далеко, у горизонта, виднелась извилистая лента озера. Цвет озера все время менялся: под лучами солнца озеро вспыхивало серебром, а когда надвигались тучи, становилось изумрудным.
Они стояли довольно долго. Потом Макс подошел к машине.
— Отойди, Михаил. Я развернусь.
Что произошло в течение последовавших секунд, было последним, что Михаил увидел и почувствовал в своей сознательной жизни. Машина Макса медленно развернулась, Михаил слышал, как шуршал гравий под колесами. Потом машина на мгновенье замерла у противоположной обочины. И вдруг резко рванула с места, пробила невысокий поребрик и полетела под откос.
— Макс! — крикнул Михаил и бросился вслед за машиной. Он увидел, что машина Макса несколько раз перевернулась, ударилась о скалу и взорвалась ярким пламенем.
— Макс! — еще раз крикнул Михаил и почувствовал, что камни посыпались у него из под ног, и он летит в пропасть.
Через час Михаила доставили вертолетом в ближайший госпиталь, в Уиндермир, а на следующий день самолетом перевезли в Лондон. Он был без сознания. Множественные переломы и травма основания черепа. Уже в Лондоне у него произошел обширный инсульт, с полной потерей речи.
В Ленинград его привезли через месяц. Машка и Олег встречали его в аэропорту. Михаил сидел в инвалидном кресле, закутанный в плед.
«Папа!» крикнула Машка и стала целовать его небритую щеку.
Михаил попытался подняться, погладил Машкину руку, зашевелил ртом.
После этого Михаил прожил еще десять лет. Все эти годы он просидел в инвалидном кресле, сидя у окна с видом на Новую Голландию. Машка трогательно о нем заботилась. Сажала на горшок, кормила с ложечки, переодевала, мыла его дряблое тело. Он медленно угасал.
А потом заболел Олег. Машка стала замечать, что с ним творится неладное. Головные боли, по вечерам температура. Часто приходилось отменять концерты. Положили на обследование. Нашли нарушение формулы крови. Олега перевели в Институт крови. Там поставили страшный диагноз: редкая форма лейкемии. Машка обегала всех знаменитостей. «Сделайте что-нибудь. Спасите Олега!»
Последние два месяца Олег провел на Мойке. Они лежали в одной комнате с Михаилом, каждый под капельницей. Когда Олег был еще в сознании, он даже пошутил:
«Вот уж не думал. С любимым родственником из выкрестов…»
Олег и Михаил умерли с разницей в два дня. Хоронили их раздельно. Олега отпевали в Никольском соборе. Было много народу. Пришла почти вся консерватория.
А в крематории на панихиде Михаила людей было немного. Его мало кто помнил. Ему отдали воинские почести. Взвод курсантов нестройно стрельнул в воздух. Сыграли гимн.
Через несколько дней Машка разбирала бумаги отца. Господи, сколько ерунды накопилось. Какие-то давно никому не нужные письма, справки, аттестаты. Она растопила камин, которым не пользовались с блокады, бросала в огонь всю заваль. Где-то на полке она нашла нераспечатанную бандероль, когда-то пришедшую на ее имя. Сорвала печать. Из конверта посыпались бумаги с золотыми обрезами. Она стала разбирать английские слова. «Какая-то чушь от дяди Макса…»
Она бросила в огонь всю пачку. Толстая бумага долго на разгоралась, потом вспыхнула синеватым пламенем. Машка смотрела, как листочки корчатся в огне и разлетаются пепельным тленом.
АРХЕОЛОГ ИЗ ВСЕХСВЯТ
1
Той осенью Сереже Островскому было тоскливей, чем обычно. Путь домой из Археологического присутствия выбирал он себе подлиннее. Шел он по Невскому, не обходя своим вниманием пахнущий лимоном и дешевым коньяком распивочный зал фирменного магазина «Арарат», что под аркой Главного штаба. Проходил гулкими лабиринтами Дома книги. Вливался в толпу и проплывал освещенными приглушенным светом залами «Пассажа».
Собственно, дома у Сережи никакого и не было. В просторной квартире на верхнем этаже запутанного сооружения, что высилось на углу Пестеля и Моховой, Сережиным был небольшой стол-бюро с задвигающейся ребристой крышкой. Стол этот ездил с Сережей повсюду, тянулся за ним из далекого и почти забытого Могилева, кочевал по съемным квартирам, пока не обрели они здесь пристанище. Задвинутый в дальний угол, Сережин стол настороженно скрипел, с испугом поглядывая на обступивших его и недобро поблескивавших позолотой темно-красных чудовищ.
Дома Сережу встречали теща, Ядвига Вацлавовна, и Яна, дочь Сережиной жены Магды от ее первого брака. Несмотря на значительную разницу в возрасте — Ядвиге Вацлавовне было за семьдесят, а Яне только что стукнуло двенадцать, — обе они были удивительно похожи настороженным и слегка испуганным выражением широко раскрытых голубых глаз.
— Что нового в лучшем из миров? — эту фразу Ядвига Вацлавовна повторяла каждый раз, когда видела Сережу, иногда по нескольку раз в день. И Сережа каждый раз отвечал без улыбки:
— Все идет к лучшему, мадам…
Сережа проглатывал разогретый тещей бульон и окаменелые котлеты с прилипшими к ним макаронами и садился с Яной за стол-бюро, проверять Янины уроки.
— Попробуй еще раз, Яночка… Это же так просто.
Он старался не дышать в Янину сторону, хотя и знал, что это бесполезно. Яна морщила курносый носик.
— Ты опять выпил, па. Придется доложить мамане…
Сережа что-то бурчал и быстро решал Янину задачу.
Потом Сережа забирался с ногами на диван и раскрывал какую-нибудь книжку. Ему редко удавалось сосредоточиться на чтении. Он прислушивался к шагам на лестнице, хотя знал, что Магда придет нескоро, не раньше десяти — она вела вечерние занятия. Раньше он выходил встречать ее к остановке автобуса, на Литейный. Случалось так, что он ждал ее до одиннадцати, и, не дождавшись, возвращался домой. Магда была уже в постели.
— Меня подвезли на такси, — говорила она, устало зевая, и отворачивалась к стенке…
Однажды, осенним утром в тоскливой жизни Сережи Островского забрезжил лучик света. Он принял обличие Вадика Михеева, сутулого бородача в светло-сером костюме, Сережина сокурсника. Вадик курил и натужно кашлял в углу присутственного коридора. Завидев Сережу, Вадик сделал сложное па ножкой, выплюнул сигарету, с большого расстояния попав в пепельницу, и громко закричал, не тратя время на приветствия:
— Поехали во Всехсвят! Ты обещал!
Сережа вспомнил. Обещал, действительно обещал поехать с Вадиком во Всехсвят. Туда, где Вадик, археолог из враждебного Присутствию Музейного ведомства, нечаянно нашел стоянку древнего человека, древнейшую во всем их околотке.
— Так ты едешь? — наседал на Сережу Вадик.
Сереже мучительно хотелось согласиться сразу, но честь Присутствия не позволяла.
— Поехал бы, Михеич, да начальство не пустит. Командировочные срезали.
— Так вот они, твои командировочные. Вот они! — Вадик сунул в нос Сереже какие-то бумаги.
— Не доедали, не допивали, на гигиене экономили. Все ради вас, сэр!
Ломаться дальше не было смысла. Скрепили соглашение в распивочной под аркой.
— Бур у тебя? — деловито осведомился Вадик, когда они, пристроившись в углу распивочной, тяпнули по второй и захрустели посахаренными дольками лимона.
Сережа молча кивнул. Бур был его основным научным достижением. Сваренный по Сережиным чертежам на Адмиралтейском заводе умельцем Твердохлебовым за два литра чистейшего медицинского спирта, он уже успел обрасти легендами. По одной из версий, Сережа перед началом работ долго шептался с буром, поглаживал его, делал таинственные пассы, а затем с разбега втыкал в грунт. Не доверяя это дело никому, он повисал на буре всей своей тяжестью. Бур послушно уходил в мягкую землю, по самую рукоятку. Тогда Сережа откручивал рукоятку и наращивал бур новыми штангами и вновь погружал его, все глубже и глубже. А на какой-то глубине прекращал бурить, поворачивал ручку по часовой стрелке и вытаскивал бур, штанга за штангой, пока не появлялся крутобокий, поблескивавший корабельной сталью челнок. Челнок открывали, медленно вращая ручку против часовой стрелки, и он обнажал поднятые им из недр чудеса…
На следующий день они с Вадиком спустились в подвал Археологического присутствия, где завхоз Адоничев нехотя извлек запаянный в толстый полиэтилен бур из темно-зеленого ящика, предназначенного для перевозки артиллерийских снарядов.
— Распишись здесь, — сказал Адоничев, протягивая Сереже мятую ведомость.
— Спирт берете?
Сережа и Вадик радостно закивали. Через минуту Адоничев появился с бутылью и другой ведомостью.
— Даю два, распишешься за пять.
Сережа с готовностью подмахнул ведомости, не читая.
Они вынесли тяжелый бур на набережную, где уже стоял старенький «москвич» Гены Бельского, приятеля Вадика. С большим трудом пристроили бур в салоне, между сиденьями — бур упирался концами в ветровое и заднее стекла — и повезли на Витебский вокзал. Гена Бельский ехал осторожно, старался не тормозить, чтобы бур не пропорол «москвич» к чертовой матери!
На Витебском они сдали бур в багажное отделение.
— Поедет с нами, — объявил Вадик, пряча в бумажник багажную квитанцию.
— Кстати, получи билет. Завтра в девять. Черниговский поезд, вагон номер семь. До станции Вежель. Не опаздывай!
В день отъезда Сережа пришел из Присутствия пораньше, стал собирать рюкзак.
— Опять ветер дальних странствий? — спросила Ядвига Вацлавовна.
— Он самый, мадам, он самый, — ответил Сережа, засовывая в рюкзак видавшие виды кирзовые сапоги.
— Надолго? — не отставала теща.
— На несколько дней, мадам. Сущая безделица.
— Магда знает?
— Оставил письменное прошение по всей форме. Лежит на бюро.
Сережа поднял глаза и увидел Яну.
— Па ты уезжаешь, а как же сочинение?
— Яночка, я очень скоро вернусь… Ты набросай пока план, как я тебя учил.
Яна не уходила. Прижалась щекой к Сережиному свитеру.
— Па, не уезжай. Мне плохо, когда тебя нет…
Сережа почувствовал острую боль в сердце. Он опустился на корточки, стал гладить Янины льняные волосы.
— Да что ты, Яночка. Я же всего на несколько дней… Честное пионерское…
Яна оттолкнула Сережу от себя и посмотрела на него в упор большими голубыми глазами.
— Поклянись, что не будешь пить. Поклянись, а то я умру…
Сережа заблеял:
— Да что ты, Яночка, да как же…
Яна до боли сжала Сережин палец:
— Скажи «клянусь»!
— Клянусь, — покорно пробормотал Сережа, натянул плащ, схватил рюкзак и выскочил на лестницу.
На улице было темно и пакостно. В нитках дождя расплывались огни уличных фонарей, вспыхивали и гасли фары машин. Сережа посмотрел на часы. Было шесть часов, три часа до поезда. Честно говоря, он намеревался скоротать это время в пивбаре под Думой на Невском, где как раз в это время собиралась его беспутная компания. Но он вспомнил Янины строгие глаза и решительно повернул в другую сторону. Его вынесло к кинотеатру «Октябрь». На промокшей афише можно было прочитать: «Пепел и алмаз». Сергей купил билет и вошел в полупустой зал. На экране — польский диссидент, его играл Збигнев Цибульский, убивал секретаря райкома, который, как выяснилось, был его отцом. Оба были хорошие, обоих было жалко. После фильма на душе у Сережи стало еще муторней. Он вскочил в троллейбус и поехал на Витебский.
Черниговский поезд стоял в самом конце перрона. Вагон номер семь пахнул застоялой мочой и дезинфекцией. Сережа повесил плащ на крючок у двери, забросил рюкзак на верхнюю полку и устроился у окна. Вадика не было.
Он появился вместе с Геной Бельским, когда до отхода поезда оставалось минут пять. Оба были сильно навеселе. В руках у Гены был пузатый портфель. Войдя в купе, Гена расстегнул портфель и Вадик ловко извлек из него три бутылки портвейна и складные пластмассовые стаканчики.
— Осторожно, — не замочи рукопись, — предупредил его Гена. — Мой диссерт, единственный экземпляр.
— Не боись, — успокоил его Вадик, не замочу.
Сережа поднес к лицу темно-красную жидкость. Она пахла жженой пробкой и сахарином. Он почувствовал тошноту и осторожно отставил стаканчик. Зато Вадик и Гена управились со своими порциями удивительно быстро.
— Поезд отправляется, — разнеслось из репродуктора под потолком, — просьба провожающих покинуть…
Гена допил, что оставалось в стаканчике, и бросился к выходу.
Через минуту его лицо появилось в окне. Он бежал вслед за поездом и что-то кричал. Слов было не разобрать.
Сережа оглянулся и увидел Генин портфель.
— Он забыл портфель с диссертом!
Они вдвоем попытались открыть окно. Тугая рама не поддавалась. Вадик схватил портфель и бросился в тамбур, нажал на ручку двери. Дверь открылась. Он широко размахнулся.
— Стой не кидай! что было сил крикнул Сережа, — он заметил, что перрон кончился и за дверью мелькают пролеты моста.
Но было поздно. Портфель птицей вылетел из вагона, описал дугу и плюхнулся в черные воды Обводного канала.
Вадик почесал бороду, ссутулился. Виноватой походкой поплелся в купе.
— У нас ничего не осталось? — спросил он перебирая пустые бутылки. Сережа протянул ему свой стаканчик. Вадик засадил его одним духом. Вытер усы.
— За Генин диссерт. Он напишет еще лучше, вот увидишь. Гена, он толковый…
На рассвете следующего дня они спрыгнули на крутую, сложенную желтоватой галькой железнодорожную насыпь. Было зябко, от невидимых болот клочьями поднимался туман. Паровоз вздохнул, поезд лязгнул буферами, вздрогнул, тронулся и растворился в тумане.
— Где мой бур? — спросил Сергей и тут же заметил вдалеке, там, где насыпь переходила в подобие перрона, телегу, влекомую сухопарым мужичком бомжеватого вида. На телеге виднелся завернутый в коричневую бумагу предмет, по форме напоминавший бур.
Они припустили вслед за мужичком и настигли его перед входом в крашенную белой краской будку, на которой красовалась надпись, сделанная неровными буквами: «Багажное отделение».
— Наш багаж, — решительно сказал Сережа и протянул мужичку квитанцию.
— Ничего не знаю, — отстранил квитанцию мужичок и указал грязноватым пальцем на объявление: «Выдача багажа с 11 до 14 часов с перерывом на обед».
Подошел Вадик, сунул мужичку треху, тот молча сгрузил бур на землю и, как и поезд, ушел в небытие.
Вадик стоял, поддерживая одной рукой бур, вертел головой по сторонам. По его лицу катился пот.
— Ищешь, где бы пива? — посочувствовал ему Сережа.
— Про пиво забудь, — мрачно сказал Вадик. Все пиво осталось в Питере. Пошли к водокачке.
Сережа несколько раз качнул железную планку, и из трубы хлынула ржавая вода. Вадик жадно припал к ней губами, вода лилась на его брезентовую штормовку, брызгами отлетала от неопрятной бороды. Вадик пил воду и фыркал. Наконец оторвался, вытер лицо платком и улыбнулся.
— Ну, все, я живой. Пошли в Вежель.
Они шли по поросшим травой улицам Вежеля мимо деревянных домиков на вросших в землю каменных фундаментах и несли тяжелый и удивительно неудобный для переноски бур. Откуда-то доносился приглушенный звон церковного колокола. Они пошли на этот звук и вышли на центральную вежельскую площадь. Там высилась белая, с синими куполами церковь. Двери ее были открыты, в черном проеме виднелось мерцание свечей; из церкви доносилось пение. На ступенях ровными рядами стояли нищие.
— Райхрам Святых Петра и Павла, — пояснил Вадик, — единственная действующая церковь в околотке.
— В как же Всехсвят? Название вроде церковное…
— Храм Всех Святых спалил Стефан Баторий в семнадцатом веке. С тех пор у всехсвятцев с религией нелады.
Они вошли в стоявший напротив храма заплеванный семечками автовокзал.
— Когда-то до войны во Всехсвят вела железнодорожная ветка, — сказал Вадик, — ее грохнули партизаны. Восстанавливать уже не стали…
Подошел автобус, развалюшный ПАЗ, и в него битком набились бабки с кошелками и лукошками. Сережа и Вадик притулились сзади, уложив бур на ребристый пол.
— Грибники, — задумчиво сказал Вадик, — самое время…
По дороге туман рассеялся, выглянуло солнце. В лесу по обе стороны дороги желтыми свечами вспыхнули березы. Лес расступился и перед ними раскрылся сочный луг, в конце которого поблескивало озеро. Автобус запрыгал на булыжнике и замер посереди площади, по краям которой стояли покосившиеся каменные строения.
— Приехали, — объявил Вадик. — Уэлком ту Всехсвят!
— Уэлком, уэлком, — подхватил подошедший к ним невысокий человек в мятом чесучовом костюме.
— Тимофей Семеныч Геллер, — представил его Вадик. — Всехсвятский историограф и по совместительству редактор районной газеты «Всехсвятский труженик».
— Заместитель, всего лишь заместитель, — поправил его Тимофей Семеныч и, обращаясь к Сереже: — Рад познакомиться, Сергей Львович, наслышаны мы о вас. А где же ваш знаменитый бур?
Сергей с трудом вытащил бур из узких дверей ПАЗа, и Тимофей Семеныч подхватил его, легко подкинул себе на плечо и быстро зашагал по узкой дорожке мимо спрятавшихся за всполохами бузины всехсвятских домиков.
Дом Тимофея Семеныча стоял на косогоре, с видом на озеро, и внешне мало отличался от всех остальных. Разве что поаккуратней и поприбранней. Посыпанные белым песком дорожки, ровные грядки на огородике, клумбы с гортензиями у крыльца. А на крыльце — приветливая женщина в цветастом платочке.
— Добро пожаловать, гости дорогие, обед на столе…
— Валентина Ивановна, — представил ее Вадик. Светоч культуры, завуч школы, преподаватель немецкого языка…
Внутри дом Тимофей Семеныча и Валентины Ивановны выглядел как среднего достатка ленинградская квартира. Рижский мебельный гарнитур, телевизор с большим по тем временам экраном. Множество книг на застекленных полках. На стене большая фотография смуглого человека в довоенной форме с ромбами.
— Отец Тимофея Семеныча, — сказал Вадик, — Герой Советского Союза.
На столе источали аромат миски с густым борщом, по которому расплывались горки белоснежной сметаны.
Тимофей Семеныч достал пузырек с темно-красной жидкостью, стал разливать по рюмкам.
— Мне не надо, — сказал Сережа и прикрыл свою рюмку рукой.
— Мне тоже нельзя, — вздохнул Тимофей Семеныч, — сердце. Но по чуть-чуть можно, эта настойка — лечебная.
Они чокнулись и Сережа пригубил пахнущую травами жидкость.
После обеда они спустились по крутой улочке к озеру. Было не по-осеннему тепло. На заваленном сухим тростником пляже лежали перевернутые лодки. Среди них, надрывно крякая, шествовали утки. Тимофей Семеныч и Вадик повели Сережу мимо лодок и расставленных на просушку рыболовных снастей к мысочку, где рядом с горкой песка виднелся правильных очертаний котлован, до краев заполненный непрозрачной водой.
— Наш раскоп, — сказал Вадик. И здесь Сереже была рассказана слышанная им доселе в отрывках трогательная история открытия Всехсвятских стоянок.
Ему поведали о том, как по этим местам в безуспешных попытках найти что-либо толковое проходили сонмы ленинградских и московских археологов. Особо часто при этом упоминалась мадам Тюрина из Археологического присутствия. Привлеченная находками странного вида керамики, которую ей приносили местные рыбаки, она два раза проехала озеро на лодке. Защищаясь огромным парусиновым зонтом от палящих лучей всехсвятского солнца, мадам Тюрина погружала в топкое дно озера особой конструкции щуп, собранный по ее заказу в колхозной мастерской из старых рыболовных снастей. Весна в тот год была дождливой, вода в озере стояла высоко, дно заилилось, и кроме водорослей и обломков бревен, щуп мадам Тюриной не вытащил на поверхность ничего. Соответственно, в вышедшей вскоре после того монографии мадам Тюриной было сказано, что ввиду неблагоприятного климата древние люди избегали селиться на Всехсвятских озерах, а найденная на его дне керамика относится к средневековью.
Далее в повествовании активная роль переходила к Тимофею Семенычу, в частности, к письму, отпечатанному им на фирменном бланке газеты «Всехсвятский труженик» и отосланному в Музейное ведомство. В письме сообщалось о двух фактах: о странного вида костях, обнаруженных Тимофеем Семенычем в ходе рытья колодца на его приусадебном участке, и не менее странных кремневых предметах, найденных всехсвятскими школьниками на дальних озерных плесах. Письмо было воспринято со вниманием. Не последним обстоятельством была известная напряженность в отношениях между Археологическим присутствием и Музейным ведомством и некоторая нелюбовь к мадам Тюриной и ее щупу. Вадик Михеев был откомандирован во Всехсвят, чтобы все проверить и во всем разобраться. Кости, обнаруженные в колодце Тимофея Семеныча, как выяснилось, были остатками скота, забитого прежними владельцами участка в ходе массовой коллективизации тридцатых годов. Что касается кремневых предметов, то их внимательный анализ подтвердил их принадлежность к микролитической культуре, возраст которой превышал шесть тысяч лет.
Далее Вадик и Тимофей Семеныч применили стратегический прием, известный как «перекрестный опрос местного населения». Был отобран узкий круг перспективных информаторов; в основном, людей пожилых и сильно пьющих. Опрос производился на веранде крашенного голубой краской заведения, известного в народе как «Голубой Дунай», с использованием подозрительного пойла, продававшегося в местном сельпо двухлитровыми банками из-под соленых огурцов с криво прикрепленной наклейкой: «Красное крепкое».
Наиболее ценную, хотя и путаную информацию удалось получить от сторожа рыбсовхоза Медуна Иван Никифоровича. Данный информатор большую часть дня находился в сумеречном состоянии души и на внешние раздражители реагировал слабо. Признаки адекватной реакции у него проявлялись после употребления двух банок «Красного крепкого». Он становился разговорчивей после четвертой, но ненадолго. Вскоре речь Иван Никифоровича теряла всякие признаки здравого смысла, голова его падала на стол, он начинал громко храпеть и норовил соскользнуть на грязный пол. Но даже в моменты относительного просветления речь Иван Никифоровича трудно было назвать связной. Он вскакивал, изображая согнущегося человека. «Он здесь — в трубу… а я тут, пацан голозадый, а он в трубу, мать его за ногу… а там лес целый, доска к доске… а он в трубу, мать его туда и обратно…» Этот текст повторялся с небольшими вариациями до бесконечности.
— А кто был этот, что с трубой? — пытался выведать Вадик.
— Кто, кто? — удивлялся Иван Никифорович, — понятное дело, немец, фашист проклятый.
— А где было-то это все? — не унимался Вадик.
— Да тут и было, — ответствовал информатор, — насупротив коровинского дома…
Жителей с фамилией Коровин в поселке Всехсвят не значилось. Небольшая работа, проведенная Тимофеем Семенычем в райотделе КГБ, позволила установить, что Коровин Вениамин Александрович до войны был бухгалтером в местном колхозе «Ленинский путь». Во время войны он остался в оккупированном немцами Всехсвяте и был назначен старостой. В 1946-м он был судим коллегией по особо важным делам и приговорен к высшей мере — повешению. Коровин был прописан по Озерной улице номер 22, у самого озера.
В тот год, как и сейчас, осень стояла теплая. Все последующие дни Вадик с парой школьников из старших классов обследовали дно озера против коровинского дома. Там было неглубоко, метра полтора-два, но дно покрыто толстым слоем ила, и видимости никакой. Они ныряли по очереди и разгребали ил руками. После второго или третьего погружения, школьники подняли со дна большие обломки сосудов, покрытые странными орнаментами. Потом нашли костяные наконечники гарпунов и предметы, вырезанные из окаменевшего от времени дерева. Вадик отплыл чуть подальше от берега и нырнул. Ила там не было, а вода — прозрачней. Присмотревшись, он увидел ряд черного цвета деревянных кольев, выступавших из песка и уходивших на глубину…
На следующий год Вадик приехал во Всехсвят в мае. Весна тогда выдалась на удивление сухой. Вода в озере упала не меньше, чем на метр, и дно напротив коровинского дома обнажилось. Из застывшего на воздухе ила явственно проступили деревянные сваи. Они торчали на ровном расстоянии друг от друга, образовывали правильные ряды. Кое-где они были сочленены перекладинами, а в одном случае между сваями виднелись дощатые настилы.
— Господи, — вырвалось у Вадика. Никак свайное поселение… Точь в точь, как в Швейцарии…
С Вадиком было несколько студентов из университета. Они поставили на возвышенном месте теодолит, принесли рейки, стали снимать план. И тут откуда-то возник Иван Никифорович. Он был в крайнем возбуждении.
— Вот здесь, Точно здесь. Немец с трубой, фашист проклятый.
Беззубый рот Иван Никифоровича выплевывал нечленораздельные звуки. Он указал рукой в сторону озера:
— А там лес… доска к доске…
Когда они вернулись в дом Тимофей Семеныча, солнце садилось, и над озером поднимался туман. Тимофей Семеныч и Вадик сидели в столовой, обсуждали одним им интересные дела и случаи.
Сережа подошел к книжной полке. Его внимание привлекла маленькая книжечка. На желтом кожаном переплете золотыми готическими буквами было выбито: Bibel. Надо же, библия по-немецки, подумал Сережа и открыл книгу наугад. В молодости он изучал немецкий и все еще помнил готические буквы. Текст показался ему странным. Что-то не похоже на Библию. Стал читать внимательней, перевернул несколько страниц; на обрезе одной страницы стояло: Adolf Hitler. Mein Kampf. Сережа вернулся к началу книги. Титульный лист был вырван, но на верху первой страницы четко читалась сделанная мелким почерком подпись: Paul Heinrich von Hedicke.
Сережа закрыл книжку и аккуратно поставил ее на прежнее место.
Всю неделю они бурили берег озера: определяли границы культурного слоя. Запущенный на глубину челнок неизменно приносил мелкие обломки керамики, угольки и деревяшки. Когда скважины нанесли на план, оказалось, что площадь поселения была не меньше двухсот метров.
Работа подходила к концу. Как-то вечером они сидели в доме у Тимофея Семеныча, пили чай с вишневым вареньем. Сережа вдруг спросил:
— А я бы хотел взглянуть на хорошую карту вашей местности.
— Хорошую карту? Это можно, — сказал Тимофей Семеныч и подошел к книжному шкафу. Порылся в каких-то папках. Достал вчетверо сложенную бумагу, протянул Сереже: — По-немецки читаете?
— Читаю, — сказал Сережа и развернул бумагу на столе. Перед ним был очень подробный топоплан с названиями по-немецки. На верхнем обрезе стояло: Reichswehr. Чуть ниже: Wsechswjatgebiet. А у правого нижнего обреза виднелась уже знакомая подпись: Paul Heinrich von Hedicke.
Сережа погрузился в чтение карты. Его внимание привлекло большое зеленое пятно на севере, судя по всему, огромный верховой торфяник. Из него во все стороны вытекали ручьи, некоторые из них доходили до Всехсвятского озера. На болоте синими буквами стояла надпись: Tschistyi, 8 m.
— Есть у вас тут такое болото, Чистый или Чистое? — спросил Сережа.
— Есть такое, — ответил Тимофей Семеныч, — за селом Церковищи.
— Я бы хотел туда попасть, — сказал Вадик, — интересное оно. Все на нем тут завязано.
— Туда дороги нет, — сказал Тимофей Семеныч, — дорога кончается в Церковищах.
— А как же местные по грибы-ягоды ходят?
— Местные в Чистое по грибы-ягоды не ходят. Слава у него дурная.
— Поясните, поясните, Тимофей Семеныч, — в один голос попросили Сережа и Вадик.
Тимофей Семеныч помолчал, пожевал губами.
— Во-первых, до войны там был концлагерь. Силами зеков проводили мелиорацию. Народу положили видимо-невидимо… А во время войны, при немцах, здесь был партизанский край. Немцы стояли лишь в крупных поселках, да высылали время от времени карательные экспедиции. К востоку от Всехсвят — из Минского генерал-губернаторства, а к западу — из Курляндского. Карательные экспедиции проводились поочередно, партизаны знали о них заблаговременно и соответственно меняли дислокацию. А Чистое оказалось в нейтральной полосе. Партизаны там проложили дорогу на большую землю. Немцы туда редко совались, но, говорят, все кругом заминировали. И еще, — Тимофей Семеныч опять помолчал, собираясь с мыслями.
— Немцы на Чистом понастроили доты. Посылали туда проштрафившихся офицеров и унтеров… Были у них и такие… Приковывали бедолаг цепями к пулеметам… Перебили их всех партизаны… Так и лежат они там в своих дотах… Нет, не ходят наши на Чистое…
— Надо ехать, — решительно сказал Вадик, — Вы с нами? — спросил он Тимофей Семеныча. Тот отрицательно замотал головой.
— На чем поедете? — спросил Тимофей Семеныч.
— Поедем на велосипедах, ответил Вадик.
Велосипеды нашлись в сарае у Тимофей Семеныча. Один — совсем новый, другой — постарше, но оба на ходу. К велосипедным рамам прикрепили штанги бура, к сиденьям — спальные мешки. Долго собирали небольшой походный рюкзак — взяли бинокль, компас, карту, саперные лопатки, рулетку, кое-что из еды. Вадик долго колдовал над бутылью со спиртом — в рюкзак она не помещалась. Отлил из бутыли спирт в водочную бутылку, слегка разбавил водой, опустил на веревке в колодец — для охлаждения. В результате, когда выезжали на следующее утро, про бутылку забыли. Сережа вспомнил, когда они отъехали от дома, но возвращаться не стал: примета плохая.
До Церковищ доехали быстро — в кузове попутной машины. Там, как и говорил Тимофей Семеныч, дорога кончилась. Они сориентировались по карте, нашли ведущую в сторону Чистого тропинку, вскочили на велосипеды и заработали ногами. Как оказалось, ехали они по старой заброшенной дороге. Она то расширялась, у нее даже проступали обочины и что-то вроде твердого покрытия, то превращалась в узкую стежку, сжатую со всех сторон зарослями орешника. Тропинка понемногу поднималась в гору. Лес стал реже, все чаще попадались березки с кривоватыми стволами. Потом лес расступился и перед ними открылась гладь огромного болота, поросшего неестественно зеленой травой. Под порывами ветра трава прижималась к земле и казалось, что болото дышит. Кое-где виднелись холмики, на них росли чахлые кустарники и кривоствольные березы.
У края болота тропинка прерывалась. Сережа и Вадик слезли с велосипедов. Солнце палило по-летнему, было жарко. От болота поднималось душное марево. Они осмотрелись по сторонам. Невдалеке, на берегу, на пригорке виднелась покривившаяся избушка. Они подошли к ней, открыли ветхую дверь. На них пахнуло гнилью. В маленькой комнатке виднелся топчан, полуразвалившийся столик. Они бросили на топчан спальники и рюкзаки, развязали бур.
Шли они точно по азимуту, каждые сто метров погружая бур в трясину. Бур издавал чавкающие звуки и легко уходил в глубину, пока не упирался в твердый грунт. Глубина медленно возрастала, метр, два, три… Часам к шести небо заволокло, подул холодный ветер, пошел мелкий дождь. Они прошли еще с полчаса, взяли еще одну точку: твердый грунт пошел с 4 метров с копейками. Дождь усиливался. Вести дневник стало невозможно, бумага на дожде промокала. Они собрали бур и побрели назад. Их следы были явственно видны, а на местах, где они бурили, образовались небольшие озерца. Дождь усиливался, вскоре он перешел в град, затем повалил мокрыми хлопьями снег. Стало совсем темно, ветер валил с ног.
— Еще чуть-чуть, — подбадривал Сережу Вадик, — а там и спиртик для сугреву.
В избушке Вадик три раза перерыл содержимое рюкзака.
— Где спирт? — спросил Он сдавленным голосом.
— В колодце у Тимофей Семеныча, — спокойно ответил Сережа, — охлаждается.
— И ты знал?
Сережа кивнул.
— Почему не вернулся?
— Примета плохая.
По лицу Вадика прошла гримаса. Было видно, что он силится сказать, что он думает по этому поводу, но не может найти подходящих выражений. Он молча махнул рукой, не раздеваясь, залез в спальник и отвернулся к стенке.
Ночью случилась редкая в тех местах осенняя гроза. Избушка ходила ходуном, почти без перерывов гремел гром, через ветхую крышу ручьями лилась вода. Несколько раз где-то близко вспыхивали разряды молний, и почти сразу же раздавался оглушительный треск. Сережа взглянул на Вадика. При свете молнии он увидел его лицо. Вадик мирно спал лежа на спине, губы его сладко причмокивали.
Сережа встал и приоткрыл дверь. Ему показалось, что болото светится фиолетовым цветом. Вдруг небо раскололось. Один за другим небо прорезали три разряда молний и нестерпимый грохот потряс все вокруг. Сережа закрыл глаза и ясно увидел отпечатавшееся на сетчатке изображение креста…
Утром опять светило солнце. Они взяли бур и вошли в болото.
— Смотри, — Вадик указал вдаль. На холмике, где еще вчера стояли кривоствольные березки, виднелись лишь обгорелые головешки.
Они подошли к холмику. От него в глубь болота вела полоса выжженной травы. Они прошли по этой полосе метров триста, время от времени беря азимут и отмечая свой путь на карте.
— Посмотри направо, — сказал Вадик.
На горизонте показался островок. Сережа поднес к глазам бинокль. Солнце уже было высоко, и от болота поднималось липкое марево. Очертания острова в бинокле все время менялись. На островке виднелось расплывчатое белое сооружение. Когда подошли ближе, сооружение приобрело отчетливые очертания.
— Это — немецкий дот, — уверенно сказал Вадик.
Они осторожно заглянули в черную амбразуру. В нос ударил пряный запах сгнивших листьев. Вадик достал из рюкзака фонарик, тусклый луч пробил темноту. Сережа подтянулся на руках и осторожно опустился под бетонный колпак. Вадик, зажав фонарик во рту, последовал за ним. Они медленно пробирались, расчищая завалы из веток и листьев. Внезапно руки Сережи наткнулись на холодный металл.
— Посвети сюда, — сказал он Вадику.
Сережа разгреб руками листья и в луче фонарика появился ствол пулемета. Проведя руками вдоль заржавевшей плоскости, он нащупал щит и замок. Когда их глаза привыкли к темноте, они различили человеческие останки. Металлическая цепь соединяла щит пулемета с лучевой костью трупа.
Они несколько раз выбирались наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха и забирались в амбразуру опять. Внимательно осмотрели шлем с двумя пулевыми отверстиями, им точно соответствовали отверстия в затылочной части черепа, собрали истлевшие остатки мундира. Когда они забрались в амбразуру в последний раз, Сережа различил тускло поблескивающую возле черепа коробочку. Он аккуратно откопал ее и вынес на поверхность. Поддел крышку лезвием перочинного ножа. В коробочке оказалась книжечка в кожаном переплете. На первой странице было написано мелким почерком по-готически:
Paul Heinrich von Hedicke.
2
Пауль Генрих фон Гедике вступил в нацистскую партию в возрасте 22 лет. В тот год он блестяще закончил историко-филологический факультет Геттингенского университета по специальности археология восточных стран и был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию. Отец Пауля, Людвиг фон Гедике, был майор; его убили под Ипром в 1916 году. После войны в их дом пришла нищета. Инфляция превратила военную пенсию матери Пауля в ничего не стоящие бумажки. Мать продавала за бесценок семейные реликвии, по ночам вышивала бисером кофточки, которые ей приносили богатые торговки.
На решение Пауля вступить в партию решающее значение оказал дядя Отто, младший брат отца, лейтенант рейхсвера. Как-то раз они сидели с дядей Отто в уличном кафе на тенистой Фридрихштрассе. Дядя пил пиво из высокой кружки, а Пауль тянул через соломинку сельтерскую воду. Дядя Отто закурил дешевую сигару и произнес слова, которые глубоко потрясли Пауля.
— Нельзя допустить, чтобы шиберы[7] превратили Германию в общественный сортир…
Паулю было шестнадцать лет, когда с ним произошел прискорбный случай в общественном сортире на Клаузевиц-плац. Было довольно рано, часов одиннадцать, и сортир был пуст. Пауль зашел в кабинку и не закрыл за собой дверь. Внезапно дверь распахнулась и в кабинку ворвался мужчина лет сорока. По виду типичный шибер: дорогой костюм, на пальцах — перстни. Он что-то возбужденно говорил и совал Паулю в руки деньги. Пауль никогда не видел таких денег — новенькие хрустящие банкноты зеленого цвета. Он глядел на них, как завороженный. А мужчина затолкал Пауля в угол, встал перед ним на колени. Пауль попытался оттолкнуть его, но не успел. Ему стало больно и он с ужасом почувствовал, что он руками прижимает к себе потную лысую голову. Через мгновение все было кончено. Мужчина исчез так же внезапно, как и появился. Пауль стоял некоторое время неподвижно, сжимая в руке деньги. Потом он бросил их в унитаз и спустил воду.
На партийные собрания Пауль ходил редко. В основном, там были рабочие и отставные офицеры, те, кого больнее всего ударила инфляция. На собраниях ругали правительство, евреев и шиберов. Пели песни, взявшись за руки. Как-то раз, по просьбе районного организатора, Пауль прочитал реферат: «Арийский вопрос и археология». Реферат одобрили, хотя в нем мало кто разобрался.
Когда нацисты победили на выборах и к власти пришел Гитлер, Пауль перестал ходить на собрания. Однако, когда в 1939 году началась война, он пошел записываться в армию добровольцем. Его послали на ускоренные офицерские курсы, где готовили кадры для оккупационных служб.
Первое свое назначение обер-лейтенант фон Гедике получил во Францию, в тихую деревушку в Шампани. Работа была не тяжелой, французский язык Пауль знал с детства. Он переводил на французский распоряжения коменданта: о введении комендантского часа, о реквизиции лошадей. Секретарь мэрии, он же школьный учитель мсье Гиньоль, поправлял неправильные согласования и рассыпался в комплиментах:
— У вас изумительное чувство стиля, мсье Гедике!
Пауль поселился в доме на окраине деревушки. Его хозяйку звали Мадлен, она жила одна, муж ее не вернулся с войны. В столовой стояло пианино. Однажды вечером, с разрешения Мадлен, Пауль сел за пианино и стал подбирать старинную мелодию. Мадлен села рядом с ним, и они стали играть в четыре руки.
Той же ночью, набравшись храбрости, Пауль поднялся по скрипучей лестнице в спальню Мадлен. Она лежала в большой супружеской постели совершенно голая и, казалось, ждала Пауля. В тот момент, когда Пауль сжал ее в своих объятиях, со звоном разлетелось окно. Чьи-то руки схватили Пауля, бросили на пол. Он почувствовал страшный удар в пах и потерял сознание. Пришел в себя только утром. Он был в крови. На кровати лежала Мадлен с перерезанным горлом. Рядом виднелась бумажка. На ней крупными буквами было написано: «Немецкая шлюха».
Пауль долго лечился в немецком военном госпитале под Парижем. Ходил с тросточкой, припадал на левую ногу. А в июле 1941-го он получил новое назначение: в Россию, в городок Всехсвят.
…Поезд медленно тащился среди лесов и болот. Пауль сидел у окна с томиком Достоевского. Время от времени заглядывал в словарь. В соседнем купе играли на губной гармошке и нестройно пели ехавшие на фронт новобранцы.
На платформе Пауля встретил немолодой сержант. Они перешли мощеную булыжником площадь, вошли в приземистое кирпичное здание комендатуры. До войны там был райсовет — вывеску не успели снять. Поднялись по деревянной лестнице на второй этаж. Сержант открыл ключом дверь, они вошли в комнату, заваленную бумажными папками.
— Ваш кабинет, герр обер-лейтенант.
Пауль сел за крашенный масляной краской стол. Осмотрелся. На противоположной стене висел большой портрет Карла Маркса.
— Я уберу, — сказал сержант.
— Оставьте, — сказал Пауль.
В дверь постучали. Сержант открыл дверь, и в комнату вошел невысокий плешивый человек лет сорока.
— Господин Коровин, Вениамин Александрович, — представил его сержант, — бургомистр.
Работы здесь было больше, чем во Франции. Всехсвят — транспортный узел. Через него на фронт идут воинские составы, поезда с продовольствием и вооружением. Коменданта, капитана Штойбля, чаще всего на месте нет, он постоянно в разъездах, и все дела приходится вести Паулю. Сплошная писанина. Прибыло столько-то, убыло столько-то, получено столько-то, отпущено столько-то… Под его командой — сержант и два писаря. А постоянный гарнизон в Всехсвятах маленький — всего двадцать человек и примерно столько же в фельджандармерии. За порядком следят русские полицейские — десяток мрачного вида парней в черной форме с белыми повязками, на которых готическими буквами написано: Polizei. А начальник над ними — Коровин, бургомистр.
С Коровиным Пауль встречается каждый день. Переводят приказы и распоряжения. Как во Франции, только еще строже. Запрещается, запрещается, запрещается… За неповиновение — расстрел.
Коровин приходит обычно в конце дня, под вечер. Сидит долго, говорит всякую ерунду. Пауль его не гонит. Торопиться Паулю некуда, а все-таки языковая практика.
— Где вы квартируете, господин обер-лейтенант? Все еще в гостинице? Я тут вам квартирку подыскал. Чистенькую. У местной учительницы немецкого языка… Антонины Ивановны Геллер…
Пауль слушает, не перебивая.
— Одно небольшое обстоятельство… Муж у нее, некто Геллер Семен Иосифович… Из евреев…
Пауль насторожился.
— Торговец? Спекулянт?
Коровин замахал ручками.
— Какое там! Учитель географии. А по совместительству, поверите ли, археолог!
Пауль слушал Коровина внимательно.
— Представляете, весь берег перед моим домом расковырял. Натащил всякой дряни. Дать ему волю, весь двор бы мне разнес. К счастью, не позволили, осадили…
— Как осадили? — не понял Пауль.
— Да посадили его за всякие там разговорчики. Недалеко сидел, тут же, у нас. Мелиорацию на болоте проводил… Канавы рыл… А как война началась, на фронт драпанул. Давали тогда зекам такую возможность… Кровью, так сказать…
— А где он сейчас?
— Пропал, не вернулся. Из штрафбатов редко кто возвращается…
— Покажите мне дом учительницы, — попросил Пауль.
Дом этот стоял чуть в стороне от дороги, прятался за разросшимися кустами бузины с гроздьями красных ягод. Коровин постучал в дверь:
— Антонина, открывай! К тебе гости!
Антонина была крупная женщина с правильными чертами лица. На голове — деревенский платок. Она поклонилась Паулю и сказала очень чисто по-немецки.
— Проходите. Чувствуйте себя, как дома.
Коровин был прав. В этом доме было очень чисто. На полке в ряд стояли книги в кожаных переплетах. Пауль наугад вытащил одну. Это была старинная Библия по-немецки.
— Вы читаете Библию?
Антонина замялась.
— Редко. Эта книга осталась от бабушки. Она была из колонистов.
Они сели за стол. На белоснежной скатерти стояли миски с борщом. На темно-красной поверхности медленно растекались горки сметаны.
Следующий день был выходным, и Пауль с утра отправился к дому Коровина. Это был последний дом на Озерной улице, его двор выходил к озеру. Коровин долго не открывал, спрашивал кто, зачем пришли. Узнал Пауля, загремел запорами.
— Чем обязан такой чести, господин обер-лейтенант?
— Пришел поблагодарить. Вы нашли мне прекрасное пристанище…
— Заходите в дом… Извините за беспорядок…
В доме Коровина было сумрачно. На столе и на полу стояли пустые бутылки.
— Я на минуту, господин бургомистр. Вы говорили, что муж учительницы находил подле вашего дома какие-то предметы… У вас не сохранилось что-нибудь?
— Да я все выбросил… Впрочем, постойте…
Они прошли в сарай, там были в беспорядке свалены рыболовные снасти, сети, разобранные лодочные моторы. Где-то в углу нашелся ящик, на котором явственно читалась надпись: Геллер. Коровин вытащил его на свет, поковырялся в нем и через некоторое время извлек три коробки из-под папирос «Герцоговина-Флор».
Пауль разложил коробочки на столе и раскрыл одну за другой. В двух из них были обломки темной керамической посуды, покрытой странными геометрическими узорами. В третьей коробке лежали проложенные ватой костяные ножи с чуть видимыми насечками.
— Что-нибудь интересное? — поинтересовался Коровин.
— Это исключительно интересно, — сказал Пауль, — мне нужно изучить, посоветоваться с коллегами. Вы не возражаете, если я некоторое время подержу это у себя?
— Да берите их себе насовсем! — замахал ручками Коровин.
Пауль аккуратно положил коробочки в свою полевую сумку.
— А теперь покажите мне место, где производили раскопки.
Они шли по берегу озера, мимо перевернутых рыбачьих лодок. Вокруг деловито шествовали, непрестанно крякая, утки.
— Это было где-то здесь.
Они стояли на небольшом мысу, вдававшемся в озеро. У самых ног плескалось озеро. Подул свежий ветер и по озеру пошла рябь. Зашуршали камыши.
Пауль достал небольшую лопатку и несколько раз ковырнул песок. Образовалась небольшая ямка; она тут же заполнилась водой.
Ровно через неделю Пауль пришел на озеро опять. С ним было пять солдат и пожилой сержант, Эрих Кемпке. Они привезли с собой шанцевый инструмент и теодолит, одолженный в армейском топографическом взводе. Солдаты вырыли неглубокий шурф. Как и прошлый раз, в него сразу же пошла вода. Эрих Кемпке покачал головой, вскочил на мотоцикл и куда-то уехал. Через час он вернулся со шлангом и мощной электропомпой.
Работа пошла веселее. Помпа быстро откачивала воду. Дно шурфа было теперь почти сухим. Через час пошли находки. Солдаты вытаскивали из вязкой тины большие обломки сосудов, покрытые странными узорами.
Пауль распорядился расширить раскоп. Поставил теодолит на возвышенном берегу. Солдат с рейкой отмечал места находок. Пауль замерял азимуты и расстояния на теодолите. Записывал показания в журнале.
С первого же дня вокруг них роились местные мальчишки. Среди них выделялся вихрастый паренек лет тринадцати по имени Ваня. Он постоянно бегал вокруг работающих и что-то орал. Несмотря на холодную погоду, он несколько раз плюхался в воду и приносил поднятые со дна диковинные предметы. Однажды он заплыл дальше, чем обычно, и нырнул. Через несколько минут его голова появилась среди камышей. Он что-то кричал, размахивая над головой деревяшкой. Пауль достал из рюкзака надувную лодку, подключил ее к помпе. Подгребая себе маленькими веслами, он быстро доплыл до того места, на которое указывал Ваня. На дне, сквозь зеленоватую воду проступали черные точки. Пауль быстро разделся и прыгнул в озеро. Вода показалась ему теплой. Пауль набрал в легкие воздуха и нырнул. Открыв глаза, Пауль увидел выступавшие из песка правильные ряды почерневших от времени свай.
На берегу Эрих Кемпке растер Пауля одеялом, дал хлебнуть коньяка из фляги. Накинул на Пауля шинель и отвез на мотоцикле домой. Пауля бил озноб. Он забрался в кровать, натянул на себя толстое одеяло. Озноб не проходил. Антонина появилась ближе к вечеру. Дотронулась до лба Пауля, дала ему выпить что-то из кружки и ушла. Она появилась через час. Взяла Пауля за руку:
— Ступай за мной.
Они прошли по выстланной досками дорожке к домику, из которого валил густой дым. Пауль наклонил голову и вошел в низкую комнатку, наполненную горячим паром. В нос ему ударил острый запах распаренных березовых веток. Сознание Пауля замутилось, и то, что с ним происходило потом, он помнил неотчетливо. Ему привиделось, что он, голый, лежит на горячих сосновых досках и корчится и стонет под градом хлестких ударов.
Пауль пришел себя среди ночи. Он лежал на широкой кровати в длинной белой рубашке. Рядом с ним на кровати сидела Антонина, тоже в длинной рубашке, и махровой тряпочкой вытирала ему со лба пот. Он потянул ее к себе и она покорно легла рядом с ним.
Так обер-лейтенант Пауль Генрих фон Гернике совершил один из основных своих должностных проступков. Подписанное им предписание под страхом сурового наказания запрещало офицерам вермахта вступать в половую связь с лицами туземного происхождения на оккупированных территориях.
Первое время у Пауля и Антонины физической близости не было. Они лежали рядом на широкой кровати и почти не касались друг друга. «Как Зигфрид и Брунгильда», — мысленно произнес Пауль и улыбнулся.
После удара, полученного им в Шампани, Пауль заметил, что его половое чувство угасло. Женщины его больше не волновали. Он сказал об этом своему лечащему врачу и тот назначил ему сеанс гипноза. После сеанса Пауль специально отправился в армейский публичный дом в Париже. Результат был нулевым. Девочки старались изо всех сил, но Пауль ничуть не возбуждался. Так и сейчас. Он лежал рядом с молодой женщиной и не чувствовал ничего, кроме глубокого спокойствия.
Это случилось на вторую или на третью ночь. Пауль проснулся от сильного сердцебиения. Он повернулся на бок и почувствовал, что Антонина тоже не спит, смотрит на него. Он протянул к ней руку и она бросилась к нему, сорвала с него рубашку, покрыла его тело поцелуями. Она придавила его своей тяжестью и Пауль с радостью почувствовал, что их тела слились.
После этого в голове Пауля что-то сдвинулось. Скорее всего, потому, что за свои 28 лет ему так и не довелось по-настоящему узнать женщин. Мать всегда была холодна с ним, особенно когда они обеднели. У него был непродолжительный роман с кузиной Луизой, который окончился ничем. Кузина вышла за пехотного офицера, своего дальнего родственника. В начале войны его убили в Польше. Луиза уехала в другой город и больше они с ней не встречались. В студенческие годы он несколько раз отправлялся в бордель и каждый раз уходил оттуда с чувством омерзения. Потом тот дурацкий случай в общественном сортире и фиаско в Шампани.
А теперь Пауль считал часы и минуты, чтобы поскорее убежать из своего затхлого кабинетика. Пауль не подозревал, какое счастье может принести близость с женщиной. Они занимались любовью часами на кровати, на полу, в жарко натопленной бане.
И наверное это и было причиной второго служебного проступка Пауля фон Гернике. Чтоб побольше быть рядом с Антониной он все чаще сказывался больным и приносил в портфельчике домой папки, на которых стояли жирные штампы «для служебного пользования». Антонина устроила ему служебный кабинет: принесла с чердака письменный стол, где-то раздобыла старинную лампу с зеленым абажуром.
Пауль часами просиживал за столом, делал пометки: такой-то состав придет тогда-то, простоит столько-то, отбудет тогда-то. Иногда подходила Антонина, садилась на край стола. Пауль закрывал папки, становился на колени, целовал ей ноги.
Это случилось примерно через месяц, после начала их романа. Была поздняя осень, на дворе — дождь и сильный ветер. Пауль проснулся среди ночи и протянул руку: Антонины рядом с ним не было. Он поднялся и увидел полоску света под дверью. Стараясь не шуметь, он встал и приоткрыл дверь. Он увидел Антонину; она сидела за письменным столом и при свете маленького фонарика листала его папки и что-то выписывала в тетрадку.
Пауль вернулся в кровать, лег, закрыл глаза. В голове у него было пусто. «Неужели она меня обманывала?» Утром Антонина была нежна, как обычно. Портфель лежал на месте. Все папки в нем были в порядке. «А может быть, мне это приснилось?» — успокаивал себя Пауль.
Вскоре после этого на железной дороге произошли диверсии. Несколько воинских эшелонов недалеко от Всехсвят подорвалось на минах. Были убитые и раненые. В самих Всехсвятах застрелили из засады двух полицейских.
Были усилены меры безопасности. Продлили комендантский час. Установили дополнительные патрули на вокзале и на железнодорожных переездах. По настоянию начальника фельджандармерии во Всехсвятах расстреляли десять заложников. Списки готовил Коровин.
Почему-то он решил согласовать этот список с Паулем.
— Все эти люди — советские активисты, сотрудники НКВД и евреи.
— Здесь нет ни одной еврейской фамилии, — сказал Пауль.
— Это ложно-русские, — ответил Коровин, — они за взятки меняли свои имена.
Пауль знал, что спорить и протестовать было бесполезно. Заложников расстреляли на центральной площади.
Погода неожиданно наладилась. По ночам были заморозки, земля покрывалась инеем и гулко стучала под сапогами. Днем было тихо и солнечно. Возвращаясь домой, Пауль услышал клекот и поднял голову. В сероватом небе, тяжело хлопая крыльями, клином летели большие птицы.
Пауль вошел в дом. За столом сидела Антонина. Рядом с ней — бородатый мужчина в черном ватнике. Пауль сразу узнал его. Это был Геллер, Антонинин муж. Пауль опознал его по фотографии в семейном альбоме. Правда — там Геллер был в костюме и при галстуке, и без бороды.
Они сидели втроем за столом и тихо разговаривали, как старые знакомые. Антонина принесла горячий самовар. Разлила чай.
— Что вы хотите от меня? — спросил Пауль.
— Немногое. Остановить движение поездов на всехсвятском перегоне. Задержать как можно больше составов.
— Если я откажусь?
— Тогда умрете вы, она, я. В конечном счете, погибнут все.
Пауль помолчал.
— Господин Геллер, зачем вам это нужно? Насколько я помню, вы сидели…
Геллер говорил долго и путано. Пауль запомнил только одну его фразу: «После войны мир будет другим…»
Они опять помолчали. Геллер сказал:
— Вы нам только укажите место и время. Наши люди сделают все.
Пауль сказал:
— Сделать это смогу только я.
Геллер протянул Паулю коробочку.
— Последняя американская разработка. Магнитная мина с часовым механизмом.
Пауль кивнул и спрятал коробочку в полевую сумку.
Перед тем как уйти, Геллер протянул конверт.
— Вам как археологу это может быть интересно. Я сидел в здешних местах. Наш лагерь был на болоте Чистое. Мы проводили там мелиорацию. Меня назначили начальником участка. Однажды мы наткнулись на это, — он достал из конверта фотографию и рисунок.
Геллер поднес их к глазам.
— Судя по очертаниям, это викингская ладья…
— Совершенно точно. Болото соединялось с Двиной и Днепром…
— Что сталось с этой находкой?
— Я сообщил по начальству. Предложил произвести раскопки…
— И что дальше?
— Меня обвинили во вредительстве. Разжаловали в рабочие… А потом из Москвы приехали подрывники. Решили проложить трассу взрывами. Что-то не так рассчитали. Взрыв был слишком сильным. Несколько зеков погибло. На месте канала образовалась воронка. Теперь там озеро…
После того как Геллер ушел, Антонина долго мыла посуду, прибиралась на кухне. Не поворачивая головы, сказала Паулю.
— Я должна тебе что-то сказать… Кажется, у меня будет ребенок… От тебя…
Пауль подошел к Антонине и поцеловал ее в губы.
— Если это будет мальчик и меня не будет, назови его Тимофеем.
— Почему? — спросила Антонина.
— Timthaeus, так звали моего отца.
Операция по минированию прошла на удивление гладко. В ту ночь коменданта опять не было на месте, и появление Пауля на путях удивления не вызвало. Он обошел все патрули, все проверил. Задержался на мгновение около длинного состава с горючим. Отослал сопровождавшего его солдата проверить по ведомостям номера вагонов. Оставшись один, осторожно прикрепил магнитную мину к днищу серебристой цистерны.
Рвануло, как и должно было, ровно в полночь. Цистерны взлетали на воздух с оглушительным грохотом. Ходуном ходила земля. Вокруг вокзала в беспорядке бегали солдаты. Поднялась беспорядочная стрельба. С пожаром удалось справиться под утро. Но на участке Вежель — Всехсвят скопилось два десятка составов. В течение последующих суток их атаковали партизаны. Почти все составы были сожжены, пути подорваны. Движение по этой линии так и не удалось восстановить.
Нападение партизан было для немцев неожиданностью. Организованное сопротивление удалось организовать только к концу боев, когда с фронта прибыла эсэсовская бригада. Тела убитых партизан немцы выставили на главной площади Всехсвят. Пауль узнал среди них Геллера.
А потом полетели головы. Во Всехсвят приехала комиссия из штаба фронта. Весь командный состав был отстранен от работы и посажен под арест. Коменданта, капитана Штойбля, который в день нападения не был на месте, расстреляли. Как ни странно, поведение Пауля было признано образцовым. Все отмечали, что незадолго до взрывов он проверял посты. Его собирались уже освободить, как на него пришел донос. Его обвиняли в связи с местной женщиной. Следователь показал этот донос Паулю. Он сразу же узнал руку Коровина.
В другом случае Пауль бы отделался партийным взысканием. Но после громкого скандала делу дали полный ход. Пауля судил партийный суд. Его исключили из партии и разжаловали в рядовые. Отправили охранять коммуникации на болото Чистое.
Ему разрешили зайти домой. Антонина молча плакала. Пауль поцеловал ее мокрые щеки. Он подошел к полке с книгами. Взял с полки старинную библию. Тяжелый переплет не влезал в сумку. Пауль аккуратно вынул пожелтевшие страницы из переплета. Он вставил на их место книжку, которую ему выдали в карцере, это была «Моя борьба» Гитлера.
Пост Пауля помещался в доте на краю огромного торфяного болота под названием Чистое. В доте стоял пулемет, а рядом с ним — небольшая металлическая печка. Пауль топил ее брикетами торфа. Дым от печки ел глаза, а тепла от нее было мало. Зима была гнилая. То подмораживало и шел колючий снег, то наступала оттепель: снег таял и холодными ручейками затекал в дот. Смена Пауля длилась двенадцать часов. Потом его сменял другой штрафник. Привозили и отвозили их на военной машине по заброшенной дороге.
Однажды, когда, как казалось, установилась сухая и холодная погода, Пауль решил проведать то место, где Геллер нашел ладью. По карте это было недалеко — километра три. Это место Пауль нашел без труда. Как и говорил Геллер, там было большое озеро. Невдалеке чернели полусгнившие бараки заключенных.
На обратном пути Пауль заблудился: повалил густой снег и сразу стемнело. Он услышал лай собак и понял, его ищут. Его нашли под утро, он лежал обессиленный на островке, рядом с кривоствольной березой.
На следующий день Пауля приковали к пулемету кандалами. Дежурил он теперь целые сутки. Ночью у него стали появляться галлюцинации. Ему казалось, что к нему приходили мать, Антонина, Геллер, даже дядя Отто. Он о чем-то говорил с ними, спорил. Однажды он услышал позади себя шаги яснее, чем обычно.
Не поворачивая головы, Пауль громко крикнул по-русски:
— Не стреляйте! Я — друг!
В тот же миг раздался оглушительный грохот и голова Пауля разлетелась на тысячу кусков.
3
Сережа Островский ездил во всехсвятскую экспедицию три года подряд, и каждый год они привозили замечательные находки. Об этой экспедиции стали писать газеты, сперва местные, а потом и центральные. Однажды даже приехали из московского телевидения. А в конце третьего сезона случилось несчастье. При возвращении в Ленинград экспедиционная машина перевернулась. Вадик Михеев погиб на месте — перелом основания черепа. Все остальные отделались легкими ушибами.
В тот же год умерла Сережина теща, Ядвига Вацлавовна, и почти сразу же распался его брак с Магдой. Примерно за год до этого у Сережи возник роман с Ритой Берман, лучшей подругой Магды. Они особенно сблизились в дни похорон; Магда сидела в глубоком трансе, смотрела в одну точку, а Сережа с Ритой улаживали все дела. Вскоре после этого они с Ритой отправились вместе в гостиницу под Зеленогорском, у Риты там была знакомая администраторша, а Сережа соврал, что у него командировка.
Однажды вечером, когда они лежали в кровати, медленно потягивая рислинг, Рита сказала:
— Серж, тебе не приходило голову свалить отсюда?
— В каком смысле? — не понял Сережа.
— В прямом. Мои старики на днях подают заявление в ОВИР.
Сережа несколько минут лежал молча. Перед ним прошла вся его невеселая жизнь. Почему-то чаще всего вспоминалось ему Присутствие, а особенно — мадам Тюрина; она на днях написала отрицательный отзыв на Сережину диссертацию.
— Что для этого нужно? — спросил Сережа.
— Сущие пустяки, — ответила Рита. Твой развод. И наш брак. Ты любишь меня, Серж?
Магда встретила сообщение Сережи на удивление спокойно.
— Я всегда догадывалась, что Ритка шлюха, а ты — подлец. Но чтоб в такой момент…
Сложнее было с Яной. Когда они с Геной Бельским приехали, чтобы забрать Сережин стол и кое-что из его книг, Яна встала в угол и уставилась на них с ненавистью.
В дверях Сережа остановился и попытался что-то сказать. Яна выдохнула:
— Молчи! Убирайся!
Они с Геной с трудом погрузили стол в старенький «Москвич». И стол опять отправился в дальнее путешествие, в Европу, за океан, пока не обрел себе новое место на далеких берегах, но надолго ли?
Примечания
1
Война (фр.).
(обратно)2
Что за война? (фр.).
(обратно)3
С бошами (фр.).
(обратно)4
Это тот самый, кто оскопил Али Мурата? (фр.).
(обратно)5
70 и 90 на швейцарском диалекте.
(обратно)6
Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству.
(обратно)7
Schieber (нем.) — валютный спекулянт в 1920-е годы.
(обратно)


![Настоящий Парень-Гавайи [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/614145/primary-medium.jpg)



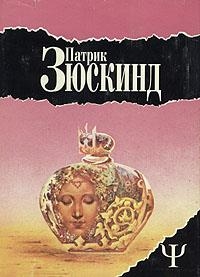


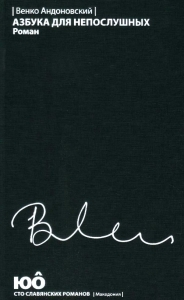

Комментарии к книге «Ленинград, Тифлис…», Павел Долохов
Всего 0 комментариев