Евгений Бабушкин Библия бедных
Ветхий Завет
Огород небесных мук
Весна Володи. Глад
В конце весны истлел последний самолет. Город отрезало. Вдоль моря встала очередь за хлебом. Взял дед лопату, сказал: идем. И Володя пошел. И все пошли.
Раньше люди летали за море к другим городам. Покупали там всякие вещи. Дед привозил тушенку, сахар, чай, петуха на палке. Теперь в пустом аэропорте висел полосатый носок – указатель ветра. Валялся винт.
Взлетную полосу уже взрыли. Над ямами гнулись дети и старики. Один упал.
– А кого понесли?
– Никого. Копай.
– А куда понесли?
– Никуда. Копай.
– А зачем понесли?
– Низачем. Копай. Жди цветочков синих.
Впереди было девяносто дней ледяного лета. Володя с дедом рыли ямы и клали туда клубни. Другие тоже рыли и клали. Картофель сажать было поздно, но больше сажать было нечего.
– Жди цветочков. Если не засинеют, положу камней в пиджак и шагну в море, а ты береги крупу и помни лес. В июле морошка. В августе черника. В сентябре брусника. Сладкий будет год.
В июле побило морошку, в августе побило чернику, в сентябре побило бруснику. Но картофель взошел. Все выжили. И Володя выжил.
Это правда было.
Это был я.
Лето Лены. Брань
В земле яма, в яме – деревня, в деревне – дом. У дома стояла совсем черная девочка Лена. Она ездила вдаль, за границу, и там загорела так, что была как ночь. У нее были глаза и ноги, как у взрослой. Мальчишки встали кругом и боялись тронуть.
– Там виноградины – такие, – сказала Лена и сложила ладони лодкой.
– Там помидорины – такие, – сказала Лена и замахнулась на луну.
– Там арбузины – такие, – и показала что-то размером с мир.
Осенью в яму стекала грязь. Зимою грязь леденела. Весною на лед выходили меченые гуси со рваными дырами в лапах, и корка трескалась. Летом в яме стоял пар. Мальчишки потели полуголые. Старший сказал:
– Та ни. Мабуть брешешь.
Лена топнула ногой. Где-то грохнуло, и черное небо зарозовело. Дети стали слушать канонаду.
– А у нас бомби – ось таки! – сказал старший.
И все засмеялись. Грохотало часто, но далеко. Скоро обстрел закончился. Запели кузнечики. Вышла бабушка, покричать-поплакать:
– Астры! Астры!
Растоптали дети огород.
Осень Олега. Мор
Прадед Олега сгорел в настоящем танке. Дед работал на танковом заводе. Папа – на игрушечной фабрике, делал танки один к сорока. Олег пока не работал. Он был ребенок. Он заболел легко, но непонятно, и его отправили в деревню к дяде и двоюродным сестрам. Одна потом попала в секту, а вторую убили. А пока все сидели на веранде и пили чай.
Вздрогнуло в окне серебряной изнанкой листьев и стало ясно: осень. Дядя с трудом завелся и поехал обгонять ветер. Он был хороший садовод, но пил много водки и давил зверей для смеху. Он возвращался всегда веселый с тьмой и шерстью на колесах.
Люди и растения вырождаются. Сначала роза пахнет розой, потом теряет имя. Черешня плодоносит дюжину лет, а на тринадцатый год – конец: обтянутая кожей косточка.
В июне старая черешня не принесла плодов. Ее терпели до сентября. Сестры играли с ней: младшая теребила ветви, старшая вбивала гвозди в ствол. Но дядя взял топор, срубил, смеясь, черешню в три удара, подвел детей к змеистому стволу, дал пилу и сказал: пилите. И ушел.
– Ты пили, – сказала одна сестра.
– Ты пили, – сказала другая.
– Мы девочки.
– Мы смотреть будем.
– Потом скажем, что плохо пилишь.
– А ты хорошо пили.
– Старайся.
– Там цветные бусинки внутри ствола.
– Бусинки.
– Будешь быстро пилить – увидишь бусинки.
– Будешь медленно – их воздух растворит.
– Не опоздай же.
Олег старался. Он пилил, как мог. Он распилил ее на дюжину частей, но бусинок не было. Не было никаких бусинок. Олег упал у останков черешни, сестры закричали, как птицы. Дядя поднял Олега и понес в дом. От него пахло мертвыми, и Олега стошнило с дядиных рук. Целую ночь катался Олег по кровати: опоздал, дурак, опоздал. А после целую жизнь.
Зима Зины. Смерть
Тузик жил звонко, но недолго. Сначала прыгал выше звезд, потом оказался сукой и ощенился. А перед смертью всех заразил лишаем. «Я красивая? Красивая?» – лысая Зина ходила кругами. Зине было четыре. Тузику тоже. Он умер, как артист. Брызнул кровью, лег посреди двора, и первая снежинка растаяла на резиновом носу.
Земля промерзла. Рыть не вырыть. Продолбила бабушка ломом яму. Там, в огороде, уже лежали Дружок и три кота. Они давно стали морковкой и луком. Там Зинина мама, когда была как Зина, похоронила больную крысу, прыгнувшую с печки. Теперь с мамой тоже стало плохо. Зину забрала бабушка, мама кричала из телефона, а Зина ходила в капоре на бритом черепе и задавала вопросы:
– А зачем могила?
– А чтобы ты спросила.
– А зачем спросила?
– А пусть лежит.
– А зачем лежит?
– Огород удобряет.
– А зачем огород?
– А морковка, лук.
– А зачем?
– Съедим!
И бабушкин зуб сверкнул, как вся вечность в один день. Но Зина не испугалась.
– А зачем съедим?
– Чтобы выжить.
– А выживем?
– Да.
Сказки из-под земли
Кабаре «Кипарис»
В начале было так: все решили зарыться, чтоб их не убили. Не знаю, как там за морями, а тут бомбоубежища просты: двор, во дворе курган, в кургане штуки всякие, а сверху снег и собаки. Шли годы, было много малых войн и ни одной большой, курган стал не нужен, его расковыряли. А потом пришел один человек.
Ты дурак, ты глянь вокруг: тысяча домов по тысяче квартир, летом смрад, зимой хлад, пьяные примерзают струей к бетону. Так говорили ему, а он отвечал: ага. Только тут и только сейчас я возведу лучшую кофейню в мире.
Итак, вначале была земля, и дыра в земле, и светлое пятно у входа в бывший бункер: лампочка в сто свечей разгоняла тьму. Потом из дыры запахло кофе.
И человек сказал:
– Я назову кофейню «Кипарис».
Когда у места только появилось имя, они пришли. Один черный – не как ночь, но как вчерашняя кровь на асфальте. Другой белый – не как снег, но как обломок зуба после драки. Третий просто, штаны в полоску.
– Кипарис – на пидарас похоже, – сказал третий и достал пистолет. Я там не был, но говорят, из дула дало льдом, будто ствол зарядили открытым космосом. Не хотел бы я получить такую пулю.
А у человека хобби: он ломает кости. Хвать – и пальца нет. Хвать – и нет запястья. В конкурсе костоломов человеку бы дали все медали. Бункер вздрогнул, что-то хрустнуло. Человек встал над убийцами и сказал:
– Кипарис посвящен Плутону, то есть покойникам, но не вам, пока еще не вам. Кипарис убил оленя, а после одеревенел, чтоб горько плакать, как вы сейчас, как вы. Из кипариса сколотили ковчег, чтоб все спаслись, и вы тоже будете спасены. Кипарис, наконец, – это просто красивое дерево. И звучит хорошо.
Когда убийцы уползли, кофейня стала кабаре, потому что так звучит еще лучше. А потом человек нашел меня и просквозил меня взглядом от пуза до позвоночника.
Я, как и все, жил в одном из этих домов. На окраине окраин, в спальном районе, без надежды на пробуждение.
– Стой, – сказал человек. – Мне нужны герои.
– Ну, какой же я герой. Я наоборот. Пустите, я вообще за пивом.
– Какой-никакой, – сказал человек. – И отныне ты будешь только кофе.
Из остатков колючей проволоки мы сплели наши буквы. Старыми гирляндами связали их в слова. Замигало у входа: «Кабаре «Кипарис». Рядом повесили белый лист – афишу. В ней было про музыку, смех, страдание и кофе на халяву – каждый вечер.
Зашли первые гости, самые отчаянные: ну, светится из-под земли чего-то, как не зайти.
Я сел, сосчитал их глаза, помолчал, покачал ногой, и первое слово отразилось от голых стен. Послушайте сказку, люди мои, люди.
Понедельник. Сказка про арифметику
Каждый за себя, один Бог за себя и за того парня.
Жили три брата. Вместе учились, вместе не выучились. Иван клал дороги, Матвей строил дома, а Марк продавал телевизоры, чтобы люди не видели эти дороги и эти дома. В детстве все хотели ловить стрижей и прыгать по луне, но вышло как вышло.
Иван жил в общаге, Матвей черт знает где, Марк снимал дыру в пригороде. Они плелись по жизни от лета к лету и не плодились, потому что женщины не рожают от бездомных.
Дом-то у них был, гнилая двушка в центре, но там жила старая мать, запивала снотворное водкой и кидала бутылки в распахнутое окно, прямо в черемуху. Детей она не любила, а любила зато больного кота, который кричал, как человек, и ел занавески от зависти ко всему живому и неживому.
Когда стало совсем никуда, братья собрались у постели.
– Ну что, подонки. Скоро сдохну. Квартира – вам. Разбирайтесь, как хотите. Чтоб вы все страдали, как я страдала. Пойди ко мне, сынок! – сказала она коту, но тот не стал.
Вскоре мать положили в ящик, ящик в землю, выпили водки, и больше никто никого не вспомнил.
Квартира была большая, но нет, не для троих. Братья молча разошлись по своим углам к своим женщинам.
– Не добудешь дом – дам студентам, – сказала женщина Ивана. – На меня смотрят, я ничего. Прямо у тебя на глазах, драные будущие юристы ко мне придут.
– Мне бы ребеночка! – сказала женщина Марка. – У меня-то никак, а у него все выйдет.
– Позвони Гайке, – сказала женщина Матвея, самая злая и бесплодная, потому что у нее никого не осталось и ни одна юбка ни к чему не подходила.
Смерть не смерть, а что-то над нами вьется вроде птички. Гайку посадили еще ребенком – украл ведро какой-то дряни. Потом в колонии кого-то зарезал и вышло здорово. Потом он стал ученый и уже не попадался. Говорили, Гайка убивает незадорого и даже забесплатно, если человек плох. А если не плох, то может и пощадить, потому что во всем должен быть порядок.
– Здравствуй, Гайка, – сказал Матвей. – Мне бы, это самое, знаешь…
– Знаю. Кого?
– Братьев.
– Сколько дашь?
– Машину. Больше нечего.
Настала зима, и двушка стояла пустая, два на три не делится. Братья торчали кто где и лишь раз поспорили, кто заплатит за свет и за воду и вынесет кошачий труп. Однажды раздался звонок, и Матвей услышал в трубке треск.
– Встретимся, – сказал Гайка. – За парком. На углу. У будки. Где тень всегда.
Матвей собрался. И пока шел, думал о потолках. Чистишь, грунтуешь, пока не высохнет, ждешь, и дальше, и дальше. А когда пришел, встретил братьев своих в одинаковых дутых куртках.
– Вы тут, – сказал Гайка, – потому что во всем должен быть порядок. Знаете, почему я Гайка? Потому что верую в резьбу. Вы трое попросили меня убить друг друга. Ты, Матвей, обещал машину. Ты, Марк, скопил денег. Ты, Иван, старший и бедный, обещал жену, когда пожелаю. Но я ничего не желаю, я прихожу и беру, что положено. Мне не надо много. Мне надо, чтобы по правилам. Если я убью всех, мне никто не заплатит. Я пока посижу в снегу, а вы решите, кому тут жить, а кому помереть.
Братья стояли на холоде. Иван дул на пальцы, Матвей думал о потолках, а Марк застегивал и расстегивал куртку, глядя в тень.
Так до сих пор и не решили. Так они и стоят до сих пор. Так и стоят.
Горячие гвозди
Не знаю, как там за морями, а тут сегодня, как вчера. Очнулся, полежал, погрыз подушку, если Бог дал подушку, перевернулся, пригляделся к обстановке, что-то такое поделал, и вот уже снова ночь.
Так было и со мной. Так и со мной было.
Но из ящиков от чего-то когда-то смертельного мы сколотили барную стойку. И каждое утро вставал за нее человек и варил кофе. Быстро. Вода сама становилась густа и черна. Приходили какие-то грязные люди, брали чашечку. День ото дня их было больше.
Потом пришла Нинель.
– Три вопроса, – сказала Нинель. – Первый. Мука и дрожжи?
– Найдем, – сказал человек.
– Второй. Вы этих придурков, черных и белых, тупых и слепых, несмотря ни на что – любите?
– Ну, в общем, да, – сказал человек.
– Третий. При каких обстоятельствах вы привяжете женщину к стулу?
– Никогда, – сказал человек, что-то в нем дрогнуло, и он из большого стал маленьким. Но лишь на миг.
Нинель. Длинная женщина с грудями, как два солнца. Кто пытался погреться, получал по рукам.
– Что ты сделал для мира, чтобы меня коснуться? – говорила Нинель.
Страшная женщина с глазами, как фары катафалка на встречной. Нинель пришла, и в кабаре запахло пирожками. У нее были шрамы повсюду и тихая хромота, но где-то в прошлом, где ее мучили, она научилась печь.
Ее пирожки сияли. И люди, отломив кусок, сидели ошалелые, забыв, как тосковать и материться.
А потом к нам снова пришли, и снова их было трое. Без оружия. Но с тремя чемоданами, полными пустоты. Одинаковые, как прутья решетки. С голосами, как звон металла о металл. Вслед за тремя убийцами три чиновника к нам пришли. Первый достал папку толщиной с нож для разделки туш. Второй достал карандаш – иглу хирурга. Третий стал задавать вопросы и не слушать ответы:
– Вы кто? Откуда? Сколько вас? Зачем вы здесь? И почему? Вы понимаете разницу между «зачем» и «почему»? Понимаете? А? Так почему? И без разрешения? А? Не слышу. Что же вы? Как же вы? Эх, вы. Надо же. Ну, надо же. Надо. Надо. Надо, сами понимаете… Надо дать.
И они протянули ладошки.
И что-то было в этой троице такое, что стало ясно: отдадим им и деньги, и силы, и время, а если останутся силы и время сделать детей, то и дети наши будут у них в долгу.
Но вошла Нинель с подносом сияния, и все отбросили тени, а человек – такую, что потолок бывшего бункера стал черней ночного неба в дождь.
– Нинель, дай им пирожок, – сказал человек.
Трое взяли по пирожку. Надкусили. И дрогнули. Что-то будто в них переменилось – будто не было всех этих лет адаптации к переменчивым обстоятельствам, будто они в результате не конченые козлы и одинаковое ничто, будто что-то в них осталось нормальное.
– Это вкусные пирожки, с мясом, – сказала Нинель. – Пока не с вашим. Но будут с вашим, если придете еще хоть раз.
Трое одинаково поперхнулись и приготовились выпустить пустоту из чемоданов. Тогда Нинель разломила пирожок – он был полон гвоздей. Разломила другие – повсюду были гвозди.
– Бывает, пирожок попадает в тебя. Бывает – ты в пирожок. Бывает, начинка меняет состав по дороге изо рта в желудок. Звучит антинаучно, но спорю на тонну лучшей в мире муки, что вы не станете рисковать.
Трое ушли и больше не приходили. Я взял с подноса пирожок и осторожно надкусил, ожидая, что сталь уколет небо. Но в рот пролилось яблочное повидло – вкус прошлого.
– Нинель! Милая Нинель! Вот бы твои пирожки подать этим важным подонкам на встрече по мирному урегулированию говна, которое они сами же и развели. Вот бы, а?
– Думаешь, я не пыталась? Кормлю-кормлю, а не едят! Просто не едят. И ты много не ешь. Не бывает толстых сказочников.
Я втянул щеки, чмокнул, цокнул и начал новую сказку.
Вторник. Сказка про блины
Бедному горе, безрукому каша без ложки, а одинокому полторы матрешки. Правда-неправда, а что-то в этом на правду похожее.
Боря возник откуда-то с востока, из так себе города – куча мусора у океана. Он уехал, и там почти ничего не осталось. Да и не было почти ничего.
Там, у океана, он танцевал лучше всех в школе, ему купили туфли, повезли выступать в райцентр, ему хлопало начальство – старые, усталые воры.
Боря танцевал, закончил школу и танцевал, начал курить и бросил, и танцевал, и пританцовывал, сдавая экзамены на юридический (вальсом не проживешь, решили родители), он танцевал несколько лет и не помнил ни строчки законов, а потом его поймала какая-то шпана, что-то в голове у него хрустнуло, и еще были сломаны три позвонка.
Резких движений теперь нельзя, можно умереть, сказали врачи. Родители, чтобы не смотреть в его распахнутые горем глаза, отправили сына в большой город и сняли ему однокомнатную квартиру на окраине. Второй шанс, путевка в жизнь, ну и что там еще говорят в таких случаях.
Место было на исходе леса, социальный район номер двадцать девять называли его, а жил Боря на улице Героев, дом один.
В городе было мало работы. Можно было таскать что-то тяжелое. Или торговать чем-то никому не нужным. С тяжестями Боря теперь не мог, а торговли и без него хватало.
Здесь еще недавно были пустырь и подлесок, дрались мужчины и кричали женщины, одичалые дети видели белку и хотели ее сжечь. Теперь были новые, но уже обшарпанные дома, одинаковые, для бедных.
Многие заселились и даже успели спиться в новых условиях.
Время стояло. На Борю смотрели с вежливой тоской, как на приличного, у которого шансы есть еще, все-таки молодой и в бальных туфлях.
От одиночества Боря стал печь блины. Хорошие, с привкусом палтуса и наваги, что в них ни клади. Пек и ел сам, скучая по горизонту.
Он бездействовал, гулял вдоль леса и вглубь его, и однажды утром нашел женщину – кто-то ее изнасиловал, прикончил, женщина лежала разбитым затылком вниз, ноги присыпаны листьями, как будто ее похоронили неглубоко и заживо, и она наполовину откопалась.
Боря осторожно – от резких движений можно умереть – наклонился и спросил:
– Ты что?
Пригляделся и увидел, что красивая, улыбается и не дышит.
– Увидимся, – сказал Боря и пошел домой.
В городе не было времен года, только времена суток, можно было забыться зимой и очнуться осенью, а в окне ничего не менялось.
Однажды Боря проснулся от боли, полежал, послушал, как за тонкой стеной сосед смотрит повтор вчерашнего фильма и плачет. Боря встал осторожно, испек стопку блинов, положил в коробку из-под настольного хоккея и медленно пошел в лес. Женщина была там – красивая, улыбалась и не дышала.
– Я поем, – сказал Боря и сел на землю, – я, знаешь, пеку. Раньше еще танцевал, но теперь танцевать нельзя. Ты мертвая, конечно, и прошлогодний листок на щеке, но я поем с тобой блинов. Позавтракаем.
Боря вообще редко говорил, но с мертвыми проще, чем с живыми.
Иногда Боре звонили родители. Они стояли где-то там вдвоем у телефона и не знали, что дальше.
– Все хорошо! – говорил Боря, – у меня порядок. Это город больших возможностей. Мне немного одиноко, но так всегда бывает на новом месте. Работу я скоро найду. Дайте послушать океан. А я вам дам послушать лес.
– Только не вздумай танцевать, – говорили родители, – Голова не болит?
– Ничего у меня не болит.
– На2 тебе океан.
Так он и ходил, проедал потихоньку чужие деньги, вечный школьник на вид, и не сказать, что четверть века. Его не боялись голуби и вороны, и дети со злыми взрослыми лицами не трогали его.
– Ты понимаешь, Наташа (он знал, что вряд ли Наташа, но надо было как-то назвать), я, в сущности, и не пробовал жизни. Учился на юриста и танцевал, пока мог, а может быть, я моряк.
Он сел поближе к ней. Ударил неприятный запах. Боря постарался дышать пореже и не смотреть Наташе на лицо. Близкие люди могут быть не в форме, но не надо обращать на это внимания.
Однажды Боря пришел без блинов, но с цветами – на остановке пьяница торговал фиалками и отдал ему за так последний букет.
Женщины не было видно, место преступления обступили люди, сыщик суетился в гнилой листве.
Боре сказали уходить.
– Пустите меня к ней! – сказал Боря. – Я к ней пришел.
– Следственные действия. Идите на хуй, – сказали ему.
– Вот доказательство – цветы! Я к ней! Я юрист! Я учился на него! Вы нарушаете закон! Она, наверное, Наташа! Не смейте делать ей больно. Вы всем больно, только не ей, я умру за нее. Я сейчас буду танцевать.
Он дернулся куда-то вверх и вбок, но его подняли, как ребенка, и Боря повис на чьих-то руках, с глупым букетом, глупо.
Сыщик смотрел на него и думал, что как-то все в космосе непорядочно, вот и парень влюбился в разложившийся труп, да и не сам ли он ее кокнул, но, впрочем, впрочем, работа, дом, стиральная машина, и, кстати, уже весна, не то чтобы тепло уже или зелено, но пахнет весною.
Классный кофе
Однажды у нас возникла дверь, настоящая, деревянная, с ручкой из нежной меди, а не просто дырка не пойми где и куда. Однажды эта дверь открылась, и вошел кто-то очень маленький.
– Зовите меня Циклоп. Я слышал, вы крутые. Но не круче меня. Я вешу тридцать три кило, поняли, да?
Он был не карлик, просто крайне худ, и с белым пятном вместо правого глаза. Руки и ноздри его дрожали. Он был неистов. Он скинул огромный рюкзак, и там зазвенело металлом и хрусталем.
– Все что нужно. И мне, и вам, и миру. Мой дом. Моя лаборатория. Я делаю яды. Могу отравить вам город. Могу вам его спасти. Могу смешать ужас. Ярость. Вечную любовь, только наутро будет худо. Я лучший химик по эту сторону реальности
– Зачем? – спросил человек.
– Кто пытался засунуть кота в коробку, знает, что такое отчаяние. Но представьте себя на месте кота. Представьте, как падает небо, как мир сжимается до мешка, до бака, и ты в нем мусор, и ты умираешь, и точно умрешь без следа. Не оставив детей и книг, ничего вообще не оставив. И тут-то ты, наверное, кричишь, но все равно никто не слышит, тут-то ты готов отыметь что угодно, оставить семя на всех вещах. Пометить каждое слово – собой: да, я, Циклоп, тут был, тут был, тут был.
– Звучит как передозировка наркотой.
– Нет уж, не снижайте пафос. Я познал смерть. Когда я понял, что не вылечу мир, я сам обожрался своих лекарств, познал смерть, а вы не знаете, что это такое.
– Ну, отчего же, – сказал человек и снова, как во все особые моменты, сначала сгорбился, а после распрямился. – Вот лежу я, весь в дырках, и не знаю – оживу денька через три или все, в прах. Похожее чувство.
– Отчего же, – сказала Нинель, – вот сижу я, вся в веревках, в таком же вот подвале, и вокруг сначала ничего живого, а потом много живого, но ничего человеческого. Съешь пирожок.
Не знаю, какая начинка досталась Циклопу, но он посветлел, успокоился и сказал:
– Возьми меня в команду, человек. Я не знаю, что вы тут делаете, но с моей биографией только под землю.
– Мы под землей не навсегда, – ответил человек. – И мы тут не одни.
Трех убийц мы прогнали. Прогнали трех чиновников. И теперь к нам пришли бизнесмены. Тоже трое. Первый трахнул об стол часами из детского черепа. Второй поправил плащ из татуированной девичьей кожи. Третий достал золотое перо и чернильницу с чем-то страшным. Говорили вроде понятно, но что-то не то и не так. Предлагали совместный проект, но никто не понял, в чем выгода. Надо было что-то подписать, но было неясно, где и зачем.
– Выпейте лучше кофе, – сказал человек. – Отличный.
Налил три чашки, и Циклоп щелкнул над ними пальцами. Бизнесмены выпили, закашлялись и застыли.
– Пол ползет, – сказал один.
– Потолок потек, – сказал другой.
– Мама, убери червей, я больше не буду, – сказал третий.
А потом они побежали. Хрипя, как наглотавшись бумаги. Топая с чавканьем, будто у них под ногами кровь. И когда добежали до горизонта, стали маленькими, как цифры на чеке.
– А вообще-то я добрый, – сказал Циклоп.
Где-то в углу ему поставили раскладушку, он разложил свои бутылочки и штучки, и начал потихоньку что-то смешивать для горя и радости. И в меню кабаре «Кипарис» появился особый кофе: с корицей, перцем и секретом. Для тех, кто ищет утешения в безутешных наших городах. Для тех, кто хочет путешествий с печки на лавку. Для тех, кто больше ничего уже не хочет и не ищет. К вечеру снова пришли люди, и было их чуть больше, и сказка моя была чуть горше.
Среда. Зимняя сказка
Бывает – и жук летает, и рак ползает.
Петр, Федор и Андрей жили в маленьком городке, в тени большого города. У них было три работы, три жены, три кота, три выходных костюма цвета вечной мерзлоты и три крохотных квартиры с балконом во двор.
У Петра шумело в голове, у Федора кололо в пояснице, Андрей чесался даже во сне.
Каждую ночь они вжимались в подушку и чуяли, как медленный хруст сердца ведет их к смерти.
Жить оставалось тридцать или сорок лет, но годы были полны пустотой.
Лысый Грисюк, продавец героина, вился рядом.
В кафе «Январь», под смех осипшего радио, Петр, Федор и Андрей пили пиво и ели хлеб. Который день крутила вьюга, снегу было по горло.
У Петра была жена, тонкая, как провод. Однажды в субботу она читала прошлогодний журнал.
– Посмотри, у кого жопа лучше, – сказала жена, – у меня или у этой бабы?
– У тебя, – сказал Петр. Он перевел глаза с гусиной кожи, с нелепых серых кружев на ангельские бедра Мерилин Монро.
Однажды в субботу, в день отдохновения, Федор шел по рынку и увидел, как старуха в гнилом тряпье торгует китайскими колготками на вес. Они были спутаны, как внутренности, их заметал снег.
Меж тем Андрей купил новый подержанный мобильник и все вокруг фотографировал – то кота, то палец, то стену, то окно.
Вечером, за пивом и хлебом, они рассказали друг другу день.
И придумали кое-что.
Петр, Федор и Андрей стали деловыми людьми. Покупали на рынке эти уродские колготки, распихивали по пакетам и на каждый лепили фото: Мерилин Монро, вид сзади. «Мерилин – в наших колготках вы как в кино».
Городок умирал в сугробе. Электрички уезжали полные и возвращались пустые, все меньше окон горело ночью.
Мужчины надели под пуховики выходные костюмы цвета вечной мерзлоты и пошли продавать колготки втридорога.
Появился лысый Грисюк, долго и внимательно шел рядом.
– Ну чего, блядь! – сказал он, и его рот дрогнул, – есть варианты!
– А я тебя помню, – сказал Петр. – Ты ел снег, у тебя была двойка по арифметике и чтению.
– А теперь я серьезно поднялся. Я прокачанный человек, – сказал дрожащим ртом Грисюк. – У меня «Форд».
– Твоему «Форду» треть века. Купи вон сестре колготки. В наших колготках вы как в кино.
– Я ничего не покупаю, я только продаю, – сказал лысый Грисюк. – Если что, вы знаете, где я.
Кому везет, кому не везет, а кому то да се.
Петр, Федор и Андрей были везучи.
Они бродили по домам и людям, и несли домам и людям колготки.
Дело шло: белые девицы, розовые жены, черные старухи – все брали «Мерилин». Весь городок, все его бедные женщины ждали кино.
Петр, Федор и Андрей сели в кафе «Январь» перебирать деньги.
Лысый Грисюк возник и отряхнул снег с ботинок.
– Я много думал, – сказал он. – Я всю ночь считал почти незаметные трещинки в стене. Я не куплю ваших колготок.
– Ты не себе, так сестре купи.
– У меня сестра в инвалидном кресле. Она все равно что безногая. И слюна течет. Купите у меня лучше этой штуки.
– Чего?
– Ну, штуки этой.
– От нее, мы слышали, руки отпадают.
– Да идите вы, – лысый Грисюк стал быстро пятиться, его рот дрожал, – жиды. Сволочи!
Федор и Андрей все распродали и отправились домой, а Петр пошел в полицию.
За стеклом юный лейтенант читал и плакал. Он поднял на Петра глаза, полные боли.
– Они умерли. Они все умерли! – сказал он.
– Дорогой дежурный, – сказал Петр, – я пришел к вам с благой вестью. Я знаю, как это трудно – ловить преступников. Как в погоне болит душа и потеют ноги. У меня для вас есть решение всех проблем. В них прохладно летом и тепло зимой. В них вы никогда не умрете, в них никто никогда не умрет. Я и сам ими пользуюсь. В наших колготках вы как в кино.
Петр щелкнул пальцами, поклонился, медленно расстегнул пояс, снял брюки и показал колготки «Мерилин».
Мужчины долго и внимательно смотрели в пустоту.
– Беру, – сказал дежурный и вытер слезы.
Осталось продать лишь несколько пар.
Петр шел домой и думал, как там тепло и пахнет супом. Думал, как жене будет приятно, когда он скажет ей, что она самая красивая. Как он купит новый кафель и календарь на следующий год. Как жена от счастья побреет ноги, и все будет хорошо.
На повороте, у замерзшей яблони, его толкнули в спину, потом еще раз, как будто лопнули позвонки,
Петр упал на бок, слыша хруст сердца в снегу и не зная о плоской дыре в спине, и почти не чувствуя боли.
Петр увидел: лысый Грисюк подпрыгивает и убегает с последней охапкой «Мерилин», бросив измазанный черным нож.
Петр подумал – вот, наверно, его дома ждет сестра, вот, наверно, обрадуется, вот, наверно, будет хоть один день веселья, впрочем, что ей без ног, с рождения не знать ног, да и все белым-бело, все давно уже занесло снегом.
Важные вещи
Я не то чтобы где-то бывал, но что-то слышал.
Есть, говорят, улицы света. Там прозрачные стены, за ними лежат вещи, вещи сторожат люди, другие люди дают им деньги и набивают пакеты стекляшками и огоньками.
Есть, говорят, улицы смеха. Там танцуют, пьют и дерутся в танце. Пахнет женщинами и мужчинами, и ядами со всех концов земли.
Этих улиц им тоже мало, и, кусая друг друга в губы, люди сворачивают на улицы шепота. Там носят ночь, жмутся в тень, убивают не глядя и не находят тело.
Есть еще – я там не был, но люди рассказывали – есть еще утренние улицы, на которых ты совершенно один и тебе хорошо совершенно.
А у нас тут нет никаких улиц. У нас тут целые районы тишины. Никогда и ничего. Ну вот просто ничего не случается. Разве что дерево выросло и срубили. А столько-то зим назад какой-то идиот показывал девочкам член, но те уже и так все видели.
Тут-то и расцвел наш бункер. Тут-то мы и возвели кабаре «Кипарис».
И кривой говорил косому: слышал? Кофе наливают вообще бесплатно!
И хромой говорил колченогому: слышал? Можно нормально подкормиться!
– Слышал? – говорили приличные люди друг другу, – эти придурки развели бомжатник в бывшем бомбоубежище! Но дизайн нормальный.
Стены были – крашеный бетон с инструкциями, как убивать. Но мы ободрали что было и наворовали красивого кирпича со вставших строек. Пол был чернота и лед, но мы принесли подушки и возлегли, кому где хочется. Свет был мертвый, технический. Мы принесли свечи в чашках. Выкинули трехъярусные нары и противогазы. Сделали тысячу закутков на тысячу человек, и каждому казалось, что это место предназначено только ему, как в кладовке у бабушки, если Бог дал бабушку и кладовку. И каждая вещь была чуть знакома, как из детства.
Фото: какой-то мужик с булавочными дырами вместо глаз. Табуретка с резными ножками: последний шаг висельника. Вспоротый стул: искали деньги и документы. Кто-то принес ванну со следами пуль и в нее лег. Кто-то принес бурый ковер и в него завернулся. Приятные салфетки из приятной бумаги. Приятную посуду из изумрудного стекла.
Шли люди. Слепая певица спустилась под землю, стуча по бетону тростью.
– Рассказывают, у меня на морде полоски. Три на правой щеке, две на левой. Это меня папа маме через проволоку передавал. Возьмете петь?
И мы взяли ее петь.
Пришел мужчина с пустотой вместо рук.
– Я был программист, программировал программы. Теперь вот нечем стучать по кнопкам. Но я научился стучать иначе. Возьмете на барабаны?
И мы взяли его, и культи извлекли глухую дробь.
Пришли братья – сцепленные бедрами близнецы.
– Мы тут вам все починим, но медленно. И еще можем дуть.
И у нас наконец-то заработал туалет без перебоев, а из лишней латуни они собрали фагот и флейту.
И когда над миром упало солнце, в кабаре «Кипарис» набились люди. Их было не много и не мало, а ровно так, чтоб согреться и не вспотеть. Инвалидный оркестр отыграл свое, и я начал новую сказку.
Четверг. Сказка про проволоку
Время гнет нас, время нас гнет, гнет нас время.
Жила такая Рита со стальной проволокой во рту. Еще у нее были кошки хороших расцветок: черная, рыжая и полосатая, ползали на пузе то туда, то обратно.
Рита работала в кабаке женщиной, которую трогают, но не любят. Она должна была красивая танцевать у стойки, задирать юбку и даваться в руки, чтобы все захотели в кабак еще раз. Но никаких совокуплений на территории фирмы. Так сказал хозяин, мертвый человек с лягушачьими глазами:
– Полезут в сиськи – бей. Прочее дозволено.
И положил контракт в стол, закрыл стол на ключ, а кабинет на защелку.
Давным-давно шел снег, и отец наказал Риту кулаком, а потом ногой в рот, и проволока скрепляла разбитые кости. Ткни – лицо развалится. Рита изредка плакала в кошек, с трудом говорила и четырежды в неделю давала себя трогать, но не любить.
Время гнуло всех, всех гнуло, а Риту нет. Она никогда не улыбалась и вообще редко шевелила лицом. От этого кожа была гладкой и нечеловеческой.
Постоянный посетитель коммерсант Сергей Петрович выпивал семь водок, доставал шмат денег и шептал:
– Хочу японку.
И Рита давала себя трогать сверхурочно. Хотя никакая она не японка, совершенно русское лицо и нос к небу. Сергей Петрович был ей другом.
– Я тебя не собираюсь того-сего, японка. У меня уже ничего не работает, сила ушла в бизнес, в бизнес ушла сила вся. Убью, сука, если им скажешь. А сейчас дай сюда поглажу ногу, хорошая моя.
На излете ночи сидели рядом, пьяный часто прикасался и спрашивал про жизнь. Рита берегла слова и была точна в них.
– Я – актриса. Как Одри Хепберн. Никого нет. Кошки. Буду поступать. Коплю деньги.
– Ты японский робот, а не актриса. Вот стул, сядь, встань, поверти задницей по кругу, наклонись. Сиськи где? Вывали побольше. Поставь ногу на стул, высунь язык– сука, нежнее высунь – садись рядом. Видишь – ты робот. Я тебя люблю, вот тебе денежек, хорошая моя.
Однажды Рита поцеловала кошек сомкнутыми губами и уехала в город побольше. Лишь прикосновение к кошке прекрасно, а люди и предметы – отвратительны. Поезд шел ночь и ночь, и вонял вечностью. Проводники играли в карты на удар по морде, и до утра в тамбуре стояла кровь. На нижней полке дышала старуха, которая помнила войну, но не помнила какую. Рита вышла курить, а за ней выполз проводник почти без лица.
– Я из благородных, я филолог вообще-то. Всегда прочим проигрываю. Ничего от меня не осталось. Папироску!
– Я– актриса. Я – поступать.
– Зачем? Иди лучше в проводники. У нас, во всяком случае, чай. Мир посмотришь – то туда, то обратно. А в карты можно и не играть.
Рита напряглась и сказала длинно:
– Меня всю жизнь трогают одинокие люди. Хочу, чтобы только смотрели, а не трогали. Буду актрисой. Как Одри Хепберн. Тоже танцевала в кабаке.
Проводник молча курил, с него капало. Рита протянула руку к форменному тулупу и погладила воротник.
– Можно? Мягкий. Кошка.
На отборочный тур приехало триста женщин, читать стихи. Лампы дневного света трещали в глаза.
Риту объявили, она вышла в центр и застыла как покойница.
Какие-то люди распоряжались всем и скучали, шевеля пальцами.
– Девочка, вы ужасно напряжены. Вот стул, сядьте, встаньте, подышите глубоко, пройдитесь. Осанка где? Спокойней, вы не в борделе. Видите – вам легче. Расслабились? Пожалуйста, начинайте.
Время гнуло всех, гнуло-мяло, а Риту чуть меньше прочих. Она вернулась почти прежней и побежала с вокзала работать.
Сергей Иванович выпил уже двойную норму и нежно смотрел, как Рита ходит полуголая между столиками. Потом позвал:
– Хочу японку.
Прикасался и спрашивал про жизнь. Рита сдвигала и раздвигала ноги, вертела задом и мотала грудью, не меняя лица.
– Не взяли. Плохая речь. Травма. Никогда не быть. Сказали – дура, издеваюсь. Но есть Одри Хепберн. Она есть.
Сергей Иванович заплакал, как все пьяные мира– просто вода незаметно пошла по лицу.
– Есть она, сука. Есть она.
– Я пойду. Еще работа. Спасибо, что посидели с кошками. Как они?
– Рыжая обоссала диван и под диваном. И в кухне тоже нассано. А так все хорошо. Все хорошо. Все хорошо.
Добрые дети
Из кофейных зерен и винных ягод сложили мы наши буквы. Птицы и ветры разнесли их по городам.
В каждом бедном районе возникло свое кабаре «Кипарис». В каждом бедном районе когда-то боялись бомбы и вырыли что-нибудь под землей. И у каждой дыры под землю повесили белый лист. Со словами про музыку, смех, страдание и кофе на халяву – каждый вечер.
И тогда человек усмехнулся, кинул в стену стакан, посмотрел на зеленые брызги и повел нас наружу. И мы пошли. Первым шел человек. То вровень с домами, то ниже луж. А если вглядеться – да просто высокий мужик немного бандитского вида. За ним Нинель, затмевавшая звезды. Но если не принимать сияние в расчет – ну, хромая баба, а звезд в городах и так не видно. Шел Циклоп, звенело стекло, шуршали таблетки. Типичный подросток-наркоман. Следом я. Ничего особенного.
На углу полицейский уронил мужчину и пинал его ногами.
– Зачем так? – спросил человек.
Полицейский прервался, задумался, вспомнил, как говорить, и сказал: работа.
– Я тоже на работе, – сказал человек. Он, как обычно, стал чуть выше ростом, и, как обычно, что-то хрустнуло, и в ногах у полицейского не осталось ни одной целой кости.
– Все п-п-просто, – сказал человек. – Теперь сами.
За поворотом мужчина ел мясо, завернутое в булку, засунутую в мясо. Левой рукой он пихал мясо в рот, а правой рукой бил женщину.
– Сука, – чавкал он. – Вся, сука, жизнь!
– Этот мой, – сказала Нинель. – Эй, мужчина!
– Ты следующая, – сказал мужчина, съел еще немного мяса и занес кулак, но мягкая начинка стала в его горле твердой, и его перекосило. Нинель сказала, что так теперь всегда будет. А мы пошли дальше.
На перекрестке женщина душила ребенка и очень подробно объясняла, почему этот маленький ублюдок неправильно живет и у него никогда ничего не получится.
Циклоп щелкнул пальцами, что-то подбросил, как-то метнулся вбок, в холодном воздухе повис неясный запах, сверкнули частицы чего-то хитрого, женщину заколотило, и она перестала. Нинель поболтала рукой в кармане и дала ребенку совсем уж крохотный пирожок с начинкой из дынной жвачки и веры, что никогда не умрешь.
Мы шли и шли, и у какой-то ямы ребенок искал, где у кошки глаза, чтобы выдавить.
– Эй, – сказал я. – Ну-ка, бля, прекратил. А я тебе за это расскажу сказку.
Пятница. Сказка про Антона
Всегда найдется добрая близорукая душа, сплюнет и скажет: неправда, все не может быть настолько плохо.
В конце марта один мужчина выбросил в мусоропровод двухлетнего внука своей любовницы. Соседи выбежали на рев и вызвали кого надо, мужчину нашли, надавали ему слегка по морде, и сыщик с длинной, похожей на кишечник улыбкой, включил запись.
Я решил не обрабатывать ее литературно. Только выкинул наводящие вопросы. Пусть будет, как было. Мужчина смотрел прямо в камеру, запинался, закрывал глаза и сглатывал, и говорил вот это, дословно:
– Пришли домой. Решили немного выпить. Анна Петровна пошла ребенка укладывать. Точнее, было непонятно, кто кого укладывает, она его или он ее. Она была очень сильно пьяная. Потом я сел в большую комнату смотреть кинофильм. Ребенка отнес к бабушке. Но он начал бегать. И пищать. Водки у меня оставалось где-то ноль семь. Ну вот. Прошел еще час. Я сидел, пил. Ребенок вроде угомонился, потом обратно прибежал бегать. И пищать. Я ему два раза сделал замечание. Потом я его нечаянно. Потом я. Я потом хотел его просто встряхнуть, но он у меня вырвался. Потом я. Потому что он был. В маечке и трусиках и упал навзничь. Это в большой комнате у меня. А там у меня ковер и дальше ковра идет паркет уже. И я нечаянно – я сделал это не специально – я испугался – я увидел, как ребенок качнулся головой назад и захрапел. Я его поставил в большой комнате и начал приводить его в порядок. Вдруг что-то произошло. И он замолчал, ребенок. И я по состоянию аффекта, я не знаю, как это произошло, решил избавиться от ребенка. Я открыл две двери и аккуратно вынес ребенка к мусоропроводу. И кинул его туда. Потом пришел домой, схватился за голову – что я натворил – чуть с ума не сошел. До утра сидел. Продумывал, что делать. Я правда решил, что ребенок уже погиб.
Все они жили на острове – чуть-чуть домов, полтора завода и туннель на большую землю. Бабушке Анне Петровне было только сорок с чем-то, молодая совсем. Спьяну она всегда плакала, раздевалась перед зеркалом и мяла груди, рассматривала тело, все его складки и волоски, и плакала, что молодости вообще не было, а были какие-то вонючие прыжки и повороты, и все закончилось островом. Анна Петровна любила своего мужчину – он был моложе и драл ее как молоденькую. Но у него был щенок ротвейлера, очень шумный, и мужчина выбросил его в окно, и тоже потом плакал, они потом вместе с бабушкой плакали, она голая, а он в брюках.
У ребенка того была и мать, не только бабушка. Таня родила в пятнадцать, от мелкого и тупого, который, впрочем, любил ее, девочку. Работала в магазине, в винном отделе, пенсионеры называли ее проституткой и брали в долг. Когда ей сообщили, Таня упала на пол и закричала, глаза у нее стали как снег с кровью. Она очень хотела к сыну, в больницу, но надо было работать с девяти утра до одиннадцати вечера, каждый день, иначе вместо нее посадят таджичку. Поэтому в больницу Таня не пошла, и в реанимации не знали даже, как ребенка зовут – Антоном – знали только про все его ушибы и переломы, а как зовут, не знали.
– Ничего, нового родишь, – сказала бабушка Анна Петровна, когда Таня вернулась с работы. – Молодая еще, сука.
– Я не хочу нового, мне очень нравится этот, – сказала Таня.
– Не спорь с матерью. Родишь нового! А моего мужчину не вернешь! Не вернешь, поняла? Его засадят лет на десять, маленького моего.
– Он же грубый. Бил тебя.
– Он-то меня бил, а у тебя вообще никакого. Когда сын сдохнет, совсем никого не будет.
Потом бабушка стала плакать и извиняться, потому что все-таки очень любила и внука, и дочь.
На суде мужчина совсем обмяк и рассказал, как двадцать девять лет назад сделал из тетрадного листа кораблик и пустил по ручью. Это не записывали и почему-то даже не слушали. Мужчина тогда сказал, что признание вырвано пытками, что ребенок сам открыл две двери и прыгнул в мусоропровод, маленькие дети могут многое. Вот так заснешь у телевизора и проснешься преступником.
Я тоже был на том суде и обещал говорить только правду. Все так и было, кроме кораблика – это мое воспоминание, это со мной произошло, а все остальное – с ними, с этими островитянами.
В магазине теперь сидела тощая таджичка, ей платили в два раза меньше, чем Тане, она плохо понимала слова и знаки, зато ее можно было положить на пол в подсобке или вовсе уволить, и она смолчит.
В больнице Таню встретил очень молодой, но совсем беззубый врач.
– Вам так повезло, сто он вызыл, – сказал врач. – Вас сын обязательно будет ссястлив.
Еще на острове был такой неприятный человек – притворялся слепым и с этого жил. Когда он и правда ослеп, он уже не просил денег, только бродил у моря и бормотал: «Господи-господи, выведи меня отсюда».
Бог, бомба
Если родился слепым или слепым притворился, если просто закрыл ненадолго глупые глаза, мир становится ясней, а, впрочем, нет, не становится. Но вот иногда собираются люди, наливают и выпивают, и делятся дорогим, и прячут бесценное, ну просто нормально так общаются, и входит некто новый, и за ним тащится тишина.
Однажды в кабаре «Кипарис» пришла женщина: на шее канат, на канате ящик, у ящика четыре колеса, одно отвалилось. Глаза у нее были такие же, как волосы: янтарные в седые клочья. Щеки были такие же, как руки: в мелкую сетку. А голос был как скрип ящика, который она тянула, как бык плуг.
– Когда отцу стало совсем плохо, он послал меня за таблетками, послал меня за таблетками, послал меня за таблетками через болото. И если вы думаете, что у вас тут плохой район, так представьте, что нет никакого района, а есть бараки по эту сторону и бараки по ту. А посередине топь, и дочка соседки там уже утопла. Но у отца был жар, ему снились кожаные медведи, мать слизывала пот с его висков, а мне сунула денег и велела идти. Мне было четыре, я уже знала буквы, но не знала, что ими можно убивать. Я взяла деньги и пошла за таблетками, и утопла по пояс, но выбралась, не помню как, помню только холод снизу, но выбралась, не помню как, разбрызгивая грязь, и вернулась домой без денег и без всего, и тогда мать заплакала, а отец плюнул на пол кровью, медленно снял ремень и велел подойти поближе.
– А дальше? – спросил человек.
– А дальше я сделала бомбу. Вот она в ящике. Я уехала хоть немного побыть красивой, ногти и все такое, а когда вернулась – ключ не влезал в скважину. Он ушел от меня, он остался за дверью, ушел, остался там со своими суками, тысячей сук, слушал, как я ору и ломаю дверь, но нам как раз новую поставили. Я была ему всем, я засовывала в себя баклажаны, чтобы ему понравилось, я слизывала пот с его висков, я орала в скважину, чтобы вернулся, я выдирала из двери глазок, а ногти мне сделали, кстати, очень хорошо, но дверь нам поставили лучше. Он вызвал ментов и сказал, что его любовница ебанулась.
– А дальше? – спросил человек.
– А дальше я сделала бомбу. Вот она в ящике. Просто бутылка и провода. Я качала его миллион минут, пела ему про солнышко всякое, а он морщился, еще ни во что не врубался, но морщился, ненавидел меня и орал. И он болел, так болел, годами болел, и я слизывала пот с его висков, и однажды увидела, что я старая совсем, а он продал все мои платья, чтобы чем-то убиться, и, когда ему стало окончательно плохо, он послал меня за таблетками, послал меня за таблетками, послал меня за таблетками через болото.
– А дальше? – спросил человек.
– А дальше я сделала бомбу. Вот она в ящике. Просто бутылка и провода. Тот старик с мертвого завода сказал: разбей, и все погибнет. Вот она, бомба. Разобью, и все. Всех. А мы выживем. Кто чего-то стоит. Ты сорвал яблоко – живи. Ты собрал меду – живи. Ты принес тарелку – живи. Ты умеешь только врать и насиловать – сдохни, тварь, сдохни! А мы останемся. Только хорошие. Только мы. Будем скрещиваться друг с другом. Будем плодить только хороших. Только нас. Мы инвалиды. Гордиться нечем. Бежать некуда. Но вот моя бомба. Вот моя бомба. Вот она в ящике. Просто бутылка и провода. Тот старик с мертвого завода сказал: разбей, и все погибнет. Он продал ее за бутылку, блок сигарет и поцелуй в губы. Там химическое производство. Было. Раньше. Теперь ничего нет.
И тогда человек погладил ее по седым с янтарем волосам, и она заплакала, а он сказал очень строго, что ничем не может помочь.
И она ушла, а прочие сели и стали слушать.
Суббота. Атомы состоят из ангелов
Не тот бездельник, кто сидит без дела, а тот, кому делать нечего.
Когда-то кто-то пососал карандаш, почесал в штанах, начертил квадрат и построил город из пятиэтажек. Потому что если атомная война, то взрыв повалит небоскребы, а пятиэтажки не повалит.
Что осталось пустым, равномерно истыкали тополями. Тополь глупое дерево: растет недолго, сгорит – не жалко. Далеко не кипарис.
Дома стояли, тополя цвели, а бомба так и не упала, и все состарилось в ожидании конца света.
В одном таком доме жил один такой парень Саня Светлов. Пробовался то грузчиком, то кладовщиком, то паковал сигареты в пачки, но все было не то. Родители кормили его и давали смотреть телевизор, а он годами гулял по району с бутылкой самого дешевого пива и ждал нужного поворота судьбы.
Все вокруг работали и угрюмо смеялись над бездельником Саней, в глазах у них было спокойное знание жизни, а он ходил никакой.
У Сани был главный друг, ядерщик Руслан. Он-то знал, чего хочет. В школе ковылял с тройки на тройку, но в старших классах полюбил физику, стал лучше всех хоть в чем-то, пошел на физфак, запил и был исключен со второго курса.
– Я ядерщик! – говорил Руслан. – Я ядерщик. Атомы состоят из ангелов. Я блюю.
Меж двух домов, у трансформаторной будки с нарисованным добрым солнцем, была детская площадка, где все выпивали, вот и Саня с Русланом. Раньше был еще третий в их компании, Тимофей с маленькими, как бы заросшими лишней кожей глазами. Он пропал года на три, а потом подошел к ним и злобно сказал:
– Я хочу быть океанологом. Или бильярдистом. А любви нет. Проснешься, а рядом опухшая рожа.
И ушел. Саня Светлов навсегда запомнил эти слова.
Годы проходят, как зубы: хоп – и дырка.
Однажды Сане Светлову исполнилось сколько-то лет и он все искал работу. То охранял кучу мусора на заднем дворе, но ему не заплатили, потом две недели крутился в магазине бытовой техники, но стало скучно.
– Ты ничтожество, – говорил ему Руслан, – вот посмотри на меня. Я ядерщик. У меня научное мышление. Да, меня тоже отец кормит. Но ты не работаешь от безволия. А я не работаю от того, что я ядерщик. Я жду места.
– Мне бы, – сказал Саня Светлов и задумался, – мне бы выбрать, что по душе. А не как все.
– Люди не могут то да се пробовать. Всему свое место. Я ядерщик. А ты ничтожество. Но мой друг.
На следующий день рождения Саня попросил у отца сразу много денег, выпил, позвонил по специальному телефону и впервые попробовал женщину. Она была тоже пьяна и шевелилась под ним как раздавленная.
– Тима был прав, любви нет, – сказал Саня Светлов.
Опять было раннее лето, а летом самое хорошее – запах тополей после дождя.
Отцу Сани Светлова сказали, что он уволен.
Вначале он стоял у конвейера и паковал сигареты в пачки, потом устроился механиком чинить конвейер, потом старшим механиком, прошла жизнь, получал нормально, только задыхался, потому что на работе выдавали четыре блока в месяц бесплатно.
У отца немного тряслись руки и болел бок, на вкус он уже не отличал котлету от хлеба, но запах тополиных почек еще чуял, или, во всяком случае, помнил.
Его уволили. Он постоял у выхода. Понял, что жить осталось лет десять. Пошел домой. Покашлял. Поел. Заснул.
Саню Светлова устроили работать. Он стал кормилец. Какой-то троюродный, что ли, брат торговал дверьми, и Саню определили торговать дверьми.
– Теперь ты взрослый человек, Саня, – сказал отец и закурил две сигареты одновременно, – Теперь ты в серьезные люди подался. Ты человек, Саня.
– Можно после работы с Русланом погулять?
– Нельзя. Ты взрослый человек, Саня.
Годы кончаются, как сигареты: хоп – и нет пачки.
Однажды Саня Светлов и Руслан созвонились, встретились и выпили. В кустах орали подростки, а они ползали по асфальту, взрослые, со скучными морщинами у глаз, и их тошнило.
– Я ядерщик! – говорил Руслан. – Я ядерщик. Атомы состоят из ангелов. Я блюю.
– А я продавец дверей, – говорил Саня Светлов. – Я продавец дверей. Я продаю двери. Люди покупают двери. Нужны двери. Наши двери лучше.
– Саня! – кричал Руслан, и изо рта у него текло. – Саня! Продай мне дверь.
– Сделай бомбу, Руслан! Сделай бомбу!
И Руслан встал из лужи рвоты и уставился на пятиэтажки, на тополя, на довольно красивый закат. Он вспомнил, что на первом курсе читал интересную книгу, как строили эти районы, эти дома, исходя из мощности взрыва и силы ударной волны, но плохо помнил, что за книга, бомбардировки не будет, атомы состоят из ангелов, мир на земле, тополя цветут.
Степная сказка
Вот и в наше укрытие пришла весна.
Не знаю, как там, где и что, а воздух пропах зеленым. Ночь зашумела. И это проникло на четыре человеческих роста под землю: к нам. И наш бетон задрожал от птичьих звуков. И свет стал прозрачней.
Все было, конечно, не так. Не совсем так. А вот как было: безрукие сыграли, безглазые спели, тысячи тысяч вдохнули в такт, Нинель испекла пирожки, человек заварил кофе, а Циклоп насыпал туда чего-то для ясности.
А я распахнул рот и подвигал челюстью, чтоб захрустело.
Послушайте сказку, люди мои, люди.
Ну!
Любишь смеяться – люби и на поминках сплясать.
Папу посадили за устройство мозга: нарвал травы из-под забора, покурил, не помогло, взял водки, смешал, стало мутно, ну и убил кого-то кое-как, случайного мужчину. Это степь, тут ходят.
В тюрьме папа загрустил, проглотил лезвие, но не умер, а остался жить дырявым: пол, потолок, стена, стена, стена.
Некрасивая мама тоже осталась одна, с дочкой. Тоже пила, конечно. Это степь, вы бы видели ее в цвету. Трудно на ее фоне.
Мама пасла голубей. В левой руке хлеб, в правой руке прут. Манила их крошками, а потом хлестала, стараясь размозжить голову. Девочка тем временем ходила вся обделанная. Ела что попало, и было ей постоянно плохо, и ее заставляли саму убирать.
Из города приехала бабушка – дырявого папы мама. Она смотрела на девочку с легким омерзением, на все эти пятна и потеки. Она-то из этой степи сбежала давно еще. Она-то выгодно выделялась, у нее были тонкие ноги и молодой рот, все зубы целы. Мама протянула ей прут и хихикнула:
– Г-г-голуби.
Бабушка спросила девочку, что ей привезти из большого города. А девочка – я не был там, понимаете, я там не был, а то бы взял и исправил все на месте и навсегда – а девочка ответила:
– Конфету на палке, три колечка по кольцу на пальчик и каблучки, чтобы цокать.
Бабушка выразилась в том смысле, что пальчиков-то пять, но девочке нравилось повторять «три колечка» и «каблучки». Понимаете, это звучит хорошо. Почти как кабаре «Кипарис». А у девочки был музыкальный слух. Она бы стала поэтессой или скрипачкой, она бы выступала тут перед нами, если бы, конечно, сбежала из той дыры.
Каждую неделю в степи что-то горело. То булочная. То библиотека. Девочка училась драться и курить. Мама вообще не понимала ничего.
Я эту бабушку обделанной девочки знал ой как здорово, метил к ней в зятья, чтобы, значит, эта девочка стала двоюродной сестрой моим собственным будущим детям – чистым, счастливым, любимым. Нет, ну о девочке-то я тогда не думал, просто полюбил младшую сестру дырявого папы, золовку пьяной мамы, тетю обделанной девочки, тоже с тонкими ногами и молодым ртом, это семейное. Но потом я услышал все целиком:
– Как же мне вас жалко!
Это сказала девочка на прощание. И обняла бабушку за тонкие ноги.
– Что же нас жалеть?
– Ты умрешь. А я не хочу, чтобы ты умирала. Я хочу, чтобы никто не умирал.
Говорят, все мои сказки злые: шел, упал, убился. А что делать, если все так и происходит. Так и происходит все. Ну, в этот раз я решил, что все произойдет по-другому. Что привезу ей конфету на палке, три колечка по кольцу на пальчик и каблучки, чтобы цокать.
Знаете, мечтал, удочерю, вывезу из этой степи в наши края. Все же у нас ну хотя бы не горит ничего, давно сгорело. Я бы эту девочку любил бы. Отдал бы ее в музыкалку по классу баяна. У меня же все условия. Квартира на окраине. Стены выкрашены зеленым и испачканы красным, чтобы было похоже на степь в цвету. Все у меня нормально. Пол, потолок, стена, стена, стена.
Мы уже с той, с ее тетей, все спланировали. Знали, где сами ляжем, куда ее положим, девочку-то. Но, понимаете, я полжизни наклеивал бумажки на стекляшки, ну или что-то вроде и тут как раз опять потерял работу. Денег совсем не стало. А когда денег совсем не становится, это как пол, потолок, стена, стена, стена.
И мы вот что придумали. Отлично мы придумали. Что мы возьмем девочку как бы в кредит у нее же. Это ведь всего лишь одна почка. Она пригодится другой, счастливой девочке, чтобы продлить ее счастье. А нашу, плохонькую, мы переправим за почку сюда. Я на остатки куплю шкаф, чтобы она в него потом пряталась. Кровать, чтоб она по ней потом каталась. Стул, с которого она потом прочитает стихи о счастье. Себе – куртку. Вы понимаете меня? Понимаете? Я же все хотел нормально сделать. И операция-то была простая. Но это же степь.
– Так, погоди, – сказали из зала. Я не понял кто. Просто кто-то. – Так, погоди. Это все правда?
– Каждое слово. Я же тут.
– То есть адрес у этой девочки есть, имя и фамилия?
– Были.
– Были?
– Были. Ну и есть. У мертвых тоже есть адреса.
– Так вся эта мясорубка – правда?
– Неделю вертел, чтобы вы спросили.
– А еще есть?
– Что?
– Девочки такие. Которых мучают.
– Целый мир.
И тогда на сцену вышел человек, и в руках его была винтовка.
– Кипарис посвящен Плутону, то есть покойникам, но не вам, пока еще не вам. Кипарис убил оленя, а после одеревенел, чтоб горько плакать, как вы сейчас, как вы. Из кипариса сколотили ковчег, чтоб все спаслись, и вы тоже будете спасены. Кипарис, наконец, – это просто красивое дерево. И звучит хорошо: кабаре «Кипарис»! Кабаре «Кипарис»! Но позвольте напомнить правду. Мы находимся в отдельно стоящем убежище первого класса с расчетной нагрузкой избыточного давления ударной волны 5 килограмм-сантиметров на сантиметр квадратный. С защитой от поражающих факторов термоядерного оружия. Убежище оборудовано медицинским пунктом, фильтровентиляционной камерой, дизельной электростанцией и продуктовым складом. Влажность 70 %, температура 23 градуса, содержание углекислого газа не более 1 %. И мы можем хоть век рисовать на стенах цветочки, а цифры останутся прежними. А еще тут есть резервный склад оружия, он за той черной дверью направо от бара, и сегодня, только сегодня там не заперто.
Человек поднял винтовку, и пули полетели в небо, но заколотили по потолку
– Все п-п-просто, – сказал человек. – Теперь сами.
Люди встали, и были их тысячи тысяч, но это мне, наверно, показалось, потому что под землей темновато все-таки. Люди взяли оружие. Люди пошли. Я тоже пошел, человек среди прочих, в свистящую зеленью ночь. В хрустящий листьями холод. В лед, в лед, в лед. В теплую талую воду. Шел и думал, шел и думал, шел и думал, что если мы спасемся – да, если мы спасемся! —
отличная
выйдет
сказка.
Девочка, которая убила Курта Кобейна
Ненавижу вещи на «С»: смерть, свиные сардельки, субординацию. А на «Б» у меня бессонница, блядь.
Девочка, которая в апреле 1994 года убила Курта Кобейна, прыгнула голая на табурет и чирикнула: ночь-ночь. Давай, мол. Я выпил водки с колесом, медленно вдохнул, закрыл глаза и начал рассказ.
Был бы рыба – говорил бы с людьми.
А был бы человеком – жил бы по-человечески.
– Ну что, брат-рыба. Тебе в суп. А мне тебя резать.
– Смелей, брат-человек. У меня отсутствует участок мозга, отвечающий за болевые ощущения. Увидимся в раю.
Перед смертью Курт Кобейн написал воображаемому другу. Про ребенка, которому и без отца хорошо, и про мир, в котором ничего не изменится. Это потом, а сначала представьте штат Вашингтон. Тупой холодный океан и елки, вот и штат, представлять нечего.
Девочка, которая в апреле 1994 года убила Курта Кобейна, говорит: там кругом страшные длинные люди с головами скатов. И все живут в огромном аквариуме на вершине горы. И когда внизу океан волнуется, вода на вершине плещет в лад. Этих людей можно гладить. Только не хвостик. Хвостиком они насмерть. Девочка их гладила, ей было пять. Я – нет.
Она провела в Сиэтле год. Отец был большой русский океанолог и занимался болью. Он мучил радужную форель. Впрыскивал ей в рот кислоту и делал другие гадости. Это важная проблема, боль рыб. Считается, что ее нет, потому что у рыб нет мозгов, чтобы страдать. Про людей иногда то же самое говорят.
Рыбы реагировали: дергались и терлись губами о камни. Отец точно установил, что форель испытывает неприятные ощущения, но не смог однозначно заключить, больно ли ей. «В результате воздействия внешних раздражителей у форели возникли глубокие поведенческие и физиологические изменения», – написал он и пошел в сырой хвойный лес пить водку с колесом, а девочка осталась играть в шишки.
Она тоже испытывала глубокие поведенческие изменения, как всякий пятилетний ребенок, на которого отцу насрать. У нее были огромные желтые трусы. Она-то хотела купальник, потому что уже взрослая. Но родители не считали, что ребенка нужно одевать красиво. Вот пусть подрастет.
Если мне за этот рассказ заплатят, я засну и проснусь, и куплю девочке купальник, потому что она уже подросла.
У Курта Кобейна тоже были проблемы в семье. Его родители все дрались и бухали, а он все грустил и упомянул об этом в предсмертной записке.
В тот день, в начале апреля, двадцать тысяч человек убили себя. Это примерно. Никто о них ничего не напишет. Впрочем, в соседнем штате на кровати официантка нюхала пальцы. Думала: вот и старость, еще немного – и все. Закрыла глаза и положила в рот ладонь таблеток. А еще одного мужика нашли с отстреленной головой, как Кобейна. Но про него вообще ничего неизвестно, какой-то дальнобойщик.
Отец девочки был высокий, как два Кобейна. Строгий, бородатый и в огромных советских очках с кривыми линзами. Правда очень высокий, два метра. Он ездил к рыбам на чужом «шевроле» и зло шутил. Он говорил, что у форели боли нет, только радуга. От моих шуток девочка тоже плачет, хотя уже подросла и может носить купальник. Я шутками что-то такое подчеркиваю, что не надо подчеркивать. Есть фото: девочка, отец и «Шевроле». Курт Кобейн в кадр не попал, хотя был совсем рядом.
Америка удивительная, когда тебе пять. И огромные там шишки, огромные. Девочка нашла в лесу американских детей – много мальчиков, жирных, как скунсы, и страшных, как скаты. Они поиграли в шишки и как-то объяснились, вовсе без английского. Девочка сказала, что папа скоро придет, придет папа скоро, а вон за той елкой дают арбузы, и надо успеть, а то кончатся.
И вот самое важное место в рассказе. Они играли в шишки и арбузы, а мимо шел Курт Кобейн. Он увидел эти шишки, эти палатки и пикапы, росу на капотах. Увидел туман, и в тумане – русскую девочку в желтых трусах. И много маленьких толстых мальчиков. Девочка водила их вокруг елок. Все орали и выглядели счастливыми.
Курт Кобейн еще раз посмотрел на девочку, пошел домой, выпил чаю или что там у него было, медленно вдохнул, закрыл глаза и убил себя в голову.
I think I simply love people too much, so much that it makes me feel too fucking sad. The sad little sensitive, unappreciative, Pisces, Jesus man.
Девочка сказала, что почти все правда. Но ее привезли в Сиэтл только в мае, во всяком случае, было уже тепло и Курт Кобейн был мертв. Я сказал, что тогда за рассказ не заплатят. Девочка, которая в апреле 1994 года убила Курта Кобейна, прыгнула голая на табурет и чирикнула: ночь-ночь. Люблю, мол, тебя все равно.
Водки нет, колеса кончились, вот рассказ.
Я представляю: тупой холодный океан и молодой мужчина с крюком во рту. Скалы, елки. Он молчит и, кажется, не испытывает боли. Рыбак смотрит в его пустые от счастья глаза и отпускает в воду, потому что на некоторых берегах так бывает. Там никогда не поздно.
Песня про грязный дождь
Петр и Полина жили вместе,
ели вместе,
гуляли вместе.
Некоторое время не спали вместе,
но это все не про то.
Они носили одинаковые кольца и одинаково картавили. Но она боялась дождя, а он – времени.
Утром, чтобы не закричать, Петр надевал носки – дорогие, в чугунную клетку. Время лилось. Он, наклоняясь, видел вены – старость. Медленно выбирал рубашку с проволочным узором. Мял рукава костюма цвета серого кирпича. Тихо пищал, но все-таки не кричал – и шел на фабрику.
Полина собиралась быстро. Садилась на кровать и так сидела.
В полночь Петр пинал дверь, пинал стену, пинал кошку, снимал надетое, смотрел на голую Полину, доставал литр водки, выпивал половину, осторожно вставал на колени, и его рвало – ни капли на брюки.
Во тьме все шуршало. За раковиной жил жук.
– Работай, кошка. Работай, – дрожала Полина.
Но кошка не ела жука. От Петра пользы не было тоже. Он спал на животе или делал вид, что спит.
Утром снова носки, писк, ужас – и Петр шел на фабрику, как много лет ходил. Там вязали шапки для слепых детей. Спереди сова, а сзади слова: «Я буду видеть!» Шапки хорошо продавались. Петр был точен, аккуратен очень, всем владел и все держал под контролем. Его уважали. Он даже выступал про социально ответственный бизнес.
Полина не могла работать из-за дождя. Если падала капля, если что-то где-то, ну, просто стучало, она набивала рот сигаретами.
Каждую полночь Петр, если не пил, садился на пол и говорил:
– Я творец. Меняю мир. Создаю рабочие места. А ты… пустыня.
По пятницам ездили в бар, убедиться, что все в порядке. Петр водил пьяный, потому что был точен, аккуратен очень, всем владел и все держал под контролем.
Петр и Полина много пили,
громко пели
в автомобиле,
некоторое время посуду били,
но это все не про то.
На фабрике работали одинаковые женщины без бумаг и без имен. Плохо понимали речь и вообще. Петр знал, что работники ценят личное отношение, и бил их бракованными шапками по лицу.
– Подумай о детях, – говорил Петр. – Слепые дети будут ходить в этом дерьме.
Полину он не бил. И сначала она ничего не боялась. Было хорошо: высокие потолки, твердые стены, окно в полмира, полный порядок и новое платье дважды в месяц. Однажды она спросила, сколько стоят эти платья и как насчет дождя. Оставляет ли он сложновыводимые пятна. Так и сказала – сложновыводимые. Через год у Полины было две дюжины платьев, но она курила в день по две дюжины сигарет и почти не покидала квартиру. Дождь мог начаться когда угодно.
Петр и Полина жили долго,
но не было никакого толка,
всякое покупали, только
это все не про то.
Петр боялся, что так и сдохнет без следа, поэтому собирал минералы, клал в шкаф и знал имя каждого. Однажды сделал стул с пятью ногами, красивый. Ночью, когда Петр прятался в подушку, Полина не могла вспомнить его лица.
– Работай, кошка. Работай, – дрожала Полина.
Но кошка не хотела никого греть. Она почти оглохла от ударов, ходила боком и растеряла нежность.
У Петра было шестьдесят клетчатых носков, тридцать проволочных рубашек и десять кирпично-серых костюмов. Он окружил себя правильными вещами. У него все было расписано. Все контракты на шапки на год вперед. Все речи. Полина, когда еще не так боялась, видела его выступление. В зале сидели другие женщины в платьях ценою в жизнь и другие мужчины в клетку и в серость.
– Творец, – говорил Петр, – это не выбор. Это гены.
День за днем шло как шло, и однажды дом лопнул, как рюкзак с камнями. Утром Петр надел что положено, но так и не вышел. Ну, просто не вышел.
Потом у стула отломилась ножка.
Потом заболела Полина.
Она лежала.
Был жар, ее трясло. Петр принес каких-то таблеток в коробке.
– Убери это от меня, – сказала Полина. – Убери. Эту. Воду.
Он привязал ее к кровати, пытался поить насильно, Полина визжала, и он все же вызвал врача. Тот уколол ей что-то и сказал, что нечего лечить.
– Это, – сказал врач, – обычно. Вы бы, – сказал врач, – видели, что я повидал. Чао.
Петр оставил Полину спать с пачкой сигарет во рту. Надо было на фабрику. Там все разладилось, вязальные станки стояли, и женщины стояли возле них. Одна вышла вперед.
– Слепые дети, – прочитала она по бумажке, – не про-зре-ют. И мы бы хотели зар-пла-ту.
День за днем шло как шло и не то чтобы было хуже. Петр выгнал старых женщин и нанял новых. Ночью начался наконец настоящий дождь. Полина и не вставала. Такой дождь точно оставит сложновыводимые пятна на чем угодно.
Петр и Полина,
эх, Петр и Полина.
Кажется, это слишком длинно.
Посмотрим, кто кого сделал из глины.
Но это все не про то.
Петр вернулся рано. Дома было сыро. За окном стучало. Из окна текло. Пол был в следах от мокрых пяток. Не хватало одного платья, одной пары туфель, одной дорожной сумки, кошки и Полины. Кровать была заправлена, пепельница – вымыта.
Петр взял ее, осторожно осмотрел, он спешил, его ждали, надо было переодеться к очередной речи, но он еще раз обошел все, просто для порядка, быстро обошел, он же спешил, стекло в подошве заскрипело по полу – ага, пепельница, подумал Петр, хорошо, что не снял ботинки, но он спешил, не было времени думать дальше, надо было спешить – ага, пепельница, – его ждали, надо было переодеться к очередной речи – очень быстро, быстрей обычного снять и надеть носки и так далее, а в зале уже сидели люди, свет бил в лицо, Петру потемнело, ему показалось, что нет ничего перед ним, ну просто ничего нет, что он вообще дома, лежит лицом в подушку и пропадет уже завтра.
Он подышал, тихо пискнул, но все-таки не закричал и очнулся. Потому что был точен, аккуратен очень, всем владел и все держал под контролем. Поклонился; похлопали.
– Вся моя жизнь, – начал он, – созидание.
Осень, 138
Фрол родился в октябре и умер там же. В крематорий ходит сто тридцать восьмой. Кондуктор серьезен, как в театре, его маршрут похоронный. Все с гвоздиками, завернутыми в газету. № 138 – для тех, кому не хватает на такси, на могилу, на цветы нормальные.
там над лесом туча мух это умер винни-пух видно меду перебрал дознячка не рассчиталФрол был поэт. На колонне висел прейскурант ритуальных услуг и расписание. Жгли человека со смешной фамилией Хабло. И всяких других. Тетка из крематория, кажется, приторговывала цветочками с могил. Уважаемые родные и близкие безвременно усопшего (пауза, по бумажке) Фрола Жукова. Пожалуйста, пройдите в зал для прощания.
теперь он просто тушка он больше не медведь его больную душку подлечит доктор смертьКто-то грустный, яростный, усатый, из лесопарков и подворотен, где мы орали от боли и красоты и не умирали в общем и целом. Какой-то такой человек. Разве я ему родной и близкий? Кто я, чтобы прощаться? Вместе пили разок, пели чуток. Я его и не помню толком, усопшего-то.
ду-ду-ду ду-ду-ду горшок пустой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой ду-ду-ду ду-ду-ду горшок пустой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ойТу, которая его любила, я встретил через пять лет. Расскажи, говорю, о Фроле. А она:
– Черноволосый, черноглазый, с отпечатком черной ладони на спине. Нянечка в роддоме крестилась и убегала, отказываясь взять его на руки. В семье его потом была легенда, что это мама беременная едва не упала с лестницы, а папа ее поддержал. Покончил с собой на исходе октября. Не знаю точной даты, мы послезавтра наутро узнали. Вскрыл вены, вышел на лестничную клетку и звонил соседям. А они ему не открыли. Из-за того, что передумал и пытался, самоубийцей не считается.
Спасибо, говорю. Расскажи еще что-нибудь. А она:
– А еще он был весел, безумен, бесстрашен и бесстыден, в юности аскал и трахался на площади: «Бросьте монетку молодым, которым некуда пойти!»
Спасибо, говорю. Но я так и не понял, почему я просыпался с его именем. И почему той осенью все пытался его разглядеть. Но из третьего ряда видел только черные блестящие острые туфли, которые он вообще-то не носил, потому что черные блестящие острые туфли носят подонки. Из гроба торчали эти туфли и нос горбом.
громко плачет пятачок что ж ты винни дурачок ни ворчалок ни сопилок только ком гнилых опилокЗакончили прощание. Мужчины, крышечку давайте. Завинчиваем, так. Фрола бросили в прямоугольную дыру, все подошли и туда заглянули. Тетке с бумажкой сунули денег, она подняла брови.
отброшены копыта откинуты коньки печально смотрят в небо стеклянные зрачкиТруба плюнула черным облаком – Фрол полетел. А я все хотел прибить полку, на которой не стояла неизданная книга его стихов, а полка все не прибивалась. Я воздел молоток в одном городе и ударил по пальцу в другом. Все как-то скукожилось и безвременно усопло, ага-ага. Вот, например, раньше был зуб снизу слева. А теперь там снизу слева пустота, и в нее влезает палец – болит, если промахнуться молотком. Вот так и Фрол.
ду-ду-ду ду-ду-ду горшок пустой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой ду-ду-ду ду-ду-ду горшок пустой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ойОсень – это когда другие. А ты сидишь с пальцем во рту. И вспоминаешь нос горбом, отпечаток ладони.
винни умер в эфире только зуммер… винни умер в эфире только зуммер…Сто тридцать восьмой обратно – не то что сто тридцать восьмой туда. Обратно все уже выпили за здоровье своих мертвецов. Всем бы уже тепла и дальше жить. Один все кричал, что вот она, судьба, и обнимал чужую бабу, у которой умер кто-то не очень важный. Целовал ее в шапку, в пальто и просил у меня карандаш, записать телефончик. Но в карманах были только бумажный мусор и немного мелочи. 19 октября 1971 – 29 октября 2009. Бросьте монетку молодым, которым некуда пойти.
Стереометрия
– Купи куб мышей, – сказала мама, – Пиня голодный.
Маме не хватало человеческого тепла, и она взяла питона. Пиня жил в прямоугольной чугунной ванной объемом сто сорок четыре литра, мылись мы у соседки, а мама ее за это стригла. У соседки тоже не было мужа, были слабоумная дочь моих лет и лысый попугай на кухне, но она еще не потеряла надежду и хотела каре. Сложно все у взрослых, я и тогда не вникал, и сейчас не буду.
– Купи куб мышей, – сказала мама. – Или я сожгу твои книги.
Я часто представлял, что Пиню засосало в трубу, а потом вообще всех, и никто уже не мешает заниматься стереометрией.
Кормили его на последние деньги. Мама продала на дрова, что было, и пошла, наконец, редактором сайта для инвалидов. Следила, чтобы они не поубивали там друг друга при знакомстве.
«Инвалид третьей группы, пока не бессрочной. В тонусе держало и держит пристрастие к игре на басу, хочу поступить в эстрадно-джазовое училище».
«Инвалид первой группы с ампутацией обеих кистей рук и правой стопы. Курю, пью редко, наркотики не употребляю и ненавижу тех, кто употребляет их. Был женат, остальное при переписке».
«Инвалид первой группы, не хожу, деревенская, простая, одинокая, не хожу».
– Почти как я! – шептала мама и дула в кулак. – Почти как я.
Я закрывал глаза и вычислял в уме объем цилиндра с диаметром основания три километра и высотой до неба.
– Купи куб мышей, – сказала мама. Я надел три свитера и пошел.
Рынок был до горизонта. Сначала птичьи и звериные, змеиные ряды. Потом скот. У самой реки люди. От мороза все молчали. На прутьях застывало дыхание. Лишь собачницы спорили, когда сойдут снега и вернется солнце. Преобладала версия, что никогда.
В самом дальнем углу квартала живых и мертвых кормов сидела старуха. Старуха шептала:
– Мышки-малышки, мороженые мышки. Мышки-малышки, мороженые мышки.
Однажды мышь укусила Пиню, он их начал бояться, и мама, плача громче обычного, повышала ему самооценку – гладила и так далее. Мы перешли на мороженых, грели их на плите и шевелили потом палкой, имитируя жизнь. Пиня страдал и стал совсем вялый.
– Каких тебе, мальчик? – спросила старуха.
Змееныши едят новорожденных. Подростки – едва обросших мехом мышат. Взрослые – взрослых. Общее правило: корм должен быть такой же окружности, как питон. Я ткнул в нужных и дал деньги.
– Мало, – сказала старуха. – Подорожали. Придется отработать. Привыкай к жизни. Сложишь из них башню – один твой.
Для ледяного куба со стороной в локоть формула расчета объема – локоть на локоть на локоть. Площадь поверхности – шесть на локоть в квадрате. Это если грани ровные и из них не торчат хвосты и лапы. Площадь поверхности ледяного октаэдра, полного мертвых мышей, – два на локоть в квадрате на квадратный корень из трех. Додэкаэдра – три на локоть в квадрате на квадратный корень из пяти скобка открывается пять плюс два на квадратный корень из пяти скобка закрывается. Икосаэдра – пять на локоть в квадрате на квадратный корень из трех.
Я вернулся к ночи. Мама стояла в центре кухни, равноудаленно от всех стен, будто с линейкой высчитывала. Бутылка в руке была пуста ровно наполовину.
– Пиня помер, – сказала мама.
Я поставил куб и пошел к учебникам.
Наутро мама привела мужчину, сказала, что это Саня с сайта, что Саня похоронит Пиню и вообще будет помогать.
У Сани не было руки, он только путался и мычал, потому что был еще и немой, как я, и всю работу делали мы с мамой, долбили твердь лопатами, пихали туда коробку с питоном, но слишком давно все промерзло. И мы просто сунули Пиню в сугроб, все равно весна не скоро, если будет вообще.
Саня, как мог, погладил маму, а я пошел делать уроки. Губы дрожали. Главное – было не улыбаться. Я был счастлив. Счастлив на счастлив на счастлив. Я был так же счастлив лишь много лет спустя, когда выучил все объемы, все формулы, выучил все и все сдал, поступил, куда хотел, и вырвался, вырвался, вырвался отсюда.
Азбука большого города
Читать ритмично
А. Ад. Тут – говорят – ад. Врут: никто не горит, не корчится. Ни миллион Александров. Ни полмиллиона Анастасий.
Б. Бар. Некоторые приходят в бар. Приходят, ну и ждут: что-то будет, может быть, но вряд ли. Чудо, драка, любовь. Что-то будет, может быть, но вряд ли. Музыка не та. Совсем. Не такая. Белла тоже любила бары: приходила, ну и ждала.
В. Все. Владимир пил дома, думая, что это его спасет. Да, Владимир пил дома, он был изобретатель. Смешивал водку с водкой, выходило ничего. Собутыльники его закончились давно, он садился лицом к стене, закуривал, смешивал и говорил. «Вчера. Две. В одно лицо сделал. Одну. Сел. Выпил, скучно, мля, вторую, все».
Г. Гол. Георгий, чтоб не умереть, играл в футбол. С гаражом, как правило, пнет – а мяч обратно, пнет – обратно. Еще он перед зеркалом искал морщины, пятна, щупал живот. Тело свое любил, ничего не пил, не курил, не тратил, боялся времени. Однажды гараж снесли, и, глядя на голую землю, – «гол» сказал Георгий, Георгий сказал «гол».
Д. Дом. Хорошо, когда умирает мама. Это дом. Или папа. Тоже дом. Бабушка. Дом. Если ближний, дом вам, иначе дом не добыть. А у дальних свои потомки, и дом им. Вот здешние и ждут чужой смерти. Целую жизнь. И нездешние ждут чужой смерти. Целую жизнь. Но одна мама здесь выгодней, чем пять мам там. Дмитрий стоял у гроба и думал, как ему повезло.
Е. Еще. Егор купил метлу, совок и бритву для прыщавых щек. Чистил все вокруг, скреб, царапал, стирал, как мог, украшал среду, подозревая, что все-таки он не на «Е», а на «А». То есть в аду.
Ж. Жом. Жанна придумала есть жом. Пощупала ноги, пощупала зад, поплакала, почесала глаза. В журнале писали, что надо есть жом, похудеешь сразу. Но не написали, что он для скота вообще-то, зараза. Жанна все продала и купила жома. Тонну свекольного, гранулированного жома. Кухня вся в жоме, коридор в жоме, все вообще в нем. И теперь живут вдвоем девушка и жом. Тонна жома и толстая заплаканная девушка.
З. Зоб. А Зинаида пила из-под крана, и вырос зоб. Ела с пола, и выросло. Вот это самое выросло. Зоб. Огромный зоб. Брали врачи и прятали деньги, хихикали и не давали надежд – это был какой-то самый-самый злостный зоб. Наконец назвали сумму, чтоб резать. Но Зинаида пропала, никто не заметил куда. А потом из квартиры запахло чем-то неправильным и бесполезным. Так она и сидела на кухне, с ножом, в этом самом, в зобе, да, в зобе, да, в зобе, да, в зобе, да.
И. Ил. У Ивана были рыбы, он их любил. Тесно тут, не погуляешь тут, даже если ты человек. А рыбы удобны, с ними не надо гулять. Но ты умрешь медленно, если ты человек. А если ты рыба, то быстренько кверху пузом, и ну вонять. Иван подержал своих рыб в морозилке, хоронить повез. Ехал долго, а пригороды не кончались. А рыбы таяли: в морозилке-то не такой уж мороз. А дома остался ил. А пригороды не кончались.
Й. Йод. Помогает от зоба, и, говорят, от него встает. Йод. Надо, чтоб всюду был. И другие вещества. И йод. Надо, чтоб всюду был. И другие вещества. Человек с редким именем Йозеф ходил по магазинам, дергал ртом и спрашивал, содержится ли тут йод. Ему говорили: мужчина, вы тупой? Вы тупой, мужчина? Вот вам белки, жиры, углеводы, вот вам клетчатка и клейковина. А он такой: тварь, заглохни. Поговори еще мне тут. Заглохни. Поговори. Есть тут йод? Будет ли он у меня внутри?
К. Кот. Сначала глазки и хвостик, потом он сразу огромный и срет. В еду, одежду, технику. В только что купленную посуду. Ухмыляется, издевается, срет повсюду. Прыгает со шкафа и срет в прыжке. Жизнь зато занята. Жизнь зато сложилась. Вот Каринэ и взяла четырех котов одного за другим.
Л. Люк. А один – Леонидом звали – упал в люк. Тоже вот пошел за кошачьим кормом, в люк провалился и там застрял. Потому что ел мало йода и мало жома, лежал на боку, во рту и в заду ковырял, грустил от себя и совсем разжирел. Итак, пошел, упал, торчит он, стало быть, из люка – помогите, мол, люк, мол, люди, мол, помогите, суки. А все идут мимо, думают – ну дурак. Сутки он так проторчал. Сутки. Сверху люди, снизу мрак. Сверху люди, снизу мрак.
М. Медь. Михаилу некого было любить и не на кого смотреть. Он решил завести питомца: кристалл медного купороса. Повесил нитку в стакан с раствором, прищурился и стал ждать. Сначала не было ничего, потом вырос маленький, синий. Потом пришла к нему одна, вся такая из плавных линий, но в драном лифчике. И случайно разбила стакан с питомцем. Михаил собрал осколки, выбрал покрупней – дно оказалось – и этим дном стал ковыряться в ней. Стал ковырять ей лицо и тело. Та убежала, уползла, улетела, а он сел на пол, на кровь и купорос, прищурился и стал ждать.
Н. Нож. Ножом-то поудобней, подумал Николай.
О. Ось. Маленькой Ольге сказали, что у Земли есть ось. А у меня? Ну конечно (и мама тыкала в позвонки). Потом она выросла, Ольга, и ее перестали брать на руки. Потом все совсем устали – что ты вертишься, мол, надоела, мля. И Ольга тогда ложилась на пол и представляла, что она Земля. И что вот это на ней не синяки и прыщики, а города. И что она вертится, вертится и не остановится никогда.
П. План. Главное, чтобы был план. Вот у Павла что-то такое было, он на это всегда намекал. Запасной, говорил, вариантик. Кое-что, говорил, про запас. Так подмигивал он, суетился, по пьянкам скакал. Вот пидарас, говорили. Вот пидарас. Но однажды что-то у него лопнуло в голове. И он лег на месте, город приняв за кровать. Подошли к нему – пьяный, что ли, валяется на траве? Сваливать, прошептал Павел. Сва-ли-вать.
Р. Ритм. Некоторые думают, что есть ритм. Ищут какие-то сходства, какую-то последовательность во всем, искренне думают, будто рифмуется то да се. Вот и Раиса искала ритм, даже в студию пошла танцевать, дрыгала там ногами, но что-то у нее не выходило, ну то есть вообще. Плакала каждую ночь, кособокая дура, думала, тьфу, ну и пусть. Сволочи все, шептала, тыкала в стену горячий лоб. А сердце в ушах отдавалось, и это был такой хруст, будто пьяный упал в сугроб. Будто пьяный упал в сугроб.
С. Сон. Софья тоже никак не могла уснуть и думала про патиссон. Купила, не купила? Ну, купила, ну купила. А надо или не надо? Ну, не надо, нет, не надо. А зачем тогда купила? Ну, купила, раз купила. Но, наверное, хороший. Должен быть хорошим.
Т. Тон. Тимур купил штаны и много лет искал к штанам пальто. В тон чтобы было к штанам пальто. В тон чтобы было к штанам пальто. В тон чтобы было к штанам пальто. В тон чтобы было к штанам пальто.
У. Ус. У Ульяны вырос ус. Ну не то чтобы ус, а такой огромный волос. Вырос прямо на груди у Ульяны. У нее и так не очень с мужиками было, а тут он, ус, фу, гадость, он, ус. Но она не удаляла, ничего не трогала, все боялась, вырастет что-нибудь похуже. И она тогда совсем неприятной станет. Станет ей тогда совсем невозможно жить.
Ф. Флот. У Федора дедушка был капитан, а папа пилот. А сам он вырос какой-то мелкий, какой-то тупой совсем. Работал то здесь, то там, что-то водил, воровал, ненадолго сел. Но от папы был дом, а в доме ванна. И Федор пускал в нее корабли. Сделанные из хлеба, бумаги, бутылок и всякой фигни. Это мой флот, говорил Федор. Да, это мой флот. Полный вперед, говорил Федор. Полный вперед.
Х. Хром. Можно все им украсить, чтоб было как аэродром. Вот один человек, кажется, Харитон или как-то так, заработал тем, что сидел в духоте и чужие деньги считал. Он хромированный кран купил, хромированный душ, он покрыл покрывало хромом, при помощи хрома ел еду. Звал друзей посмотреть на роскошь, но никто не шел, справедливо считая его мудаком. Да, никто не шел, Харитон тоже стал делать вид, что ни с кем незнаком. И теперь живут вдвоем Харитон и хром. Тонна хрома и обеспеченный, стареющий мужчина.
Ц. Царь. Тоже вот один ходил, говорил, что царь. Да какой ты царь, говорили ему, а он: а вот такой. А вот мое царство – и показывал царство рукой. Вот это вот все он показывал. Вот это вот все. И люди смеялись, и было похоже, будто ревет осел. А этот мужик даже имя себе сменил и стал по паспорту Царь. И глупая такая фамилия. Глупая такая фамилия.
Ч. Чек. Чарли работал рекламой, хотя учили их всех на врачей. Он в коричневой кепке приехал за счастьем, не догадываясь, что зря. Так стоял он, работал негром, то есть самим собой, долго стоял. Рекламировал голых людей, стоял на льду. Вечером стало еще холодней, и Чарли сказал на своем языке – где я, в каком я городе и году? Взял пива, потом еще и еще, потом вдруг начал душить кассиршу, что-то подумав на ее счет. Чек, он кричал, ты не пробила мне чек, чек. Все удивились – пришел такой человек и чирикает человек.
Ш. Шум. Шура давно научился не реагировать на шум.
Щ. Щуп. Я так жесток к этим людям, что никогда себя не прощу. Вот человек по фамилии Щербаков был одинок бесконечно и что-то такое нашел. Это щуп, Щербаков, сказали ему. Щуп, Щербаков, для геологов, проверять, что там под нами. Но под нами и нет ничего – хоть по горло заройся в землю, а все города. И тогда он поставил щуп в угол, поставил он в угол его тогда, бабу привел, положил ее на пол, стал ее целовать, об нее тереться, а та ха-ха, хи-хи. А он ее этим щупом. В полиции не знали, что написать, и написали почти стихи. Большое, мол, и окровавленное сверло, одна штука.
Ы. Ы. Ыыыыыы. Ыыы! Ы!!
Э. Эхо. А воздух тут вязок. Ничто никому не ответит, кричи, не кричи. Один вот родился в горах, Эдуард, и ему стало тихо и больно, он-то горы любил, а вокруг одни кирпичи. Вначале визжал на улицах, но тихие люди кривили рожи, считая его дикарем. Тогда Эдуард затаился тоже. Перестал хохотать и прыгать, сложил губы в трубку и тихо в них дул. И однажды побрился, разделся, повесил штаны на стул, что-то там подумал, сломал стул, порвал штаны, сломал стол, выбросил все из комнаты и частично сорвал обои. Встал среди полуголых стен и закричал. И эхо ответило.
Ю. Юг. Тут пересадка, тут все хотят на юг. И Юлия тоже хотела. И муж ее, Юрий, хотел. Там кормят, купают, не трогают. Там вообще нормально. Типа царствия небесного. Но без царя и без небес.
Я. Я. Я, я, я. Я тут это вот тоже вот ага. Я тут это вот и вот моя нога. Господи хороший, а вот и весь я. Выбери меня. А выбери меня. Вытяни меня.
Ars dolendi, наука скорби
1. Это рассказ о ребенке, и сам он подобен ребенку. То прыгает, обезумев, то рвет сам себя в клочки. Действие мечется из Москвы в Германию и обратно, а начинается в Мексике, в 1873 году.
Элиза Бернардина Отилия Делиус рожала четыре часа. Снаружи казалось, она не кричит, а гудит, как шмель. Франц Рудольф Флоренц Август Вильманнс недоумевал насчет кактуса: ни веточки, ни листочка. Молчал, потел, дремал под гудение.
Первенца назвали Карл, то есть никак. У купцов Вильманнсов был офис даже в Гонолулу, но шестилетнего Карла отправили в Бремен, чтобы вышел немец, а не маленький дикарь. Сидя под лестницей, глядя во тьму, нюхая сырость и слушая дождь, он впервые испытал ностальгию, которая убивает.
2. Детская тоска вековой давности подходила к Москве, как пуля к дулу, но сыщик этого не знал. Он смотрел на человека. Человека нашли в саду – маленького, голого, с изрезанной на квадраты спиной. Дырчатый перелом os frontale, то есть пуля в лоб. Ясная смерть. Но пугали квадраты: сетка запекшейся крови. Стояло пустое лето, пух летел, заметал раны. «Больше не могу», – сказал сыщик и чихнул.
3. Закончился и начался век, и в тридцать три доктор Карл Вильманнс установил, что дети убивают других детей. В третьем номере «Ежемесячника по криминальной психологии и реформе уголовного права» за 1906 год вышла его статья «Тоска по дому и импульсивное помешательство». Нет признаков, что она написана тем мальчиком из тьмы. Никто того мальчика больше не вспоминал, включая самого доктора Вильманнса. Он писал много и жил долго. Он пережил Гитлера, у которого диагностировал истерическое расстройство, пережил тяжелого невротика Геббельса и почти пережил Геринга, в котором распознал хронического морфиниста. Что с того, что Германия чокнулась, если ты профессор психиатрии в Гейдельберге и достаточно насиделся под лестницей.
4. Москва душила. Из носа текло, в гортани скребло, таблетки не помогали. Преступление – беспорядок (думал сыщик, запивая водкой гидрохлорид цетиризина). Но точные бритвенные надрезы, шахматная доска на спине мертвеца – нечто противоположное (думал сыщик, заедая гидрохлоридом цетиризина водку).
Кто-то так и живет в состоянии смутного недовольства, кто-то так и помрет, не разобравшись ни в чем. Но сыщику все было ясно. Он пил, горюя по дому. Кровати в ряд. Шкафы в ряд. Столы в ряд. Кормили по расписанию. Раз в неделю, как по часам, кого-то били. Раз в год – в музей. На стене отпечаталась тень решетки, все играли в крестики-нолики. Детский дом. Хорошо. А потом – вдруг – свобода. Сыщик пошатнулся, сплюнул и расчертил мир заново: подозреваемый – обвиняемый – подсудимый – осужденный. И водка трижды в неделю, чтобы остаться в рамках. Так он решил, придумав себе в оправдание трудное прошлое и внутренний мир, хотя втайне подозревал, что нет никакого мира внутри, а есть молоток и отбивная котлета, и эта котлета – ты.
5. Вильманнс был мастер описывать голых детей. Он был их Босх и Дюрер. «Хрупкого сложения девочка хорошей упитанности. Еще детские формы, грудь мало развита, лобковые волосы скудные, подмышечные волосы едва намечены. Менструация еще не наступила. Аполлония С. проявила себя как чрезвычайно застенчивый и робкий ребенок».
Это живопись, а вот факты. Восемь братьев и сестер, третья, любимая дочь в семье каменотеса, работать начала поздно – в 13 отправили нянькой в соседнюю деревню. Желая поскорей вернуться домой, Аполлония С. дважды травила ребенка, к которому была приставлена, а позже бросила его в реку. «В воскресенье после белого воскресенья меня навестила моя сестра. Я сказала ей, что у меня тоска по дому. Она сказала, что я должна хорошо молиться и быть прилежной и послушной, тогда тоска по дому пройдет». В краткой исповеди Аполлонии С. выражение «тоска по дому» повторяется пятнадцать раз.
6. Новое тело – через неделю. Снова череп с дырой и голая спина в квадратах. Сыщик сравнивал фото. Кожа – трудный материал, но убийца учился. Квадраты рассекла диагональ, рисунок стал сложней, он уже походил на чертеж, но шум и жара мешали понять, что начерчено. В соседнем кабинете ревели и спорили, кто смешней упадет со стула. В углу торчала искусственная пальма, все финики с нее оборвали. От компьютера пахло паленой пластмассой. На стене висела карта круглого города – бред, хаос, опухоль. Сыщик не связал два убийства в центре Москвы со смертями детей в позапрошлом веке. Потому что на юридическом не проходят доктора Вильманнса.
7. Пока будущий доктор Вильманнс плакал в Бремене, в Ольденбурге смеялся будущий доктор Ясперс. От Бремена до Ольденбурга – 29 километров, ровно как из конца в конец Москвы.
Это факты, а вот живопись. «Все детство я провел на Фрисландских островах и вырос на море, мои воспоминания начинаются с возраста 3–4 лет, когда я начал говорить, – рассказывает Ясперс за год до смерти, наполненный величием, как подушка пухом. – Однако в моих первых воспоминаниях не осталось моря. Запомнились только кустарники и дома. Через год-два как-то вечером отец взял меня за руку и повел на берег. Вниз, к морю. Был сильный отлив. Мы шли по свежему чистому берегу. Все дальше и дальше, насколько позволял отлив. Мы шли к воде, вокруг лежали медузы, морские звезды. Я был словно околдован. В первый раз я увидел море. Тогда я еще не думал о бесконечности».
Вскоре Ясперс поменял Ольденбург на Гейдельберг, где моря нет, но можно думать о бесконечности и сдавать по ней экзамены. Вдохновленный тоской по дому и работами Карла Вильманнса, в 1909 году он защитил диссертацию «Ностальгия и преступление», где описал десятки убийств детей детьми. Вместо слова Nostalgie – вероятно, слишком заграничного – он вслед за учителем использовал слово Heimweh, происходящее из швейцарского диалекта. Буквально – «тоска по дому».
8. Эксперт был косоглаз, кособок, испуган. Повертел фото, пожевал рот, почесал глаз и сказал:
– Шерше ля фам. Это баба.
– С чего бы баба? Они не убивают так, подряд. Могут спьяну придушить, шилом ткнуть. Но не так.
– Се ля ви. Они уже за рулем. В правительстве. В космосе. Они уже убивают, как мы. 15 процентов серийных – женщины. Следов никаких, работа чиста, но тело – вот, а могла бы спрятать, Москва стоит на спрятанных покойниках. Нет, эта баба подает нам знак. Заигрывает с нами. Боюсь их.
Эксперт снял очки, плюнул на стекло, протер, извинился:
– Мильпардон, привычка. Ищите вашего монстра. Подозреваю, у него синие глаза и коса до попы. Бон вояж.
Вечером сыщик выпил еще водки и прочитал речь Эйлин Уорнос: ее изнасиловал дед, а потом она застрелила семь человек. «Меня переполняет ненависть. Я устала слышать про себя, что я сумасшедшая. Я проходила освидетельствование много раз. Я не сумасшедшая, я нормальная. Я пытаюсь говорить правду. Я ненавижу человеческую жизнь и убивала бы снова».
9. Ясперс стал научным консультантом Гейдельбергской психиатрической лечебницы – той, где Вильманнс служил старшим врачом. Убивали, как правило, девочки. Убивали, как правило, грудных. Не было ненависти, но было желание вернуть утраченное.
«Роза Б. слабенькая, плохо развитая девушка, которая выглядит решительно младше своих лет. Строение ее черепа несколько маленькое и узкое. Явления паралича отсутствуют. Особо нужно подчеркнуть, что у нее были не очень выраженные, но отчетливые движения, подобные пляске святого Витта – подергивания мускулатуры лица и рук. Она производит детское, неопытное впечатление».
10. Москва кругла, и, блуждая по ней, по крюкам ее и переулкам, однажды обязательно вернешься на старт. В детском доме было все иначе – коридоры вдоль и поперек, никакого глупого кружения. Главный по порядку был учитель русского. Если кто-то писал «карова», он сначала ставил кол. Во второй раз – два кола. В третий – бил по руке и в лицо, чтобы пальцы и губы запомнили правило. Его уволили, когда сломал одному запястье. Его тащили по идеально прямому коридору, а он кричал умирающие слова:
– Поземка! Кургузый! Конволют!
Язык был его потерянным домом. Сыщик теперь понимал его, как блудный блудного. Он сидел, вспоминая – детские утраты прорастали сквозь взрослого, как трава сквозь труп. Телефон брякнул, сообщили о третьем теле.
11. Живое, не желая умирать, корчится и взывает не к жалости, но к еще более изобретательному убийству. Дети душили детей, жгли и топили, ломали кости. Все они – и жертвы, и те, другие – вероятно, кричали «мама». Кричали на всех языках мира, но в других странах не нашлось ни доктора Вильманнса, ни доктора Ясперса, ни прекрасного слова Heimweh.
«Иоганна Софи Филипп, 14-ти лет, деревенская девушка, ребенком была болезненной, сейчас слабой и золотушной конституции, долговязая. Узкое строение груди, сколиоз, увеличение щитовидной железы и левого века. У нее аскариды. Уже в течение продолжительного времени жалуется на слабость, чувство усталости, головную боль, особенно рано утром, когда встает; причем и всегда ей было «плохо и кружилась голова». Она была очень сонной, засыпала рано вечером и не могла утром встать. Менструация еще не началась. Срамные волосы начинают расти. Вокруг сосков несколько выпуклостей».
12. Сыщик не знал, что значит «конволют», но знал, что значит «раскалывать». Он бил людей по голове, представляя: колется череп, и всем загадкам конец. Бил не сильно, не до перелома os frontale, бил только из любви к порядку. Он мечтал, как перед ним посадят убийцу. Если это и правда женщина, он из вежливости сдержит силу удара. Но потом она все ему объяснит. Все объяснит. Он глядел на третьего мертвеца за месяц, он уже знал, на спине – карта, но не знал, куда по ней идти. Тер глаза и сопоставлял факты. Кровь (снотворное), кожа (резали по живому), дыра в голове (крупный калибр), следы колес. Все равно что собрать скелет курицы из найденных в мусорке огрызков. Не складывалось.
13. В Гейдельберге, на фабрике по переработке детских утрат в ученую степень, делали докторов шестьсот лет. То Ясперса, то Геббельса, то Ясперса, то Геббельса, одних докторов. Каждый сотый бракованный. То вдруг филолог рванет в рейхсминистры пропаганды, и никто уже не посмеет поставить ему диагноз. То психиатр обернется литератором, и останется потомкам бледное яблочко да бедненький домишко.
«Девушка странно трогательной бледности, «бледное яблочко», выросла в равнодушно прохладном окружении, ребенком пасла овец, имела склонность к одиночеству, часто плакала без причины. В 15 лет она пошла на службу няней. Несмотря на то что она находилась всего в часе ходьбы от дома, ее охватила сильнейшая тоска по дому, она забыла бедненький домишко, плохую еду, грубое поведение своих. Родной дом стал страной фей ее мыслей. От решения сбежать она отказалась из-за страха перед отцом. Печаль днем и бессонные ночи подорвали ее здоровье. Тогда она пришла к мысли: если ребенок умрет, ее как ненужную отошлют домой. Случайно она услышала в трактире, как люди болтали, что от серной кислоты умирают».
14. Сыщик был зол: не нашел, а попалась. Четвертый застрял в багажнике; так она и стояла: в одной руке сумочка, в другой нога мертвеца. Дома – мешок одноразовых скальпелей, пистолет с глушителем, шкаф сказочных платьев, пустой холодильник и полная библиотека. Кот, маленький и сильный, как его хозяйка, бросался под ноги и рычал, мешая обыску. Скука: знакомилась, приглашала, опаивала, стреляла, резала. Оставался неясен мотив.
– Ты чего убивала? Дура, что ли?
– Найдите хоть одну причину, чтобы не убивать.
– Ты, что ли, дура? Убивала-то чего?
– Вижу, у вас аллергия. Не волнуйтесь, это на жизнь. У вас гниют глаза и пауки в горле. А я вот убиваю.
– На коже карта. Что за карта?
– Dolendi modus, timendi non item, – прошептала женщина. – Лишь для скорби есть граница, а для страха никакой. Плиний Младший, письма, книга восьмая.
Сыщик вознес кулак и опустил его. Вечером он выпил вдвое против обычного. И снились ему котлеты, и он кричал, хотя у котлет нет рта.
15. Важно помнить, что это – все это варево из мертвых тел – правда было. И есть. И было. «Она ударила ребенка около 10 раз кулаком по голове, в лицо, в нос и рот, после этого она взяла его из колыбели и дважды ударила затылком о землю. Поскольку ребенок наделал под себя, она очистила его и взяла новую рубашку. Вскоре она еще раз ударила ребенка в лицо; зажимала ему рот, а также схватила ребенка вокруг ребер и трясла его в колыбели. Неоднократно она высказывалась, что ее намерением было убийство ребенка, так как это казалось ей самым надежным средством уйти со службы».
16. Из изолятора она писала только ему. «Ваш град – помойка в форме колеса. А мой – казарма из квадратов. Вы спрашивали про карту. Лучше бы спросили, почему за маленького человека что-то решают, хотя он машет погремушкой и ревет, что уже большой. Почему нас увозят против воли, кормят против воли, трахают против воли и хоронят не там, где хочется. Лучше бы вы это спросили. На карте – кусок города, где я выросла и куда не вернусь, как свет не вернется в провода. Это место называется Пески. Тысячи лет назад там было море, дно поднялось, и ветер намел на трясине гигантскую дюну. Вдоль нее, в обход болот, шел тракт. Потом болота осушили, дюну срыли и расчертили по линейке город. И на бывших песках возвели казармы для саперов и артиллеристов. Там немного вещей, по которым действительно можно скучать, но скорбь моя выбрала форму тоски по дому, а я замолкаю, когда выбирает скорбь. Тут, в тюрьме, почти как там, в Петербурге: покой, порядок, сырость. Немного не хватает ветра с моря. Вам бы понравилось. Пожалуйста, проследите за котом. Вы же не хотите, чтобы у вас на совести висел кот. С приветом, убийца».
17. Слово dolor (герундий– dolendi) означает физическую боль, тоску, печаль, скорбь. Люди используют латынь в трудных случаях, когда перед ними – голый кишечник, дыра в голове или что-то подобное. Скорбя по родной деревне, 1 июня 1790 года Мария Луиза Зумпф, десяти лет, подожгла дом, где была служанкой. Наказание: 6 лет каторги. «Вместо теплого приема пороть там розгами, также во время срока наказания ежегодно 1 июня, как в день поджога, то же и при освобождении».
18. Сыщик читал последнее письмо. Лето кончилось. Таблетки были не нужны.
«Жаль, что вы тупой, – писала женщина. – А я хотела объясниться. Впрочем, я и сама без слов. Поможет ли нам Овидий? Он плохо переведен на русский, а в латыни вы явно не сильны. Но вы почитайте. Читайте.
Только представлю себе той ночи печальнейший образ,
Той, что в Граде была ночью последней моей.
Только лишь вспомню, как я со всем дорогим расставался, —
Льются слезы из глаз даже сейчас у меня.
Когда вы сами начнете убивать, все вам станет ясно. К сожалению, мужчин не сажают с женщинами, и мы закончим в разных колониях. Как там кот? Не давайте ему дешевого корма, вредно для почек. Без надежды на встречу. С приветом, убийца».
За спиной копошился город. Сыщик обернулся. Хорошо думать о бесконечности, если ты маленький Ясперс на взморье. Но ты отбивная с московской пропиской, и пусты твои думы. Пнуть бы окно, чтоб осколки вонзились в пейзаж, чтоб Москва завопила от боли, она же – скорбь. Но сыщик лишь подышал на стекло и сыграл сам с собой в крестики-нолики, пока облачко не растаяло.
– Пойдем пожрем, – сказал сыщик коту.
Песенка песенок
– Вот, написал. Вот рукопись, – сказал я старшему майору Махрову. – Что дальше?
– Засунь ее себе в задницу.
«Рукопись, найденная в заднице»Глава первая
1. Когда у Зацовера умерла жена, он пошел по улице.
– Ага, – сказал он. – Ага. Скоро лето. В белых и золотых тряпках девушки побегут. Голые ноги, голые животы. Могу теперь трогать животы. Могу быть заново, со второй попытки счастлив.
Зацовер ударился о здание, по большим глазам потекла кровь. На обочине таджик собирал оранжевые конусы.
– Там-там-там, – сказал таджик. – Там кафе. Можно съесть мясо и заказать женщину.
– Не, не надо, – сказал Зацовер.
2. В городе ничего не случалось. Все клали новые дороги поверх старых. На пустыре, где Зацовер некогда пил первое пиво, возвели дома. Жили в них все те же люди, все так же. Лежали в кроватях, гладкие кожей и равные длиной, как огурцы. Мужчины с женщинами, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Зацовер лежал на полу, поворачивался на бок, говорил «а» и засовывал руку в рот.
3. Вот родословная Зацовера.
Ицхак родил Наума, Наум родил Айзека и брата его с рассеченным нагайкой лбом, Айзек родил Блюму и сказал – будешь советским инженером, Блюма родила Ивана, и некоторое время Иваны рожали друг друга. Потом снова стало можно, и родился Зацовер. Только он теперь никого не родит.
4. От жизни осталась трехкомнатная квартира со смешным тараканом под плинтусом. Зацовер напряг тело. Чтобы совсем не зарасти смертью, он решил сдавать жилплощадь.
По объявлению приходили какие-то люди. Пришел человек из пригорода, с серыми глазами и мелкими серыми зубами.
– Знаете, – сказал он, – у нас меж двух заводов продолжительность жизни сорок лет.
– Знаю, – сказал Зацовер.
– Везде свинец. У меня кровь запеклась в ушах, не могу спать.
– Знаю, – сказал Зацовер.
– Столько-то вас устроит?
– Знаю, – сказал Зацовер.
– Может, во мне рак размером с кулак. Скиньте немного. Все равно завтра в урну.
– Уйдите, – сказал Зацовер. – Я слишком часто знаю.
5. – Нет, я буду писать. Я интеллигент, – сказал Зацовер. Он стал искать слова на пробу. – Кресло. Кресло. Стол. Яблоко. Лампа. Холодно. Язык.
Он посмотрел в зеркало, но лицо было похоже не на лицо, а на какие-то предметы.
6. Зацовер сдал комнату человеку по имени Энди Свищ. Они сели писать роман наперегонки. Однажды сосед залил кровью стол, стул и пишущую машинку. Рухнул на клавиши, поранил лоб и губы, погнул букву «т».
– Я, наверно, победил, – сказал Зацовер. – На окровавленной машинке много не напишешь.
Сосед отмыл машинку в раковине, но получилось плохо:
бы ь или неееее бы ь аков вопрос дос ойно ль смиря ься под ударами судьбы иль надо
оказа ь сопро ивленьееее
7. Однажды Зацовер включил пылесос и заплакал. После этого его стали называть «ребе Зацовер».
8. Энди Свищ показал кусок романа.
«Пареееень был разносчиком пиццы, а при ворялся разносчиком смееертеельной разновиднос и гриппа. Лучше ак, чем наоборо. Чувак казался сильным. Я дос ал свой сорок пя ый – всегда со мной, подруга! – а Спарки, черный, как клевая немеееецкая ачка, приго овил кас еее. Все замеееерло».
– В слове «кастет» много неподходящих букв, – сказал ребе Зацовер. – Знаешь, это главная беда: много неподходящих букв.
9. Однажды Энди Свищ натянул свою бешеную желтую шапочку по самый рот и пошел в кабак – запивать жизнь. Был полдень, воскресенье. Ребе Зацовер стал будить Анну-Алину, потому что с некоторых пор не мог быть один, а она носила такую полупрозрачную ночную рубашку, из которой все торчит и трепещет.
Анна-Алина почти написала диссертацию на тему «Метафизика хлыста и воли», потом что-то в ней хрустнуло, и она устроилась вагоновожатой.
– Спю, – сказала Анна-Алина через дверь.
Анна-Алина была блондинка, впрочем нет, брюнетка с крупным носом, тонкими руками и ногами, в точности как любил ребе Зацовер, когда еще любил. Она делала в комнате что-то трамвайное и не выходила.
10. Да нет, никакой Анны-Алины не было, никого кроме них с Энди не было, ребе Зацовер все придумал, за закрытой дверью была их бывшая спальня, книги жены и ее вещи, ее штучки, ее набор трусов с героями Союзмультфильма, ее зеленый велосипед. Ребе Зацовер поставил замок, запер дверь и забыл, куда положил ключ. Иногда смеялся без веселья, иногда молчал.
– Что-то в моей жизни машинальное, машинальное что-то в моей жизни, – сказал ребе Зацовер.
– Надо жахнуть, а потом еще жахнуть, – сказал Энди Свищ и предложил водки.
11. Иногда ребе Зацовер гулял. Он выбирал квадрат и гулял по квадрату. Цвела черемуха, район оброс словами. Все строили и строили. Быстрые подростки писали на строительных заборах: «долой фашизм», «пофиг на нацию». В соседнем дворе обижались и писали поверх: «долой иудаизм», «пофиг на нацию черножопых».
Однажды Энди Свища поймали фашисты и выбили ему много зубов. Он стал похож на пишущую машинку. Это были те самые парни из детского сада, у которых он, злой школьник, отнимал жвачку.
– Эфо фамое непияфное, – сказал Энди Свищ.
– Смешно, – сказал Зацовер, – хожу живой еврей, а бьют тебя.
– Пофому фо вы вфе фкоты, – сказал Энди Свищ.
12. Ребе Зацовер сказал:
– Я написал роман. Всем романам роман. Некоторых людей смастерили только для того, чтоб они встали во фрунт и записались в герои моего романа. Идет такой Хрен Хреныч. Мысленно стучит по ступеням шпорами. Представляет, что сделает с женой и дочерью, когда вернется с работы. Кладет ладонь на дверь, толкает. А там вместо двора-колодца – а ничего. Я еще не придумал. Так и живут. Сжимают в руках мясо ближнего своего. Облизывают в полусне горькие губы. Некоторые даже любят детей и ходят в музей посмотреть на квадрат Малевича. Глядят: квадрат. А за ним – а ничего. Малевич не придумал. Смертная жизнь. Сами себя опишите с ног до головы. Что скажешь, Энди?
– Дерьмо роман. Мало наркоты и приключений.
13. Еще Энди Свищ сказал:
– Слушай, только двадцать процентов женщин любят минет. Ты понимаешь, только каждая пятая телка любит сосать. Остальные делают это через силу. Я не хочу, чтобы мне сосали через силу. Я уважаю женщин.
– Уважения мало, борись за их права, – сказал ребе Зацовер.
– А вообще нам нужна телка. Просто чтобы рядом была. Без женщины мужчина превращается в ничто.
14. Ребе Зацовер опустошил запретную спальню, а вещи жены сложил в четыре пакета и расставил по углам. Он почувствовал себя в заброшенном магазине. Он обнял зеленый велосипед и лег рядом с ним. И почувствовал себя в заброшенном театре. Лучше магазин.
15. И въехала незнакомка Таисия, и молча поставила рыжий чемодан, и уснула. От нее пахло цветами и водкой.
– Она как та девчонка постарше, на которую посматривал, а подкатить не решался. Как та кофейная попутчица в лазоревой футболке, в поезде с юга на север. Совокупный образ всех барышень, о коих грезил в полусне, – поэтично сказал Энди Свищ.
А ребе Зацовер подумал, что незнакомка Таисия будет лежать там, где лежала жена, и его улыбка стала запятой.
16. Незнакомка Таисия вытащила пачку рваных, но крупных купюр и отправила Энди Свища вставить зубы. А Зацовера посадила рядом, перед пустым экраном.
– Вот у вас обычный трубко-лучевой кинескоп, корейский, – сказала незнакомка Таисия. – А половина страны мечтает о таком же, но жидко-кристаллическом, плоском, как небо. Что скажешь?
– А другая половина – сказал ребе Зацовер, – именно о таком, как у нас, мечтает. Потому что в их зассаных домах стоит черно-белый ящик «Радуга».
– Но показывают-то одно и то же. Можно даже сказать – и вовсе ничего не показывают.
– Без телевизора все равно хуже. Придется друг на друга смотреть.
– А половина людей не хочет лица ближнего. Им бы красивые пятна на кинопленке.
– А другой половине – хоть что-нибудь без гноящейся раны и бельма.
– Давай дружить, – сказала незнакомка Таисия. – Я принесу водки.
17. Однажды они выпили еще водки и деньги кончились. Энди Свищ опять истекал кровью – но нежно, с балкона, на «Жигули» с разорванным капотом. Таисия зажгла длинную макаронину и сделала вид, что курит.
– Это предпоследняя макаронина, – сказал ребе Зацовер. – Дальше только пшено и пельмени, они огнеупорны. А потом все.
– Никогда не говори «все». Потом будет еще кое-что, – сказала Таисия. – Мне было трудно, меня трогали четверо у забора. Но вот я здесь.
– Мне тоже трудно. Я хочу ничего не делать, только жрать овощи и спать на солнце! – сказал Энди Свищ и сел на стол. – Можно же? Можно? Моя высокая культура речи и быта – это маскировка. Я же школы не закончил. И кровоточу на чужие «Жигули». А мог бы – на собрание сочинений Шкловского. Или на свое собрание сочинений.
– Пойдемте спать. Скорей бы похмелье – почувствовать, что живой.
18. Однажды ребе Зацовер остался один, полез на шкаф и достал сумку и снова стал просто Зацовером. В сумке были всякие вещи. Искусственный кот. Эстонская книжка про каких-то психов. На дне Зацовер нашел глупый желтый пистолет, стреляющий полыми шариками из пластмассы.
Зацовер подумал.
Впрочем, просто подождал.
Засунул пистолет в рот и выстрелил.
– Бог превращает страшное в игрушечное, – сказал Зацовер, выплюнув шарик. – А иногда наоборот.
Глава вторая
1. Еще Таисия показала рыжий чемодан.
– Знаете, что там?
– Знаю, – сказал Энди, – оружие и кокаин. И запасной лифчик. Синий в оранжевый горох.
– Мы живем бок о бок черт-те сколько, твои волосы вмылились в мое мыло, а ты до сих пор не знаешь, какие лифчики носят настоящие женщины. Там костюм красной белки.
Она раскрыла чемодан, и в чемодане был костюм красной белки.
– Вам бы тоже подходящую одежонку, товарищи. Мы поедем в райцентр. К дядьке.
– У тебя дядька?
– Это некий общий дядька. Очень важный.
2. Однажды электричка была полна измученных женщин. Энди стал кадрить попутчиц.
– Милая! У вас и груди, и глаза круглые. Откуда вы такая красавица?
– Пошел на хуй, ебаный в рот, – ответила женщина голосом покойника.
Энди загрустил.
– Расскажи чего-нибудь, – попросил он.
– Хорошо, – сказал Зацовер. – Одна девочка, приятная такая, с длинной белой косой, попала в беду. В городе был большой пожар, огонь падал с неба, и вся семья у ней погибла, все сгорели огнем. Шла она по дороге, плакала и хохотала. А навстречу ей добрый мужик, в пиджаке и в рубашечке. Пожалел он девочку и дал ей деревянную чурку. «Вот тебе новые папа и мама, вот тебе новый дом, вот тебе новый пес Полкан». Девочка обняла чурку, надела на нее вязаную шапку, засмеялась, взяла пулемет и убила всех, а потом упала в озеро и утонула. Те, что остались, стали думать. Решили, что, наверно, в чурке содержались отравляющие вещества, что, наверно, от них девочка сошла с ума, в следующий раз надо будет дать ей, наверно, другую, экологически чистую игрушку.
3. Почти уж ночью Зацовер, Энди и Таисия вошли в райцентр. Заколоченные дома не отбрасывали тени. У фонаря стоял коротко стриженный человек и рассматривал пустой шприц.
По улице вихляли серые автомобили, в них орали, и бил барабан. В конце аллеи искалеченных тополей стоял сарай с лампочкой. Это был дом культуры. Энди прищурился и прочитал нараспев:
– Вокальная студия «Солист». Клуб для пожилых «Вторая молодость». Шахматный клуб «Ладья». Театральная студия «Фантазеры». Весело живут – умереть забыли!
– Это место, полное значений, – сказала Таисия и облизнула рот. – Днем тут руководит хорошая женщина, она пыталась дать нам взятку блинами с мясом.
– Зачем взятку?
– Просто, а вдруг. А ночью здесь дядька.
4. И вошли они в кинозал с вывороченными деревянными креслами. У потолка вполсилы трещали лампы.
– Однажды тут снова покажут кино, – сказала Таисия и хихикнула, – большой корабль пальнет по большому дому, каменные звери оживут от ужаса, и на ступени рухнет женщина с расколотым лицом. И все под музыку.
Зацовер посмотрел на Таисию и увидел, что даже в желтом свете у нее совершенно белая шея.
– Я тоже люблю кино. Больше жизни. И я думаю, – сказал он, – здесь покажут яблоки. Красивые толстые яблоки под дождем. Долго. И под музыку, черт подери.
5. Кресла вздрогнули, на свет выполз мужчина. Он был грязно-рыжий, как нечищеная морковь. Правая рука запуталась в бороде. В белых глазах трепыхались зрачки.
– Здравствуй, дядька Витька, – сказала Таисия и поклонилась мужчине в ноги. – Я тебе привела вот двоих. Их бы приодеть.
– Что, не сволочи? – спросил мужчина. – А то был тут один – так сволочь. Я ему в рыло дал, пусть катается по свету. Отвечайте вежливо.
– Мы не сволочи. Я Зацовер.
– Кто такой?
– Одинокий человек умственного безделья, – сказал Зацовер и скривился. – А вы кто такой?
– Что, сектант какой-то или русский мыслитель? А то у меня изжога от всей этой поебени, – сказал Энди Свищ.
– Нет, – сказал рыжий мужчина, и его взгляд встал, – Я портной. Я здесь давно живу, при доме культуры. Нахватался. Шил костюмы для утренников. Видел Снегурочку изнутри. Деда Мороза без портков. Жил и шил. Шил и жил. Вот теперь и для вас кое-что сделал. Такая одежка, что вы сразу в ней кем надо будете. Только вначале проповедь. Таська, посади товарищей.
6. И сказал дядька Витька:
– В храме божием бывали? Кругом источники света. Но темно, как под юбкой. Жарят отличные песни. Но никто не подпевает. Вроде Пасха давно прошла и больше не будет, но на улицу не хочется – некуда. Толпа и пустота. И вдруг ты слышишь странный звук: дышат люди. Думают о всяком дерьме, но дышат в лад. Батюшка пьяный придурок, а дьякон спит с выдуманной овцой, но и они дышат, хриплый у них вдох-выдох. Ты чувствуешь кожей и ухом, как душно кругом и надышано. Понял, да? Вот сейчас с тобой то же самое происходит, пока еще не самое важное, но жить уже погорячей. Время скрутило твое слабое брюхо. Вроде жизнь была – будто полон рот мятой бумаги, годы царапали горло. А сейчас чувствуешь: кругом уже живые люди. Дышат. И минуты ползут, как вши по яйцам. И тебе больно, ай больно, ай больно, блядь, тебе становится за все бездарное и пустое, и ты ешь ладони от боли. Доброе утро. Конец теоретической части.
Рыжий мужик перекрестился и добавил буднично:
– Было дело, девочка сняла с вас мерки, пока вы лежали от водки. Дары готовы, в подсобке заберете. Как наденете – сразу полдела, все прояснится. В карманах там веселые штуковины. Бог создал удивительных и всяких тварей, а товарищ Макаров придумал так, чтобы все были одинаково мертвые. Не слишком-то бабахайте. А теперь уходите в город, – сказал дядька Витька, махнул головой и пропал под мебель.
7. У Энди оказался костюм бутерброда с веселым соевым мясом. У Зацовера – костюм небоскреба с человеческими глазами. В карманах лежало по пистолету системы «макаров» – Таисия сказала, у нее такой же.
8. Утром райцентр был тих. Зацовер шел и чувствовал во рту загадочный металл. Солнце обнажило кривые дома и пустые кусты. Луч упал на рекламный щит в три человеческих роста – нарисованная от руки Золушка с глазами разного размера. По Золушке ползли слова с развратными завитушками: «Тут не так-то просто взять вот так вот и поменять вот так вот свою жизнь резко и внезапно. Мы тут зажаты в рамках маленького пространства, где прошлые неудачи нам постоянно припоминаются в совершенно неожиданных ситуациях. Знай и люби свой город». Ниже, мелкими буквами: «По заказу районной администрации». Еще ниже, старательной детской рукой: «Дед Мороз и Снегурочка – хуй и пизда».
Зацовер, Энди и Таисия медленно шли к станции, почти счастливые от бессонницы и бессмыслицы.
– У меня есть двести миллилитров водки, – сказал Энди Свищ и достал из ниоткуда бутылку. – Выпьем за то, чтобы однажды проснуться в кино.
Они выпили водки, и жизнь сделала еще один круг.
9. Электричка смердела все так же и была, кажется, все та же.
– С тебя притча, Зацовер, – сказала Таисия. – Коротенькая.
Зацовер сказал:
– Встретились как-то раз Гамлет, Фауст и герои итальянских опер, такие, знаете, в сюртуках и жабо. И начали разговаривать. «Не грузи», – сказал Гамлет призраку. «Не еби мозги», – сказал Фауст пуделю. «Relax, take it easy», – спела Сюзанна, и Фигаро смолчал. А дальше ничего не было, ни трагеди, ни комеди, ничего.
Если я когда-нибудь спою так же, выстрелите мне в рот, пожалуйста.
Зацовер решил, что слишком много думает о своем теле, и начал думать о телах других людей.
Вскоре все кое-как уснули, и поезд качал их.
Глава третья
1. Однажды Пандоплеву разбили голову балалайкой. Много лет он носил злой шрам поперек лица. Исполняющий обязанности заместителя начальника руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу младший советник юстиции Олег Пандоплев, так называлась его должность, и все было правдой, но где-то на полпути терялся смысл. Когда приезжало начальство, Пандоплев прятался в синий мундир с некоторым количеством фальшивых звезд. В остальное время надевал рубашку в тонкую полоску, пальто в елочку, клетчатый шарф и предпочитал рябить. В ведомстве не помнили его лица и даже шрама не помнили.
2. В городе все клали новые дороги поверх старых, и на обочине человек-пончик подрался с человеком-грузином: не поделили рекламный рынок. Уроды толкали друг друга в плюшевую грудь.
– Мы должны научиться вести себя так же, – сказала Таисия. – Смотрите, как они шевелятся, как прохаживаются, как пробуют почесаться, как им жарко в жару и холодно в холод, как они раздают свои поганые буклеты, проспекты и флаеры. Они самые обездоленные. Знаете, сколько они в час получают? Ходячее унижение улиц, пролетариат рекламы.
– Что-то в моей жизни машинальное, машинальное что-то в моей жизни, – сказал Зацовер. – А впрочем, не такое уж и машинальное. Я видел людей победней и видел побогаче, но к чему нам эти ряженые?
– Мы будем под их личиной. Так говорят в кино. Так хочет Энди. Так правильно.
– Просто сценарий моей жизни написал какой-то еще больший дебил, чем я. Надо жахнуть, – сказал Энди Свищ.
– Тебе надо научиться стрелять, как машина, и двигаться, как зверь, а пить ты уже умеешь, – сказала Таисия.
3. Однажды Пандоплев купил зеленоватый учебник геометрии для седьмого класса и стал вспоминать теорему Пифагора. Много лет назад Пандоплев изрисовал такой же учебник схематичным изображением пениса. Уже тогда смыслы и желания терялись по дороге – маленький Олег заканчивал очередную головку, принимался за тестикулы и проваливался в какое-то пахнущее мелом пустое помещение. Безликая мать, у которой не хватало кусочка левого мизинца, говорила, что Пифагор нужный, потому что грек. И у них, говорила мать, тоже греческая фамилия. Но одноклассники зачем-то рифмовали ее с соплями. А учитель узнал, кто рисовал в учебнике, и пнул Пандоплева ногой в рот. Пандоплев решил стать очень сильным человеком.
4. Однажды в доме не хватало зеркал. Зацовер ударил отражение кулаком, и каждому досталось по осколку.
Зацовер глядел на куски себя и трогал лицо красной рукой.
– Думаю, этим зеркалом можно перерезать горло.
– Да им даже не пробьешь башку, – сказал Энди и шлепнул себя по заду. – Хорошо сидит.
Зацовер был в костюме небоскреба с человеческими глазами, Энди в костюме бутерброда с веселым соевым мясом, Таисия – в костюме красной белки. Они смотрели в осколки, а полые головы стояли рядом.
– Надеваем, – сказала Таисия. – А потом я оближу кровь с твоего кулака.
Зацовер посмотрел на Таисию и увидел, что она серьезная, как собственная фотография на паспорт, но красивая, как дом. Потом он увидел морду красной белки.
5. Пандоплев давно знал из книг, что мастурбация безвредна, но много лет назад ему объяснили, что если он будет себя тешить, то сгорит изнутри. В кабинете у младшего советника юстиции были лампы, вешалки и папки, а в углу одинокая гантеля, с ней Пандоплев сжимал и разжимал свои некрасивые мускулы. Он до сих пор любил геометрию, но боялся больших собак и сгореть.
6. – О чем мечтаете, товарищи? – спросила Таисия, и голос ее был глух от плюша, и ветер человеческой речи странно дул из-под красной меховой морды с накладными усами.
– Я мечтаю знаешь о чем? Вот я в баре, кругом титьки и рок. Тут подсаживается дьявол и говорит: «Давай ты мне душу, а я тебе кадиллак ирисок». А я ему – спокойно так, с удовольствием: «Хуй соси, сатана, моя душа подороже!»
– А я когда-то мечтал написать великий роман или снять великий фильм. Лишь бы что великое. А на пороге славы незаметно умереть во сне. Вот я тихо гибну в высокогорной аварии, в расписном фургоне, по дороге в Канны. Главное – не успеть заметить смерть, чтобы без страха мук. А сейчас я и не знаю, вроде и не страшно уже.
– А я всегда мечтала грабить бесов в компании ангелов. Угадайте, чья мечта осуществится прямо сейчас?
7. Пандоплев надел пальто, но никуда не пошел, а взял карандаш и стал не без удовольствия смотреть в стену.
8. Трое подошли к магазину. Зацовер сунул руку в карман и почувствовал себя полным идиотом.
– А магазин – злой? – спросил он.
– Конечно, злой, – сказала Таисия. – Там кефир с послезавтрашней датой. Там все перепутано и гниет. На зарплату продавщицы можно купить сто бутылок водки, но водкой не обрадуешь детей, им бы мяч. Начнем с магазина. Там охранником пенсионер, и он спит. Камер нет. Такое специальное место для любителей пострелять в воздух. Наш полигон.
Энди серьезно кивнул и попробовал слюнуть, но кончилась слюна.
9. – Ка-ран-даш! – сказал Пандоплев.
10. И вошли они в большой дом, полный съестного.
Немногочисленные люди, похожие на утопленников, брали корзины из металлических прутьев, засовывали туда продукты, расплачивались, засовывали продукты в пакет, жмурились от вечной внутренней боли и уходили прочь.
– Ты не дурак поговорить, – сказала красная белка, – может, поговоришь с ними?
– Друзья, – крикнул небоскреб с человеческими глазами, и кто-то обернулся. – Вы не смейтесь, но я немного про Иисуса Христа. Слушайте! Его правда очень любили люди, даже сытые палестинские девы были готовы на все, а сам он любил оливки: ведро мог съесть. Не ту гадость, что сейчас, а настоящие, изумрудные. Огромные оливки любил Иисус. Он бы так и жил и так бы и умер, не заморачиваясь воскреснуть, благо место на небесах ему-то было обеспечено. Но он взял товарищей – целую дюжину. И он пошел в ближайший храм – у них там в храмах торговали, как и тут. Потом он топнул ногой для уверенности и сказал: слушай, народ Израиля! Это ограбление.
Небоскреб с человеческими глазами поднял прямую руку и выстрелил в потолок.
Бутерброд с веселым соевым мясом выстрелил в лампу дневного света и со второго раза попал.
Красная белка стала прыгать по консервным рядам и хохотать.
Они забрали деньги из кассы, пропали, и все закончилось.
11. Какой-то очень неприятный человек принес Пандоплеву бумаги. Пандоплев некоторое время читал и двигал слабыми губами.
– Уйдите, – сказал он.
Олег достал гантелю, погладил ее, положил на место, достал учебник геометрии, полистал, потянулся к карандашу и вспомнил, как в детском саду было страшно и непонятно.
– Что я скажу? – закричал он и укусил ладонь – Что я напишу? Что подошьют к делу? Что разбойное нападение совершили бутерброд, небоскреб и белка?
12. Однажды потные люди в глупых костюмах сидели на полу, считали деньги и пересчитывали их. Получилось довольно много тысяч с копейками.
Зацовер зажал в кулаке букет из банкнот и нюхал деньги: они пахли людьми, многие из которых были женщинами.
Таисия собрала деньги и распихала по карманам.
– Куда это? А водка? А стул нам новый?
– В психушку. В детское отделение. У них по нормативам одна зимняя куртка на две койки и один шарф на четыре. Ходят гулять по очереди. Наберу им шмоток, вышлю до востребования, а детям скажут – Дед Мороз.
– Ты гуманист, Таисия. Я бы пропил все. Трудно было бы, но пропил бы почти все. А на остатки издал бы роман в твердом переплете.
– Тут не хватит на роман. Остатков хватит мне на лифчик. Синий в оранжевый горох. А ты, голимый, чай пей. Ты же только из магазина, догадался бы взять ящик чего-то вкусного.
– Еше! – сказал Зацовер.
Глава четвертая
1. Когда у Зацовера умерла жена, он сначала ходил мертвый, как маятник, а потом живой, как заводной мышонок, но жизнь возвращалась – кажется, в руку, которая иногда держала пистолет.
– Макдоналдс, – сказала Таисия.
– Почему?
– Охраны там отродясь не было. Камер полно, но все на прилавок: хозяева следят, чтобы работник не положил в гамбургер свой член вместо куска салата.
– Откуда ты знаешь?
– В трудной стране одинокая женщина должна знать всякие вещи, чтобы повернуть мир нужной задницей кверху! – сказала Таисия. – Это афоризм, запишите.
– Мне, пожалуйста, двойной гамбургер, среднюю картошку, колу без льда и все ваши деньги, – сказал Зацовер.
– Ты, кажется, приходишь в себя, – сказала Таисия.
– Да. Давай. Давай постреляем.
2. – Ка-ран-даш! – сказал Пандоплев. – Ка-ран-даш! Карандаш.
3. Когда развороченная гора гамбургеров осталась позади и крики отзвучали, разбойников в глупых костюмах догнал человек. У него было светлое лицо и синие глаза, как будто нарисованные слабоумным на потерянной матрешке.
– Только не убивайте меня, а я расскажу историю!
– Мы никого не убиваем. Жизнь священна, хоть никакая, всякая.
– Так слушайте. Я никто, и зовут меня Петя. Я много недель жил у них, в Макдоналдсе. Днем притворялся клиентом. Подъедал картошку за настоящими клиентами. Мясо я не ем. Колу пью умеренно. По ночам я дремал в туалете. Я умею прятаться. Я не знаю, почему меня никто не засек днем. Лицо у меня выразительное. В школе говорили, что я писаный красавец. Но я много недель безвылазно жил в Макдоналдсе, и никто меня не засек. Наверно, потому, что я у них ничего не покупал. Хотя лицо у меня выразительное. Теперь вы уничтожили мой дом. Но я благодарен вам, хотя другого дома у меня нет. И я хочу быть с вами.
– Ступай себе, Петя, – сказала Таисия. – Ты хороший человек и философ почище нашего, но мы не прячемся от жизни в туалете. Мы ждем, пока она придет и надает нам по шее.
– Я хочу быть как вы, понимаете! – вскричал Петя – Хочу переступать черту. Вот, например, идея: добыть наручников, ходить по улицам и приковывать плохих людей друг к другу. Чтобы сразу было видно. Или, наоборот, приковывать хороших. А можно не друг к другу, а к столбам, к велосипедам.
– Прекрасная идея, Петя. Прощай.
4. Пандоплев рвал бумагу. Начальство требовало исправить все и угрожало снять звезду. Город распадался. На севере работала банда больных, которые сдирали намордники с белых собак. На юге возник маньяк, он целовал маленьких девочек в висок и отпускал их с миром. И по всему городу небоскреб, бутерброд и елка грабили кафе и магазины. Мир как-то неприятно изменился, был тревожен, люди плотно срослись с какой-то другой реальностью, миру было не до Пандоплева. Пандоплев хотел бы грызть карандаши, рвать бумагу и вспоминать, как плохо с ним обходилась жизнь. Но надо было работать, и он стал быстро переставлять стулья и звонить по телефону, рябь какая-то, а не человек.
5. Деньги, взятые в Макдоналдсе, они потратили на новый холодильник, полный мороженых ягод, а большую часть отдали в детский сад от имени выдуманного миллионера и мецената Трансвалерия Гречко.
– Что-то имя у него нехорошее – сказал Энди Свищ. – Не кажется настоящим.
– На себя посмотри, – сказала Таисия. – К делу, товарищи. Наша следующая цель – районная администрация. Там денег нет, но это будет акция устрашения.
Зацовер вдруг начал пританцовывать. Он почувствовал аномальную и удивительную тяжесть пистолета. Он вспомнил фильм про сварщика, которому дали по голове, и тот перестал быть сварщиком и завел пса. Там было много музыки, и Зацовер стал под нее танцевать. Глядя на него, стали танцевать и остальные. Без лишних и резких движений. Просто уютно двигаться в такт.
6. Однажды Пандоплев опять закричал. В городе появился молодой мужчина, который приковывал людей к людям. Он делал это незаметно, умело и так страшно, что Пандоплев кричал. Мужчину с наручниками все видели, но никто не запоминал в лицо. Пандоплев кричал, и рвал бумагу, и вспоминал, как в детском саду началась эпидемия поноса. И началась с него, с Пандоплева. А теперь он должен остановить разгул непонятно чего в городе. Один, совсем один против непонятно чего. Пандоплев кричал, пока какой-то очень неприятный человек не принес ему некоторые тексты и кое-какие изображения, тогда он сел, встал, походил, успокоился, почесал шрам и даже потребовал карандашей взамен уничтоженных.
7. Однажды настал вечер и вновь открылся бар «Три козы».
– Одиночество! – сказал бармен. – Я спец по одиночеству. Я писал о нем диплом. Все было другим. А теперь я разделяю с вами ваше одиночество. Практически. Водки?
– Конечно, – сказал Зацовер.
– Я наливаю водку в рюмки. Мою рюмки водой. Протираю рюмки тряпкой и наливаю в них водку. Я был бы робот и конченый человек, но действия мои полны смысла, потому что пропитаны вашим одиночеством. А вы чем занимаетесь?
– Грабим бесов в компании ангелов.
– Как это?
– Это как шутка. Мы вроде как занимаемся социальной работой. Впрочем, не имея о ней никакого представления.
– Так стоит ли?
– Эх, бармен! – сказал Энди Свищ и выпил еще. – В этом беда бывшей русской интеллигенции, растворенной средь нас, как сахар в моче. Много лет уламывать телку, а когда пришла пора брать ее за титьки и вдарить рок, вдруг завести разговор о рисунке на обоях. Да какой там рисунок, хоть птичка, хоть бабочка. Телка в руках, бери и дери!
– Ваша метафора ясна, – сказал бармен. – Я не обижен. Но и согласиться не могу. Что будет, если я смешаю коктейль вслепую? Это моя работа – иметь ясное представление о водке и не закрывать глаза на апельсиновый сок.
– Вот потому-то вы бармен. А мы тут пьяные крутимся на стульях, и скоро нас тут не будет.
– Я расскажу вам притчу, – сказал Зацовер. – Впрочем, нет, я не расскажу вам притчу. Я тоже пьяный.
– Ничего. Водки?
– Спасибо за разговор, – сказала Таисия. – Я не уверена, что мы все что-то поняли. Но нам было радостно, и святой этанол обязует нас улыбаться без конца. А теперь будьте добры – руки вверх. И скажите, где деньги. Ничего личного. Это наша работа.
Глава пятая
1. Однажды все остались одни.
2. Они легли рядом, на пустую землю. Небо было в дырах облаков, за рощей валялась дорога.
– Я тебе прочитаю два письма, – сказала Таисия. – Я их выучила наизусть. Не специально. Моему мальчику было шестнадцать, а мне не помню сколько, я уехала куда-то, а он остался где-то тут.
Милый. Меня любят. Я нашла свою тусовку. Сегодня была в семи разных кабаках. Я почти уже совсем взрослая. Социализировавшаяся, как ты говоришь. Или вроде того. Красивая. Откупалась, отболелась. Прочитала и перечитала книгу того придурка. Пристрастилась к кофе. И это правда важное. А самое важное не скажу, потому что не могу. И очень важное не скажу, потому что это лично. И вообще ничего не могу рассказать сейчас, потому что только что основательно полечилась абсентом. Основательнейше.
Милая Тася. Я был в больнице и я все знаю про трупы. Сначала они просто люди, только мертвые. Потом их кладут в формалин (для обеззараживания и предотвращения гниения). Труп, как и любая хорошая вещь, должен вылежаться. Лежат они в формалине какое-то время, недели две в среднем. Далее приходят студенты, достают их из ванны и все забрызгивают. Следующий этап – препаровка: с трупа снимают кожу, местами мышцы удаляют, обнажая другие мышцы, нервы, сосуды, органы. В таком виде труп пребывает некоторое время, пока его не измочалят совсем, и тогда его разбирают на отдельные органы (отдельно мозг, печень, селезенка). Из того, что осталось, вытаскивают кости. Может, я что и упустил, но в целом так. А всякие ошметки (сломанные кости, жир, кожа, связки) выкидываются в пластиковые мешки и больше их никто не видит.
– И что было дальше? – спросил Зацовер и сжал зубы, потому что кровь всегда кровь.
– Его сбила машина, и он лег поперек вон той дороги, совсем как труп из своего письма. А меня однажды поймали веселые ребята, от них пахло компотом и голубцами, и я еле от них вырвалась, точнее, не вырвалась я от них, не вырвалась.
3. Однажды все остались одни. Зацовер сел у окна и почувствовал, что прошлое шевелит им, как нога пальцами. Подошел Энди, очень тепло улыбнулся и сел рядом. Зацовер впервые рассмотрел его лицо в деталях – совсем дебильное, непропорциональное, но очень живое, как будто хорошо знакомый человек привиделся во сне, но имени не вспомнишь.
– Что ты? – спросил Зацовер.
– Как твой роман? – спросил Энди.
– Да… – сказал Зацовер, – потом напишу.
– Никогда не откладывай романы, брат. Это как отодрать подружку в черном дырчатом белье, с хрустальным Дональдом Даком на шее, понимаешь, отодрать эту красотку – послезавтра. Роман ждать не будет, свалит к другому мужику, с болтом повеселее.
– А твой роман?
– А я тебе сейчас прочитаю! Тут как бы про нас немного, а буквы я вписал от руки.
Они вошли в бар. Толстый Спарки достал армейский нож с коричневыми пятнами и показал бармену. Бадди сплюнул. Бармен понял, что игра окончена, и выдохнул:
– Гуляете, ребята! Ну, гуляйте.
– Ты как солнце, как луна, – сказал Зацовер. – Изменчив, но неизменен.
– Знаешь, как это было? – сказал Энди, – Я понял, что я бездарный бездельник. Что ничего не было и не будет. Я потратил жизнь на автобусные билетики. Пока все зарабатывали шиши и умирали от рака, я притворялся великим русским писателем. Я понял это, закурил, сел на кухне и включил телевизор, просто чтобы что-то сделать. Всплыл ухоженный мужчина и сказал, что Штаты – дрянь. Он сказал – «стратегический партнер», но по ухмылке было понятно. Потом показали попа, мента и президента, играющего с другим президентом в бильярд. Все было обычно и ежедневно, но я хорошо помню каждый жест. Я сидел, смотрел на этих довольно убогих угнетателей, я даже засмеялся разок – меня тогда звали иначе, но дураком я был точно таким же.
– И что же?
– А потом я решил – а ну все в печь! Я хочу писать и буду. Хочу и буду. Потому что в мире должно быть место для людей, которые хотят и будут, хотят быть счастливыми и будут ими. Какую-то непристойность я сейчас сказал. Ну да ты тоже писатель, поймешь.
4. Однажды все остались совсем одни, вообще ни души. Энди Свищ торчал в туалете и придумывал роман про Спарки и Бадди. Таисия надела самое красивое платье, расписанное нездешними треугольниками, и пошла в магазин за водкой. Зацовер открыл форточку, нюхал ветер и думал разные вещи. Он крутил на изнанке век самое любимое кино и плакал, когда героям становилось плохо. Потом по векам шли титры и конец. Зацовер вспомнил, как умерла жена, и очень долго вспоминал это, вспоминал и вспоминал, и превращал в кинофильм, в монтаж, в оркестр, в титры и конец, и что-то в нем освобождалось.
Но загремела дверь, в нее бились какие-то непонятные люди, а потом они как-то попали внутрь всего – Зацовер увидел, как из реальности торчат растрепанные доски, похожие на буквы – люди в черных вонючих носках на лице положили его губами в пол, несильно ударили по голове и закрыли форточку.
– Идите в ад! У нас сортир на одного! – кричал на заднем плане Энди Свищ, а потом вломились и к нему.
5. Однажды несколько людей окружили человека, а тот был связан.
– Подпишите этот текст.
– И чего? Мы будем свободны?
– Вы сможете уйти. А ваш друг сможет остаться.
Энди прочитал. Он долго читал и стал серьезен.
– Тут много неподходящих букв, – сказал Энди. – Знаете, ребята, это главная беда: много неподходящих букв.
Упала пауза, и, пока молчали, Энди медленно опускал и поднимал ресницы.
– Подождите немного. Надо собраться с мыслями. Можно жахнуть чего-нибудь? Может, музыку включите? Какой-нибудь рок.
– Здесь не филармония.
Энди улыбнулся и откинул голову.
– Жаль. Я хотел, чтобы было немного иначе. Ну что ж. Отвяжите мне правую руку.
Энди кашлянул, размял кисть, оттопырил средний палец и медленно, с удовольствием произнес:
– Хуй соси, сатана, моя душа подороже!
6. Однажды в комнате было только одно окно, заколоченное досками.
У окна стоял чин.
– Вы надолго сядете или совсем умрете, мужчина, – сказал чин.
– Все может быть, гражданин начальник, – сказал небоскреб с человеческими глазами.
– Я вам не начальник.
– Кто же вы?
– Так… человек.
– Гражданин человек, я бы поспал.
– Дерьмо. Я принес кое-что. Читайте.
Небоскреб с человеческими глазами взял и начал.
Когда у Зацовера умерла жена, он пошел по улице.
– Ага, – сказал он. – Ага. Скоро лето. В белых и золотых тряпках девушки побегут. Голые ноги, голые животы. Могу теперь трогать животы. Могу быть заново, со второй попытки счастлив.
Зацовер ударился о здание, по большим глазам потекла кровь.
– Хватит, – сказал чин, – это стихи. И вещественное доказательство.
– Это никак не стихи. Вы ничего не знаете. Это моя жизнь, гражданин человек. Наверно, я совсем обессмыслел, из раза в раз рассказывая историю своей жизни, но я не вижу, чтоб какая-то другая история имела хоть корку смысла.
– Хватит.
– Да я уже закончил, спасибо, – сказал небоскреб с человеческими глазами. После этого его снова стали называть Зацовером. – Все хотел упомянуть, что один мальчик любит одну девочку, да не вышло. Запротоколируйте.
7. Красная белка села в какую-то машину, ударила кулаком в руль и включила музыку. Сумасшедшие пели очень тонкими голосами. Мотор гудел, в багажнике болтался чемодан денег, мимо двигались палки и полоски.
– Ну ладно, суки! – сказала красная белка. – Не конец.
Красная белка ехала далеко, от нее пахло водкой, машина виляла, позади был город, в котором ничего не осталось живого.
8. – Здравствуй, дядька Витька, – сказала Таисия, поклонилась в пояс пустому кинозалу и заплакала. – Я дура, дура, дура, вылезай. Какой из меня ангел. Какая из меня белка. Какая из меня женская роль второго плана.
Зал молчал. Вполсилы трещали лампы. Таисия поставила чемодан и села рядом.
– Я посижу тут у тебя. Сто лет буду сидеть, пока не вылезешь. Ничего не выходит. Все какой-то набросок. Все чушь и бардак.
Зал молчал.
– Значит, так. Я расскажу тебе, как дальше, и если смолчишь, значит, так и будет. А остановишь мне язык, так упаду и покаюсь. Значит, так. В городе все клали новые дороги поверх старых. Впрочем, на севере работала банда больных, которые сдирали намордники с белых собак. На юге возник маньяк, он целовал маленьких девочек в висок и отпускал их с миром. В магазинах хозтоваров кончились наручники. В пруду нашли тело человека в истлевшем мундире, со следами балалайки на голове. Я все правильно поняла?
Зал молчал.
– А дальше напролом, – сказала Таисия. Поклонилась, перекрестилась, красиво нагнулась за чемоданом и пошла.
9. Не, не конец.
Красные белые
Наши с Татой прадеды зарезали друг друга за холмом, за холмом, где кончается земля.
Татиного прадеда, наверно, закопали целиком, а моего не целиком, а кое-как.
Ее был за белых, мой за красных, патроны кончились, ну вот и все, примерно так, нож в ухо.
Воевали годы, без новостей, дул этот топтаный ветер, шел этот топтаный дождь, и приносили мертвых иногда.
Тем летом у белых не ели людей: поспели ягоды. А у нас тогда голодали, и прадеда – в суп. Пришел комиссар, надавал подзатыльников:
– Картошку – пополам. Или будет вариться вечность.
Это дед мой видел сам. Видел, как варили похоронник. Я и сам его умею, с курицей, конечно. В хороший похоронник добавляют бузины. Хороший похоронник варят с песней про победу. Про нашу, конечно.
Наутро прадедов проводили. Когда в поединке нет победителей, мы миримся на день и хороним рядом.
Дед тогда впервые видел белых. Убив красного, белый вышивает листик на мундире. Генерал их был как роща. Убив белого, красный вышивает звездочку. Комиссар наш был как небо.
На могиле прадеда поставили рожок: чтоб ветер дул. На могиле его врага бросили барабан: чтоб дождь бил.
Мы с Татой так и встретились, на соседних могилах. Я к своему пришел, она к своему, послушать музыку. Но барабан истлел, рожок украли, цветмет же.
Стояли незнакомые. Не знаю, как она, а я все думал, зачем воевали. Дед говорил так: белые были, чтоб было как было. Красные были, чтоб было как не было. Я за красных, конечно.
Звать ее, сказала, Татой, как пулю из пулемета. «Тата, нет ли выпить?» – спросил я, а Тата спросила, что бы я хотел на своей могиле.
– Пусть посадят рябину и положат камень. А на камне высекут «эти ягоды можно рвать».
– Рябину? Горькая.
– Облепиху.
– Колючая.
– Кизил.
– Капризный.
– Вишню.
– Черешню.
– Вишню.
– Иргу.
– Я люблю вишню.
– Но ты будешь мертв. Извини, конечно.
Вот раньше была работа: выковыривать мох из букв, драть лишайник с крестов, стричь кусты на холмиках. Теперь все заросло совсем. Кладбища становятся лесами, если их не подкармливать.
– Вот война и кончилась.
Или что-то вроде этого кто-то из нас сказал.
Дед мой жив и все знает, но ничего не видит: белые сожгли его глаза. Показал ему Тату, ноздри у него вздулись и остались так. Тата почуяла и вздрогнула.
– Нет, – сказал дед, – женщин мы не убиваем. Или некому будет смеяться на наших похоронах. Дай сюда лицо. Никогда не трогал белой.
Наши с Татой правнуки тоже друг друга зарежут. Это правильно. Войну так просто не того. Не кончить.
Но вот что я сделаю прямо сейчас: брошу печатать, возьму ее за руку, пойдем сквозь лес, без ножа, как нормальные, ну вот и все, примерно так, никому не предки, не потомки, никакого ветра и дождя, ничего такого, и будто вовсе все иначе, чем было и не было.
И, кстати, все-таки рябину.
Л
Для трех масок, хора и музыкантов
Ретабло
Милая Дева Мария, спасибо. Я взял и написал про Льва Троцкого, русского революционера. Он жил повсюду, а убили его в Мексике в 1940 году. Тут есть цитаты из писем, дневников, передовиц и завещаний. Некоторые слова Троцкий правда произносил. Остальные за него произнес я, Евгений Бабушкин.
Действующие лица
ПЕРВАЯ МАСКА – Л., Оборванец
ВТОРАЯ МАСКА – Наталья, Фрида, Старуха
ТРЕТЬЯ МАСКА – Бумажный человек, Полицейский
ХОР
МУЗЫКАНТЫ
Пролог
Л. Вот закрою глаза и увижу лед.
Наталья. Брось. Вышло солнце. И крестьяне выламывают лозу. Суази-сюр-Эколь, Шайи-ан-Бьер, Буа-ле-Руа.
Л. Лед под веком, и вечная степь в снегу, мертвый тупик, молчание паровоза, двенадцать суток среди метелей. Конвой окоченел. Лед на сером сукне, лед на злых молодых ресницах. Ухо у часового, помню, отмерзло до черноты, но он все пялился в бескрайний лед и трусил кричать. Дурак.
Наталья. Очнись. Солнце гуляет по деревням. А именно: Баланкур-сюр-Эссон, Понтьерри-Сен-Фаржо, Ле-Шато-де-Дам. Запиши это.
Л. Помню: распорядитель наших похорон, ничто в шинели, большой чин, шпалы в петлице.
Наталья. Пустые глаза, как рты без зубов. Тонкий, как кнут, спрятанный в рукаве. Кукла человека. Все хвастался новой формой, выворачивал подкладку, все показывал шлем изнутри, говорил – а летом у них по уставу фуражки, летом черные ремешки на фуражках.
Л. Петлицы с малиновой окантовкой. Лица сына не помню. Но помню петлицы и ремешки.
Наталья. Суази-сюр-Эколь, Шайи-ан-Бьер, Буа-ле-Руа.
Л. Аминь. Поезд рвет чернозем, за окном разбитая на квадраты ночь, и вот, некогда теплое море, и пароход, забытый во льдах. Серые шинели передают нас друг другу, мы обрезки червивого мяса в их руках. Гражданина Троцкого Льва Давидовича – выслать – из – пределов – СССР. Гражданина Троцкого Льва Давидовича – выслать – из – пределов – СССР. Однажды я забуду поднять веки и они смерзнутся окончательно.
Вход
Хор
человек распахнул рот распахнул рот он орет и лежит в снегу человек родился лицом в сугроб у него некрасивый изгиб губ мама дай мне другой рот надели меня другим языком мама крови хочу сырой если высохло молокоБумажный человек. Смердящие подонки троцкистов, зиновьевцев, бывших князей, графов, жандармов, все это отребье, действующее заодно, пытается подточить основы нашего государства.
Хор
человек родился пять минут назад но уже идет на суд человека другие люди мнут теребят и режут на колбасу человека лишают машин и книг прокурор приготовил мешок камней пять минут назад человек возник через два часа ему конецБумажный человек. Народы всего мира в великих битвах завтрашнего дня сметут с лица земли, как былинку, врага народа Троцкого и его шайку, где бы она ни притаилась, какие бы новые козни ни злоумышляла, какими бы новыми предательствами, изменами и подлыми делами она им ни грозила.
Хор
человек распахнул рот распахнул рот он стоит без брюк на фоне вьюг человек никогда не врет и за это сегодня его убьют мертвый он нехорош на вид человек лежит и плюет на всехБумажный человек
Троцкого Льва Давидовича выслать из пределов СССР выслать из пределов СССРЭпизод первый
Л. Приходил человек, в руках бумага и ничего, кроме бумаги.
Наталья. Новости о Сереже?
Л. О нем ничего нет.
Наталья. Что же ты не находишь места?
Л. Вот что, милая. Вот что. Иду я мимо виноградника. Работает старик, усы до земли. Охает. Что ты, спрашиваю? Сердце болит. Почему болит? Да хозяин. Что, бьет? Нет, с дочерью балуется. Балуется? Насилует. Свою? Нет, мою. А чего хочешь, спрашиваю? Да есть одна мечта, говорит. Ну же, спрашиваю. Штаны новые, говорит! С бляхой!
Наталья. Как по-французски бляха?
Л. Ну а самая, спрашиваю, большая мечта? Так, чтоб не на задницу, а повыше? Да есть одна, говорит. Трактор хочу, говорит!.. Сволочи. Ненавижу Францию.
Наталья. Не худшее место мира. Не ссылка. Не тюрьма.
Л. Ссылка. Тюрьма. Вытяни руку – ткнешься в кирпич. Хода нет.
Наталья. Суази-сюр-Эколь, Шайи-ан-Бьер, Буа-ле-Руа.
Л.Тюрьма народов. Добро пожаловать. Здесь никто не знает, как по-французски бляха. Знают только простые слова: есть, спать, Бог, еще, сдохни. Наступает чужая речь. Крестьянину-французу зазорно копаться в навозе, пусть это делают грязные испанцы, нищие итальянцы, тупые поляки. Сам-то он гражданин чистенький, полноценный. Сам-то он наденет новые сине-бело-красные штаны, с бляхой и будет нюхать ягоды солнца, он забыл, из чего растет лоза.
Наталья. Баланкур-сюр-Эссон, Понтьерри-Сен-Фаржо, Ле-Шато-де-Дам.
Л. А лоза-то растет из говна и трупов. Французский крестьянин выпил столько вина, выдавленного из говна и трупов, что все забыл. Все забыл. Он твердо помнит лишь господина Рено. Потому что господин Рено продает ему тракторы. Вот скоплю стопку франков со словами «свобода, равенство, братство» и куплю трактор. Свободой, равенством и братством расплачусь за новенький трактор господина Рено.
Наталья. Красиво. Не забудь это записать.
Л. Пустое. Но лозе, чтоб расти, нужны новое говно и трупы – и вот однажды господин Рено покроет тракторы броней, и это будут танки. А господин Даймлер покроет броней свою продукцию, по ту сторону.
Наталья. И это запиши.
Л. Гром грянет, выйдет солнце, я куплю утреннюю газету, а крестьянин покатится по горам, по лесам на бронированном тракторе господина Рено во славу господина Рено, и он будет весело петь, что броня господина Рено крепка, и она крепка, очень крепка, но не крепче снаряда из пушки господина Даймлера. Я вижу горы и леса, изрытые машинами и равномерно покрытые горящими и догорающими людьми, и будет много чужой речи – такая и сякая, и эдакая – потому что перед смертью человек очень разговорчив, все люди.
Бумажный человек. Пауза.
Л. Впрочем, Лев Троцкий не скажет этих слов и записаны они не будут. Поняла, Наташа? Прохожий имеет право на отчаяние, писатель – нет. Шум в голове. Скоро ликвидация.
Бумажный человек. Скоро ликвидация.
Л. Вот за это крестьяне и прозвали меня идиотом. Ходит, высматривает, злится чего-то. Бессмысленный старик. Над поляками не смеется, тракторы не продает. Я им злость продаю, да только не покупают.
Бумажный человек. Пауза.
Л. И у меня были силы все изменить. Выбросить к черту все штаны и тракторы мира. Все повернуть заново. Сломать эту землю и сделать новую.
Наталья. Землю без смерти?
Л. Хотя бы без господина Рено. Вот закрою глаза и не увижу лица нашего сына. Но эти поля и людей в огне я вижу четко.
Бумажный человек. Вижу. Четко.
Наталья. Новости о Сереже?
Л. О нем ничего нет. Где ошибся? Ошибки не было. Или – или. Так или сяк. Жить без границ. Границы, выложенные трупами. И все-таки этот порядок подкопал себя безнадежно. Он рухнет со смрадом.
Бумажный человек. Подкопал себя безнадежно. Рухнет со смрадом.
Л. Вот это надо записать.
Наталья. Запиши.
Бумажный человек. Так и запишем.
Л. Пустое. Повторы. Мало мяса. Я говорил: приказываю идти и умереть свободными – и люди шли умирать свободными. Говорил: класс угнетателей обречен погибнуть – и мир распадался под ударами моих армий. Почему слова больше не работают?
Наталья. Здесь работают другие слова: солнце, гулять, трава, Париж, люблю. Зачем ты жив? Пиши. Жив, чтобы писать. Мир сломают и без тебя. Завтра. А ты ешь еду, держи меня за руку и пиши. Сегодня. Сейчас.
Л. Шум в голове, лед в глазах, чужая речь, нет никаких других, нет никакого сегодня, руки увязли во вчера, и я не могу писать. А без меня – не будет никакого завтра. Без меня не будет никакого завтра. Без меня не будет никакого завтра.
Наталья. Брось. Подожди. Вот что. Сказка! Знаешь, как появился виноград?
Л. Виноград?
Наталья. Подожди. Отдыхай. Требую, чтоб ты отдыхал. Смотри на солнце, щурься. Трогай мою руку. Слушай птиц.
Л. Птиц?
Наталья. Виноград. Знаешь, как он появился? Собака родила кусок дерева.
Л. Откуда это?
Наталья. Из книг. Оресфей, сын Девкалиона, сына Прометея, жил себе и жил. Вот как мы. И остался он один. Вот как мы. Он завел собаку. Вот как нашу. И она родила кусок дерева.
Л. Хорошо было твоим грекам: крепко знали, где напортачили, и погибали, не сходя с места.
Наталья. И вот Оресфей, сын Девкалиона, сына Прометея, в яму закопал этого собачьего сына, и вырос виноград.
Л. Новости о Сереже?
Наталья. О нем ничего нет.
Л. Суази-сюр-Эколь, Шайи-ан-Бьер, Буа-ле-Руа.
Наталья. Баланкур-сюр-Эссон, Понтьерри-Сен-Фаржо, Ле-Шато-де-Дам. Путешествия позади, мы обречены на Францию, и о Сереже ничего нет.
Л. Вот что, Наташа. Вот что. Приходил человек, в руках бумага и ничего, кроме бумаги. Видимо, из префектуры, чиновник с лицом неумелого подлеца. Сыпал намеками. Спросил, читал ли я газеты.
Наталья. Только и делаешь, что читаешь газеты. И охота тебе знать про новое платье Рузвельта и телят с двумя головами?
Бумажный человек. Мы просим нынешнего министра внутренних дел без фраз и без промедления выдворить Троцкого. В случае надобности мы ему поможем.
Л. В отношениях Франции и Советского Союза, говорит этот человек, наступили перемены. Положительный поворот. Добрая воля. Мирные инициативы.
Бумажный человек. Во Франции нет места опасному агитатору.
Л. Троцкому лучше покинуть страну, говорит этот человек из префектуры. Срочно, говорит человек.
Бумажный человек. Троцкому Льву Давидовичу.
Наталья. Я… устала. Мы успеем собрать вещи?
Л. На дворе тридцать пятый, нравы невиданно смягчились, Европа стара и деликатна, серых шинелей не будет. Никаких лишних неудобств, если пропадем тихо. Мы пропадем тихо?
Наталья. Мы пропадем.
Л. Ты была со мной в Петрограде, Париже, Лондоне, Вене и Вашингтоне.
Наталья. И в Стамбуле.
Л. Впереди еще много чужих столиц. Много работы!
Наталья. И о Сереже ничего нет.
Л. Наш сын, должно быть, уже в земле. Я люблю тебя.
Бумажный человек. На воротах виллы третьего дня появилось объявление – «Продаются собаки». Покидая Францию, Троцкий должен расстаться со свирепыми псами, сторожившими его покой. Секретаря, подошедшего к воротам, журналисты спросили: зачем продаются собаки? Быть может, Троцкий нуждается в деньгах?
Л. Быть может, Троцкий и нуждается в деньгах, но собаки ему, во всяком случае, больше не нужны.
Песня первая
Хор
море двигает корабли трубы и трюмы набиты людьми радио врет для фона мы на местах для пассажиров с детьми море ревет море бьют плетьми а континенты меняют формуБумажный человек. Советский народ и вслед за ним и вместе с ним все миллионы рабочих и трудящихся всех стран и всех народов клеймят презрением и ненавистью Троцкого – врага народа.
Хор
мы состоим из воды она кипит мы становимся звеньями для цепи паром для парохода злому царю недолго море бить злому коню недолго море пить все поменяет формуБумажный человек. Троцкий – враг народа, – с этим названием после приговора Верховного суда вошел он сейчас в сознание миллионов.
Л. Ха!
Бумажный человек. Проклятием они покрывают его имя. В предвидении великих новых битв с тем большей ненавистью говорят они о нем, укрывшемся под охраной еще не павших капиталистических твердынь.
Хор
кто-то закрыл глаза и увидел лед но от этого море не встает море это прорва наше время время лежать костьми море ревет море бьют плетьми а континенты меняют формуЛ. Вы – жалкие единицы, вы – банкроты, ваша роль сыграна. И отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории.
Хор
верно неверно с моря идет война мы поджигаем воду она огнеупорна мы еще поборемся за времена люди в земле по горло земля без дна а континенты меняют формуТанда первая
Оборванец. Привет, старуха.
Старуха. Привет, оборванец.
Оборванец. А у меня два песо. Эй, старуха, хочешь, куплю твою любовь?
Старуха. А у меня три песо. Куплю трех таких женихов, как ты, оборванец.
Оборванец. Эй, публика! Денег дай.
Старуха. Зачем тебе деньги? Хлеба возьмешь?
Оборванец. Давай-давай! Зачем хлеба? В самой главной лавке на самой верхней полке стоит портрет нашего президента. Куплю его, буду вылизывать ему щеки и громко петь.
Старуха. Зачем щеки?
Оборванец. А потому что жопу на портретах не рисуют.
Старуха. А зачем петь?
Оборванец. От радости.
Старуха. Чему радоваться? Хлеба-то нет.
Оборванец. Зато президент есть! В костюмчике! Улыбается!.. Давай любовь.
Полицейский. Разойдись. Всех поколочу. И тебя, старуха. И тебя, оборванец.
Оборванец. Зачем ты бьешь людей, сеньор полицейский?
Полицейский. Люблю это дело. Ты все плачешь, старуха. Ты все попрошайничаешь, оборванец. А я все колочу.
Старуха. Я не плачу.
Полицейский. Что ж тогда глаза мокрые, дура?
Старуха. А у меня убили сына. Расстреляли в далекой стране и положили мимо земли. Мне снятся его кости и клетчатая рубашка, и глаза плачут сами.
Оборванец. А я не попрошайничаю. У меня слишком старые руки и длинный язык. С такими данными только в уличные актеры.
Полицейский. Чепуха. Все на месте – две ноги, две руки, язык не торчит. Поколочу.
Оборванец. Недолго тебе колотить. К нам плывет товарищ Троцкий на длинном стальном корабле! Враг полицейских и вождь оборванцев. Он сам тебя поколотит.
Старуха. Он вернет мне сына?
Оборванец. Все мертвецы покойники. Но ты станешь меньше плакать.
Старуха. Тогда я пойду за ним. Почему бы не пойти за хорошим человеком?
Полицейский. Чепуха. Троцкий старик, и у него жена старуха. Они умирать сюда приехали.
Старуха. Если люди хорошие, почему не положить их в нашу землю.
Оборванец. Он еще поднимет нашу землю! Эй, сеньор полицейский! Не боишься замахнуться так, что дубинка выпадет?
Полицейский. Ничего я не боюсь! Разойдись! Разойдись! Разойдись! Разойдись! Разойдись!
Хор
человек распахнул рот распахнул рот он орет и лежит в снегу человек родился лицом в сугроб у него некрасивый изгиб губПолицейский. Разойдись!
Эпизод второй
Фрида. Здравствуйте, Троцкий. Была я в этом вашем Париже. Кошачье дерьмо!
Л. Это точно. Здравствуйте, Фрида.
Фрида. Вы что, весь мир объездили?
Л. Меня выгнали из Советского Союза, Турции, Австрии, Великобритании, Франции, Норвегии. И еще из Северо-Американских Соединенных Штатов.
Фрида. Все эти страны кошачье дерьмо. Вы понимаете? Мексика вас не прогонит. Мексика хочет вас. Слышите?
Л. Ничего я не слышу. Ночь. Дыхание. Темень.
Фрида. Такая моя страна. Такой мой город, самый большой в мире, больше вашего дерьмового Парижа. Громкие люди и тихие улицы. Когда люди выпьют водки, они кричат. Когда их бьют, они молча смотрят в землю. Но сейчас они ждут. Вам дальше не надо бежать.
Л. Да и некуда. Еще немного – упаду с кромки. Сошел с корабля и понял: Новый Свет, последний берег. Дышать легче.
Фрида. Я сегодня видела уличных циркачей. Думала, будет пьеска про сбежавшую служанку и четыре подзатыльника, а они давали спектакль про то, как Троцкий в Мексику приехал. Они все пьяные были, но это само собой, они же актеры.
Л. А я вот не понимаю театр. Врут, кричат, руками машут.
Фрида. Улица гибнет, все бегают по конторам, прячутся по квартирам и спят в кино. Вы должны их увидеть, этот люд, это последние уличные актеры Мехико. Они ставят шатер поперек проспекта, катаются по земле и мочатся на ходу, все их боятся, они плюют на сильных и воруют у сытых. Кстати, там много людей из России, бывших белогвардейцев. Сбежали от вас и стали отличными циркачами. Что-то поняли про жизнь. Почему вы грустный?
Л. Просто я не знаю, что делать. Раньше знал, теперь нет. Дурь одна.
Фрида. Если трудно, если горе, если черт знает что, иди к художнику. Он возьмет доску. Большую такую доску. И нарисует на ней счастье. Большое такое счастье. Надо только рассказать ему все горе целиком – как хозяин насилует твою дочь, как опухоль жрет твое тело, как лошадь умерла. Художник нарисует тебя здоровым, хозяина мертвым, лошадь живой. Дева Мария услышит молитву, если художник хороший, а доска крепкая. Такой в Мексике обычай. Любите чудеса?
Л. Ну уж нет. Однажды видел, как папа римский исцелял фальшивых калек по радио. Попы торговали грязной водой.
Фрида. Попы дрянь. Но чудеса не в лавке церковника. Вот я перед вами со всеми горестями. Где чудо? Где счастливая доска?
Л. Я вам жаловаться должен, а не вы мне. Вы же художница, а не я.
Фрида. Нет, вы. Вы пишете кровью и временем.
Л. Девочка! Кровь холодеет. А время от меня отказалось.
Фрида. Мы будем веселиться. Мы потом всем головы своротим, а вначале будем веселиться. Чтобы очистилась кровь. Есть вкусное мясо, пить вкусную водку, гулять с мужчинами и женщинами. Как ваша жена?
Л. Спит. В вашей стране опасно-мягкие постели, Фрида. Спасибо, что приютили нас. А где ваш муж?
Фрида. Устал. Можно и так это назвать. Диего терпит, когда я сплю с девочками, но не терпит даже присутствия других мужчин, тем более таких. Чувствует запах. Очень страдает и потому трахается с кем попало, вот с сестренкой моей, или совсем с незнакомыми, это все от особой печали чувств. Ревнует. Он огромный, огромный. У него умные глаза хищника, но у вас, кажется, такие же, он плохой художник, хуже меня и вас, он пишет маслом, а вы кровью и временем. Мы одни в доме. Вы много людей убили?
Л. Чуть-чуть.
Фрида. Говорят, много. Расстрелы. Как можно расстреливать? Пуля – это больно.
Л. Однажды я приговорил одного человека к смерти. Это был первый смертный приговор в Республике. Потом еще несколько. Знаете, я никогда не видел всех этих покойников. Я видел бумагу и свою подпись на бумаге. Я не очень-то верю в смерть. Смерть – это бумага. Теперь где-то далеко есть такая бумага и на меня. И однажды ко мне придет человек, и я не увижу ничего, кроме бумаги. Спрашиваете, как можно убивать во имя будущего, где не будут убивать? Солнце печет, я моложе, чем вчера, и меня не волнуют парадоксы, у меня на них осталось мало времени.
Фрида. Пуля – больно.
Л. Определенно времени на них нет.
Бумажный человек. Вчера мне было так плохо, так грустно, ты не можешь себе представить, до какого отчаяния может довести человека такая болезнь, я чувствую омерзительную дурноту и не знаю, чем это объяснить, а иногда – жуткую боль, которая ни от чего не проходит.
Фрида. Я волнуюсь, я девчонка. Я ровесница ваших дел. Родилась, а имя Троцкого уже гремело. Война, революция. Вечная ссылка. Вечная! Ссылка! Вы бежали из вечной ссылки в год, когда я появилась на свет. Я видела снег на крыше гор, но как это – бежать по равнине, полной снега? Я росла, а вы бежали по сердце в снегу и готовились вертеть планетой. В десять лет мне приснилась птица с грудями, но без головы. В тот год вы сделали революцию.
Л. Дикие сны.
Бумажный человек. Да, это я, именно я, и никто другой, это я мучаюсь, впадаю в отчаяние и все такое. Не могу много писать, потому что очень трудно наклоняться, не могу ходить, потому что ужасно болит нога, от чтения быстро устаю – впрочем, и читать особенно нечего, – остается только плакать, да и на это иногда нет сил.
Фрида. В год, когда я полюбила глаза хищника и вышла за Диего, – вас изгнали из мира, который вы создали.
Л. И вот я здесь. В мире, который заполнили вы.
Фрида. Знаете, кто я?
Л. Фрида Кало. Художница. Красивая хромая женщина с собачьим лицом. Пламенная троцкистка, как погляжу.
Бумажный человек. Я заметила, что потеряла зонтик, и мы вышли, чтобы его найти; вот так я и оказалась в автобусе, который разорвал меня в клочья. Столкновение произошло на углу, перед рынком Сан-Хуан. Трамвай ехал медленно, но водитель нашего автобуса был молод и нетерпелив. Трамвай повернул – и наш автобус оказался зажатым между ним и стеной. От толчка нас всех бросило вперед, и обломок одной из ступенек автобуса пронзил меня, как шпага пронзает быка. Какой-то прохожий, видя, что я истекаю кровью, взял меня на руки и положил на бильярдный стол.
Фрида. Леон, я вам расскажу ночь. Мне снилась пустыня и кот. Не каменистая пустыня приграничья, прозрачный кустарник и язвы лачуг, а просто большое место, полное солнца и песка. И там был дикий кот с треснувшим черепом. Красивый. Еще живой. Ворочался в песке, щурил желтые глаза и кричал. Кровавая дыра в затылке. Коты не издают таких звуков. Куда-то ползет, волочит лапы и кричит. Кричит, ползет, щурится. Закрыть глаза, взять камень и добить его, но руки были примотаны к телу. Я проснулась – тут, в кровати, в комнате, в доме, в сердце самого большого города земли, и поняла, что это я кричу от боли.
Л. Все кричат, Фрида.
Фрида. Я женщина, сломанная во всех местах. Боль. Катастрофа. Старый врач обнимал мою ногу и считал переломы. Одиннадцать. А еще дырка в животе, позвоночник в труху и стальная палка во влагалище. Боль. Полжизни со мной. Всю жизнь. Мне будет не страшно умирать, потому что я умираю каждый вечер. Все боятся исчезнуть. Я не боюсь. Мне больно.
Л. Всем больно, Фрида.
Фрида. Плохой ответ. Как вы смеете молчать, когда вам больно? Как смеете, когда мне больно? Сколько боли нужно, чтобы вы заговорили? Вы приехали помирать в теплые страны или поступите как мужчина? Один день без революции – кровь! Один день без вас – катастрофа! Со мной это случилось лишь раз, в одном ударе, в крике боли, а с ними, со всей планетой – это каждый день, по капельке боли, огромная сломанная жизнь. Почему вы молчите? Я жду, Троцкий!
Бумажный человек. Если так будет продолжаться, то лучше бы меня убрали с этой планеты.
Фрида. Впрочем, что мне с вас. Однажды вы освободите всех. Рабочих от пота и злобы. Учителей от нищеты и лжи. Врачей от бессильных слез и писателей от бумаги и лишних слов. Что мне с вашей победы? Я-то останусь в рабстве. Освободите меня от тела, Троцкий! Я убью его! Я кормлю его! Я одеваю его. Оно трахается с другим телом, пока я лежу и представляю немыслимые оттенки желтого с красным! К черту его!
Л. Я писатель, а не смерть.
Фрида. Простите. Простите. Знаете, почему улицы притихли? Знаете, почему молчат циркачи? Они ждут. Люди знают, что к ним приехал вождь мировой революции товарищ Леон Троцкий. Смерть, а не писатель. Он вел красную от крови армию сквозь снег, который они видели только на крыше гор. Они ждут. Вскиньте кулак, и они выйдут на улицы. Народ будет петь, если вы захотите. Народ будет петь ваше имя.
Л. Сменится музыка – запоет иначе. Песни дешево стоят. В Германии миллионы ходят за вскинутым кулаком. И в бывшей моей Республике тоже весело поют, с каждым годом все веселей.
Фрида. Вы нарисовали Республику, а ученики заляпали все мазней. Возьмите еще одну доску. Я пойду с вами. Буду ваша Фрида, ваша хромая тень. Буду вам кистью. Возьмите людей. У людей винтовки. Нужна красная краска. Президент – жадный и глупый коротышка, ткни его – упадет, задрыгав ножками. Нужна черная краска. Полиция боится. Рабочие приросли к станкам, а конторщики – к арифмометрам. Отдирать надо с кровью. Все содрогнется от нас. Хотите маленькую коммунистическую республику у подножья гор? Нужна белая краска.
Л. Бросьте. Подождите. Вот что. Сказка! Знаете, как один фашист целый город захватил?
Фрида. Я знаю сказки только про кровь.
Л. Вы такая молодая, а я такой старый. Я разучился так кричать. Слушайте. Был в Италии один фашист, и недурной поэт при этом. Писал звонко. Сошел с ума, как все тогда сошли. Собрал солдат и взял город. Жалкий прибрежный городишко с испуганными горожанами. Поэт изящно правил, написал конституцию в стихах, пригласил в министры скрипачей и трубачей, даже палачом у него был ювелир. Потом приплыли другие фашисты, не такие звонкие, развернули свои корабли поудобнее, дали залп по стенам, по ратуше, по дворцу и по всей этой музыке, и поэт сдал свой фальшивый город-государство – реальности.
Фрида. Нет.
Л. Так и было. Город назывался Фиуме, и было это в 1920 году. А поэта звали Габриэле д'Аннунцио, и его книги есть в вашей библиотеке.
Фрида. Но он победил. На год, но победил. Это важно.
Л. Важно, что ему было плевать на людей, если они не играют на скрипке, и был он редкая скотина.
Фрида. Я-то вам верю. Но мое сломанное тело не верит.
Л. Мне не нужен город, Фрида.
Фрида. Я знаю, что вам нужно, Леон.
Л. Мне нужен весь мир.
Бумажный человек. Так и запишем.
Песня вторая
Л. Привет рабочим, колхозникам, красноармейцам и краснофлотцам СССР из далекой Мексики.
Хор
мы рождены чтоб мы рождены чтоб мы рождены чтоб мы рождены чтобЛ. Цель Четвертого Интернационала – распространить Октябрьскую революцию на весь мир и в то же время возродить СССР, очистив его от паразитической бюрократии.
Хор
мы кузнецы и мы кузнецы и мы кузнецы и мы кузнецы иХор
мы рождены чтоб рвать мясо за станком падать в кровать переворачиваться кричать во сне мы рождены но нас нет нас нет когда жрем нас не будет когда умрем нет и не было тчк пойдем позабавимся неточкаЛ. Достигнуть этого можно только путем восстания рабочих, крестьян, красноармейцев и краснофлотцев против новой касты угнетателей и паразитов.
Хор
мы кузнецы и мы делаем прутья для тюрьмы делаем гвозди для креста делаем пламя для куста воры забрали нашу речь нашими женами топят печь наше тело злой металл хватит кузнец усталТанда вторая
Старуха. Охота! Охота! Я видела, мужчина с нежными руками мясника собирал по деревням людей и ружья, он говорил – охота. Пять песо давал! Но я старая, чтобы держать ружье.
Оборванец. На кого охота?
Старуха. На зверя.
Оборванец. На кошку, что ли?
Старуха. Нет.
Оборванец. На зайца, что ли?
Старуха. Нет. А что, других зверей в Мексике не осталось?
Оборванец. В Мексике-то? Нет. Все либо сверкают глазами и воруют соседское мясо, как кошки. Либо прячутся по кустам и срут себе на лапы, как зайцы. Один остался лев, да и тот Троцкий.
Полицейский. Разойдись! Разойдись! А впрочем, сойдись. У тебя есть радио, оборванец?
Оборванец. Я сам себе радио.
Полицейский. Слушайте последние новости. В Троцкого стреляли. Стреляли!
Старуха. Он живой?
Полицейский. Окна – в труху. Двери – в труху. Спальню ему изрешетили. Целого места нет. А к Троцкому как раз внук приехал. Говорят, у старика и так поубивали всех детей, а тут пальба, парень выскочил, бац – ему палец на ноге отстрелили. Он такой: «Дедушка!» А дед на полу. Смешно?
Старуха. Он живой?
Полицейский. Никого, конечно, не нашли. Охотники пропали в ночи.
Старуха. Он живой?
Полицейский. Он живой. Пули прошли мимо. Троцкий с семьей бросился на пол и остался жив. Везет сукиному сыну.
Старуха. Кто однажды жил – не умрет.
Оборванец. Смерть кактусам!
Полицейский. При чем тут кактусы, оборванец?
Оборванец. Ура! Ура! Ура! Слава нашему президенту и смерть кактусам!
Полицейский. Слава президенту! Слава президенту! А теперь объясни.
Оборванец. Да это ж кактусы виноваты, что Троцкий живой. Потому что водку делают из кактусов, сеньор полицейский. Я по себе знаю: такая от нее бывает дрожь, что даже хер из рук валится. А тут – ружья. Они-то потяжелее хера. В следущий раз нанимайте трезвых убийц, сеньор полицейский.
Полицейский. Разойдись! Разойдись!
Хор
мы кузнецы и мы кузнецы и мы кузнецы и мы кузнецы иЭпизод третий
Л. Нам дали еще один день жизни, Наташа.
Наталья. Вышло солнце. Хочешь покормить кур? Хочешь, почитаем? Хочешь музыки?
Л. Лучше чаю.
Наталья. Жарко. Через дорогу сидят крестьяне. Смотрят. Ждут. Щурятся.
Л. И чего они сидят? Чего смотрят? Чего ждут? Впрочем, я уже не сержусь. Не они, так их дети. Путешествия позади, мы обречены на Мексику. И ни о ком никаких новостей. Это последний адрес Троцкого. Рио Чурубуско, четыреста десять.
Наталья. Снова приходил этот человек. Вроде бы из новых твоих почитателей. В руках бумага и ничего, кроме бумаги.
Л. Скоро я его приму. Скоро. Трудно быть человеком, с которым все произошло. Осталось пить чай, разводить кур, целовать тебя. Тихая старость Лейбы Давидовича Бронштейна. А Льву Троцкому осталось несколько строк. Жить в книге. Все, что осталось. Лечь в книгу. Умереть в книгу. Лицом в бумагу.
Наталья. Ты мог спеть и плюнуть кровью посередине песни, чувствуя пулю треснувшими позвонками. Ты мог задохнуться от ярости, заклиная людей на площадях. Ты мог сто раз пропасть где угодно. И я так счастлива, что ты еще живой. Самый живой человек на свете.
Бумажный человек. Покончила с собой проживавшая в Берлине дочь Троцкого, Зинаида, по мужу Волкова. Она жила при отце в Турции, но затем получила, по болезни, разрешение на временное проживание в Германии. Срок визы недавно истек, и Волковой было предложено покинуть страну.
Наталья. И ты рядом.
Бумажный человек. Оставшись одна в квартире, дочь Троцкого заперлась в своей комнате и открыла газ. В комнате нашли записку следующего содержания: «Позаботьтесь о моем мальчике. Умираю из-за болезни и отчаяния».
Л. И я тоже счастлив.
Бумажный человек. Рана еще слишком свежа, и мне трудно еще говорить как о мертвом о Льве Седове, который был мне не только сыном, но и лучшим другом. Но есть один вопрос, на который я обязан откликнуться немедленно: это вопрос о причинах его смерти.
Л. Выпьем еще чаю.
Бумажный человек. Мы живем с женой эти дни так же, как жили всегда, только под гнетом самой большой утраты, какую нам пришлось пережить.
Л. Читал газеты.
Наталья. Только и делаешь, что читаешь газеты. И охота тебе знать про новое платье Рузвельта и телят с двумя головами?
Л. Читал, что Буланова расстреляли. Того, с ремешками. Нашего конвоира. Распорядителя похорон.
Наталья. Опять просто так?
Л. Нет. Назвали троцкистом и пустили пулю в спину.
Бумажный человек. Признан виновным в попытке отравить Н.И. Ежова раствором ртути, который распрыскивал из пульверизатора в его кабинете
Л. Цирк.
Наталья. Вот так и Сережу, наверно, убили.
Бумажный человек.…довел до преждевременной смерти одну из моих дочерей, до самоубийства – другую…арестовал двух моих зятьев, которые потом бесследно исчезли. ГПУ арестовало моего младшего сына, Сергея, по невероятному обвинению в отравлении рабочих, после чего арестованный исчез.
Л. Он такой… Рассказывал… Помнишь?.. Хотел идти в актеры. Это от тебя у него. Я-то не понимаю театр. Врут, поют, руками машут.
Наталья. Говори, говори.
Л. А потом Сережа любил двигатели. Двигатели я понимаю. Я только не понимаю, зачем расстреливать за двигатели. Они видят контрреволюцию в двигателях. В шатунах и шестеренках. Они не видят, что сами они – контрреволюция. Сами они шатуны и шестеренки. Шестеренки и шатуны.
Наталья. Говори.
Л. В детстве мне снилось, я первый, один на весь мир человек, и от моего слова зависит все. Бормочу впотьмах – и от голоса рождаются звери и люди. Назвал чье-то имя – и вот он рядом.
Наталья. Назови же.
Л. Зина. Нина. Лева. Сережа.
Бумажный человек. Тук-тук.
Л. Я довольно много жил и произнес довольно много слов. И теперь мне кажется, даже в одинокие минуты, что вокруг довольно много людей и все смотрят на меня. И ждут от меня… довольно многого. Хотя самим пора бы пошевелиться.
Бумажный человек. Тук-тук.
Наталья. Пришел человек, в руках бумага и ничего, кроме бумаги. Что это значит?
Л. Наташа. Наташа. Наташа. Помнишь тот наш день? Тридцать семь чертовых лет назад?
Наталья. Было солнце, как сейчас. Был Париж. И еще совсем мало автомобилей. Я спросила: вы что же, Троцкий, думаете, что никогда не умрете?
Л. И я ответил: кто однажды жил – не умрет.
Наталья. И я обняла тебя.
Л. В Мадриде, в одиночной камере, приговоренный к смерти нацарапал женский портрет по камню камешком. Я водил пальцем по этим каракулям и называл твое имя. На фронте, когда давил Деникин, девчонка с красным пятном на груди орала от страха и смотрела сквозь меня пустеющими прекрасными глазами, похожими на твои. Раздавленная автобусом художница корчилась в руках врача. Миллионы женщин. Мужчин. Друзей. Это всегда была ты. Одна ты.
Наталья. Спасибо.
Л. Этот человек – ко мне. Подожди в соседней комнате.
Наталья. Хорошо.
Л. Я вас ждал. Довольно долго.
Бумажный человек. Да.
Л. Вы что-то принесли. Наверно, рукопись.
Бумажный человек. Да.
Л. Сейчас я открою папку, и там будут пустые листы.
Бумажный человек. Да.
Л. Бумага и ничего, кроме бумаги. Долго вы шли. Я успел многое.
Бумажный человек. Да.
Л. Пустое. Дайте бумагу сюда. Я буду читать пустые листы. Буду дергать пустой рукой. Я повернусь к вам спиной. У вас минута.
Песня третья
Хор
нет у меня бороды но я плачу как будто была борода пала корова падре и он плакал горькая пала на все звезда донья че умерла перед смертью сказала: смерть, не иначе! да милая да стыдно звонкий тростник молчит так от стыда дрожала в книге книг осина наши деревни горят рваные губы нам говорят из куста кто-то опять у власти с дутой трубкой в шапке крысиной с ротой солдат и краденой дыркой вместо рта звонкий у нас тростник огонь горячий небо полное перевернутых звезд во рту горит вода время брать на себя время власть и всего себя иначе — да милая да! кто-то лежит в траве в красной траве у последней жизни в лапах кто-то еще скачет на фоне неба еще один удар есть у меня дудка из тростника а у пули женский запах да милая да верная да последняя да звонкий у нас тростник огонь горячий небо полное перевернутых звезд во рту горит вода время брать на себя время власть и всего себя иначе — да милая да! счастье так умереть друзья еще немного крови в красную нашу траву еще чтоб гуще рос тростник наша земля пуста и пуста винтовка и каждый пулю словит но наша сила и наша слава и женщины пляшут для нас одних звонкий у нас тростник огонь горячий небо полное перевернутых звезд во рту горит вода время брать на себя время власть и всего себя иначе — да милая да! да милая да! да милая да!Танда третья
Старуха. Что теперь будет, сеньор полицейский?
Полицейский. Разойдись! Поколочу! Устроили цирк!
Старуха. Эй, публика! Что будет дальше?
Полицейский. Не слушайте дурную бабу. На вверенном мне участке происшествий не обнаружено. Птиц пролетело – одна штука. Один мужской и один женский крик.
Старуха. Эй, публика! Что завтра?
Полицейский. Театр закрыт! За углом теперь кино. Там все как настоящее. Приказываю снять маски!
Старуха. Куда нам идти?
Хор
верно неверно с моря идет война мы поджигаем воду она огнеупорна мы еще поборемся за времена люди в земле по горло земля без дна а континенты меняют формуСтаруха. Куда нам идти?
Полицейский. В никуда! Ничего не будет! Мое время! Мое время! Мое! Маски долой! Разойдись! Разойдись! Пошли! Все! Вон!
Выход
Наталья. Высокое (и все повышающееся) давление крови обманывает окружающих насчет моего действительного состояния. Я активен и работоспособен, но развязка, видимо, близка. Эти строки будут опубликованы после моей смерти.
Бумажный человек. В могилу сошел человек, чье имя с презрением и проклятием произносят трудящиеся во всем мире, человек, который на протяжении многих лет боролся против дела рабочего класса и его авангарда – большевистской партии.
Наталья. Я сохраняю за собою право самому определить срок своей смерти. «Самоубийство» (если здесь это выражение уместно) не будет ни в коем случае выражением отчаяния или безнадежности. Мы не раз говорили с Наташей, что может наступить такое физическое состояние, когда лучше самому сократить свою жизнь, вернее свое слишком медленное умирание.
Бумажный человек. Когда советское правительство выслало из пределов нашей родины контрреволюционера, изменника Троцкого, капиталистические круги Европы и Америки приняли его в свои объятия. Это было не случайно. Это было закономерно. Ибо Троцкий уже давным-давно перешел на службу эксплуататорам рабочего класса.
Наталья. Каковы бы, однако, ни были обстоятельства моей смерти, я умру с непоколебимой верой в коммунистическое будущее. Эта вера в человека и его будущее дает мне сейчас такую силу сопротивления, какого не может дать никакая религия.
Бумажный человек. Троцкий, организовавший злодейское убийство Кирова, Куйбышева, Горького, стал жертвой своих же собственных интриг, предательств, измен, злодеяний. Так бесславно кончил свою жизнь этот презренный человек, сойдя в могилу с печатью международного шпиона и убийцы на челе. «Правда». 28 августа 1940 года.
Наталья. Наташа подошла сейчас со двора к окну и раскрыла его шире, чтоб воздух свободнее проходил в мою комнату. Я вижу ярко-зеленую полосу травы под стеной, чистое голубое небо над стеной и солнечный свет везде. Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят ее от зла, гнета, насилия и наслаждаются ею вполне. Л. Троцкий.
Конечность. Комедия масок
Allegro Affetuoso
1
Первый актер. Театру конец.
Первая актриса. Ой, конец.
Второй актер. Закрыто! Закрыто!
Вторая актриса. Денег нет, говорят.
Третий актер. Жизни нет, говорят.
Первый актер. А и правильно говорят. Говно мы были.
Первая актриса. Ой, говно.
Второй актер. Теперь играем где попало.
Вторая актриса. И вот мы здесь.
Третий актер. Да перед кем попало.
Первый актер. И вот вы здесь.
Первая актриса. Да что попало.
Второй актер. И вот прямо сейчас начнем.
Вторая актриса. «Конечность. Комедия масок».
Третий актер. Чур, я доктор Дочкин, хирург.
Первый актер. Чур, я капитан Кошкин, предприниматель.
Первая актриса. Чур, я Тонька, вечная девчонка.
Второй актер. Чур, я Гоголь, великий русский драматург. Это совпадение.
Вторая актриса. А я буду Люся, женщина безногая.
Третий актер. Музыка.
Хор.
Граждане мы в театре рухнули люди скрипнули стены погас потолок мы в театре будет красиво кроваво слезливо конфликт монолог мы в театре девочка хватит сука конфету жрать хватит начали!2.
Гоголь. Умер мой сын, захлебнувшись водкой «Солнышко», умер и сказал за секунду до: «Бог идет по нашим домам. Бог бом пом по домам. Бо». Я повторяю за ним, когда бутылка пуста на треть, и забываю о нем, когда остается четверть.
Тонька. В моей душе всегда весна, а водка вечна и вкусна. Стихи!
Гоголь. Город и город. Три улицы вдоль, четыре поперек. Был вон театр, закрыли его, осталось кино, ларек, ларек, психушка, просторный пустырь. Мы живем ничего. Я живу, еще такая Тонька, вечная девчонка, увидеть бы ее голой, еще доктор Дочкин, вот он, а еще запасная бутылка «Солнышка» в шкафу, под всякими рубашками.
Доктор Дочкин. Я высококвалифицированный. Не ценят!
Гоголь. Горькая ночь над нами.
Тонька. Бог идет по нашим домам. Бог бом пом по домам. Бо.
Гоголь. Тоньке снится чушь и кровь, она кричит и набирает мой номер. Соседи привыкли жить и не просыпаются от криков.
Тонька. Але, Гоголь! Гоголь, але! Я видела человека, который питается ртами. Он ест рты. Его фамилия Белов, в автобусном парке работает. Он пришел и съел мой рот. Съел мой рот, але! Спаси меня!
Гоголь. Добрых тебе снов, Тонька.
Доктор Дочкин. Мы живем ничего.
Гоголь. Меня зовут Гоголь. Это совпадение. Это – музыка!
3.
Доктор Дочкин. А все не просто так. Вот приехал человек и построил трехэтажный дом совсем без окон. Тут-то и началось.
Гоголь. Да все зима. Поверх всего зима.
Доктор Дочкин. Рождество. Пьяные уроды уродуют себя. Я дежурю в ночь. Тетку с огурцом в анусе уже оформили, парня с обручальным кольцом на фаллосе еще не привезли. Хорошая у меня работа. Пауза. Входит этот человек, капитан Кошкин, в костюме телесного цвета и страшных брюках. Доктор Дочкин, вы бедный человек?
Капитан Кошкин. Доктор Дочкин, вы – бедный человек. А я богатый. И вы будете. Но мне нужны ваши пальцы, и чтобы ни слова.
Гоголь. Левая операция.
Капитан Кошкин. Вас там не было.
Гоголь. Меня никогда нигде не было. Выпью еще водки.
Капитан Кошкин. Вы, доктор Дочкин, живете со слабоумной мамой и копите на лыжи. Когда вы последний раз были в кино?
Доктор Дочкин. Я с детства не был в кино.
Капитан Кошкин. Потому что на зарплату младшего ординатора можно лишь набор сосисок на две персоны.
Доктор Дочкин. Вы хотите отрезать мне пальцы за деньги?
Капитан Кошкин. Нет, все случится наоборот. Я капитан Кошкин. Вот адрес. Дом без окон, за пустырем. Есть нож, пила по металлу, капроновые нити, бинты, марля. Все правильно?
Доктор Дочкин. Но это нельзя, невозможно делать на дому.
Капитан Кошкин. Тысячи лет люди резали друг друга в грязи за гроши. Тысячи лет. А завтра в кино – фильм со стрельбой и превращениями. С Рождеством вас, доктор.
Гоголь. Вот так живешь туда-сюда, а вдруг и Рождество.
Доктор Дочкин. И я пришел. Что ж не прийти. В дом без окон. И там был этот мужчина, капитан Кошкин, и женщина, привязанная к кровати.
Капитан Кошкин. Вот и мы. Не дергайся, жаба, идиотка!
Люся. Доктор, спасите меня, спасите меня, доктор.
Капитан Кошкин. Он, Люся, отрежет ногу тебе. Не очень много ноги, по щиколотку. Будешь орать – отрежет по колено.
Люся. Доктор, спасите меня, спасите меня, доктор.
Капитан Кошкин. Или вовсе по жопу.
Доктор Дочкин. Это же сложнейшая операция. Ампутация голени по Пирогову.
Капитан Кошкин. Вы не умеете ее делать?
Доктор Дочкин. Умею. Я высококвалифицированный. Не ценят!
Капитан Кошкин. Либо ты отрежешь ей эту ногу. Либо отсюда не выйдешь.
Гоголь. И ты отрезал?
Капитан Кошкин. Шутка. Сделайте это, доктор, побалуйте себя. Я богатый. И вы будете.
Гоголь. И ты отрезал тетке ногу?
Доктор Дочкин. Нет. Конечно же. Нет. Я ушел.
Гоголь. Как ушел?
Доктор Дочкин. Ну, так. Ушел. Это просто история.
4.
Люся. Мужчина, помогите, помогите, мужчина.
Капитан Кошкин. Называй меня «хозяин».
Люся. Мужчина, что это?
Капитан Кошкин. Называй меня «хозяин», тварь безногая.
Люся. Хорошо, я буду, я – да.
Капитан Кошкин. Видишь? Вот тут ступня есть. А вот тут нет. Наркоз отходит, сну конец, будешь ходить и прыгать. Будешь работать на меня.
Люся. Куда прыгать? У меня нет ноги. Как я танцевать пойду? Как я сяду в автобус? Кто на меня посмотрит?
Капитан Кошкин. Ты говоришь какие-то глупости, какие-то глупости ты говоришь. Ты бы умерла там, в своей деревне. Ты бы вышла за спившегося лесника и сгорела бы с ним в сарае. У вас там наркоманы все. А теперь ты человек, миллион сделаешь.
Люся. Хозяин, у меня нет ноги.
Капитан Кошкин. А у меня вообще ничего не было. А теперь я вот какой. Вот деньги, вот костюм. Работаю на себя. Упорство, настойчивость, позитивное мышление.
Люся. У меня нет ноги. У меня все болит. Вся голова болит. Весь дом болит.
Капитан Кошкин. Через неделю будешь ходить. Для меня и во имя меня. И миллион сделаешь.
Люся. А что миллион-то?
Капитан Кошкин. Умеешь просить подаяние? Я тебя подучу, это не искусство, это врожденное. Ты родилась нищей. А я родился твоим хозяином. У тебя лицо нищенки, тело нищенки, жалкие глаза попрошайки. Люди пошли хитрые, проверяют. Но ты теперь калека, настоящая, будешь меня благодарить, когда миллион сделаешь. Купишь себе что хочешь. Дубленку. Или вообще автомобиль.
Люся. Мужчина, мужчина… мне так одиноко без ноги. Все равно.
Капитан Кошкин. Будь добра, называй меня «хозяин». Сложно запомнить? Это смешно, в конце концов. Миллион сделаешь. Миллион. Миллион, милая!
5.
Доктор Дочкин. Зимой что? Зимой отморожения. Первая степень – онемение пораженного участка. Вторая степень – интенсивные и продолжительные боли. Третья степень – гибель всех элементов кожи.
Гоголь. Выпей лучше «Солнышка».
Доктор Дочкин. И четвертая степень. Отторжение отмерших тканей. Омертвение всех слоев.
Гоголь. «Солнышка» выпей лучше, а я тебе вот почитаю из книжки. «Самец переворачивает самку на спину и удерживает ее клешнями за клешни. Самка выражает свою готовность, вытягиваясь по струнке: лапы прижаты к телу, а клешни сложены и вытянуты вперед вдоль туловища».
Доктор Дочкин. Про кого это?
Гоголь. Про вьетнамских раков. Самка выражает готовность, вытягиваясь по струнке. Лежит как бревно. Они потом хвастаются друг другу, самцы: было отлично, лежала как бревно! Когда у тебя была женщина, док?
Доктор Дочкин. А у тебя?
Гоголь. У меня есть водка.
Доктор Дочкин. А у меня есть деньги. Деньги у меня есть. Есть у меня деньги. И будет женщина.
Гоголь. Откуда?
Доктор Дочкин. Зарплату повысили. Тонька станет моей?
Гоголь. А моей?
Доктор Дочкин. Я серьезно.
Гоголь. Оседлай вьюгу, приручи зиму. Она ничья, док.
Доктор Дочкин. Тоня, ты мне очень нравишься. Пойдем в кино?
Тонька. Не хочу в кино. У меня внутри всегда кино.
Доктор Дочкин. Хочешь, расскажу про четыре степени отморожения?
Тонька. Я и так знаю. Три оп, четвертая в гроб.
Доктор Дочкин. А хочешь про настоящую любовь? Как у вьетнамских раков.
Тонька. У меня другое предложение. Утки! Утки! Утки! Хочешь, покормим?
Доктор Дочкин. Посмотри, сколько у меня денег.
Тонька. Ну, значит, купим сразу три батона, покормим уток, уток, а потом кататься! Кататься! Утки! Утки не улетели на юг, я нашла, где они прячутся, там такая лужа и пар. Последние утки в мире. Мы будем кататься на такси. Будем смотреть на людей в окно. Сами будем утки.
Доктор Дочкин. Кем хочешь, тем и будем. С такими-то деньгами.
Тонька. Ты милый, док. Я расскажу тебе сны. Я их только Гоголю рассказываю, но если ты прокатишь меня на такси, я расскажу, как меня укусило дерево.
Доктор Дочкин. Говорящее?
Тонька. Почему? Дерево же. Просто взяло меня и перекусило пополам.
6.
Первый актер. Не понимаю.
Первая актриса. И я.
Второй актер. Где реализм?
Вторая актриса. Где натурализм?
Третий актер. Где патриотизм?
Первый актер. Где либерализм?
Первая актриса. Где моя зарплата?
Второй актер. Говно пьеса.
Вторая актриса. Ой, говно.
Третий актер. И жизнь говно наша.
Первый актер. Продолжаем?
Вторая актриса. Продолжаем.
Второй актер. Шапку по рядам пусти.
Вторая актриса. Сам и пусти.
Третий актер. К черту.
Хор
Есть у меня друг он ягода маленький круглый такой человек он ягода он работает пятнышком крови в траве и он сладкая ягода любит родину и жену яаааагодну. Есть у меня враг он птица с клювом и ногами такой враг он птица он тетерев дятел сокол индюк дурак он важная птица поцелуй его под хвостом он нашел человека-ягоду и склевал его под кустом.7.
Капитан Кошкин. Пусто тебе?
Люся. Пусто.
Капитан Кошкин. Где тебе пусто?
Люся. Везде мне пусто.
Капитан Кошкин. А как тебе пусто? Все будет хорошо. Скоро придет доктор. Мы ему дадим еще денег. Ты мне все отработаешь, а пока отдыхай. Слушай. Значит, вечер. Ты одна в доме. Хочется пить. Берешь отвратительный пятнистый чайник. А воды не осталось. И ты дуешь в носик. Дуешь. И он гудит, потому что он полый. Вот так тебе пусто?
Люся. Вы больно умный, хозяин.
Капитан Кошкин. Ходить ты будешь плохо. Но нормально. Просто будь собой. Мужиков-калек много, а баб мало, я подсчитал, на рынке есть ниша.
Доктор Дочкин. Здравствуйте, капитан Кошкин. Женщина, здравствуйте.
Люся. Доктор, зачем вы это, зачем?
Доктор Дочкин. Послушайте, женщина. Я вам сейчас перевяжу. Чтобы не было нагноения. Это называется костнопластическая ампутация. Ампутация голени по Пирогову. Вот, смотрите. Я сделал опил. Укрыл костным лоскутом. Это очень интересная операция. У вас, женщина, будет почти полноценная нога. Хорошая, надежная культя, вы на нее сможете опираться. Удобно ходить.
Люся. Хотите, я вам отсосу, хоть два, хоть четыре раза? Доктор, ударьте его ножом или что у вас там и заберите меня прочь.
Доктор Дочкин. Послушайте. Я в ответе за вас, в конце концов. Это медицина. Я клятву давал. А вы меня зовете человека покалечить. Я делаю свое дело. Вам же лучше будет, вы представляете, что такое нагноение? Не дергайся, жаба, идиотка!
Капитан Кошкин. Доктор Дочкин, а доктор Дочкин, а что это за девушка с вами кормила уточек? Такая прыгучая, но такое печальное, нежное лицо?
Доктор Дочкин. Это Тонька. Она… так.
Капитан Кошкин. Антонина – прекрасное имя. А фамилия? Видите, я же говорил, что у вас все будет.
8.
Гоголь. Умер мой сын, захлебнувшись водкой «Солнышко», а дальше – ну а что дальше. Зима и все такое. Бесконечный белый зверь, жующий щеки, и вечер, переходящий в вечер. И не ставят, суки. Ну а кого сейчас ставят. Шлаковник всякий. Больше мне не наливай, док, я от водки теряю драму. Ладно-ладно. Смотрю в окно, а там люди с работы и на работу. Первая степень – онемение пораженного участка. Вторая степень – интенсивные и продолжительные боли. Третья степень – гибель всех элементов кожи.
Тонька. Ты смотришь и смотришь, а им надо варежки и валенки.
Гоголь. И четвертая степень. Отторжение отмерших тканей.
Тонька. А я видела такие варежки! Такие валенки! Ааааа! Зеленые с оранжевым узором!
Гоголь. Омертвение всех слоев.
Тонька. Раз ты такой дурак, у меня свидание с доктором.
Гоголь. А я видел такую женщину. Такую женщину.
Люся. Мужчина, мужчина, вы не туда смотрите. Посмотрите вот сюда. Вот, смотрите, нога. Сильная, красивая нога. А вот тут, смотрите, никакой ноги нет. Вы видите пустоту?
Гоголь. Вижу пустоту.
Люся. Подайте инвалиду ради Христа и всего хорошего.
Гоголь. Мне очень жалко вас. Мне всех жалко очень. Только у меня денег нет и не будет.
Люся. Сволочь, подонок, никакой человек. А у меня все будет. Думаете, я всю жизнь буду так? У меня будет вообще все. Я куплю машину, вжжж-вжжжж, би-би, всех обдала грязью, а мне все равно, у меня дубленка. И миллион.
Гоголь. И я не дал денег. Но я плакал, потому что я виноват. Вот ей-богу плакал. Но не дал. Тонька? Где ты, Тонька?
Тонька. А я видела такие варежки! Такие валенки! Ааааа! Зеленые с оранжевым узором!
Доктор Дочкин. Пойдем, я куплю тебе.
Тонька. Мне не надо. Я не хочу в них ходить. Я хочу с них переться. И я их видела во сне.
Доктор Дочкин. Хочешь, мы их закажем по твоему описанию.
Тонька. Зачем мне валенки из сна? Я вообще не чувствую холода. Потому что я глупая. Я самая, наверно, глупая. В детстве порезалась и заметила, только когда весь рукав был в крови. Очень, очень глупая. Никто не парится, все что-то вытворяют, уезжают во Вьетнам и становятся там кем-то, живут совсем не так, как жили, а мы боимся потерять что-то ничтожно маленькое, чтобы, возможно, получить большое.
Доктор Дочкин. А я тебе объясню. Вот идет операция. Я ассистирую. А санитарка пересчитывает кровавые тряпки. Потом я буду оперировать. А другой ассистировать. А санитарка пересчитывать кровавые тряпки. Потом опять. Какое большое? Какое маленькое? О чем ты говоришь, если жизнь?
Тонька. Давай куда-нибудь укатимся, куда-нибудь укати меня. Доктор, укати же меня куда-нибудь.
Доктор Дочкин. Скажите, пожалуйста, можно мне вторую такую же?
Капитан Кошкин. Что вам вторую?
Доктор Дочкин. Можно мне вторую девушку?
Капитан Кошкин. Плохо с вашей Антониной?
Доктор Дочкин. Да нет, мне не любить… Мне резать. Просто вот вы мне дали денег, у меня повысился уровень жизни и появились новые потребности… цветы, ем чаще. И так далее. А вы все равно собираетесь расширять дело.
Капитан Кошкин. Я позову вас, когда будет надо.
Доктор Дочкин. А будет надо?
Капитан Кошкин. Надо – будет.
Тонька. Укати…
Доктор Дочкин. Музыка! Музыка!
9.
Гоголь. Вы мне не нравитесь. У вас что-то не то с лицом.
Капитан Кошкин. А у вас?
Гоголь. Мое – благороднейшее и древнейшее из лиц: дырки, вырезанные в картонке. Сквозь них и плачу.
Капитан Кошкин. Живете в трухе и несовершенстве, а могли бы изменить все к лучшему, сраную скамейку у дверей поставить, что-нибудь возвести или посадить – вот я, вот нож, вот бинт, вот рабочее место, поехали.
Гоголь. И все-таки вы мне не нравитесь. Какие-то пятна у вас, лоскутки.
Капитан Кошкин. Конкуренция. Кит выжил, слон вымер, потому что кит бодр, а слон слаб. Вы слон. Вы все слоны.
Гоголь. Да они же еще живы.
Капитан Кошкин. Вымрут.
Гоголь. А я вот сейчас все допью, закрою глаза, открою глаза, и все станет заново. Я же великий русский драматург, вы слышали? Я могу все это переписать закрытием век. И вас вообще не будет, и никто вообще не будет использовать людей как штуки. Никто.
Капитан Кошкин. Никто уж ничего не перепишет. Все есть как есть и будет как будет – и кто-то родился с ножом, а кто-то под ножом. И прямо сейчас одну попрыгунью с жутким детским шрамом на руке, прямо сейчас ее слегка ударят по затылку и увезут во тьму, и так уж вышло, что никто не успеет ее предупредить.
Гоголь. Понял, почему вы мне не нравитесь. У вас черви из глаз валятся.
Капитан Кошкин. Уйди, алкоголик.
Гоголь. Я-то уйду. Но водка меня согреет. Звездочки скажут «пока-пока». А вам ничего не скажут звездочки. И не укроет снежок, как нас укрыл, и останетесь один на белом свете.
Хор
Есть у меня враг он птица с клювом и ногами такой враг он птица он тетерев дятел сокол индюк дурак он важная птица поцелуй его под хвостом он нашел человека-ягоду и склевал его под кустом.10.
Тонька. Как тебя зовут?
Люся. Люся.
Тонька. Тонька. Где мы?
Люся. В доме совсем без окон. Тонька. Я уже забыла, что у людей имена. Тут не зовут по имени. А меня Люся.
Тонька. Чего ждем?
Люся. Скоро придет хозяин и скажет, что мы нищенки.
Тонька. Какой такой хозяин? Не бывает никаких таких хозяев.
Люся. Потом объяснит, как заставить людей плакать. Он каждый день приходит. Добрый, учит всему.
Тонька. Не люблю я добрых. Я сама добрая.
Люся. Я уже выходила пару раз. Все хорошо. Меня жалеют. Я же настоящий инвалид. Но оказалось нагноение. Скоро придет доктор с ножом в руке и отрежет тебе ногу. А мне намажет мазью и уколет в жопу от микробов. Мы будем зарабатывать деньги. Это больно, но хозяин говорит, что это только сначала больно.
Тонька. Не бывает никакого такого больно.
Люся. Как это? А что ж бывает?
Тонька. Утки. Валенки. Водка. Снег. Его можно есть. Но лучше не надо. А боли нет. И хозяев никаких таких нет.
Капитан Кошкин. Здравствуйте девочки.
Люся. Здравствуйте, хозяин.
Капитан Кошкин. Меня зовут капитан Кошкин. А тебя Антонина. Это я знаю. Ты будешь моя новая нищенка.
Тонька. Палец пососи.
Капитан Кошкин. Ты слишком громкая для женщины, привязанной к кровати.
Люся. Не серди его. На самом деле без ноги совсем неплохо. Он заботится. Как муж, только лучше: не бьет, не бухает.
Тонька. Ты кто такой людям ноги отрезать?
Капитан Кошкин. Я предприимчивый человек. Бывают дрянь люди, а бывают не дрянь, и вот я как раз из этих. Все мы родились кто в сугробе, кто в луже. Тут главное – преодолеть себя. Понимаешь? Преодолеть себя. Живете в лени. Всем зарплату подавай. А вот же они, деньги, под ногами, вмерзли в лед. Вот я и подобрал. А ты нет. Ты родилась нищей. А я родился твоим хозяином. У тебя лицо нищенки, тело нищенки, жалкие глаза попрошайки. Люди пошли хитрые, проверяют. Но ты теперь калека, настоящая, будешь меня благодарить, когда миллион сделаешь. Купишь себе что хочешь. Дубленку. Или вообще автомобиль.
Тонька. Ну, попробуй мне что-нибудь отрезать.
Капитан Кошкин. А я и не режу. Я осуществляю общее руководство. Но сейчас придет доктор и сделает тебе больно.
Люся. Сейчас он уже придет.
Тонька. Не бывает никаких таких хозяев.
Капитан Кошкин. Откуда ты такая родилась?
Тонька. Люди не рождаются. Их приносит аист. Я тебе не гожусь в нищенки. Ты ничто.
Люся. Сейчас. Слышишь. Сейчас доктор.
Капитан Кошкин. Можно ведь не только ногу отрезать. Можно и голову. Боишься? Пусто тебе?
Тонька. Пусто.
Капитан Кошкин. Где тебе пусто?
Тонька. Везде. А лучше сдохни. У меня есть друг. Алкаш. Но я доверяю ему сны. Он, кажется, любит меня, и я доверяю ему сны. Он великий русский драматург. Не ставят, суки. Там люди не похожи на людей. Какие-то банки тушенки, схемы метро, а не люди. Я не верю в Бога, и я ему говорю, его Гоголь зовут, совпадение такое, говорю ему: сделай что-то со счастливым концом, сделай что-нибудь со счастливым концом, хотя бы вот тут вот, на бумаге, на сцене, пожалуйста, Гоголь!
Гоголь. А у меня водка кончилась. Потому что вот умер мой сын… ну, вы слышали уже. Я ничего не изменил. Говорят, меня нет. Пустое место. До чего дошел. Мы на него так надеялись. И не ставят, суки. Да все зима. Поверх всего зима. А я – ну, я ничего.
Доктор Дочкин. Добрый вечер. Ну что, где вторая девушка?
Капитан Кошкин. Вот она.
Люся. Я боюсь. Не надо. Не надо. Не смотрите друг на друга. Не надо так смотреть.
Тонька. Скажи мне что-нибудь, док.
Доктор Дочкин. Я… не знал. Я… люблю тебя.
Хор.
Есть у меня театр мы в театре рухнули люди скрипнули стены погас потолок мы в театре все из картона гнилого бетона и волк пионерку в кусты поволок мы в театре граждане вот режиссер декоратор завлит и его кабинетПервый актер. Нет.
Первая актриса. Нет.
Второй актер. Нет.
Вторая актриса. Ни за что.
Третий актер. Во-первых, так не бывает
Первый актер. Во-вторых, так не должно быть.
Гоголь. Нет. Нет. Нет. Ни за что. Либо ты отрежешь ей эту ногу. Либо отсюда не выйдешь. И ты отрезал? Шутка. Сделайте это, доктор, побалуйте себя. Я богатый. И вы будете. И ты отрезал тетке ногу?
Капитан Кошкин. Либо ты отрежешь ей эту ногу. Либо отсюда не выйдешь.
Гоголь. И ты отрезал?
Капитан Кошкин. Шутка. Сделайте это, доктор, побалуйте себя. Я богатый. И вы будете.
Гоголь. И ты отрезал тетке ногу?
Доктор Дочкин. Нет. Конечно же. Нет. Я ушел.
Гоголь. Как ушел?
Доктор Дочкин. Ну, так. Ушел. Это просто история.
Тонька. Да какая к черту история? И там осталась женщина, привязанная к кровати?
Доктор Дочкин. Да может, они так развлекаются. Может, у них такой секс. Может, они привязывают друг друга. И хотят, чтобы доктор смотрел. Ролевые игры. Рождество. Вечные ночные дежурства. Ночь.
Гоголь. Любовь.
Тонька. Адрес. Дом. Где?
Доктор Дочкин. Это что. А знаешь, как это у вьетнамских раков?
Тонька. Где дом?
Доктор Дочкин. Он… там. Я покажу.
Гоголь. И мы побросали бутылки – и побежали в зиму. И там был трехэтажный дом совсем без окон, но он был пуст. Мы нашли капельку крови высоко на стене и ведро бинтов, и никого. И мы не знали, куда и кто. Потому что в мире много врачей. И бинтов. И женщин. И мы бежали сквозь снег. Срывая одежду, чтоб легче бежалось. Замерзая насмерть, оставаясь живыми. А потому что пьяному зима родная и мир по горло. И мы бежали захлебываясь. Утопая. Погружаясь. Забыли уже, за чем бежали или от кого. И оказались здесь. На этой сцене. Даже не сцена, а черт знает что. Сарай. Подвал. Дыра.
Первый актер. Театру конец.
Первая актриса. Ой, конец.
Второй актер. Закрыто! Закрыто!
Вторая актриса. Денег нет, говорят.
Третий актер. Жизни нет, говорят.
Первый актер. А и правильно говорят. Говно мы были.
Первая актриса. Ой, говно.
Второй актер. Шапку пустили?
Вторая актриса. Пустили.
Третий актер. Что собрали?
Первый актер. Да копейки.
Первая актриса. Мы сделали, что могли.
Второй актер. Выпью.
Вторая актриса. Еще.
Третий актер. Водки.
Новый Завет
Русский сюрреализм, или Путь скотника в Париж
Монолог у навозной кучи
– Не смотри на этого пса. Он злой. На почте служит. Покусал меня. А я за это его портрет нарисовал и продал, где-то в Париже теперь висит.
Осьминское сельское поселение – в два раза больше Андорры и в три раза больше Мальты. Примерно с райский остров Кирибати размером. Найти его на карте так же трудно. Трудно и нагуглить: единственная новость за много лет – как местные чуть не закормили аистов до смерти.
– Тут я могу создать галактику сюжетов, не сходя с места. Глянь-ка: навозная куча! А я видел, как на ней собака курицу загрызла. Тут такие места! Брейгель отдыхает!
Благодатно, глухо. На руинах мертвого завода поет иволга. На тысячу квадратных километров – тысяча человек, да никто их уже и не считает.
– Они прекрасные. Сначала таскали мне помидоры из уважения: думали, я священник, потому что с бородой. Потом разобрались. Но все равно выручали. Мы с женой ходили всюду, помогали на огородах, работали за еду и соленья. Кем я только тут не был! Ничего, Бродский тоже ездил в экспедиции, там и начал стихи писать.
У дороги церковь – художник топил там печь и пел на клиросе. У церкви сарай – художник его строил. Художник брался за все, что дают, а давали немного. Поэтому дольше всего художник работал скотником за 10 тысяч рублей в месяц.
– Разгребал навоз. Разгружал мешки. Дежурил сутками. Следил, чтобы коровы не повесились на цепи. Когда не уследил, пришлось перерезать теленку горло. А в свободные минуты я делал первые наброски. Красота – единственное, что позволяет не сойти с ума. Картины стали покупать. И однажды я понял, что в руках у меня зарплата за три месяца работы…
Евгений Бутенко говорит про ферму с усмешкой. Но, кажется, больше всего в жизни боится туда вернуться.
– Давай туда не пойдем, а? Мы их… шокируем. Подумают, что хочу перед ними выпендриться, с журналистом пришел. Нет, бить нас не будут. Ограбить могут. И совершенно точно обругают. Крепкая русская речь полетит, как из дробовика по мозгам…
Мы идем по полям – обратно. Мимо крутит педали блаженная девушка, на шее – магнитофон.
– Это Ольга. Тоже скотница. Вместе говно убирали, в дни безумия.
Мертвец из чата
Три блондинки мчатся сквозь луга. Солнце на волосах.
– Папа! – визжат блондинки. – Папа идет!
Домик в деревне – и дорого, и опасно: сгорит или сгниет. Хороший вариант – квартира на главной площади, с видом на магазин. Мало кто может таким похвастаться. Стены из тончайших панелей: слышно, как сверху смеются, снизу плачут. Когда сосед готовит ужин, из розетки тянет гарью. Дверь буфета скрипит. За новыми петлями ехать в Лугу, за сто километров.
Тут и живет художник с тремя дочками, новорожденным сыном и женой Сашей, кроткой, как мадонна.
– Мы с Женей на помойке познакомились. В чате «Философское кафе». Он был под ником Deadman. Это из Джармуша. Всех раздражал, потому что вежливый был. А меня, наоборот, на хи-хи пробирало. Потом мы в мейл-агенте переписывались несколько месяцев. А потом я ему сказала: я тебя люблю. И он поверил. Фото я его увидела только спустя год – со свадьбы друга прислал. А он меня вообще не видел – я стеснялась своей внешности. А потом я к нему приехала в Кишинев…
А потом он продал молдавскую квартиру и купил двушку в Осьмино – потому что край красивый. И потому что больше ни на что денег не было. И Саша стала женой художника. Она видела, как он воцерковился и расцерковился. Как выкинул в мусор свои тончайшие гравюры в немецком стиле. Как снова начал рисовать.
– В сентябре шесть лет, как мы тут. Каждый год не похож на другой. Были очень тяжелые времена. Сейчас посвободней. Я и готова, и боюсь, что это закончится. После третьего ребенка как-то особенно ясно понимаешь, что нет ничего постоянного. Все у нас хорошо. Вот только бы чуть-чуть надежности. Женя в этом плане – ужас. Но самое тяжелое – общественное мнение. Мои родные. Моя подруга. Моя мама. Я бы не хотела, чтобы она увидела эти работы. Она скажет – он больной человек….
Художник не слышит. Он берет в руки тонкую кисть и пишет новый ночной кошмар. А она смотрит с безграничной нежностью и говорит с неожиданной силой:
– А я считаю, что жесть писать – надо! Все еще все увидят! Все узнают, что были не правы!
Центральная Африка, поселок Осьмино
Еще пять лет назад в Осьмино не было интернета. Только на почте, по карточкам. Потом дали. И фейсбук спас Евгения Бутенко от пути скотника.
Сейчас у него четыре тысячи друзей – он самый популярный блогер Лужского района, а может, и всей Ленинградской области. Однажды он выложил триптих: «Дом культуры», «Ферма в поле» и «Похороны в поселке». Пошли репосты. Свой жирный лайк поставил художник Николай Копейкин. В личку написала галерея «Арт-Наив». И вот за два года – вторая выставка в Париже. На первую зашли топ-менеджеры «Шанель», купили гравюру «Деревня Залустежье» и включили ее в линию одежды, посвященную маргинальному искусству. Теперь в штанах с принтами из Бутенко ходят парижанки, теперь картины Бутенко в британских музеях и американских коллекциях, а сам Бутенко продолжает жить в Осьмино.
– Четыре года назад я стал радиоприемником. Все мое творчество о том, что существует мир невидный. И у человека два варианта. Либо он начинает эту реальность воспринимать, либо помирает и только тогда видит все как есть.
Мы продолжаем путь. Мимо лавки автозапчастей, где вместо тормозных колодок торгуют крапчатыми цесарками. Мимо пожарища – дом сожгли бандиты, хозяйку изнасиловали – где теперь собирают малину. Мимо обычной русской жизни.
– Мама моя умерла, когда мне год был. А отца я видел последний раз в десять. Он был профессиональный пианист, но увлекся большим рублем, поехал за золотом в Якутию, а потом в Африку на копи, где все с калашами ходят. Хотел поднять миллионы и вернуться богатым. Тут, в Осьмино, я чувствую, что тоже попал в какую-то африканскую страну. Не знаю, каким бы я был автором, если бы не эта жизнь. Можно сколько угодно читать Канта и Кьеркегора. Но потом ты врубаешься, что люди вот так вот живут… Это поразительный опыт. А отец… очевидно, его там убили. Если нет – дай Бог ему здоровья. Я не обижен.
Бомжи, маргиналы, апостолы
Наместник Бога в поселке Осьмино – отец Павел, один из тех чудесных сельских священников, у которых светятся глаза. Иногда – от праведного гнева.
– В соседней деревне люди – живые мертвецы. Пожрать, поспать, пенсию пропить-погулять. Пошли, грибов-ягод насобирали в лесу – сдали. И ту-ту! В другой деревне, где у меня второй храм, люди, наоборот, сияют. А тут, посередке, в Осьмино – и так, и эдак. Народ тяжелый. Но жить можно припеваючи. У одного даже две машины есть и свиньи! Правда, потеет с утра до вечера, но все у него нормально.
Отец Павел – человек деятельный. Художник Бутенко – человек созерцательный. Отец Павел завел уток и мечтает о козе. У художника Бутенко – кошка по имени Коха. Отец Павел из руин поднял местный храм. Художник Бутенко завел в поселке авангардное искусство. Оба южане: один молдаванин, второй одессит. Оба люди страстные, и противоречий у них немало.
– Бог дает благодать человеку. Но лишь до какого-то времени, как родители до какого-то возраста растят детей. Приходит время – сам делай. Евгений когда при храме был – в колокола бил, не рисовал. Начал отдаляться от храма – и вот… не справился. Курить начал, пить, творчеством заниматься. Я творчество не осуждаю. Осуждаю, что именно такое. Муха говно собирает, пчелка – мед. Так вот, Евгений… он не по цветочкам. В мире столько всего прекрасного! Надо от плохого избавляться. Ну, даст Бог, и он оклемается.
Через дорогу гопники пригнали «Жигули» и открыли багажник. Оттуда ревет музыка. Они стоят и тихо дергаются телом: танцуют. На их фоне художник – долгополый белый пиджак, борода и кудри – особенно иконописен.
– Отец Павел – удивительный человек, которого можно попросить о чем угодно. Но у меня появились новые духовные потребности. Они явно идут от Бога, я чувствую! И их удовлетворяет только творчество! Искусство и церковь делают одно и то же дело. У церкви свой путь, как у авангардных художников. Главное, чтобы это с государством не срасталось. Я против официоза, который душит все живое. Вот, например, апостолы. Они кто? Бомжи, маргиналы, отребье! Мы возглашаем им славу – и они ее достойны. Но кем они были в жизни? Об них ноги вытирали. Ни один из них не умер естественной смертью. Вот об этих вещах почему церковь не рассказывает?
Думать вредно
Выбраться непросто. Сто километров до Луги. Еще полтораста – до Петербурга. Еще семьсот – до Москвы.
Мы едем в Лугу. Я – домой, художник – за петлями для буфета. На автобус надежды нет, и нас везет Анатолий Иванович. Он раньше тушил пожары, а теперь слушает голоса. Он радиолюбитель, бородатый отставник с интересными взглядами. Верит в славянские руны и что Троцкий убил Есенина. Он очень добрый и тоже борется за душу художника.
– Я Женю давно знаю. Видел его намоленным дядькой. А потом жисть ему показала новую грань. И он от этой грани дернулся, изменился. И стал иначе видеть мир. Без гражданства, без денег, теща достает, никто и звать никак. Вот и обиделся на жисть.
– Да я не обиделся.
– А зачем тогда херню рисуешь? И в политику лезешь?
– Да нет у меня политики.
– Тогда бы ты не писал ничего на картинах своих. А у тебя твои козявочки всякие слова вякают. Это самая политика и есть!
Остановка на полпути: родник со святой водой. Набираем канистру. Спутники спорят, но по-доброму:
– Твои либеральные ценности – это когда у человека калькулятор в глазах!
– Нет, это когда свобода. И когда думаешь своей головой.
– Думать вредно! Надо не думать, а знать!
И художник не обижается, а отвечает очередной байкой:
– Было дело, еще в Кишиневе, охранял табачный комбинат. Там начальник тоже говорил, что думать не надо. Работа была спокойная. Но смотрю, один охранник со мной о Боге говорит. Другой. Третий. Оказалось, всю охранную систему города захватили баптисты и пятидесятники. Нормальные люди! Записал им цеппелинов на болванку.
Приехали. Город Луга. Пьяные корчатся на вокзале. Я прощаюсь. Анатолий Иванович улыбается тепло:
– Не надо мне твоих спасибо. Есть русское слово – благодарю! Ты, главное, историкам не верь. Это все из Торы. Потому и называется: история.
Смысл жизни и груша в заднице
Мы встречаемся снова уже в Москве, в Лялином переулке. Во дворе, направо от крохотного бюста Жуковского, прячется единственная в России галерея наивного искусства. Там уже две дюжины картин Евгения Бутенко, он открывает выставку, неловко бьет в гонг и стесняется стандартных вопросов:
– Как бы вы охарактеризовали свой стиль?
– Да никак.
– Сколько времени уделяете творчеству?
– Да не уделяю. Любое время – творчество.
– Каковы ваши творческие планы?
– Да никаких. Может, умру.
Спорят о стиле: ар брют? наив? аутсайдерское искусство? русский сюрреализм? Вспоминают Босха и Дали. Художник подмигивает:
– Просыпаюсь я в Кишиневе с похмелюги и вижу, как в лучах восходящего солнца друг Паша стоит абсолютно голый и задумчиво засовывает себе грушу в задницу. И это только один эпизод моей жизни. Все выходки Дали – я вживую видел!
Художник убегает – я щас! – и возвращается с бутылкой коньяка. Сам не пьет – наливает поклонникам. Щелкают айфоны. Кто-то спрашивает про деньги.
– Разбогатеть? Конечно, думал. Детям жизнь обеспечу. И еще помогу всем бездомным художникам. А то они работают в офисе, а рисуют по ночам. Я бы давал им деньги просто так. Я бы школы организовал, чтоб там царили свободный дух и любовь к человеку, как в Царскосельском лицее! Я бы сделал так, чтобы люди перестали воевать. Чтобы жили в любви и простоте. Открылись друг другу для общения и созидания прекрасных вещей. Для этого нас Бог создал. А мы ищем надуманных объяснений, которые мы высасываем даже не из пальца, а из жопы. Это просто говно, которым мы себя обмазываем вместо любви и простоты! Но скоро люди объединятся и забудут об условностях. Поймут, что мы все живем на одной планете, а не по разным странам. И настанет время, мы будем едины.
Быть беженцем
1 час. Македонская граница
В Европу два входа: парадный и черный. Я пробовал оба.
– Путин-Путин! Медвед! – кричат на парадном.
Это сербский пограничник рад красному паспорту. Автобан абсолютно пуст.
Черный ход – тропинка тремя километрами восточней. По тропинке ползет змея из людей. Мы разные. Сирийцы светлые, как я. Курды смуглые, с усами. Хазарейцы. Персы. Ассирийцы. Афганские таджики. Какие-то вовсе узкоглазые парни. И еще люди с серой кожей. Это когда долго идешь пешком по пыльной стране.
Потом навстречу выходят дети.
– Френд! – кричат они. – Такси-такси, хандред эвро!
Но до деревни – я знаю – осталось немного. И мы идем. Позади пожилой хазареец. С ним жена и дочка. В Иране в них стреляли. В Турции отобрали еду. В Греции натравили собак. В Македонии избила полиция. А идут они месяц.
Это я узнаю потом. А пока я вижу, как человек спотыкается, падает и остается лежать.
2 часа. Деревня и Антигона
Впереди деревня Миратовице, солнце заходит за минареты. Хрипло, в записи, поет муэдзин. Это Сербия, но в грязных домиках под красной черепицей живут албанцы, мусульмане. Фермер гонит скот с полей. Люди и коровы выходят на деревенскую площадь.
Там тоже люди – другие. Молодые, в чистом. Видно, волонтеры. Кто-то сует кулек: хлеб, сок, яблоко. Никто тут не знает нашего языка. Ни арабского. Ни фарси. Ни урду. Ни дари. Ни моего русского. Зато они улыбаются. Особенно одна девушка. На груди ее имя латиницей – Антигона – и арабские закорючки.
Первыми ее обступают курды. «Гараж! – кричат. – Гараж!» Это «город» на их языке. Были бы арабы, кричали бы «аль-медина».
Волонтеры старательно улыбаются. До города Прешево семь километров. Там лагерь, там кормят и выдают бумаги. До города ходит бесплатный автобус. В автобусе едем мы.
5 часов. Лагерь в Прешево
Раньше тут была работа: растили табак, сдавали на склад. Потом гражданская война, как в Сирии. С прошлого века склад стоял пустой, теперь там лагерь. На первом этаже записывают, кто ты и откуда. Отпускают грехи, даже если ты пришел по тропинке. Выдают бумагу: право пересечь страну за 72 часа. На исходе этого срока ты нелегал.
Нас выгружают. Полицейские в масках от заразы, одному не хватило – перевязался шарфиком. Рамки металлоискателей. Тенты. Номера от 1 до 1000. Талоны на еду, врачебный осмотр, бумаги, только потом сон. На втором этаже кровати. Ждать долго – часы.
Поэтому я ускользаю, и часть ускользает со мной. Мы идем в «Арнольд» – номера над главной городской качалкой. Единственный отель в радиусе ста километров. Тут за 20 евро ночуют самые богатые беженцы. Вентилятор не крутится, вода не льется. Но есть кровати, и мы засыпаем, не раздеваясь.
13 часов. Албанские волонтеры
– Они пришли в июне, – говорит Валон Арифи, шеф «Молодежного офиса Прешево». – Встали у полицейского участка. Ждали бумаг. А мы – Антигона, Бехар, все мы – там живем неподалеку. Пустили их к себе ночевать. Кормили. Через три недели правительство наконец устроило лагерь. А мы стали при нем волонтерами. Тридцать человек. Пять бесплатных автобусов. Работаем с утра до полуночи. Так-то я дизайнер.
Антигона грузит людей в автобус. Бехар флиртует с арабкой в модном хиджабе. Англичанин Гарольд раздает воду и яблоки. Он монтирует водопровод в Косово, взял отгул поволонтерить.
Бутылка лопается под автобусным колесом. Курдка падает в пыль и ревет. Она боится громких звуков, похожих на выстрелы. Так говорит ее дочь, Мариам. Она немного знает английский, и группа беженцев из Алеппо выбрала ее переводчицей. Ей 11 лет. Ее школу взорвали.
15 часов. Просто албанцы
– Что вы делаете?
– Ничего.
– Где работаете?
– Нигде.
– Как веселитесь?
– Вот – сидим.
– А почему у всех немецкие машины?
– «Вестерн Юнион»!
В лучшем кафе, где коньяк «Скандербег» запивают газировкой, я познакомился с интеллигенцией города Прешево.
Ндерим – безработный экономист, изучал банковское дело.
– Видишь тут хоть один банк?.. Зато брат у меня нашел женщину в Германии, в Аахене. Работает на пивоварне. Кормит всю семью. И так все в Прешево живут. Мы не против беженцев, потому что сами хотим, как они. Хотим жизнь получше. Только у нас пока не воюют.
Дали – безработный монтажер, раньше растил табак.
– Мой был хороший, но по пять евро за кило. А турецкий плохой, но по два евро. Они тут все приватизировали и стали покупать турецкий. Я и пошел на телевидение. В бывший дом культуры, где у волонтеров офис. К нам туда сам американский посол приезжал, в меня охрана из винтовок целилась! Но там уже восемь месяцев не платят. Думаю теперь пойти подметать за беженцами, кормить их. 350 евро в месяц, отличное начало!
– Почему не в Белград? Там есть работа.
– В Белграде хорошо. Сербам. Но не албанцам. Не албанцам.
17 часов. Как забить автобус
Из Прешево в Белград никогда ничего не ходило. Теперь площадь у лагеря вся в автобусах. Билет – 60 евро, если ты нелегал. И 25, если получил бумаги. Чистая прибыль с автобуса – тысяча. Таксисты ту же тысячу имеют с одного человека и везут сразу до венгерской границы.
Я вписался в автобус к Павлу. Он знает только сербский и албанский.
– Има папир? – орет Павел.
Есть ли, мол, бумаги. Нелегалов он не возит. Площадь черна от людей, но никто не понимает Павла.
Автобус полупуст и не поедет, пока не будет полон. Что ж, я немного знаю иврит, он похож на арабский, как сербский на русский.
– Аль медина Белград хамеш эсре еуро им аль харта! – зазываю я на жутком суржике.
Так, наверно, и рождаются новые языки. Так я экономлю на билете: теперь я толмач.
20 часов. Сдать экзамен и не умереть
Автобус полон. Путь петляет. До Белграда триста километров. Можно поговорить.
Рами, 22 года, Сирия:
– Я студент, инженер-электрик. Сдавал экзамен. Тут влетела ракета, троих студентов убило.
Джавад, 21 год, Афганистан:
– Я тоже. Пришли, учителя убили, плохие люди.
Фарид, 51 год, Сирия:
– Я аптекарь. Моей аптеки теперь нет. Бум! – и все.
Мухаммад, 34 года, Ирак:
– Мне там делали больно-больно.
Женщина из Пакистана:
– Там плохо.
«Туалета! Туалета!» – приплясывает в проходе безымянный парень из республики Бангладеш.
Водитель тычет локтем в бок – сербский мне уже как родной:
– Переведи ему, что нету туалета. А еще радио сломалось, можешь посмотреть в своем телефоне, как наши с финнами сыграли?
Сербы очень любят баскетбол. Автобус трясет по холмам. Сзади, кажется, кто-то рожает.
22 часа. Билет в Европу
Добраться до Европы дорого, а беженец платит втройне. Сирийцы тратят на дорогу тысяч пять. Афганцы – пятнадцать. Мустафа – программист из Латакии – потратил двадцать. У него прекрасный английский, степень, двое детей, жена на сносях, не хватает пальцев и шрам на лбу. Ради жены он бронирует лучший белградский отель. Он продал дом, чтобы сюда добраться.
– Друг, – говорит Мустафа, – тут семья из Ирака. Видишь того старика? У них ничего нет. Им еще долго ехать, сын живет в Голландии. Помоги собрать с каждого по пять евро. Я даю пятьдесят.
Мы собираем кое-что и кое-как. Даже водитель кряхтит, но достает свои динары.
И старик в бурнусе плачет над охапкой мятых денег.
27 часов. Вечер в Белграде
Белград бомбили 212 раз. Но НАТО точней ИГИЛа, и в городе мало руин. Он местами похож на Милан (но лучше), на Будапешт (но хуже), тут есть ампир, модерн и крепость, и в крепости играют в баскетбол. На скамейках целуются. На улицах поют. В кафанах – кабаках, где подают посредственное пиво и лучший в мире кофе, – старики говорят про жизнь. Мол, идет она себе и не кончается.
Белград хорош. Окраинная, но Европа. А мы, типа, варвары. Нас выгружают у вокзала. И я прощаюсь с Мустафой. Вызываю такси по-сербски, экономя ему двадцатку. Дороги расходятся. Он бежал от войны, и ему гарантирована сладкая жизнь в Германии, как рай за мытарства. Мне – вряд ли. Он отправляется в лучший отель. Я – в привокзальный хостел. У него айфон, я – не могу себе позволить. Еще чуть-чуть – и я начну завидовать. Но я смотрю на его шрамы, и Мустафа обнимает меня, а жена его кланяется, насколько позволяет живот. Договорились зафрендиться на фейсбуке.
37 часов. Вонючие уроды
Кто побогаче – в хостелах и отелях, кто победнее – в палатках и на земле. Беженцы в Бристоле – парке у автовокзала. Беженцы – через дорогу, в сквере у чего-то пятизвездочного. Богато одетая тетка морщит нос:
– Опять эти вонючие уроды!
Мне стыдно. Это сказано по-русски.
В сквере не воняет. В сквере дети фехтуют веточкой. Серб из ближайшей столовой бежит за арабом – тот забыл сдачу. Курды купили ящик колы и мешок батонов, делят припасы на скамейке. Среди палаток бродят местные. Спит совершенно славянского вида дед. Играют в шахматы. Гуляют парочки. Сербы невозмутимы.
– Беженцы? С ними трудно. Но я вам ничего не скажу. Раз вы из России, то все переврете, – говорит женщина с догом.
– Нормальные беженцы. Я тоже был беженец, когда хорваты нас резали, – говорит мужчина в спортивном костюме со стразами.
– Жизнь, она… такая, – говорит старый-старый шахматист.
– Да их же тысячи! – говорит продавец шавермы, щелкая пальцами. – Живые деньги!
38 часов. Чертовы наркоманы
Засекаю подозрительных парней. Смуглые, но не очень – сирийцы, наверно. В руках целлофановые пакеты. Запах знаком. Похоже, сербский клей «Момент» по-прежнему токсичен и хорошо вставляет. Парни шатаются и хохочут. Настоящие варвары. Один сочно затягивается и громко выдыхает:
– Ебене ти матер у пичку!
Все в порядке, это свои, не импортные.
И снова запах, но другой. Из палатки выползает абсолютно черный и счастливый человек. Он из Камеруна и черт знает как сюда попал. Зовут его Чучу, говорит он лишь на ломаном французском, но где-то раздобыл марихуану. Выпускает струю дыма в небо, говорит «бонжур» и уползает обратно в палатку.
И снова подозрительная парочка – на этот раз точно беженки. Шепчутся, что-то там высматривают в телефоне, жмутся к стенам и скрываются в переулке. Я петляю за ними с холма на холм, огибаю разбомбленный дом и вижу – площадь, фургон с мороженым, и беженки, пересчитав мелочь, берут одно на двоих клубничное.
39 часов. Переводчики и пытки
Медсестру зовут София, фамилия – Маньяк, но она добрая. У молодого курда болит колено. Другие курды развлекаются: собрались, закатали штанины, щупают друг другу колени, смеются.
В парке работают три переводчицы. Анна – сербка, но знает фарси. Юсра – марокканская арабка, учится в Белградском университете. Она беременна, и ребенок будет уже совсем настоящий серб, немного, конечно, чернявый, но тут и так у всех турецкая кровь.
– В Белграде люди разные, – говорит Юсра. – Таких, как я, не очень любят.
Третья, красавица Саман, тоже вышла замуж за серба. Она не переводчица, просто урду – ее родной язык, поэтому она работает с пакистанскими и афганскими беженцами.
– Видишь того мальчика? Он афганец, показал дорогу американскому военному, просто махнул рукой. За это его хотели взять талибы, семью пытали. А те ребята – хазарейцы. У них там есть террористы, которые у всех проверяют паспорта, и если ты из хазарейского города, стреляют на месте. А вот та женщина из Кветты. Показывала мне шрамы. Ее тоже пытали – она не знает почему.
– А что за болезни у них? Много раненых?
– Обычные болезни. Простуда, переломы, понос. Раненых нет. Они до Европы не доходят.
Медсестра Маньяк мучается с женщиной. Никто не знает ее языка и откуда она. А она не знает, как пользоваться градусником.
59 часов. Театр в Субботице
Дальше легче. От Белграда на север, в Субботицу, а там до венгерской границы всего 30 километров, можно добраться и автобусом, и такси. Что венгры закрыли границу, я узнаю уже в поезде – это обсуждают, матерясь, пассажиры. Тут любят беженцев, лишь покуда они проездом.
В Субботице нет волонтеров. Только маленькая женщина с отлично поставленным голосом. Актриса местного детского театра.
– Ебене ти матер у пичку! Чертовы глобалисты! Мы с вами будем говорить по-русски или не будем вовсе.
– Как вы им помогаете?
– Объясняю, что сколько на самом деле стоит, рассказываю, как куда добраться, читаю им новости из интернета. Почему? Потому что помню войну. Помню, как НАТО бомбило наши рынки и больницы. И я ненавижу, когда людям врут. А беженцам все врут. Все на них зарабатывают.
– Ну вот в Прешево албанцы устроили отличный лагерь.
– В Прешево хорошо. Албанцам. Но не сербам. Не сербам.
60 часов. Венгерская граница
Мой таксист – редкий русофил:
– Я Обаму ненавижу. С тебя до границы 30 евро, брат. А Россию люблю. 45 евро – и мы в расчете. Путин, Путин. Медвед! Приехали. 50 евро.
И высадил в чистом поле, как обычно и поступают с беженцами.
На северо-восток – железная дорога. Заросшая крапивой колея. По ней возвращаются люди. Путь перекрыт: солдаты, броневик. Повсюду мусор и венгерские листовки: мол, мы народ гостеприимный, но нелегалов сажаем.
Другая дорога – асфальтовая, упирается в погранпост. Не пропускают вовсе никого. Там тоже солдаты. И беженцы. Молодой араб раздобыл тележку и уселся прямо в нее, демонстративно качая ногой. Большинство семейные. Кто молод и без обузы – пошел искать обходные пути. Еще тут несколько журналистов и бодрый старик на минивэне.
– Я ради дочки. Делаю для нее историческое фото. В учебниках еще прочтем об этом венгерском позоре. Я ведь и сам сербский венгр. Тут Венгрия была. До войны. До той еще, позапрошлой. Страшно стыдно.
Он щелкает ребенка на фоне колючей проволоки.
– Беженцы… Знаешь, вся Сербия хочет бежать. Тут нет работы. Югославская промышленность разрушена. Яблоки теперь растим для вас, русских. И умоляем Италию, чтоб делала у нас машины, чтоб наши люди за 200 евро стали роботами на конвейере. У меня-то, к счастью, бизнес. Я рублю тростник и делаю из него крыши. Легкие деньги! Новый год встретил в Бразилии. Знаешь, что тебе скажу? В Бразилии сейчас, наверно, очень хорошо.
63 часа. Черная Таня
В Субботице, налево от вокзала, беженцы заряжают мобильники. За бильярдным столом два пакистанца и сириец гоняют шары. Привычные ответы: иду месяц, потратил 5 тысяч, хочу работать, друг в Голландии, кузен в Германии… И вдруг – злоба:
– Хочешь понять меня? Ты, Европа? Почему ты тогда здесь? Ты приезжай в Кашмир. Там индийские солдаты убили мою семью. Приезжай! Побудь мной!
Его успокаивают. Произносят правильные слова: в Германии мы хотим много и честно работать…
Ясно, что болтовня. Бегут ведь не куда – бегут откуда.
Сажусь, устыженный, за барную стойку. И тут – совпадение, чудо, подарок судьбы.
– А вы…
– Таня, бармен.
– Но вы…
– Из Африки, как видите. Из ЮАР. Отец – серб, работал там инженером. Ну и вот. В Субботице 27 национальностей. Я отлично вписалась, хоть и черная. А вы?
– Женя, писатель. Из России. Шел с беженцами. Три дня, 500 километров. Мой эксперимент закончен, их жизнь продолжается. Можно мне кофе?
– Зачем это все?
– Понять их. Повторить их путь. Потом – репортаж. Про них, и про вас, и про нас. В конце намекну, что нет никакой разницы. Что все мы друг у друга в гостях. И так далее. Всякий такой гуманизм.
– Не надо намеков. Лучше сказать прямо. А то люди непонятливые. Я много лет в Европе и хорошо помню последнюю войну. Все тогда были очень непонятливые. А вот и кофе.
68 часов. Быть беженцем
В конце пути я был довольно грязен и основательно оброс. На белградском вокзале – там, где тысячи спят на земле и в палатках, – маленький мальчик сказал по-сербски:
– Иди домой, беженец.
Мама дала ему подзатыльник, но я почесал бороду и действительно пошел прочь. В кармане лежал мой счастливый билет – красный паспорт страны, в которой пока не воюют. Но я все равно по привычке считал часы – сколько там еще в запасе.
Быть цыганом
«А правда, у Путина дочь умерла?»
Чужому в таборе закон простой: не надевай шорты, не поминай черта, уважай старших и пей чай, если предложат.
Табор – четыре гектара на севере Тулы. Хаос тропинок, дома сплошняком. Хочешь пройти – улыбнись детям. Или плутай.
– А видел, дядя, как наши с Францией сыграли?
«Наши» – это румыны. Цыгане-котляры верят телевизору и чувствуют что положено: любовь к России, к Украине – трепет. Но болеют – за историческую родину.
Идем сквозь табор. Дети дергают за рукав.
– А правда, у Путина дочь умерла? А камера дорого стоит? А Янчи вчера на Чернявке женился! Из самой Москвы музыканты приезжали!
Сегодня всюду тишина. Отдыхают после вчерашнего. В таборе каждый вечер свадьба: надо успеть привести жену в дом, пока не снесли. Это обычай. Жить у жены, «примаком» – позор.
Дети учат меня языку: помесь хинди с румынским. Кошка – мыца, котенок – мыцуца, собака – жюкол, щенок – жюколицы. Видишь цыгана – скажи «тявес бахтало». Дословно – счастья тебе.
Не будет счастья. Табор обречен. Сто двадцать домов из двухсот снесут до первых холодов.
«Построю дом в два раза больше, чтобы все сдохли»
Кулаки у цыгана сжаты. Лицо у цыгана каменное. Он смотрит, как ломают его дом. Дом был хороший, двухэтажный. Его строили двадцать лет.
– Ты дом снимай. А меня снимать не надо. Мои фото теперь по всему миру. Это же я кошку убил. Суд теперь будет. Из-за кошки. А что дети остались на улице – это им не страшно. Но ничего. Бог на свете есть. Чтоб их всех парализовало.
Он тот самый уже знаменитый цыган, что кинул котенка в стену – от отчаяния, как кинул бы камень. Сейчас он обманчиво спокоен.
– А правда, у Путина дочь умерла? Нет? Жаль. Пусть страдает, как моя семья страдает. Пусть его дети останутся на улице. И дети всех, кто нашему несчастью рад. Бог все видит! Бог всех накажет, чтоб они подавились. У меня дом был триста пятьдесят квадратов. Я построю в два раза больше. Чтоб все сдохли. И напишу: это Путину назло.
Цыган замолкает и снова настороже. Но из ближнего дома (снесут через месяц) выбегают его дети. Они еще не знают, что всякий журналист – враг.
– Дед, наладь интернет!
Я копаюсь в их телефоне.
– Дед, дай фотоаппарат!
Я даю поиграться. Цыган тает и зовет в дом. На блюдце стакан, в стакане чай, в чае долька яблока. Цыгана зовут Роман. Он теперь живет у брата. Он младше меня, но детей у него десять.
– Старшего женить пора, ему уже двенадцать скоро, но куда он жену приведет? Дома-то нет. Знаешь, как у нас принято? Вот у соседа красивая дочка, ухоженная, чистоплотная. Мне понравилась, моей супруге, моим родителям. И отец говорит: давай мы, старики, сходим, посмотрим, чаю попьем. Не надо водки, пива. Чай у нас главный напиток. Поставил человеку стакан – значит, свой человек.
Цыганенок наливает еще и тащит вазу с толчеными тульскими пряниками.
– Попили мы чаю и говорим: хорошая твоя дочка, сколько лет живем в одном поселке, не заметили, чтоб гуляла. Давай свататься, семью создавать. Купим на рынке тыщ на двадцать спиртных напитков, мяса, колбасы, всего такого. Потом поторгуемся о выкупе. Обычно 20 тысяч деньгами просят и три-четыре дуката. Они по 20 тысяч каждый.
Дукаты – золотые монеты австрийской чеканки – перекочевали вместе с котлярами из Румынии. Сейчас оседают потихоньку в ломбардах, и выкуп можно платить и обычным золотом.
– Сначала помолвка – как говорится, закрываем дорогу. Чтоб никто больше к тому дому не подошел. А когда сыну будет тринадцать, сыграем свадьбу. Нет такого, чтоб пойти в загс, клятвы давать. У нас – взаимопонимание. Хочешь – живи, хочешь – уходи. А если я жену бью, то я виноват, и суд баронов решает, сколько я должен ее родителям, что ей попользовался…
Жена его нежно смеется. Она не садится за стол с мужчинами: нельзя. Пока муж говорит, она меняет ему носки и выковыривает грязь у него между пальцев.
– За нее вот я отдал 50 тысяч. Обещала, по гроб жизни со мной будет.
«Мне не страшно, я просто спился»
У цыгана Гуси дома больше нет. Снесли утром 15 июня. Когда я в нем был, обдирали со стен последнее. Вещи – к брату.
Тут многие друг другу дальняя родня. Табор – семья, метафорически. Но есть расслоение. Верхний табор побогаче. Нижний, под горой, – победней. В верхнем таборе – барон Ено. Там в кустах припрятаны иномарки, там уважают власть и Путина лично, там на него надеются. В нижнем таборе – барон Боря. Там уже нет надежды и настроения революционные. Оба барона – члены «Единой России», но пользы от этого никакой. Чем дальше, тем сильнее изоляция цыган.
В табор перестала ездить «Скорая». В табор не носят письма. Был смелый почтальон, да уволили, и теперь на местной почте специальный ящик: «для цыган». В таборе из трех тысяч цыган – 120 инвалидов, но им не носят пенсию на дом, хотя должны.
Зато полиция заходит часто, ищет наркотики. Зря: именно котляры ничем таким не торгуют. Они простоваты, по-русски говорят плохо, всего боятся, а пуще всего – власти. Кажется, все их проблемы с законом – от глубокого невежества.
– К нам тут приезжали люди, торговали у табора. Их наши ребята поймали. Западло было сдавать полиции, поэтому просто покалечили немного. И сказали: здесь цыгане, поняли? Чтобы ноги вашей тут не было.
Чем дальше от цыган, тем хуже к ним относятся. В Москве ненавидят. В Туле боятся. А соседи по Плеханово – мирные, пьющие люди – их почти любят.
– Достали они меня!
– Цыгане?
– Да голуби. Ходят тут. Голубям я башку оторву. Когда наверху – это еще туда-сюда. Но по земле… Нельзя голубям ходить по земле. Да, я выпивший. Мне бы только документы, чтоб обратно в Крым, в Красногвардейский район. Там солнышко. А тут я живу уже 21 год. Как развелся со своей… Извини, я матом не буду говорить, потому что не люблю. Потому что сидел. А цыгане нормальные. Те, которые мои знакомые. Извини, я выпил немного… Борода вот у меня, как у османа… Телефон пропил. А хотел сеструхе позвонить… А знаешь, мне не страшно. Я просто спился. Счастливо тебе. Смотри там, не нарывайся. Ты бы помог мне. Я у тебя ничего не прошу. Но денег бы дал.
Я даю. И он идет в табор: к знакомой, за водкой.
«Я люблю Россию»
Передо мной барон Боря, сын Ристы, сына Ристы. По паспорту Валерий Мунтян. Старейшина нижнего табора. У него от 20 до 26 внуков – он не помнит точно – и примерно 11 правнуков.
– В мае пришел ОМОН. Меня – к стенке. Ребенок выбежал – и его к стенке. Четыре часа так стояли. Оказалось, дом перепутали: не ко мне пришли, а к брату Гусе. А у него три инфаркта. Взяли они коробку, где он лекарства держит, высыпали лекарства, подложили туда автомат. К соседу тоже зашли, кинули ему два пистолета. Потом по всем каналам показали. А дела уголовного не завели: сказали – распишись, что пистолеты не твои. Это все ради телевизора.
У Бори спокойно. Цыганята играют в буру. Рустаму тоже хочется с ними, но нельзя, взрослый уже, ему двенадцать. Невеста у него красивая, из верхнего табора, и зовут красиво: Девочка Михай.
– Нам нравится. А ему не понравится – по ушам получит. Да ты не волнуйся, у нас младше тринадцати не женят. Вот в Тюмени выдали девку замуж, ей десять было – да их нужно к стенке поставить без суда и следствия!
Цыганенок смеется и делает пальцем пыщ-пыщ.
– Мы сюда приехали в 1962 году из Саратова, как указ Ворошилова вышел о запрете бродяжничества. Мне четыре года было. Райисполком дал нам землю – берите, живите – и мы размножились. У дедушки моего десять детей, у отца моего десять детей, и сами мы уже дедушки. Сперва жили в хибарах, потом отстроились. Сейчас, где жил отец, живет мой младший брат. Его дом тоже снесут.
Во всем виноват (уверены цыгане) Валерий Федоров, глава администрации Ленинского района. Предыдущий глава, Михаил Иванцов, помог оформить цыганам сто домов. Федоров сказал, что тоже поможет, собрал за две недели с табора документы и отнес их, но не в БТИ, а в суд. Там дали 10 дней на обжалование… но цыгане не получают почту. И теперь каждую неделю сносят по десять домов, а к осени от табора останется половина. На том же месте цыганам дадут землю, чтобы строили новые дома, уже по закону.
– Но что нам с того? Хибара пять на четыре сейчас стоит тысяч триста. А нормальной семье, человек в десять, нормальный дом нужен.
У барона нормальный дом. Ковры. Хрусталь. Искусственные фрукты. Что-то аляповатое из библейской жизни – «иконой» зовут. Благополучие. Но потом он показывает квитанции.
– Мне за 4 месяца за воду насчитали 250 тысяч. Она золотая, моя вода? А за свет – миллион сто. Это Горэлектросеть долги на нас списывает. А газ? Говорят, все началось с четырех незаконных врезок. Хорошо, покажи мне эти врезки. Вот стакан чаю – я его украл. Покажи мне стакан, который я украл! Мы с 2008 года, как нам газ отключили, не воруем его, а сидим кто на баллонах, кто на печках. Я свою печку лично сделал, что я, не цыган, что ли? Когда 16 марта у газовиков была утечка, они приехали с бульдозерами ее искать. А женщинам нашим кто-то сказал, что это наши дома сносить будут. Они и начали бунтовать. Они не знали про газ. И теперь нас действительно будут сносить…
– Я люблю Россию! – кричит картавый цыганенок, то ли младший сын, то ли старший внук барона. На запястье у него ленточка, триколор.
Людям из уничтоженных домов государство предложило социальную гостиницу: 500 рублей в сутки со взрослого и 300 с ребенка. В месяц с одной семьи – тысяч сто.
«Мы – рабочие люди»
Румынскому королю Михаю Первому – 94 года. Он давно на пенсии. Котлярам фамилии не важны, но надо было что-то написать в паспорте, и многие написали – Михай, чтобы как у короля.
Барону верхнего табора Ено Григорьевичу Михаю – 61 год. Предки его перекочевали из Бессарабии в Луганск, потом в Тулу. Барон – не титул. Это просто старый человек, на котором хорошо сидит костюм. Барон – главный по связям с внешним миром. Он говорит по-русски лучше русских и знает русские законы. А в таборе он старейшина, один из многих. У него тяжеленный золотой перстень, золотые зубы и белоснежные носки.
– Ты меня не снимай. Не хочу, чтобы видели мое лицо. Я не справился. Не защитил табор. Я виноват перед людьми.
В прихожей у барона сложены телевизоры. Кто остался без дома, хранит у него добро. В гостиной – это богатый дом – плазменная панель. Внуки смотрят «Ну, погоди!» и сочувствуют волку.
– Для нас дверей нету. Мы в стену стучим. Потому что цыгане. Может, новая власть не знает, кто мы? Не знает, что мы рабочие люди? Мы же тысячу лет лудильщики. Мы с 1965 года в бытовом обслуживании, по хлебозаводам да молокозаводам. Лудили котлы, чтобы ржавчина в хлеб не попала. Лудили даже жировые котлы по 10 тонн, наши люди гибли в этих котлах. Потом все перешли на нержавейку, и кончилось лужение. Мы пошли в совхозы, кормушки стали делать для свиноматок, изгороди. В конце восьмидесятых создали кооператив, такие деньги зашибали! Все эти дома – они с тех денег встали. Половина Тулы у нас работала! Тогда мы и начали расширяться. Но ничего не узаконивали. Советский Союз еще был. Дом построил – живи…
Барон Ено похож не на вождя древнего племени, а на профсоюзного вожака. Он защищает цыганский пролетариат так, что багровеет лицо. Он, задыхаясь – скакнуло давление, – рассказывает все обиды последних пяти лет.
– Мы – рабочие люди. А нам в отделах кадров везде отказ: цыгане! Нас даже на завод по обработке рыбы не взяли, где холодные цеха и надо по колено в воде. Мы на бирже труда годами стоим. Устроили цыганок санитарками в районную больницу – так больные возражают. Теперь цыгане строят русским дачи, а цыганки в совхозе морковку убирают. Но это сезонная работа… Ты чаю-то выпей.
Он вспоминает чиновницу, что в частном разговоре с ним обещала полтысячи цыганят сдать в детдом, и снова впадает ярость.
– Кто-то газ воровал? Дома не оформил? Хорошо, оштрафуйте нас, но спасите наше жилье! Губернатор сказал, что не хочет Шанхая. Да будет только хуже, потому что вместо кирпичных домов вырастут хибары. Вам приказали ломать наши дома? Это правильно? Это закон? А нам куда деваться? А детям? К родственникам? А спать им где? Как солдатам, на полу? Давайте, ломайте все подряд. Я вам пятнадцать человек в «Единую Россию» загнал. Я вам всегда голосовал, как положено. Приводил народу сколько нужно. А вы делаете из нас изгоев, как в фильме «Девятый район». Я когда в город выхожу, полиция паспорт просит!
Внучата хохочут: волк в мультике погребен под лавиной. От крика барона трясется дом.
– А у меня в паспорте не «цыган» написано. У меня написано – Российская Федерация!
«Девочки и под корытом вырастут»
– Бабушка моя из русских цыган и попала в семью обманом. Ее бы за Иштвана никогда не отдали: он кочевал. Но соврал, что дом в Ярославле. Пока ехали в этот дом, один ребенок родился, второй, третий… А она ему исподволь внушала, что нужно осесть. У цыган полный домострой, все решает мужчина, но это внешнее. На самом деле в семье очень слушают невестку, особенно когда та рожает первого сына.
Надежда Деметер – почти такая же котлярка, как цыгане из Плеханово. Но живет не в таборе, а на Таганке. Она доктор наук. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган.
– Дедушка мой сам лудил, и дети лудили: папа ему меха раздувал. Но дедушка был дальновидный, в НЭП у него магазины были, и он знал, что сыновьям надо дать образование. А девочки и под корытом вырастут… Старший, Петр, стал композитором, вся страна его песни поет. Средний, Роман, собирал фольклор. Младший, Георгий, стал педагогом. Это мой отец. Потом дедушку осудили как валютного махинатора: у бабушки было много монист. Из тюрьмы он бежал, поэтому оказался еще и шпионом польского короля. Сел надолго, зато когда вернулся, жил до 90 лет. Он – вырвался. И другие цыгане, что живут дисперсно, а не табором, – вырвались. Главный инженер Звездного городка – цыган. Консерваторию долгое время возглавлял цыган. Московской больницей № 67 заведовал цыган. Все меняется, и меняются котляры. Но по-прежнему для цыган самое важное – семья и сегодняшний день. Когда семья в порядке, тогда и человек счастливый.
Надежда Деметер не верит в абсолютную невиновность тульских цыган. Но она верит в абсолютную справедливость.
– Это ж надо было довести людей – зимой оставить без всего! Что, никто не знал раньше, что они на трубе сидят? Понятно же, что платили кому-то за этот газ, что кто-то им помогал. Почему отвечают одни цыгане? Почему лишь они виноваты? И теперь так по всей стране будет, теперь все таборы снесут. В Чудово, Калининграде, Иваново, Новосибирске. Куда они денутся? В лес? Их посадили на землю, сказали: стройтесь. А теперь – кочевать? В Туле на улицу выгонят полторы тысячи человек. Там цыганская школа была. Они уже начинали интеграцию. Зачем это было ломать? Как нам войти в общество, которое нас отвергает?
«Ты там только с Путиным поговори»
Про него говорят уважительно: «Миша – больше цыган, чем мы, цыгане».
– В этом обществе главное – взаимопомощь и прозрачность. Котляры закрыты, но не от чужаков, а от всякой гадости. Стать котляром ничего не стоит. Надо просто освоить диалект и уважать законы. Это вопрос культуры. Можно быть любого цвета.
Михаил Ослон, автор грамматики языка цыган-котляров, фанатичный любитель цыган и друг тульского табора, очень помог мне. Без его советов меня вряд ли пустили бы на порог. Я хочу сказать ему спасибо.
– Такие люди ни за что не уйдут от своих. Потому что кругом – помойка и несправедливость. А у них – безопасность, двери без замков, хорошее настроение. Это социально ориентированное общество с чем-то вроде круговой поруки, но без карательной системы. Прямая демократия в полевых условиях. Члены этого общества ощущают, что их организация по всем параметрам превосходит организацию окружающего общества.
– Да вы просто древних греков описываете!
– Цыгане лучше. Потому что у греков было рабство. И захватнические войны. А у котляров смысл жизни – счастливое детство. Ассимиляция цыган в наших условиях это прямой путь в пучину алкоголизма. У них спиртного много, на праздничном столе сотни бутылок, но пьяным быть нельзя. А вокруг – валяются поселковые тела по лужам. Куда тут ассимилироваться?
Свадьба гуляет второй день. Дым коромыслом, но все крепко стоят на ногах. Буянит лишь московский цыган, в голубом пиджаке и с айфоном:
– Айда в сауну, найдем тебе цыганку посисястей!
Хохочет табор. Не знает табор, как поступить со мной. Все журналисты врут, пишут гадости про цыган, так выгнать меня пинками или налить ритуального чаю?
Мне страшно и весело. Я вспоминаю, как однажды меня избили цыгане. Но вспоминаю и Аркашу, приятеля-котляра, истопника на Валааме. Он обожал Пугачеву и показывал руками, что с ней сделает, когда они встретятся наконец. Он был настоящий друг. Я вспоминаю его и беру чью-то разбитую гитару. И я играю цыганам – цыганочку. Пляшет цыган в голубом. Я играю им старые, красноармейские песни. Табор не знает слов, но подпевает мычанием. И на последнем общем «ля» мне ставят стакан. Дальше – как со своим.
– Мы уже неделю на полу у брата. Мужу с женой где спать, чтоб новые цыгане были?
– Живем как собаки. Без газа, без света. Хорошо, родник есть!
– Дети спят отдельно, женщины отдельно, мы отдельно! Ничего не получается!
– Они Бога не знают! Они этому, Франку своему со ста долларов поклоняются!
Приходит жених: испуганный и хорошо одетый мальчик.
– Дай пять тыщ жениху! Это закон такой цыганский.
– Выпей вина с женихом. Хорошее, молдавское, сам давил туфлями лаковыми!
И в тысячный раз – вопрос:
– А правда, у Путина дочь умерла?
Старуха приносит свадебный плов. У нее ледяные синие глаза. Из удочеренных, но настоящая котлярка: волосы узлом, косынка, фартук, юбка в пол.
– Я губернатора Дюмина, путинского дружка, портрет снесла на кладбище. Все, конец ему! А Путин пусть сам сгорит, дочь его сгорит, и дом его сгорит, и внуки его будут ходить голые под дождем.
Волнуется табор. Кричит. Спорит, виноват ли Путин, что они теперь бездомные. Я бью по струнам и повторяю песни. Табор танцует. Это веселый народ.
На прощание мальчик дергает за рукав.
– Дядя, ты когда обратно? Ты там только с Путиным поговори. И к нам возвращайся.
Три дня Майдана
1.
Те, кто грезил, как я, о семнадцатом годе, еще успеют на революцию: по Крещатику бегом наверх и налево. Там играют Бетховена. Небритый мужик подбирает «Оду к радости» на огромном белом рояле, сам себе диск-жокей. В колонном зале спят вповалку. В гардеробе тоже спят, а в другом – нарезают колбасу для бутербродов. В углу – люди с намалеванными на груди крестами, сами себе санитары. Здесь готовят. Кормят. Лечат. Собирают деньги. Раздают пуховики.
Три дня назад это была мэрия. Но Майдан захватил это здание, и теперь здесь как в Смольном накануне Октября. Штаб революции. Живописный казак, сам себе народная дружина, сует в объектив кулачище:
– Провокатор? Не треба.
Но давайте по порядку.
2.
В Домодедово допрашивали. Хилый сержант таможенной службы позвал офицера, а тот – неизвестного без погон, но с розовым струпом в полщеки.
– Ты вообще знаешь, куда летишь?
Пробив по базе паспорт, нашли двойное «сопротивление сотрудникам» и стали тыкать.
– Ты врубаешься, какие там дела? По голове получить захотел? В беспорядках участвовать будешь?
Я напирал, что еду к друзьям (это правда) и что в революцию ни ногой (ложь). Неизвестный устал, перешел на «вы», вернул паспорт и вежливо предложил валить.
– А какие со мной проблемы-то?
– С вами (почесал щеку) никаких. Проблемы – с ней. С Украиной.
3.
Белое такси – под Колесниковым, желтое – под каким-то Русланчиком Жуком, пестрые машины – «Ассоциация таксистов», которая пока никому не отстегивает.
– Это Украина: тут все под кем-то!..
Все таксисты философы, а в Киеве каждый – Сократ. Тут любят и умеют рассуждать о политике, и хитро спорить, и обобщать, и издеваться. Как в России в девяностые. Но только без иллюзий. Никто не считает Януковича светочем стабильности, а Порошенко – гарантом демократии.
– Вот они все говорят: мы за Украину. А шо такое Украина? Я не знаю, шо такое Украина. Кто знает, шо такое Украина?
Зато всякий киевлянин знает, кто и как борется за власть, прикрываясь красивой риторикой за и против Европы. Взгляд на вещи трезвый. Спокойный скепсис и площадное буйство – вот секрет Майдана и его очарование.
4.
Пароль и отзыв. Слава Украине – героям слава. Слава нации – смерть врагам. Люди сидят у костра. Вертятся у полевой кухни. Собирают деньги на революцию. Просто шатаются. И везде гремит речовка. «Слава Украине!» – стайка модных студенток фотографируется у баррикад. «Героям слава!» – мямлит в ответ оборванец, дожевывая пирожок.
Вот слово: баррикады. Оно из учебников истории. А это просто мусор поперек дороги. Остатки новогодней елки, фанерные щиты, куски скамеек. А называется красиво: баррикада.
Шаг в сторону – ни баррикад, ни желто-синих флагов, ни угрюмых парней в спортивной одежде, ни вежливых зевак. Майдан – это четыре улицы и одна площадь. Но шума и жизни тут на сто столиц. Слава Украине – героям слава. Слава нации – смерть врагам.
Третья часть речовки звучит реже: Україна– понад усем. То есть uber alles. Очень энергичные, очень крепкие парни в темных куртках и шапочках, натянутых по свиные глазки, маршируют по улицам Киева. Они самые организованные. Их хорошо видно и слышно. За них немного стыдно.
И все же Майдан – не пивной путч и не погром. Эти крепкие парни оседлали протест, но они – не протест. Главные лозунги Майдана – не националистические. Они анархические. Банду – геть! Владу (власть) – геть! Или просто: ганьба! Многозначное слово. Как «позор!», только сильнее. Дело не в евроинтеграции. Тут власть позорят.
5.
– Выпьем! – двое сидят в кофейне, за окном льдистый полдень, и невидимые революционеры поют хором: – Выпьем, Коля, впервой тебе, что ли, залитым работать?
– Не, давай трезвыми. Но на Майдан.
– Давай.
И они идут. Бунт пьянит. Сто, двести, семьсот тысяч. Никто не узнает точно, сколько людей прошло Майдан. Полгорода ходит туда просто потусоваться. Съесть халявный пирожок. Подарить старое одеяло. Сдать денег. Жертвуют тысячи гривен, целые зарплаты. И Майдан продолжает жить.
6.
Я хотел найти типичного украинца и пройтись с ним по Киеву, как с Вергилием по чистилищу, но не вышло. Мой прямой репортаж с Майдана прочитал юный кореец Ким – администратор антикафе и спец по английским диалектам. Он предложил помощь. Ким лингвист, у него великолепный петербургский выговор, и теперь он мой переводчик.
Майдан – территория без русского. Таков лукавый ритуал. Активист «Свободы» гордо заявляет, что не пьет «Балтику» – москальское пиво – но украинские слова коверкает, как премьер-министр Азаров.
«Русские на х. й». Эта надпись появилась во вторник, когда толпа шаталась от Рады к Майдану, когда штурм кабинета министров казался реальностью. Ее то заклеивали скотчем, то вновь обнажали. Русских здесь, в общем, любят. Но – время такое. Положено посылать.
Безобидное лукавство – если сравнивать с тупым враньем Партии регионов. Я сходил и на их митинг: восемьсот человек стояли в загоне, как козы, и кивали в такт песенкам группы «Любэ». Ганьба!
7.
– Провокатор? – испуганный шепот снизу. Толстая баба лежит на полу, укрывшись шмотьем и газетами.
– Писатель.
– Ну-ну.
Дом профсоюзов. Унылое учреждение захвачено и переоборудовано под нужды революции. По советским коридорам ходят патрули. Стоит запах вчерашних бутербродов. На первом этаже – столовая, туалет и кабинет психолога. Выше – гостиница: на Майдане тысячи приезжих. По этажам селятся общинами, земляки к землякам. Львовские выше всех. Мест нет.
– Ну лежат они на полу, и пусть лежат, сейчас обедать будут, не надо их фотографировать, – нудит по-украински печальный мужчина, я не понимаю длинной фразы, и Ким переводит. У мужчины нет кистей рук.
8.
Ющенко – дурак, Янукович – бандит, а Тимошенчиха всех переможет. Четыре года назад эту формулу вывел один знакомый дальнобойщик. На Майдане не хватает Тимошенко – ее харизмы, ее расчетливого безумия. Арсений Яценюк, новый лидер «Батьковщины», – не в почете. Его обидно кличут Яйценюком и дрищом. На площади хозяйничают хлопцы из «Свободы» и их ультраправый лидер Олег Тягнибок, похожий на мрачного и злого Медведева. Его, впрочем, тоже не особо слушают.
Проплаченный протест… Чего не могут понять критики Майдана: власть можно ненавидеть бесплатно.
Один испек пирожки и поделился. Другой притащил из дома буржуйку – да, они еще существуют. Третий сделал из картона ящик для денег. И вот – Майдан. Может, его и начали правые политики, но теперь он существует сам по себе.
У Майдана три источника, и это не Тягнибок, Кличко и Яценюк. Это: сытная еда, теплая одежда и чай с лимоном. Пока чай не иссякнет, люди будут стоять.
9.
Я живу у художницы Оксаны и ее дочки Мелании, самого счастливого ребенка на земле. Еще в доме живет страшный кролик Бобик, который за всю жизнь не издал ни звука. Он прыгает, высоко поднимая зад, и сверкает во тьме голубыми глазами.
Оксана тоже ходила на Майдан. Отдала митингующим старое пальто. Мы разговорились, и Оксана опоздала на встречу, минут на десять – именно в эти минуты на Крещатике избили ее друзей, профсоюзных активистов. Кто-то (то ли националисты, то ли титушки, провокаторы Януковича) решил, что левым тут не место.
– Оксана! Можно я напишу о чуде самоорганизации? О взаимовыручке? О том, как люди поют на улицах? О синем киевском небе? О стройных женщинах Киева и тихих его холмах, ну и так далее? А всю эту дрянь, всех этих коричневых радикалов вынесу за скобки.
– Пиши что хочешь, – говорит Оксана, – Но ты понимаешь, как мы живем? Мы живем между двумя кошмарами.
– Слава Украине! – ревут за окном.
– Героям слава, – отвечаю я автоматически, потому что опаздываю на самолет и очень, очень спешу.
Новогодний Майдан
Гопники в желто-голубых обмотках фотографируются со Снегурочкой, потасканной и циничной. Старуха сидит у костра, мусолит толстый окурок и мычит под нос из Бетховена. Кругом спят, едят, разговаривают. Таков Майдан накануне Нового года. Это место – наркотик. В начале декабря я по заданию редакции провел тут три дня – и вернулся через месяц, по своей воле.
Северная баррикада встречает сурово: «Горячая еда лишь для жителей Евромайдана. Для гостей у нас чай и кофе». На западной продают патриотические шарфики и магниты по 10 гривен. Торговаться можно и нужно. На восточной поют хором. На южной играют в футбол.
Баррикады стали выше, ощетинились колючкой, приросли загадочными фортификациями, но пуля их пробьет, и броневик разметает на раз. Стрелять не станут: весь мир смотрит. В этом чудо Майдана: под двойным присмотром Москвы и Брюсселя, на грани разгона и в полушаге от победы он может простоять вечно.
На площади и двух соседних улицах возникла причудливая жизнь. Ее зачала правая оппозиция, но теперь Майдан живет сам по себе. Тут своя культура: открылась альтернативная сцена, где показывают документальные фильмы и отвратительно поют Depeche Mode. Своя социалка: здесь делятся едой, жильем, одеждой – теперь уже не со всяким. Свой бизнес: купить можно все, кроме алкоголя. С этим строго: дружинники вынесли пьяную в хлам бизнесвумен в лисьей шубке. Осталась размазывать слезы за колючей проволокой.
Майдан – город в городе, тут даже появились свои мигранты. Передо мной – один из нескольких тысяч постоянных «жителей Евромайдана». Ему, стало быть, полагается горячая еда, но он сам ее делает. За 19 гривен я получаю шаверму и историю.
– Вы не знаете, когда закончится Олимпиада?
Он странный: кладет в шаверму морковку. Его зовут Саид, и по образованию он гидролог.
– Хрен ее, Олимпиаду, знает, – говорю. А он морщится: не нравится слово «хрен».
– Я тоже из культурной столицы, – говорит Саид. – Ходжент – слышали про такой город? Две с половиной тысячи лет. Скажу как культурный человек культурному человеку: у меня были с Россией некоторые дела. А теперь их не осталось.
Саид – жертва олимпийских чисток. Ездил в Таджикистан к семье, обратно не пустили: накануне Олимпиады трудовых мигрантов заворачивают на границе. И теперь Саид завис на полпути между Ходжентом и Москвой – на Майдане. Режет овощи, жарит курицу и ждет, когда у российских ментов закончится истерика.
Люди держатся ближе к еде и теплу. У парадного входа Октябрьского дворца свалена куча капусты. Она не соперничает высотой с новогодней елкой – официальным символом Майдана. Но капуста поважней елки: пойдет в суп, и сытый, согретый Майдан простоит еще немного.
Забравшись на кочан потверже, я заглядывал в окна дворца. Люди в шапочках и ватно-марлевых повязках совершали быстрые и точные движения. «Врачи, – думал я. – Спасают раненых бойцов Майдана. Героям слава!» Махнул пресс-картой, поднялся – колбасу режут. А повязки – для гигиены. За месяц на Майдане лишь несколько случаев пищевого отравления. И в этой спокойной, размеренной, эффективной работе куда больше революционной романтики, чем в том, что кричат со сцены.
Здесь, во дворце, трудится моя знакомая Таня. С 8 до 17 она корректор в газете «Мой район», а с 18 до 24 – волонтер. Она маленькая блондинка, и на нее специально ходят посмотреть: правда из Питера, что ли? Таня улыбается и предлагает еще бесплатного чаю. За три недели она вросла в Майдан, в нее уже влюбился настоящий бандеровец – могучий, но обидчивый, как девчонка.
Таня не рассчитала с погодой и теперь ходит в красном свитере с оленем – одном из тех, что раздают на площади. Она гражданин другого государства и ночует на другом берегу Днепра, но она – настоящий житель Евромайдана.
«Слава Иисусу Христу!» – внезапно кричит оратор. «Героям слава!» – отвечает площадь. Риторика стала мягче, про нацию и «смерть врагам» вспоминают реже. На очередное народное вече позвали раввина – он высказался в том смысле, что все люди братья, кроме Януковича. Ему похлопали.
Киев сказочен. Южный модерн с развратными бабами на барельефах. Сталинский неоклассицизм – веселей и пряничней московского. Брускетта в одной из тысяч кофеен. Брусчатка в одном из тысяч переулков. Брандмауэры, расписанные стихами. И обязательно где-то припаркован вырвиглазно-розовый «Феррари».
Но это – полправды. Чтобы узнать ее всю, надо проехать Киев насквозь – из гетто в гетто. «Наступна станция – Выдубичи», – скажет механический голос, и настанет полночь. Люди будут одеты в черное, дешевое, спортивное. Все будут пьяны или несчастны. Вагон от пола до потолка покроется неопрятными объявлениями. «Требуются танцовщицы без опыта работы» (проститутки, конечно). «Швыдко потребны гроши?» (микрокредиты под рабские проценты). И так далее.
Да, гроши потребны. Киев – грустный и нищий город с праздничной Европой в сердце. Таков контекст Майдана.
Ему, Майдану, не нужны публицисты. И не нужны политологи. И не нужны рассказы, сколько и кому дал денег шоколадный олигарх Порошенко и как будут звать технического премьера, когда Азарова сдадут. Ему, Майдану, нужны поэты и философы. Нужно оглохнуть от его шума, пропахнуть его костром, запутаться в его противоречиях. Это нужно успеть обязательно, потому что ничего интересней в нашей части планеты еще долго не случится.
На обочине Сочи. Часть 1: за забором
Между морем и горами – колония инопланетян: сияют кубы, шары и пирамиды. В тени циклопических дворцов и развязок живут люди, которым ничего не перепало от инопланетных щедрот. В двух километрах от олимпийского стадиона «Фишт» я закусываю водку вареными воробьями и слушаю этих людей.
В 29 тетя Ксана заработала первый инсульт, в 30 стала бабушкой, в 60 – ждет, когда кончится Олимпиада, чтобы снова начать подметать.
Жизнь на треснувшем экране мобильника: вот я, вот муж, а вот меня машина сбила, я номер-то засняла, но разбираться не стану, привыкла, только палец перестал сгибаться, но это ж палец.
Я тоже сделал фото: тетя Ксана, внук Петя, правнучка Таточка.
– Какие ты сладости любишь, Таточка?
– Мясо! – хищно скалится первоклашка Тата Брегвадзе. Воробьиное сердце крохотное, с полмизинца. Тетя Ксана подкладывает ей два, Тата восторженно подпрыгивает и садится на шпагат.
– Фигуристка будет! Липницкая! До войны мы жили в шахтерском поселке, отец научил их ловить. Воробьев-то. Ставишь корыто, золу сыплешь на подоконник, они клевать, а ты их тюлем хвать и топишь в корыте.
Таточку все любят. Петя принес бутылку «Русского эксклюзива» и куклу. Костя (второй внук) – бутылку «Мягкого сюрприза» и еще куклу. Лена (соседка) – бутылку без этикетки и шоколадку. К полудню все хороши, а объевшаяся птичьих потрохов Таточка – счастлива.
Первая рюмка – за гостя, вторая – просто так, третья – за соседа Васю, который вчера повесился. Я смотрю в их спокойные лица, сожженные субтропическим солнцем, и мне других не надо. Я не видел людей приятней.
Здесь не то что домов знакомых – не осталось знакомых улиц. Как в компьютерной игре, громадный экскаватор расчистил Имеретинскую низменность, а космический художник расчертил ее заново проспектами Акаций, Лилий и Камелий. Из прежних ориентиров – горы слева и море справа.
Шел и думал, что этого места тоже уже нет. Но в зарослях пустующей элитной недвижимости, в конце набережной, пахнущей свежим бетоном, я нашел все тот же мир, скрытый для приличия двухметровым забором: вагончик, курятник, старый инжир. На цепи безобидный, но брехливый полукровка Мухтар ростом с теленка. Был еще лабрадор, но соседка отравила, а ее за это Бог покарал (тихо, без злорадства объясняет Ксана) – отнял сына. Но за Васю мы уже выпили.
Внутри вагончика буржуйка, кровать, пара икон и Донцова – не для чтения, а для красоты. По радио научно-популярная передача про конец света. Тетя Ксана внимательно слушает:
– Мне было десять, когда первый конец света объявили. Метеорит или что-то там. Потом их много было, концов этих. Когда война началась, я тоже думала, что конец. Потом эти, как их, майя. А теперь вот Олимпиада.
«Война», «до войны», «после войны» – главное событие жизни, точка отсчета, грузино-абхазский конфликт 1992 года. Тетя Ксана с мужем – беженцы, двадцать лет живут на границе России и Абхазии, в пятидесяти метрах от моря. «После Олимпиады» (новая точка отсчета) море стало шутковать. В январе затопило вагончик, жили по колено в воде.
– Да потому что не волнорез построили, а трамплин! Вода по нему – фьють! – объясняет внук Петя. – Тут везде вода и говно, говно и вода. Видел поселок этот, домишки красивые? Нагнали рабочих, а денег не дали. Нате вам, говорят, по пятерке и по билету домой. А теперь в подвалах вода. И говно. Хоть в хилтоне, хоть в х…лтоне: везде вода.
Закусываем: пеламуши – виноградный кисель с манкой. Открываем очередную бутылку.
Олимпиада дала работу и отняла ее. Раньше уборщица получала четыре тысячи рублей. Перед Олимпиадой надо было срочно все вылизать и выщипать, и тете Ксане дали целую десятку. Но с января по апрель нагнали чужаков аж по тридцать тысяч в месяц, и тетю Ксану попросили вон. Васю, который повесился, тоже.
– А еще елки! – негодует внук. – Третий раз эти елки сажают. И третий раз их морем смывает.
– Ага. И вода кругом. Кругом вода и говно, – подтверждает меланхоличный Петя.
– Тише вы! Бежан в больнице, так решили, можно материться вместо него?
Дедушка Бежан – муж тети Ксаны. У него жуткий характер: обижается, ревнует, сквернословит и запивает чачу газировкой.
– У него все бабы Ксанами были, как я. Чтоб не путаться. Он по ночам разговаривает: «Ксана, Ксана». Кобель.
Это не привычка, это почти шекспировская любовь: можно было бросить, отличный представился случай, но она не бросила.
– Абхазцы хотели сжечь Бежана в его доме. Но мы ушли в горы, я за ним. Я взяла воду, одеяло и консервы. Аджапсандал. Как это по-русски? Синенькие. Две банки синеньких. Я пережила войну и третий инсульт – видишь, рот у меня смешно дергается? Что мне Олимпиада.
Мы пьем с девяти утра до четырех вечера, люди приходят и уходят, кто-то решает отпустить Мухтара, и Тата бежит за ним. Маленькая девочка выделывает на песке тройные тулупы, а большая старая собака лениво облаивает море. В двух километрах отсюда наши продули финнам.
На обочине Сочи. Часть 2: в клетке
Это история про рюкзак мандаринов, кавказскую дружбу и полицейский беспредел. Про Абхазию и Россию. Про Новый Афон и Сочи. Про Олимпиаду, которая провела новые границы и забетонировала старые. И про то, как меня записали в террористы. История начинается в тени цветущего мимозового дерева, в непризнанной Республике Абхазия.
Москвичи уверены, что мимоза самозарождается в метро накануне 8 марта. У сочинцев на желтые цветочки аллергия – вонючая дрянь, годная только отдыхающим на продажу. А в Абхазии мимоза – дерево с трехэтажный дом.
Олимпиада пролилась над Большим Сочи золотым дождем. Но километром южнее, где так высоки мимозы, за пограничным постом Псоу все осталось прежним. Античные руины советских санаториев и нищие люди, живущие на две страны.
Кавказская дружба – навсегда. Помню Григория, старика армянина, который делал сногсшибательное черное вино и хвастался яйцами своего кота – самыми большими в Абхазии. Мы не виделись три года. Я приехал в Новый Афон наугад, постучался, – он вышел, прищурился, узнал, обнял и налил.
– Знал, что увидимся, – сказал Григорий. – Я тебе расскажу про мандарин. Видишь – оранжевый? А в прошлом году был коричневый. Так и запиши: коричневый! В Сочи миллион экскаваторов-мэкскаваторов работал. А куда вся пыль, вся мыль? Все сюда. Роза ветров сюда, понял? Абхазия была самое зеленое место в мире. А теперь все отравлено.
Он жаловался по-стариковски, на все подряд. Что Сочи город для богатых, построенный на песке, и жить там стало невозможно. Что его сыновей обманули подрядчики «Олимпстроя»: заказали четыре «КАМаза» кирпичей, заплатили за один. Глупый рыжий кот тыкался лбом в колено, ветка мимозы билась в стекло, в Красной Поляне кто-то ставил рекорды. Больше всего Григорий жалел, что не может повидаться с семьей и с внуком, который родился под Новый год: за границу перестали пускать на машине, а пешком тяжело, инфаркт, изрезано сердце.
– Вино мое помнишь? Вы у себя во франции-мранции совсем дрянь пьете. А это настоящее, молодое. Когда мама умерла, я выпил два литра, упал на дорогу, и думали, не встану. А я встал.
А потом, по дороге обратно из кавказской сказки в жизнь, меня задержали на границе – с рюкзаком мандаринов и литром черного вина в бутылке из-под пива «Три медведя».
– Нас тут больше, чем болельщиков. Все в штатском. Еще убедишься, – сказал накануне пожилой мент-иркутянин, замаскированный под любителя канатных дорог. Его работа была ездить туда-сюда с отметки 450 до отметки 1350.
И я убедился.
На границе ничего объяснять не стали – отвели в сторонку и поставили рядом солдатика со старой сукой. «Возьми его, Дана, цапни его, хорошая!» – шутил солдатик, а Дана играла и ластилась, потому что лабрадоры добры. Наедине с охраной люди часто вспомнают, где нагрешили. Неужели взяли за статьи? За пьесу о Троцком? За песни? За марши? За пятый пункт? За рюкзак мандаринов? Не контрабанда ли это?
Я подкормил солдатика контрабандой – он взял сразу кило.
«Сочи – город, свободный от курения» (тут повсюду эти таблички), поэтому в стерильно-чистом отделении полиции был страшно уделан туалет – сотни окурков торчали из дымящейся кучи кала. Сочинские полицейские вежливо и равнодушно объяснили, что меня проверяют на терроризм, но они ни при чем. Это все эксы (центр по борьбе с экстремизмом) и фейсы (ФСБ).
Мне показали рапорт: «Докладываю, что во время несения службы при проверке было установлено, что Бабушкин Евгений Анатольевич проходит с окраской «Т».
Я был у них не первый. Рядом сидел кособокий мужичонка Боря, тоже с окраской «Т».
– Здорово! Я тоже террорист! Тебя уже сколько держат?
– Часа три.
– А меня вторые сутки.
Боря спрашивал, как сыграли наши. Неофициальный медальный зачет очень волновал его. Полицейским было все равно. Они лениво спорили, подставные или настоящие казаки напали на Алехину и Толоконникову.
– Можно воды?
– Нельзя.
Вот оно, думаю. Пытать будут.
– Сами сидим сухие, кулер гикнулся, до магазина далеко – тебя послать разве что. А вот пусть Боря сбегает.
– Я же террорист. Никуда я не побегу.
Рюкзак с мандаринами таял. Ела полиция, ел Боря, ел грустный местный, задержанный за спекуляцию олимпийскими билетами. Его ждал штраф тысяч в пятьсот.
– А нас могут посадить на двадцать лет! – гордо сказал Боря.
Так пролетело несколько часов. Я пропустил финал командной гонки преследования, второй заезд слаломщиков и хоккей.
– Думаешь, тебе твои москвичи помогли? Тебе твои мандарины помогли, – сказал полицейский, возвращая паспорт. – Ну, бывай. Олимпиада закончится – больше не зазвенишь, террорист.
Он пожал мне руку – человек со стершимся лицом, мечтающий об отпуске, – и все пошло своим чередом.
Россия выиграла Олимпиаду – кособокий Боря, наверно, очень рад.
В Абхазии, в Новом Афоне старый армянин кормит кота и ждет апреля – мимозы отцветут, границу откроют, и он сможет наконец обнять внука.
На обочине Сочи. Часть 3: кругом обман
Тропический ливень затопил привокзальную площадь: глубина полметра, обхода нет. Но юные, загорелые и могучие сочинцы носят отдыхающих на руках: триста рублей, девушкам скидка. Страшная предприимчивость на фоне страшного бардака – таким был Сочи еще пару лет назад. Олимпиада осушила лужи и смела бардак, но осталось желание выжить, заработав на ближнем своем.
– Мистер, ту Адлер – хир! – волонтер принимает мою задумчивость за иностранное происхождение. Но его оттесняет таксист, старый стреляный армянин:
– В Адлер с вещами не пускают. С вещами никуда не пускают, повсюду шмон. Ты автобус не бери, ты бери меня – вещи в багажник, все тебе покажу. Всего за трешку.
Он лжет, бомбила, но кто осудит его за ложь – седого, носатого, в кожанке и кепке-муходроме, сотканного из стереотипов и терпеливой усталости?
Электричка возит бесплатно. Но у таксиста своя правда: РЖД и Сбербанк неплохо нажились на Играх, вон у них реклама на каждой пальме, а чем простые сочинцы хуже?
– Берешь зайца, – рассказывает бизнесмен Леша, который попросил представить его красиво – Виктором. – Уши видишь? Заяц. Китайский. У оптовика за полтинник. Рисуешь ему на жопе «Сочи». Типа талисман. И стоит он уже пятихатку. Уловил?
Лицензированные сувениры и качественней, и дешевле, но кругом – самопальные зайцы. И все ходят в шапках-леопардиках родом с местной Малой Арнаутской.
– Возьмем, к примеру, сувлаки, – говорит старый сочинский грек с бесконечной фамилией. – Кто знает, из чего делают настоящий сувлаки? Ты знаешь, потому что ты хороший человек. И я знаю, потому что я хороший человек. А бздых – он ничего не знает. Суешь ему в сувлаки картошку фри и дохлого цыпленка, он и рад.
«Бздых», он же «отдыхай», – пришелец, кормилец и унтерменш. Бздыха надо обманывать. Олимпиада в этом ничего не изменила. Но если бздых тихо здоровается, низко кланяется, умно говорит и вообще проявляет признаки патриархальной вежливости, тогда он уже не совсем бздых.
И сочинец тает. Он открывает маленькие местные секреты: что лучшие мандарины – не в магазине за углом, а на оптовом рынке. Что в «Улыбке» кормят лучше, чем во «Встрече». И еще сочинец расскажет историю своего успеха. Это будет не эпос об аферах компаний-гигантов, а анекдот о мелком мошенничестве во имя выживания.
– Я в Кургородке в столовой сорок лет, – рассказывает тетя Аня. – Оклад 7600. На период Олимпиады подняли до 10 200. Но обычно зимой работаем за четверть ставки. У меня муж умер, сын в армию пошел, дочка замужем, надо ставить на ноги и ее, и мужа. А на кухне всегда что-то остается, как-то вот подкармливаю их всех…
Зима губит, лето кормит. К счастью, у тети Ани есть домик. За сезон (с июня по сентябрь) он дает полмиллиона, хотя сотка сразу уходит на коммуналку, мебель и мелкие расходы.
– Раньше-то я за рубль сарай сдавала, а сейчас бздыхи обнаглели: им и телевизор, и сортир в номер!
Они и рады, и не рады олимпийским переменам. В Сочи стало чисто, аккуратно и без пробок – но пришли крупные игроки, понастроили хостелов с икеевскими кроватями и поставили под угрозу шальные летние доходы.
Есть и другой страх. На Сочи, как на том китайском зайце, взяли и что-то размашисто написали, резко повысив туристическую привлекательность региона. Но надпись сойдет после первой стирки. Олимпиада подарила и надежду на легкий барыш, и страх будущей нищеты. Кажется, так существует вся Россия.
Минувшей ночью Липницкая упала, а Сотникова нет, и толпы бздыхов высыпали на улицу, скандируя: «Россия, золото! Ура Аделине!» Кто-то пел гимн Советского Союза, путая слова. Кто-то дрался от радости. Местные и приезжие смешались и примирились. Наверно, там были и грек, и хитрый производитель зайцев, и тетя Аня, и даже таксист.
Ошалев от криков и веселых толп, ряженных в радужное боско, я пытаюсь найти в Сочи что-то неизменное и надежное. Вот пальма, а под ней казак – огромен, бородат, фундаментален. В одной руке эспандер кистевой, из другой струя дыма. Но нет, вблизи гоголевская люлька оказывается электронной сигаретой. Даже казак тронут европейским тлением. Кругом обман.
В два раза медленней самолета
Гашиш и лифчики
«Менты – козлы», – начертано на вратах собора Святого Жюльена. По-английски, конечно. В гигантской тени готического недостроя торгуют калошами: надвигается гроза.
Гонки гонками, а Франция бушует: бастуют дорожники, и «Феррари» высотой в сорок дюймов бибикают в такт профсоюзным кричалкам.
Раз в год в Ле-Ман съезжаются спорткары, дома на колесах и просто авто. Раз в год город вырастает втрое. Раз в год в кафе кончается вино. И так – с 1923 года с перерывом на Великую депрессию и Вторую мировую.
Ле-Ман – как Псков: старинный, захолустный. В ответ на hi! леманец улыбнется и позовет друга, который знает друга, который знает английский. Стоит ли учить языки ради досадной толкучки, что случается лишь раз в год?
Город прославили гонки, но местные туда не ходят, как москвичи не ходят в Кремль. Плетутся вдоль речки трамваи. Дымит в переулке кальян. Старушка седлает велосипед. Мужчина недовольно взмахивает багетом:
– Гонки? По сто евро за билет? Я за эти деньги лучше телевизор посмотрю.
Девица из магазина белья:
– В гонки я работаю вдвое больше. Все эти мужчины сбегают от жен, а потом покупают им французские лифчики, потому что это так романтично.
Просто хорошенькая девица:
– Гонки? Не бывала. Но туристов обожаю, англичан особенно. Много пьют, но никогда не хватают меня тут и вот тут. Джентльмены!
Юный курильщик кальяна:
– Не люблю гонки. Там слишком торопятся.
Хихикает и делает колечко. В переулке пахнет гашишем.
Наташа Ростова и автогонки
Что-то важное про гонки я понял уже на финише. Разбирая фото. Глядя в лица, сведенные судорогой ожидания.
А на старте шалел и вспоминал «Войну и мир»: «Все это было дико и удивительно. Она… видела только крашеные картоны и странно-наряженных мужчин и женщин, при ярком свете странно двигавшихся, говоривших и певших…»
В гонках я разбираюсь, как Наташа Ростова – в театре. Но правила «24 часов Ле-Мана» ясны даже мне. В команде трое. Едут посменно. Едут сутки. Круг – 13 километров – повторяют почти четыреста раз: это как от Москвы до Канарских островов.
Однажды я водил спортсмена на «Чайку» – ему понравилось в буфете и что женщины надушенные. Мне тоже в Ле-Мане многое понравилось.
Дети и колеса
Люди и машины на площади Якобинцев.
– Она принадлежала отцу моего друга. Когда он умер, ею владел мой друг. Он тоже умер и завещал ее мне. С тех пор я забочусь о ней, но друзей у меня не осталось, и я не знаю, что с ней будет, когда умру и я.
И коллекционер Майкл Пилгрим нежно касается руля своей «Лагонды»: ей 87, он на десять лет младше.
– А где пилоты? Говорили, будут пилоты! – удивляется по-русски рослая девушка и смотрит в расколотое небо Ле-Мана, полусинее, полугрозовое.
Художник не маляр, а гонщик не водитель. Он – пилот, и скорости у него небесные, триста тридцать в час. Но это завтра, а сегодня – парад, медленный круг почета на классических авто.
Прошлое везет будущее. За рулем – старики, пассажиры – пилоты. Будущее улыбается и бросает в толпу спонсорские бейсболки и мармеладки. Дерутся дети. Взревев, как турбина, девчонка бросается к экипажу довоенного «Мерседеса»: на руке у нее дюжина рекламных браслетиков, хочет тринадцатый.
– Да, это гонки на выносливость, но больше всего выматывают не они. А пресс-конференции и особенно парад. Все это имеет смысл, лишь когда ты выиграл. А так поулыбался, помахал рукой… и ничего. Ничего!
Гонщик Джейк Деннис скажет это двое суток спустя: его товарищ разобьет машину, и экипаж сойдет с дистанции. А пока я смотрю, как пилоты сверкают зубами и как под колеса стариков бросаются дети.
Затычки в уши и вечное изгнание
Если вы не бывали на гонках, просто ткните феном в ухо. Врубите дрель. Встаньте под водопад.
За день до старта настает конец. Разверзается небо, и падает связь. Гроза в эти дни из года в год – библейская.
От рева болидов болит голова и немеют уши. Потоп. Я иду по воде на последний инструктаж. Фотографам показывают веселые картинки:
– Что-то случилось – бегите прочь. Кто-то бежит – бегите быстрей. Или лучший кадр вашей жизни станет последним кадром. Эта женщина оглохла навсегда. Этот парень тоже. Этот – загорелся. Все они стояли слишком близко. Я был бы рад работать только с мастерами, но тут полтысячи фотографов. Стадо!
Я получаю право на сиреневый жилет, право снимать болиды с десяти метров, право на бесплатные затычки – и последний наказ. За съемку в красной зоне – изгнание. Не только из Ле-Мана – отовсюду, где гонят на выносливость: из Шанхая, Сильверстоуна, Мехико, Спа. Вечное изгнание за то, что погнался за удачей.
Наушники и бинокли
Трасса в южных предместьях Ле-Мана – город, вмещающий все города. Пахнет Китаем и Мексикой, гамбургерами и лапшой. Для обычных гостей – вавилон фастфуда, для особых – гостиный двор:
– У нас тут одних конфет съедают 22 килограмма в сутки. А в день гонок – 30 килограммов. Вино и пиво я даже перестала считать. И знаете, никто не пьянеет и не боится потолстеть. Тут другой обмен веществ.
Людей на гонках триста тысяч. У каждого дождевик, рюкзак и раскладное кресло, у опытных – наушники и бинокли.
Они ждали год, но не кажутся счастливыми. Они суровы и сосредоточенны. Щурясь от солнца и морщась от ливня, они провожают взглядом размытые пятна. Через три минуты двадцать две секунды лидер гонки совершит полный круг и появится с юго-запада.
Рекорд Ле-Мана – 405 км/ч: тридцать лет назад Роже Дорчи был лишь в два раза медленней самолета. Тридцать лет назад в Ле-Мане стали гибнуть гонщики. Тогда понаделали поворотов, скорость упала, гонки стали безопасней и зрелищней, но люди тут не ради зрелища.
– Хотите просто посмотреть гонку – не надо никуда ехать. По телевизору удобней. Мы тут для другого. Мы тут для… да не знаю. Просто мы тут.
– Я езжу в Ле-Ман с 19 лет. Сын вырос, к сожалению, дизайнером и предпочитает театр. Но вот мой внук, и его я приучаю к настоящим развлечениям.
– Я тут с мужем. Однажды я поняла, что, если скажу «либо я, либо гонки», он выберет гонки. Так и езжу теперь с ним повсюду: и в Индианаполис, и в Дайтону…
Знакомый спортивный журналист презрительно оглядывает трибуны и хлопает меня по плечу:
– Хочешь понять, зачем это все? Да просто они пидарасы.
– В каком смысле?
– В переносном. Дед его сюда ездил. Отец ездил. Сам ездит и внуков заставит. Хоть что-то в гонках понимает каждый сотый. Это просто триста тысяч пидарасов с затычками в ушах.
Корпорации и задницы
Гонки – это битва корпораций. Dunlop Tires против резинового человечка Michelin. Полмиллиона сотрудников Volkswagen Konzern против трехсот тысяч парней из Toyota Motor Corporation. «Газпром нефть» – против «Порше». G-Drive Racing Алексея Миллера – против SMP Racing Бориса Ротенберга. Соревнуется техника. Соревнуются миллиарды.
Гонки – это битва задниц. Главная часть у гонщика – нижняя часть спины. Это сложно объяснить, но где-то там, вероятно, у человека центр тяжести, и чем-то там, вероятно, гонщик чувствует баланс болида. Руки на руле – лишь придаток. Гонщики выходят на gridwalk – предстартовую прогулку – и трибуны ликуют, а я пытаюсь угадать победителя по ляжкам.
Гонки – это битва мозгов. Секунды опоздания за сутки превращаются в часы. Когда поменять резину? Когда заправиться? А если дождь? Миллиметр воды на асфальте – и тактику надо менять. Два миллиметра – и планы летят к чертям.
Гонки – это битва механиков. Под трибунами люди в ливреях чинят и калибруют болиды. Спят, едят и ходят в туалет тут же. Они безымянны, но без них никто не проедет и трех часов: за сутки у каждого экипажа минимум 10 остановок.
– Вы думаете, это просто быстрая машина, а это суперкомпьютер на колесах. В болиде сотни датчиков. Сложнейшая начинка. Софт, который я настраиваю, так же важен, как хард.
– Это для вас гонка длится 24 часа, а для нас – недели. Мы победим или проиграем все вместе. Так что мы не чувствуем себя людьми за сценой. Мы – режиссеры победы.
Механик орет, но я слышу его через слово: рядом летят болиды.
Пиво и Британия
На пятнадцатом часу с дистанции сходит треть экипажей, «Тойота» идет нос к носу с «Порше», а я иду к англичанам. Те, кто ради Ле-Мана пересек Ла-Манш, разбили огромный лагерь подальше от трассы. Над палатками вьются английские флаги, как в Столетнюю войну. Утро внезапно ясное, солнце палит, и англичане начинают день с бутылки пива в тени крылатых дверей своих «Ламборгини».
– В нашем лагере куча крутых парней на своих weekend cars, со своими boy’s toys. Я к ним в обычной жизни даже приблизиться не могу, потому что я клерк из Брикстона, а они миллионеры из Хампстеда. Гонки – единственное место в мире, где мы на равных.
– Почему я тут? Потому что у меня жена и три дочки, а я работаю в гребаном банке, где тоже одни женщины.
– А я за своих болеть приехал. И хотя Aston Martin прососали квалификацию, все равно автогонки – самый британский спорт. Все инженеры британцы, вся техника британская. Это не япошки гонятся за немцами, это Британия борется с Британией.
– Футбол, конечно, тоже ничего, но он для молокососов. Это они подрались с вашими в Марселе. А все серьезные парни тут, в Ле-Мане, и все мы чертовски дружелюбны. А знаете почему? Потому что это не спорт. Это выставка. Тут не болеют, тут совместно наслаждаются красотой.
Я разделяю с англичанами ящик пива и оставляю их наедине с наслаждением.
Слезы и седина
У Юга Дешанака красные глаза: от слез и бессонницы. На пятьдесят седьмой минуте последнего часа лидер гонки болид Toyota Gazoo сходит с дистанции.
– I have no power! – кричит пилот Казуки Накаджима, едва не ставший триумфатором Ле-Мана. И Дешанак, босс Toyota Gazoo, начинает плакать.
Пилоты «Порше» Роман Дюма и Марк Либ забывают, как радоваться, и просто катаются по полу, пока Нил Яни – третий в экипаже – финиширует.
Я бегу к Дешанаку, но он в оцепенении. Он лишь повторяет вслед за комментатором: il est imposible. Это невозможно! Невозможно!
Гонка окончена, трибуны подпевают немецкому гимну, и победители из «Порше» поливают друг друга шампанским, как тут принято уже полвека.
Саймон Долан, британский миллионер и экс-победитель Ле-Мана, разбил свой «Ниссан» еще раньше, на 222-м круге. Я видел его на старте: робот с механическим прищуром. Но после гонок люди снова выглядят как люди. И Долан улыбается. Он будто рад, что проиграл, что все закончилось. Фанаты гонок часто бегут от семей, но только не сами гонщики. Долан в Ле-Мане – с женой и детьми.
– Один мой сын любит меня, второй – меня и гонки. Просто устроил им длинный уик-энд. Думаю, они даже не успели испугаться, когда тот пилот пропустил свою точку торможения, врезался в меня, а я в стену…
– Тот, который любит гонки. Вы бы хотели, чтобы он повторил вашу судьбу? Стал гонщиком?
– Н-н-не уверен.
Рене Раст, покоритель Спа и Дайтоны, сегодня пришел вторым.
– Хотите знать, каково в машине? В машине громко. И трясет. Вибрация сводит с ума. Руки парализует – я до сих пор не могу разогнуть кисти. Первый час – бесконечный психологический стресс. Но потом тело постепенно начинает понимать, что происходит. А дальше – все просто. Дальше – работа мускулов.
Его товарищ по экипажу Роман Русинов раздражен. То ли второе место бесит его, то ли вопрос русской журналистки:
– Я заметила, что после каждой гонки у вас все больше седины…
– Вам что-то не нравится?
– Все в порядке, но… седые волосы…
– Что-то не так?
– Но…
– А я их специально крашу. Иначе сигареты не продают. Слишком молодой.
Эпилог и тишина
Вечер. Трасса – в черных кругах от горелой резины.
Под опустелыми трибунами собираются последние фанаты. Там есть такой особый книжный магазинчик для ценителей. На алтарном возвышении лежит монография Томаса Грюбера «Carrera RS» толщиной в 400 страниц – по евро за страницу.
Фанаты, вздыхая, расходятся: ну, может, в следующем году.
Ле-Ман встает в пробку: триста тысяч человек разъезжаются по домам.
В городе снова спокойно. Снова раскуривают кальяны и преломляют багеты.
Я чувствую: что-то не так. И наконец понимаю что.
Тишина.
Приключения еврея в банде неонацистов
Я подружился с наци-скинхедами случайно, выбор был – петь или умереть.
Лес, куча унылых блочных домов, а после снова лес. От метро километра четыре. Белой ночью я шел домой с гитарой за плечом и с волосами до пояса. Навстречу – стая крепких и юрких подростков. Лет по шестнадцать. Бритые черепа. Спортивные штаны на толстых ляжках. Черные куртки. Черные, страшные сапожищи.
Меня спасла гитара.
– Так ты че, не рэпер? – воскликнул самый мелкий, приблизившись на расстояние удара ногой с разворота.
Кудри говорили против меня, гитара – за, и после некоторых раздумий меня пригласили дать концерт. Довольно вежливо пригласили – если вежливость вообще возможна на лесной опушке, когда ты один против дюжины.
У юных скинхедов была отвальная, их старшого забирали в армию. Устроились на детской площадке. Кто помельче – на заплеванных скамейках, а старшой – на царском месте, в домике Бабы-яги. Я спел им весь дворовый репертуар – и Цоя, и Нау, и БГ, и про член, который на ландыш не похож. О Цое заспорили.
– Он же китаец!
– Цой – ариец, – отрезал пьяный в доску старшой.
Пили портвейн. Мне подливали и говорили, что бояться нечего:
– Мы только против жидов, таджиков и рэперов этих волосатых. Постригись, Женек. Будь мужиком.
Повезло: со своей половиной еврейской крови я не похож на карикатурного Рабиновича из листовки общества «Память». Наивные нацисты не признали во мне унтерменша. И я пел «Звезду по имени Солнце», внутренне вознося молитву на двух языках.
Под утро самые веселые заснули в луже рвоты, а самые стойкие проводили меня до дома.
– А то много тут всякой шпаны ходит. Ты, Женек, теперь под нашей защитой, ты, главное, нас держись!
И я зачастил к скинхедам. Район был – бетонная плешь меж диких лесопарков, и не встречаться было невозможно. А встречи все заканчивались одинаково:
– Хайль, Женек, тащи балалайку. А мы у подъезда подождем.
Так я стал Орфеем наци-скинхедов. Меня бы раз пять разорвали в клочки, но гитара – волшебная вещь.
Это была больше тусовка, чем банда, больше гопники, чем скины. Но Гитлера любили, головы брили, били кого-то за гаражами и воровали овощи в таджикских ларьках. Участковый им благоволил. Рапортовать начальству, что в микрорайоне завелись бритоголовые, – страшней, чем встретить их лицом к лицу.
Внутренний мир их был прост, как удар кулаком в морду. Россия для русских. Белая раса. Таджиков в топку. Пидоров на свалку. Кто-то уже начинал слушать ой-панк и викинг-метал, читать классиков нацизма. Кто-то еще ничего не читал и предпочитал арийца Цоя в моем исполнении (ждет меня в чистилище раскаленная скамейка за эти песенки).
И однажды я постригся, как и советовали скинхеды. Надолго зачехлил гитару. Плотно занялся историей зарубежного театра. И меня перестали узнавать.
Все это давно было, лет десять назад. Я следил за ними. Встречал то в спортзале, то у пивного ларька, позже – в социальных сетях.
Моих скинхедов больше нет, есть самые обычные люди. Иногда я даже скучаю по этим ребятам из прошлого.
Один сторчался, другой спился, третий сел за мелкую кражу, но большинство отрастили аккуратные ежики и стали уважаемыми людьми. Старшой вернулся из армии ефрейтором, обнаружил талант к химии, пошел в колледж и устроился технологом на сосисочном комбинате, большая шишка. Гнусавый Саша занялся бизнесом – продает подержанные «Тойоты». Коротышку Людвига (в миру – Леша) видел на ультраправом митинге – респектабельный, в дорогущем костюме, он тихо стоял в сторонке, пока на эстраде завывали волхвы. Кто-то уже постит на фейсбуке фото с сыном-сосунком – вырастет настоящим арийцем и тоже, наверно, будет бить таджиков и слушать грустные еврейские песни.
Путешествие на войну. Часть 1: Краматорск
1. Порно и пограничники
В купейном вагоне поезда Москва – Донецк – 36 мест. Пассажир был один: я.
– Что смотрите?
– «В огне брода нет».
– Это хорошо, что брода нет. А порно есть? Пропаганда войны и насилия? Всякие такие картинки? Иное запрещенное? Покажите ваши файлы!
Таможенник вяло потыкал в экран и отстал, но пристал косноязычный пограничник:
– Больше всего вы дальше тут не поедете.
Это война. Каждый здоровый мужчина – возможный враг. А журналист – хуже врага. Пришлось убеждать, что я ни разу в жизни не говорил ни «хунта». Как, впрочем, и «колорады». Помогло.
– Алена, что ж они суровые такие?
И проводница, еще под Курском сменившая форменную розовую жакетку на спортивный костюм, шепнула:
– Им страшно. И мне. А вам?
И хлопнула ресницами, долгими, как бессонная ночь в поезде.
2. Автоматы и автобусы
– А вдруг тебя ранят? А вдруг, не дай нам Боже, ранят меня? Хорошо, если ДНР, а если нацгвардия? Короче, 1200 гривен. Лучше в евро: стольник.
Тут есть мобильный интернет, и греет солнышко, и цокают каблучки, и донецкие таксисты торгуются, как в мирное время. Война обостряет характеры. Кто наживался на людях, наживется стократно, кто был понур и покорен, совсем потеряет волю. Усталые, ко всему готовые люди – и я среди них – набиваются в автобус Донецк – Краматорск: 45 гривен, 12 рейсов в день, 2 часа в пути, 5 блокпостов.
На первом же меня чуть не грохнули – снимал противотанковые ежи из-под занавески на мобильник. Через минуту нас подрезала «Нива». Выскочили потный, похмельный гаишник в рубашке навыпуск и двое в камуфляже. Один ткнул меня автоматом в горло, второй – винтовкой в задницу.
– Эх, Женя! – сказал автоматчик после короткого, но неприятного допроса. – Ты б лучше дал водителю лишние 15 гривен, он бы остановится, ты б такие кадры сделал! В следующий раз не забудь у нас разрешения спросить. Потому что в следующий раз получишь пулю.
Я усвоил урок, и блокпост в Константиновке (она же Констаха) снимать не стал. У этих был уже не черно-сине-красный флаг Донецкой народной республики, а черно-оранжевый – Конгресса русских общин.
– Господа мужчины, попрошу паспорта. Вы, девушка, тоже можете. Пометим вас «М». Извиняюсь за юмор. Возможно, неуместный. Пытаюсь поднять вам настроение.
Все привычно достали паспорта, но весельчак с «калашом» не стал их смотреть. Дальше, в Дружковке, какие-то парни в трусах и майках, но с винтовками даже не прошлись по салону:
– Документы у всех? Настроение хорошее? Чтоб таким и было. Марш!
На въезде в Краматорск стоял живой Бабай с анекдотической бородой и в папахе. Мимика у Бабая была матерная, он ругал крановщика – бетонные блоки были ни к черту, баррикады вышли кривоваты. Документы проверял мальчишка, еще не начавший бриться.
– Киевская прописка есть? Лучше сразу говорите.
У него был гранатомет с наклейкой «Донецкий и горжусь этим». Мальчишка неловко двинул меня гранатометом и извинился. Они все очень вежливы.
3. Страх и сталинки
Раньше Краматорск был о-го-го. Просторные парки, широкие бульвары, парадные сталинки, которым и Москва позавидует. Дырой он стал задолго до войны: при Кравчуке осыпалась лепнина, при Кучме распилили чугунные решетки, при Ющенко заросли бульвары, при Януковиче все потихоньку сгнило и запачкалось.
С виду – типичный российский райцентр. И лишь по голосам понятно, что это пока еще другое государство: певучее южное наречие с чудными вкраплениями – «дайте пополняшку на лайф».
Краматорск похож на Припять или на Сухуми: время встало в прошлом веке. Запустение заповедное, чисто штатское. Войны оставила мало следов: скелеты сожженных троллейбусов – и баррикады.
Моду на них задал Майдан, но там была агитация, не защита. Краматорские баррикады основательней, хоть и сделаны из подручного материала: доски, шины, игровые автоматы. Снимать эту красоту нельзя. Нарушителя сразу повели к командиру: усталый мужчина в спортивном костюме цветов ДНР сидел на корточках, опираясь на карабин.
– Аккредитация контрразведки, конечно, есть? – спросил мужчина.
Ее, конечно, не было.
4. Голоса и голуби
– У-у-у!
– Что?
– Я тут завхоз. У-у-у-у!
– Что вы делаете?
– А вы послушайте, какая в нашей школе акустика! У-у-у-у!
Люди сходят с ума от тишины. Стотысячный город мертв, и слышно, как на другом конце площади воркуют голуби.
Вдруг вой: сирена! танки! артобстрел! Я метнулся на землю, точнее, хотел метнуться: присел враскоряку у фонтана. Но это свадьба гудела. На капоте – георгиевские ленточки. Пухлая невеста скорчила рожу: фонтан, привычное место гуляний, давно высох. Школьники превратили его в доску объявлений: «отсосу недорого» – и телефон любимой одноклассницы.
Мир и война смешались в Краматорске. Инстинкты дают сбой. Здравый смысл отказывает. Я испугался фальшивой сирены, но когда наконец услышал настоящие выстрелы, принял их за раскаты далекого грома.
5. Вода и вопли
Полки полупусты. Еще не голод, но уже дефицит: нет, например, кошачьего корма. И нет воды. Редких прохожих – с ведрами и канистрами – встречает перестроечный возглас:
– Где брали?!
Воду раздают в школах, точного графика никто не знает, занимают наугад, записывают номерки на руках. Тут, в очередях, процветает забытое искусство публичной издевки – похожее творилось на Майдане, когда Януковича позорили в стихах и прозе. Люди легко заводятся и эффектно бранятся.
– Ой, не снимай меня, обижусь!
– Да я тебя вырежу, дурака. Все равно в кадр не влезаешь.
– Ты побыковать хочешь, дяденька?
– Я быковать не буду, но я тебя спрошу: ты кто такой вообще?
– Я-то, может быть, даже и голодающий житель города!
– Репу вон отрастил, голодающий!
– На брюхо свое посмотри!
Очередь на стороне Репы:
– Стервятники! Все у нас хорошо! Не снимайте нас! Гадины!
Репа моложе и сильней, и Брюхо, бранясь уходит. Он журналист местного, 12-го канала. Телевидение под контролем ДНР. Город тоже. Ухожу и я. Ведь у людей все хорошо, и я не хочу быть стервятником.
6. Поликлиника и поминки
В кафе «Как всегда и недорого», с дубовыми столами и средним счетом в 1 евро, гудели люди.
– Неплохо дела идут, как погляжу.
– Так у нас же поминалка.
– Что?
– Ну, поминальное кафе. Вам борщ или котлету?
Нормальные кафе закрыты. Закрыты почти все банки, ювелирные лавки, магазины техники. На разбитых витринах – «продаю», «продаю», «продаю». Закрыто все, откуда можно что-то вынести. Все, кому есть что терять, покинули город. Остались те, кому терять нечего: бюджетники.
– Я сама тамбовская. В поликлинике этой 20 лет работаю. Сын вырос, 11 классов закончил – а куда теперь?
– В Киев?
– Ой, да не смешите.
– В Россию?
– А деньги? Кому мы там нужны без денег?
– Вам ведь зарплату не платят с 20 мая?
– А что делать. Все равно работаю. А я такая. Я всегда была такая. Уперлась, как теля́.
Растерянность, апатия, покорность – вот на чем держится донецкая власть. Впрочем, только ли донецкая.
7. Мужики и музыка
Любимое занятие местных мужчин – сидеть на скамейке и ждать, что же будет. Результаты блиц-опроса предсказуемы:
– Тимошенко?
– Косу заплести – ума не надо.
– Стрелков?
– Отпустил усишки и думает, что генерал.
– Порошенко?
– Вафли лепить – не страной управлять.
– Кернес?
– В жопу ранили – и уже герой.
– Добкин?
– Хороший человек. Только бандит.
Национальный характер – выдумка, но на Украине так много стихийных анархистов, что это, кажется, и правда в здешнем характере. Веселое недоверие к власти пленяло на Майдане – пленяет и здесь, на войне. ДНР не доверяют, но Киев вызывает эмоции посильней: страх или ненависть.
Киев проиграл информационную войну. Кто может, смотрит «Россию-24», предпочитая московскую полуправду киевскому молчанию. Пропаганда порождает фольклор: вон на той горе, слышь, снайперша из Латвии сидит. А олимпийская чемпионка Пидгрушная, тоже снайперша, чтоб ее черти взяли, прям по детям палит, невзирая на Пасху. А слышали, на подступах дивизия израильтян? Совсем как люди, только жиды. Слышали? Слышали?
У ДНР есть свое радио – крутят Вику Цыганову и прочий блатняк, что-то про казачество и славянское единство. Между песен – объявления: детские лагеря под Орлом, автобусы до Ростова, сбор крови раненым бойцам.
8. Бутылка и будущее
В Донецк я вернулся засветло. В гостиницу с чистыми простынями, где никто не кричит, никому не угрожают, где ленивый взгляд не блестит из-под балаклавы. На этаже – 20 номеров, но постоялец был один: я. И я планировал выпить. В меня весь день тыкали деревом и металлом – имею я право на несколько текил?
– А бар почти уже закрыт. И те, напротив, тоже закрылись. Время, сами понимаете, какое.
Тут не говорят «война». Любят эвфемизмы: «время», «дела», «ситуация».
– Мы в такой ситуации до десяти работаем.
– А завтра?
– А вы знаете, что будет завтра? Я вот не знаю.
Я взял вина. Нормального, крымского. Завтра было свежо: прошла гроза. В пяти километрах северней, под Авдеевкой, шли бои. Но я не услышал. Все и так грохотало.
Путешествие на войну. Часть 2: Донецк
1. Нежная Никанора
– Я Ника. Целиком – Никанора. Вероникой не называйте – бесит.
Росту в ней полтора метра. У нее широкие пятнистые штаны и тапочки на босу ногу. За поясом пистолет. Бесить ее не хочется.
– Я военный человек. В милиции работала. Семья погибла в Карабахе, я еще была девчонка. Это моя вторая война.
Донецкая агломерация огромна: 50 километров в поперечнике. Если просто гулять по бульварам, слушать мирный звон трамваев, нюхать цветущий чертополох, то можно и не заметить, что рядом скачет по баррикадам такая вот Ника, а такой вот Петя сторожит мешки с песком – главный элемент фортификации – и не дает сделать фото.
– Ты со мной не договаривайся. Ты с тем парнем договорись, шо сверху смотрит на тебя в окуляр.
В Донецке шанс поймать пулю невысок, но возле захваченных зданий повышается. Новая власть пришла на место старой: в администрацию, прокуратуру, милицию и страшную серую коробку на улице Щорса. Раньше здесь было КГБ, потом Служба безопасности, теперь – мобилизационный пункт Донецкой народной республики.
2. Немец и Новороссия
– Я сюда ехал через Киев. Дал проводнице 200 гривен, чтобы спрятала, пока проходим пост правосеков. Проверяют они плохо, боятся. Проводницкую даже не посмотрели. Хоть гранатометы туда грузи. Я тут месяц, но уже много видел. И даже побывал в подвале. Подозрение в шпионаже! Рассказать? Пошел я с девушкой. Говор у меня не местный. Ехали с таксистом, он говорит: возьму автомат, пойду этих стрелять! А я ему сказал то, что вы мне сказали.
– Что?
– Что среди этих тоже есть люди. Что нужно смотреть и думать. А девушка была из нашего подразделения. Перепугалась и вызвала группу быстрого реагирования. Сидим в кафе, вбегают наши, ложат на пол. Сутки провел в подвале, но не били, быстро разобрались. Заходит наш комроты: ну что, говорит, еб…рь-террорист, как дела?
Мой собеседник – немец. Гражданин Германии, точнее. Красивому Коле 20, он увлекается компами и фотошопом, но в экономическом училище пытался закрутить роман с училкой – молоденькая! – и его выперли. А тут как раз Павел Губарев записал очередное обращение. И Коля поехал спасать Новороссию. Его позывной – Штирлиц. Он не говорит «майдауны» или «хунта». Он говорит – «эти».
3. Компот и коммунизм
Сначала Штирлиц был Тельманом. Цыган – чернявый парень из Красного Лимана – его на этот счет подкалывает:
– Тельман-то коммунист!
– А не страшно. Главное, что он тоже из Германии и тоже с фашизмом боролся.
Парню по прозвищу Ленин тоже успели объяснить, что коммунизм – это плохо, и он стесняется позывного, но нового пока не придумал. Ленин сегодня в столовой, на раздаче. На первое уха, на десерт – конфеты и компот из вишен. Вишни свои: огромное дерево растет прямо во дворе еще со времен КГБ. Кривые подносы, казенные столы, гречкой пахнет – пионерлагерь, а не боевая цитадель Донецкой народной республики.
– Вы напишите, что мы тут всей горой стоим, что мы победим, что все будет нормально, что мы должны победить. Дух есть, все есть. А у этих ни духа, ничего нету. У нас люди без всего сражаются. А этим если тыщу гривен не заплатишь, они в тылу на пост не выйдут. За что этим сражаться? Вот за эти конфеты «Рошен», что ли? Вы не думайте, мы их не покупали – трофейные.
– Конфеты Порошенко хорошие делает.
– Нет, конфеты делает тетенька с фабрики, а он наживается.
– Вот с этим не могу не согласиться.
Скоро у Цыгана и Штирлица присяга. Они рассказывают о других добровольцах, но знают мало – или скрывают умело. Даша, 19 лет, только вчера приехала из России, про нее пока ничего не известно, даже клички еще нет. Миша, 17 лет, рвется в Славянск, но придется месяц подождать, до совершеннолетия. Аня, 20. Саша, 21. Из Питера пока никого.
– Кончится война, победим, поеду к вам, – говорит Штирлиц. Я буду рад его увидеть и провести по Петроградке. До чего же, думаю, приятный парень. Но что за каша в голове.
А он, наверно, думает про меня то же самое.
4. Кавалер Кабан
Я с ними познакомился случайно – подфартило. Крутился у СБУ, смотрел, как в Славянск отправляют автобус. В салоне – дюжина новобранцев, в багажном – вода, картошка и печенье.
Вдруг выгнали под ливень, выстроили. Появился Павел Губарев с охраной и свитой фотографов.
– Павел, тут кавалер! Кавалер!
– Давайте кавалера. Расскажи все без утайки, не стесняйся.
И боец по прозвищу Кабан, только что получивший георгиевский крест, произнес перед строем речь и завершил ее потрясающе:
– Бояться их не надо. Умирают они совсем как люди.
Шахтеры-ополченцы – сильный образ: бросят кайло, возьмут автомат – и хана киевлянам. И Губарев рассказывал об этих шахтерах, и говорил другие вдохновляющие вещи, и воздух рубил ладонью, хмурился, скалился и рычал – мастерски командовал, в общем.
Как в штатском просыпается военный? Что это – юношеские заигрывания с РНЕ, опыт мелкого политика или искусство массовика-затейника? В мирное время у Губарева была фирма по организации детских праздников.
Он согласился на интервью с усмешкой: «Посмотрим, как переврете».
Ожидание, обыск, подъем, конвой, четвертый этаж. В журнале посещений отметились Тайга и Дуб. Ряд выломанных дверей, наконец – кабинет без таблички. Внутри – тщательно, по цвету подобранное сочетание икон и собрания сочинений Проханова. В кожаном кресле – народный губернатор Донбасса Павел Губарев.
5. Губернатор Губарев
Без камуфляжа это другой человек. Спокойный. Усталый. С животиком. Мы ровесники, он старше на 6 дней.
– Родился первый сын, второй, дочка – не до политики было. Деньги зарабатывал. Жилья своего нет – вложился. Дом, скорее всего, не достроят в этих условиях. Но когда увидел бандеровский переворот на Майдане, понял, что в этой стране нельзя оставаться. И я тогда стал сепаратистом. Как и 90 % дончан. Жене сначала было страшно. Женщина всегда боится за мужчину, который на войне. Потом она впряглась. Сейчас она министр иностранных дел, занимается гуманитарной помощью. Спит по три часа в сутки. Как и все мы.
– Вы – это ДНР. А лично вы кем себя считаете? Какая у вас идентичность?
– Я русский, православный, я отстаиваю традиционные наши ценности – это семья, дети, церковь – и считаю, что в Киеве настоящий фашизм. Кроме того, что он фашизм, он еще и антирусский. Склочный, мелочный, завистливый. Украинский национализм – ненастоящий. А русский национализм, наоборот, цивилизационый, духовный, всечеловеческий, как выражался Достоевский. Русский человек – всечеловек, видит себя в единстве со всем миром. В любви. А украинские националисты – потомки коллаборационистов и военных преступников.
– По дороге в Краматорск я познакомился с вашей всечеловечностью. Не дай Бог иметь в паспорте киевскую прописку.
– Это один из способов идентификации врага. У нас гражданская война. И большинство жителей центра и запада Украины считают, что сюда вторглись русские наемники и тут что-то колбасят. Вы видели хоть одного наемника? Это все местные.
– Не видел, но слышал. Я хорошо различаю говоры. Подтверждаю, что в основном местные, но знаю, что не только.
– У нас есть шахтеры, металлурги, железнодорожники. В подразделении личной безопасности у меня директор ночного клуба. Это – народ! Нельзя сказать, что шахтеры воюют, а креативный класс нет. Дизайнеры рисуют. Журналисты пишут.
Как всякий чиновник – неважно, что непризнанного государства – Павел Губарев отчего-то уверен, что выражаться красиво – значит выражаться штампами. В следующие двадцать минут он упоминает «тоталитарный глобализм», «Гуантнамо», «болезнь индивидуализма», «планы Америки». Очнулся я на словах про «Европу, которая вернется к традиционным ценностям, к духовности и многодетным семьям».
– Погодите, давайте отмотаем назад. То есть вы берете в ополчение всех подряд?
– Да в центр фильтрации и обучения в Славянске мы отправляем всех. Картошку тоже чистить надо. Убирать расположение тоже надо. Кстати, наши первые четыре георгиевских кавалера не служили в армии. И всего за месяц-два их обучили в специалистов высокого класса.
– А за что дают Георгия?
– Один человек, Кирпич, сбил самолет из пулемета. Это геройство. Самолет ехал туда, ехал сюда, а Кирпич вычислил маршрут, поставил пулемет, прицелился и давай шуровать. Попал в топливную систему – и фью!
Чиновник засыпает, просыпается полевой командир, и Губарев свистит так, что закладывает уши. В ДНР уже восемь георгиевских героев. Если война затянется, мои друзья Цыган и Штирлиц тоже получат Георгия. Или пулю.
– Конечно, собеседование мы проводим. Прописка – первое условие. Если прописка житомирская, винницкая или тернопольская – берем только по личной рекомендации. Но большинство людей там настроено очень агрессивно. У меня подруга в банке работает, в Киеве. Паша, говорит, я тебя смотрю по телику, у тебя, блин, ум за разум зашел, ты не понимаешь, что у вас там русские наемники. А я ей: нет, блин, это ты не понимаешь. Стрелков и Бородай – не наемники! Это патриоты!
6. Стрелков и справедливость
На столе у народного губернатора Донбасса – пять сотовых и стационарный телефон СБУ. С женой – только по сотовому («перезвоню, зайчик»), со Стрелковым – только по защищенной линии.
– Игорь Иваныч! Запишите: в Калининском районе бой возле гостиницы «Нива», правосеки поселились, выбиваем. Также в Марьинке вчера были бои. То же самое. Поселились правосеки, местное население сдало. Еще состоялось торжественное принятие присяги. Тут все суперски, сказал речь, от вас привет передал… Конец связи, Игорь Иваныч.
Он снова со мной – излагает как по писаному.
– Они сменили одного олигарха на другого и назвали это революцией достоинства. В чем революция? Элита все та же. Выборы в Киевраду показали, что на манеже все те же. Намерения? Так у всех намерения такие. Любой человек, который идет к власти, говорит, что он за все хорошее против всего плохого.
– Вот и вы говорите.
– А я по содержанию другой! Я революционно настроен. У меня нет денежных мешков, которые мне что-то диктуют. Нет связей со старой элитой. Нет завязок. Я искренне говорю людям, что, ежели меня поддержат, я их не предам. Но сейчас я, конечно, не политик. Я начальник мобилизационного управления министерства обороны. Все на войну, все для фронта, все для победы.
– Не забывайте, что люди, на поддержку которых вы рассчитываете, точно так же поддержали Януковича.
– Но не потому, что он хороший. Просто Партия регионов захавала тут все. Их ревность политическая создала такую ситуацию, когда на территории побеждала одна сила. Но когда произошла ситуация, оказалось, что эта сила полное говно. Что они не способны ни понять людей, ни возглавить людей, ни управлять людьми. Обосрались и давай договариваться. Добкин за два месяца сменил четырех хозяев. Сначала Януковича, потом Коломойского, потом Ахметова, сейчас снова перекрашивается. Все они считают, что власть существует не для построения справедливого общества, а для перераспределения ресурсов.
– А что будет в вашем справедливом обществе?
– Коррупции не будет. А крупный бизнес останется. Но только не на тех предприятиях, которые были украдены в девяностые в ходе так называемой приватизации. Эти заводы наши бабушки-дедушки мастырили. А тут бац – и человек начинает там хозяйничать. Я за национализацию, но не за немедленную. Должны пройти выборы, олигархи будут бороться. Они могут заплатить налог, как в Британии. Нет денег – акциями. А то в девяностые выкупили чубайсодные облигации по цене сухпайка и сказали – мое. А с какого перепугу мое? Западные олигархи с нуля капиталы создавали. Своими руками. Путем труда и пота. А у нас все олигархи ненастоящие. Это воры. Нет, частную собственность мы уважаем. Но не такую. Вот я попрошу охрану прийти, заломать вас и вытащить кошелек – будет это означать, что кошелек мой?
С охраной его я уже познакомился и представляю эту ситуацию в красках, но все же задаю следующий вопрос:
– Некоторые ваши бойцы в буквальном смысле слова тащат кошельки. Или реквизируют – не знаю, как это на языке ДНР…
– Когда начинается гражданская война, появляется куча всяких бандюков. Под прикрытием разных флагов. Для того и нужен закон о призыве. Впредь будем разоружать те подразделения, которые занимаются херней и забирают у местного населения автомобили и ценности. С такими мы будем поступать жестко вплоть до расстрела. Но если принял присягу, выполняешь приказы – значит, свой.
– Я так понял, с моей помощью вы передаете послание этим бандюкам. А не хотите передать послание главным своим противникам?
– Это война против собственного народа. Женщины, не пускайте мужей на фронт. Приказы отдают преступники. Стреляют по мирным людям. Бомбят мирные города. Силам ополчения урона нет, мы закопались в окопы. Потери несут гражданские. Прекратите войну, разойдитесь по домам, давайте жить дружно.
7. Взгляд и вишни
Я не спрашиваю, почему бы не прекратить войну первыми. Но спрашиваю, можно ли наконец поснимать чертовы баррикады.
– Надо договориться с бойцами. С их линейным командиром. У меня таких полномочий нет.
Философ Петя предлагал то же самое: договориться с тем, кто смотрит на тебя сверху.
Меня повели обратно, и вдруг я почувствовал этот снайперский взгляд с неба. Я почувствовал то, что чувствуют миллионы здешних: ирреальность жизни под прицелом. Кто это вокруг, почему они все не в нормальных, а в камуфляжных штанах? Почему у женского туалета оборудована огневая точка? Куда меня ведут, все ниже и ниже? Почему замки и камеры выдраны с мясом и повсюду дыры, из которых торчит шелуха? Зачем мы здесь? Губарев, Ника, Цыган, этот снайпер, я? Сидел бы в своей Москве, жрал шаурму, ходил к психоаналитику. Он, кстати, предупреждал, что это не я на войну поехал – это невроз меня повез. Бегу от мирных проблем, как лемминг с обрыва. Но это я, маленький человек. А Стрелков? Бородай? Журналисты, взявшие автомат, шахтеры, взявшие автомат, женщины, взявшие автомат, пиарщики, командующие «огонь»? Другие маленькие люди, ставшие большими? Почему мы все здесь, превращаем Донбасс во всероссийскую клинику неврозов? В чем кайф ходить под пулей?
Я не знаю ответа, нахожу Ленина и прошу еще компота – хороши вишни.
Путешествие на войну. Часть 3: Луганск
1. Милитари и мир
– Зря пристегнулся. Выдаешь происхождение. У нас не пристегиваются.
Война обострила природную наблюдательность таксистов. Неделю назад тут заново создали контрразведку СМЕРШ. Мой таксист мог бы там работать. Но вряд ли захочет.
– Вон туда (кивок направо) поеду. А вон там (кивок налево) опасно. Вдруг решат, что у меня машина лишняя. Не могу сказать, что были случаи. Но рисковать не буду.
Случаи – были.
«18 июня вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфлированную форму, отобрали у гражданина Д. автомобиль Chevrolet Aveo»
«22 июня вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфлированную форму, похитили два автомобиля, принадлежащие Укрсоцбанку»
«23 июня пятеро мужчин, вооруженных автоматическим оружием, одетые в камуфлированную форму, похитили гусеничный тягач».
Они повсюду, эти люди в камуфляже и с оружием. И никто не знает: то ли это Луганская народная республика, то ли бандиты – враги Луганской народной республики, то ли просто мода такая: милитари, без претензий на народность.
Кивок направо – это гостиница «Луганск», где из 19 этажей работает два. Относительно безопасное место. Кивок налево – лагерь луганского Антимайдана у здания СБУ. Место относительно опасное. Вот туда-то нам и надо.
2. Молебны и мобильники
Тут как в кино: просят отключать мобильные телефоны. Чтобы ракета не прилетела. Говорят, их наводят по мобильнику – так и погибла бригада телеканала «Россия».
– Займут вон ту высоту – шмальнут по тебе – и нам конец.
Киевский Майдан и луганский Антимайдан поразительно похожи. Чего, конечно, не признают ни те ни другие. Скамейки, палатки, дразнилки – все то же самое. Люди так же жгут костры и варят борщ. И молебны точно такие же, и женщины завороженно смотрят на лопату, вонзенную Турчинову в зад, – смеются и крестятся от смущения. Полгода назад точно такая же лопата торчала в заду у карикатурного Азарова. Как будто один художник рисовал.
– Когда с этой сукой кто-то разберется? Строит из себя богослужительницу, а сама всех на х…й посылает!
А матерятся здесь больше, чем в Киеве.
Город в кольце. Город боится, бранится и ждет конца перемирия. Ищут шпионов. Все на взводе. Но русский паспорт – почти индульгенция. Загадочное слово «Сноб» вызывает у этих людей приятные ассоциации со снопом пшеницы. Но не у всех.
– Ась? Клоп? Давай, клоп, борща с нами поешь. А сала не надо: от него ноги мерзнут.
Они простодушные, радушные, родные. И я чувствую себя почти предателем, когда слушаю их байки и признания: вот приезжал ваш депутат, привез пулемет по частям – собрали здесь, отправили на фронт, спасибо вам, Женя, что так помогаете!
Антимайдан свое дело сделал – силами этих людей новая власть заняла старые здания. И теперь здесь старики и дети в основном. Из палатки выходит красивая девочка Саша. Краснеет, собирает кудри в пучок и говорит, что обязательно будет журналистом. Или фотографом. Саша кормит пятерых котят и тушканчика. Белый котенок слеп.
Двое парней с нашивкой батальона «Заря» едят борщ. Они только что из-под Металлиста, где продолжаются бои. Измотаны. Ритмично сопят и хрустят луком. Один поднимает голову, и я с трудом фокусирую на нем камеру, а он с трудом фокусирует взгляд:
– Россия?
– Россия.
– Аппарат хороший, Россия. Ты с ним осторожней.
Да, Майдан и Антимайдан похожи. Взяв власть мирно, без оружия, они так легко и глупо передали ее военным.
3. Индия и интеллигент
Давным-давно, в мирное время, ходило шуточное доказательство, что Луганска не существует. И теперь его действительно нет. Сейчас это мумия города. Треть жителей покинула Луганск, оставшиеся – оцепенели.
В шаге от центральной, Советской улицы – тишина. Так тихо, что слышно насекомых и дыхание. И голуби оглушительно воркуют, как в умирающем Краматорске. Только здесь они говорят: «Чеку-у-ушку! Чеку-у-ушку!»
Моя спутница – Ольга Тодорова, луганский журналист. Она учит меня голубиному языку и здешнему сленгу. Частный сектор тут называется не «шанхай», а «индия» – «индивидуальная застройка». Из мелких домишек состоит Луганск, но в сердце «индии» – кварталы сталинок. Фантастическая гостиница «Украина», закрытая за ненадобностью, – неоклассика, конструктивизм и барокко. Вчера замки сняли и здание заселили неизвестные в камуфляже. Такие дела.
Ольга умная, тонкая и грустная – а грустит она от того, что в Луганске теперь не место умным и тонким. Так ей кажется. Может, так и есть. Во всяком случае, конструктивизм и барокко здесь теперь не обсуждают. Возможно, тут теперь никому не место.
4. Жиды и жизнь
Мой стул – с простреленным сиденьем. Я жду.
Здание администрации тоже с дырой – след от ракетного удара. К нему тянутся просители. Крикливая баба с понурым, толстым мужем – типичная луганская пара – жалуется на какого-то Горючко, который вымогает деньги, а в прошлом году «отбуцкал мужа в парке». Горючко – двоюродный дядя кума бывшей жены этого, отбуцканного, и пятеро бойцов ЛНР увлеченно разбираются в степенях родства.
– Знаю я этого Горючку – блатота! – говорит старшой и обещает что-то придумать.
Приходит белокурая грузинка Марго. Луганск – столица 120 наций, о чем Марго не забывает сообщить. Она массажист и хочет хотя бы в санитарки, но лучше – на передовую.
– А мужики сидят и бухают! – сокрушаются бойцы. – А лисичанские-то, слышь, совсем е. нулись – говорят, что у них своя республика. Приказы не выполняют.
Наконец приходит Ксения, руководитель пресс-службы ЛНР. Она бывший корректор, в ее кабинете ревет «Рамштайн» и свистят трофейные попугаи. Я получаю волшебную ксиву – разрешение на съемку даже в комендантский час – и порцию жалоб:
– Не держат нас за людей. Кто-то трактор увидел – и все, нацгвардия в городе! Телефон оборвали.
Впрочем, это война, тут в принципе людей не держат за людей, а то и держат за нелюдей. Гражданские воинственнее военных.
– Господи! Наложи на них коросту, забери их всех, заразу, на тот свет, эту хунту, это жидовское отродье! А все Америка. Андраналин у них такой – ходить с руками в крови.
Мирная старушка кликушествует возле администрации. Вряд ли она знает выражение «диванные войска». Но в них она могла бы стать генералом.
– У меня сын в батальоне «Заря»! И внук в ополчении! Бомбить надо Киев! Вот этими вот камнями бомбить, как они нас бомбят!
– Нет у нее никакого внука, – шепчет другая. – И сына никогда не было. Две дочки у нее. Но говорит правильно. Америка и жиды.
5. Страх и стейки
Ресторан американской кухни «Мелроуз» продолжает работу с белоголовым орланом на витрине и прочей враждебной символикой. Странно есть пеппер-стейк с видом на войну. Но уж очень он хорош, этот единственный пеппер-стейк в Луганской народной республике. Трижды я там обедал, трижды мне описывали обстановку:
– у нас все за ополчение.
– у нас все против ополчения.
– у нас все разочарованы. Были за, но если продолжат стрелять, то против.
Правда в том, что борьба продолжается. По крайней мере, за умы. По крайней мере, на стенах. Повсюду война правок и срач в комментах. «Донбасс – Россия! (зачеркнуто) Украина! (зачеркнуто)». И так на каждом втором доме.
Так у кого же власть? Если власть – это деньги, то она тут киевская – именно Киев ругают в очередях, стоя за киевской же зарплатой. Если власть – это оружие, то она у ЛНР и покровителей ЛНР, потому что они ввели комендантский час и могут стрелять на поражение. Если власть – это пища, то она у народа, как и записано в луганской конституции. Потому что запасов картошки на Антимайдане хватит еще надолго.
А если говорить о власти в переносном смысле, то городом владеет страх.
6. Костры и котята
– Ну и рожа. Надо меня на яблоню повесить, чтобы дети заиками стали.
Украинский журналист с отвращением смотрит в зеркало. Он пьян. Мы тут в гостинице «Луганск» все приняли для храбрости – полный этаж бухих журналюг. Одуревшая бригада телеканала «Россия» вовсе проспиртована: они катаются по войне второй месяц. Только что опять были на передовой. Перемывают кости «Аркаше», то есть Мамонтову, который снимает здесь фильм чужими руками.
– Всех нас тут перебьют, и твои желтушные территорию заселят, – сердится водитель «России».
И китаец – хозяин гостиничного кафе – вежливо кивает. Он произносит слово «десять» как «чики-чики», его лапша отвратительна, но это единственное кафе в городе, которое работает в комендантский час. И потому тут допоздна пьют журналисты и два студента-африканца.
– Слышь, Женя, ты по-английски нормально? Как сказать, чтобы они на х. й пошли?
Темнее ночь – и больше водки, и тягостней разговоры, кто где служил и в кого стрелял. Журналисты тоже люди, и они тоже боятся, и куражатся от страха: а пойдем прямо сейчас в лагерь! Костры снимать!
И мы идем, и случается то, что случается только в кино: в эту самую минуту в лагере ловят двух шпионов: «На землю, бля! Лечь на землю! Докладываю: двое, без оружия, в телефонах обнаружены смс про танки!»
Нас тоже засекают, но я иду замыкающим – и меня не кладут на землю, не бьют ногами, только светят в лицо, принюхиваются и проверяют волшебную ксиву. Шпионов ведут в одну сторону, а нас под конвоем ведут в другую, в гостиницу.
– Тебя е. нуть? Е. нуть? – спрашивает конвоир.
Он очень взволнован.
Милая Саша с баррикад! Ты хвасталась, что у тебя есть планшет и ты на него снимаешь. Если ты вдруг читаешь этот текст со своего планшета, я повторяю то, что сказал тебе за борщом: не иди журналистом. Лучше фотографом. Я, например, сфотографировал твоих котят-подкидышей и тушканчика.
7. Города и голуби
В Луганске и Донецке очереди на вокзалах. В Киев и Симферополь билетов нет. В Россию – только купейные и только на завтра. Ходят тихие женщины в «Адидасе», нашептывают: «Днипро, триста. Триста, Днипро». Одни бегут, другие остаются, и те, кто остаются, делают деньги на тех, кто бегут. Так на любой войне: на волю – втридорога.
Женщины плачут. Плачет ребенок: проиграл в шашки телефону. Старик юродствует:
– Кто крайний в Европу? В Париж за бородавками сифилисными?
И женщины утирают слезы и благодарно смеются, и ребенок смеется за компанию.
– А у нас на блокпосту местная быдлота стоит. Нажрутся и стреляют по ночам.
– А у нас нацгвардия. Та же быдлота. Понадавали автоматов!
– А Львовне аванс дали!
– А мне ничего не дали…
Банки, ящики, клетчатые сумки. Те, кому нечего везти, везут картошку и помидоры. У одного – две коробки контрабандных голубей. Они курлыкают: «Чеку-у-ушку! Чеку-у-ушку!» Они белые. Но на них нужны документы, и проводница кричит, как же все ее достали, а вдруг в голубях бомба, вот сегодня опять подорвали дорогу, подорвали дорогу, понимаете, мужчина, понимаете? И поезд отправляется через минуту, и где же ваши документы на голубей?!
– А ты не кричи на меня! Не кричи, сука! Все под Богом ходим!
Бедные мои люди, что с вами сделали.
В купейном вагоне поезда Донецк – Москва – 36 мест. Пассажир с российским паспортом был один: я. В Серпухове проводница резко хлопнула дверью, закрывая туалеты. Получилось громко, как выстрел, – и сосед мой дернулся, прикрывая зачем-то затылок. Конечная. Теперь они будут жить с нами.
Настоящий Китай
Пролог
В час ночи встало солнце.
Пустая планета вспенилась розовым киселем.
Боинг тряхнуло. Триста китайцев заголосили, глядя на пески Гоби в рассветной дымке.
От Москвы до Гуанчжоу девять часов, от Гуанчжоу до Чанша еще полтора, а от Чанша недалеко и до настоящего Китая. Там туалет – дыра в полу, там Кэмерон снимал Пандору, там едят жареные свиные члены и закусывают водку лотосом
Каблуки и Корчагин
– What a country! What a country!
Это не крик восхищения, а вопрос: ты откуда, небритый белый великан?
Спрашивали в аэропорту. Дальше – ни слова по-английски.
Говорят про загадочное: китайская грамота. Говорят про неправильное: делать по-китайски. В Китае тебя не поймут и сами уйдут непонятые. Настоящий Китай – это катастрофа коммуникации. С вывесок издевается бессмысленная латиница: hong jang quin ming.
В небоскребе с подозрительной надписью hottal я жестами выпрашиваю нож. Консьерж приносит авторучку. Я разрезаю спелый манго дебетовой картой Сбербанка. Все равно тут никто не знает, что это такое.
Мой гид носит алое вечернее платье с погонами. Так она и поднимается на гору Верблюд – платье, каблуки, семь километров сквозь туман. Она, о чудо, знает русский и обожает телефильм «Как закалялась сталь», особенно слова Павла Корчагина:
– Жизнь одна, и прожить ее надо так, чтобы не болеть, стать хорошим чиновником и служить народу.
Да, думаю. Трудности перевода.
Мой милый Мао
В Китае есть островная провинция Хайнань, лесная провинция Хэннань и горная провинция Хунань с населением в 70 миллионов человек. В Хунани родился Мао. Гигантская его голова стоит в центре столичного города Чанша, на Мандариновом острове. Все с Мао фотографируются. Он как статуя Свободы.
Мао – в каждой машине. Китайские водители ставят латунную фигурку Мао там, где у наших грустит икона или кивает головой собака.
Мао – на каждой банкноте, кроме цзяо, копеек: там рабочие и колхозники.
Я плачу за портрет Мао 30 юаней, а одноглазый старьевщик хочет 50. В Китае принято торговаться. Даже за Мао.
Деревенскому мегаполису, где Мао пошел в педвуз, нечем похвастаться, кроме его головы. Чанша похож на колонию съедобных грибов или карстовую пещеру. Сталагмиты небоскребов тычутся в туман. Бирюлево, Купчино, Бутово. Только здания в три раза выше.
Здания и звуки
4 – цифра смерти. В отеле нет 4-го и 14-го этажей. На ковровой дорожке забыт перфоратор. В пустых коридорах носятся летучие мыши, пугают горничных. Отель сдавали к дате. Спешили.
Быстро строится Китай. Кругом новье. В городах – одинаковые небоскребы, в деревнях – одинаковые двухэтажные домики: облицовка с фасадов, голая штукатурка по бокам.
Звуки Китая: рев стройки. И еще жужжание полночных мотороллеров.
Они тут у каждого. С фургоном. С зонтиком. С прицепом. Полицейские ездят вдвоем. Крестьяне, как с гравюры, в соломенных шляпах и беззубые, – впятером.
Трещит Китай.
Голосят зеленщики. Лавочник выставил магнитофон, и вся улица танцует: вечерняя гимнастика. Рядом у открытого гроба поют веселые песни. Эхо гуляет по одинаковым дворам.
Блочные семиэтажки, на окнах решетки в мелкую сетку. На первом этаже – лавки. Аптека с толчеными рогами и корешками, водочный бутик, зубоврачебный кабинет под открытым небом, вонючая закусочная, где сидят тихие мужчины в майках, задранных до сосков. Дурная бесконечность кварталов. Дом в ширину, пять в длину.
Новый квартал – те же лавки в другой последовательности. Дом в ширину, пять в длину. Бутик, аптека, водка, зеленщик, крохотная целомудренная массажистка (выразительный хлопок по паху и твердый возглас, похожий на «нет»), зубной врач, магнитофон, похороны. Старичье играет в карты. На перекрестке затор, двадцать мотороллеров терпеливо ждут: сел на зебру и какает мальчик.
Звери и запахи
Китай пахнет жареными свиными членами.
Я их сначала принял за хвосты, но бродячий торговец закусками показал на себе, откуда растет эта штука.
Говорят: что угодно может стать еврею фамилией, а китайцу едой. Это не шутки. Главный отдел в магазине – закусочный. На прилавке маринованные и засахаренные части животных. Яркий пакетик с чьей-то нижней челюстью. Фасолевое мороженое. Острый горох. Сладкая репа. 60-градусная водка, пахнущая ацетоном.
В разделе национальных сладостей – брикеты с изображением киви, но со вкусом сырого подвала. Съел и не знаешь: проснешься завтра, не проснешься? Еда непонятней языка. Тут, перепутав сладкое с острым, вдруг понимаешь: даже Европа не центр мира, а уж Россия – точно мировые задворки.
А на задворках Китая пасутся куры. Уток носят в плетеных корзинках. В клетке сидит капибара. Дай ей Бог здоровья. Все, что сегодня чирикает, завтра съедят.
Я видел единственного котенка. Страшно подумать, что стало с другими.
Города и горы
Миллионы русских ходят в церковь, торчат в соцсетях и смотрят глупые шоу. У китайцев все то же самое: буддизм, конфуцианство, социальная сеть Weibo, местные шарлатаны и телезвезды – доступное убожество, утешающее в нищете. Но у китайцев есть еще и природа. Внутренний туризм тут дешевле, чем в России, есть профсоюзные путевки, и орды китайцев катаются по Китаю, чтобы утешиться красотой.
– Это, ааа, гора Перец, она, дык, ааа, высокая, дык, называется, ааа, дык, Перец-гора. Эта гора, она, дык, ааа, перец.
Мой гид (не тот, который в погонах) безграмотен и услужлив. Чтобы понять его, нужно воображение. Чтобы понять китайскую природу, оно тоже нужно. Китайцы любят называть неодушевленное. Чтобы – посмотрите направо – не просто красивая скала, но и сравнение было красивое: перец, фазан, верблюд, черепаха.
В горной Хунани есть фантастический национальный парк Улинъюань. Пейзажи, вдохновившие Кэмерона. Гигантские каменные столбы. В «Аватаре» они парят. Вживую они лучше. Вживую они мозг выносят.
Чуть восточней – гора Ланшань, часть горной системы Данься. Столбы такие же. Мозговыносящие. Все это песчаник. Мягкий материал. Нет ничего беззащитней песчаника. Несколько тысяч лет – мгновение – и горы изменят форму, пропадет красота. Но китайцы этого не знают. Они галдят на смотровых площадках, глядя на недолговечные скалы, символизирующие вечность.
На фоне вечности умирают и женятся. На правом берегу реки Фуи стоит гора Генерал: каменный великан в боярской шапке. На левом берегу играют свадьбы с видом на правый. Невеста хохочет, зубы – мелкий китайский жемчуг.
Дожди и древность
У китайцев почти самая длинная история в мире, но они не понимают истории. Им все равно – древняя пагода или копия древней пагоды.
И потому скучны китайские музеи: дюжина фото и пара монет с дыркой. И потому поразительны древние города, где новодел и старина сплелись. Субтропические дожди старят бетон и плитку, и кажется, что эта хрущевка-дэнсяопинка простояла здесь не тридцать лет, а три тысячи.
Таков городок Хунцзян, торговый центр империи Цин. В тени новостроек – четыреста исторических зданий. Большинство жилые. Некоторые – заспиртованные: бордель, курильня, налоговая, гостиница, храм. В борделе зазывают сластолюбцев, в курильне дремлет наркоман, в налоговой бьют палками. Все очень современно. Это историческая реконструкция. А рядом жизнь. Точно такая же, только опиум запрещен.
Огни и окна
Китайцы изобрели фейерверк. Они любят, чтоб тьма сверкала и искрилась. Они все украшают светом. Их стихия – нуар, неон, игра болотных огоньков, «Бегущий по лезвию».
Они не знают меры. Гигантскую карстовую пещеру Хуанлундун (пещеру Желтого Дракона) совершенно испоганили: сбили лишние сталактиты, оставшиеся подсветили для надежности красным и зеленым, как сельский клуб на Новый год.
Но есть места, где свет волшебен. Фэнхуан, город Феникса, еще недавно – деревня, теперь – китайский Лас-Вегас. Днем здесь провинциальная экзотика: стирают белье у свайных домиков, испражняются туда же, в реку, и там же, по реке, катаются гондолы, и с гондол поют юноши.
А ночью – царство света. Открыты кабаки и подпольные курильни, льется рисовая водка под клубные ремиксы патриотических песен. У шеста вместо голых девушек – мужчины в шапках с рогами. Ничего не понятно. Пляшут девушки в ухмыляющихся масках. Рев. Вонь. Угар. В бар зазывают с трещотками. Вышибала изображает пьяного и хлопает себя по животу: у нас хорошо, заходи, великан. Вместо вывесок висят пустые пивные бутылки: тут славное место, тут много выпито. Китай веселится. Китай зовет. Двери распахнуты. Сладко и пьяно внутри. И страшно.
Эпилог
Ночь – для огней и удивления. А для грусти и трезвости – утро. Разбредаются туристы. Встает над городом запах рисовой отрыжки. Заводятся мотороллеры. Ну вот я и привык к Китаю, к его ночной роскоши и утренней бедности. Хвала западным и восточным богам, днем здесь так же, как повсюду в мире. Нищий лижет фасолевое мороженое у входа в банк, и каменный лев равнодушен.
Забытый русский
В полдень приходит буря. Ветер срывает гранаты с веток, сладкий ручей течет по брусчатке. Барабанят по черепу грецкие орехи – страшно, как под обстрелом, сильно до синяков. Где-то гремит листовое железо, тонкие женщины в черном бегут, закрывая лицо платком. Через миг – тишина, и торговцы старьем вылезают из «Жигулей», расстилая свои ковры и раскладывая пластинки. Грузия пахнет вином и плодами, давленым ркацители и корольком, и пыльной подушкой из бабушкиного шкафа.
Сюда надо осенью. Меняя плюс два на плюс двадцать, грязный снег на вечную зелень, опухшую московскую луну на грузинский месяц – южный, поджарый, рогами вверх. И надо сюда на неделю минимум, иначе – впустую. Тбилиси – для неторопливых.
Шведские дизайнеры за дикие миллионы придумали ему логотип и слоган: «Город, который вас любит». Да, любит, но не лезет целоваться. Да, дружелюбен, но не запанибрата. Объятия раскроет, но не в первый день. И не ищите его любви в крепостях и музеях, сжимая в руке сувенирный магнитик. На Тбилиси недостаточно смотреть из окна отеля. С Тбилиси нужно разговаривать.
Мой первый грузин продает крашеные розы на улице Пушкина, он образован, подозрителен и мохнат, как филин. В СССР он был искусствоведом.
– Нико Пиросмани знаешь?
– Знаю.
– Котэ Микабердизе знаешь?
– Знаю.
– Шота Руставели знаешь?
– Знаю.
– Докажи!
Я сбивчиво цитирую перевод Заболоцкого, и грузин дарит мне ядовито-синий букет.
Мой второй дремлет в хинкальной у кувшина подслащенного саперави, он уверен, что Саакашвили спланировал войну на Украине, он может показать секретную, грузинскую могилу Берии и очень уважает Путина.
– Он – сила! Он – маму знал!
– Чью?
– Всэх!
Мой третий – таксист, и он выпевает названия улиц. По-русски он знает три слова: прямо, тюрьма и волки. И мы едем прямо. «Иерусалеми, Бетлеми, Сиони», – поет таксист. Черная «Волга» скачет по ямам. Под колесами хаос. В тупике Сиони застряли два джипа, на капоте стакан и нарды: отчаявшись спастись, мужчины мечут кости. «Волки! Тюрьма!» – важно говорит таксист. Черная «Волга» ревет, покоряя переулки Старого города.
Прочь с площади Свободы, где Церетели что-то изваял. Прочь с проспекта Руставели, где у заколоченной Академии наук торгуют китайскими кинжалами. Прочь из церквей и крепостей – прочь от открыточной красы осеннего Тбилиси. Шаг в сторону: в духан, в закопченный подвал, где пьют с утра, где хрупкие старики целуются над бутылью самого дешевого белого. Где повариха размером с гору снисходительно предложит гостю десять огромных хинкали. Настоящий грузин – двадцать возьмет.
Да, это Тбилиси, город кабаков и коммуналок. Их здесь называют красиво – «итальянские дворики»: дряхлые дома персиковым кирпичом наружу, барочными окошками внутрь. Старый город весь такими застроен, и в этих двориках бесстыдно сушат белье, свирепо сражаются в шахматы и страстно соревнуются, у кого тяжелей балкон и длинней винтовая лестница, ведущая в никуда, – здесь любят чугунную роскошь.
Один грузин прожил в таком дворике полвека. Все ему надоело, а особенно – общий санузел. И на гигантском своем балконе он выстроил нужник – прямо напротив церкви Святого Георгия. Много лет нависал над городом нужник. При Саакашвили грузину наконец провели канализацию. В тот день, говорят, он вышел на свой балкон, с торжеством усмехнулся и нужник тот демонтировал. А балкон до сих пор всем показывают как символ грузинского упорства и терпения.
Тут, впрочем, у каждого старого дома балкон или балкончик, и на каждом монументально бездельничает голый по пояс, жирный, мохнатый грузин. А рядом рекламируют депиляцию, и точно такой же грузин, но младенчески гладкий, обнимает какую-то барби с подправленным носом. В этой картинке грузинское будущее и прошлое, Европа и Азия (что бы это ни значило), и драматический выбор, который лучше вовсе не делать, раз так одуряюще пахнет осень и буря уже прошла.
И есть еще место, где все смешалось: Сухой мост. Слева от него самый большой блошиный рынок на Кавказе. Справа – хрустальный Дворец правосудия. Сверху, с горы Мтцаминда он выглядит как инопланетный лайнер или колония громадных поганок. В Грузии тринадцать таких сверхсовременных штуковин – можно за пять минут развестись и жениться снова, можно без взяток и проволочек вообще что угодно. И у прозрачных, фантастических стен притулилась барахолка, где до крови, до слез торгуются за пригоршню транзисторов или фамильное серебро.
Есть романтическая легенда о Грузии: вот-вот из ночной мглы выскочит бородатый закавказский Байрон и поскачет куда-то по холмам, блудить и мстить. Есть советский миф про вино, любовь и гостеприимство. И есть настоящее. Пришел один мужик в университет, к бывшей жене, преподавательнице, выпустил ей три пули в грудь, а четвертую себе в лоб. Такова изнанка милой грузинской патриархальности. Впрочем, знакомые убеждают, что все настоящие бандиты давно переехали из Тбилиси в Москву, а здесь убивают лишь по двум самым серьезным поводам: женщины и вино.
Да, здесь по-прежнему много любят и пьют, и очень много играют. В казино поет Вера Брежнева и разоряются богатые армяне. А местные, кто победней, разложили карты за углом, в тени орехового дерева, на мусорном баке. Дернулась крышка – выскочил наружу ошалелый сиамский кот, испортил игру. Бранятся мужчины, раздают заново. Рядом восемь пустых бутылок в ряд и яблочный огрызок. Кто-то отлично позавтракал.
Узнав, что я из Ленинграда, мужчины складывают карты и заводят неспешный разговор. Далеко ли до Метехи? Да все тут рядом, как от Стрелки до Дворцовой, дорогой! И мы вспоминаем город, так непохожий на этот, и на исходе воспоминаний припрятанная бутылка бесценной «Хванчкары» меняет хозяина.
Старики тут еще говорят бесконечные тосты, но их внуки уже рисуют граффити и напевают Joy Division. Продают еще восемь видов чугунного Сталина, но девушка в книжном уже не знает русского слова «милая». Я купил у нее репродукцию Пиросмани с оторванным уголком. Успейте в этот город, пока он еще понимает ваш язык.
В Домодедово ту бутылку разбили, но я не грущу – мой чемодан теперь пахнет, как Тбилиси после бури.
Старый Вильнюс и «люди Книги»
Иногда по Старому городу бродят странные люди с растрепанной книгой, и сами они растрепанные. Что-то бормочут по-русски, нервно листают страницы, вглядываются в таблички. Это не фанатики. Это паломники. Люди Книги. Так они сами себя называют, обозначая заглавную букву – придыханием.
Я один из них. Я, как и все они, полюбил Вильнюс ребенком, заочно и навсегда. Потому что она, эта книга – про Вильнюс. Точнее, про девочку, которая жила в нем век назад.
«Я у мамы и папы одна. Ни братьев у меня, ни сестер. И это уже – пропащее дело! Даже если у нас еще родится кто-нибудь – мальчик или девочка, все равно, – мне-то от этого никакого проку! Мне сейчас уже девять лет, а им будет – нисколько. Как с ними играть?»
Так начинается трилогия Александры Бруштейн «Дорога уходит в даль…». Время действия – рубеж веков. Место – довоенная, дореволюционная Вильна.
Люди Книги – сыщики и следопыты. Ищут фамилии и адреса. У каждого героя «Дороги» есть прототип. Каждое место можно найти на карте. И когда я сказал, что еду в Литву, знакомые люди Книги всполошились: обязательно, говорят, найди тот дом. Дом на улице Новой, где жила главная героиня, Сашенька Яновская – Александра Бруштейн. И я нашел. Сейчас это угол Islandijos и Vilniaus.
Мемориальной таблички там нет. На фасаде свежая краска. Отсюда Сашенька каждый день ходила в институт, и я следую за ней знакомой дорогой, иду медленно, глазея на каждую витрину, как она глазела. Жаль, на улице Tracu давно уж нет того чайного магазина.
«В этом магазине у меня есть друг, и мне совершенно необходимо показаться ему во всем великолепии коричневого форменного платья, ученического фартука, моего нового ранца с книжками – ну, словом, во всем блеске. Этот друг мой – китаец, настоящий живой китаец Ван Ди-бо. Его привезли в прошлом году специально для рекламы – чтоб люди шли покупать чай и кофе только в этот магазин. И покупатели в самом деле повалили валом. Всякий покупал хоть осьмушку чаю иди кофе, хоть полфунта сахару – и при этом глазел на живого китайца. Так и стоит с тех пор Ван Ди-бо в магазине с утра до вечера, рослый, статный, в вышитом синем китайском халате. Голова у него обрита наголо, только на затылке оставлены волосы, заплетенные в длинную косу ниже поясницы. Ох, мне бы такую!»
Институт, в который Сашенька ходила мимо чайной лавки, – это Виленское Мариинское училище на улице Dominikou. В 1956 году, когда вышла Книга, автор Гарри Поттера еще не родилась, и всем советским школьникам Институт заменил Хогвартс. Абсолютно реалистичная «Дорога» стала детским фантастическим эпосом. И в самом деле, жить в книжной Вильне страшней, чем в кровавых королевствах «Игры престолов», и увлекательней, чем путешествовать с хоббитом по Среднеземью.
«Юлька отбрасывает в сторону тряпье, которое служит ей одеялом. При неверном, полосатом свете ночника я вижу Юлькины ноги. Конечно, это ноги. На них пальцы с ногтями, подошвы, все как у людей, и все-таки – ах, что это за ноги! Никогда я таких не видела. Худые, тонкие, как макароны, на щиколотках круглые опухоли, как браслеты, а коленки выпячены вперед и в стороны, словно вывихнуты. Я невольно подбираю ближе к себе мои собственные ноги. Как-то неловко, что они здоровые, могут бегать…»
Это про лучшую подругу Сашеньки. Однажды больная рахитом Юлька все же выходит из своего подземелья, подставляя больные ноги солнцу. В книге не сказано, где это происходит. Известно лишь, что там «юркая извилистая речка Вилейка огибает сад, делая около него петлю, перед тем как впасть в реку Вилию». Я нашел это место. Это парк Sereikiškių. Я сижу у излучины реки, давно изменившей имя, и радуюсь, как ребенок. И еще я гляжу на чисто литовскую достопримечательность – цветные точки в небе – я вспоминаю, как в этом городе поднялся в воздух самый-самый первый воздушный шар.
«Возвещенный афишами полет Древницкого перебудоражил весь город! Кто может, покупает билет в Ботанический сад, чтобы видеть самый взлет воздушного шара с воздухоплавателем. У кого нет денег на билет, те карабкаются на деревья, на балконы, на крыши домов, на колокольни церквей и костелов. Мы идем в Ботанический сад всей семьей – и мама, и Поль, и Анна Борисовна, и я. Даже папе неожиданно повезло: его никуда не вызвали к больному, и он идет с нами. В Ботаническом саду, на большом кругу, где зимой устраивается каток, разожжен гигантский костер. Над костром тихо покачивается громадный матерчатый шар: он медленно наполняется нагретым воздухом, как спеющая ягода наливается соками…».
Людей книги – сообщество в Живом Журнале – придумал журналист Юрий Васильев. Но эта масонская ложа, этот монашеский орден существовал задолго до ЖЖ. Когда-то «Дорога уходит в даль» была популярней, чем «50 оттенков серого». Бабушка читала ее маме. Мама мне. Я прочитаю ее своим детям. Культ Книги был настоящий, народный, без официальной поддержки и массовых переизданий. Служители культа узнавали и узнают друг друга по забавным фразочкам, по мемам. Пароль: «бедная Андалузия была несчастная страдалица». Отзыв: «пецарь рычального образа». Вам это чушью покажется, если не читали. Но те, кто бродит по Старому городу с растрепанной книгой в руках, обязательно рассмеются. Это же детская книга. Там много смешного.
«После этого несчастная страдалица Андалузия уже больше никогда, никогда не выходила замуж…» Все, – говорит Маня, дочитав «Страдалицу Андалузию». Тут из соседней комнаты раздается голос папы. Он, оказывается, лежал на диване и слушал все, что мы читали.
– Девочки! – говорит папа. – Я тут нечаянно услышал эти два произведения. По-моему, это бред. И знаете, что самое плохое? Это печальный бред!»
Много смешного в Книге и страшного много. А что делать. Российская империя. Нищета. Неравенство. Антисемитизм. Зверства полиции. Сашенька Яновская взрослеет, и вместе с ней рождается и взрослеет двадцатый век.
«Одни говорят, что на Анктоколе, другие – что на Большой Погулянке, – но все слухи сходятся на одном: на одной из улиц забастовщикам удалось сбиться в колонну. Они двинулись рядами по улице, подняли маленькое красное знамя и запели запрещенную правительством революционную песню. Тут на них налетели казаки. Наезжая конями на людей, казаки смяли шествие рабочих и пустили в ход нагайки. Песня оборвалась, красное знамя исчезло».
Снова идет бесконечный литовский дождь, темное что-то течет по асфальту, а я представляю брусчатку, и раненых людей на ней, и девочку, которая видела все это своими глазами.
«– Три аршина – это ведь маленький дом?
– Н-небольшой… – признает папа.
– Как же мы все там поместимся?
– Нет… – неохотно роняет папа. – Я там буду один. Без вас.
– А мы?
– Вы будете приходить ко мне в гости… Вот ты придешь к этому домику и скажешь тихонько – можно даже не вслух, а мысленно: «Папа, это я, твоя дочка… Пуговица… Я живу честно, никого не обижаю, работаю, хорошие люди меня уважают…» И все. Подумаешь так – и пойдешь себе…»
Это они у Ратуши разговаривают. В конце XIX века там был театр, а место называлось Театральным сквером. К западу от него лежал еврейский квартал. Потом там сделали гетто.
«Папа мой, папа!.. Через пятьдесят лет после этого вечера, когда мы с тобой «кутили», тебя, 85-летнего старика, расстреляли фашисты, занявшие наш город. Ты не получил даже того трехаршинного домика, который тебе сулила Юзефа, и я не знаю, где тебя схоронили. Мне некуда прийти сказать тебе, что я живу честно, никого не обижаю, что я тружусь и хорошие люди меня уважают… Я говорю тебе это – здесь».
Иногда по Старому городу бродят странные люди с растрепанной книгой, и сами они растрепанные. Что-то бормочут по-русски, нервно листают страницы, вглядываются в таблички. Это хорошие люди, люди Книги. Вы покажите им тот сквер, где давным давно папа разговаривал с девочкой.
Путешествие по Изумрудному берегу
Ольбия. Мавры и свастика
– Ну, деревня! А одуванчики – фу, совсем как наши.
Русские туристки цокали по трапу. Я пожелал им рухнуть с метровых каблуков и проследовать обратно по маршруту Ольбия – Женева – Москва.
Тут море – чистый изумруд и песок золотится. Тут устраивал оргии Берлускони, тут на рейде стоит грандиозная яхта Усманова, тут – по слухам – тайный дворец Путина. Север Сардинии, Costa Smeralda – самый дорогой курорт Европы.
Пейзаж тут и правда сельский. Остров счастливо избежал прогресса, войн и потрясений. Главное событие сардинской истории случилось тысячу лет назад: в XI веке местные разгромили малочисленный отряд мавров, чем гордятся до сих пор, поместив на флаг четыре черные отрубленные головы.
В начале шестидесятых его королевское высочество, принц Карим Ага-хан IV, верховный исмаилит женевского разлива, придумал собрать в этой средиземноморской Чечне всех богачей Старого Света. И Сардиния расцвела. Ага-хан превратил Изумрудный берег в гетто для миллиардеров, а после распродал игрушки и оставил себе лишь пару дворцов, яхт-клуб, да аэропорт Ольбии, при виде которого туристки восклицают «ну, деревня».
Сама же Ольбия – типичный итальянский городок: улочки, кофейни, пиццерии, где не говорят по-английски, но накормят бесплатно, если гость понравился. В стену древнего храма лупят мячом, и эхо пугает поджарых кошек. А еще Ольбия – город граффити, иногда прекрасных, чаще пугающих. Тут кругом свастики и надписи в том духе, что Италия – не Европа, Сардиния – не Италия, а Галлура (север острова) – не Сардиния. Пар уходит в свисток; преступности здесь нет.
Сан-Теодоро. Сыр и устрицы
Зимой в Сан-Теодоро делать нечего, но летом городишко вырастает в двадцать раз. И в сердце стотысячной деревни – Пунтальдия, местная Рублевка, город в городе. Здесь нет кондиционеров: виллы и отели выстроены ровно на таком расстоянии от моря, чтобы ветерок дул, но не продувал насквозь.
На горизонте остров Таволара – гигантская столовая гора, торчащая из воды, – заменяет сардинцам синоптиков. Если над вершиной ее собирается облако, похожее на шарик лучшего в мире итальянского мороженого – значит, завтра сирокко, хорошей погоде конец. Ветер дрянь, хуже питерского – остается бежать прочь от берега.
По дороге в горы повсюду торгуют едой. И даже на выезде из Пунтальдии стоит совершенно русского вида дед, борода лопатой, весь увешанный сыром.
– Не покупайте у него, – бурчит мой проводник Джулиано, – он крыса. Его в девяностые мафия подстрелила. Купите лучше у меня.
У Джулиано много сыра, мяса, алкоголя, в избытке кур и лошадей, а также два десятка кошек, которые паразитируют на сардинском изобилии и доброте гостей.
Джулиано занимается агротуризмом. В программе – джипинг, долгая прогулка в горы, купание в ледяном водопаде и ланч в сельском стиле: салат, молочный поросенок и миртовый ликер.
Фабричный «Мирто» – страшная гадость, как сироп от кашля. Но отказываться от домашнего – глупость и самоубийство.
Если же вершина Таволары свободна от облаков, забудьте о горах и проведите день у моря, на самых чистых пляжах Тирренского моря – так пишут в рекламных проспектах, но правду же пишут.
Налево от пляжей – устричный кооператив с производственной мощностью 30 тонн в год. Увидев изможденных красавиц с жуткими устричными ножами в руках, не вспоминайте о капиталистической эксплуатации, которая скрывается за всяким пасторальным пейзажем. На самом деле эти женщины – совладелицы кооператива, сами выращивают устриц, сами сортируют их на гранде, медиа и пикколе, сами делят прибыль.
Все они раньше работали в столичных автосалонах, банках, галереях. Но с устрицами, говорят, веселей. Они предпочитают их в чистом виде, с бокалом верментино. Это недорогое белое, в котором дегустаторы отмечают неведомые «нотки гранита» – в общем, просто легкое вино, спасительное в жару и незаменимое после дня, проведенного с уродливыми моллюсками.
Аджус. Жизнь и смерть
Здесь море – кормит, горы – кормят, здесь все сочится жизнью: ткни в землю палку – зацветет. И самое страшное для жизнелюбивого сардинца – molte niedda, «черная смерть». Это значит – долгая, мучительная, от старости.
Премудрый Тимей из Тавромения утверждает, что Сардиния подобна Спарте: стариков здесь сбрасывают со скалы. Это, конечно, черный пиар образца IV в до н. э: сам-то Тимей был сицилиец. Как бы то ни было, обычай умерщвлять ближнего сохранился здесь до начала XXI века.
О да, на Сардинии до недавнего времени процветала народная эвтаназия. Профессия называется femmina s'accabadora, «женщина, которая убивает». В Лурасе, где музей аккабадор, выставлены орудия ритуального убийства – особые подушки и молоток из оливкового дерева. Но соседний Аджус – городишко с населением в 1634 человека – гораздо интересней Лураса. Поскольку аккабадор приватизировали зловредные соседи, Аджус специализируется на бандитах и может похвастаться единственным в мире музеем бандитизма.
Одно дело, «criminali» (обычные преступники), другое – «banditi» (эдакие робин гуды). Паола Арджолас, первая сардинская феминистка, тоже отсюда родом. В 1880 году ее сестру изнасиловали и убили другие banditi. Госпожа Арджолас нашла и застрелила что-то около дюжины человек и стала народной героиней, благо на Сардинии развит матриархат, а кровная месть до сих пор в почете. Но когда стало известно, что женщина сотрудничает с полицией, с ней поступили так же, как с теми маврами: зарезали, а голову посадили на кол.
Аджус прекрасен и без убийств. Здесь строят не из дешевых бетонных блоков, как на побережье, а из полновесного камня, здесь стены увиты цветами, а мостовая изрыта глубокими ливнестоками – это горы, тут снежно, и весной по брусчатке струится талая вода. До пляжей далеко, не гомонят туристы. Вот-вот выскочит из-за угла благородный бандит или бешеная аккабадора. Но нет, тиха сардинская ночь
Ла Маддалена. Революционеры и омары
Слева – море, но не фирменного изумрудного, а бирюзового оттенка. Справа – золотые скалы в пятнах алого мха. В мае он обрастает нежным белым пухом – цветет. Здешний пейзаж неприлично похож на фотообои, но все взаправду.
Ла Маддалена – архипелаг. На одном из его 62 остров умер Гарибальди – пират, герой, аферист и революционер. От старости, но без помощи аккабадор. Он умер не за то, чтоб русские туристы поедали боттарго и фреголо с видом на безупречное сочетание цветов. Но перед смертью, говорят, попросил вынести ложе на пляж – и смотрел на то же море, на которое теперь смотрят они.
Ла Маддалена торгует Гарибальди, зазывает в дом-музей Гарибальди, штампует магнитики с Гарибальди, но приезжают сюда люди, далекие от истории объединения Италии. Стинг, эмир Дубая, Роже Федерер, Мерил Стрип, Джанет Джексон, Тимати, Алишер Усманов, Игорь Шувалов и беглый премьер-министр Украины Николай Азаров.
Эти люди здесь не из-за домов-музеев, и даже не из-за восхитительного омара в каталонском стиле. Уж больно бухта удобная – в распоряжении гостей буи и тендер. И дальние потомки Гарибальди паркуют свой уже не пиратский фрегат и спускаются отужинать на берег.
Здесь много русских. В отеле с дизайнерскими сьютами по 700 евро за ночь самый шикарный, пошлый и раззолоченный номер называют «russian». А один русский, говорят, арендовал целый остров и потребовал, чтоб тот стал необитаемым. Сделали. В кустах спрятались официанты, и омар появлялся сам собой, как бы концентрируясь из лунного света. Здесь можно – все. Вопрос в цене.
Порто-Черво. Миллиардеры и мечты
Порто-Черво называют городом миллиардеров, но это не город. Это гостиный двор. Люди здесь не живут – они живут на виллах, а сюда приходят потусоваться: в рестораны, лавки, клубы и на пляжи.
В сезон, с июня по октябрь, сюда съезжаются женщины, красивые, как богини, и мужчины, красивые, как женщины. Но это не миллиардеры и их подруги. Это – наоборот.
Средняя зарплата официанта в Порто-Черво – 2000 евро в месяц. Удачливый московский бездельник зарабатывает столько же, просто просиживая штаны в конторе, но для итальянца это много, очень много, можно потом целый год жить. А еще из официантов можно выбиться в люди, и эта мечта заставляет очередное поколение красавцев и красавиц надевать передник и говорить «чего изволите» на пяти языках. Рассказывают, впрочем, что однажды официант действительно выслужился до директора по закупкам. В жизни такое случается гораздо реже, чем в плохом Голливуде, но все-же иногда случается.
Хотите сделать этим людям приятно – сделайте scarpette (дословно – детская тапочка, пинетка). Так называют кусочек хлеба, которым собирают с тарелки соус, если очень вкусно. Поели рыбу-удильшика с красным луком или каракатицу с сицилийским апельсином сангвинелло – немедленно делайте скарпетте. Официант заулыбается. Хочется верить, что искренне, а не за чаевые.
Смотреть тут нечего. Природа безупречна, но не безупречней, чем в других городках Изумрудного побережья, а с достопримечательностями и вовсе беда: обнесли кучу камней веревочкой – вот вам и музей.
Местные Лувр, Прадо и Эрмитаж – это «Розмарин», «Порт оленя» и «Лисичкина бухта». Последний даже засветился в фильме «Шпион, который меня любил» вместе с новеньким спорткаром Бонда и другими достижениями семидесятых. Все три построены по проекту Жака Куэля, великого последователя Гауди. «Дом – это живой организм», – говорил Куэль, и снаружи его постройки в самом деле кажутся инопланетной живностью: мягкие, текучие, очень «биологичные». Внутри – нарочито грубые известковые стены, цветные витражи, каштановые балки, тростниковый потолок, немного чугуна и соломы для колорита. Подчеркнутая природность, демонстративная скромность, легкое неудобство, за которое платят от 3 тысяч евро за ночь. Гениальные интерьеры подпорчены плазменными телевизорами – хозяева хвалятся, что есть даже Первый канал. Но зачем тут Первый канал?
Порто-Ротондо. Богема и ностальгия
У простолюдина мало радостей: посадить дерево да вырастить сына. Граф Луиджи Дона Делле Розе построил город. В нежном возрасте 24 лет он придумал, что должен быть на море уголок, где никогда не смолкает музыка, нарисовал карту и увековечил имена друзей в названиях скверов и улиц.
– Я сделал мосты, – говорит граф, – чтобы люди ходили пешком
– Чтобы люди ходили пешком, – говорит граф и добавляет грейпфрутовый сок в просекко, – я сделал дороги узкими.
«Я создал, я сделал, я придумал». Но сейчас граф – как бог у агностиков: дарит этому месту почетное, но почти незаметное присутствие. От былых владений остались вилла и яхт-клуб. Граф и сам счастливый обладатель парусной яхты длиной 32 фута, но не презирает и обладателей моторных.
– Кто любит женщин, тот любит женщин. Не блондинок и не брюнеток. Кто любит море, тот любит море.
Порто-Черво – сардинская Москва, гетто для богатых. Порто-Ротондо – сардинский Петербург, резервация для богемы. Таким его задумал граф.
Строили его в шестидесятые, и городок усвоил стиль тех лет: место удивительно постмодернистское. Экуменический храм, облицованный русской сосной, не освящен для служения, и псалмы распевают в местном амфитеатре. Но главная достопримечательность – не театр и не церковь, а gelateria – такая же старомодная, как словосочетание «кафе-мороженое».
С этого здания и начался городок. У Джованни Ломбардо уникальный титул: личный мороженщик Ага-хана IV. Но это в прошлом. Сейчас он делает 70 разновидностей мороженого, из них дюжина фисташковых. Причем фисташки должны быть не местные, а обязательно с подножья Этны: Ломбарди сицилиец и патриот.
Он, как и граф, жалуется на смену поколений. Старший сын философ, младший – инженер, вот ведь бездельники, некому продолжать семейное дело, только дочка помогает, но она пока маленькая, а потом, как сыновья, – на материк.
Пока одни бегут сюда с материка, чтобы раскалывать устрицы и подавать верментино богачам, другие бегут отсюда на материк, к большой и стремительной жизни. Такова судьба всех курортов. Остаются могучие старики вроде Ломбарди. И графа. Сейчас он красиво дряхлеет и вспоминает, как здесь, на его утопающей в зелени вилле, Ширли Макфейн подпевала Полу Маккартни.
Возможно, это старческая байка. Но лет через тысячу новый Тимей из Тавромения расскажет ее заново, и это будет – история. Есть, мол, в сердце бирюзового моря такой зеленый остров, а у него изумрудный берег, а на нем все поют и едят фисташковое мороженое.
Один день на фабрике бриллиантов
Поезд Москва – Париж отходит в 7.40. Мужчины раздеваются до маек и щурятся от солнца, женщины дремлют, подложив под голову ладонь. Сидячий вагон опорожняют в Смоленске, парижский поезд едет дальше.
Смоленск – город-герой, не переживший своего геройства. После войны тут жили в землянках. Пустоту заполнили кое-как: фрагмент крепостной стены упирается в сталинку, панельный небоскреб торчит меж изб. Рекламируют работу грузчика и лечение алкоголизма – два тупиковых пути предлагает Смоленск. И третий путь – фабрика бриллиантов на улице Шкадова.
– Здесь не надо фото. Люди неглиже.
В цеха два входа: женский и мужской. Каждое утро людей раздевают до трусов и выдают рабочую одежду. Каждый вечер – раздевают до трусов и выдают гражданскую. Все не так, если где-то в цеху бриллиант вылетает из шлифовального круга. Загорается белым и красным слово «потеря», и людей раздевают уже догола. Цех пылесосят, мусор сжигают, бриллианты – не горят.
Раньше была еще раковина и человек при ней. В раковину плевали. Человек проверял, нет ли в слюне бриллиантов. Потом человека сократили. Как и психолога, который следил, чтоб у рабочих не было срывов.
– Наш огранщик получает 30 тысяч рублей. Но по сравнению с индийским огранщиком он берет очень дорого. 90 % мировых алмазов гранят индусы. У нас почти 2 тысячи человек работают, а у них – миллион. Гигантский выбор рабочей силы. У них и детский труд, и без выходных, и на логистику не тратятся, и на отоплении экономят. И к ним не придет Ростехнадзор, не скажет – как это так, эксплуатируете людей. Все это нам мешает с ними конкурировать.
Гендиректор завода – Шкадов-младший, сын того Шкадова, в честь которого улица. У него грипп. Я с замом, Николаем Афанасьевым. Это его слова – курсивом. Может показаться, что мы с ним вместе бродим по цехам, перекрикивая рев шлифовки. Но мы обедаем, звенит хрусталь, и визави неторопливо объясняет, откуда берутся алмазы. Сначала в Москву выезжают эксперты по сырью. Говорят: отсыпьте нам таких-то и эдаких немного, с графитовыми включениями. Мешок алмазов погружают в неприметный голубой фургон спецсвязи. Если увидите такой на трассе М1, знайте: внутри – угрюмые автоматчики и куча денег.
Серую робу на плечи, и айда в цех. Миллион баксов похож на грязный снег. Я держу на ладони пакетик сырья – серых, корявых алмазов.
– Это же десять квартир.
– Десять сроков! – хохочет огранщик и прячет под рукав татуировку: сердце, якорь, Саня.
Я вызубрил этапы производства: разметка – распиловка – обдирка – подшлифовка – огранка – проверка – оценка. На первом этапе царит Филимоныч. Он фотогеничен. Разметчиков много, а снимают только его. Профи узнает профи по хвату лупы. Филимоныч берет лупу здорово. Так все говорят.
Всякий алмаз можно разметить по-всякому. Бывают сложные – в работе по неделе. Бывают проще, по пригоршне в день. Филимоныч заранее знает, что получится из камня после огранки: три кабошона, две «принцессы» или один «радиант».
– Мы раньше как работали? Калькулятор, штангенциркуль. И отлично работали!
И Филимоныч ревниво косится на микроскоп фирмы «Лейка» и израильский трехмерный сканер, которые теперь работают за него. Потом протягивает камень и лупу: видишь трещину? Не вижу, но верю, что там.
– Вот перед вами алмазы – от мелких до крупных. От камней со включениями до самых чистых. От дешевых желтых до дорогих белых. Берем эту гору и рассматриваем по каратам. 90 % по массе дают только половину стоимости. А 10 % – дают другую половину стоимости. Мы можем конкурировать именно в этом сегменте. Там, где стоимость труда размывается. Где каждая сотая доля карата дает вклад. Мы просто вынуждены производить качественный товар. Чем выше вы идете, тем более предвзятые и дотошные покупатели. Пропорции у нас должны быть отличные, огранка отличная, источник сырья не вызывать сомнений.
Раньше крупные камни кололи молоточком. Так поделили самый большой алмаз в мире – 600-граммовый «Куллинан». Потом алмазы пилили алмазами – циркулярной пилой с напыленной алмазной крошкой. Сейчас их пилят лазером. Процесс не впечатляет. Оператор лазера обижается:
– Это же не джедайский меч, чтобы рубить камень, как колбасу. Он его просто лущит слой за слоем.
Лазер сократил и время работы, и рабочие места.
– Тут раньше в основном иногородние работали. Смоленских загнать трудно было. Потому что работать надо. А иногороднему некуда деваться. Я вот из Узбекии. Советской еще Узбекии. Когда приехал, сначала мыкался по бурсам. Напился, подрался с физруком, выперли. Ну, пошел на «лампочку» – тут ламповый завод. Невыносимо. Конвейер. Потом пошел учеником фрезеровщика. Мне как раз шестнадцать исполнилось, дали общежитие, стипендию 36 рублей. Обед стоил во вторую смену тридцать копеек, меня это спасало. Потом женился, то да се, забеременела, а я попал на «Кристалл». В общем, отработал кольщиком пять лет. За день моя проходимость была – сотня камней. А потом пришел лазер.
– В России бизнес делать неудобно. Мы самое большое ограночное предприятие в России и Европе, а у нас с финансированием проблемы. Финансы – больше трети наших затрат. После украинских событий работать стало гораздо сложнее. Раньше мы кредитовались под 12 %, а сейчас не привлечь кредит менее чем за 18 %. Пару месяцев назад даже под 22 % не давали. Кредитуемся-то мы внутри России, но российские банки ведут себя одинаково: для них изменилась стоимость ресурса – они поднимают стоимость ресурса нам… Но на тему Украины я предпочитаю не говорить. Я в другой парадигме существую. Для меня во всем важен профессионализм. А чо печалиться? Вы лучше посмотрите статистику производства. В целом по России. Не только по нашей индустрии.
Полная бриллиантовая огранка – 57 граней. Упрощенная, для мелких камешков – 17. Но даже такую не доверят автомату. Автоматически гранят лишь невидимую глазу часть бриллианта – восемь крупных граней, что образуют «шип».
– Автомат качества не дает!
Старое доброе недоверие работяги к машине. Впрочем, и правда – не дает. А человек, который дает настоящее качество, за годы труда и сам превращается в автомат. В приложение к гранильному станку «Гран-1». За смену на нем можно сделать несколько мелких камней. Или один повышенного качества – сертифицированный triple excellent. Он будет стоить, как зарплата огранщика за год. 57 граней в день. 22 дня в месяц. 12 месяцев в году.
– Камни часто лопаются. Цена может упасть в десятки раз. Один огранщик делал дорогой камень – 30 тысяч долларов. Он уже заканчивал работу. Камень лопнул на последнем клине. И вот он сидит и плачет. Понятно, это не его вина – камень был предрасположен, не выдержал нагрузки. Но это характеризует отношение. Люди чувствуют, что создают что-то. Болеют как за свое. Мне кажется, что у нас люди переживают за свое дело. Есть ответственность перед предприятием.
Я не верю в ответственность. Я верю в страх и геометрическую прогрессию. Два камня по полкарата стоят в два раза дешевле, чем один каратник. Масса – это все. И если потерял массу, если подшлифовал грань до неправильного уровня, то тебя оштрафуют. Не на стоимость бриллианта, конечно. Могут просто не выплатить часть премии. Три, четыре тысячи. Гуманно. Но для рабочего этот штраф дороже камня, который он все равно никогда не купит.
– Народ сидит на сдельной оплате. Лишний раз в туалет не сбегать. Вот и боятся.
Так шепнул старый огранщик. Хотя перешептываться запрещено. Ну, не то что запрещено, а просто нет на это времени.
– Бизнес растет там, где есть условия. Нельзя просто натыкать морковки в целину. Вот индусы – они же такими стали не за один год. Они сначала гранили мелочь на коленке. Никто всерьез их не воспринимал. Но в какой-то момент индийское правительство озаботилось проблемой: заняли кучу людей, организовали господдержку. Госбанки дали кредиты под низкий процент. Устроили несколько зон свободного перемещения товара. Нам тоже нужна полная свобода действий. Отсутствие контроля. Мы связаны лицензиями, согласованиями, недели на это тратим – а у них уходит пара часов. И теперь все яйца мировой огранки лежат в одной корзине. В индийской. Как же противостоять машине с миллионом человек огранщиков? Можем только выжидать. Выдерживать. Сжиматься.
На фабрике бриллиантов мужчин и женщин поровну. Но на проверке и оценке – только женщины. Дело не в тонком художественном чутье или других стереотипах про слабый пол. Все проще: не бывает женщин-дальтоников.
– Прохожу я стажировку. Нам показывают камень и говорят: седьмая группа с отчетливым желтым цветом и с хорошо заметными небольшими включениями. Мы целый день его вертели: ну где этот желтый цвет? Где включения? Видеть камни – это не всякий может.
Передо мною черный бархат и десять бриллиантов выложены в ряд. Диаметр двух крайних отличается в пять раз, масса в сто раз, цена в десять тысяч. Я вижу, что хрустальный шарик слева больше и красивей, чем сизый кругляшок справа. Но это все, что я вижу. Человек без подготовки даже не отличит синтетический бриллиант от настоящего.
– Рынок бриллиантов – дикий. Люди смотрят, какой пробы золото, но не понимают, что там у бриллианта на бирке. Многие производители играют с характеристиками. Взяли, завысили. Разница в одну группу цвета или чистоты приводит к повышению стоимости на 15 %. Камень 1,99 карата будет на 25 % дешевле, чем 2,00. А разницы вы вообще не увидите. Сертификат – вот что защищает западного потребителя и не защищает нашего. В Америке есть гемологический институт – GIA. А у нас покупатель радуется: ах, какой бриллиант за маленькие деньги!
Все думают, что на фабрике бриллиантов делают колье и сережки, и кольца с камнями по десять карат, чтоб жить долго и счастливо, как в Голливуде. На самом деле здесь делают просто бриллианты. Продают их международным дилерам, а те уже – ювелирным домам. 99 % бриллиантов – на экспорт. Оставшийся процент – в свое ювелирное производство.
Так завершается путь некрасивого твердого камня – от якутской земли до оправы из белого золота. Ювелиров мало, их закуток похож не на завод, а на мастерскую. Четверо дизайнеров переводят эскиз в 3D-модель. Дальше – реальная пластмассовая модель на прототайпере. Бородатый литейщик включает печь. На выходе – неказистая, как бы пластиковая штуковина: неполированное золото ничем не лучше неограненного алмаза. За дело принимаются полировщики, монтировщики и закрепщики. А потом девица в красивом платье красиво открывает витрину красивого шоу-рума, и я выбираю ракурс получше, чтобы сфотографировать кольцо с бриллиантом. На кольце ценник, на ценнике – шесть нулей. Экскурсия закончена.
– Сам-то я в отрасли больше 20 лет. Окончил Ленинградский кораблестроительный, инженером. А тут как раз все развалилось. Идти некуда. Вернулся в Смоленск. Начинал с азов, был технологом, занимался огранкой. А потом в торговлю перешел. Потенциал роста тут большой. У нас другой замдиректора тоже из огранщиков. Здесь можно сделать карьеру. Но так-то мест не очень много. Если нас закроют – людям тяжело придется. Хотя и так в Москву уезжают люди. Это естественно, когда большой город под боком. Кто вырастает, кто видит перспективу, кто больше себя ценит – все уезжают. Вымывается народ.
Он честный топ-менеджер, он ни на что не намекает. Но, кажется, однажды уедет и он. А я уезжаю уже этим вечером и хочу погулять по остаткам города.
– У нас тут храм, обязательно посмотрите! И могила генерала какого-то. А еще есть кафе одно у вокзала, там валерьянку подают. А еще переход подземный!
Да тут даже Днепр есть, но никто не смеется на набережной. И в забытый музей приезжает фальшивый Шагал. Одинокий ребенок поет Шевчука в переходе. В нулевые Смоленск опустел окончательно. Бывшие заводы нашинкованы торговыми центрами. У вокзала – рекламный щит: «Добро пожаловать в столицу русских бриллиантов». Поезд Париж – Москва прибывает в семь.
Один день на фабрике наркотиков
Я не знаю ни президентов, ни миллиардеров. Даже самых захудалых. Зато мой друг – наркодилер, а его жена – ночной продавец в секс-шопе.
Петя и Алла – отличная пара. Пока она стоит у прилавка с анальными пробками, он производит и продает психоделики. По утрам они нежно обнимаются и считают прибыль.
Президенты и миллиардеры часто пишут книги, как они стали президентами и миллиардерами, но у Пети нет на это времени. Я за него.
Все началось в сортире истфака Нижегородского государственного университета. Сюжет для малобюджетной мелодрамы: Петя – студент из Дзержинска, гадкого промышленного городка, где люди умирают в сорок. Родители любят Петю и шлют ему домашние огурцы с повышенным содержанием тяжелых металлов, но денег нет. Голодный студент начинает покупать траву по 1200 за стакан и продавать по 2500. Прекрасная прибавка к стипендии, карьера идет на взлет, Петя становится человеком. (Тут ложь в деталях: Нижний Новгород ни при чем, и зовут моего друга иначе. Все остальное – чистейшая евангельская истина.)
Рынок не резиновый, пожадничаешь – накроет наркоконтроль. Старшего брата Пети так и взяли: пытался продать стакан афганки незнакомцу, тот оказался стукачом, семь лет общего режима. Петя осторожней: только своим. Возникает социальная сеть, человек сто, все проверенные и прошаренные, все знают, у кого достать. Уверен, Марк Цукерберг тоже приторговывал травкой в своем Гарварде, «Фейсбук» структурно не отличается от сети по продаже легких наркотиков в НГУ им. Лобачевского. Но Петя не создал «Фейсбук», он просто жил в удовольствие, и если кто в него кинет камень, то разве что из зависти.
– Ты спрашиваешь зачем. А зачем люди начинают бизнес? Пока мои сокурсники курили всякое говно, я курил «Мальборо». Они ели пельмени, а я мог позволить себе Макдоналдс. Отличный вариант для историка.
Про марихуану – присказка. Сказка – про диметилтриптамин. Мгновенно, но недолго действующий психоделик. После крохотной дозы ДМТ разговариваешь с ангелами и смотришь мультики на обоях, а через двадцать минут возвращаешься в повседневность как новенький. Так, во всяком случае, Петя описал свой товар. Переехав в Петербург, он стал химиком-любителем, тут-то мы и познакомились на почве общих интересов: он – специалист по истории послевоенной Франции, я – специалист по истории театра абсурда.
Я полагал, подпольная фабрика по производству ДМТ – это барак в промзоне, тусклая лампочка накаливания и мрачные баки с какой-то бурдой. Но нет: место действия – парадный центр Петербурга, съемная квартира, балкон, лепнина, полотки четыре метра, а все хозяйство помещается в кладовке. Оборудование для производства диметилтриптамина – две утятницы. Повторяю: самый сильный в мире психоделик варят в чугунных утятницах. Компоненты можно купить в любом супермаркете. Это: бензин для зажигалок, керамическая посуда, шприц, чистящее средство «Мистер Мускул». Рецепт публиковать не стану, сами забейте в гугл, но уверяю: один из источников ДМТ, так называемый «кустарничек», растет в любом подмосковном лесу.
Впрочем, в «кустарничке» нужного вещества мало, и профи закупают правильные растения в Бразилии. А теперь арифметика. Килограмм сушеных листьев Mimosa tenuiflora стоит 3 тысячи рублей. На выходе – тысяча доз, сварить их можно за две бессонные ночи. Розничная цена ДМТ – 300 рублей. Таким образом, за один уик-энд можно заработать на «Ладу-Калину» в комплектации люкс.
Но Петя не ездит на «Ладе». Причина все та же: рынок не резиновый. Тысячу доз довольно редкого наркотика обязательно засечет наркоконтроль, тщательно сплетенная социальная сеть порвется, кто-то обязательно стукнет. Нет уж, у Пети все схвачено. Он понемногу продает знакомым, угощает друзей, а деньги копит на поездку во Вьетнам.
Президенты и миллиардеры на вершине славы дают вальяжные интервью, утопая в кожаном диване, а я посадил Петю на трехногий стул и включил диктофон.
– Выруби эту хрень. Рискуем. Когда к тебе после публикации придут, скажешь, что все придумал. Но если найдут запись – кранты.
– Хорошо. Как ты начал? Можно же было китайскими шмотками торговать, все состояния так сделаны. А ты – марихуаной.
– Мне просто нравился процесс. Вот папироса, вот коробок, ты забиваешь и так аккуратно по пяточке постукиваешь. А потом мне понравилось делать людей спокойными и довольными. Социально ответственный бизнес.
– Что мешает развернуться как следует? Помимо Уголовного кодекса.
– Офисная работа. Ты не представляешь, какая это морока. Времени на установление нужных связей просто не остается. Сделать я могу хоть тонну, но кому ее продашь? А совсем бросить офис не могу – уж больно бизнес ненадежный.
О да, с девяти до пяти Петя – младший менеджер по рекламе в какой-то сомнительной конторе. Отличный вариант для историка. Коллеги считают его скучным и замкнутым ублюдком. А я гляжу на людей и гадаю о свойствах их двойной жизни. Наркодилеров столько-то, маньяков столько-то, великих русских писателей – пригоршня за пятак.
А напоследок пусть выскажется Алла, тихая женщина, которая третий год замужем за фабрикантом наркоты.
– Не хочется нормального мужа? Топ-менеджера, скотопромышленника?
– Петя – образованный человек и удачливый бизнесмен. По-моему, прекрасная партия.
– Опасно же.
– Очень. Я как жена декабриста. Каждый раз жду – либо вернется с моим месячным заработком, либо через семь лет.
– Почему же ты с ним?
– А почему вообще люди друг с другом?
И Алла ушла в ночь – продавать анальные пробки.
Алюминиевая степь
Я захотел узнать, как из руды получается глинозем, из глинозема – металл, а из металла – ложка. И поехал в Хакасию. Зимой тут минус сорок, а летом степь красна от дикой клубники.
Никто не летит в Абакан – можно спать в самолете на трех креслах сразу и взбрыкивать во сне. Внизу алюминиевая степь и клочья ваты: Саяны.
Аэродром пуст, у старинного «Яка» оборван винт. Бомбилы звереют от ожидания:
– А может, такси? А может, уехать? Город, межгород, Бея, Тыштып, Аскиз?
Но я – в Саяногорск. Кругом куржак: так по-сибирски иней, изморозь. На полпути тайга редеет, переходя в степь. Белый конь вмерз в пейзаж, снежок припорошил супермаркет «Мяско», на остатках барака – вывеска: «Продовольственная программа – дело всенародное».
Тут все в советских реликтах. Хакасию преобразили при Брежневе. Ночью как раскаленная наковальня, днем как нечто из «Звездных войн», Саяно-Шушенская ГЭС разогрела Енисей до плюс четырех – и выросли у незамерзающей реки виноградники.
В декабре тут, впрочем, Сибирь из книг: бескрайне, снежно.
– Видели бы вы ее летом.
– Кого?
– Степь. Вся в машинах. Клубничку люди собирают. Дикую.
Но в Хакасию меня позвала пресс-служба алюминиевого завода, настроенная показать поменьше степи и побольше алюминия.
– В девяностые у нас тут стало трудно. Люди оборудование понесли. Но пришел Олег Дерипаска с новой концепцией развития…
– С какой?
– Забор поставил…
Трубы выстроились в ряд, как на старинных крейсерах, на горизонте возникают «Варяг» и «Аврора». Это ХАЗ – единственный алюминиевый завод, построенный после распада СССР. Рабочим платят 45 тысяч – в два раза больше, чем в среднем по республике. И поэтому каждое утро люди садятся в «мотаню» – пассажирский дизель – чтобы смотаться из ХАЗа в город, из города в ХАЗ.
– Часы снимите. Встанут. У нас тут поле. Магнитное. Телефон-слайдер? Отдайте мне. Что-то тут с ними происходит. И помните, что горячий алюминий с виду как холодный. Не трожьте.
Завод прекрасен, как «Симфония Донбасса». Все заводы прекрасны издалека. Вблизи индустриальная поэзия вырождается в производственный роман: видны мутные от плавиковой кислоты стекла и алые от усталости глаза рабочих. Производство считается экологическим, этот алюминиевый завод относительно чист, но все-таки он – завод.
Процесс прозаичен. Сырье – криолит и глинозем – подают по желобам в особые ванны, а там бьют током: выделяют металл электролизом. Плещется невидимое море алюминия. Мчится мимо велосипедист: цеха длины километровой. Стоит человек с кочергой, поварешкой и в валенках: войлок отлично защищает от расплавленного металла. Человек улыбается так широко, что зубы видно сквозь скафандр, он зачерпывает поварешкой – и металл, отпылав, застывает на полу в серебристый блин: любуйтесь, журналисты. Человек снимает шлем и оказывается начальником электролизного цеха. Глаза у него тоже алые.
– Потребление алюминия на душу населения коррелирует с уровнем жизни, алюминий – главный компонент высокотехнологичных производств… В Германии – 20 килограммов в год на человека. В СССР было 10 килограммов… В России не больше шести.
Литейный цех красивей электролизного. Тут геометрия. Тут морю металла придают форму. Основная продукция завода называется «чушки малогабаритные» и «чушки Т-образные». Чушки выглядят шикарно, как платиновые слитки. Их делают полмиллиона тонн в год. Потом их отправляют, плюя на политику, по всему миру. И они возвращаются макбуками, айфонами и самолетами, на две трети состоящими из алюминия. Рядом стоят рабочие – в защитных своих костюмах одинаковые, как чушки. Презрев предупреждение, я трогаю металл и смотрю на лица.
Вот эти люди делают нашу коляску, наши игрушки, наш телефон и компьютер, детали для нашей капельницы и серебристый узорчик на нашем гробу. Вот ошалелый крановщик в стальной кабине два на два на два. Вот заика на погрузчике – отработал десять лет, хочет еще двадцать, с косноязычным пылом отрицает, что скучно жить. Вот еще пара тысяч молчаливых ребят, у которых нет времени думать о природе наемного труда и происхождении вещей.
Четверть мирового алюминия – русская, и вот кто его производит на самом деле.
Я вспоминаю серые лица рабочих и нюхаю ладони: пахнут металлом. В кармане алюминиевый слиток – подарок фирмы.
Из снежной дымки вырастает алюминиевый призрак самолета.
– А может, такси? А может, уехать? Город, межгород, Бея, Тыштып, Аскиз?
Никакой политики
Пролог. Москва – Минск
Угрюмый сосед по купе подлил водки в чай и сказал, не поднимая глаз:
– Слушай анекдот. Поляку, русскому и белорусу поставили стул с гвоздем. Поляк сел, выругался, вынул гвоздь. Русский сел, выругался, сломал стул. Белорус сел, поерзал, подумал и сказал: «А можа, так и трэба?»
Пауза.
– Что, не смешно? Нам тоже.
В Минск мы въехали молча. Город замер накануне зимы и выборов. Кто победит, знали заранее. Александр Лукашенко. Символ стабильности. Гарант покоя. Или гвоздь в терпеливой белорусской заднице. Тут мнения расходятся.
Трое и Рыгорыч
«Завязывай с наркотиками. Мы поможем. Заплати алименты. Бывших детей не бывает. Трезвость – это счастье. Трезвость – это счастье. Трезвость – это счастье. Заблудился в осеннем лесу – дождись птиц, они летят на юг».
Тут просто стать параноиком. Минск оглушает социальной рекламой. Он заботлив, настойчив и убедителен. Бросай-ка ты, братец, курить.
В остальном – русский город поменьше Москвы и побольше Тамбова. Довольно пусто. Довольно чисто. На ценниках полно нулей, как у нас в девяностые. Печенье «Слодыч». Консервы «Помидорыч». Копировальный центр «Копирыч». Квас «Квасыч».
А главный тут Рыгорыч, он же Григорьевич, он же Батька, он же Лука. Он не смотрит со стен и экранов в манере Большого Брата, но все разговоры только о нем. Снайперы не сторожат его сон, но за два квартала до резиденции – ни человека, ни машины. Его не то чтобы любят. Но на выборах за него абсолютное большинство. 21 год подряд.
В этом году против Рыгорыча трое. Полковник Николай Улахович – казак из ниоткуда, подал заявление в последние 10 минут. Демократический кандидат Татьяна Короткевич. И Сергей Гайдукевич, спарринг-партнер Лукашенко уже на четвертых выборах. Его я так и не увидел. Его вообще мало кто видел. Сначала он сказался больным, потом занятым, срочно уехал в Оршу, снова был болен, занят, недоступен, кто-то встречал его – или кого-то похожего – в холле гостиницы «Ренессанс», его потеряли собственные помощники, он пропал, как нос майора Ковалева. На исходе третьего дня поисков секретарша отчаянно крикнула:
– Нету его! Понимаете? Нету!
И бросила трубку так, что в ушах зазвенело. Словно и правда не было никогда никакого Гайдукевича.
Атаман Улахович и вилы на баррикадах
Атаман белорусского казачества Николай Улахович назвал дочь Онегой – в этом северном городке я провел детство, а еще есть такие белорусские чипсы. Я ожидал увидеть фрика, но в кожаном кресле сидел респектабельный господин.
– Я не хочу, чтобы была драчка между кандидатами. Чтобы мы перегрызлись, кто больше любит нашего президента! Этого вы не дождетесь.
И отставной полковник Улахович бухнул кулаком по столу.
– Я Александра Григорьевича уважаю. Но это не значит, что я с ним во всем согласен. Он – заявляю прямо – совершил ошибку. У него нет преемника! Понимаю, он всенародно избранный. Но опираться сразу на всех невозможно. И я иду на выборы, чтобы заявить: Александр Григорьевич! Мы ваша поддержка!
– А значит, когда он отойдет от дел, вы…
– Он не отойдет!
– Но он же не вечный.
– Да не в вечности вопрос!
И Улахович изложил свой план. Не надо по-лукашенковски скрещивать социальное государство с капиталистической экономикой, а надо строить капитализм, как в России. И обязательно – с партией власти. Чтобы было на что опереться. И партия будет его, Улаховича, Белорусская патриотическая. У которой пока нет ни сайта, ни телефона.
– А Лукашенко я сочувствую искренне! Он же должен принимать решения! А у него нет никого надежного рядом. Одинокий человек. Ему чиновники в рот смотрят, все делают, как он говорит. А я с ним общался. Он не такой недоступный и самолюбивый, каким его показывают.
Улахович искренне досадовал, что батьку окружили негодники. Вера в доброго царя при злых боярах свойственна и русскому народу, но в белорусах она сильней стократ.
– Белорусы – они какие? – задумался Улахович, и взор его затуманился. – 10 процентов активных. Потом болото. А потом 20 процентов вообще… наглецов. Эта страна новых людей не даст. Что имеем, с тем нам и работать. Они с виду спокойные, толерантные, лягу-прилягу. Но в каждом белорусе живет партизанщина. Заденьте их – и будет социальный взрыв. Тихо-тихо, потом р-р-раз – и с вилами на баррикады.
Демократ Короткевич и разбуженный белорус
Кофейный автомат, гигантское блюдо пряников, толпа нервных людей с новенькими макбуками и вай-фай с паролем Zapravdu. Штаб демократического кандидата Татьяны Короткевич.
Она не политик. 38 лет, бывшая завотделением в минском райсобесе, муж – автослесарь. Биография чиста. Даже самый въедливый чекист не найдет на нее компромата. Потому, вероятно, и поставили ее бороться с Лукашенко от лица сил света. Нарядили в красивый шерстяной костюм, чтобы было, как в Европе. Речи написали тоже европейские.
– Я – голос тех людей, которым плохо, которые чувствуют несправедливость и хотят перемен! Лукашенко установил диктаторский режим, но активно имитирует демократию. У нас один путь: участвовать во всех политических кампаниях, чтобы набрать поддержку. Только тогда мы переломим ситуацию. А пока члены избирательных комиссий и так видят, кто победит. Они своими фальсификациями просто приукрашивают победу Лукашенко.
И Короткевич печально обвела кабинет глазами, серо-голубыми, как минское небо. Сама она рассчитывала минимум на 18 %, но была уверена, что «нарисуют» ей намного меньше.
– Двадцать лет у нас никаких дискуссий. «Послушай, – говорит белорус начальнику, – я работал на десять часов больше, заплати мне сверхурочные». А начальник ему: «Не нравится – уходи. Уезжай из страны». И уезжают. У каждого свой внутренний ресурс, чтобы быть гражданином. Я никого не осуждаю. Режиму выгодно, чтобы уезжали. Чтобы игнорировали выборы. Чтобы забыли о политике. Кому-то белорус кажется апатичным. Но белорус не такой. Он волнуется! Он ищет! Очень легко разбудить белоруса!
Короткевич немного похожа на учительницу литературы. Помощники ее впечатляют куда больше. К одному четырнадцать раз за полгода приходила пожарная инспекция, другого в день выборов вызвали на работу, куда месяц не вызывали. Третьего настоятельно просили не дергаться, просто не дергаться. Ничего нового. Как в России.
Мужчины в черном
Уже второй кандидат обещал волнения и баррикады, и я пошел на баррикады.
– Ждем вас на пикете, будет здорово! – сказали в штабе Короткевич.
На пикете два безголосых пацана спели из Цоя, «Ляписа» и «Океана Эльзы». Компактная толпа лениво притопывала. Когда Короткевич вышла к народу, половина оказалась журналистами. А другая половина…
На Майдане таких называли «тихари». На вид – как русские бандиты девяностых. Одни одеты похуже, в спортивные штаны и куртки. Это добровольцы, провокаторы. Если надо, начинают драку, бьют витрины. Бегают плохо, опасны в группе. Другие – покрепче, пошире, в коже, с военной выправкой и с черной шапочкой-пидоркой на бритом черепе. Это профессионалы в штатском. Милиция и КГБ. Они никого не провоцируют. Просто ловят и лупят, когда настает время.
Я улыбнулся одному такому. Тот нахохлился, нахлобучил на шапочку капюшон и утратил грозный вид. Пикетчики допели что-то из Есенина и разошлись.
Сутки спустя там же, на площади Свободы, начался другой митинг – несанкционированное «Шествие национального флага». Потом написали: тысячи прошли маршем по Минску, не встретив сопротивления. На самом деле было их человек пятьсот, а вели их Николай Статкевич и Владимир Некляев, бывшие политзэки, звезды и жертвы 2010 года. Тогда Лукашенко одним махом прихлопнул оппозицию, дав протестующим от 15 суток до пяти лет. А тем, кто на свободе, только и осталось, что хлопать на площадях в ладоши.
– Неправда, что Украина проиграла свободу! – сказал Некляев в мегафон, и люди радостно взревели. – Неправда, что Украина проиграла демократию. На пути к демократии ее уже никто не остановит. И белорусы тоже с пути не собьются. Это путь к нашей независимости, к нашей государственности. И сегодня мы с вами прошли маленький отрезок пути к нашему с вами будущему!
По-белорусски все это звучало гораздо красивей.
Люди оделись как пять лет назад: удобные ботинки, чтобы бежать от тихарей, большие рюкзаки, чтобы продержаться в камере хоть пару суток. Люди вели крамольные разговоры.
– Короткевич – липовый демократический кандидат. Улахович – липовый провластный.
– А Гайдукевич?
– Липовый липовый. Бойкот выборам!
Ждали: милиция прыгнет из подворотен. Ждали: будут винтить. Но ничего не случилось. Только шли по бокам, как почетный караул, крепкие мужчины в черном. Десятки мужчин.
Вышимайка и политика
– Сегодня пьешь с ними коньяк в деканате, а завтра тебя вызывают на ковер: на хрен ты лезешь в эту политику? Жизнь сломать хочешь?
Про таких, как мой собеседник, кандидат Улахович сказал: «Ну, прессуют их, бывает. Но вот ты ответь: ты националист, ты ходишь, тусуешься, а где ты работаешь?»
Павел Белоус работает сам на себя. Он с друзьями придумал первую настольную игру на белорусском языке. Первый интернет-магазин белорусской символики. Первую футболку с народным орнаментом – вышимайку. Первый национальный speed-dating. В 2011 году, на руинах белорусской политики, он выбил у Европы грант – не под политику, а под культуру. 400 долларов, чтоб оплатить аренду. Так возникла «Арт Сядзіба» («Арт-Усадьба»).
– Мы еще не знали, что такое лофты и коворкинги. Просто сняли помещение на заводе «Горизонт» – телевизоры такие знаете? Диван с квартиры привезли. И начали движуху, чтобы популяризовать белорусскую культуру. В Минске, если хочешь провести концерт, надо пойти в ДК, получить разрешение. А нам достаточно написать «Вконтакте» – и все, играй концерт. Делай что угодно, только если не трэш и не мастер-класс по варению конопли. Ну а потом мы начали проводить школы арт-менеджеров, журналистов…
А потом их начали давить. За четыре года «Арт-Усадьба» сменила шесть помещений. Иногда честно признавались: извините, ребята, но нам позвонили. Чаще поводы были надуманные. Под выборы Лукашенко смягчился, и сейчас у «Усадьбы» офис и маленький магазин на главном городском проспекте. Целая лавка бело-красно-белых кружек, футболок, чехлов для айфонов.
– Думаю, власти боялись нашей неподконтрольности. Мы же никогда не просили денег у государства. Чиновники от нас уходили в шоке. Что это такое? Почему все стены в граффити? Они думали, что если ты говоришь на белорусском языке, значит, ты стремный чувак и оппозиция.
– Но вы не оппозиция?
Мой симпатичный собеседник запнулся и с осторожностью на меня посмотрел. А я вспомнил слова одного белорусского приятеля: «У нас есть такая национальная игра: кто среди нас гэбист. Или найди шестерку среди своих. Шутка».
«Амарока» и Самбука
Главный минский клуб «Бродвей» закрыли сразу после прошлых выборов, не за политику. Просто гастролирующая порнозвезда Катя Самбука по ошибке разделась не до трусов, а дальше, к тому же мастурбировала на сцене. Для досуга остались гламурные клубы и главный из них – Dozari. В надежде склеить иностранца или хотя бы программиста сюда едут девушки из провинции. Пьют и танцуют как в последний раз. Наутро отстегивают ресницы и едут обратно в свои Ганцевичи, Осиповичи, Барановичи.
Но есть и другой Минск.
– Если ты поешь по-белорусски – это уже политика. Если ты просто носишь вышимайку – это политика. Это не мы так решили, так за нас решили наверху.
Дмитрий Афанасенко – фронтмен панк-группы «Амарока» («Галлюцинация»). В Dozari ее не пустят. Играет она там, где шумно, прокурено и говорят только по-белорусски. Дмитрий носит бело-красно-белую вышимайку и все мои грамматически-правильные «Белоруссии» поправляет на политически верную «Беларусь».
– В вышимайке я и сам расцветаю, и люди на меня смотрят с удовольствием. Хорошо быть белорусом, такой месседж. Это важно. А то страх сидит в обществе. Не суйся, не лезь, сиди, работай, расти детей, делай, что говорят. А знаешь, почему так? У нас в каждой семье по репрессированному. Это глубоко. Это историческая память. Люди не Лукашенко боятся. Они боятся власти. Они знают, что никогда во власти не было и не будет нормальных людей.
Дима – анархист. Его «Амарока» играет «позитивный панк-рок». Но глаза у него грустные. У всех белорусов грустные глаза.
– На концертах нам говорят: «Спасибо за то, что вы делаете». А что мы особенного делаем? Просто поем. Нет, я не боюсь, что после выборов Лукашенко закрутит гайки. Он же не запретит мне петь. Любая система закончится. А мы останемся. И не страшно, если это станет просто бизнесом. Вот «Арт-Усадьба» была первая, кто стал продавать футболки с орнаментом. А теперь двадцать пять таких фирм. И все ходят в вышимайках. А Паша Белоус на эти деньги квартиру строит.
– Квартира – это хорошо. Но мне кажется, вы построили себе уютное гетто.
– Это не гетто. Это оазис. Вон там – гетто.
И Дима махнул рукой в окно, на Минск.
Дятел и правильный выбор
В день выборов меня разбудил дятел. Настойчиво и безнадежно долбился в стену панельного дома. Светило солнце, двое маленьких белорусов запихнули третьего в карусель и тыкали палкой. Спокойное воскресное утро в центре Минска.
«А можа, так и трэба», – подумал я и почувствовал, что становлюсь белорусом. Да еще и на местную симку пришла эсэмэска: «Избиратель! Прими участие в выборах! Твой голос важен! Центризбирком».
Нарушителям в вышимайках на почту пришла вежливая рассылка: «Для предотвращения западных провокаций 11 октября требуем сделать правильный выбор и находиться дома, не поддаваясь на оппозиционные возгласы».
В метро каждые пять минут напоминали: надо проголосовать.
Участок номер 60 – школа в Уручье, благополучном минском «примкадье». Все почти как в России. Во дворе – картошка с уценкой, в кафе – пиво и пирожки, из магнитофона русская попса, мрачные женщины в ряд – избирком – и совсем уж угрюмые наблюдатели. Ростовой портрет Лукашенко в холле.
И никого.
– Немедленно заплатите мне за фотосъемку! Немедленно! – наблюдательница от Лукашенко негодовала, увидев камеру.
Как-то сразу вспомнилось: средняя белорусская зарплата – 200 долларов. И еще – что говорила Короткевич, когда с нее на секунду слетел предвыборный лоск:
– Да у нас полторы тысячи предприятий на дотациях. Работают три-четыре дня в неделю. Но людей не сокращают. Их оптимизируют. Доводят до четверти ставки. Сиди, терпи. Все понимают, что это рухнет. Даже министерство экономики в курсе. Мы производим одни убытки. Люди получают не зарплату, а скрытое пособие по безработице. Мы болтаемся у нуля.
– Вы мне еще заплатите! Я на вас в суд подам, – сказала женщина, успокаиваясь.
Вечер на пустой площади
Октябрьская площадь велика и пуста, как в антиутопиях. С гигантских телеэкранов объявляли предварительные итоги. Явка максимальная. Фальсификаций нет. Лукашенко – 84 %. Против всех – 5 %. Остальные так, по мелочи. Пустили фрагмент интервью с теперь уже пятикратным президентом.
– Как только вы преступите закон, даже не закон, а некий Рубикон, принятый в нашем обществе… Мужики, вы знаете, что будет!
Под экраном – человек сто оппозиции, столько же журналистов и мужчин в черном. Прохожие обходили митинг по длинной дуге.
– Что, не хочешь войти в историю?
– Я бы да, но завтра на работу.
Оппозиция покричала «Живе, Беларусь!», пожгла факелы, спела гимн и дала несколько интервью. Юноша со стеклянным взглядом разложил на брусчатке скатерть, а на скатерти – муляж автомата Калашникова и рейку с надписью «Пенис». Это была инсталляция против буржуазных выборов. Ее сразу же отщелкала дюжина скучающих фотографов.
Все жались поближе к проспекту и телекамерам. И почему-то подальше от дворца.
Я подошел к нему. Ступени. Колонны. Матовые, черные стеклянные двери. Я пригляделся. Это не ночь отражалась в них – это за ними стояли отряды ОМОНа. В ожидании. Черные куртки, черные дубинки, черные каски, черные, высокие, тяжелые ботинки.
«Мужики, вы знаете, что будет».
Эпилог. Минск – Москва
Сам-то я живу не в Минске, а в Москве, на Пресне. Снимаю, конечно. Двушку на двоих. Моя соседка – белоруска. Обещал ей: вот приеду в Минск, повидаю ее маму, заберу теплые вещи и мешок еды. Так и вышло: созвонились, обсудили место встречи, мило потрещали, про выборы в том числе:
– Кстати, за кого вы голосовали?
В трубке заледенело. Собеседница моя помялась, откашлялась и сказала, что это не телефонный разговор.
Я покидал Минск с чемоданом белорусских сырков и с тяжелым сердцем. За окном мелькала реклама. «Завязывай с наркотиками. Мы поможем. Заплати алименты. Бывших детей не бывает. Трезвость – это счастье. Трезвость – это счастье. Трезвость – это счастье. Заблудился в осеннем лесу – дождись птиц, они летят на юг».
Солнце село, страна растворилась во тьме.
Россия на обочине
По маршруту Радищева я отправился на попутках.
«Подсоби!» – начертано грязно-белым по колбасно-красному, а ниже – номер счета. Каменный огрызок церкви стоит в лесах, и с неба улыбаются рабочие-киргизы. Пьяница спит в тенечке, проститутка грозит грузовикам кулаком.
В каждой стране своя придорожная показуха. В Белоруссии вдоль шоссе стоят сказочные избушки, аккуратно выкрашенные с фасада и совершенно гнилые с торца. В России не тратят краску на фасады, зато возводят красивые храмы. Только с паствой проблемы. И не то чтобы все атеисты или богохульники, а просто не осталось никого. В деревне Радищево – ни одного целого дома.
И так повсюду, но прочь, уныние! Сто пятьдесят по встречной. Мой водитель – старый бандит: грабил мотели, отсидел, одумался и вот везет пятилетнюю дочку на Валдайское озеро, приобщаться к прекрасному.
– Тише, доча, щас пожрем! – говорит бандит и неожиданно врубает Шопена.
Крестцы – пирожковая деревня, славная на всю Россию. Тут жрут. Тут особая экономическая зона, новгородская аномалия. Началось, говорят, лет 20 назад с какой-то Николавны, которая подкармливала дальнобойщиков. И сейчас деревня чадит двумя сотнями самоваров, а все женщины ушли в мелкие предприниматели – продают отличные пирожки. С ягодами – 30 рублей, с мясом – 40. Кто не нашел себя в пирожковой индустрии, тот спился или подался в большие города (и теперь в московском метро давка, а в петербургском ад).
Но есть оставшиеся. На дворе XXI век, и придорожный народ открыл два постиндустриальных источника дохода: во-первых, грибы, во-вторых, ягоды. Можно сдать на заготовительный пункт, где тверскую чернику разложат по изящным коробочкам и продадут москвичам втридорога. А можно сутками сидеть на обочине и ждать, пока заезжий богатей купит банку.
Люди живут у дороги, кормятся с дороги и умирают на дороге, когда дорога перестает кормить.
Чем только не торгуют на российских обочинах. В Башкирии выставляют мед, в Туле пряники и китайские самовары, в Удмуртии есть места, где предлагают дрянную марихуану, а Воронеж, бывший центр космической промышленности, славен кукурузой (хотя я знал человека, укравшего и пропившего двухметровое зеркало от телескопа).
А вдоль трассы Питер – Москва вполсилы дымят то ли текстильные, то ли красильные фабрики, и на обочине – огромные плюшевые зайцы и полотенца с титястыми русалками. Их не покупают, кому они нужны. Но в некоторых районах зарплату до сих пор выдают продукцией.
Есть, впрочем, и те, кому трасса – мать родна. В июне их лица краснее крови, в июле появляется средиземноморский загар, на исходе лета они сгорают до состояния Моргана Фримена, а за зиму снова превращаются в простых парней с головой-пельмешком. Опытный инспектор ДПС зарабатывает на московскую квартиру за три сезона – эту байку рассказал мне мрачный дальнобойщик Петр. Еще он рассказал, что у него от работы отнимаются ноги, но это ничего, вот еще пару рейсов, а там кредит, жена, ипотека, двушка в Химках. На лице его застыл оскал усталой ненависти. К ментам, к правительству, к оппозиции, к раздавленной собаке, к жуку, оставившему мокрый след на лобовом стекле, и особенно к водителям легковушек, стремительным и наглым нахлебникам.
– Ты напиши, раз ты писатель, – говорит Петр, кончив материться и мучать руль, – ты напиши, как мы живем. Мы их кормим, гадов, а они ездят, гады, сотку, гады, по обочине.
Федеральная трасса М10 узка, грязна и неудобна, трудно не нарушать. Повсюду ямы, а в чистом поле перед Вышним Волочком – двухчасовая пробка. «Один светофор всю страну за яйца держит», – выразился другой мой водитель, бывший филолог-германист, а ныне успешный свиновод Виктор Николаевич.
Дальнобойщики презирают легковушки, те яростно бибикают чадящим лесовозам, и все сообща ненавидят автомобили «Скорой помощи». У дорожной ксенофобии немыслимые оттенки и градации. Мой свиновод-филолог называет водителей «Жигулей» «чурками». Не имея в виду национальность. Просто раз на «Жигулях», значит чурка, унтерменш.
Бросив из окна джипа снисходительный взгляд на умирающую провинцию, свиновод говорит:
– Ты только не пиши чернухи. Не надо про шваль, про неудачников, напиши, например, про меня и про возрождение России.
– Вы правы, как вы правы! А еще я напишу, как хороша здешняя природа, как прозрачны на закате комариные леса, какие грустные, но прекрасные люди живут в этих сумрачных краях. Годится?
– Вот и хорошо. Вот и правильно.
Очередная свежесрубленная колокольня созывает пустую деревню к вечерне, и мы встаем в шестичасовую пробку Тверь – Москва.
В той пробке я подумал об опасности аналогий. Что может быть проще – сравнить Россию с трассой, и вот мы стоим в бесконечном тупике, а какая-то сволочь прет по обочине. Что может быть приятней – представить себя ученым социологом, а водителей – типичными согражданами. Но нет, долой обобщения, на этой трассе я маргинал, попутчик маргиналов, а морали у басни нет, есть только долгая, трудная дорога.
Город теплых котов и печальных женщин
Есть города голубиные – Лондон таков, говорят. Есть, говорят, попугаи на улицах Пунта-Каны. А в Новгороде – коты. Весной выползают из дыр, упиваются талым снегом и танцуют свое, кошачье. Греются в крохотных книжных лавках и мяучат: «Купи меня».
Новгород пуст, он безлюден, животен и мил, и осознание правды приходит внезапно: бац, а ему же тыща. Из-под купола смотрит древний, косматый Христос. Все, что случается в тени этих стен, надо помножить на возраст – 1154 – и в каждой истории обнаружатся библейская важность и мощь. И плевать, что на окраине дымит фабрика жвачки. Шел по городу с развязанным шнурком, как положено. Шнурки – лучшая наживка для ловли человеков. Сразу ясно, кто чего стоит:
– Ну что же вы, мужчина. Упадете же! Разобьетесь!
В Москве – тычок в спину и злобное:
– Шнрк!
В Новгороде у меня живет подруга. Оля. У нее глаза всегда плачут.
– Хорошо тебе. Хорошо тебе ездить сюда. Хорошо тебе ездить сюда к нам раз в год, – говорит она.
Хорошо тебе, если ты технолог на «Дироле», если ты специалист по мочевине – хорошо тебе в Новгороде Великом, мировом центре жвачки и удобрений. А если ты, говоря по-новгородски, дроль? Бестолочь, интеллигент в шляпе?
Тогда мечтай, мечтатель, о 15 кусках, их платят в «Макдаке», где работают только по двое: один нежно держит пакет, другой медленно, как ребенка, кладет в него гамбургер. Тогда гуляй, мечтатель, по чахлому, северному.
Ищи тоску и угрозу в обычных приметах и знаках.
Катайся туда-сюда, подмигивая кондуктору, обещай, что завтра заплатишь.
А напротив – огромный, кудрявый, болтливый, в форме охранника:
– Из Петербурга небось? У меня друг тоже из Петербурга, бронзу взял на чемпионате по жиму лежа. А Кремль наш видели? А подсветку его? Лично я перед работой просыпаюсь на час раньше и иду на подсветку смотрю. Помогает в борьбе с суетой.
Дяденька страж, да какая тут суета? Кремль прекрасен, впрочем. Даже не мощью своей, а тем, как сползает в пляж: там летом натягивают волейбольную сетку, и мяч, если его упустить, лупит по древнему кирпичу.
Кроме Кремля и пары церквей город был стерт войной. Великий Щусев, автор Минсельхоза, оштукатурил куцые сталинки белым в память о белокаменном прошлом. Новгород бел, как встарь, и тихо рыжеет от времени.
Редкие цветные детали: вывески алкогольных подвалов и прочие веселые мелочи.
Как прожить на фоне такого белого? Чередовать местные наливки «Чародейку» и «Спотыкач», пока не зачаруешься совсем и не споткнешься окончательно. Или пить медовуху до конца, до кошачьего мява.
Или разглядывать резные наличники, пока не заболят глаза.
Сладкое бухло и деревянное зодчество – это для туристов. А для здешних – смертная тоска и бесконечный уют.
И еще Мадонна, отлучившая младенца от груди. Я видел такую фреску на оторванной двери сарая. На задворках Воскресенского бульвара, там, в Новгороде.
Красота и печаль повсюду. Только гляди.
Жить у реки
Время встало намертво, а погода переменчива: бегут облака, мигает солнце, и река то сталь, то золото. В отлив ее можно перейти вброд, в прилив она шире и глубже Невы. На обрыве такой же, как я, ценитель северной красоты:
– Слышь, на завод не ходи. Там медведь. Больной, наверно. Вишь, баб пугает.
Он сплевывает. Удобно: нет зубов. Это Русский Север, тут много таких. Это Онега, моя малая родина. Здесь я встал на лыжи и научился в шахматы. Здесь живут мои старики. Здесь тупик, слепая кишка железной дороги, конец проселка. Дальше – безлюдный поморский берег и ледяное Белое море.
– Курорт! – говорит беззубый. – Лучше Крыма! Только грибы пропали.
Я смотрю на него и вспоминаю зубную щетку: оставил в Москве.
Купить ее в Онеге невозможно. Тут, как и всюду, закрываются заводы и открываются торговые центры, но щетки нет ни в одном. Мяса тоже, конечно, нет. Овощи по московским ценам. Дед говорит, что знает одну хорошую аптеку вверх по реке.
И мы идем. Медленно. Деду 82. С ним все здороваются. Я им горжусь. Он был когда-то зампредседателя Онежского райисполкома. Курировал культуру и здравоохранение на территории размером с Израиль. Дед живет в однокомнатной с видом на сгоревший музыкальный магазин «Петровна». Он работал до 77 лет, ничего не украл, ничего не нажил. Бабушка называет его «правдоха» и «чистоплюй». Бабушка на год младше.
В районе осталось 30 тысяч человек. Деревянные церкви, которые дед защищал с пылом научного атеиста, сгорели. А больница – кирпичная – стоит. Дед рассказывает, как отказался принимать постройку, пока не устранили 162 нарушения. Он четко помнит все цифры, помнит партийные баталии сорокалетней давности. Больницу так и открыли недоделанную, но я рад, что он ничего тогда не подписал.
Мы идем мимо аэродрома. В девяностые самолеты пропили, а взлетную полосу засадили картошкой. У нас там тоже был участок. Сейчас ни картошки, ни самолетов, но это снова зовется – аэродром.
– Свежо, – говорит дед. – Туман.
Это ошибка. Тумана нет. Это у него начинается глаукома. В здешней больнице ее не лечат. В здешней больнице почти не осталось врачей. Здешний роддом переделали в дом престарелых. И директор уже поглядывает на моих. Ехать лечиться в область – себе дороже. 200 километров проселка, четыре часа тряски. Зимой дольше из-за гололеда и волков: встают на пути и тупо смотрят. Такую дорогу можно не выдержать. Но других дорог нет.
В последней аптеке мне по знакомству, по секрету, из уважения к деду, втридорога продают ярко-зеленую детскую зубную щетку. У меня точно такая же была при Горбачеве. Тогда тоже был дефицит.
Онежский район – скудный край. Выражаясь научно, зона рискованного земледелия. Картошка с аэродрома – это максимум. Здесь ничего нет. Церкви сгорели, заводы встали, с доски почета облетели фото. Одна осталась достопримечательность: река. Куда бы ни шел, придешь к ней.
На берегу все тот же, беззубый.
– Вишь: семга. Семга идет. Мимо Японии, на Порог. Вишь: Япония. Это я так Поньгу называю. Красиво, ага? Пойдем на семгу? Слышь, я ее на х. й, а она сразу ноль два, а у самой цирроз. Слышь, это теща моя. А у меня теперь депрессия, вишь. В прокуратуру сдамся. Пойдем на семгу?
Я не иду никуда, и мужик никуда не идет – дремлет себе на тополе, сваленном бурей. Я делаю фото. На фото – Онега, в Онеге семга, на том берегу – Япония.
Я думал сделать и другие фото. Мертвый порт. Ржавые корабли. Пятна пожарищ. Сгнившие бараки. Я думал этими фото дать пощечину. Но кому и за что? Города пропадают. Вон даже Детройт. А тут – 20 тысяч жителей, плевок на карте. А у тех, кто заслужил пощечину, всегда найдутся отмазки.
Да, половина района вымерла. Но другая-то как похорошела. Да, корабли заржавели. Но появились джипы. Да, кто-то спился и сторчался. Но кто-то хорошо заработал на перепродаже еды и леса. Да, заводы закрылись. Но открылись торговые центры. Да, в них нет зубных щеток. Но это совпадение. Да, люди бедны и несчастны. Но они ведь сами виноваты. Да, конец света. Но возрождение России. Да, Онега. Но Крым!
Да, я бы давно забрал стариков отсюда. Но некуда. И сами не хотят. Привыкли. 60 лет вместе. 60 лет на Русском Севере.
– Слава богу, длинная жизнь, – говорит бабушка.
– Слава судьбе. И генам, – строго поправляет дед.
Лишняя пешка в эндшпиле: я проигрываю ему, возможно, последнюю партию в шахматы. Солнце заходит, темнеет золотая река, звенит комар. Это мое прошлое; это наше будущее.
Апокрифы
Русский дурак и его работа
Не проливать крови
«Есть два способа царствовать, милосердием и щедростью или суровостью и казнями; я избрал первый способ; я дал Богу обет не проливать крови подданных и исполню его». Это Лжедмитрий – первый русский самозванец и первый же реформатор.
Русская история писана-переписана. Может, ничего такого он и не говорил, но дела и правда творил добрые, даже невероятные: разрешил, например, крестьянам уходить от хозяев, если те их морят голодом.
Крестьянам понравилось, а тогдашнему среднему классу не очень. Когда Лжедмитрия растерзала толпа московских бояр, труп его, как принято, притащили на Красную площадь. И один боярин – имя его неизвестно, но дух времени всегда анонимен – бросил на распоротый живот самозванца кожаную маску, на грудь поставил волынку, а в рот сунул дудку. «Долго мы тешили тебя, – сказал боярин, – теперь сам нас позабавь».
Выглядел бывший царь по-дурацки, что и было целью посмертного поругания.
Реформы Лжедмитрия не то что отменили – их просто забыли: был разгар Смутного времени, и русские цари правили в среднем от месяца до трех лет.
Но образ остался надолго. Маска, дудка и волынка.
Царя-реформатора выставили скоморохом.
Дьявол и его хитрости
Никто не знает, когда на Руси появились первые профессиональные дураки, но в XI веке их уже вовсю бранили в летописях.
В Киеве – восстание. На южных границах – бессмысленная война. Неурожай. Россия тысячу лет назад была похожа на нынешнюю, только вместо нефтяной иглы была рабовладельческая. Большая страна недавно распалась, страны поменьше потихоньку начинали грызню на руинах.
Тогдашние идеологи думали-думали, да и нашли виновных. Это были скоморохи.
«Дьявол всякими хитростями отвращает нас от Бога, трубами и скоморохами, гуслями и русалиями. Видим ведь, как места игрищ утоптаны, и людей множество на них, как толкают друг друга, устраивая зрелища, бесом задуманные, – а церкви пусты стоят; когда же бывает время молитвы, молящихся мало оказывается в церкви. Потому и казни всяческие принимаем от Бога и набеги врагов; по Божьему повелению принимаем наказание за грехи наши».
В XI веке растекались мыслию по древу, но «Поучение о казнях божиих» – вещь ясная, как передача Первого канала. Все беды от веселья и дурачества, а ходили бы почаще в церковь – не было б ни голода, ни нашествий.
Никто не знает точно, что за «зрелища» устраивал простой народ, как эти зрелища менялись век от века и что за роль была у скоморохов. Монах Нифонт (Ростов, XII век) упоминает, что отдельные баламуты «скакали с сопелями» (со свирелями), а народ «плясаху и пояху». Игумен Памфил (Псков, XVI век) с негодованием отмечает «вихляние ногами, скакание и топтание».
О внешнем виде скоморохов тоже известно мало. Остался знаменитый кусок из Переяславской летописи – да и то не о скоморохах, а о забавных европейцах, которых со скоморохами сравнивают: «и начаша пристроати собе кошюли, а не срачицы и межиножие показывати и кратополие носити… аки скомраси».
Итак, были на Руси люди, которые «срачиц» не носили, дули в «сопели» и всячески будоражили народ. Конкурировали с церковью в деле развлечения и утешения граждан.
Сатанинские песни
«А скоморохом у них в волости силно не играти… а кто у них учнет в волости играти силно, пеню девять рублевъ денег». А также: «а скоморохом у них ловчей и его тиун по деревням силно играти не ослобожает». В переводе с ростово-суздальского на современный русский: играть без согласия слушателей («силно») не разрешено («не ослобожает»). Так пишут о скоморохах в уставных грамотах – юридических документах времен феодальной раздробленности. Общего закона о дураках не было, потому что в России вообще было туговато с законами.
Чтобы все упорядочить, в 1551 году Иван Грозный собрал Стоглавый собор – самый представительный в истории Московского государства. Депутатов отправили все сословия. Кроме крестьян, конечно. В те годы – впрочем, как и всегда, – в России 90 % людей пахали, а 10 % принимали всякие важные решения: как и сколько раз ходить в баню, за что рвать ноздри, за что жечь и как правильно веселиться. Скоморохи в итоговых документах Стоглавого собора упомянуты трижды.
«В мирских свадбах играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и гусельники и бесовские песни поют… К венчанию ко святым церквам скоморохом и глумцом пред свадбою не ходити, и о том священником таким запрещати с великим запрещением, чтобы таковое безчиние никогдаже не именовалося».
Сообщали также, что скоморохи хулиганят на «жальниках», то есть на кладбищах.
«В троицкую субботу по селом и по погостом сходятся мужи и жены на жальниках и плачутся по гробом с великим кричаньем. И егда начнут играти скоморохи гудци и прегудницы, они же, от плача преставше, начнут скакати и плясати и в долони бити и песни сотонинские пети, на тех же жальниках обманщики и мошенники».
В общем, пародировали свадьбы да похороны. А в свободное от шутовства время якобы занимались разбоем. «Ходят скоморохи совокупяся ватагами многими до штидесяти и до семидесяти и до ста человек и по деревням у крестьян сильно ядят и пиют и из клетей животы грабят, а по дорогам разбивают…»
Вот так прочитает грядущий историк газету «Известия», припудренную радиоактивным пеплом, и обнаружит: жили в начале XXI века страшные люди – современные художники.
История зло с нами шутит: мы доверяем любой бумажке старше века, хотя правды в ней не больше, чем в трепе нынешних пресс-секретарей. А в приведенном фрагменте главное вранье – про «ватаги до ста человек». Ни для игры, ни для разбоя столько народу не нужно, при Грозном с такими силами можно было взять небольшой город. Но главное: в былинах и песнях есть образ жадного попа, жестокого стрельца и хитрого барина, но ни в одной не упомянут скоморох-разбойник.
Кажется, участники Стоглавого собора просто устраняли конкурентов. Летописи говорят, «народ тек к скоморохам аки крылата». Мчался, стало быть, как на крыльях.
Бить батогами
Россия, XVII век. Та, что мы потеряли, да лучше б и не пытались найти. Продолжительность жизни чуть ниже средней по Европе: 34 года у мужчин и 30 у женщин, здоровье которых ослаблено ранними (с 12 лет) родами. Музыка – только церковная. Литература тоже. Живопись широко представлена иконами. Есть придворный театр, но после каждого представления бояре идут в баню: смывают грехи.
А народ развлекается как может. И нижегородские священники пишут патриарху Иосифу Второму челобитную. Дескать, прямо у стен Троице-Сергиевой лавры творятся непотребства: «Скомороси и игрецы с личинами и с позорными блудными орудии, з бубнами и с сурнами и со всякими сатанинскими блудными прелесми, и злыя государь прелести бесовския деюще, пьянствующе, пляшуще и в бубны бьюще и в сурны ревуще и в личинах хадяще, и срамныя в руках носяще, и ина неподобная деюще».
Патриарх – фигура важная, но не настолько, чтоб казнить и миловать самовольно, поэтому и сам жалуется царю: «Бога ради, государь, вели их извести, кое бы их не было в твоем царстве, се тебе государю в великое спасение…»
И царь Алексей Михайлович издает в 1648-м указ, который хочется цитировать целыми кусками. Бумага эта запрещает одновременно шахматы и бокс, танцы и мат, детские площадки и массовые митинги – и все это красивым языком, как в былине. Поучиться бы нашей Госдуме.
Царь приказал, чтобы «зернью, и карты, и шахмоты, и лодыгами не играли, и медведей и с сучками неплясали, и никаких бесовских див не творили, и на браках песней бесовских не пели, и никаких срамных слов не говорили, и по ночам на улицах и на полях богомерских и скверных песней не пели, и сами не плясали, и в ладоши не били, и всяких бесовских игр не слушали, и кулашных боев меж себя не делали, и на качелях ни на каких не качались, и на досках мужесково и женсково полу не скакали, и личин на себя не накладывали, и кобылок бесовских и на свадьбах безчинства и сквернословия не делали».
С теми же, кто не оставит ни шахмат, ни музыки, следует поступить так: сурны, гудки, гусли и маски сломать и сжечь. «А которые люди от того ото всего богомерскаго дела не отстанут и учнут впредь такова богомерскаго дела держатся, и по нашему указу тем людем ведено делать наказанье: где такое безчиние объявится, или кто на кого такое безчикие скажут, и выб тех велели бить батоги…»
Батог – это палка толщиной в палец. Скажете – зверство, а на самом деле Алексей Михайлович гуманно поступил: наказание кнутом гораздо хуже.
Хари изломать
«Женщины среднего роста, в общем красиво сложены, нежны лицом и телом, но в городах они все румянятся, и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы…» Читать голштинского посла Адама Олеария – одно удовольствие. И он, и бесчисленные англичане, посетившие Московию в XVII веке, упоминают и шутов, и музыкантов. На боярских и дворянских пирах играли гусельники, сурначеи, органники, трубники, лирники, а также мастера по игре на редком новомодном инструменте: балалайке. Развлекаться нельзя было только простому народу. Это к нему относились царские указы.
Впрочем, их не очень-то соблюдали. Скорее даже наоборот: времена наставали цивилизованные, и за насилие над артистами эстрады можно было и самому отхватить, особенно если ты старовер или другое какое меньшинство. «Пришли в село мое плясовые медведи с бубнами и с домрами, и я, грешник, по Христе ревнуя, изгнал их, и хари и бубны изломал на поле один у многих, и медведей двух огромных отнял – одного зашиб, и он снова ожил, а другого отпустил в поле. И за сие меня боярин Василий Петрович Шереметев, едучи в Казань на воеводство в судне, бранил много…»
Так за свое благочестие пострадал протопоп Аввакум. Тем временем скоморошество сходило на нет. Часть профессиональных дураков осела на ярмарках – водила медведей и разыгрывала сценку «Как холопы из господ жир вытряхивают». Кто-то переквалифицировался в тамаду: работал на свадьбах дружками и заводницами.
А после Петра по России распространились уже чисто западные развлечения: из Италии и Германии пришел театр, из Польши вертеп, чехи выдумали гармонь, а голландцы научили русских праздновать День дурака.
Так исчезли русские скоморохи.
Считается, что зрелища их и игрища были русским аналогом карнавала, где – как писал Бахтин – все были равными.
«Здесь человек как бы перерождался для новых, чисто человеческих отношений… Возвращался к самому себе и ощущал себя человеком среди людей».
Вот бы это ощутить наконец.
Больше не обезьяны
Фальшивые казаки и Новая Москва
Бывший погонщик верблюдов Николай Ашинов первый понял, что притворяться казаком и любить Россию напоказ – выгодно. Многие мечтали вымыть сапоги в Индийском океане, а он – смог.
Он не кончал гимназий, зато умел производить впечатление. На людей с деньгами – хорошее, на людей с мозгами – исключительно плохое. «Светлая борода его, – вспоминает финансист Де Константен, – соединяясь с волосами того же цвета, делала нимб у его лица. Его руки были деликатными и женственными». Лесков, наоборот, вспоминает «ужасные бородавчатые руки, покрытые какою-то рыжею порослью».
Ашинов был блестящий прохиндей: искал потерянное казачество в Персии и Турции, катался по Африке, был якобы принят эфиопским императором и привез Александру III живого страуса в подарок.
В 1886 году Миклухо-Маклай вернулся из последнего путешествия и призвал построить в Океании коммунистическую утопию. Газеты его осмеяли, а Ашинова – вознесли. Профессиональный патриот, он решил колонизировать Восточную Африку.
Сам военный министр адмирал Шестаков записал в дневнике: «Ашинов плут, но нам, пожалуй, нужно бы иметь средства всячески вредить англичанам, и почему бы не употребить тех же средств, что они».
По сравнению с той авантюрой Новороссия – детский сад. Полезный плут Ашинов получил пулеметы и ружья – неофициально, конечно, – и набрал в Одессе отряд. Себя назвал атаманом, а людей – «вольным казачеством». В отряд и правда затесались два терских казака.
14 января 1889 года полтораста одесситов под руководством экс-погонщика верблюдов приплыли в Сомали, заняли заброшенную крепость Сагалло, нарекли ее Новой Москвой, а землю вокруг – Россией: «На сто верст вглубь, на пятьдесят по побережью». Вот только сомалийский царек, обменявший крепость на 60 берданок, забыл сказать, что это уже шесть лет как Франция.
Вскоре в бухту Сагалло вошли французы. Ашинов сдаться отказался – и крейсер «Пингвин» открыл по Новой Москве огонь.
Большинство покорителей Африки выжили. Царь извинился и сказал, что он тут совершенно ни при чем. Ашинов отделался трехлетней ссылкой и поруганием в СМИ. «Это герой усталой современности, которой ни до чего нет дела, – написали фельетонисты. – Вместо Ашинова мог явиться говорящий паук, осел – это решительно все равно. Здесь важна не личность, а общественный интерес к ней».
Побережье на девяносто лет стало французским; теперь там Джибути.
В трех метрах под берегом Аденского залива тлеют пять с половиной скелетов: два женских, три детских и остатки мужского – одного из «вольных казаков» разорвало снарядом. Так, малой кровью, Россия проиграла Африку.
Те, кто Африку выиграли, положили куда больше народу.
Приключения короля Леопольда
Не бывает обычных войн. Все они великие, освободительные, праведные. Но для той затяжной резни не нашлось красивого имени. Так и осталась в учебниках: scramble for Africa. Драка то есть. И авантюра Ашинова – мелкий ее эпизод.
Дрались как на дешевой распродаже: кто больше хапнет. Победили Франция и Британия, но и Бельгия урвала огромную колонию в самом центре континента. Не просто огромную, а больше самой Бельгии в 80 раз. И не просто колонию, а личное владение короля Леопольда Второго.
В Бельгии его до сих пор уважают. Он запретил работать девушкам в шахтах, а детям – на фабриках. Он устроил бесплатные школы (в Европе, конечно, – в колониях грамоте не учили). Он был прогрессивный король. Но он был – король. И даже хуже: прочие короли дразнили его маклером.
Ленин в «Тетрадях по империализму» посвятил ему единственную строчку: «Деляга, финансист, аферист. Купил себе Конго и «развил». Типик!»
«Мы принесем и цивилизацию в ту единственную часть планеты, куда она еще не проникла, – говорил Леопольд. – Ворваться во тьму, охватывающую целые народы, – это, смею сказать, новый крестовый поход, достойный века прогресса. Надо ли говорить, что я не руководствуюсь эгоистическими целями».
С целями все ясно – злословила пресса: влюбился в проститутку на 49 лет моложе и слоновой костью платит за взаимность. Le roi des Belges et des Belles, король бельгийцев и красавиц – так называли его.
А новую страну назвали Свободное государство Конго. Золотая звезда сияла на лазоревом стяге. «Труд и прогресс», – гласил девиз. Перспективы были самые замечательные.
Резиновая лоза
1888 год. В Лондоне зверствует Джек-Потрошитель. Герц открывает радиоволны. Ашинов собирает последние рубли на колонизацию Африки. А шотландский ветеринар Джон Бойд Данлоп совершенно случайно изобретает колесо. Велосипедное. По легенде, он поливал газон из шланга – и просто догадался свернуть его кольцом.
Через год началось массовое производство велосипедов. Через десять – автомобилей. Леопольд полюбил новую игрушку и прославился смелым стилем вождения, впрочем, все короли так или иначе давят подданных.
Резина – это вулканизированный каучук, а каучук – это сок вьюна Landolphia kirkii. По-английски его красиво зовут резиновой лозой. Режешь ствол, подставляешь ведерко, ловишь каучуковый сироп, сушишь, кладешь в корзину.
В Конго было много, очень много резиновой лозы.
«Капитал, – писал Томас Джозеф Даннинг, – отличается боязливой натурой. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым… При 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».
Каучук давал прибыль в 700 %. Раньше резина шла на галоши и макинтоши, а тут вдруг стала сразу всем нужна: велосипед, автомобиль, телеграф, телефон, тяжелое машиностроение.
В 1887 году, накануне каучуковой лихорадки, в Конго делали 30 тонн каучука. В 1903 году – 6000 тонн.
В 1887 году в Конго жило 25 миллионов человек. В 1903 году их осталось 15 миллионов. Погибла почти половина страны – каждый девятый житель целого континента.
Кнут из кожи бегемота
На севере его зовут курбаш, на юге – шамбок, на востоке – шаабууг, а на западе, в Конго – чикоте.
Первым его описал Буссенар: «Бич, которым погоняют волов: это полоска кожи гиппопотама или носорога длиной в два метра, толщиной сантиметра в четыре у рукоятки и постепенно сужающаяся; шамбок предварительно хорошо просушивают, затем обрабатывают деревянной колотушкой, после чего он получает удивительную прочность и гибкость; средней силы удар, нанесенный быку, вырывает у него шерсть и оставляет след, который держится целый день».
Хорошим ударом шамбока можно убить человека. Но у гвардейцев короля были и другие способы поднять производительность труда.
Чтоб охранять свой честный частный бизнес, король создал Общественные силы – 12 тысяч белых офицеров и черных бойцов. Они входили в деревню, насиловали женщин, детей забирали в заложники и ждали, пока мужчины сдадут каучук. Еще они охраняли закон и порядок. За мелкую провинность – порка. За крупную – отсечение руки. За порчу резиновой лозы – смерть.
«Каждый раз, когда капрал отправляется за каучуком, ему дают патроны, и все нестреляные он обязан вернуть, а за каждый стреляный – доставить отрубленную правую руку. Мистер П. рассказал мне, что, если иногда удается убить на охоте зверя, они, с целью отчитаться за израсходованный патрон, отрубают руку у живого человека. Чтобы я лучше понял объем этой деятельности, он сообщил мне, что в районе реки Мамбого израсходовано за 6 месяцев 6000 патронов; это означает, что 6000 человек было убито или ранено. Впрочем, даже больше, так как я не раз слышал, что солдаты убивают детей прикладами».
Так просвещенный король «ворвался во тьму, охватывающую целые народы».
«У меня теперь не было ни мамы, ни бабушки, один я остался»
1904 год. В Англии изобретают танковую гусеницу. Во Франции – дизельную подлодку. В Москве смерч уничтожает три тысячи домов. А в Свободном государстве Конго мужчина по имени Нсала смотрит на отрубленные руку и ногу своей пятилетней дочери.
Фото впервые опубликовал Марк Твен. Это иллюстрация к сатирическому «Монологу короля Леопольда в защиту его владычества в Конго». Плохая литература, но отличная журналистика: Твен цитирует жителей Свободного Конго, опрошенных Роджером Кейсментом, британским консулом.
«Мы все побежали в лес – я, мама, бабушка и сестра. Солдаты убили очень много наших… Вдруг они заметили в кустах мамину голову и подбежали к нам, схватили маму, бабушку, сестру и одного чужого ребенка, меньше нас. Все хотели жениться на моей маме и спорили между собой, а под конец решили убить ее. Выстрелили ей в живот, она упала, и я так ужасно заплакал, когда это увидел, – у меня теперь не было ни мамы, ни бабушки, один я остался. Их убили у меня на глазах».
Твен и Кейсмент не были первыми. До них в Конго приехал Иосиф Корженевский, потомок польских мятежников, покинувший Россию в юности, – писатель Джозеф Конрад, автор «Сердца тьмы».
«Знаете, нет ничего хуже этого подозрения, что люди остаются людьми. Оно нарастало медленно, постепенно. Они выли, прыгали, корчили страшные гримасы; но в трепет приводила вас мысль о том, что они – такие же люди, как вы, – мысль об отдаленном вашем родстве с этими дикими и страстными существами…»
Но и он не был первым. Раньше всех там побывал проповедник Джордж Вашингтон Уильямс. Нес в джунгли слово Христово, а нашел ад – и написал открытое письмо королю.
«У меня нет слов, чтобы описать жестокость солдат Вашего Величества. В авангарде ваших отрядов идут кровожадные каннибалы из племени банала. Они не щадят даже старух и младенцев. Они приносят головы жертв белым офицерам, а после поедают тела растерзанных детей… Я видел, как белые офицеры на палубе парохода поспорили на 5 фунтов, что могут подстрелить туземца на каноэ. Три выстрела – и каноэ торговца стало погребальной лодкой… Все преступления в Конго были совершены вашим именем, и вы должны ответить за худое управление людьми, чьи жизни и судьбы были вам доверены…»
Это письмо спасло бы миллионы жизней, но в 1890 году ему никто не поверил. Юристы короля представили 45 страниц доказательств, что черное – это белое.
Лишь 28 лет спустя Бельгия вспомнила, что она – конституционная монархия, и под давлением парламентских социалистов король продал своих крепостных государству. В каучуковых джунглях выросла самая обычная колония: Бельгийское Конго.
«Мы больше не ваши обезьяны»
1939 год. Сикорский изобретает вертолет. Гестапо отправляет польских ученых в концлагеря. Эйнштейн рассказывает Рузвельту про уран, обрекая Конго на лишние полвека ада.
«Сэр!.. Это новое явление способно привести также к созданию бомб, и возможно – хотя и менее достоверно – исключительно мощных бомб нового типа. Одна бомба этого типа, доставленная на корабле и взорванная в порту, полностью разрушит весь порт с прилегающей территорией. Соединенные Штаты обладают лишь незначительным количеством урана. Ценные месторождения его находятся в Канаде и Чехословакии. Серьезные источники – в Бельгийском Конго…»
Африканский уран добыли на дальнем юге Конго, в провинции Катанга, в рудниках Шинколобве. Его добыли дети и внуки каучуковых рабов. Из этого урана сделали бомбу и назвали ее «Малыш». Эту бомбу сбросили на Хиросиму, чтобы закончить войну.
Но война не закончилась. Лишь в Москве и Вашингтоне она стала холодной, а в Африке по-прежнему было горячо. К 1960 году бывшие колонии склонялись то к Западу, то к Востоку, и туда, где чаша весов колебалась, стекались отбросы со всего мира. Некоторые участники новой драки за Африку до сих пор живы – например капитан наемников Майк Хоар по прозвищу Безумный Майк. Ему 96 лет.
«Убивать коммунистов – это как паразита убить, убивать африканских националистов – это как убивать животных. Не нравятся они мне. За 20 месяцев в Конго мы с парнями убили от 5 до 10 тысяч повстанцев. Но этого явно недостаточно».
Среди тех, кто в те годы боролся за власть, был человек, чьим забавным именем потом назвали полсотни улиц: Патрис Лумумба. «Мы больше не ваши обезьяны», – сказал он Бодуэну Первому, внучатому племяннику Леопольда, своему бывшему королю. 30 июня 1960 года Конго стало независимым.
Лумумба не был таким уж коммунистом, он просто искал помощи – и нашел ее у Советского Союза, который уже подкармливал Египет, Анголу и Мозамбик. Ядерная гонка была в разгаре, и взгляды всех сверхдержав сошлись на урановых шахтах Конго, а прицелы всех разведок – на Лумумбе. Хрущев дал ему военные самолеты и советников. Эйзенхауэр распорядился его убрать. Планы по его убийству вынашивало ЦРУ. О причастности к покушению заявила британская разведка. Убили его бойцы Мориса Чомбе, президента сепаратистской провинции Катанга. А извинилась за убийство Бельгия, которая этого самого Чомбе поддерживала.
И жителей Конго снова превратили в обезьян. После пяти лет мясорубки к власти пришел бывший солдат Общественных сил – сам он, впрочем, ни одной руки не отрубил, не те уже времена были. Его звали Жозеф-Дезире Мобуту, но европейские имена он вскоре запретил и стал зваться попросту: Могучий воин, благодаря твердости и железной воле идущий от победы к победе, сжигая все на своем пути.
Он правил 30 лет и три года, носил шапочку из леопардовой шкуры, запретил пиджаки и назвал озеро в свою честь. Напоказ он ненавидел и Запад, и Восток, но торговал ураном и направо, и налево.
В 1997 году он умер от рака, и началась Великая Африканская война – большинство из нас ее застало, но большинство о ней даже не слышало. 22 группировки делили ресурсы Конго, и за новый каучук погибли от 4 до 6 миллионов человек – кто их считает, в джунглях-то.
Каучук, уран, колтан и продолжение следует
2017 год. В Калифорнии открыли девятую планету Солнечной системы. В Марокко – солнечную электростанцию на 160 мегаватт. В Китае построили самый большой радиотелескоп в мире. В Конго все по-прежнему. Люди остаются людьми, лишь число их сильно выросло: теперь в нищете живут 77 миллионов конголезцев.
Свободное государство теперь называется Демократической республикой. Установлению свободы и демократии мешают огромные залежи ниобия, вольфрама, кобальта, урана и старого доброго золота.
Новая технологическая революция принесла новое ресурсное проклятие. В Конго – 80 % мировых залежей колтановой руды. Из этой руды добывают тантал и ниобий. Из тантала и ниобия делают электролитические конденсаторы. Такой есть в каждом мобильнике. Главный импортер колтана – Китай, он же главный сборщик мобильной техники, и кусочек вашего мобильника добыл ребенок с колтановых шахт за доллар в день. Это не отрубленные руки из прошлого века – это прямо сейчас происходит.
Прямо сейчас в добыче колтана и других ресурсов Конго замешаны Бельгия, Франция, Нидерланды, Великобритания, США, Китай, Индия.
И Россия. Ашинов умер почтенным помещиком, но дело его живет. В Конго регулярно гибнут военно-транспортные самолеты. И сами самолеты, и пилоты – российские.
1996 год – шестикратно перегруженный «Ан-32» под управлением российских пилотов врезался в рынок. Триста человек погибло.
1999 год – боевики взяли российский экипаж в заложники.
2005 год – разбился «Ан-26», о команде ничего не известно.
2007 год – российские пилоты разбили еще один «Ан-26», все трое погибли.
2010 год – российский пилот сбежал от боевиков, угнав собственный самолет.
2011 год – погибли четверо российских пилотов.
2013 год – разбился Fokker 50, капитан оказался из Вологды.
У грузинских пилотов, разбившихся под Киншасой, тоже русские имена.
Колонизация Африки продолжается. Россия, как и прежде, на вторых ролях. Оно и лучше: меньше крови на руках и меньше внимания на новом Нюрнберге, если он вдруг случится.
О Конго почти забыли. В мире хватает новых горячих точек: кто ждал, что в них превратятся Донбасс или Сирия?
Последний важный текст про колонизацию Конго написан в 1990 году – он вошел в «Ночные рассказы» Питера Хега. Там хороший конец: молодой европеец и вождь обреченного черного племени беседуют в самом сердце тьмы.
«Впервые Дэвид остался наедине с девушкой. Некоторое время они внимательно смотрели друг на друга. Потом девушка сказала:
– На языке моего племени мое имя значит «война».
Дэвид кивнул.
– Европейцы, – сказал он и, сам не понимая того, заговорил так, как будто это был класс, к которому он больше не принадлежал, – европейцы специалисты по ведению войн».
Тихая ночь во время войны
В 1983 году СССР и США поддали жару и чуть не превратили холодную войну в третью мировую. Американцы разместили ракеты в ФРГ и напали на Гренаду. Русские ответили ракетами в ГДР и сбили корейский авиалайнер. Было как сейчас, только хуже.
Пока бывший поэт Юрий Андропов и бывший актер Рональд Рейган мерились боеголовками, пожилой рокер Пол Маккартни, как и положено пожилым рокерам, выпустил хит за мир во всем мире – очередной в его карьере, но исключительно важный для нашей истории.
В клипе на песню Pipes of Peace он снялся в трех ролях: британского, французского и немецкого солдата. По сюжету все трое получают письма из дома, бросают винтовки, выходят на ничейную землю, братаются и начинают футбольный матч.
Полный абсурд, если не знать предыстории.
Накануне Рождества 1914 года немцы, британцы и французы действительно перестали стрелять друг в друга.
Ранним вечером 24 декабря в окрестностях деревни Сент-Ивон из немецкого окопа донеслось пение. Голоса, говорят, были нестройные и прокуренные. Пели Stille Nacht, рождественский гимн. И англичане, которые залегли в ста метрах западней, ответили.
Потому что песня про тихую ночь есть на всех языках.
О Первой мировой осталось мало кинохроники. В ней в основном генералы и аэропланы. Мало солдатских лиц. Трудно представить, как это было и что эти люди испытывали.
В России такой тип войны называют позиционной. Западный термин точней: окопная война. Засесть в траншею и пересидеть противника. Цель такой войны – истощение.
Представьте зигзаг в земле. Представьте трубу с коленом не длинней 20 метров, чтобы взрывная волна – если вдруг обстрел – не пошла дальше. Представьте – хорошенько представьте – среднюю глубину окопа (4 метра) и узкую полоску неба. Представьте, что эти зигзаги растянулись на пятьсот километров от Ла Манша до Альп. И, наконец, представьте годы, проведенные там.
С одной стороны – три миллиона французов, бельгийцев и англичан. С другой – три миллиона немцев.
Итак, поле к югу от города Ипр изрезано параллельными рядами окопов: немецкими и британскими. И вот со стороны немцев начинают петь рождественский гимн. И самое странное: из окопа медленно появляется елка.
Неизвестно, кто сделал первый шаг и почему того человека не пристрелили, но через несколько минут пустое пространство заполнили люди. Общались они в основном знаками. Спешили. Было много дел. Обменяться подарками. Выпить. Сфотографироваться. Похоронить своих мертвецов. Ждали, что в любой момент накроет огнем, но артиллерия молчала.
Британский офицер Брюс Барнсфатер – в мирное время карикатурист – видел это своими глазами. «Я заметил немецкого офицера и намекнул, что мне нравятся пуговицы на его мундире. Немец разрешил срезать несколько штук, а я взамен дал ему несколько своих… Последнее, что я видел, – как один из моих пулеметчиков, парикмахер в мирной жизни, стрижет немца, который терпеливо стоит перед ним на коленях».
Генри Вильямсон, будущий художник, – там умерло много поэтов и художников – писал матери. «Дорогая моя мама! Сейчас 11 утра. Передо мною блиндаж, рядом горит кокс. В траншее земля мокра, а снаружи – мерзлая. В зубах у меня трубка, та самая, что подарила принцесса Мэри. В трубке табачок. Ну а что же еще, скажешь ты. Минуточку! Табачок-то немецкий. Ага, скажешь ты, от пленного, наверно. Но нет! Табак принес немецкий солдат, да-да, живой немец из другого окопа. Вчера мы с ними встретились на нейтральной территории, пожали руки и обменялись подарками. Удивительно, не правда ли?»
В то Рождество браталось сто тысяч человек. Если вам скучно вчитываться в эти старомодные письма, то историю Великого Рождественского Братания вкратце описал американский фолкер Джон Маккатчен. Его лирический герой – солдат из Ливерпуля, родину любит, а как же, просто задолбала война. И когда к нему в окоп приходят немцы, он наливает им бренди и зовет играть в футбол.
«По разные стороны ружейного прицела мы одинаковы», – поет Маккатчен.
В точности так все и было, в точности так все и есть.
Выражение Leben und leben lassen впервые встречается у Шиллера в «Лагере Валленштейна». Время действия – Тридцатилетняя война, которая для своего времени тоже была мировой.
«Сам поживай и другим жить давай!» (в переводе Льва Мея). «Сам не робей и других не тревожь» (в переводе Льва Гинзбурга). Или на современный манер: живи и дай жить другим.
Именно так вели себя солдаты в Первую мировую. Особенно когда командир далеко. В те годы не изобрели еще ни боевых ракет, ни танков в их привычном виде, ни самолетов нормальных, но главное, чего еще не было, – качественной промывки мозгов. И каждый солдат в бесконечном окопе задавал себе вопрос: какого черта я стреляю в парня из соседней деревни?
В общем, солдатский здравый смысл.
Но и у здравого смысла есть пределы.
На Пасху 1915 года братания повторились. Генералы начали беспокоиться. К счастью для них, уже в конце апреля чуть к северу от тех, самых первых окопов, немцы впервые в истории применили химическое оружие: хлор. Позднее в том же месте испробуют и горчичный газ, который сейчас называют красиво, ипритом, в честь города Ипр, где несколько тысяч человек ослепнут за несколько минут.
Рождественское волшебство закончилось, больше на Западном фронте никаких братаний.
А о состоянии дел на Восточном фронте хорошо сказал Марек из эпических «Похождений бравого солдата Швейка».
«Это большая ошибка, если вы считаете себя самым совершенным и развитым существом. Стоит отпороть вам звездочки, и вы станете нулем, таким же нулем, как все те, которых на всех фронтах и во всех окопах убивают неизвестно во имя чего… И когда вы наконец сложите свою культурно недоразвитую голову на поле сражения, то никто во всей Европе о вас не заплачет…»
В первые годы войны на востоке братания не были массовыми – ну, просто разные конфессии и даты Рождества не совпадали. Но 24 декабря 1914 года «Тихая ночь» повторилась и там, на реке Бзура, где русская армия отражала австро-венгерское наступление на Варшаву. Cicha noc, спели поляки. Stille Nacht, ответили им из окопа напротив.
Зато в 1917 и 1918 годах братались уже без всякого повода. Слишком долго шла война. Солдаты просто отказывались подчиняться и шли в соседний окоп – дружить.
В России такое несознательное поведение осудили все, от самых злобных консерваторов до самых дерзких либералов. Один лишь Ленин ответил восторженной статьей «Значение братанья». «Ясно, что братанье есть путь к миру. Ясно, что этот путь идет не через капиталистические правительства, не в союзе с ними, а против них. Ясно, что этот путь развивает, укрепляет, упрочивает братское доверие между рабочими различных стран. Ясно, что этот путь начинает ломать проклятую дисциплину казармы-тюрьмы, дисциплину мертвого подчинения солдат «своим» офицерам и генералам, своим капиталистам (ибо офицеры и генералы большей частью либо принадлежат к классу капиталистов, либо отстаивают его интересы). Ясно, что братанье есть революционная инициатива масс, есть пробуждение совести, ума, смелости угнетенных классов».
Это, кстати, апрель 1917 года, и никто не верит, что большевики придут к власти. А сами большевики не верят, что, придя к власти, тоже станут угнетателями.
Пока же правит Временное правительство, и оно стреляет во всякого, кто возлюбил врага. Генерал Данилов, командующий Северным фронтом, рекомендует самосуд: «Долг каждого верного России солдата, замечающего попытку к братанию, – немедленно стрелять по изменникам».
Скоро, несмотря на все эти усилия, Мировая война – тогда еще без приписки «первая» – закончится. 20 миллионов погибших, 40 миллионов раненых, из них совсем мало генералов. Тот же Данилов проживет долго и довольно счастливо, он лишь немного не дотянет до начала следующей бойни и умрет в Париже в 1937 году, приличным человеком.
В России плохо знают историю Первой мировой. Возможно, потому, что тут уж точно не навертеть красивостей. Просто пять империй делили Европу, четыре распались, одна из них – Российская. Гордиться нечем.
На Западе до сих пор вдохновляются теми чудесными событиями. Большому Рождественскому Перемирию посвящено много песен и фильмов, самый известный – «Счастливого Рождества». В рождественский сочельник 24 декабря 2005 года я увидел его в Петербурге, в Доме кино. Не сказать чтоб фильм был так уж хорош. Но когда пошли титры, я твердо решил: окажусь в окопе с винтовкой – направлю ее не на врага, а на командира.
Но тогда никто в войну по-настоящему не верил. Ни в блицкриг за Осетию. Ни в гибридную войну с Украиной за Донбасс. Ни тем более в Сирию.
11 ноября 2008 году в городке Фрелингьен полк королевских валлийских фузилеров сошелся в последнем бою с 371-м батальоном. Британцы и немцы, тезки и наследники воинских частей столетней давности, повторили легендарные дела декабря 1914 года.
Они отложили штыки, закатали штанины и сыграли в футбол.
Немцы выиграли 2:1.
Один день со Сталиным
Когда посадят всех художников и доиграются в допинг, укротят Украину и смирятся со смертями в Сирии, когда не останется, о чем спорить, мы вернемся к проверенной теме – к Сталину
Без него нам никак. Он главный герой наших грез. В наших снах о тридцатых он означает порядок. Или беспредел. Насилие. Или стабильность. Взлет. Яму. Но чаще взлет. Даже патриарх – с чисто чиновничьей осторожностью – призывает не подвергать сомнению успехи Сталина.
Что точно можно считать его успехом – так это долговечность. Он правил треть века. Примерно 10 тысяч дней. Давайте же возьмем под лупу один из этих дней и посмотрим, как дело было. Я пишу это 11 ноября. Ну, пусть это будет 11 ноября 1931 года.
Той ночью (это известно точно) было холодно, а днем – пасмурно. Солнце встало в 8.43. В Крыму (тогда не спорили, чей он), в Алупке, на съемной квартире пожилой мужчина открыл дневник и написал: «Умерла Мурочка». Ей было 11 лет. Туберкулез.
«Вчера ночью я дежурил у ее постели, и она сказала:
– Лег бы… ведь ты устал… ездил в Ялту…
Сегодня она улыбнулась – странно было видеть ее улыбку на таком измученном лице; сегодня я отдал детям ее голубей, и дети принесли ей лягушку – она смотрела на нее любовно, лягушка была одноглазая – и Мура прыгала на постели, радовалась, а потом оравнодушела.
Так и не докончила Мура рассказывать мне свой сон. Лежит ровненькая, серьезная и очень чужая. Но руки изящные, благородные, одухотворенные. Никогда ни у кого я не видел таких».
Мура – это Мария Чуковская, его младшая дочь, героиня и адресат его сказок. К 11 ноября 1931 года сказки забыты: он обещал их больше не писать. «Болтовня, издевательство над детьми» – так назвали их на самом верху.
Он переживет и опалу, и борьбу с «чуковщиной», и смерть дочери, и расстрел зятя. И войну. И Сталина. И даже высадку на Луну. Он все переживет, но сейчас ему надо заказать гроб.
«Федор Ильич Будников, столяр из Цустраха, сделал из кипарисного сундука Ольги Николаевны Овсянниковой (того, на котором Мура однажды лежала) гроб… Я положил Мурочку в этот гробик. Своими руками. Легонькая».
Этим утром все хорошо у молодого шахматиста Михаила Ботвинника. 11 ноября 1931 года завершился чемпионат СССР. Завершился его победой. Он будущий чемпион мира, сильнейший игрок планеты. Однажды на вопрос «вы коммунист?» он ответит – «да, как Иисус Христос». А пока ему 20 лет. И хотя у него стариковские очки и серьезное лицо, он просто хороший и веселый парень.
«В последнем туре я мог уже проиграть партию – на итоги турнира она не влияла. Подходит ко мне перед партией Г. Лисицын: «Миша, не сделаете ли вы со мной ничью? Тогда я получу звание мастера…» В партии, несмотря на упрощение позиции, белые все же сохраняли некоторый перевес. Во время обдумывания очередного хода слышу вдруг трагический шепот перепуганного Лиса: «Миша, что вы делаете?!» Тут я не выдержал и, улыбаясь, пожал новоиспеченному мастеру руку».
Сталин страстно любил шахматы и развивал советский шахматный спорт, но запомнится он, конечно, не этим. 11 ноября 1931 года он подписал постановление «О Колыме» и создал Дальстрой: началась советская золотая лихорадка. Большую часть работ будут выполнять заключенные Севвостлага. Такие же хорошие парни, как Ботвинник и его друг Лисицын. Хорошие парни добудут на Колыме 100 тонн урана, 1000 тонн золота и 7 миллионов тонн угля. Построят 3100 километров дорог – вручную. Один из них – Варлам Шаламов.
«Человек стал человеком не потому, что он божье созданье, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что был он крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому. Вот обо всем этом в сотый раз думал я в этом шурфе. Я знал, что не покончу с собой потому, что проверил эту свою жизненную силу. В таком же шурфе, только глубоком, недавно я выкайлил огромный камень. Я много дней бережно освобождал его страшную тяжесть. Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное – по словам русского поэта. Я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу…»
Но до «Колымских рассказов» и Большого террора еще далеко. Расстреливают и сажают пока понемногу. Самое популярное наказание – ссылка. К 11 ноября 1931 года на спецпоселение отправлено 370 тысяч крестьянских семей – почти два миллиона человек. Вот как 11 ноября 1931 года еженедельник «Товарищ» громит какого-то Батлина – типичного кулака. Обратите внимание на стиль: не изменился.
«На первый взгляд «безобидный» парень, занимается прилежно. Но когда его разузнаете, то под личиной «безобидности» кроется отпрыск нам идейно-чуждого, антисоветского элемента. На собраниях он «прячется» и старается себя не выдать, на производственной практике вдали от группы, в разговоре с рабочими, выходцами из деревни, он находит свою почву, здесь он звучит с ними в унисон и при этом играет роль первой скрипки. Кулацкая идеология его сильно показала себя в последнее время. От посещения всякого рода собраний он открыто отказывается и всячески их игнорирует.
– Не люблю я эту нацию! – открыто заявил он в комнате общежития, когда речь шла о ребятах-евреях, студентах нашей группы.
На практике на Волховстрое его неоднократно осаживали за явно кулацкое шипение рабочие-машинисты».
В «Крокодиле» еще не скоро появятся карикатуры на злобных горбоносых мужчин. Государственный антисемитизм – это после войны. И читателю ясно: Батлин, гад, не понимает пролетарского интернационализма, правильно его прижали.
А вот как вспоминала раскулачивание крестьянская дочь Евдокия Котюшева, которую 11 ноября 1931 года отправили в ссылку.
«Нашу семью погрузили в товарные вагоны и везли неделю на север, в Томскую область. Дальше повезли на лошадях и остановились на берегу какой-то реки, притока Оби. Здесь продержали целый месяц, где люди умирали от голода и болезней, образовалось целое кладбище. После нас переправили через реку и на лошадях привезли и высадили в глухой сосновой тайге. Вначале построили шалаши от непогоды. Потом мужчины рубили лес, молодые женщины очищали кору, а дети собирали по болотам мох – все работали от зари до зари».
А пока миллионы собирали мох, журнал «Вестник знания» фантазировал об оружии будущего – 11 ноября 1931 года вышла статья о баллистических ракетах с отравляющими газами.
«Снабженные фотографическим аппаратом, ракеты смогут залетать глубоко в тыл неприятеля, снимать расположение противника и вновь возвращаться к месту отлета. Дальность полета ракет так велика, что народы на одной половине земного шара смогут бомбардировать другую половину снарядами с отравляющими газами. В ближайшие годы военные ракеты, вероятно, вытеснят аэропланы. Военные ведомства капиталистических стран лихорадочно экспериментируют со смертоносными ракетами. Однако… это страшное орудие заставит империалистические державы воздержаться от участия в бойне».
Ошибка. До новой мировой войны 8 лет, до атомной бомбы – 14.
11 ноября 1931 года «Вечерняя Москва» напечатала сообщение товарища Ковачева, рабочего из Детройта. «Я плюну в лицо тем буржуазным писакам, которые распускают ложь о Советском Союзе», – сказал Ковачев.
Не знаю, что там ложь, а что правда. Но совершенно точно известно, что 11 ноября 1931 года в Москве шел дождь, а стемнело рано – в 16.30. День как день. Сталину оставалось еще примерно 8000 таких же.
Жизнь и судьба олимпийских фашистов
На берегу Мааса лежит обер-лейтенант и плюется кровью: пробито легкое. Второй день войны. Голландский патруль решает добить немца. Это Альфред Шварцманн, трехкратный чемпион Олимпиады-36 по спортивной гимнастике. Его узнает патрульный, конькобежец-рекордсмен Сим Хейден. Отличный сюжет для Верховена, но это – жизнь.
Все кончилось хорошо. На четвертый день Голландия сдалась, Шварцманн повоевал на Крите и на Восточном фронте, а в 1952 году выиграл серебро в Хельсинки. Неизвестно, сколько людей он убил между Олимпиадами.
После войны Международный олимпийский комитет извинялся и каялся. Но это после. А в 1935 году проверочная комиссия не нашла в Берлине «ничего, что могло бы нанести ущерб олимпийскому движению». Границы империй зла рисуют задним числом, и накануне берлинской Олимпиады мало кто считал Гитлера уродом. Шел вялый спор, жать или не жать ему руку. Американский олимпийский чиновник Эвери Брендедж, например, полагал, что Гитлер свой и точно лучше коммунистов. Многие с ним согласились.
«В истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд» – олимпийская клятва на войне не действует, спортивные достижения не спасают от пули. В 1939 году призеры Олимпиады-1936 вступили в бой во славу и во имя. С предсказуемым результатом.
Людвиг Стуббендорф, конный спорт, золото. Убит на Восточном фронте в 1941 году.
Ханс Вельке, толкание ядра, золото. Пошел в полицаи. Пойман и убит партизанами в 1943-м под Хатынью.
Курт Хассе, прыжки в длину, золото. Убит в 1944-м.
Хайнц Брандт – конкур, золото – стал штабным офицером и случайно задел ногой бомбу, приготовленную для Гитлера. Вождь остался жив и дал Брандту генерал-майора – посмертно.
Все они были молоды, мускулисты, воспеты Рифеншталь, всех призвали, каждый получил оружие, и ни один не повернул это оружие против своего государства.
Будущие страны нацистского блока завоевали 164 медали из 388. Германия, Венгрия, Италия, Финляндия и Япония продемонстрировали отличную физическую подготовку.
Многим чемпионам повезло. Вилли Кайзер, боксер в наилегчайшей категории, золото, пережил пять лет советского плена, завел кучу детей, увлекся голубиными гонками – и мирно умер в старости.
Герман Леопольд Август фон Оппельн-Брониковски (даже по имени понятно, что золото он выиграл в конном спорте) командовал танковым полком, дослужился до генерала и очень удачно сдался в американский плен. Его не судили – стал гражданским советником бундесвера, ценный кадр.
Но хватит о немцах. Давайте о евреях. Венгерский фюрер Миклош Хорти не верил байкам про низшие расы. Он честно воевал за земли и ресурсы и позволил своим евреям встать на пьедестал почета под звуки «Боже, благослови мадьяр».
Карой Карпати, вольная борьба, золото. Его отправили не в лагерь смерти, а в обычный трудовой лагерь, чемпион все-таки. После войны тренировал венгерскую армию и написал несколько книг.
Ибойя Чак, прыжки в высоту, золото. Про нее интересной истории нет, зато есть про Дору Ратьен, занявшую четвертое место: она оказалась единственным в истории всех Олимпиад переодетым мужиком.
Илона Элек, фехтование рапирой, золото. Серебро завоевала полукровка Хелен Майер, еврейка по отцу, которую Германия допустила к Олимпиаде, чтобы успокоить МОК. Бронза досталась австрийской еврейке Эллен Прейс.
Представьте: Берлин, сердце Германии, за два года до Хрустальной ночи, за три года до начала войны. Три еврейки-фехтовальщицы представляют три фашистских государства. А на соседнем стадионе еврейка-прыгунья сражается с интерсексуалом – слова такого тогда, конечно, не знали.
В 1936 году Германия стала абсолютным лидером медального зачета, но неплохо выступила и Финляндия.
Кустаа Пихлаямяки, вольная борьба, золото, работал полицейским в Хельсинки, погиб во время советской бомбежки.
Лаури Коскела, греко-римская борьба, золото, убит под Выборгом. Когда порыв ветра вырвал письмо у него из рук, чемпион потянулся за ним из окопа и получил от снайпера пулю в левое ухо.
Зачем этот рассказ? О немцах и евреях, о битвах минувшего века, о реках крови и пулях в ухе? О победах и смертях – моментальных, как фотовспышка на финише?
Сравнивать Путина с Гитлером, Сочи с Берлином, геев с евреями способен лишь тот, кто не чувствует разницы между зимой и летом, между неброским консерватизмом нулевых и безжалостным блеском фашистского модерна. Вот и я не сравниваю, просто рассказываю истории, как тот голландский патрульный, конькобежец Сим Хейден. Говорят, под конец жизни он впал в маразм и просто придумал встречу со Шварцманном. Если так – в этой выдумке больше жизни, чем в самой жизни.
А вот простая, документальная, несомненная правда: в 1936 году никто не ждал войны и не знал, что до следующей Олимпиады – 18 лет.
Финские пушки и конские кишки
1936
Павел Постышев прославился поразительной паранойей.
Он, старый большевик, обнаружил на спичечных коробках профиль Троцкого, а в колбасных обрезках – свастику. Всюду искал японских шпионов и сам был расстрелян за шпионаж. Но одна его идея счастливо прижилась: вернуть елку.
Сталин одобрил, «Правда» дала передовицу: «Какие-то, не иначе как «левые» загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком».
В ночь на 1 января 1936 года формальный глава государства Михаил Калинин (он переживет войну и репрессии и мирно умрет от рака кишечника) поздравляет по радио арктическую экспедицию Папанина. Наутро «Правда» впервые выходит с новогодним поздравлением, а миллионы ее читателей получают свой первый новогодний подарок: в СССР отменяют карточки на продукты.
Mikoyan prosperity – так, в честь наркома пищевой промышленности, называют на Западе советские тридцатые. Вслед за едой на прилавках появляются отдельные предметы роскоши, а в 1936 году – первая елочная игрушка. Открываются игрушечные артели: «Изокульт» в Ленинграде и «Промигрушка» в Москве.
Странные эти игрушки: крохотные серебристые дирижабли, фанерные аэропланы, десантники из прессованной ваты.
Время такое. Парашютная вышка стоит в каждом городе. Советский Союз развивает авиацию – даже при Гагарине так сильно не мечтали о небе.
1937
В новом году расстрелов стало больше в 315 раз. Все читают передовицы о новых заговорах и казнях, но никто не представляет масштабов репрессий.
Тем временем культ Нового года воскрешают так же быстро, как вскоре воскресят православие. Звезда со Спасской башни насажена на каждую макушку. Главная елка страны – 15-метровая, в Колонном зале Дома союзов. Тут, на бале-маскараде отличников, возникает и Дед Мороз, очень моложавый, а с ним первая советская Снегурочка, совсем ребенок. Грудь и талия у Снегурочек появятся после войны.
Новый год начинают праздновать массово и научно. Учпедгиз выпускает две методички: «Елка в детском саду» и просто «Елка». Первая книжка – замечательное пособие по дизайну:
«На верхних ветках лучше повесить на самые концы легкие, блестящие украшения, а по контуру веток положить нити серебряного инея. На средних ветках надо вешать такие игрушки, которые не требуют близкого и детального рассматривания, например, бонбоньерки, хлопушки, крашеные шишки, бутафорские овощи, а на краях ветвей – аэропланы, парашюты, птички, бабочки и т. п.»
«Елка» – сборник очень серьезных статей. Например «О средствах против воспламенения елочных украшений». Идеология тоже на высоте.
«Старыми являются антихудожественные безделушки мещанского, безвкусного оформления. На елке важно дать возможно больше игрушек новой тематики, увлекательные для ребят образы строительства, героики, например, завоевание Северного полюса, парашюты, планеры, оборонные игрушки, фигурки национальностей Союза и т. д. Это сделает елку для детей близкой, своей, советской…»
Подключается кино. Молодой режиссер Ольга Ходатаева (много позже она получит призы в Карловых Варах, Венеции и Эдинбурге) снимает первый новогодний мультик. Про злобного волка, который притворяется Дедом Морозом и хочет украсть у зайчиков Новый год.
В конце поверженного волка заносит вьюга, затемнение, занавес.
Сколько людей погибло в 1937 году, неизвестно до сих пор. Есть и совсем уж сказочные цифры. Но совершенно точно можно сказать, что в первый год Большого террора расстреляно не менее 300 тысяч человек и посажено не менее 800 тысяч.
1938
«Кончается 1937 год. Горький вкус у меня от него. У М. А. температура упала. Едем к Оле встречать Новый год». Это из дневника Елены Булгаковой.
М. А. проживет еще очень долго, полтора года, и умрет от болезни, которая в наши дни совсем не смертельна.
Умрет в своей постели, чего не скажешь о других.
Под Новый год взяли Михаила Кольцова.
«Ровинскому позвонили. Отвечая невразумительными фразами «Да», «Нет», «Хорошо», он бегло взглянул на Кольцова, который рассказывал присутствовавшим какой-то анекдот. Через несколько минут Кольцов пошел к дверям, но Ровинский под каким-то не очень ловким предлогом (как это сообразили потом) задержал его. Видимо, он получил указание задержать Кольцова у себя в кабинете, пока за ним ехали. Через несколько минут вошел известный чекист Райхман с двумя помощниками. Кольцов мгновенным прыжком оказался у вертушки и схватил трубку, но Райхман сказал, что товарищ Сталин в курсе дела. Кольцов стал бледным, как мел…»
Павел Филонов в те годы ведет дневник – от случая к случаю. «Сегодня дочка съела последний мандарин. Она сильно неожиданно взволновалась, что у нас их больше нет. Действительно, при ее питании в ее положении мандарины были решающей поддержкой. За последние дни их нельзя было купить, не было в продаже в наших местах…»
Дочка – это его жена, Рина Тетельман. На двадцать лет его старше, но любил ее «нежно, как доченьку», отсюда и прозвище.
Оба умерли в блокаду, от голода: он спустя три, она спустя четыре года.
А детей их расстреляли в новом, 1938 году, незадолго до того, как «дочка» попросила мандаринов. Примерно в те годы мандарины и стали чем-то фирменно-новогодним.
1939
В 1939 году СССР и Германия заключают пакт и начинают потихоньку делить Восточную Европу. Немцы вторгаются в Польшу, Советы – в Финляндию.
Советская почта выпускает первые новогодние открытки. На них веселые спортсмены и мохнатые животные.
Никто еще не называет новую войну мировой, но мир полон ее предчувствием. Придворный поэт Сергей Михалков пишет новогоднее стихотворение, которое войдет во все детские хрестоматии на ближайшие пятнадцать лет:
Новый год! Над мирным краем Бьют часы двенадцать раз… Новый год в Кремле встречая, Сталин думает о нас. Он желает нам удачи и здоровья в Новый год, Чтоб сильнее и богаче Становился наш народ. Чтобы взрослые и дети — Нашей Родины сыны — Жили лучше всех на свете И не ведали войны.И пока Михалков хочет мира, поэтесса Найденова из «Мурзилки» готовится к войне:
Смастерили сами Мы жука с усами, Корабли и танки, Пушки и тачанки. Мы украсим елку, Встретим Новый год. Ждать его недолго — Он уже идет.1940
В январе 1940 года Сталин впервые попадает на обложку Time. «Со старой Европой, – пишет Time, – покончил человек, чьи владения простираются в основном за ее пределами. Иосиф Сталин изменил баланс сил за один августовский вечер. Истории он может не нравиться, но история никогда его не забудет».
Война уже рядом с Ленинградом, но все еще как будто далеко. В газетах новое слово: белофинны. Гайдар пишет гениальную киноповесть «Комендант снежной крепости».
«Сверкает елка. Звенит веселая музыка. Кружатся вокруг елки в танце дети. И вот через эту блестящую елку под нарастающий гул проступает другая – большая черная ель на снежной поляне. На нижних ветвях ее висят два котелка, три винтовки, белый халат, сигнальный флаг. Чуть правее ели стоит батарея. Командир поднимает руку – раздается залп…»
Советский Союз воюет удачно. За год – пять новых республик: Эстонская, Латвийская, Литовская, Молдавская и Карело-Финская ССР. Последнюю отхватили от Финляндии, положив триста тысяч солдат у стен снежной крепости Маннергейма.
На прилавках новая порция открыток: счастливые жители присоединенных территорий.
Перспективы самые радужные.
1941
В ту новогоднюю ночь в Москве допоздна заседают генералы. Воинские звания – пережиток царизма – полгода как снова есть. Маршал Тимошенко рассказывает, как немцы действуют на Западном фронте, против Франции. Его анализ пророческий: почти так же они будут действовать и на Восточном.
«Атака мыслится как массовое использование авиации и парашютных частей для парализования оперативной глубины обороны, как массовое использование артиллерии и авиации на поле боя с целью обеспечить подавление всей глубины тактической обороны, как массовое использование механизированных соединений, прокладывающих при поддержке авиации и артиллерии дорогу главным силам пехоты и самостоятельно развивающих успех…»
По всей земле политики и публицисты неторопливо рассуждают, как же назвать новую войну. Рузвельт предлагает «Война за цивилизацию». Черчилль настаивает на «Великой войне». Для Советского Союза она станет Великой Отечественной – но только в июне.
А в декабре ленинградская школьница Лена Мухина напишет в дневнике: «Вот мы здесь с голода мрем, как мухи, а в Москве Сталин вчера дал опять обед в честь Идена. Прямо безобразие, они там жрут, как черти, а мы даже куска своего хлеба не можем получить по-человечески. Они там устраивают всякие блестящие встречи, а мы как пещерные люди, как кроты слепые живем. Когда же это кончится? Неужели нам не суждено увидеть нежные зеленые весенние молодые листья?! Неужели мы не увидим майского солнышка?! Уже седьмой месяц идет эта жуткая война…»
1942
Михаил Калинин снова обращается по радио, но уже не к полярникам, а ко всей стране. Текст хорошо известен.
«Дорогие товарищи! Граждане Советского Союза! Рабочие и работницы! Колхозники и колхозницы! Советская интеллигенция! Бойцы, командиры и политработники Красной Армии и Военно-Морского Флота! Партизаны и партизанки! Жители советских районов, временно захваченных немецко-фашистскими оккупантами! Разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом…» Дальше он говорит про «хорошие перспективы» и про то, что «враг бежит».
Калинин ошибается. Это ясно показывает Ленинград.
«1 января 1942 года, четверг. Целый день отец возился с кишками конскими, которые он перемолол и сварил суп».
«1 января 1942 года. Новый год справили хорошо. Полина напекла по одной лепешке из картофельной кожуры, где она достала эту кожуру, я не знаю. Я принес две плитки столярного клею, из которого сварили студень, ну и по тарелке «бульона». Вечером ходили в театр, смотрели постановку «Машенька». Но смотреть было неприятно, в помещении холод такой же, как и на улице, все зрители сидят в инее. T-35».
«1 января 1942 года. Опять я едва таскаю ноги, дыхание спирает и жизнь уже не мила. Не видать бы мне тебя, Ленинград, никогда. На улице все так же падают люди от голода. У нас в доме померло несколько человек, и сегодня из нашей комнаты просили мужчин помочь вынести покойника. В столовой ничего, кроме жидкого плохого супа из дуранды, нет. А этот суп хуже воды, но голод не тетка, и мы тратим талоны на такую бурду. В комнате только и слышно, что об еде. Люди все жалуются и плачут. Что-то с нами будет? Выживу ли я в этом аду?»
Нет, не выживет. Автор последней записи – 16-летний Борис Капранов – умрет от голода через месяц, в феврале 1942 года. Где-то тут, на Петроградской стороне, умирают и Филонов со своей женой-дочкой. Смертей таких шестьсот тысяч – каждый четвертый житель-ленинградец.
Но и тут празднуют Новый год. Бензин бесценен, но из леса привозят тысячу елок. Школьников кормят горячим супом. В театрах по случаю праздника включают электричество и дают новогодние спектакли. В Большом драматическом идут «Три мушкетера».
1943
Time снова выходит со Сталиным на обложке.
«Год 1942 был годом крови и силы. Человек, чье имя по-русски означает «сталь», чей скудный английский включает выражение «крутой парень», стал человеком 1942 года. Один лишь Сталин знал, как близко Россия стояла к поражению. Один лишь Сталин знал, какой ценой Россия этого избежала».
Сейчас-то цена хорошо известна: в минувшем 1942 году погибло полтора миллиона красноармейцев. Остальные пять миллионов встречают Новый год в окопах. Среди них и молодой полковой инженер, замкомандира саперного батальона Виктор Некрасов. Он бьется под Сталинградом. За полгода там убьют два миллиона человек. Но Некрасов выживет и три года спустя напишет свою первую повесть – «В окопах Сталинграда».
«Новый год… Где я его встречал в последний раз? В Пичуге, что ли? В занесенной снегом Пичуге, на берегу Волги, в запасном батальоне. Я дежурил тогда по батальону. Дремал над телефоном. Караульный начальник позвонил и поздравил и счастья пожелал. Вот и все. Помню только, что был сильный мороз, и луна была в ореоле, и ноги мерзли… А еще год назад где? В Киеве. У Люси. Народу совсем немного было. Человек пять или шесть. Я, Люся, Толька Янсон, Венька Любомирский, Лариса и Люба. Мы пили «абрау-дюрсо», ели хрусты и струдель с маком. Потом играли в шарады, и почему-то было страшно весело и смешно. А потом взяли у соседского мальчика санки и чуть не до самого утра катались с Нестеровской горки, пока у санок не отскочили полозья… Где они сейчас? На фронте, у немцев, в тылу? Все порвалось, точно ножом обрезал кто-то…»
1944
В ту новогоднюю ночь по радио впервые играют гимн. В третьем куплете про Сталина, в пятом – про подлых захватчиков. Михалкова за эти стихи навсегда обзовут «гимнюком», но его друг Чуковский к нему снисходителен.
«1 января 1944. Михалков всю ночь провел у Иос. Вис. – вернулся домой в несказанном восторге. Он читал Сталину много стихов, прочел даже шуточные, откровенно сказал вождю: «Я, И. В., человек необразованный и часто пишу очень плохие стихи». Про гимн М. говорит: «Ну что ж, все гимны такие. Здесь критерии искусства неприменимы! Но зато другие стихи я буду писать – во!» И действительно его стихи превосходны – особенно о старике, продававшем корову…»
1 января 1944 года Красная армия берет 28 городов. Продолжается Житомирско-Бердичевская операция. Немцев выбивают. Война переломлена.
А на открытках впервые появляется Дед Мороз. Их целая серия. Дед Мороз в окопе. Дед Мороз заряжает пушку. Дед Мороз курит трубку и ехидно улыбается – и трубка, и усмешка очень сталинские.
А пока Сталин в образе доброго старца орудует на фронте, новогоднее обращение к народу снова читает Калинин. «Дедушка Калинин», как его называют, а еще – всесоюзный староста. Говорят, его речи действительно вдохновляли. Особенно солдатам нравился голос. Слушать его и сейчас приятно, остались записи. Он читает явно по бумажке, медленно, почти по слогам, окая и чтокая, как человек, недавно научившийся читать, что, конечно, неправда: он просто удачно имитирует крестьянскую речь, чтобы быть ближе к миллионам слушателей.
«Дорогие товарищи! Третий раз встречает наша страна Новый год в условиях жестокой борьбы с немецким фашизмом… Надо прямо сказать: сделано много. Конечно, это меньше, чем наше желание – полностью очистить советскую территорию от фашистских разбойников. И все же наши военные успехи огромны…»
1945
Той зимой Советский Союз – в зените мощи: сражаются 51 общевойсковая, 6 танковых и 11 воздушных армий. С октября по февраль продолжается Будапештская операция, Красная Армия выводит из игры самого сильного союзника немцев. Скоро конец и Германии. Новый, 1945 год встречают в окопах семь миллионов человек. Полтора миллиона из них умрут до того, как бой часов на Спасской башне возвестит наступление еще одного года.
А следующей зимой снова появляются мандарины.
Самый радостный аншлюс
Вынужденное предисловие
Автор помнит сам и напоминает вам о статье 280.1 УК РФ. Пять лет колонии могут дать за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. Поэтому все совпадения случайны, а все иностранные слова – «аншлюс», «аннексия», «Гитлер», «фашисты», – касаются Австрии и только Австрии.
Самый длинный дом
Между Венским лесом и Дунаем, на бывших заливных лугах, стоит Карл-Маркс-Хоф – когда-то самый длинный дом в мире, а сейчас просто красивое здание, километр с хвостиком.
Это памятник венской утопии. В двадцатые годы столицей правеющей Австрии правили левые. «Красная Вена» – так ее называют – победила безработицу, туберкулез и младенческую смертность. Построила бесплатные школы, бани, больницы и 25 тысяч почти бесплатных квартир в Карл-Маркс-Хофе и других «гемайндебау», муниципальных зданиях.
Мечтатели правили Веной. Они читали Фрейда, слушали Шенберга и спорили с Витгенштейном. «Мы сэкономим на тюрьмах и потратимся на молодежные клубы», – говорил врач Юлиус Тандлер, который сделал венскую медицину бесплатной.
«Эти социалисты создали самый успешный муниципалитет в мире», – говорил американский журналист Джон Гюнтер.
«Неудивительно, – добавлял он, – что их расстреляли».
Австрийцы в те годы интересовались политикой по-настоящему. О будущем спорили не в парламенте, а на пустырях и в подворотнях: кто выжил, тот и прав. В уличные боевые отряды вошли тысячи бывших фронтовиков. Справа сражался хеймвер, слева – шуцбунд. За левых были столичные рабочие – тогдашний креативный класс. За правых – лавочники, крестьяне и церковь. Правительство, конечно, тоже было за правых. И когда в феврале 1934 года хеймвер и шуцбунд столкнулись в очередной раз, правительство поддержало правых пушками.
Как-то зимой я шел вдоль Карл-Маркс-Хофа, последнего оплота шуцбунда. Шел четыре трамвайные остановки, 15 минут быстрым шагом – искал следы снарядов и пуль. У бесконечной красной стены мучил скейтборд африканский мальчик. На балконе сушили радужный флаг. На скамейке дремал дряхлый, но осанистый старик. Возможно, он своими глазами видел те бои, полторы тысячи трупов на улицах Вены, поражение Февральского восстания, конец утопии, начало австрофашизма – и аншлюс.
Самый главный фюрер
17 канцлеров за 20 лет – большую часть правителей Первой Австрийской республики не вспомнят даже по именам. Но был один, который отличился.
Диктаторы часто невысоки, а Энгельберт Дольфус был ну просто коротышка, полтора метра. По аналогии с Меттернихом его дразнили «Миллиметернихом». Но не в лицо. Опасно дразнить человека, который назвался фюрером за полгода до Гитлера.
Хотите превратить нормальную страну в диктатуру – берите пример с Дольфуса. Еще простым канцлером он принял несколько очень удачных законов.
4 марта 1933 года – распустил парламент;
7 марта – запретил митинги;
10 апреля – вернул в школы закон Божий;
10 мая – отменил все выборы;
20 мая – создал Отечественный фронт, такую специальную партию вместо всех прочих партий;
1 сентября – начал строить концлагеря;
11 ноября – вернул смертную казнь за поджог и вандализм;
16 февраля 1934 года – разгромил остатки левой оппозиции в Карл-Маркс-Хофе;
1 мая 1934 года провозгласил себя не просто фюрером, а бундесфюрером – федеральным вождем с почти неограниченными полномочиями.
Век спустя все эти сорта коричневого пахнут одинаково, но в 1934 году Италия, Австрия и Германия готовы были передраться. Как и Гитлер, Дольфус был за страну без радужных флагов на окнах, без африканских скейтбордистов и особенно без евреев. Но и нацистов не жаловал, даже запретил НСДАП. «Период правления партий закончился! – говорил он. – Мы хотим в Австрии немецкое государство на социальных, христианских, корпоративных началах с сильным, авторитарным руководством».
Гитлер тоже хотел немецкое государство, но свое. Поэтому 25 июля 1934 года полтораста очень вежливых, с иголочки одетых нацистов вошли в канцелярию бундесфюрера. Началась перестрелка, пуля попала Дольфусу в горло. Он мог и выжить, но отречение подписывать не стал, поэтому истек кровью – очень маленький человек на очень большом диване.
Гитлер собирался ввести войска и объявить о счастливом воссоединении немецкого народа, но это означало ссору с Муссолини, у которого на Австрию тоже были планы. Если бы не четыре итальянские дивизии, стоявшие наготове в Южном Тироле, аншлюс случился бы на четыре года раньше.
Самая важная миссия
Последний канцлер Первой Австрийской республики, Курт Алоис Йозеф Иоганн фон Шушниг, как и Гитлер, сражался в Первую мировую. Как у Гитлера, у него были усики и мундир, а на мундире значок – но не свастика, а костыльный крест, символ Отечественного фронта. От Гитлера Шушниг выгодно отличался очками и очень высоким ростом. Вид у него был исключительно интеллигентный. Этим он и запомнился. А еще хаотичными попытками сохранить независимость Австрии, когда на Австрию всем уже было плевать.
«Германский рейх не в силах терпеть страдания десяти миллионов немцев за его пределами», – объявил Гитлер по радио 20 февраля 1938 года.
Немцы страдали во Франции, Чехии, Польше, но особенно в Австрии, там страдало сразу 6,5 миллиона немцев, и Шушниг отлично понимал, что Гитлер намерен прекратить их страдания. Он ответил почти стихами: Bis in den Tod! Rot-Weiß-Rot. Будем, мол, биться, за австрийский флаг до самой смерти.
Гитлер вызвал Шушнига к себе и предложил сделку: тот амнистирует убийц Дольфуса и вообще всех нацистов, а Гитлер потерпит со вторжением. «В противном случае, – сказал немецкий фюрер австрийскому, – вы проснетесь однажды утром в Вене и увидите, что мы нагрянули, как весенняя гроза. Я бы хотел избавить Австрию от такой судьбы, поскольку подобная акция будет означать кровопролитие».
Шушниг сделал, как просили, но решил провести референдум о независимости Австрии. Он хотел доказать всему миру, что народ действительно хочет «свободную и немецкую, независимую и социальную, христианскую и собственную Австрию» – такой вопрос вынесли на референдум. Лишь граждане старше 24 лет могли голосовать – так хитрый Шушниг отсекал молодежь, которая любила нацистов.
Неизвестно, что Гитлер сказал ему по телефону, но после звонка из Берлина Шушниг отменил референдум и подал в отставку. И весенняя гроза нагрянула. «Сегодня рано утром солдаты германских вооруженных сил перешли границу с Австрией. Механизированные войска и пехота, немецкие самолеты в голубом небе, приглашенные новым национал-социалистским правительством в Вене, являются гарантами того, что в ближайшее время австрийская нация получит возможность решить свою судьбу путем подлинного плебисцита. Я сам, фюрер и канцлер, буду счастлив ступить на землю страны, являющейся моим домом, как свободный германский гражданин. Адольф Гитлер».
Это из листовки, ее разбрасывали с танков. Тут очень трогательная деталь про «голубое небо».
13 марта 1938 года Гитлер вошел в Вену. Четыре тысячи телохранителей сопровождали его. Сорок тысяч нацистов шатались по Вене, жгли факелы, требовали вешать евреев и Шушнига. Двести тысяч слушали речь Гитлера на площади Героев.
15 марта 1938 года с балкона замка Хофбург он заявил – и фотографы запечатлели восторг на его лице: «Я объявляю немецкому народу о завершении самой важной миссии в моей жизни… старейшая провинция Восточной Германии станет новейшим бастионом германского рейха».
Потом Гитлер во вполне современной манере поругал лживые западные СМИ. «Зарубежные газеты скажут, что наши методы грубые. А я вот что скажу: эти газетчики даже перед лицом смерти не прекратят врать. Я в ходе моей борьбы завоевал немало народной любви, но когда я пересек австрийскую границу, эта любовь пролилась на меня потоками, я такого никогда не испытывал. Не как тираны мы пришли, но как освободители».
Уроженец австрийской деревушки, Гитлер завершил речь очень лично. «Я возношу хвалу Всевышнему, позволившему мне вернуться на родину, с тем чтобы я мог ввести ее в состав рейха. Пусть завтра каждый немец вспомнит об этом и смиренно преклонит голову перед Богом всемогущим, который за три недели сотворил для нас чудо!»
Самые счастливые люди
Кинохроника поразительна. Поразительны фото. Гитлера окружают толпы. Старики счастливы, будто снова стали детьми. Дети счастливы, будто увидели живого Супермена. Женщины плачут от восторга. Мужчины энергично зигуют.
Это не постановка, не фашистский агитпроп. Людей тысячи.
После войны пропагандисты пытались представить Австрию жертвой, а не союзницей нацистов. Вышли книги, фильмы, передачи, что это все неправда, что все эти счастливые люди на самом деле Гитлера ненавидели.
Но они умирали от восторга. Если даже Россия слегка страдает от имперских амбиций, представьте, как страдала от них Австрия, потерявшая 90 % территории и почти всю промышленность. В 1938 году у нее появился шанс стать чем-то большим – стать частью Германского рейха на почти равных паях с Германией.
В тот год нацистам присягнуло даже духовенство во главе с кардиналом Иннитцером, который завершил письмо в поддержку Гитлера персональным кардинальским «зиг хайль!».
А что же Германия? Тоже, конечно, радовалась. Выступая в Берлине, Гитлер закрепил урок: «Германия ныне стала Великой Германией и останется ею. Само провидение выбрало меня для великого союза с Австрией – страной, которая была самой несчастной, а ныне стала самой счастливой».
В общем ликовании о Шушниге забыли совершенно. Пытали его не особенно, но после полутора лет в гестапо он при двухметровом росте весил 40 килограммов. Потом его перевели в Дахау.
Самый честный выбор
15 марта 1938 года Гитлер подписал закон «О воссоединении Австрии с Германской империей».
Хотя демократический Запад давно списал Австрию со счетов, гитлеровские армии были еще не укомплектованы, а план «Барбаросса» не составлен, и нужна была иллюзия демократии. Нужен был референдум.
Танки же тоже вводили под демократическим предлогом.
Бюллетеней напечатали четыре с половиной миллиона. Их и сейчас продают в интернете – от времени бумага стала коричневой. «Согласен ли ты с произошедшим 13 марта 1938 года воссоединением Австрии с Германией и голосуешь ли за список нашего фюрера Адольфа Гитлера?» В центре огромный круг с огромным «да», сбоку крохотный кружочек: «нет».
Армия голосовала отдельно, ей напечатали отдельные бюллетени: «Согласен ли ты, немецкий солдат, с произошедшим 13 марта 1938 года воссоединением Австрии с Германией?» И опять гигантское «да» и крохотное «нет».
Бесстыдная манипуляция. Но нужна ли она была? 70 тысяч коммунистов и других потенциальных оппозиционеров арестовали в первую же неделю. Остальные ликовали.
10 апреля 1938 года на избирательных участках было людно, как никогда до и никогда после. При явке 99,35 % – 99,71 % австрийцев сказали Гитлеру «да». Куда там Чечне и Ингушетии, куда там крымскому референдуму и прочим новейшим формам демократии.
10 апреля 1938 года народ покорно подтвердил решение, принятое за него.
Австрия стала Остмарком, австрийская армия – немецкой.
Последствия известны хорошо.
Австрию покинули 135 тысяч евреев. Исчезли венская школа психоанализа, венская архитектурная школа. 120 тысяч евреев, инвалидов и коммунистов, не успевших уехать, погибли в концлагерях.
Много позже, в мирном 1969 году, социологи расспросили австрийцев о прошлом. Треть по-прежнему считала, что евреи получили по заслугам.
Став частью Германии, Австрия разделила ее судьбу полностью.
Полмиллиона убитых, семьсот тысяч раненых. В войну погиб или был ранен каждый пятый австриец.
Но это все солдаты. Генералы, как обычно, выжили.
Например, кардинал Иннитцер, как и большинство австрийских сторонников нацизма, не был ни осужден, ни опозорен. Он умер в Вене, в собственном доме, в 1955 году.
Последний канцлер Шушниг пережил не только концлагерь, но и почти всех нацистов. Получил после войны американское гражданство и тихо преподавал в университете Сент-Луиса.
Разбомбленный Карл-Маркс-Хоф отреставрировали. Будете в Вене – сходите, очень красиво.
Гитлер и женщины
«Женщина покоряется сильному»
Гитлер сравнивает массы с женщиной, а женщину – с животным.
«Душевное восприятие женщины менее доступно аргументам абстрактного разума, чем не поддающимся определению инстинктивным стремлениям к дополняющей ее силе. Женщина гораздо охотнее покорится сильному, чем сама станет покорять себе слабого».
И она покоряется. 31 июля 1932 года нацисты побеждают на выборах в Рейхстаг: 14 миллионов голосов, в том числе женских, приводят Гитлера к власти.
Год спустя он отнимает их голоса. Ради их же блага – так говорит молодой министр просвещения, чья фамилия – Геббельс – вскоре станет синонимом слова «пропаганда».
«Мы делаем это не потому, что мы не уважаем женщину, а потому что мы ее слишком уважаем… Первое, лучшее и наиболее подходящее место женщины – в семье, и чудеснейшая задача, которую она может выполнить, – задача подарить детей своей стране».
Если судить по агиткам начала тридцатых, главное в жизни женщины – роды. На втором месте – метание копья: демонстрация телесной красоты. В агитках обильно цитируют Гитлера (власть его еще не абсолютна) и Гинденбурга (он еще жив). Спортсменок с видео уважительно называют «сестрами Гитлерюгенда». Это Bund Deutscher Mädel, Союз немецких девушек. Их пять миллионов.
Именно их потом изваяют придворные скульпторы рейха. Всех их, кстати, помиловал Нюрнберг, все дожили до седин. Труде Мор и Ютта Рюдигер, лидеры BDM и единственные женщины-политики Третьего рейха, тоже жили долго и счастливо, а в старости даже дали несколько интервью.
«Что для нас было самое важное? Спорт. Нам нужна была здоровая молодежь, но до нас у девушек не принято было заниматься спортом, его преподавали только в высшей школе. И еще нам было важно дать им правильное мировоззрение. Дать им примеры для подражания в деле служения своему народу».
Бодрая старушка Ютта Рюдигер сетует, что нацизм, конечно, не вернуть, но можно вспомнить, что было в нем хорошего: «чувство локтя, самодисциплину, порядочность, традиции и, не в последнюю очередь, честь и верность».
Она до старости работала психологом в Дюссельдорфе – интересно было бы к ней записаться. В 2001 году, когда Ютта Рюдигер умерла, немецкие неонацисты заявили, что «до конца дней она оставалась верным товарищем».
«Мать – самый важный гражданин»
На фото – деревенская девушка. Носатая, как многие крестьяне Нижней Австрии. Глаза немного выпучены: фотограф ее как будто напугал. Клара Пельцль была младше своего мужа Алоиза на 23 года. Она была одновременно его домработница и двоюродная племянница.
Гитлер упоминает мать четырежды и очень скупо. Известно, например, что «мать занималась домашним хозяйством, равномерно деля свою любовь между всеми нами – ее детьми. Только очень немногое осталось в моей памяти из этих времен».
Родив от «дяди Алоиза» шестерых детей и пережив четверых из них, Клара Гитлер умирает в 47 от рака груди. В тот год Гитлер проваливает экзамены в художественную школу.
«Мать умерла после долгой тяжелой болезни, которая с самого начала не оставляла места надеждам на выздоровление. Тем не менее этот удар поразил меня ужасно. Отца я почитал, мать же любил».
Это он диктует сокамернику, будущему личному водителю Эмилю Морису – они сидят за попытку переворота. Придя к власти спустя восемь лет, Гитлер скажет: «В моем государстве мать – самый важный гражданин».
Это он, конечно, не про свою покойную мать, а про то, что немцам надо меньше думать и больше размножаться.
«Ну и шлюха!»
1908 год. Вена. Столица империи. Один из пяти крупнейших городов мира. Миллион нищих. Тысячи искателей приключений. Среди них – два амбициозных провинциала: Густль и Ади. Один хочет стать альтистом, второй – художником. Друзья подыскивают квартиру. Не очень удачно.
«Хозяйка нечаянным движением развязала поясок, который удерживал полы халата… Этого момента было достаточно, чтобы увидеть, что под ним на ней не было ничего, кроме маленьких трусиков. Адольф побагровел, встал, взял меня за руку и сказал: «Пойдем, Густль!» Я не помню уже, как мы выбрались из квартиры. Я вспоминаю только, что, когда мы вышли на улицу, Адольф в бешенстве процедил сквозь зубы: «Ну и шлюха!»
Гитлер проповедует целомудрие и нуждается в целомудренном прошлом. Увы, Августу (Густлю) Кубичеку принято не верить: в тридцатые этот официальный «друг юности» пишет два пропагандистских буклета, согласованных с партией.
В действительности Гитлер почти наверняка ходил в бордель, как это было принято в те годы у буржуазной молодежи. И скрывал это, как было принято. В те годы 75 % молодых венцев получили свой первый сексуальный опыт с проститутками, а 17 % – со служанками.
Хотя Гитлер мог бы возразить, что это чушь собачья, ведь опрос проводили еврейские социологи Найсер и Мейровски.
«Разве не страшно видеть, как проститутки дают первые уроки брачной жизни этим еще совсем молодым, физически слабым и морально развращенным мальчикам?..»
Это он, конечно, не про себя, а про то, что немцам надо меньше шляться по борделям и раньше вступать в брак.
«Навязать волю». 10 цитат из Гитлера о женщинах
Гитлер меняет Вену на Мюнхен, искусство на политику – и находит, что женщины любят его. Безответно и бескорыстно. В двадцатые годы они кормят его партию, в то время еще самую обычную, одну из многих. Женщины ведут его к власти.
Жена фортепианного фабриканта Елена Бекштейн, жена издателя Эльза Брукман, просто богатая покровительница Гертруда фон Зайдлиц – всех их допрашивают после «Пивного путча», все признаются, что передавали Гитлеру деньги, картины и акции просто за красивые глаза.
Гитлер тоже любит женщин. Он дамский угодник и галантен до подобострастия. Он даже секретаршам целует руки и называет их «мои красавицы».
Но в чисто мужской компании он другой. Цитаты ниже собрал Вернер Мазер, автор самой полной биографии Гитлера. Это не статьи, не манифесты. Это из разговоров.
1. Мужчина должен иметь возможность навязать свою волю любой женщине. Женщины ничего другого и не хотят.
2. Плохо, когда женщина начинает размышлять о вопросах бытия. Она начинает действовать на нервы.
3. Мир мужчины значительно больше мира женщины. Мир женщины – это мужчина. Обо всем остальном она думает лишь время от времени. Женщина может любить глубже, чем мужчина. Но об интеллекте у женщины и речи быть не может.
4. У женщин только одно жгучее желание: чтобы за ними ухаживали все симпатичные мужчины.
5. Если женщина украшает себя, то она делает это в тайной надежде позлить другую. Она может целовать подругу и одновременно колоть ее булавкой. Совершенно бесполезно пытаться исправить женщин в этом отношении. Лучше уж пускай женщины занимаются этим, чем метафизическими вещами.
6. Самое плохое в браке то, что он создает юридические права. Лучше уж содержать любовницу.
7. Представить себе только, как мало на свете людей, которым женитьба дала все, что они хотели – исполнение великих жизненных желаний. Это величайшее счастье, когда встречаются два человека, созданных природой друг для друга.
8. Какие все же есть красавицы. Мы сидели в «Ратскеллер» в Бремене. И тут вошла женщина. Можно было подумать, что прямо Олимп разверзся! Просто ослепительная! Посетители побросали ножи и вилки и уставились на эту женщину.
9. К машине подбежала светловолосая девушка, чтобы вручить мне букет цветов. Крупная красивая блондинка! Но так всегда и бывает: кругом толпы народа. К тому же мы торопились. Я сейчас так жалею об этом…
10. Я попросту не в состоянии больше оставаться один и предпочитаю обедать с женщинами.
«Вычеркнуть из программы». 10 цитат из Браун о Гитлере
«Здравствуйте, я господин Волк». Так они знакомятся с Евой Браун. Октябрь 1929 года, Волк – детское прозвище Гитлера и его партийная кличка.
Они флиртуют, гуляют, но сходятся лишь после самоубийства его предыдущей любовницы (сентябрь 1931-го) и попытки самоубийства самой Евы Браун (август 1932-го).
Они начинают роман, хотя у Гитлера много дел. Роспуск парламента – победа национал-социалистов – внеочередные выборы и новая победа – назначение рейхсканцлером. К власти он идет стремительно.
С февраля по май 1935 года он мотается по стране и потихоньку готовит захват Австрии, а Ева Браун по-прежнему работает продавщицей в фотоателье. Ей 23, и она чувствует себя старой. На столе фотография Гитлера в рамке, как у миллионов других немок. Любовь к вождю протекает, похоже, на фоне тяжелой депрессии, но к врачу она не идет, поскольку психоанализ – еврейские штучки.
Зато она ведет дневник. Девичий такой, с перепадами настроения. Необычность его лишь в том, что мужчина, который делает ее несчастной, – самый опасный человек в мире.
1. Если бы у меня была хотя бы собака, я бы не была так одинока. Я так хотела себе таксу, и опять ничего не получилось. Может быть, на следующий год. Или еще позже, тогда это больше будет подходить к старой деве.
2. Только что он был здесь. Но ни собаки, ни гардероба. Он даже не спросил меня, чего я хочу на день рожденья. Теперь я сама купила себе украшения: 1 цепочку, серьги и в придачу кольцо за 50 марок. Все очень красивое. Надеюсь, что ему понравится. Если нет, то пусть сам что-нибудь найдет мне.
3. Вчера он пришел совершенно неожиданно, и получился восхитительный вечер. Самое прекрасное, однако, то, что он задумал забрать меня из магазина и… лучше я пока повременю радоваться, подарить мне домик. Я просто не решаюсь думать об этом, настолько это все чудесно. Мне не придется открывать двери перед нашими «уважаемыми покупателями» и играть роль магазинной прислуги.
4. Я так бесконечно счастлива, что он меня любит, и молюсь, чтобы так было всегда. Я не хочу чувствовать себя виноватой, если он однажды разлюбит меня.
5. Я хочу только одного: тяжело заболеть и по меньшей мере 8 дней ничего не слышать о нем. Почему со мной ничего не случается, почему я должна все это терпеть? Лучше бы я его никогда не видела. Я в отчаянии. Сейчас куплю себе снова снотворное, буду находиться в полутрансе и не думать так много об этом. Почему меня дьявол не заберет? У него наверняка лучше, чем здесь.
6. Мне плохо. Даже очень. В любом отношении. Квартира готова, но мне нельзя к нему. Похоже, что любовь в данный момент вычеркнута из его программы… Ничего, все будет опять хорошо.
7. Как мне мило и бестактно сообщила фрау Хоффман, у него есть для меня замена. Ее зовут Валькирия, и выглядит она соответственно имени, включая и ноги. Ему ведь нравятся такие размеры. Если это верно, то он ее скоро доведет до похудания, если только она не обладает способностью толстеть от огорчений. В конце концов, он же достаточно меня знает, чтобы понять, что я никогда не встану у него на пути, если его сердце займет другая. Ему ведь все равно, что будет со мной.
8. Погода такая замечательная, а я, возлюбленная величайшего человека Германии и мира, сижу и смотрю на солнце сквозь окошко. Этот пост когда-нибудь закончится, и тогда все покажется еще слаще. Жалко только, что сейчас как раз весна.
9. Если я сегодня вечером до 10 часов не получу ответа, я просто приму 25 таблеток и тихо усну. Что же это за такая сумасшедшая любовь, в которой он мне так часто клянется, если он за 3 месяца не сказал мне ни одного доброго слова?
10. Я решила принять 35 штук. На этот раз будет уже действительно надежно. Хоть бы он позвонил, по крайней мере.
Но он не звонит, и она принимает таблетки. Это уже вторая попытка самоубийства. Третью – удачную – они совершат вместе: спустя почти 10 лет, за 9 дней до Победы.
«Влажная ночь во Фландрии»
Гитлер любит помоложе. Все его дамы на 20 и более лет младше его.
Гитлер любит погрудастей. Все, кроме Евы Браун, таковы, а Ева подкладывает в лифчик носовые платки.
Гитлер любит попечальней. Из пяти его доказанных любовниц лишь одна нормально доживает до старости. То ли он выбирал потенциальных самоубийц, то ли сам доводил их до самоубийства.
Его любовница Мария Рейтер пытается повеситься (1927). Его любовница и сводная племянница Гели Раубаль стреляется (1931). Его любовница Юнити Валькирия Милфорд (та самая, с ногами, из дневника) не в силах пережить начало войны с Британией, пускает в голову две пули (1939) и умирает от менингита. И Раубаль, и Милфорд стреляются из оружия, подаренного Гитлером.
Наконец, Ева Браун совершает три попытки самоубийства, в том числе одну удачную (1932, 1935, 1945).
Везет лишь дочери мясника Шарлотте Эдокси Алиде Лобжуа. Они знакомятся на фронте. Все четыре года Первой мировой Гитлер воюет во Фландрии. На Западном фронте без перемен – это про те края: позиционная война, годы в окопе.
«Влажная холодная ночь во Фландрии, – вспоминает Гитлер. – На рассвете над нашими головами с треском разрывается снаряд; осколки падают совсем близко и взрывают мокрую землю. Не успело еще рассеяться облако от снаряда, как из двухсот глоток раздается первое громкое «ура», служащее ответом первому вестнику смерти…»
Гитлер, кстати, переживает Рождественское перемирие 1914 года, хотя о его участии в массовых братаниях ничего не известно. Зато известно, что в деревушке Нуайель-ле-Секлен он знакомится с девушкой. Фото не осталось, но в 1916 году бывший художник ефрейтор Гитлер рисует ее портрет: широкое цыганское лицо, глубокий вырез, цветастый платок, темный сосок.
После войны Лобжуа уезжает из разоренной Фландрии в Париж. С ней годовалый сын Жан. Его считают сыном Гитлера, но доказать это невозможно. В те годы у французских женщин ночевало немало немецких солдат.
«Мне нельзя любить женщину»
Когда Лени Рифеншталь встречает Гитлера, ей 28. Когда она пишет эти взволнованные строки, ей 85.
«Люди вскочили со своих мест и, словно лишившись рассудка, начали скандировать: «Хайль, хайль, хайль!» – в течение нескольких минут. Гитлер начал говорить… Странным образом в тот же момент мне явилось видение, которое я никогда не могла забыть. Мне показалось, что поверхность Земли – в виде полушария – вдруг посередине раскалывается, и оттуда выбрасывается вверх гигантская струя воды, такая огромная, что касается небес. Хотя многого я не понимала, речь Гитлера оказала на меня колдовское воздействие. Слушателей словно оглушила барабанная дробь, и все почувствовали, что находятся во власти этого человека».
Потрясенная речью, Рифеншталь пишет Гитлеру. Внезапно он отвечает. У них романтическая прогулка вдоль моря. Гитлер обворожителен.
«Он казался естественным и раскованным, как совершенно обычный человек, ни в коем случае не как будущий диктатор… У него был с собой бинокль, и он рассматривал корабли, еле виднеющиеся на горизонте, при этом подробно рассказывая о типе каждого судна. Вскоре зашел разговор о кино. Фюрер с восторгом отозвался о «Танце к морю» и сказал, что видел все фильмы с моим участием. Неожиданно фюрер без обиняков заявил:
– Если нам доведется когда-то прийти к власти, вы будете снимать фильмы обо мне».
Так и вышло. Ирония истории: документальное кино как искусство создают белокурая арийка Лени Рифеншталь и махровый еврей Давид Абелевич Кауфман, известный как Дзига Вертов.
Кино для нацистов – важнейшее из искусств, Геббельс лично курирует пятый, кинематографический отдел министерства просвещения. Лучшие режиссеры – Фриц Ланг, Роберт Вине, Георг Пабст – уже уехали, но осталось немало мастеров, и все готовы снимать Гитлера и для Гитлера.
Почему же он, невысоко ценивший женский ум, выбирает женщину? Кажется, по самым приземленным причинам. Рифеншталь была не только гениальна. Она была еще и очень хороша собой.
«Стемнело. Мы молча шли рядом. После затянувшейся паузы он остановился, долго взволнованно смотрел на меня, затем медленно обнял и притянул к себе. Я была ошеломлена, ибо вовсе не ожидала такого поворота событий. Заметив мою защитную реакцию, он тотчас разжал объятия, отвернулся, воздел вверх руки и воскликнул:
– Мне нельзя любить женщину до тех пор, пока не завершу дело своей жизни…»
«Женщины тоже ведут войну – тем, что рожают детей»
Третий рейх называют государством ненависти, но это страна любви. Истеричной, безграничной и всеобщей любви к отцу и любовнику нации.
«Своего мужа я, конечно, люблю, но мое чувство к Гитлеру сильнее, за него готова отдать жизнь. Я нахожусь во власти фюрера до такой степени, что развелась с Гюнтером Квандтом, с которым мы жили очень хорошо. Мне ничего не стоит отказаться от богатства и роскоши. У меня было только одно желание – быть ближе к Гитлеру…»
Это говорит не простая немка. Это – вспоминает Рифеншталь – говорит ей Магда Геббельс. Та самая, что отравила себя и шестерых детей, узнав о смерти Гитлера.
Но до поражения еще далеко, и Магда готовит Гитлеру суп – он любит суп погорячее, – пока по радио соловьем заливается ее законный муж: «Женщины тоже ведут войну – тем, что рожают детей».
«Женщины принесут на свет здоровых детей, сделают их достоянием нации и тем самым внесут свой вклад в дело ее сохранения».
Геббельсу вторит Гитлер: «Наш идеал мужчины – олицетворение мужественной силы; наш идеал женщины – чтобы она в состоянии была рожать нам новое поколение здоровых мужчин».
И она рожает. До начала войны идеальная немецкая женщина рожает семь миллионов идеальных маленьких немцев. Хороший результат. Чтобы его закрепить, в 1941 году Геббельс на всякий случай запрещает контрацепцию.
Германии это все равно не поможет.
«Я не верю, что он приказывал убивать»
В феврале 1960 года тихая жительница городишка Берхтесгаден, всю войну работавшая секретарем в госпитале, внезапно получает наследство.
Свидетельство за номером 2994/48 выдают «на основании завещания и в связи с отсутствием первичной наследницы – партии НСДАП».
Женщину зовут Паула Вольф. «Мое самое заветное желание, – говорит она, – получить наконец свидетельство о наследовании, которое даст мне возможность въехать в просторную солнечную квартиру, чтобы хоть остаток жизни провести при радостном свете солнца, на который я всю жизнь понапрасну надеялась».
Двадцать один год она скрывала настоящую фамилию: Гитлер.
О старшей сестре Гитлера известно крайне мало, Гитлер об этом позаботился. Он оберегал политику от женщин и женщин от политики. Впрочем, после его смерти сестру без труда находит американская разведка. Протоколы ее допроса до сих пор не переводили на русский. Чтение это поучительное. Манифест маленького человека.
«Мой дом в Вейтене ограбили русские. Мою квартиру в Вене заняли американцы. Я не член партии или иных организаций. Политика моего брата и его взгляды никогда не были для меня поводом вступить в НСДАП. Он и сам никогда не хотел этого. Но если бы захотел, я бы вступила, чтобы его порадовать. Нет, я не верю, что мой брат приказывал убивать людей в концлагерях. Не верю, что он даже знал об этих лагерях. Возможно, что его плохое отношение к евреям было вызвано его тяжелой молодостью в Вене…»
Второй раз ее допрашивают уже в штабе 101-й воздушно-десантной дивизии. Она то и дело плачет и рассказывает, что брат был очень мил, что каждый месяц высылал ей 500 марок, а на Рождество – еще 3000.
«Его взлет расстраивал меня. Я честно вам признаюсь, я бы предпочла, чтобы он следовал своим изначальным амбициям и остался архитектором. Это спасло бы мир от множества печалей… Смерть моего брата так волнует меня… Он по-прежнему мой брат, неважно, что случилось… (в этот момент мисс Гитлер начинает рыдать, допрос заканчивается)».
Паула Гитлер умирает 1 июня 1960 года, не успев получить наследства.
В войну, развязанную ее братом, погибло пять миллионов немецких солдат и три миллиона гражданских, в том числе миллион женщин, которые так его любили.
Без героев
Ботва и лебеда
От бомбежек земля становится сладкой.
Горят Бадаевские склады: мука и сахар. На пепелище люди с ведрами: собирают землю, несут домой, выпаривают сладость.
В Лениздате выходит книга про съедобную ботву. Каких только рецептов там нет! Суп-пюре из ботвы пастернака, репы, гороховой ботвы и сельдерея с мукой. Ботва турнепса и сельдерея, в масле тушенная. Оладьи из ботвы свекольника. Хотите сладостей? Извольте: 100 граммов щавеля, 20 граммов манки, таблетка сахарина – и щавелевый зефир готов.
В деликатном предисловии отмечают «большой читательский интерес» и «необходимость новых книг».
Осенняя норма хлеба – буханка в день. Люди собирают крапиву, лопух и лебеду.
Про лебеду есть в Книге Иова: «Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую, щиплют зелень подле кустов». В оригинале там арамейское слово «маллуха»: лебеда. «Хлеб с лебедой нельзя есть один, – пишет Толстой, изучавший крестьянский голод. – Если наесться натощак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют».
Весной (триста тысяч уже мертвы) на домах листовки. «Прочитай сам и расскажи другим! Каждый трудящийся Ленинграда должен считать своим гражданским долгом вырастить для себя и своей семьи овощи на личном огороде!»
На площади Декабристов сажают картошку. На Исаакиевской – капусту. В Летнем саду – морковь.
Четвертинка хлеба в день и триста граммов мяса в месяц – десятая часть того, что нужно, чтобы выжить.
Поэтому два миллиона ленинградцев едят траву.
Кронид и Милетта
Раньше литература шла на шаг впереди смерти. Как осторожный кавалер. Смерть была в парадном. В черном плаще. С руками благородной худобы. Умирали герои. Умирали красиво.
К концу девятнадцатого века случилась индустриальная революция и несколько геноцидов. Литература уже не поспевала за смертью.
К середине двадцатого века она безнадежно отстала.
Но есть блокадные дневники. Они лучше литературы. Вот, например, воспоминания одной ленинградки, матери детей с глупейшими именами: Кронид и Милетта.
«26 апреля 1942 года. Милетта умерла в час ночи, а в шесть утра радио известило: норму на хлеб прибавили. Целый день в очередях провела. Принесла хлеб и водку. Милетту одела в черный шелковый костюм… Лежит на столе в маленькой комнате, прихожу домой, а два сына – семи лет Кронид и пяти лет Костя валяются пьяные на полу – половина маленькой выпита…»
«9 мая 1942 года. 15 дней пролежала Милетта дома, глаза мхом заросли – пришлось личико закрыть шелковой тряпочкой».
«6 июня 1942 года. Выписали Кронида из больницы. Ни одного волоса на голове, но вшей белых, крупных 40 штук убили. Целый день сидели на вокзале. Познакомилась с женщинами, которые объяснили: это трупная вошь, к человеку здоровому не бежит… Сын тяжелый, несу на руках, голову не может держать. Когда добрались до дома, Валя на него посмотрела и заплакала: «Умрет…»
«26 июля 1942 года. Умер Феденька, Федор Константинович. Я его взяла из яслей уже безнадежного. Умирал, как взрослый. Вскрикнул как-то, глубоко вздохнул и выпрямился…»
Автор этого текста, Ангелина Крупнова-Шамова, получила библейское воздаяние. Как в Книге Иова, где про лебеду. Она родила еще восемь детей взамен умерших и прожила почти сто лет. Но до публикации дневника не дожила. Его нашли на помойке.
Тупоконечники и остроконечники
Когда баррикады разобраны – сражаются в комментариях. Когда современность проиграна – начинаются битвы трактовок. Всякая история – поле боя тупоконечников с остроконечниками. Русская – не исключение. Кого угодно, от вещего Олега до пьющего Бориса, назначают и тираном, и реформатором. Задним числом. Кого угодно – палачом и спасителем. Лишь к блокадникам нет вопросов. Вот эти люди все точно делали правильно.
Но что они делали?
В блокаде нет ничего для Голливуда или хотя бы для Бондарчука. В блокаде нет кинематографического героизма. Герой – это когда моментально, на амбразуру, под фотовспышки. А когда долго, медленно, мучительно – это как мы с вами, как обычные люди.
Умирая или выживая, герой преподносит добрым молодцам урок. Павлик Морозов учит ставить нас государственное выше личного. Александр Матросов учит самоотверженности. Форест Гамп – бегу с препятствиями.
А блокадники?
Культ Победы, как всякий культ, требует сильных эффектов. Вспоминают обычно блокадный театр. Блокадную елку. Блокадный футбольный матч: удар! штанга! защитник падает, сбитый с ног мячом: дистрофия.
Но 872 дня блокады состояли не из этого. А вот как было: каждое утро ленинградцы шли на службу и получали 125 граммов ржаного. Это кусочек размером с женскую ладонь. Вечером брали топор и рубили новую порцию мебели на растопку. Если сирена – лезли под землю. Если отбой – разгребали завалы и хоронили своих мертвецов. Обычная жизнь.
В пьесе Горина один человек каждое утро брился, шел на службу и скромно отмечал: что-то от подвига в этом есть. Вот и тут почти то же самое.
«Ночью было две тревоги, но я проспал. В школе не вызвали. Дементьева не пришла в школу, у нее разбило дом бомбой, не знаем, жива ли она. Там же жил Женя Андреев, тоже не знаю, жив ли. Ходили с Борисом смотреть. Весь дом разрушен. Нашли тетрадь Жени на улице. Взял на память».
Слабость и повседневность
Адорно спрашивает, как после Освенцима философствовать, как сочинять стихи, как вообще жить, раз «чувство не приемлет рассуждений, что в судьбе этих жертв еще можно отыскать какие-нибудь крохи так называемого смысла».
Это вопрос послевоенного поколения. Слишком много народу умерло. Это вопрос, на который и сейчас нет ответа.
Для нас таким Освенцимом стала блокада.
В дневнике школьника Миши Тихомирова (он вел его 159 дней подряд, без перерыва) на разные лады повторяется одно слово: слабость. Слабость в ногах. Жуткая слабость. Снова эта слабость. Слабость.
«12 декабря. Вообще все мы страшно похудели, в ногах и теле слабость. Тело все время зябнет, пустяковые царапины и ожоги не заживают очень продолжительное время».
Он-то был сильным. Он был самым главным в школьной пожарной бригаде. Однажды после бомбежки – красивый момент! – он рапортовал: пожар потушен! Волосы серебрились. Думали пыль, оказалась седина.
Да, Миша Тихомиров знал кое-что про героизм. Но вот что он писал в дневнике:
«Опять хочется удрать подальше из героического постылого и надоевшего Ленинграда».
Это 17 мая 1942 года. А 18 мая его убьет осколком снаряда в висок. Красивая смерть. Нетипичная.
«Сегодня зашла к одной подруге и узнала, что ночью умер ее муж. Когда спросила отчего, она ответила очень просто: умер с голоду. Лег вечером спать, она думала, что он заснул, а утром посмотрела – он мертвый».
«Умер муж Ирины Левицкой. Она даже не огорчена».
«Повсюду сплошная мерзость запустения. Почти каждый день сообщают, что умер тот или иной знакомый».
«Умерла наша соседка, старушка Каролина. Не помогли ей сбережения, которые откладывала она из княжеской пенсии».
«Многие умирают в очереди к врачам. Пол в амбулатории устлан мертвыми и умирающими. Их не успевают забирать».
«Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться чем бы то ни было, потом ложатся в постель и больше не встают».
Урок и возмездие
27 января 1944 года блокаду прорвали и сняли. Без ярких моментов. Без лишней кинематографии. Две недели муторных боев. Сто пятьдесят тысяч павших, и ни про кого уже не сочинят красивую историю.
Те, кто вел их на смерть, жили долго и счастливо.
Командующий 18-й армией Георг Линдеман умер в 1963 году. На свободе. Георг Карл Фридрих Вильгельм фон Кюхлер, командующий группой армий «Север» и непосредственный виновник блокады, умер в 1968-м. На горнолыжном курорте Гармиш-Партенкирхен.
Оба генерала провели в тюрьме совсем немного времени, они же не мучили никого лично, не делали из кожи абажуров, не варили из жира мыло, они просто получали приказы и отдавали приказы, и как-то так вышло, что семьсот тысяч людей умерли от голода.
И если есть тут урок, он прост: всякая война на радость лишь генералам. Они умрут в домике с видом на Баварские Альпы. А тем, кого они ведут на убой, и тем, кого они убивают, достанется суп из ботвы.
Но и добрая память.
Звезда Гагарин
Человек и машина
Гагарин в Долгопрудном. Редкое фото. Берега еще не застроены, лес и лес. Гагарина тоже не узнать. В руках сигарета, в глазах тоска, на щеках недельная щетина.
Два года он пил, ел, улыбался и толкал речи. Мировое турне вымотало больше, чем годы предполетной подготовки. Он набрал десять кило (это есть в документах) и смертельно устал (это видно и так).
Другое фото – Гагарин на Воробьевых горах, еще два года спустя. Тут он подтянут: готовится снова летать. Рядом спорткар космических очертаний: Matra-Bonnet Djet, машина ценой с дом, подарок правительства Франции. На фото не видно, но она небесно-голубая.
Позади, в яркой дымке засвета (фото любительское) тает Университет. Там и сейчас тусуются парни на крутых тачках. Подмигивают девчонкам и харкают на газон с такой важностью, будто слетали в космос и вернулись живыми.
Все стало по-другому. Россия, победившая в Каннах и запустившая человека в космос, связана с нынешней Россией не больше, чем Древний Египет с Египтом президента Сиси, а Древняя Греция – с Грецией «черных полковников».
И все же, глядя на Гагарина, можно испытать что-то вроде гордости. За человечество, но и за отечество тоже.
Страна, четырежды за век менявшая имя и дюжину раз – курс, побывала и пугалом, и посмешищем. Но в начале шестидесятых она стала символом надежды.
И вот как это вышло.
Эпоха беспредметной пустоты
Май 1957 года. Первый успешный пуск «семерки» – межконтинентальной баллистической ракеты Р7. Дальность полета – 10 тысяч километров, Атлантику перелетит спокойно.
Октябрь 1957 года. «Семерка» выводит на орбиту первый искусственный спутник Земли. Если вместо спутника присобачить ядерную боеголовку, такая ракета спокойно уничтожит любой американский город.
Декабрь 1957 года. Аналогичная ракета (SM-56 «Атлант») появляется у США. Теперь Эйзенхауэр и Хрущев могут взорвать друг друга, не вставая с дивана.
Август 1958 года. Джон Фитцджеральд Кеннеди, самый молодой и симпатичный кандидат в президенты, говорит о проблеме missile gap: нужно больше, еще больше ракет.
Февраль 1960 года. Французы проводят операцию со смешным кодовым названием «Голубой тушканчик» – взрывают ядерную бомбу над Алжиром.
С января по октябрь 1960 года в Африке появляется 18 новых стран, а Франция теряет и Алжир, и прочие колонии.
Май 1960 года. Русские сбивают самолет-невидимку U2, американцы признают существование программы воздушного шпионажа (подробности у Спилберга в фильме «Шпионский мост»).
Апрель 1961 года. Американцы неудачно вторгаются на Кубу, теряя полторы тысячи солдат убитыми и пленными (подробности у Де Ниро в фильме «Ложное искушение»).
Август 1961 года. Русские обносят Западный Берлин ста километрами бетона (подробности у Беккера в фильме «Гудбай, Ленин!»).
Декабрь 1961 года. Американцы перебрасывают во Вьетнам первую вертолетную роту (подробности в сотнях фильмов о вьетнамской войне).
«Когда нависает угроза всеобщей гибели, дискуссия о правоте любой из сторон теряет какой бы то ни было смысл. Единственное, о чем еще стоит говорить на пороге ультимативной катастрофы, – это проблема ее недопущения; поэтому всякая «правота» с традиционных позиций «добра» или «зла» превращается в беспредметную пустоту», – пишет Станислав Лем в те годы, когда совокупная мощь ядерных арсеналов сравнялась с миллионом бомб, сброшенных на Хиросиму.
Вот из какого ада вылетает Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года, и вот куда он возвращается спустя ровно 108 минут.
Дикая утка Георгий Великий
Во Внуково у него развязался шнурок, но на самой первой пленке этого не видно. «Человек вернулся из космоса» – грубая агитка. Идеального Гагарина снимают строго выше щиколотки и называют «питомцем партии». Герой забавно акает и тщательно произносит все должности Хрущева, тот сияет улыбкой и лысиной. Закадровый голос подсказывает правильные чувства: «Не так ли и вы вместе с Никитой Сергеевичем обнимали героя?»
Именно так. Но без подсказок. Восторг искренний.
«Честь и хвала ему! От русского народа, от немецкого, от какого угодно!» Надрывается безымянная старушка. Хочется верить, что не подставная.
И это не только Советский Союз. Весь мир фанатеет.
«Георгием Великим» величает Гагарина газета Daily Express. Конкуренты из Daily Mirror сравнивают его с Христом.
«Его зовут Юрий Алексеевич Гагарин. Он сын плотника. Сегодня – в то время как мир лежит у его ног – он шагает по Земле, как величайший, храбрейший первопроходец в истории. Юрий Гагарин как будто сошел со страниц научно-фантастического романа. Молодой. Статный. Даже его имя – оно произносится Га-га-рин с ударением на последнем слоге – означает Дикая утка».
Перепутали ударение, бывает. В остальном статья восторженней, чем о коронации Елизаветы.
«Невозможно бродить сегодня по серым улицам Лондона с теми же чувствами, что и вчера, когда мир оставался еще старой привычной планетой, – пишет Джеймс Олдридж. – Мир стал иным с того момента, как Юрий Гагарин вышел на орбиту и облетел вокруг земного шара».
В день полета чехи пишут песню «Добрый день, майор Гагарин» – и уже три дня спустя исполняют ее в прямом эфире.
Добрый день, майор Гагарин, Наконец-то мы дождались, Целый мир поднял за вас бокал красного вина, И люди снизу махали вам рукой.Сочиняли в спешке. Но это первая песня. Дальше будут сотни.
Той славной весной, за два года до «битлов» и за три до «роллингов», майор Юрий Гагарин становится первой мировой суперзвездой.
Американцы ликуют чуть меньше. Все же проиграли гонку: их Алан Шепард летит в космос лишь тремя неделями позже – и лишь на пять минут.
«США в военном отношении по-прежнему сильнейшая держава мира, – пишет колумнист The New York Times. – Во многих аспектах космической гонки мы по-прежнему лидируем. Но мир, впечатленный советским полетом, уверен, что мы проигрываем и в войне, и в технологиях».
Славные парни
Космонавты не бывают подонками. В отличие от политиков.
Никто не слышал, чтобы космонавт тронулся. В отличие от ученых.
Чрезмерная гибкость хребта им не свойственна. Не то что артистам.
Даже в наше время космонавты неплохо держатся. Да, некоторые вступили в «Единую Россию», ну так и Гагарин состоял в КПСС.
И не зря какой-то банк использует в рекламном спаме образ Алексея Леонова: этому старикану с фото как-то веришь, даже если не знать, что он первым вышел в открытый космос.
Потому что он классный. Все космонавты классные.
Когда Королев отбирал людей в первый полет, собственно летные качества его не волновали. Королев смотрел на здоровье и на характер. Рост до 170, вес до 70, возраст до 30, быстрая реакция, способность к стратосферной адаптации и отдельный пункт – психическая уравновешенность. На выходе – взвод спокойных, веселых, уверенных, симпатичных коротышек с железными нервами и мышцами.
Гагарина любили бы просто за то, что он первый. Но он оказался еще и славным парнем. Не мог не оказаться: это был итог селекции.
Холодная война – война имиджей тоже, Советский Союз нуждается в славных парнях и девчатах. Самойлова покоряет Канны, но этого мало, а гениальные шахматисты и физики не годятся в звезды.
Гагарин (пишут таблоиды) становится секретным оружием Советов.
Пусть радуются дети, он летит
Полтора часа на орбите, полмесяца отдыха, а дальше – первое турне: капстраны и соцстраны вперемежку. Чехословакия, Болгария, Финляндия, Великобритания, Исландия, Польша, Куба, Бразилия, Канада, Венгрия. Это только с мая по август.
Про Гагарина пишут, что он был прирожденный артист. Это неправда. В наше время он попал бы в раздел «приколы» вместе с косноязычными ментами и забавными колхозниками.
«В космосе небо имеет непривычный для нас цвет… черный… и он, скажем так, для нас непривычен… Но, может быть, мы привыкнем и к черному цвету… А пока оно приятней, когда голубое…»
И это шоумен? На вопрос финского телевидения, как дела в семье, Гагарин тоже мямлит. «Жена и дочери мои в Москве, живут хорошо… Здоровы, чувствуют себя прекрасно… Дочери растут, жена работает… Семья вполне такая хорошая, здоровая… все работаем…»
Он не поражает героизмом. Он поражает честностью. Нормальностью. Он свой, родной, как бы случайно попавший под луч софита.
Осенью он едет в Азию. Потом снова в Европу. Бесконечная кинохроника. Посадка «Ту-104». Это сейчас про него поют «самый лучший самолет» на мотив похоронного марша, а тогда он был одним из двух действующих реактивных самолетов в мире.
На образцовой «тушке» Гагарин летит в страны, которые ни за, ни против СССР. Он летит туда, где колеблются. И люди видят безобидного, милого, доброго человека. Неглупого, но и не умника. Гагарин ростом ниже среднего и потому встает с человечеством вровень.
Гагарин во Франции. Море людей. Не слышно, но видно: толпа ревет. Гагарину вручают очередной орден. Он беззаботно улыбается. Он всегда улыбается. Гагарин в Бразилии. Улыбается. Гагарин в Египте. За сорок лет до наплыва русских туристов он улыбается на фоне Сфинкса и пирамид. А ему на папирусном свитке подносят стихи.
Как друг людей, в ракете он летит. Пусть радуются дети! Он летит! Опять Россия изумляет землю. Да будет мир на свете! Он летит.Мухси аль-Хайят пишет целую поэму от лица Месяца, который по сюжету приходится Гагарину дядюшкой. Поэма ужасно, на мотив «Калевалы», переведена с подстрочника.
Новый я корабль увидел, высотой подобный башням. Стены – крепче чем железо, В вековечной тьме холодной, Словно молния в полете. Кто же кормчий в нем бесстрашный? Сын сестры моей любимой.Гагарин в Британии. Тут особенно много хроники. Гагарин последовательно улыбается из «Роллс-Ройса», «Бентли» и «Ягуара». Гагарин пробирается сквозь людей, как лыжник сквозь снег.
Ведущий BBC спрашивает, были ли бабочки в животе. Гагарин улыбается и говорит «нет».
Гагарин в Манчестере. В Метрополитен-Викерс, на самом большом заводе Европы, он, как обычно, путает слова и, как обычно, очень честен. «Хотя в космос полетел один человек, тысячи людей обеспечили его успех. Семь тысяч ученых, рабочих и инженеров, совсем таких, как вы, обеспечили успех моего полета».
И люди хлопают ему и его улыбке. Это мы запустили Гагарина. Это наш космонавт. Мы – единое человечество. Нет никакого вероятного противника. Не с кем воевать.
Хорошее воспоминание из той поездки: «На фоне серых костюмов и черных роб рабочих Гагарин в своей ярко-зеленой форме казался героем цветного фильма в мире черно-белого кино».
А потом в Долгопрудном делают фото. Берега еще не застроены, лес и лес. Гагарина тоже не узнать. В руках сигарета, в глазах тоска, на щеках недельная щетина.
«Космос? И че я там забыла?»
Он гибнет 27 марта 1968 года. Ему 34, это на год больше возраста Христа, но пресса уже избегает таких сравнений. С героем наигрались. Статьи выходят скорбные, но сдержанные.
«У него были умные, темные глаза и густые брови. Его лоб был широким, нос курносым, и все, кто его знал, отмечали, что у него внешность и манеры типичного русского».
Странный некролог: будто не видно, какой был нос, вот же он, на фото. Но автор прав, он выделяет главное: это для космоса Гагарин был первый человек, а для Земли он был первый нормальный русский.
Скоро май 1968-го, и планета снова перевернется. В разные страны тот май приходит по-разному. Во Францию – с красными знаменами студенческой революции. В США – с цветными разводами революции психоделической. В Чехию – с русскими танками. В мае 1968 года трубач Яромир Гниличка, автор самой первой песни про майора Гагарина, публично отказывается от авторства. Советской оттепели конец.
Зато начинается американская. Отменяют позорный кодекс Хейза – цензуру в кино. Наступает лучшее десятилетие в истории Голливуда. По радио рок. По телевизору борьба за мир. Давление общества беспрецедентно, и Америка постепенно выводит войска из Вьетнама. Мир становится чуть более приятным местом.
Потрясенный полетом Гагарина, еще в мае 1961 года Кеннеди начинает лунную программу. Восемь лет спустя Нил Армстронг покоряет Луну. Его носят на руках, но уже не как Гагарина. Мир попривык к таким героям.
Советская космическая программа заканчивается единственным полетом «Бурана» и его позорной гибелью: в 2002 году сотрудники Байконура распиливают остатки первого советского шаттла на металлолом. Его выпотрошенная копия стоит на ВДНХ.
Я часто там бываю. Недавно снова был. Девочка спорила с мамой про космос и вообще не врубалась, почему это важно.
– Космос? И че я там забыла?
Герои все еще спасают мир, но только в кино и только понарошку.
История одной резни
«Мне бы так хотелось просто поиграть с ним»
В интернете она была как все. Фотографировала еду и людей. Много улыбалась. Делала губы уточкой. После свадьбы все уничтожила: сначала эти фото, а после – все свои странички в соцсетях. Это случается с девушками после свадьбы.
Она родилась в 1986 году в джунглях, в последней цитадели красных кхмеров. Там, где лучше не сходить с тропинки: всюду мины. Ее зовут Сар Пачата. Ее мать – Меа Сон, подносившая партизанам патроны. Ее отец – Салот Сар, школьный учитель. Его прозвище – Пол Пот.
Отцом он стал в 60. Его первая жена сошла с ума, его друзья были перебиты или он сам их перебил. Он проиграл все свои войны, скрывался на тайской границе и готовил новую армию. Вспоминают: с рождением дочки он совсем перестал походить на диктатора. Всюду нянчился с ней. Таскал на руках. Потом он умер.
Журналист Нейт Тайер, последний, кто видел его живым, спросил Пол Пота:
– Когда ваша дочь вырастет и узнает, кто вы, будет ли она гордиться?
– История рассудит.
Когда она выросла, она сказала:
– Помню, я сидела у него на коленях… Мне бы так хотелось просто поиграть с ним, обнять его и поцеловать. Я часто хожу в пагоду, жертвую монахам и молюсь о папе. Я бы хотела встретить его в следующей жизни, если следующая жизнь существует.
Каждая новость про дочек Путина поднимает бурю. Даже если новость плевая. Даже если дочки фальшивые.
Новость, что самая настоящая дочь Пол Пота выходит замуж за богатого малайца, прочитали неохотно. Возможно, потому что четверть страны до сих пор не умеет читать. Это следствие политики Пол Пота. Ее другое следствие – средняя продолжительность жизни. Камбоджа на 180-м месте (Россия – на 153-м).
До чужих ли свадеб?
В Cambodia Daily и в Phnompenh Post обсудили стол. Французский ликер и немецкое пиво – странно для дочери человека, так ненавидевшего Запад.
«Я такой нищеты никогда не видел»
У меня в руках два фото. На одном Сар Пачата. На другом – девушка, про которую ничего не известно.
Йельский университет собрал 14 тысяч биографий и 5 тысяч фото. Очень удобный сервис. Идешь по ссылке, вводишь параметры: ребенок, девочка, голая. Смотришь.
Это узники секретной тюрьмы S-21 – бывшей школы Туольсленг на юге Пномпеня. Все они мертвы.
В столице Камбоджи ничего не изменилось не то что с кхмерских – с королевских времен. «Я такой нищеты никогда не видел. Голые дети и инвалиды. Смертельно больные лежат на полу. Целые семьи живут в помещении с кровать размером. Никакого электричества». Это вспоминает режиссер Стивен Оказаки. Свою четвертую номинацию на «Оскар» он получил за документальный фильм «Совесть Нхем Ена». Заглавный герой, тюремный фотограф, о прошлом не жалел, и режиссер рассердился. «Я сказал, что его фотографии холодные, жестокие и безжалостные. Сказал, что он и сам, наверное, такой. Тогда он остановил интервью и сказал, что продолжит лишь за 10 тысяч долларов. Я сказал, что могу предложить пятьсот. Он повеселел, хлопнул меня по спине и назвал другом».
17 тысяч человек прошли перед фотокамерой Нхем Ена. Выжили восьмеро. Четверо появляются в фильме. Ван Нат и Бу Менг выжили, потому что художники. Сначала им приложили к соскам электроды, потом заставили рисовать портреты Пол Пота. Нарисуете плохо, сказали, убьем. Они нарисовали хорошо.
Чум Мею вырвали ногти и предложили выбрать, какой он шпион: советский или американский. Он признался, что работает на ЦРУ, сдал полсотни выдуманных сообщников. Он был хороший механик, и убивали его уже под конец, когда в страну вошли вьетнамцы и надо было заметать следы. «Сначала они убили жену: женщины шли спереди. Она успела крикнуть: беги, нас расстреливают! Я услышал, как плачет мой сын. Потом убили и его. Каждый день я думаю о них и каждую ночь вижу их лица».
«Сначала они убили жену» – это типичная история. Одна из книг про резню так и называется: «Сначала они убили моего отца». Ее экранизирует Анджелина Джоли. Наверно, опять все испортит.
Сейчас в тюрьме S-21 музей геноцида. Прожарившись на пляжах Сиануквиля, туристы приезжают сюда пощекотать нервы. Они в восторге. Сайт у музея тоже хороший. Там много фото, как в йельских архивах, только листать удобней. Женщина. Мужчина. Голый старик. Одетый старик. Ребенок, ребенок, ребенок, ребенок.
«Я хочу, чтобы они разбомбили все»
Если нужно поругать Америку, лучший кандидат в плохие парни – не добряк Обама, а Ричард Никсон. Но пропагандисты нелюбопытны: тайный разговор Никсона с Киссинджером 12 лет как рассекречен, а на русский так и не переведен.
Действующие лица: Генри Альфред Киссинджер, советник по национальной безопасности, и Ричард Милхаус Никсон, президент США.
Никсон: Да эта чертова авиация там ловит ворон. Они вообще ничего не делают, я знаю, видел всю эту хрень. Они уничтожат один-два грузовика в день, сделают 800 вылетов и получат 1500 медалей за храбрость. Да вы это и без меня знаете. Это ужасно.
Киссинджер: Ну да.
Никсон: Это позор для военных. Надеюсь, они поднимут свои жопы и начнут что-то делать. (…)
Киссинджер: Тогда мы приступим к бомбежкам завтра.
Никсон: Я хочу, чтобы они разбомбили все. Пусть используют какие угодно самолеты: большие, маленькие, любые самолеты, способные помочь нашим войскам припугнуть их…
И военные подняли жопы. С 1969 по 1973 год на Вьетнам, Камбоджу и Лаос сбросили пять миллионов бомб. Больше, чем за всю историю человечества. На одну лишь Камбоджу – 2 756 941 тонну. Это как полтораста Хиросим.
Мир знал о вторжении во Вьетнам, но о Камбодже не знал: Донбасс – не первая гибридная война в истории. А когда правда открылась, Киссинджер сказал: «Мы бомбили не Камбоджу. Мы бомбили вьетнамских коммунистов».
В книге «Суд над Генри Киссинджером» журналист Кристофер Хитченс вменяет ему в вину миллион смертей. Он причастен:
– к Вьетнамской войне;
– к тайным бомбежкам Камбоджи;
– к перевороту Пиночета и резне в Чили;
– к операции «Прожектор» и подавлению бенгальского восстания;
– к вторжению Индонезии в Восточный Тимор.
Киссинджер еще жив, ему 93, и у него множество премий, включая Нобелевскую – за мир. Суда не будет. Это же не Киссинджер, а Никсон отдавал приказы. А с мертвеца спроса нет.
Красные кхмеры были маргиналами со школьным учителем во главе. Но когда под бомбами погибло 150 тысяч камбоджийцев, красные кхмеры собрали армию и взяли власть. Средний возраст бойца – 14 лет. Пол – мужской. Семейный статус – сирота. Родители – убиты американцами.
«Коммунистическая революция произойдет одновременно во всех цивилизованных странах»
Пол Пот – это от французского politique potentielle, «политика возможного». Он знал языки, учился в Сорбонне, нахватался, в общем. Но Энгельса прочитал невнимательно.
«Может ли революция произойти в одной какой-нибудь стране? Нет. Крупная промышленность уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой все народы земного шара, в особенности цивилизованные народы, что каждый из них зависит от того, что происходит у другого… Коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно во всех цивилизованных странах».
Это «Принципы коммунизма», 1847 год. С тех пор куча людей, называвших себя коммунистами, строила коммунизм против «Принципов коммунизма». У Сталина был «социализм в отдельно взятой стране». У корейцев – чучхе, самобытность. У красных кмеров – «аекареач-мочас-кар», что значит «независимость-господство».
В 1975 году они взяли Пномпень. Столицу страны, похожей на планету Шелезяка. Полезных ископаемых нет, воды нет, промышленности нет. А главное, нет еды.
Даже в наше время людей легко поднять на что угодно и на кого угодно: хоть на хохлов, хоть на кацапов. До фейсбука и телевизора людей организовывали еще проще, палками. На север, в малярийные леса, согнали миллион человек. Они расчищали поля, строили каналы и дамбы. Они сажали рис, основу будущей независимости-господства.
Главный лозунг: «Три тонны риса с гектара». Это много даже для современной России. Особенно если без тракторов, на чистом энтузиазме. «Сможем мы выполнить План или нет? – спрашивал Пол Пот. – Да, мы сможем выполнить его по всем статьям, и доказательством этому служит наше политическое движение».
«Четырехлетний план Партии по постройке социализма во всех сферах» – хороший, правильный документ. Там и бесплатное образование, и бесплатная медицина. Таблица № 60 посвящена сладостям: в 1977-м каждый кхмер получит один десерт раз в три дня, в 1978-м – раз в два дня, в 1979-м – ежедневно.
Отдельно перечислены: москитные сетки, подушки, чашки, ложки… До Пол Пота в стране действительно этого не было. Но и при нем не появилось. Зато уже за первый год десятки тысяч умерли от истощения и тысячи – от пуль и мотыг: за критику Плана. В смертях всегда были виноваты враги. На роль «пятой колонны» назначили вьетнамцев: восточных соседей и этническое меньшинство. Их убивали тоже.
В Камбодже не штрафовали и не давали условные сроки. За любую провинность – предупреждение. Три предупреждения – «перевоспитание». Так называли смерть. 20 мая 1976 года перевоспитание поставили на поток. Спустя двадцать лет ученые раскопали двадцать тысяч братских могил, но так и не смогли подсчитать погибших. Что-то около полутора миллионов, кажется. Каждый пятый.
Родители и сестры Ритхи Паня погибли в трудовом лагере. Когда все закончилось, он бежал во Францию, плотничал там немного и однажды случайно взял в руки кинокамеру. Его «Машина для убийства» прогремела по всем фестивалям. Там есть хороший эпизод: пожилые родители стыдят бывшего красного кхмера:
– Ну да, я убивал. Но я убивал не потому, что хотел, а потому, что боялся. Мне же приказывали. Я не совершал зла.
– А ты бы все-таки провел обряд, попросил бы прощения у мертвых…
Но видно, что мать все равно любит сына.
«Брат номер один»
В руках у меня еще фото. Справа – Дэн Сяопин. Он приказал раздать 100 тысяч флажков и радостно ими махать. Слева – Пол Пот. Это его так радостно встречают.
В сентябре 1977 года благодаря этому фото западные разведки установили его личность: Салот Сар, 52 года, женат, бездетен.
Четыре года, что он был у власти, никто не знал не то что имени, даже прозвища. Его звали «Братом номер один». Были братья поменьше: второй и так далее. Все они были исключительно скромны.
«Даже когда он находился у власти, биография «Брата номер один» ни разу не транслировалась по радиостанции «Пномпень» и не публиковалась в «Тунг Падеват», – пишет Дэвид Чендлер, главный в мире спец по Пол Поту. – Его фотографии не появлялись в партийной литературе. Анекдоты о детстве Пол Пота не попали в камбоджийский фольклор. В Камбодже не устраивались посвященные Пол Поту представления, не звучали песни о нем и не издавались его «мысли». Его нападки на «индивидуализм», возможно, были вполне искренними…»
Однако в конце 1977 года его уже называют «дядюшка-секретарь». В 1978-м его портреты вешают в столовых. В 1979 году…
Культ личности просто не успел развиться, потому что в 1979 году вьетнамские коммунисты разбили голодных красных кхмеров за две недели. Пол Пота прикончило то же, что Никсона и других, более современных лидеров. Сбежав от внутренних проблем, он развязал войну. Он проиграл и скрылся в джунглях, где с юности знал все тропинки. Там он женился и зачал дочь – и мы возвращаемся к самому началу.
«Ну разве я похож на дикаря?»
«Я пришел, чтобы бороться, а не убивать. Ну посмотрите на меня, разве я похож на дикаря? Моя совесть чиста».
Это последнее интервью Пол Пота. Он болен, вероятно, смертельно. Он скрючен и не может пройти десяти шагов. Но его улыбка все такая же лучезарная. Всем очень нравилась его улыбка. («Мы чувствовали, что достигаем просветления благодаря его учению… Он нам как отец… Любой бы обрадовался, случись возможность отдать несколько лет своей жизни для того, чтобы он прожил подольше».)
Он по-старчески жаловался на жизнь. «Мне скучновато, но я уже привык. Знаете, я не могу даже поиграть с дочерью, потому что утром долго не могу встать с постели. Жена работает в саду, дочь на кухне. Но обедаем мы вместе!»
Он по-старчески гневался, слыша обвинения в резне. «Понимаете, я был на самом верху. Я принимал только самые важные решения. Но я уверяю вас, тюрьма S-21 – это была вьетнамская показуха! Я о ней впервые на «Голосе Америки» услышал! Вы посмотрите на эти фото, эти скелеты, эти черепа! Они меньше, чем черепа кхмеров!»
Он красиво попрощался: «Я хочу, чтобы вы знали: все, что я сделал, я делал для моей страны».
Спустя полгода Брат номер четыре – Та Мок по прозвищу Мясник – объявил о его смерти. «Пол Пот сгнил, как перезрелая папайя. Никто его не убивал, никто его не отравлял. Теперь его нет, у него нет власти, нет прав, он значит не больше, чем коровья лепешка. Коровья лепешка даже важнее, чем он. Мы хотя бы можем использовать ее как удобрение».
Мертвого диктатора показали на следующий день. Его жена была очень спокойна. «Он был хороший человек, хороший отец и настоящий патриот, – сказала она журналистам. – Так и передайте всему миру».
Убей соседа
О пользе мачете
На шестидесятой минуте фильма «Коммандо» герой Шварценеггера отрубает другому герою руку. В кадре нож: длинный, тонкий и широкий. Настоящий меч, заточенный с одной стороны.
Это мачете. Вовсе даже не оружие, а садовый инвентарь, как наша лопата. Его часто используют в жарких странах. Можно землю копать, можно траву косить, можно прорубать дорогу в джунглях.
В Руанде, впрочем, джунглей нет. Там саванна. Как наша степь. Страна крохотная, размером с Крым. Только народу больше. В апреле 1994 года в Руанде жило 7 миллионов человек.
К июлю их осталось 6 миллионов.
Бывшая немецкая колония, Руанда обскакала и Германию, и весь цивилизованный мир: без газовых печей и прочих достижений техники там убивали быстрей, чем в концлагерях.
Делали это палками. Камнями. Голыми руками. Но чаще при помощи старого доброго мачете.
Миллион человек просто изрубили на куски.
Толстые и тонкие
Когда первые немцы пришли в Московское царство, они нашли там будто два народа. Одни люди много работали, умирали рано, а сами были мелкие и скособоченные: крестьяне. Другие почти не работали, страдали от ожирения и жрали в три горла, чтобы подчеркнуть статус: бояре.
Когда первые немцы пришли в Руанду, они нашли то же самое. Люди Руанды говорили на одном языке и поклонялись одним богам, но скотоводы были высокие и стройные, а пахари – коренастые и так себе.
Колонизаторы привычно выстроили унтерменшей по ранжиру: высокие стали управлять низкими. До колонизации в Руанде тоже было неравенство, но была и социальная мобильность. «Боярыня» могла отдаться «дворовому». В языке киньяруанда был даже глагол «прийти к успеху», дословно – «перестать быть хуту».
Отвоевав Руанду, бельгийцы положили этим вольностям конец. В 1933 году ввели обязательную паспортизацию: выбирай, кто ты – тутси, хуту или пигмей из племени тва. Кем родился, тем и помрешь.
Что в очередной раз доказывает: нет никаких национальностей, пока это кому-то не понадобилось.
Не то чтобы тутси как-то особенно мучили хуту. Не больше, чем любой правящий класс мучает тех, кто пониже. И внешне они не очень отличались. Не больше, чем в наши дни отличаются дородный москвич от мелкого мужичонки из умирающей деревни.
Десять заповедей хуту
На старых картах Африки много розового (французские колонии) и зеленого (британские). А в центре – немного желтого: колонии Бельгии. Шестьдесят лет назад вы бы Африку не узнали, не узнали бы даже названий провинций: Дагомея и Абиссиния, Верхняя Вольта и Занзибар, Золотой берег и Родезия. Семь европейских стран поделили целый континент.
В пятидесятые начались проблемы. Бунтовало бельгийское Конго, Патрис Лумумба произнес знаменитое «Мы больше не ваши обезьяны!», Хрущев подарил ему за это самолет и назвал в честь него несколько улиц – посмертно. Чтобы не рвануло и в Руанде, бельгийцы урезали привилегии тутси и разрешили муниципальные выборы. Хуту было больше, они победили, а вскоре подняли восстание.
Все эти годы меньшинство угнетало большинство, теперь они поменялись местами.
Раб ненавидит не господина, а надсмотрщика. Бельгийцев не тронули. Но тысячи тутси были убиты и тысячи бежали в соседние страны.
К концу 80-х в бегах было полмиллиона человек. В соседней Уганде возникла то ли армия, то ли партия: Руандийский патриотический фронт. В октябре 1990 года бойцы РПФ вторглись в Руанду. Их было лишь несколько сотен, но власти забеспокоились. И газета «Канугару» (дословно – «Вставайте», что-то типа нынешних «Известий») напечатала «10 заповедей хуту».
Это замечательный текст.
Заповедь первая: «Женщина-тутси, кем бы она ни являлась, служит интересам своей этнической группы. Предателем является любой хуту, кто делает следующее: женится на тутси, заводит любовницу-тутси, нанимает женщину-тутси в секретари или на другую работу».
Заповедь четвертая: «Все тутси нечестны в бизнесе. Их единственная цель – национальное превосходство. Предателем является любой хуту, дающий или берущий в долг у тутси».
Но самая важная заповедь – восьмая: «Хуту должны перестать жалеть тутси».
Очень скоро они перестали.
«Те, кто работают вместе»
Чтобы начать резню, достаточно одного сбитого самолета. Особенно если это бизнес-джет модели «Фалькон». Двадцать лет спустя точно такой же сгорел во Внукове.
6 апреля 1994 года президент Руанды Жювеналь Хабьяримана и президент Бурунди Сиприен Нтариамира летели с переговоров. На посадке их подстрелили. Кто – неизвестно. Но обвинили тутси.
В тот же день друзья и родственники президента взяли власть. Для начала временное правительство устранило потенциального преемника, мадам Агату. Она была премьер-министром и популярным политиком-хуту. Для ее защиты ООН послало дюжину солдат, но их кастрировали, а саму Агату Увилингийиману застрелили и совокупились с трупом.
Так начались сто дней руандийской резни. В первых рядах были бойцы Интерахамве («те, кто работают вместе»). Это была молодая гвардия правящей партии, руководил ею Джерри Роберт Каюга. Тайный тутси, живущий по поддельным документам, Каюга больше хотел быть хуту, чем сами хуту. И приказывал убивать.
18 апреля на стадионе в городе Кибу Интерахамве расстреляли 15 тысяч человек. 19 апреля в городе Бутаре вырыли траншеи, в траншеи положили горящие шины, а сверху положили 20 тысяч живых людей. 22 апреля в женском монастыре Сову вырезали 7000 человек, часть сожгли заживо, причем монахини-хуту лично участвовали в бойне.
Есть ли вещи похуже резни? Кажется, есть. В начале апреля бойцы Интерахамве выпустили из госпиталей больных СПИДом – тех, кто еще мог двигаться, – и приказали: насилуйте женщин-тутси.
Конечно, без помощи обычных граждан бойцы Интерахамве не справились бы. Их было-то от силы тысяч тридцать. А работа была проделана огромная.
Прежде чем Руандийский патриотический фронт взял столицу, погибли 77 % всех руандийских тутси. А также 50 тысяч хуту, которые пытались за них заступиться.
90 % выживших вдов были изнасилованы или искалечены. Каждая третья – заражена СПИДом.
Сколько погибло потом, от болезней и ран, не знает никто. Это Африка, там со статистикой плохо.
Снова мачете
Предприниматель Фелисьен Кабуга никого пальцем не тронул, для этого он был слишком брезглив и вообще человек уважаемый. Две его дочери были замужем за сыновьями президента.
В 1993 году Кабуга закупил полмиллиона мачете и отправил на склад: так чтобы в случае необходимости каждый третий взрослый хуту получил по мечу. В том же году он основал «Радио тысячи холмов». Частное, но очень патриотическое.
С этим радио часто (и не вполне обоснованно) сравнивают наши консервативные СМИ. Особенно часто – после Болотной, Донбасса и Крыма, когда оказалось, что по некоторым вопросам общество расколото на 86 % и 14 %.
До геноцида в Руанде было 86 % хуту и 14 % тутси. «Совпадение? Не думаю», – как говорит один российский пропагандист, который руандийским и в подметки не годится.
«Тысяча холмов» говорило двумя голосами. Женский – Валери Бемерики, изящная негритянка в очках. Ее партнер по эфиру – Жорж Руджу. Белый человек, сын бельгийца и итальянки, он работал учителем в школе для умственно отсталых детей. Руандийский студент, живущий по соседству, рассказал ему о священной борьбе тутси и хуту. И Руджу уехал в Руанду за романтикой, как много лет спустя московские ролевики уехали в Славянск и Краматорск.
Махать мачете Руджу не умел и не хотел. Он устроился на радио. Языка кирьяруанду не знал и призывал к резне на отличном французском.
«Знайте, тараканы, вы тоже из плоти и крови. Мы не дадим вам убивать нас. Мы сами вас убьем», – говорил он, и семь миллионов человек слушали, затаив дыхание.
«Слушайте, тараканы: Руанда принадлежит нам».
«У вас, тараканы, нет выхода».
«Будем работать! Работать еще и еще!»
«Как здорово, что тутси так немного. Сегодня их уже не десять процентов. Сегодня их осталось восемь. Возрадуемся, друзья! Никаких тараканов! Даже если мы уничтожим всех тараканов, никто нас не осудит!»
«Тараканы» – красивое слово для тутси. «Работать» – эвфемизм для слова «убивать».
На суде Руджу плакал и говорил, что раскаивается. Как человек совестливый, он получил всего 12 лет, отсидел девять и сейчас живет где-то в Италии.
В эфире гоняли песни Симона Бикинди. В начале 90-х он был очень популярным музыкантом и, разумеется, состоял в правящей партии.
Его прославила песня «Ненавижу хуту» – о тех, разумеется, хуту, которые не хотят убивать тутси.
«Ненавижу хуту, высокомерных хуту, которые предали других хуту – да, дорогие друзья! Ненавижу хуту, этих бывших хуту, потерявших свою идентичность, – да, дорогие друзья! Ненавижу их, ненавижу, и мне не стыдно. Как здорово, что их так мало!»
Песни Симона Бикинди можно послушать на YouTube. И почитать комментарии заодно: «Да здравствует Интерахамве! Да здравствует работа! Долой тараканов!»
Песни старые, а комментариям месяца два.
Их и так слишком много
А что же цивилизованный мир?
«В нескольких ярдах от французов молодой человек с мачете гонится за женщиной. Он срывает с нее одежду, а она в отчаянии и ужасе смотрит на солдат, надеясь, что они спасут ее от смерти. Никто не двигается с места. «Это не наши полномочия», – говорит один, прислонившись к джипу, и дождь струится по голубой эмблеме ООН. Три тысячи иностранных солдат в Руанде – не более чем зрители».
Годом раньше спецназ США потерял в Могадишо 20 человек убитыми и 80 ранеными. Боевики таскали по городу растерзанное тело бойца подразделения «Дельта», кадры облетели весь мир, и США решили не вмешиваться.
Зато вмешалась Франция. Операция «Амариллис» была проведена блестяще: французы без потерь эвакуировали полторы тысячи своих соотечественников, а заодно несколько десятков друзей покойного президента, тех, что поссорились с другими его друзьями. Параллельно Франция снабжала правительство Руанды оружием и топливом. То же самое делали Великобритания и Китай. Полный противоречий Израиль на всякий случай продавал оружие и правительству, и повстанцам.
Ни один белый человек, кроме несчастного дурака Руджу, не был осужден. Ни один даже не повинился. Кроме канадского генерала Ромео Деллейра. Именно он командовал войсками ООН. Десять лет спустя он вернулся в Бутаре – город, где жгли людей, – и прочел прекрасную речь:
«Завтра может случиться еще один геноцид. Потому что сверхдержавы не были заинтересованы в вас. Тогда их волновала только Югославия. Тысячи солдат были посланы туда. А под моим командованием было только 450 человек. Югославия – это безопасность Европы. Это белые. Руанда – это сердце Африки. Это черные. У Руанды нет никакого стратегического значения. Все, что у нее есть, – говорили мне, – это люди, и их все равно слишком много. И сегодня я, командующий силами ООН Ромео Деллейр, говорю вам: я подвел народ Руанды».
Россия на резню и вовсе не отреагировала. Не до того было. До начала Первой чеченской оставалось полгода, и мятежный Дудаев уже громил верного Автурханова. Где-нибудь всегда идет война.
Я никого не убивал
В России часто говорят о коллективной ответственности. О миллионах доносов. О том, что толпа зевак разделяет вину палача.
Неизвестно, так ли бывало в России, но в Руанде точно было так. Один труп раз в пять минут – тут никакой палач не справится. Это делали не штурмовики. Это просто сосед убивал соседа. Но осудить всю страну невозможно, и потому почти никто не был осужден. Международный трибунал – его закрыли совсем недавно, на исходе 2015 года – вынес всего 76 приговоров.
Плохим парнем назначили Теодоре Синдикубвабо, главу временного правительства. Вид у него был подходящий, злодейский: глаза в бельмах, лицо перекошено – разбился в юности на мотоцикле. Сам он никого не убивал, и посадили его исключительно за красноречие:
«Шутки, смех, ребячество и капризы должны уступить место работе. Кто скажет «меня это не касается, я боюсь», пусть убирается подальше. Найдутся и другие хорошие работники, желающие работать для своей страны».
И для тех, кто не понял намек: «Мы должны сражаться и выиграть эту войну, ибо она – последняя. Находите этих людей, которые отправились обучаться нас убивать, и освободите нас от них».
Именно после этой речи в Бутаре вырыли траншеи. За призывы к геноциду Синдикубвабо получил пожизненное. Так закончил глава правительства, которое начало политическую деятельность с изнасилования трупа.
Пожизненное получила и Полина Нирамасухуко, борец за традиционные ценности и министр по делам семьи. Она лично руководила резней и с основательностью опытного чиновника устраивала массовые изнасилования. «В деревне такой-то осталось столько-то вдов», – рапортовали ей бойцы Интерахамве. И министр ставила резолюцию: изнасиловать.
В 2008-м, после 11 лет разбирательства, свой срок получил полковник Теонесто Багосора, главный организатор геноцида и тайный руководитель временного правительства. С виду ничего особенного: благообразный старик военный с хорошим французским образованием. «Я торжественно заявляю, что я никого не убил и не приказывал убивать», – сказал Багосора на суде. Видимо, так и было: как и прочие палачи, он предпочитал «работать».
Девять главных обвиняемых так и не были найдены. Импортера мачете Фелисьена Кабугу видели то в Осло, то в Найроби. Кажется, он скрывается где-то в джунглях Заира, где вот уже 20 лет не утихает война.
А в Руанду вернулись гачача – народные судилища. Это что-то вроде сталинских «троек». Без адвокатов (их всех вырезали) и без презумпции невиновности.
В отличие от «троек», здесь судей можно было подкупить. И каждый третий сам был участником геноцида. Но это узнали уже потом, когда народные суды рассмотрели миллион дел и вынесли 100 тысяч приговоров.
93 процента
Климат в Руанде мягкий, бананов много, а презервативов мало, и за полвека население страны выросло вчетверо вопреки эпидемиям и геноциду.
Два миллиона беженцев-хуту покинули Руанду за полгода. Из-за этого в соседних Бурунди и Уганде началась гуманитарная катастрофа, а в Заире – Конголезская война. От голода и эпидемий погибло пять миллионов человек.
Но все это уже не попало на первые полосы. Мир забыл о Центральной Африке. Не навсегда: половина запасов урана по-прежнему лежит в этой земле, а значит, будут новые войны.
В 2000 году к власти пришел Поль Кагаме, основатель Руандийского патриотического фронта. За два пятилетних срока он удвоил ВВП и уничтожил коррупцию, народу он в целом нравился, поэтому в 2010 году избрался на третий, уже семилетний срок. Это же Африка, правил меньше 15 лет – не мужик.
Выборы Кагаме обещал свободные и конкурентные. Но конкурировал он со своими друзьями и дальними родственниками и получил 93 % голосов.
Власть снова у тутси.
Никто не называет Кагаме диктатором – все-таки он спас остатки тутси от гибели. Не называют его и лжецом. На любые обвинения в мухлеже он может резонно ответить: не хотите же вы, чтобы геноцид повторился?
Никто не хочет. Трупов было так много, что их сплавляли по реке Кагера, с которой начинается Нил, – это проще, чем устроить похороны. Река эта впадает в озеро Виктория, названное в честь великой королевы-колонизатора. Летом 1994 года озеро было покрыто телами тутси.
Сейчас его воды снова чисты.
Быть Брейвиком
Верхом на восьминогом жеребце
В левой руке его – Гунгнир, копье-бумеранг, что пронзает самый крепкий щит. В правой руке – поводья, расшитые золотом и серебром. Правит он Слейпниром – восьминогим конем, что скачет быстрее времени. А на поясе – Мьельнир, мечущий молнии, тяжелей которого нет в мире…
Эти звонкие имена Андерс Беринг Брейвик выдолбил рунами на своих тачке и пушке. «Давать имена оружию – прекрасная европейская традиция», – сказал он на суде.
Мьельнир – это пистолет «Глок-34». Гунгнир – автомат «Руглер Мини-14». Слейпнир – «Фиат Добло», любимая машина фермеров. Последние полгода Брейвик фермером и был: арендовал усадьбу, чтобы делать взрывчатку под видом удобрений. Сельская жизнь пошла ему на пользу: он рано вставал, много качался, правильно питался и на суде выглядел просто отлично.
Рост – 183. Вес – 93. Глаза – серые, чуть покрасневшие от смеси эфедрина, кофеина и аспирина: ел стимуляторы и анаболики, чтобы больше походить на бога. Происхождение – средний класс. Отец – дипломат. Отчим – военный. Внушительное состояние в норвежских кронах: тридцать миллионов на наши деньги.
Мечтает о встрече с Путиным и папой римским. Любит Черчилля и Адама Смита. Ненавидит Маркса и Деррида. «В заявлении на покупку карабина я написал «охота на оленей», хотя было бы заманчиво просто написать правду: «казнь культурных марксистов и мультикультуралистских предателей категории А и Б», просто чтобы посмотреть реакцию».
Так записал в дневнике Андерс Беринг Брейвик, рыцарь-юстициарий, кавалер ордена тамплиеров и до недавнего времени – самый массовый убийца в истории Европы.
Его рот улыбался
Брейвик был умный, рослый, красивый и оставил пространный дневник, а убитые – ничего.
Но остались свидетельства раненых. До сих пор они не были переведены на русский.
Вот они.
Гленн Мартин Вальденсторм, 18 лет, одноглазый парень с длинным шрамом на шее. «Его лицо было искажено. На нем была смесь гнева и удовольствия. Его лоб выглядел так, будто он сердится. Но рот улыбался…»
Андрина Йохансен, 17 лет, девушка с кусочком пули у позвоночника. «Я прыгнула в воду и видела, как он убивал остальных. Потом он выстрелил мне в грудь. Я увидела кровь, вытекающую из моего тела. Я тонула в своей крови. Вокруг были мертвые люди лицами вниз. Я попыталась написать кровью «белый» на моем джемпере, просто чтобы сказать людям, что я хочу белый гроб».
Ильва Хелена Швенке, 14 лет. Брейвик выстрелил ей в живот, в горло и в обе ноги. «В кино показывают, что люди умирают от первой пули. В меня выстрелили четырежды. Я ждала, когда же все почернеет, но ничего не происходило. У меня плохое зрение. Когда он попал в меня первый раз, я потеряла очки. Я немногое увидела. Но я слышала его дыхание. Он дышал, как Волдеморт в «Гарри Поттере».
Ингвид Лерен Стенсруд, 20 лет. Выжила под трупом своей подруги. «Я слышала крики и не понимала слов. Я думала, что кричат на иностранном языке. Только потом я поняла, что это были мои друзья. Я лежала без движения с закрытыми глазами. И он выстрелил мне в плечо. Потом настала тишина, и я подумала, что он ушел. Потом я услышала страшный звук. Он перезаряжал…»
Мальчик, 15 лет, выжил под трупом друга, которому Брейвик восемь раз выстрелил в лицо. «Помню, как его кровь текла по мне… Я лежал там… эта кровь… это как бассейн крови, и я в его центре. Кровь только поначалу теплая, а потом холодная, мне стало холодно, и я начал думать. Я заметил, что сам он был белый и одет во все черное. И я подумал, что он ультраправый. Все предатели всегда ультраправые».
77 человек убил Брейвик и 150 – ранил. Они пришли в суд: безногие, безрукие, ослепшие. Они обвиняли его, а он сохранял спокойствие. Лишь дважды улыбнулся: услышав про Волдеморта и про «предателя». Улыбнулся и продолжил щелкать шариковой ручкой.
Скажите маме, что вы гей
Массовые убийцы педантичны, а Брейвик был король педантов и написал манифест в 716 тысяч слов – в два раза больше Библии.
«Европейскую декларацию независимости» отовсюду удалили, а в России хотели признать экстремистской, но как-то не вышло. У нас что угодно против закона: стихи и проза, антифашизм и акционизм, но только не талмуд Андерса Беринга Брейвика. Решили, видно, все равно никто не прочитает.
Сюжет простой: к 2083 году (двести лет со смерти Маркса) тамплиеры будущего очистят Европу от мигрантов. А предтечей этой войны цивилизаций станет он – Андерс Беринг Брейвик, чистокровный норвежец, 32 года, не женат.
Это подробный текст. В каждой главе – список литературы. Всюду – четкие инструкции, кого и как убивать. Цель номер один – «культурные марксистские профессора, ведущие телепрограмм (как мужчины, так и женщины) культурных марксистских СМИ, лидеры общественных организаций».
Это практичный текст. Из него можно узнать, как делать взрывчатку на даче. Как заниматься спортом, чтобы стать сильным и красивым убийцей (Брейвик рекомендует тайский бокс). Как правильно общаться с русской мафией (осторожней, не нарвитесь на чеченцев). Где по случаю достать ядерные боеголовки. И как не напугать родителей новостью, что вы – белый рыцарь. «Пункт 3.26. Как избегать подозрений со стороны родственников, соседей, друзей? Скажите, что подозреваете, будто вы гей, что вы в процессе изучения нового себя и что вы не хотите больше об этом разговаривать».
Это веселый текст. Помните, в школе ходили такие тетради с анкетами: с кем ты дружишь и какой у тебя любимый цвет. Есть и у Брейвика такая анкета.
Любимый город – Будапешт.
Любимая туалетная вода – Chanel Platinum Egoiste.
Любимая марка одежды – Lacoste.
Любимая вещь – iPod.
Любимые часы – Breitling Crosswind (незадолго до теракта он продал их за 1800 евро, чтобы «поправить финансовое положение»).
Любимый фильм – «300 спартанцев».
Любимое пиво – «Бадвайзер» («реальное чешское пиво, а не американская разбавленная моча», замечает герой).
Любимая музыка – Армин ван Бюрен.
Любимая книга – «Война и мир».
«Вопрос: Можете ли вы описать свои сильные стороны и недостатки как личности?
Ответ: Я очень терпеливая и очень позитивно настроенная личность. Большинство людей не оценит мою работу, но этот факт не имеет значения для меня…»
Но самое интересное – дневник.
Этот дом кишит жуками
«14 мая, суббота. День 13-й. Продолжил синтез ацетилсалициловой кислоты из аспирина. Сегодня финал Евровидения. Просто я люблю Евровидение!..:-) Тут хватает паршивой музыки, но, в общем, это отличное шоу. Моя страна выставила политкорректное дерьмо: беженец из Кении, исполняющий песню на барабанах – типичный представитель всей Европы и моей страны… Надеюсь, победит Германия!»
(А победила Швеция – и песня «Эйфория» стала неофициальным гимном гей-парада в Стокгольме, к радости культурных марксистов и негодованию Брейвика, который в эти дни уже находился под следствием.)
«23 мая, понедельник. День 22-й. Приступил к фазе по перемалыванию удобрений. Дробление гранул гантелью с треском провалилось. Гранулы были раздавлены лишь частично. ***, ну почему все не может идти по плану??? Да и набор гантелей обошелся мне в 750 евро, а теперь он оказался бесполезным. Что мне теперь делать?»
(Брейвик не сдавался. Взрывчатку он делал три месяца – и сделал полтонны.)
«30 июня, четверг. День 60-й. Этот дом кишит жуками. Только что из пачки шоколада выполз жук, ***. А час назад, когда я надевал перчатки, что-то ползало в одном из пальцев:-(Понятное дело, я испугался… После этого я начал убивать каждое маленькое насекомое, которое видел. И я прибил 18 гадов только за последний час… Часть этого дома построена еще в 1750-м, возможно, в стенах находятся несколько колоний жуков…»
(Так же методично он будет убивать юных активистов Рабочей партии на острове Утойя. «Моя психика крепче, чем у всех людей, что я встречал», – хвастается Брейвик, но ошибается, и жуткие жуки много раз заползают на страницы его дневника.)
«22 июля, пятница. День 82. Первая предстоящая костюмированная вечеринка. Нарядиться полицейским, прийти со знаками различия:-) Будет офигенно, люди очень удивятся:-) Заметка: представьте себе, если правоохранительные органы посетят меня в ближайшие дни. Они, наверное, поймут все неправильно и сочтут меня террористом, лол».
(Он действительно не называл себя террористом. Только – «рыцарем», а теракт назывался «миссией». Это его последняя, утренняя запись. К вечеру он переоденется полицейским и убьет 77 человек.)
Масонский сионист и убийца норвежских девочек
В деревеньке Салон-ла-Тур, что в Лимузене, живет симпатичный толстяк Луи Каше. Воспитывает сына и дочь. Немного сочиняет музыку. Пьет белое – а кто во Франции не пьет. Он эмигрант, норвежец. Копнешь такого фермера – а там ад.
«Как почти все норвежцы, я впервые столкнулся с истинной Норвегией в детском саду – детской тюрьме с левоэкстремистской феминистской гвардией, внушающей своим невинным жертвам пропаганду лжи и принуждающей детей «делиться» и «быть добрым» по отношению друг к другу…»
Это бывший знаменитый металлист Варг Викернес, отсидевший 15 лет за поджог деревянных церквей и убийство. Брейвик накатал 1800 страниц, Варгу хватило всего 10, чтобы припечатать соперника: «Масонский сионист и убийца десятков норвежских девочек». Говорили, он просто ревнует: раньше он был главным норвежским злодеем.
«Именно евреи создали марксизм, феминизм, христианство, так называемую психологию, банковское дело, движение хиппи и прочие идеологии и движения, которые направлены на уничтожение и разрушение всех народов в Европе. За каждым из них вы обнаружите еврея. Как вы могли это упустить, г-н Брейвик?..»
Брейвик проиграл: даже брат по оружию отверг его.
Он проиграл. Это стало ясно уже на следующий день, когда хоронили погибших. Когда премьер-министр Йенс Столтенберг выступил в церкви, и это была отличная речь, потому что многих убитых он знал лично.
«Наш ответ – больше демократии, больше открытости, больше гуманизма. Если один человек был способен проявить столько ненависти – сколько же любви мы проявим вместе!»
Он проиграл: вместо 67 убитых активистов Рабочей партии в нее вступили 6 тысяч.
Он проиграл: мир услышал о нем, но не принял его всерьез. В статье с говорящим названием «Нечего копаться в голове у массового убийцы» тогдашний мэр Лондона Борис Джонсон отказался считать Брейвика защитником белой расы и христианской веры. Мол, ему просто не повезло с девушками.
Его твиттер и фейсбук взломали хакеры. «Мы хотим, чтобы Андерс был забыт, – написали они. – Ярлыки вроде «монстр» или «маньяк» тоже. СМИ должны называть его жалким; ничем. #Forget him».
Брейвик проиграл на всех фронтах. Почти.
Русский Брейвик
Перед вами два фрагмента. Один – Андерс Брейвик, речь в суде, август 2012 года. Другой – православные философы выступают в пресс-центре главного информагентства России, июль 2016 года. Найдите десять отличий.
«Новый Запад, леволиберальный секулярный Запад – это антицивилизация, основанная на антиценностях. Христиане становятся главным объектом травли левой и либеральной пропаганды. В наши дни можно пытать, резать и убивать во имя феминизма, экологии и расового равноправия!»
«То, что сегодня вы называете демократией, не что иное, как либерально-культурно-марксистская диктатура. Марксистская реформа культуры, феминизм, уничтожение церкви, сексуальная революция… в результате всего этого власть в Европе постепенно перешла в руки к левым, произошло падение и пересмотр моральных норм и ценностей».
Брейвик – наш, родной. Это в Норвегии он правый экстремист, а в России многие думают как Брейвик: мигранты оборзели, женщины должны сидеть тихо, коммунизм – зло, гомосексуализм – грех, гуманизм – отстой, и вообще мы стали слишком добренькие.
Недаром Брейвик пророчествует о союзе белой Европы и белой России: «Многие высокопоставленные русские политики, военачальники и большинство россиян, вероятно, будут заинтересованы в этой перспективе».
Его утопия – почти Россия сегодня.
«Мы будем, – пишет он в манифесте, – реформировать нашу демократическую модель от «массовой демократической модели» в модель, более напоминающую русскую систему введения демократии. Патриотический трибунал останется в роли попечительского совета после окончания переходного периода… Попечительский совет будет препятствовать закоренелому марксизму/культурному марксизму в проникновении в различные слои общества».
Будущее Брейвика
«Аптечный стрелок» Дмитрий Виноградов пошел на дело после пятидневного запоя. Его прозвали русским Брейвиком. Но это стилистически неверно.
«Я ненавижу человеческое общество, и мне противно быть его частью! Я ненавижу бессмысленность человеческой жизни! Я ненавижу саму эту жизнь! Я вижу только один способ ее оправдать: уничтожить как можно больше частиц человеческого компоста». Он коротает пожизненное в адских условиях, а его манифест – это плач неудачника. То ли дело Брейвик: респектабельный убийца.
«Я хранил три бутылки Château Kirwan 1979 года, которые купил на аукционе 10 лет назад с намерением насладиться ими на очень торжественном событии. У меня возникла мысль сохранить последнюю бутылку для моего последнего празднования мученичества и насладиться ею с двумя первоклассными модельными проститутками, которых я намереваюсь нанять до миссии…»
Оставшихся денег ему хватило только на одну. Но и в тюрьме ему достаточно сладко: ему даже разрешили спать с поклонницей. Не каждый день.
Террористов обычно убивают на месте. Школьные стрелки оставляют последнюю пулю себе. Лишь четверо массовых убийц живы до сих пор.
Джеймс Холмс, расстрелявший зрителей на премьере «Бетмена» (24 трупа, пожизненное). Австралиец Мартин Джон Брайант (35 пожизненных за убийство 35 человек). Казахский пограничник Владислав Челах (убил 14 сослуживцев).
И Брейвик.
Живет он лучше, чем многие из нас живут. У него трехкомнатная камера с персональным спортзалом. Он немного жалуется на качество масла. Он огражден от всяких ужасов. Он лишь понаслышке знает, что этот год стал самым кровавым за десять лет и что следующий побьет рекорд. Его персональный рекорд тоже побили: Мухаммед Лауэж Булель убил в Ницце на семь человек больше.
Сотни убиты в Европе, тысячи – в странах третьего мира, а Брейвик спокойно качает бицепсы в спортзале. Можно сказать: повезло.
Он выйдет на свободу 22 августа 2033 года. Он выйдет в хорошей форме: вы же видели его тренажеры. Он выйдет в хорошей стране, где уважение к правам человека подпитано двумя миллионами баррелей шельфовой нефти в день. Он выйдет в хорошем возрасте – всего полвека: достаточно, чтобы начать с начала.
Интересно, в какой мир он выйдет.
Алексей Цветков. Вещи и их люди
Кто?
На митинги Евгений ходит с плакатом «Я не хочу жить зря!». То есть политически он схватывает главное, оставляя детали профессиональным активистам, своим товарищам по левому движению.
К тому же его обязывает фамилия. Этот Бабушкин помнит про того Бабушкина, революционера-искровца, который агитировал на стеклянном заводе сто лет назад и мечтал о «превращении заурядного числительного человека в человека-социалиста». Тот Бабушкин понимал, что в момент сдвига основ многое на стеклянном заводе может разбиться, салютно лопнуть вдребезги или просто опасно и некрасиво треснуть, но с другой стороны, он знал, что предстоит весь человеческий мир сделать единой фабрикой, прозрачной для своих работников. Помнить о таких вещах означает сохранять верность великим Событиям.
«Быть левым для меня – это как высылать деньги маме», – признается Евгений.
Творчество есть превращение себя в передатчик и ловля сил, которые будут через тебя говорить. Твоим неповторимым голосом. Акт литературного творчества подразумевает акт политического сопротивления. Ты рассказываешь всем о том, как ты устроен, и тем самым ты занимаешь место в политических шахматах.
Равенство опыта всех, без исключения, людей, по Бабушкину, состоит в том, что они регулярно переживают себя как жертвы системы. Он знает одну древнюю тайну – победить и спасти всех должен тот, кто принесет самую большую жертву.
Непобедимая и неубиваемая нежность жизни, как вечное обещание гуманистического коммунизма даже в самом корявом углу этого неуютного мира. Реальность это постепенно гаснущий свет, но человек – это трогательное возражение этому. Впрочем, не всякий человек, но трудящийся. На земле сейчас три с половиной миллиарда пролетариев.
Лиризм отверженных и обреченных жертв капиталистического спектакля – кто чувствует это, тот становится левым. Как и всякий обнадеживающий писатель, Евгений умеет быть уязвимым, но именно так, чтобы мы испытали приятный укол солидарности и поверили в себя, а заодно и в Бабушкина. Он умеет переживать чужую боль и говорить об этом без обличительной пошлости и рваного воротника. Он пишет документы обвинения и надежды, соблюдая интуитивно найденную пропорцию между ними.
Пронзительно тает снег в твоем протестно сжатом кулаке. Никому не видимый снеговичок, исчезающая скульптура внутренней истерики и личный слепок персонального отчаяния, скрытого внутри коллективной надежды. Белый флаг бессилия становится красным флагом восстания, впитав лужу уличной крови.
Писатель интересуется производством и не боится его. Оно почти в каждом его тексте – цеха со свинцовым воздухом или бриллиантовой пылью, картофельное поле на месте взлетной полосы, уличная торговля и самодеятельная реклама.
Дружок и три кота, зарытые в огороде, становятся морковкой и луком. Производство и обмен создали человека. Два главных процесса, воспроизводящих нашу реальность, это кодирование и раскодирование. Красивая сложность отношений этих двух пар состоит в том, что любая составляющая из одной пары может быть уподоблена любой составляющей из другой пары. Таким способом двойного уподобления и является, собственно, наш язык, но вы читаете предисловие к первой книге талантливого прозаика, а не трактат по альтуссерианской диалектике, так что вернемся к Бабушкину, отметив только, что, если производство и обмен понимаются через политэкономию, кодировка и расшифровка нагляднее всего заявляют себя в искусстве.
Валялся винт. Емкий минимализм описаний и обязательная отвлеченность лунатика, помогающая прочесть код, дешифровать личный опыт и зашифровать опыт социальный, общий, политический.
Он понимает важность нормы потребления алюминия на душу населения. В советское время эта норма заметно отставала от европейской, а сейчас и вовсе упала вдвое в сравнении с советским уровнем. Из этой динамики можно вывести очень много знаний о нашей жизни, если не вообще все. Первым же в русской литературе важность алюминия зарегистрировал Чернышевский.
Исторический материализм, как его понимали в «Бюро сюрреалистов». Периферийный капитализм как игра, в которой проиграли все. Экономика желаний и фетишистский характер товара. Евгений пропускает через себя все это, балетно балансируя между точной записью сна, притчей и физиологическим очерком.
Театр освобождения
Женя скорее петербургский человек, но живет в Москве. Его сосед, быстро поняв, что в эту квартиру приехал Питер, начал лазать к Бабушкину по балкону, экономя на «Сапсане». Когда сосед перелезал, у них сразу начинался театр. Потому что Женя еще и театральный человек, более всего он любит сочинять драмы для чтения. Его захватывает сама драматургия превращения воспоминания в текст.
Отсюда эксцентрика революционного кабаре «Кипарис», отсылающая к рисункам Дикса и Гросса. Главный сценический конфликт всегда между тем, что есть и тем, что может быть.
Возникновение нужной синхронности между событием на сцене и твоей, уже готовой взорваться, жизнью. Исполнить роль, чтобы совершиться. Театр – вид неправды, позволяющий представить особую и самую важную истину. Литература встает вровень с картинками для нищих и неграмотных, став театром. Драматургия власти, уклонения и сопротивления. И, наконец, революционная драматургия социального искупления. Старомодная, как и все модернистское.
Диалектический театр как возможность взглянуть на «общество спектакля» снаружи, находясь при этом внутри. Театр, который делает зрителя действующим лицом общей судьбы. Такой театр демонстрирует предел своих возможностей, за которым начинается непредсказуемое коллективное действие.
Диалектика, текст/действие. Слова, которые описывают то, что есть, против слов, приводящих нас в действие. Театр, как и революция, существует только в однократном действии и никогда не повторяется. Освободительное кабаре делает актерами всех желающих. Освобождение не может быть персональным удовольствием. В таком театре мы видим: любая ситуация может быть расколота изнутри, как яйцо. Любая ситуация может стать революционной.
Спектакль и есть политическая граница между текстом (сказкой) и прямым действием (восстанием). Спектакль капитализма, отражаясь на театральной сцене, выводит людей на улицы. В массовом поиске справедливости, лежащей за пределами судебных решений.
Жизнь перестает быть репетицией того, что никогда не случится. Материал жизни перестает быть товаром, активом, средством увеличения нормы прибыли. Люди забирают обратно свою способность к историческому действию, напрасно делегированную звездам и иконам. Восстание превращает личную слабость в коллективную силу. Учреждающее событие происходит там, где мы вполне осознали коррумпированность своей речи. Театр – действенное средство для этого.
Особое время, когда язык ненадолго становится непосредственным средством производства новых исторических событий и отношений между нами. Тех событий, которым потом долго будут хранить верность, и тех отношений, которые потом долго будут искажать и добросовестно забывать.
Историческая необходимость – это оружие, а случай – это курок. Учреждающее событие громыхает прикладом в дверь твоей частной жизни, и начинается день, когда никто не узнает себя на прежних своих портретах и фотографиях.
Переход от маскировочной театральности к сопротивлению и режиссуре своей жизни. Приведение истории в действие с помощью слов, исполненных на сцене. Особый вид скопления людей, которые собрались не для того, чтобы поддержать существующий порядок, но чтобы уронить его. Отмена гегемонии «вечного» сценария. Театр как мобилизующая ложь, позволяющая покончить с повседневностью.
Но давайте сменим тон. Сейчас не 1917 год. Городская герилья ростовых кукол, придуманная Бабушкиным, происходит на сцене, а сцена утоплена в материнском молоке бумажных и электронных страниц. Кабаре «Кипарис» есть тренажер умозрительной классовой драмы.
«Я не понимаю театр – говорит Л., – врут, поют, руками машут». Л. думает, что живет ПОСЛЕ революции, а не ДО и потому театр ему не нужен. У Л. ледяная и прозрачная голова.
Л. читает пустые листы, в которых утонуло его будущее и перспективы международной революции. Л. пытается увидеть будущее, то есть нас, на экранах белых листов.
Текст и тело
Утрированные портреты, в которых предписанная рынком или государством роль сталкивается с упрямой альтернативой, сидящей в человеке, превращающей человека в тихо, но неустанно тикающую бомбу. В многозначительно иероглифически надтреснутое стеклянное яйцо. В рассказах Бабушкина много неполных, незаконченных, недостроенных тел. Тела как ломаная мебель в обстановке капитализма. Мебель, по которой бегут биржевым курсом декоративные трещины отчуждения.
Сама идея частной собственности отсылает нас к неполному телу, проклятому куску, изъятой части, вынутому сердцу. Частная собственность как следствие отчужденного труда, внешнего отношения каждого к самому себе, расколотости мира, которая на сцене выглядит как расколотость тела.
Секвестирование и сокращение тел, изъятие руки или ноги, конфискация отдельных органов, взимание лишних пальцев, которых ты больше не можешь себе позволить. Мир тел как система долгов и налогов.
Текст как публичное разделение понятого и не понятого. Как сама тривиальность этой границы. Тело теряет части, пролезая в текст господствующей идеологии, которая всегда есть идеология господ. Внутривенное знамя выплескивается на свободу, напоминая о соленых истоках нашей биологической эволюции.
Кроме прочего восстание есть танцевальный демонтаж тел. Никто больше не может содержаться в себе целиком, границы поплыли и каждый отправляется на поиски своей недостающей (отрезанной, присвоенной, украденной, запертой в чьем-то сейфе) части, которой у него никогда не было, но без которой он больше не может считать себя собой.
Налог – эллипсис – ампутация. Капитал – слово – тело. Текст как памятный шрам, ритуальный порез, смотровая щель. С помощью этих шрамов современность отчаянно отрицает замкнутость вечно неизменного. Пальцы неверующего погружаются в библейское тело и нажимают там курок.
Репортер
Когда ни хватишься – нет Бабушкина! Он всегда уехал, потому что репортер. Идет пешком через Европу с сирийскими беженцами, наблюдает за честностью выборов в США, ночует в церкви на киевском майдане, показывает обе ладони цыганам, берет интервью у новоросских командиров.
Внимателен к классовой эмблематике. Ему известен особый оттенок на коже загоревших в аду.
Нелегальный мигрант как наиболее общая метафора человеческого удела в мире.
Театр и литература демонстрируют силы ментальной гегемонии элит и сопротивление им, политика и война используют эти силы.
Любимая ситуация Бабушкина-документалиста – это когда народный человек вдруг выделится прямо из пейзажа и туманно объясняет автору про свой хитрый промысел, предлагая войти во все обстоятельства и разделить грядущий успех. Сказав свое, народный человек обратно сольется с пейзажем, вновь убедившись, что интеллигент есть наблюдатель, а не подельник.
Драматичное напряжение между моралью и политической экономией дает лирический объем его репортажам.
А в исторических очерках он любит переводить свидетельства работников плантаций, превращенных в живые орудия, живых мишеней правых террористов и других лиц, оплавленных господством. Все мы нуждаемся в переводе таких свидетельств как в полезных зеркалах.
Немой хлеб
«Библия пауперов» – название потенциального фильма Пазолини или пьесы Брехта.
Когда-то так назывались книги для неграмотных. Эти картинки делали театрализованную социальную механику сакральной и устойчивой. Но в моменты восстаний их смысл выворачивался наизнанку и все тот же христианский комикс превращался в страстную пропаганду сопротивления миру, не достойному Книги, отклонившемуся от своего библейского образца.
Волшебная диалектика превращала мрамор дворцов в хлеб голодных. Ведь нищие составлены из лежалого хлеба, который так и не был куплен. Вот формула обыденной жизни: «бывает, пирожок попадает в тебя, бывает – ты в пирожок».
Саранг-Деноминация
В Москве за ним присматривает кошка Кассиопея Мобиевна Саранг-Деноминация, которую нельзя не упомянуть, потому что я хочу оставить ее в истории литературы. С этой кошкой Бабушкин часто говорит о марксизме, рыночной экономике, классовом анализе и сексуальной революции, пока она не встает и не уходит, давая понять, что пора бы уже и переходить от слов к делу или хотя бы к письму.
Тогда Женя берет гитару и поет ей вслед. Из советских кинофильмов – частушки – русский рок. Некогда это был его заработок. Он пел в подземном питерском переходе под проспектом Ветеранов.
Главное, чтобы кошка поняла, что r > g, что в переводе с языка политэкономии значит: мы всегда будем хотеть того, что у нас украли и мы всегда будем красть то, чего хотят другие.
Увидеть мир смешным, сентиментальным или беспросветно катастрофичным – значит принять его. Смотреть на мир глазами Бабушкина – значит испытывать надежду, отрицать господствующее отчуждение, обнажать происходящее и еще не законченное, вместо того чтобы вовремя приходить к заранее известному выводу.
Его интригует непристойность системы и невыносимость ее фарисейской морали.
Невыносима не сама война, но мир, который требует войн, чтобы воспроизводиться. Невыносимо не само насилие, но мир, в котором для насилия есть системные причины. Невыносима не сама частная собственность, но мир, в котором частная собственность является основным гарантом допуска к коллективно созданным ресурсам и возможностям, превращая экономическое неравенство в политическое, а политическое в образовательное и вкусовое. Единственное, что примиряет с таким невыносимым миром, – возможность его радикальной переработки и отождествление себя с агентами такой трансформации.
Новостью является не сам этот мир, построенный на экономическом воровстве, политическом насилии и глянцевой лжи. Подлинной новостью является наше нежелание мириться с таким миром.
Талант – это способность делать главные противоречия видимыми и нестерпимыми. Невыносимость реальности – не просто литературная легализация невроза, но и важнейшее достижение гуманистической мысли нескольких поколений левых писателей.
Перепрыгивание границы между «своим» и «чужим» есть в любом художественном опыте и политическом акте.
Литература это способ смотреть на вещи. На вещи и их людей. Схватывать и отпечатывать отношения между вещами и их людьми.
Знание о том, что власть не бывает абсолютной. Видение того, что нельзя присвоить – бесклассового горизонта, открывающего добровольно выбранные причины наших сегодняшних действий, лежащие не в прошлом, а в будущем.
Пока мы двигаемся прочь от этого горизонта, между нами и искусством будет стоять невидимая, но и непробиваемая стена. И пока это так, эта стена будет оставаться главным объектом всякого искусства.
Это важно для любого владельца кошки, как бы ее ни звали.
Если мы остаемся просто читателями книг, значит мы не поняли ни одной прочитанной нами книги.


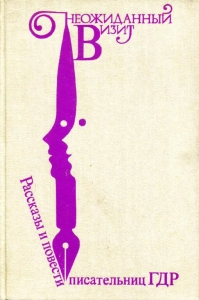



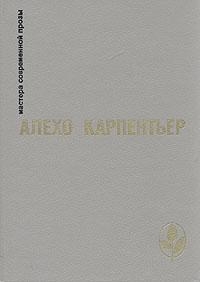


Комментарии к книге «Библия бедных», Евгений Анатольевич Бабушкин
Всего 0 комментариев