Эммануэль Каррер Жизни, не похожие на мою
~~~
Я помню, что в ночь перед приходом волны мы с Элен разговаривали о расставании. Особых проблем не предвиделось: мы не вели совместного хозяйства, не имели общих детей, мы могли даже остаться друзьями. Тем не менее, настроение было гадким. Ведь мы помнили совсем другую ночь, уже после нашей встречи, когда то и дело повторяли, что, наконец-то, нашли друг друга, проживем вместе всю оставшуюся жизнь, вместе постареем, даже заведем ребенка — девочку. Позже у нас появилась девочка, в то время мы по-прежнему надеялись прожить вместе до конца жизни, и нам нравилось думать, будто мы с самого начала все понимали. Но все пошло наперекосяк с первых же дней этого тяжелого, сумбурного года. Все, что казалось нам непоколебимым и надежным осенью 2003 года, когда мы были ослеплены любовью, все, что казалось нам надежным, — во всяком случае, желаемым, — спустя пять лет, уже не представлялось ни надежным, ни желаемым в рождественскую ночь 2004 года в нашем бунгало отеля «Эва Ланка». Напротив, мы были уверены, что это наш последний совместный отпуск и, несмотря на все усилия, он явно не удался. Лежа бок о бок, мы не осмеливались заговорить о прошлом, о том обещании, в которое мы оба верили с таким пылом и которому, по всей видимости, не суждено сбыться. Между нами не было враждебности, мы лишь наблюдали — с сожалением, — как отдаляемся друг от друга. Я снова и снова анализировал свою неспособность любить, тем более вопиющую, что Элен была достойна любви. В голову пришла мысль, что мне придется стареть в одиночестве. Элен же думала о другом — о своей сестре Жюльетт: перед нашим отъездом ее госпитализировали с диагнозом эмболия легочной артерии. Она боялась, что это заболевание очень серьезное, и сестра может умереть. Я доказывал, что ее страхи ничем не обоснованы, но вскоре они настолько завладели мыслями Элен, что я начал злиться. Еще бы, ведь в них не оставалось места для меня! Она вышла покурить на террасу бунгало. Я ждал ее, лежа в постели, и думал: если она быстро вернется, если мы займемся любовью, то тогда, возможно, не расстанемся и, возможно, будем стареть вместе. Но Элен не вернулась, она в одиночестве стояла на террасе и смотрела, как понемногу светлеет небо, слушала предутренний щебет птиц, и я заснул, одинокий и грустный, убежденный, что моя жизнь становится все хуже и хуже.
Накануне мы всей компанией — Элен и ее сын, я и мой сын — записались на курсы по подводному плаванию в маленьком клубе в соседней деревне. Однако после предыдущего урока у Жана-Батиста разболелось ухо, и он не захотел нырять снова; что до нас с Элен, то после практически бессонной ночи, мы решили отменить занятия. Родриго, единственный, кому хотелось на море, не скрывал своего разочарования. «Купайся в бассейне», — говорила Элен. Однако бассейн ему уже надоел. Родриго хотел, чтобы кто-нибудь проводил его на пляж, расположенный ниже отеля, и куда его одного не пускали из-за опасных прибрежных течений. Но желающих составить ему компанию не нашлось: тащиться вниз не захотели ни его мать, ни я, ни Жан-Батист, который предпочел морю чтение в прохладе бунгало. Сыну исполнилось тринадцать лет, и я едва не силком вытянул его в экзотическую поездку в компании с малознакомой женщиной и мальчиком, еще более юным, чем он сам. Потому-то Жан-Батист с самого начала отчаянно скучал и не переставал нам это демонстрировать, сидя в своем уголке. Когда его поведение меня доставало, я спрашивал, неужели ему не нравится на Шри-Ланке, на что он угрюмо отвечал, что да, нравится, только тут очень жарко, и лучше всего он чувствует себя здесь, в бунгало, где может спокойно почитать или поиграть в «Game Воу». Жан-Батист был типичным ребенком предподросткового возраста, и я, типичный отец такого ребенка, ловил себя на том, что чуть ли не слово в слово делаю ему замечания, которыми в детстве изводили меня собственные родители: тебе следовало бы пойти погулять, проявить любопытство, напрасно мы повезли тебя на край света… Дохлый номер. Он забился в свою берлогу, а одинокий Родриго принялся приставать к матери, пытавшейся вздремнуть в шезлонге на краю огромного бассейна с морской водой, где каждое утро по два часа кряду плавала пожилая, но на удивление атлетически сложенная немка, похожая на Лени Рифеншталь[1]. Не переставая горевать по поводу моей неспособности любить, я потащился к аюрведистам, как мы называли группу швейцарцев немецкого происхождения, занимавших несколько удаленных бунгало и посещавших курсы йоги и традиционного индийского массажа. Когда у них не было плановых занятий с гуру, мне случалось разучить с ними несколько поз. Попрактиковавшись, я вернулся к бассейну. Там обслуживающий персонал закончил убирать посуду после завтрака и начал накрывать столы к обеду. Значит, вскоре встанет набивший оскомину вопрос — чем заняться после обеда? За три дня после приезда мы посетили храм в лесу, покормили маленьких обезьянок, посмотрели на статуи спящих будд и, проигнорировав более масштабные экскурсии, завершили местную культурную программу. В противном случае нам пришлось бы пополнить ряды туристов, днями болтавшихся по рыбацкой деревне и восторгавшихся повседневными делами местных жителей, рынком, искусством чинить порванные сети и прочими общественными ритуалами. Я не принадлежал к числу зевак и упрекал себя в этом, а еще в том, что не передал своим сыновьям чувства здорового любопытства, той остроты взгляда, которая восхищала меня, к примеру, у Николя Бувье[2]. Я захватил с собой его «Рыбу-скорпион», где этот писатель-путешественник рассказывает, как целый год прожил в Галле, большом укрепленном городке, расположенном на южном берегу острова, километрах в тридцати от того места, где мы сейчас находились. Это совсем не то, что его знаменитое произведение «Знание света», преисполненное восхищением жизнью и ее прославлением. «Рыба-скорпион» — книга о реальном экономическом крахе, развале и нищете. Цейлон предстает в ней как колдовство в самом темном, опасном смысле слова, не имеющем ничего общего с яркими туристическими буклетами для невозмутимых путешественников и молодоженов. Бувье едва не потерял здесь рассудок, а наш отпуск, который можно было рассматривать, как свадебное путешествие или экзамен на возможное объединение в семью, полетел ко всем чертям. Вяло так полетел, без трагических криков и ссор. Я почувствовал, что пора возвращаться домой, и чем скорее, тем лучше. Пересекая холл с просветами, засаженными бугенвилиями, я столкнулся с раздраженным постояльцем отеля: он нервничал из-за того, что не мог отправить факс — не было электричества. В администраторской ему сказали, что в деревне произошла какая-то авария, вызвавшая перебои с подачей электроэнергии, но он не совсем понял, о чем идет речь, и лишь надеялся, что неисправность быстро устранят, потому что ему нужно отправить очень важный факс. Я вернулся к Элен, она уже не спала и сказала, что происходит что-то странное.
Мое внимание привлекла небольшая группа клиентов и служащих отеля, сбившихся в плотную кучку на террасе в дальнем конце парка, откуда открывался бесподобный вид на раскинувшийся внизу океан. На первый взгляд, ничего необычного не происходило. Все выглядело, как всегда. А потом возникало чувство, будто с ваших глаз убрали пелену. Кромка воды находилась почему-то очень далеко. Обычно ширина пляжа между ней и подножием прибрежных скал не превышала метров двадцати. Теперь же пляж уходил вдаль, насколько хватало взгляда — серый, ровный, маслянисто поблескивающий в свете подернутого дымкой солнца. Это напоминало Мон-Сен-Мишель[3] во время отлива. В глаза бросалось также, что весь пляж был усеян разными предметами, размеры которых сначала не поддавались оценке. Вон та кривая коряга-это отломанная ветка или целое дерево? Очень большое дерево? А эта разбитая лодка, да лодка ли это вообще? Определенно это судно, да, рыболовное судно, выброшенное на берег и расколотое, словно скорлупа кокоса. С берега не доносилось ни малейшего звука, ветви пальм безвольно обвисли в полном штиле. Я не помню первых слов, прозвучавших в кучке людей, к которым мы присоединились, но потом кто-то тихо произнес: «В деревне погибли двести школьников».
Наш отель был построен на скале, возвышавшейся над океаном, и утопал в буйной зелени окружающего парка. Чтобы выйти на прибрежную дорогу, нужно было пройти через ворота с охранником, а затем спуститься по бетонированному пандусу. Внизу в ожидании клиентов обычно парковались тук-туки — мопеды с тентами, оборудованные сиденьем на двоих, а если потесниться, то и на троих пассажиров. Тук-туками пользовались для езды на небольшие расстояния: до двух километров, если же нужно было ехать дальше, к услугам желающих имелись настоящие такси. Сегодня тук-туков не было. Мы с Элен спустились к дороге в надежде, что нам удастся разобраться в происходящем. Ситуация казалась серьезной, но кроме слуха о гибели двухсот детей в деревенской школе и возражения, что дети не могли в это время там находиться по причине празднования Пойя, буддийского нового года, никто в отеле толком ничего не знал. Ни тук-туков, ни прохожих мы не увидели. Обычно на дороге всегда было оживленно: группками по двое или трое проходили женщины с товарами, пробегали школьники в белых, безупречно отутюженных рубашках. Все улыбались и охотно вступали в беседу. Пока мы огибали холм, за которым скрывался океан, дорога выглядела нормально, но как только холм остался позади, перед нами открылось поразительное зрелище: с одной стороны все осталось на своих местах — деревья, цветы, низенькие ограды, маленькие лавочки ремесленников, зато с другой стороны все было разрушено и погребено под слоем черной грязи, словно под потоком лавы. Спустя несколько минут ходьбы мы встретили высокого светловолосого мужчину в изодранных, перепачканных грязью шортах и рубашке, с потеками засохшей крови на лице. Некоторое время он растерянно смотрел на нас, потом заговорил и, как ни странно, прежде всего, сообщил, что он голландец, и лишь потом добавил, что его жена ранена. Ее приютили у себя крестьяне, а он побежал за помощью в наш отель. Мужчина рассказал также о гигантской волне, обрушившейся на берег и унесшей в океан дома и людей. Он был потрясен, а сам факт, что он остался жив, его скорее изумлял, чем радовал. Элен предложила проводить его до отеля: телефонную связь, вероятно, скоро восстановят, а среди клиентов отеля, возможно, кто-нибудь окажется врачом. Я же хотел пройти немного дальше и сказал, что присоединюсь к ним чуть позже. Через три километра показался въезд в деревню, где царила атмосфера тревоги и смятения. Люди сбивались в кучки, тут же разбегались кто куда, машины с тентами лавировали между домов, со всех сторон слышались крики, стоны и плач. Я пошел было по улице, спускавшейся к пляжу, но путь преградил полицейский. Я спросил у него, что же произошло на самом деле, и он ответил: «The sea, the water, big water». Правда ли, что есть жертвы? «Yes, many people dead, very dangerous. You stay in hotel? Which hotel? Eva Lanka? Good, good, Eva Lanka, go back there, it is safe. Here, very dangerous»[4]. Опасность вроде бы миновала, но я прислушался к совету полицейского.
Элен жутко сердилась на меня, потому что я ушел, оставив ее с детьми, тогда как именно ей следовало заниматься поиском новостей — это ее профессия. Пока меня не было, ей звонили из LCI, информационного агентства, которое она представляет в прессе. В Европе была ночь, поэтому другим клиентам отеля еще не трезвонили всполошенные домочадцы и друзья, но дежурные журналисты уже знали, что в юго-восточной Азии произошла страшная катастрофа, а вовсе не наводнение локального масштаба, как я поначалу думал. Зная, что Элен находится в тех краях, они рассчитывали получить информацию из первых рук, а ей, по сути, нечего было им сообщить. Что я могу рассказать? Что я видел там, в Тангалле? И мне пришлось признать: не так уж много. Элен пожала плечами. Я счел за лучшее убраться в наше бунгало. После возвращения из деревни я испытывал нешуточное волнение: посреди вялого, томительного отпуска внезапно произошло нечто из ряда вон выходящее. Теперь я был раздосадован нашей размолвкой и осознанием того, что оказался не на высоте в сложившейся ситуации. Недовольный самим собой, я уткнулся в «Рыбу-скорпион». Между двумя описаниями насекомых мое внимание привлекла фраза: «Этим утром мне хотелось, чтобы чужая рука закрыла мне веки. Но я был один, и потому закрою их сам».
Взволнованный Жан-Батист прибежал ко мне в бунгало. Только что в отеле появилась супружеская пара из Франции, мы познакомились с ними два дня назад. Их дочь погибла. Чтобы справиться с потрясением, сыну понадобилась моя поддержка. Шагая с ним по дорожке, что вела к главному корпусу отеля, я вспоминал нашу встречу в одном из ресторанчиков на пляже, куда сегодня меня не пустил полицейский. Они сидели за соседним столиком. Им было около тридцати, ему чуть больше, ей чуть меньше. Оба красивые, веселые, дружелюбные, влюбленные друг в друга и в свою четырехлетнюю дочурку. Девочка подошла к нам, чтобы поиграть с Родриго, и тогда между нами завязался разговор. В отличие от нас, они превосходно знали страну и жили не в отеле, а в небольшом доме, расположенном на пляже в двух сотнях метров от ресторанчика. Этот дом отец молодой женщины арендовал на целый год. Супруги принадлежали к тому типу людей, которых приятно встретить за рубежом, и мы расстались, рассчитывая повидаться в ближайшее время. Договариваться о встрече не было необходимости: мы обязательно столкнулись бы в деревне или на пляже.
Я нашел их в баре в компании с Элен и незнакомым пожилым мужчиной. Седой кучерявой шевелюрой и длинным птичьим носом он напоминал Пьера Ришара. Прошлый раз мы не познакомились, и теперь Элен представила нас. Жером. Дельфина. Филипп. Филипп оказался отцом Дельфины, именно он арендовал домик на пляже. Погибшую девочку звали Джульетта. Элен произнесла это бесцветным голосом, а Жером лишь кивнул головой, мол, все верно. На безжизненных лицах супругов застыли боль и отчаяние. Я спросил: «Вы уверены, что она мертва?» Жером ответил, что да, они приехали сюда из деревенской больницы, куда ходили на опознание тела. Дельфина молча смотрела перед собой, и я не был уверен, что она нас видит.
Мы сидели всемером — их трое и нас четверо — в креслах и на банкетках из тикового дерева с яркими цветными подушками. Перед нами на низком столике стояли фруктовый сок и чай. Подошедший официант спросил, не желаем ли мы чего-нибудь. Жан-Батист и я машинально сделали заказ, и снова воцарилась тягостная тишина. В конце концов, ее нарушил Филипп: он заговорил совершенно неожиданно, ни к кому конкретно не обращаясь. Его высокий, прерывистый голос напоминал звуки какого-то разлаженного механизма. За последующие несколько часов он повторил свой рассказ несколько раз, причем почти слово в слово.
Утром, сразу же после завтрака Жером и Дельфина отправились на рынок, а его оставили дома присматривать за Джульеттой и Осанди, дочкой хозяина гостевого домика. Сидя в плетеном кресле на террасе бунгало, он читал местную газету, время от времени поглядывая на девочек, игравших у самой кромки воды. Они со смехом прыгали в небольшие ласковые волны. Джульетта говорила по-французски, Осанди — по-ланкийски, но подружки очень хорошо понимали друг друга. Вороны с пронзительным карканьем скандалили из-за крошек, оставшиеся после завтрака. Все было спокойно, день обещал быть замечательным. Филипп подумал, что после обеда пойдет, возможно, на рыбалку с Жеромом. В какой-то момент он вдруг обратил внимание, что куда-то подевались крикливые вороны, а многоголосье птичьих трелей уступило место мертвой тишине. Тогда-то и появилась волна. Мгновением раньше на море царил полный штиль, а мгновением позже вздыбилась стена воды высотой с небоскреб и стремительно понеслась на него. Как вспышка молнии, мелькнула мысль, что сейчас он умрет и совсем ничего не почувствует. Вода поглотила его и бесконечно долго крутила в бездонном чреве волны, а потом вынесла на ее гребень. Подобно серфингисту, он мчался над домами, деревьями, дорогой. А потом волна понеслась в обратном направлении, унося его в сторону открытого моря. Он видел, как стремительно приближаются развороченные стены домов, о которые его просто размажет, и инстинктивно уцепился за кокосовую пальму, но не удержался, ухватился за другую. Он и ее отпустил бы, если б не налетел на что-то твердое — кажется, это была часть забора, и она прижала его к стволу дерева. Мимо него с головокружительной скоростью проносились предметы мебели, животные, люди, деревянные балки, бетонные блоки. Он зажмурился изо всех сил, ожидая, что огромные обломки вот-вот его разотрут, как гигантские жернова, и не открывал глаз до тех пор, пока не стих чудовищный рев бешеного потока и не послышались другие звуки — крики раненых мужчин и женщин, взывавших о помощи. Он понял, что конец света не наступил, он все еще жив, а настоящий кошмар только начинается.
По стволу пальмы Филипп сполз до поверхности воды, совершенно черной и непрозрачной. Течение было все еще сильным, но уже не сбивало с ног. Перед ним проплыл труп женщины: голова в воде, руки раскинуты в стороны. В развалинах перекрикивались выжившие, стонали раненые. Филипп колебался, не зная, куда ему идти: на пляж или в деревню? Джульетта и Осанди погибли, в этом он нисколько не сомневался. Теперь нужно было найти Жерома и Дельфину, чтобы рассказать им о случившемся. Отныне в этом заключалась главная цель его жизни. Филипп брел по грудь в черной жиже, лицо его заливала кровь, но он не соображал, где рана. Он предпочел бы остаться здесь в ожидании спасателей, однако заставил себя идти. Земля под босыми ногами была неровной и податливой, густо усеянной осколками стекла и другими невидимыми под водой острыми предметами, об которые он страшно боялся пораниться. Шел он медленно, осторожно ощупывая перед собой землю, и ставил ногу только тогда, когда был уверен, что не наступит на ржавый гвоздь или осколок битой бутылки.
До дома оставалось не более сотни метров, но местность изменилась до неузнаваемости: не осталось ни одной целой стены, ни одного дерева. Иногда Филипп замечал знакомые лица соседей: заляпанные черной грязью, окровавленные, с округлившимися от ужаса глазами они тоже искали своих родных и близких. Шум уходящей воды постепенно стихал, зато все громче слышались крики, плач и стоны. Вскоре Филипп выбрался на дорогу и, пройдя немного в гору, вышел на место, где волна остановилась. Эта четко обозначенная граница выглядела странно: с одной стороны — полный хаос, с другой — нормальный, нетронутый мир с аккуратными домиками из розового или бледно-зеленого кирпича; дорожками, посыпанными красным латеритом; лавочками ремесленников; мопедами; нарядно одетыми, занятыми своими делами людьми, которые только теперь начали осознавать, что произошло нечто страшное, но что именно, они не знали. Зомби, как две капли воды похожие на Филиппа, ступали на землю живых и бессвязно бормотали про какую-то «волну», и это слово разлеталось по деревне, как слово «самолет» по Манхэттену 11 сентября 2001 год.
Волны паники несли людей в двух направлениях: к морю — посмотреть, что там произошло и помочь тем, кто нуждался в помощи; и от моря — как можно дальше, чтобы найти убежище на случай повторения катастрофы. Проталкиваясь сквозь кричащую толпу, Филипп по главной улице добрался до рынка, где в это время обычно собиралось больше всего народу. Он приготовился к долгим поискам, но почти сразу увидел Дельфину и Жерома под часовой башней. Слухи о катастрофе докатились и до них, но были такими невнятными и путаными, что тогда Жером был склонен верить, будто свихнувшийся стрелок открыл огонь по толпе где-то в Тангалле. Филипп шел к ним и знал: это последние секунды их счастья. Наконец, они увидели его — грязного, окровавленного, с искаженным горем лицом. На этом месте рассказ Филиппа обрывался. Он словно терял дар речи. Губы его шевелились, но он никак не мог выдавить из себя тех трех слов, которые ему пришлось произнести в тот момент.
Дельфина закричала, Жером молчал, словно онемел. Он обнял жену и изо всех сил прижал к себе, пока она исходила криком. В этот момент он решил для себя: если я ничего не могу сделать для моей девочки, то хотя бы спасу жену. Я не присутствовал при этой сцене, лишь пересказываю ее со слов Филиппа, но все остальное происходило на моих глазах. Жером не стал тешить себя несбыточными надеждами. Филипп был не только его тестем, но и другом, он полностью доверял ему и сразу же понял: если Филипп произнес три роковых слова, какими бы ни были его шок и растерянность, значит, это правда. Дельфина же считала, что отец ошибался. Раз ему удалось спастись, то Джульетте, возможно, тоже повезло. Филипп качал головой: невозможно, Джульетта и Осанди играли у самой воды, у них не было ни малейшего шанса. Ни одного. Девочку они нашли в госпитале среди десятков, сотен трупов, выброшенных пресытившимся океаном на берег. Класть тела было некуда, и они рядами лежали прямо на земле во дворе госпиталя. Осанди и ее отец тоже были тут.
Отель на глазах превращался в плот «Медузы»[5]. Холл постепенно заполнялся пострадавшими туристами. Подавленным, полуодетым людям, среди которых было много раненых, говорили, что здесь они в безопасности. Всех будоражили слухи о вероятности прихода второй волны. Местные жители толпами уходили за береговое шоссе, стараясь оказаться как можно дальше от воды, а иностранцы карабкались в гору, то есть, шли к нам. Телефонные линии были оборваны, но к концу дня начали разрываться мобильники клиентов отеля: снедаемые тревогой и беспокойством, звонили родственники и друзья. Их торопливо успокаивали и отключались, чтобы не посадить аккумуляторы. Вечером по распоряжению управляющего отелем на несколько часов запустили дизель-генератор, чтобы люди могли подзарядить свои телефоны и посмотреть по телевизору последние новости. В глубине бара на стене висел огромный экран, обычно его включали во время трансляции футбольных матчей, поскольку хозяевами отеля были итальянцы, как, впрочем, и большая часть клиентов. Теперь все — от постояльцев до персонала — толпились перед ним и со слов диктора CNN узнавали об истинных масштабах катастрофы. На экране сменяли друг друга картинки с Суматры, Таиланда, Мальдив: под ударом стихии оказалась вся юго-восточная Азия и острова Индийского океана. Потом пошли закольцованные любительские съемки надвигающейся волны и потоков жидкой грязи, сносившей целые дома и все, что попадалось на пути. Отныне о цунами заговорили так, словно это слово было известно испокон веку.
Мы поужинали в компании с Дельфиной, Жеромом и Филиппом, утром встретились с ними за завтраком, потом в обед; и так мы не расставались до самого возвращения в Париж. По их поведению нельзя было сказать, будто перед вами подавленные, убитые горем люди, которым все абсолютно безразлично. Они хотели вернуться домой вместе с телом дочери, и с первого же вечера ужасающая пустота, возникшая с ее гибелью, оказалась заполненной бесконечными хлопотами. Жером погрузился в них с головой, это был его способ выжить самому и поддержать жизнь в Дельфине. Элен помогала ему, как могла: предпринимала попытки связаться с их страховой компанией для организации репатриации всей семьи вместе с телом девочки. Это оказалось делом не простым: мобильная связь работала плохо из-за больших расстояний, разницы во времени и перегруженности линий. Вызовы зависали в режиме ожидания, приходилось минутами слушать умиротворяющую музыку и голоса с автоответчиков, а батареи телефонов безжалостно садились. Когда же, наконец, Элен попадала на живого человека, тот переключал ее на другую линию, снова звучала музыка или связь вообще обрывалась. В повседневной жизни подобные досадные помехи вызывали просто раздражение, но в чрезвычайных обстоятельствах они стали чудовищными и в то же время спасительными, потому что ставили задачу, требующую разрешения, облекали ход времени в физическую форму. Внешне все было просто: возникала проблема — Жером решал ее, Элен ему помогала. В то же время Жером не сводил глаз с жены. Взгляд Дельфины был устремлен в пустоту. Она не плакала, не кричала. Ела совсем мало. Ее рука дрожала, и все же она могла поднести ко рту вилку с рисом, приправленным карри. Прожевать еду. Опустить руку с вилкой. Начать все снова. Я смотрел на Элен и чувствовал себя этаким тюфяком, беспомощным и бесполезным. Я уже начал сердиться на нее за то, что она с головой ушла в чужие проблемы и перестала обращать на меня внимание, словно меня и не было.
Позже, когда мы бок о бок лежали в постели, я кончиками пальцев провел по соскам ее груди, но они не ответили на ласку, как бывало раньше. Мне хотелось сжать ее в объятиях, но я понимал, что это невозможно. Я знал, о чем она думает — думать о другом просто невозможно. В нескольких десятках метров от нас, в другом бунгало с открытыми глазами лежат в постели Жером и Дельфина. Обнимает ли он ее, или для них это тоже сейчас невозможно? Это первая ночь. Ночь после того дня, когда умерла их девочка. Утром она была жива, проснулась, забралась к ним на кровать поиграть, звала их папа и мама, весело смеялась; была воплощением всего самого прекрасного, теплого и сладкого на земле, а теперь ее больше нет. И не будет никогда.
С первого же дня нашего пребывания здесь я говорил, что мне не нравится отель «Ева Ланка», предлагал перебраться в один из небольших гостевых домиков на пляже. Они были не столь комфортабельны, зато напоминали мои путешествия автостопом двадцатипяти-тридцатилетней давности. На самом деле мои слова не следовало принимать всерьез: я сочинял байки про отсутствие электричества, дырявые противомоскитные сетки, ядовитых пауков, падавших вам на голову. Элен и дети визжали от восторга, смеялись над моими воспоминаниями старого бродяги, и эта игра стала для нас своего рода комическим ритуалом. Гостевые домики на пляже смыло волной, и вместе с ними большинство их обитателей. Я подумал, что и мы могли быть в их числе. У Жана-Батиста и Родриго имелась возможность ходить вниз на пляж, кроме того, программой клуба подводного плавания для нас были предусмотрены морские прогулки. И, наверное, Дельфину и Жерома теперь терзает одна мысль: «Нам следовало взять Джульетту с собой на рынок. Сделай мы так, и утром она бы снова забралась к нам на кровать. Весь мир вокруг нас был бы в трауре, но мы бы крепко обнимали нашу девочку и молились: „Слава Богу, она с нами, и это самое главное“».
~~~
Утром второго дня Жером сказал: «Пойду, проведаю Джульетту». Он словно хотел убедиться, что с ней все в порядке. «Иди», — ответила Дельфина. Жером ушел вместе с Филиппом. Элен предложила Дельфине купальник, и женщина долго плавала в бассейне, глядя прямо перед собой пустым взглядом. Вокруг бассейна собрались три-четыре семьи из числа пострадавших туристов, но они лишились лишь своих вещей и не осмеливались жаловаться на судьбу в присутствии Дельфины. Швейцарские немцы продолжали безмятежно плавать в своем аюрведическом тумане, словно ничего необычного вокруг них не происходило. К полудню Филипп и Жером вернулись в полной растерянности: Джульетты в госпитале Тангаллы не оказалось, ее перевезли куда-то в другое место. Одни говорили — в Матару, другие — в Коломбо. Трупов было слишком много, часть из них сжигали, часть эвакуировали, и уже появились слухи о вспышке эпидемии. В госпитале Жерому ничем не смогли помочь, ему лишь выдали клочок бумаги с несколькими наспех нацарапанными словами, своего рода расписку, которую служащий отеля смущенно перевел соболезнующим тоном: «…маленькая белая девочка, светловолосая, в красном платье».
Мы с Элен тоже отправились в Тангаллу. Водитель тук-тука оказался разговорчивым, и пока вез нас, успел рассказать, что погибло много народу, но его жена и дети, слава Богу, не пострадали. На подъезде к больнице нас накрыла волна тяжелого смрада. Не узнать его было просто невозможно. Трупы, много трупов, сказал водитель и, поднося к носу платок, посоветовал нам последовать его примеру. Во дворе больницы санитары в халатах и волонтеры из местных жителей на носилках переносили трупы и штабелями укладывали их в грузовик с брезентовым тентом. Скоро он уедет, и на его место станет другой.
Большой холл на первом этаже больницы теперь напоминал рыбный рынок. Бетонный пол был мокрым и скользким: его регулярно поливали водой, чтобы сохранить хоть какую-то прохладу. Прямо на полу длинными рядами лежали тела погибших, и этих жутких рядов я насчитал не меньше сорока. Трупы находились здесь со вчерашнего дня, многие раздулись от пребывания в воде, кожа посерела. Европейцев среди них не было. Вероятно, их эвакуировали в первую очередь, как Джульетту. Я никогда раньше не видел мертвых, и мне казалось странным, что жизнь щадила меня целых сорок семь лет. Не отнимая платка от носа, мы прошли по всем помещениям, потом поднялись на второй этаж. Порядка тут не было и в помине: посетители ничем не отличались от персонала, двери нигде не запирались, повсюду лежали вздувшиеся, серые трупы. В памяти тут же всплыли слухи об эпидемии и разговор с голландцем в отеле. Мой собеседник авторитетно утверждал: если немедленно не сжечь все трупы, санитарная катастрофа неизбежна. Разлагающиеся тела отравят воду в колодцах, крысы разнесут холеру по всем окрестным деревням. Я боялся дышать не только ртом, но и носом, словно отвратительный запах уже сам по себе был заразным. Невольно напрашивалась мысль: зачем мы пришли сюда? Посмотреть. Просто посмотреть. Элен оказалась единственной журналисткой на месте трагедии, вчера вечером она уже надиктовала одну статью, этим утром — вторую. При ней был фотоаппарат, но ей не хватало духа достать его. Она подошла к врачу, который едва держался на ногах от усталости, и задала ему несколько вопросов по-английски. Врач ответил, но мы его не совсем хорошо поняли.
Когда мы снова оказались во дворе, грузовика с трупами уже не было. За воротами, в тени огромного баньяна, возвышавшегося у края дороги, на высохшей колючей траве сидели какие-то люди, человек десять. Все белые, в изодранной одежде, испещренные порезами и синяками. О перевязке, похоже, никто даже не вспоминал. Когда мы подошли, они обступили нас, и в разговоре выяснилось, что каждый из них кого-то потерял: жену, мужа, ребенка, друга, но, в отличие от Дельфины и Жерома, они не видели их мертвыми и продолжали надеяться на лучшее. Первой свою историю рассказала Рут, рыжеволосая шотландка лет двадцати пяти. Она с мужем Томом снимала бунгало на пляже, они только что поженились, и это было их свадебное путешествие. Когда пришла волна, они находились на расстоянии десяти метров друг от друга. Рут подхватил бешеный поток, но ей удалось спастись, как Филиппу, и с тех пор она разыскивает Тома. Она искала его всюду: на пляже, среди развалин, в деревне, полицейском участке, потом узнала, что тела погибших свозят в больницу, и с тех пор безотлучно дежурит у ворот. Несколько раз Рут заходила на территорию больницы, наблюдала за разгрузкой и погрузкой грузовиков: одни привозили новые трупы, другие увозили тела на кремацию. Она не спала, не ела; люди из больницы советовали ей отдохнуть, обещали сообщить, если появятся новости, но она не желала уходить, она хотела быть здесь, с другими несчастными, а те не покидали этого скорбного места по той же причине, что и она. Очень скоро стало ясно: рассчитывать на хорошие новости не приходится. Но люди хотели быть здесь, когда из грузовика будут выгружать тело того или той, кого они любили. Рут находилась здесь со вчерашнего вечера и была в курсе всего происходящего. Она подтвердила, что тела европейцев незамедлительно переправляли в Матару, где было больше места и, говорят, имелась холодильная камера. Что касается тел местных жителей, то в больнице ждали, когда за ними придут родственники, но большинство семей, особенно рыбацких, жили почти у самой воды, поэтому выживших практически не было. И через день невостребованные трупы отправляли на костер. Все делалось как-то хаотически, наспех. Электричества не было, телефоны молчали, завалы на дорогах не давали проехать, и помощь извне прийти не могла, да и что это значит — извне, когда территорией бедствия стал весь остров? Беда коснулась всех без исключения; теперь те, кому повезло, ищут погибших родственников. Рут говорила это, хотя видела, что нас с Элен судьба пощадила. Мы были вместе, живы и здоровы, чисто одеты и никого не искали среди погибших. После визита в ад мы вернемся в отель, где нам подадут обед, искупаемся в бассейне и поцелуем детей с мыслью, что для нас все обошлось благополучно. Угрызения совести ни к чему хорошему не ведут, это пустая трата времени и душевных сил. Я прекрасно понимал это, однако же мучился и хотел лишь одного — чтобы все поскорее закончилось. Элен, напротив, не обращала на состояние души никакого внимания. Она делала то, что считала нужным, и ее не волновало, что кому-то ее помощь могла показаться смехотворной. Она была внимательной и конкретной, задавала вопросы, не упускала ни одной детали, которая могла оказаться полезной. Элен взяла с собой все наши наличные деньги и раздала их Рут и ее товарищам по несчастью. Она записала их имена, а также имена и приметы пропавших без вести: завтра она постарается съездить в Матару и поискать их там. Кроме того, она взяла у всех домашние телефоны, чтобы связаться с их родственниками в Европе или Америке и передать: я видела Рут, с ней все в порядке; я видела Питера, он жив и здоров. Элен предложила желающим отправиться с нами в отель: пока один-два человека будут тут дежурить, остальные смогут поесть, помыться, сходить к врачу, потом они вернутся и сменят своих товарищей. Однако никто не согласился пойти с нами.
Из всех белых, сидевших под баньяном у ворот больницы, я особенно хорошо запомнил Рут — больше всего мы разговаривали именно с ней, а потом встретились еще раз, — и полноватую, коротко стриженую англичанку среднего возраста, потерявшую свою подругу — «my girlfriend», как она говорила. Я живо представил себе пару стареющих лесбиянок, живущих в маленьком английском городке и занимающихся на досуге общественной деятельностью, их уютный, любовно обставленный дом, ежегодные поездки в дальние страны, аккуратные альбомы с фотографиями. А теперь все полетело в тартарары. Уцелевшая возвращается в пустой дом. На кухонном столе стоят кружки с их именами, только одной из них уже никто не воспользуется. Полная женщина прячет лицо в ладонях и беззвучно рыдает, понимая, что осталась одна, и ей суждено жить в одиночестве до конца своих дней.
Несколько месяцев после нашего возвращения домой Элен была одержима идеей связаться с людьми из той группы, узнать, что с ними стало, дождался ли кто-нибудь из них чуда… Но сколько ни ворошила она чемоданы, ей так и не удалось найти бумажки со своими записями, и нам пришлось проститься с мыслью узнать что-либо о судьбе тех людей. Воспоминание о получасе, проведенном с ними, я воспринимаю сегодня как отрывок из фильма ужасов: нас с Элен, чистых и хорошо одетых, окружает толпа одичавших мутантов, изъеденных проказой и радиацией. Еще вчера они были такими же, как мы, но потом с ними произошло нечто такое, что миновало нас, и теперь мы принадлежим к двум различным биологическим видам.
Вечером Филипп рассказал нам историю своей любви к Цейлону, куда он впервые приехал более двадцати лет тому назад. В те годы он работал программистом в пригороде Парижа и мечтал о дальних странах. Его коллега оказался ланкийцем, они подружились, и вскоре друг пригласил их к себе — Филиппа, его жену и Дельфину, в ту пору еще совсем маленькую девочку. Это было их первое семейное путешествие, и им понравилось абсолютно все: кишащие людьми городские улицы, свежесть гор, деревни на берегу океана, томящиеся под палящим солнцем, террасы рисовых полей, крики гекконов, крыши из желобчатой черепицы, лесные храмы, яркие рассветы и улыбки, манера есть руками рис, приправленный карри. Тогда Филипп подумал: вот она, настоящая жизнь, именно здесь мне хотелось бы жить. Однако это время еще не пришло: коллега-ланкиец уехал в Австралию, сначала они переписывались, но потом потеряли друг друга из виду, и контакт с волшебным островом прервался. Вскоре Филиппу надоело работать в пригороде. Он серьезно увлекся виноделием, а поскольку тогда компьютерщику не составляло труда устроиться на высокооплачиваемую работу там, где ему хотелось, он переехал в коммуну Сент-Эмильон. У него быстро появилась клиентура: крупные виноградари и оптовые закупочные центры — он модернизировал и обеспечивал безотказную работу их систем управления. Его супруга открыла небольшой магазин и, хотя в коммуне косо смотрели на чужаков, ее дела пошли в гору. Теперь они жили в сельской местности, в красивом доме посреди виноградников, занимались тем, что им нравилось, и хорошо зарабатывали. Перемены обоим пошли на пользу. Позже он встретил Изабель и без скандалов развелся с женой. К тому времени Дельфина подросла, стала прелестной, умной девочкой. Ей еще не исполнилось пятнадцати, когда она встретила Жерома и решила, что он будет мужчиной ее жизни. Жерому был двадцать один год, этот крепкий красивый парень происходил из семьи богатых потомственных виноторговцев. Они не допускали в свой круг людей, чьи доходы были существенно ниже принятых у них норм; но прошли годы, и когда на смену детским мечтам пришли серьезные отношения, завершившиеся помолвкой, Жером выдержал давление со стороны семьи, проявив зрелость и твердость характера: он любит Дельфину, она — его избранница, и никто не сможет повлиять на его решение. Филипп боготворил дочь и имел все основания считать, что едва ли кому-то из претендентов на ее руку удастся снискать его расположение. Но на этот раз между тестем и зятем проскочила искра взаимопонимания. Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте у них было много общего: обоим нравились марочные бордоские вина и «Роллинг Стоунз», Пьер Депрож и рыбалка, однако все затмевала Дельфина, и вскоре между мужчинами установились взаимоотношения закадычных приятелей. Молодожены поселились в деревне километрах в десяти от того места, где жили Изабель и Филипп, и обе пары стали неразлучными. По вечерам они собирались на ужин то у одних, то у других: Филипп и Жером по очереди доставали бутылки с вином и вслепую дегустировали благородный напиток, за едой болтали о всякой всячине, после десерта сидели в беседке из виноградных лоз, покуривали травку, слушали «Энджи» или «Сатисфэкшн». Они любили друг друга и были счастливы. В один из таких вечеров Филипп завел разговор о Шри-Ланке. Прошло уже восемь лет, но и он, и Дельфина хранили ностальгическую память об острове. Как-то раз осенью, сразу же после завершения сбора винограда, они ужинали в саду, пили «Шато-Магдолен» урожая 1967 года — того самого года, когда родился Жером, — и обсуждали возможность провести там отпуск всей компанией. Тогда-то Изабель подала замечательную идею: а почему бы сначала мужчинам не отправиться туда на разведку?
Пять недель путешествия по Шри-Ланке стали для Филиппа и Жерома незабываемым, волшебным приключением. С рюкзаками на плечах и путеводителем в кармане они колесили по острову без определенного маршрута, наугад садились в поезда, автобусы, тук-туки, посещали деревенские праздники, беседовали с местными жителями, одним словом, руководствовались своими сиюминутными желаниями. Филипп с гордостью показывал зятю свой остров. Правда, сначала его задевало, что спустя всего несколько дней Жером ориентировался в местной жизни лучше его самого, но вскоре досада уступило место законной гордости за зятя. Жером с его атлетическим телосложением, ровным характером и беззлобной иронией был, в моем представлении, идеальным спутником: он умел ждать, никогда не торопился, его нельзя было захватить врасплох, любые помехи он воспринимал спокойно, а в незнакомых людях видел возможных друзей. Филипп, более скромный по комплекции, непоседливый и словоохотливый, вертелся вокруг этой спокойной силы подобно тому, как его псевдо-двойник Пьер Ришар вокруг Жерара Депардье в «Папашах» или «Невезучих». В беседах с туристами на верандах гостевых домиков им, должно быть, нравилось удивлять людей, представляясь тестем и зятем.
Они двигались в южном направлении по прибрежной дороге, что вела от Коломбо до Тангалле. На такси этот путь занял у нас полдня, а им спешить было некуда — они неторопливо перебирались от одной деревни к другой, и чем дальше от столицы уводила их петляющая, истомленная солнцем дорога, тем больше жизнь на узкой полосе между прибоем и пальмами обретала райские, вневременные формы. Последним настоящим городом на этом берегу был Галле — бывшая португальская крепость, куда сорок лет тому назад случайно занесло Николя Бувье, и где он, как в аду, провел целый год в обществе термитов и иллюзий. Ни Филипп, ни Жером не имели ничего общего с преисподней и прошли весь путь, насвистывая любимые мелодии. После Галле оставалось лишь несколько рыбацких поселков — Велигама, Матара, Тангалле, и сразу за ним начинались пляжи Медакетии с горсткой домов из зеленого или розового кирпича, изъеденного соленой водяной пылью, кокосовыми пальмами, банановыми и манговыми деревьями. Спелые фрукты падают буквально вам на голову. На ослепительно белом песке пляжа в живописном беспорядке расположились яркие разноцветные пироги с балансиром, сохли рыбацкие сети, чуть дальше виднелись хижины, крытые пальмовыми листьями. Отелями здесь и не пахло, но некоторые хижины использовались как гостевые домики и принадлежали одному человеку, которого звали М. Н. Разумеется, у него имелось труднопроизносимое ланкийское имя по меньшей мере из двенадцати слогов — по твердому убеждению местных жителей только такое позволяет человеку существовать на земле в телесном облике, но чтобы облегчить жизнь туристам он просил называть его М. Н. На английский манер это произносилось, как «эмэйч». Медакетия и гостевой домик М. Н. были пределом мечтаний всех путешествующих пешком или автостопом. Пляж. Конец дороги. Место, где можно, в конце концов, отдохнуть. Улыбающиеся, бесхитростные местные жители. Туристов мало, да и те, что есть — индивидуалисты, люди спокойные, ревниво хранящие секрет. Филипп и Жером провели там три дня: купались, по вечерам ели рыбу, выловленную утром, пили пиво, забивали по косячку и поздравляли друг друга с успешной находкой: рай на земле все-таки существовал, и они его нашли. Оставалось только привезти сюда жен. Уезжая, они объявили М. Н., что скоро вернутся, на что тот вежливо ответил ланкийским эквивалентом «иншаллах». Однако на следующий год они приехали вчетвером, спустя год снова, и все последующие годы проводили отпуск только здесь. Постепенно их жизнь сформировалась вокруг оси Сент-Эмильон-Медакетия. И в первую очередь это относилось к Филиппу: из-за загруженности работой остальные приезжали на остров только в период отпусков, зато он проводил там три-четыре месяца в году, причем всегда останавливался у М. Н. Вскоре ланкиец стал их близким другом и один раз даже приезжал погостить к ним в Жиронду. Нельзя сказать, что та поездка вышла удачной: вдали от дома М. Н. чувствовал себя не в своей тарелке, к тому же, он остался равнодушным к лучшим маркам бордоских вин. Из гостевого домика Филипп перебрался в другое бунгало — М. Н. сдал его на целый год — и с помощью Изабель переоборудовал новое жилище на свой вкус. Теперь в Медакетии у них были не только друзья, но и свой дом. Все местные жители их знали и любили. Потом родилась Джульетта и ее, совсем еще малютку, привезли в Медакетию. У М. Н., имевшего взрослых дочерей, на склоне лет тоже случилось пополнение семейства: жена родила ему девочку. Ее звали Осанди, она была старше Джульетты на три года и очень скоро научилась ухаживать за ней: для нее малышка была сестричкой.
Больше всего Филипп любил приезжать в Медакетию за месяц до прибытия остальных. Он наслаждался одиночеством и жил ожиданием семьи: любимой супруги, замечательной дочери с мужем, ставшим ему лучшим другом, и внучки, как две капли воды похожей на мать в таком же возрасте. Что ни говори, его жизнь сложилась, как надо, лучше не пожелаешь. В нужный момент он умел идти на риск — переехал в Сент-Эмильон, сменил профессию, развелся, — но никогда не гонялся за несбыточными мечтами, не причинял боль близким, а теперь уже и не стремился к покорению каких-то немыслимых вершин. Теперь он наслаждался тем, чего достиг — счастьем. У них с Жеромом была еще одна общая черта, весьма редкая среди молодых мужчин его возраста — слегка насмешливый беззлобный взгляд на людей, которые суетятся, доводят себя до стресса, плетут интриги, рвутся к власти и возвышению над ближними. Амбициозные, вечно неудовлетворенные людишки, строящие из себя больших начальников. Жером и он сам принадлежали, скорее, к иной категории людей, к тем, кто умел хорошо работать и, получив за свой труд положенное вознаграждение, спокойно пользовался заработанными деньгами, вместо того, чтобы метаться в поисках приработка. Они имели все, что нужно для счастья, и были довольны своей судьбой, чем далеко не каждый может похвастаться, но главное — они были достаточно благоразумны, чтобы довольствоваться тем, что имеют, и не желать большего. Умение жить без угрызений совести и суеты, поддерживать ленивый треп в тени баньяна, попивая при этом холодное пиво — дар свыше. Нужно возделывать свой сад. Ловить момент. Чтобы жить счастливо, нужно жить замкнуто. Филипп сформулировал свой принцип несколько иначе, но я понял его именно в такой трактовке, и пока он говорил, ловил себя на мысли, что страшно далек от такого благоразумия: я не доволен жизнью, постоянно нахожусь в стрессовом состоянии, жажду славы и никого не люблю — мне все кажется, что в другом месте, не сегодня-завтра найду кого-нибудь получше.
Филипп думал: я нашел место, где хочу жить и где хочу умереть. Я привез сюда свою семью и здесь нашел вторую, ибо семья М. Н. стала для меня такой же родной. Когда я сижу, закрыв глаза, в плетеном кресле, когда чувствую под босыми ступнями деревянный настил террасы перед бунгало, когда слышу, как шуршит по песку метла из пальмового волокна, которой М. Н. каждое утро подметает свой дворик, этот звук, такой знакомый и такой успокаивающий, говорит мне: ты дома. Ты у себя дома. Покончив с уборкой, М. Н. придет ко мне, невозмутимый и важный в своем ярко-красном саронге. Мы выкурим по сигарете и перекинемся парой малозначащих фраз, как старые приятели, привыкшие понимать друг друга без лишних слов. Я думаю, что стал настоящим ланкийцем, сказал однажды Филипп, и вспомнил дружеский, но вместе с тем слегка ироничный взгляд М. Н.: мол, думай, думай… Тогда это его задело, но в то же время послужило уроком. Да, он стал другом, но при этом остался иностранцем. Что бы он там ни думал, его жизнь была не здесь.
Сегодня Филипп мог бы думать иначе: моя внучка умерла в Медакетии, наше счастье развеялось в один миг, я больше и слышать не хочу о Медакетии. Но он так не думал. Теперь он мог доказать мертвому М. Н., что его жизнь была именно здесь, среди них, что он один из них, и после счастливых дней, прожитых вместе, он не оставит их в беде, не бросит через плечо: счастливо оставаться, может, еще увидимся… Он думал об уцелевших домочадцах М. Н., об их разрушенных домах, о домах соседей-рыбаков, и говорил сам себе: я должен остаться с ними, помочь им отстроиться и начать жизнь заново. Филипп хотел быть полезным, разве мог он поступить иначе?
Никто не знал, когда мы сможем отсюда уехать. Никто не знал, куда увезли тело Джульетты: то ли в Матару, то ли в Коломбо. Жером, Дельфина и Филипп не уедут без нее, а мы не уедем без них. Матара находилась слишком далеко, и на тук-туке туда не добраться, но за завтраком хозяин отеля сообщил, что в ту сторону поедет полицейский грузовик, и ему удалось уговорить полицейских взять с собой Жерома. Элен тут же предложила составить ему компанию, и он согласился. Я думаю, мне стоило возразить: мол, это мужское дело, но я лишь проводил их взглядом, испытывая, к своему стыду, необъяснимую ревность. Я чувствовал себя ребенком, которого взрослые оставили дома, чтобы он не мешал им заниматься серьезными делами. Как Жан-Батист и Родриго: вот уже двое суток мальчишки были предоставлены сами себе. Мы занимались Филиппом, Дельфиной и Жеромом, а на собственных детей времени уже не оставалось. Они целыми днями сидели взаперти в своем бунгало, перечитывая старые, затертые до дыр комиксы. Мы виделись лишь за едой, мальчики дулись на нас, отмалчивались, дисциплина падала на глазах. Я их понимал: чертовски трудно сидеть в четырех стенах и терпеть чрезмерную опеку со стороны взрослых, когда вокруг происходят такие невероятные события, а ты не имеешь права принять в них участие. Я подумал: еще неизвестно, что хуже — вид трупов или шоры на глазах. Во всяком случае, Жан-Батист был достаточно взрослым, чтобы пойти со мной в деревню. Филипп, поглощенный своими планами по оказанию помощи местным жителям, как раз собирался туда, чтобы самостоятельно оценить обстановку. Я не решался оставить Родриго на попечение Дельфины, но она сказала, что мне не о чем беспокоиться, и мы отправились в путь.
Тук-тук приближался к больнице, и хотя до нее было еще далековато, запах смерти явственно витал в воздухе. Группу пострадавших туристов я заметил еще издалека. Они медленно кружили под баньяном, и у меня снова возникло ощущение, будто я снимаюсь в фильме про зомби в роли человека, выжившего в какой-то катастрофе, и еду в машине мимо группы живых мертвецов, провожающих меня пустыми взглядами. По широкой, на удивление безлюдной улице мы добрались до рыночной площади, где Филипп сообщил Жерому и Дельфине о смерти Джульетты, оттуда спустились на пляж Медакетии — безжизненное пространство, покрытое черной вонючей грязью, из которой торчали остовы лодок, развалины домов, отдельные штакетины поваленных заборчиков, вывороченные с корнями деревья. Кое-где виднелись уцелевшие стены домов. Среди руин копошились люди, время от времени выуживая из грязи то помятый таз, то обрывки рыболовной сети, то выщербленную тарелку. Филиппа все узнавали, подходили к нему, обнимались, плакали и на ломаном английском обменивались последними новостями. Главным образом, именами погибших. Ничего нового Филипп им не сообщил: о смерти Джульетты, Осанди и М. Н. всем уже было известно. Но он не знал, как сложилась судьба соседей, и лишь жалобно стонал на ланкийский манер, заслышав имя очередной жертвы стихии. Филипп не хвастался, когда говорил, что знает здесь всех, и все считают его своим. Этих ланкийских рыбаков он оплакивал, как собственных родственников. Каждому из уцелевших он говорил, что сейчас ему необходимо уехать с Дельфиной и Жеромом, но вскоре он вернется, найдет деньги и вернется уже надолго, чтобы помогать им восстанавливать разрушенное стихией. Казалось, для Филиппа было очень важно произносить, а для них слышать эти слова, во всяком случае, его обнимали пылко и искренне, как родного. Мы пробирались между развалинами, останавливаясь, чтобы перекинуться словами с теми, кому повезло остаться в живых, и наконец, вышли к участку М. Н. От гостевого домика ничего не осталось, а на том месте, где находилось бунгало, арендованное Филиппом, виднелись только покореженные половые доски, бак от душа, и остаток стены, расписанный яркими пальмами, рыбами, лодками… Эту фреску Дельфина с Джульеттой сделали в прошлом году. Трехлетняя Джульетта страшно гордилась тем, что помогает матери. Филипп сел перед стеной посреди развалин. Мы с Жаном-Батистом отошли в сторонку и смотрели на него издали. «А ты бы поступил, как он, окажись на его месте?» — внезапно спросил Жан-Батист. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, если бы погибла твоя четырехлетняя дочка или мы с Габриэлем, твои сыновья, ты бы стал помогать рыбаками Медакетии?» Я в нерешительности медлил с ответом. «Как по мне, — нарушил молчание Жан-Батист, — то я бы, наверно, наплевал на местных рыбаков». Поразмыслив, я сказал, что стремление помочь — либо свидетельство исключительного благородства, либо общее для всех правило выживания, и что последнее представляется мне более предпочтительным. Более человечным, что ли. В какой-то момент возникает ситуация, когда нет ничего более естественного, чем думать о себе. Я не верю, что человек, у которого погиб ребенок, будет беспокоиться о человечестве в целом, точно так же я не верю, что Филипп и Жером озабочены судьбами человечества, на мой взгляд, главное для них — пережить смерть Джульетты и спасти Дельфину.
Вернувшись в отель, я попытался связаться с Элен по мобильнику, но она не отвечала. К завтраку ни она, ни Жером не появились. Мы подождали немного, и позавтракали без них. На протяжении двух последних дней владельцы отеля проявили себя с наилучшей стороны: размещали и кормили всех, кто добирался до отеля, к оставшимся без гроша беженцам относились с таким же вниманием, как к платежеспособным постояльцам. Из-за отсутствия снабжения запасы продовольствия таяли, меню становилось все более скромным, однако в обращении с гостями обслуживающий персонал сохранял церемонную почтительность, свойственную ему до катастрофы. Я нервничал, сидел, как на иголках, и постоянно поглядывал на часы. Я бы ни за что в жизни не признался в истинной причине своего беспокойства, но правда заключалась в том, что моя женщина отправилась невесть куда с другим мужчиной. Двумя днями раньше я считал ее неинтересной и утратившей былой пыл, теперь же она представлялась мне персонажем романа или приключенческого фильма, прекрасной и отчаянной журналисткой, демонстрирующей свои лучшие качества в самый разгар событий. Но, увы, не я был героем этого романа или фильма. Я выступал, скорее, в роли мужа-дипломата, ироничного, уравновешенного, идеально вписывающегося в атмосферу коктейлей и дипломатических приемов, но, случись красным кхмерам окружить посольство, он теряется, уступает другим право принимать решения, и тогда его жена с другим мужчиной идет на линию огня, бросает вызов опасности, смотрит смерти в лицо. Ожидание становилось все более тревожным и, чтобы как-то отвлечься, я попытался читать «Рыбу-скорпион». Книга раскрылась на главе, где Матара упоминается, как деревня, населенная чрезвычайно опасными колдунами, и мне в глаза бросилась фраза: «Если бы человек знал, что его ожидает, он бы никогда не осмелился чувствовать себя счастливым». Я никогда не осмеливался, поэтому сказанное меня не касалось. Я сыграл партию в шахматы с Жаном-Батистом, порисовал с Родриго всяких жутких монстров: лист бумаги перегибался таким образом, чтобы партнер по игре не видел, что на нем уже нарисовано. Эта игра в духе сюрреализма называлась «очаровательный труп»[6], и когда Родриго громко произнес это выражение, я смутился и дал ему понять, что надо говорить тихо. Он тут же сообразил, что к чему, и бросил обеспокоенный взгляд на Дельфину. Спустя какое-то время я завязал с ней разговор, и она рассказала о своей жизни в Сент-Эмильоне. Она всегда любила природу, ей даже в голову не приходила мысль переехать из сельской местности в город. Дельфина никогда не стремилась к самоутверждению или независимости через работу: она была неработающей молодой матерью, свободной от всяческих комплексов, и совершенно нормально воспринимала традиционное распределение ролей в семье: Жером зарабатывал деньги, она занималась ребенком, домом, садом, всякой живностью. Малышка Джульетта обожала домашних животных, особенно кроликов, и сама кормила их, не доверяя эту работу никому. Каждый день Жером приходил домой обедать. Он неторопливо беседовал с женой, наслаждался приготовленной ею пищей, играл с дочкой. Да, он работал, но в своем ритме, всегда открытый для общения с ними, тестем и несколькими близкими друзьями. Клиенты, с которыми ему приходилось общаться по работе, в некотором смысле расширяли этот семейный круг, пропитанный светлой атмосферой радости и счастья. Слушая Дельфину, я смотрел на нее и видел перед собой светловолосую, привлекательную молодую женщину, чем-то похожую на ребенка. По словам отца, она была похожа на Ванессу Паради или скорее, и он подчеркивал этот нюанс, Ванесса Паради была похожа на его дочь. Оно-то так, но, на мой взгляд, у Ванессы было больше сходства с малышкой Джульеттой, хотя я видел ее всего один раз, да и то мельком. Я пытался представить себе их жизнь, такую безмятежную и так не похожую на мою. Дельфина говорила тихим, спокойным голосом, но это было спокойствие сомнамбулы, и все глаголы в ее речи имели форму прошедшего времени.
Спустя некоторое время в отеле появилась Рут. После двух суток, проведенных у ворот больницы без пищи и отдыха, она так ослабела, что ее пришлось привести сюда чуть ли не силой. Ей предложили бутерброд, но она к нему даже не прикоснулась. Самый старший из итальянцев-владельцев отеля пришел сообщить, что ей приготовили комнату. Он мягко, но настойчиво уговаривал ее пойти прилечь и хоть немного поспать, но Рут лишь качала головой. Дежуря под баньяном, она не хотела уходить со своего поста. Теперь, когда ее забрали оттуда и посадили в кресло, она не хотела покидать его, во всяком случае, не для того, чтобы пойти спать. Ей казалось, что Том не сможет вернуться, если она вдруг заснет. Чтобы он вернулся, она должна оставаться на ногах. Она хотела лишь одного: вернуться на пляж, сесть на том месте, где их разлучила волна, где находилось их бунгало, и ждать, глядя на горизонт, когда живой Том выйдет из океана. Рут говорила, сидя с выпрямленной спиной, как во время медитации, и, глядя на нее, можно было легко представить, как она без еды и сна сидит на пляже день за днем, неделя за неделей, ее дыхание становится все тише и медленнее, и постепенно она превращается из живого человека в статую. Ее решимость пугала, казалось, она в любой момент может переступить черту, отделявшую ее от кататонии, и мы с Дельфиной понимали: наша задача — помешать этому любой ценой. Прежде всего, следовало убедить Рут, что Том погиб, утонул, как все остальные, и уже не вернется. Прошло два дня, и сомневаться в этом не приходилось. Дельфина рассказала ей свою историю, надеясь помочь Рут, как Жером помог ей самой. Она сказала то, чего я раньше от нее не слышал, она сказала, что ее малышка умерла. На своем школьном английском Дельфина произнесла: «Му little girl is dead». Рут задала ей только один вопрос: «Ты видела ее мертвой?» У Дельфины не было выбора, она ответила «да», на что Рут возразила: «Тогда это не мой случай. Я не видела Тома мертвым, а раз так, то для меня он по-прежнему жив. Поверить в его смерть, значит убить его». До Рут доходила лишь малая толика сказанного, но ее удалось разговорить, а значит — установить связь. Она была социальным работником, он — плотником. Рут отказывалась верить в его смерть, но сказала: «Не was a carpenter». Прошедшее время несовершенного вида начало потихоньку разъедать ее фразы. Они знали и любили друг друга с юношеского возраста. Осенью они поженились и на следующий день после свадьбы отправились в кругосветное путешествие продолжительностью в год. После возвращения молодые планировали завести первого ребенка — всего им хотелось иметь трех детей — и построить свой дом. Они залезли в долги и купили в небольшой деревеньке неподалеку от Глазго земельный участок с развалинами какого-то каменного сарая. Том сказал, что обязательно восстановит его, хотя на это потребуется время, возможно года два, поскольку работать там он сможет лишь в свободное время, и эти два года они поживут в трейлере. Там же пройдет первый год жизни ребенка, но потом у их детей и у них самих появится дом — настоящий, собственный дом, какого в детские годы не было ни у кого из них, выходцев из сельских семей, оторванных от земли и безнадежно затерявшихся в городе. У Тома и Рут было много общего, их судьбы складывались почти одинаково и, послушав Рут, становилось ясно, что им приходилось несладко. Обоих пугала перспектива пускаться в самостоятельную жизнь в одиночестве, но они нашли друг друга и поклялись оставаться вместе в горе и радости, поддерживать друг друга, что бы ни случилось. Вместе они были сильны, строили планы на будущее, и разрушить их не могла никакая волна. Но прежде чем с головой окунуться в предстоящие хлопоты, прежде чем дети, работа, отпечатки пальцев, собственность, обзавестись которой они рассчитывали, привяжут их к одному месту, молодые решили воспользоваться годом свободы, чтобы повидать бескрайний мир, один на двоих. Потом они возьмутся за работу, забудут про отдых и развлечения. Бесконечной, вязкой чередой потянутся трудовые дни в шотландской деревне под промышленным пригородом Глазго, где девять месяцев из двенадцати идут унылые дожди. Но до этого будет нечто иное: кругосветное путешествие, рюкзаки за спиной, автовокзалы, тропические закаты и рассветы, случайные подработки в пути, чтоб пополнить худеющий кошелек: месяц мытья посуды в одной из пиццерий Измира, второй — работа на судостроительной верфи на юге Индии. И фотографии, воспоминания — все то, что останется с ними на всю жизнь. Они уже представляли себя, постаревших, — в доме, построенном Томом, в том самом доме, где вырастут их дети и где появятся внуки, — перебирающими свидетельства самого большого приключения их молодости. Но, если Тома с ней не будет, то не будет ни воспоминаний, ни планов. Молодость Рут закончилась, а старость перестала казаться привлекательной. Большая волна унесла с собой ее будущее вместе с прошлым. Теперь у нее не будет ни дома, ни детей. И не стоит говорить ей, что в двадцать семь лет жизнь не заканчивается, что со временем она снимет траур, встретит другого человека и начнет все сначала. Если Том умер, Рут тоже не стоит жить.
Слушая ее, я думал: эта женщина потеряла все, но главное — у нее все было, по меньшей мере, то, что имело для нее ценность. Любовь, желание продлить и сохранить ее и, конечно, вера — эта любовь будет вечной. И я завидовал ее богатству, хотя любовью обделен не был. До сего дня я даже представить себе не мог такой жизни с женщиной. Мне никогда в голову не приходило, что я могу состариться рядом с моей нынешней подругой, что когда-нибудь она закроет мне глаза или я сам окажу ей эту последнюю услугу. Я подумал, что следующей будет домработница, хотя сомневаюсь, что с таким, как я, у нее что-нибудь получится. Скорее всего, следующей просто не будет, и я закончу свои дни в одиночестве. Перед катастрофой мы с Элен собирались расстаться. В очередной раз любовь таяла, как туман, а я не знал, как сохранить ее. И когда Рут тихим, бесцветным голосом стала рассказывать, как в старости они будут вместе перебирать фотографии своего свадебного путешествия, я замолк и отошел в сторону, пытаясь представить, что станет эквивалентом таких фотографий для нас с Элен. Несколькими месяцами раньше завершились съемки фильма по моему роману «Усы». В ходе подготовительных работ и съемки нам с Элен часто приходилось ночевать среди декораций — в квартире супругов, роли которых исполняли Венсан Линдон и Эммануэль Дево. Мы испытывали тайное наслаждение от того, что спали в постели героев фильма, пользовались их ванной, а утром торопливо расставляли по местам реквизит, стараясь успеть до приезда съемочной группы. В сценарии имелась эротическая сцена, и я хотел сделать ее как можно более откровенной. Обеспокоенные актеры регулярно спрашивали, как я буду снимать ее, и я уверенно отвечал, что на этот счет у меня есть кое-какие идеи, хотя на самом деле не было никаких. Согласно рабочему плану на съемку сцены № 39 отводилась целая ночь. И с приближением этой ночи я тоже стал испытывать растущее беспокойство. Однажды вечером, когда мы с Элен остались одни среди декораций, она, будучи в курсе моих тревог, предложила отрепетировать эту сцену нам самим и, тем самым, снять возможные вопросы. Две ночи подряд мы усердно репетировали перед видеокамерой, установленной на штативе, что-то изменяли, дополняли, по-настоящему вкладывая в работу душу Когда пришло время, сцена была снята по-настоящему и получилась очень даже неплохо, но при окончательном монтаже ее вырезали, а актерам в шутку объявили, что ее используют в качестве бонуса для DVD дисков. На самом деле, для этой цели куда лучше подошли бы две кассеты домашнего порно, хранящиеся в ящике моего письменного стола и помеченные на этикетках безобидными надписями: «Пробы, улица Рене-Буланже». И когда мы с Дельфиной слушали в баре отеля «Эва Ланка» рассказ Рут о Томе и их любви, я подумал, что эти две кассеты могли бы стать настоящим сокровищем, останься мы с Элен вместе на всю жизнь. Я представил, как мы сидим перед экраном, глядим на наши некогда молодые, сильные, красивые тела, и рука Элен, испещренная коричневатыми старческими пятнышками, ложится на мой стариковский член, верой и правдой служащий ей вот уже тридцать лет. Образ, возникший перед моим внутренним взором, буквально потряс меня, и неожиданно подумалось: нужно постараться, чтобы так и случилось, если я должен чего-то добиться, пока жив, то это именно то, что надо.
Глаза Элен и Жерома лихорадочно блестели, как у солдат-новобранцев, понюхавших пороха и вернувшихся домой живыми. Жером сообщил Дельфине только то, что Джульетту из Матары перевезли в Коломбо, и он постарается предпринять все возможное, чтобы они могли отправиться туда как можно скорее. Я хотел увести Элен в наше бунгало, где она могла бы отдохнуть и рассказать о поездке, но она отмахнулась — потом. Ей хотелось пообщаться с Рут: при встрече женщины обнялись, словно были знакомы уже давным-давно. Несмотря на усталость, Элен прямо-таки сияла. Мы собрались вокруг Рут в надежде найти способ помочь ей. Вырвать из лап чудовищной, гипнотизирующей пустоты. Спасти. Элен снова спросила, звонила ли она родителям в Шотландию. Рут покачала головой — зачем? Элен настаивала: нужно позвонить. Ведь родные могли страдать так же, как страдала она сама, ничего не зная о судьбе Тома. Она не имеет права держать их в безвестности. Но Рут упиралась: ей не хотелось признавать, что Тома больше нет. Элен не отступала: не говори, что он погиб, скажи только, что ты жива и здорова. Можешь вообще ничего не говорить; если хочешь, я сама пообщаюсь с ними, только дай мне номер телефона. После непродолжительного молчания Рут, ни на кого не глядя, одну за другой выдавила из себя цифры. Пока Элен набирала номер на своем мобильнике, я подумал о разнице во времени — в кирпичном коттедже в пригороде Глазго телефонный звонок раздастся глубокой ночью, но едва ли он кого-нибудь разбудит: сомневаюсь, чтобы в доме родителей Рут кто-нибудь смыкал глаза за последние трое суток. Набрав номер, Элен протянула телефон Рут. Далеко-далеко кто-то снял трубку. Рут сказала: «It’s me», потом: «I am ОК». И все. Ей что-то говорили, она слушала. И у нас на глазах расплакалась. Слезы текли у нее по щекам, словно открылись невидимые шлюзы, затем плач превратился в рыдания, сотрясавшие ее окаменевшее тело. А потом сквозь рыдания прорвался смех, и она сказала: «Не is alive». Мы чувствовали себя так, словно стали свидетелями воскрешения. Отвечая своему собеседнику, Рут произнесла еще несколько коротких фраз и протянула телефон Элен. Покачивая головой, она вполголоса повторила для себя, для нас, для земли и неба: «Не is alive». И повернулась к Дельфине. Та сидела рядом и тоже плакала. Рут заглянула ей в глаза, положила голову на плечо, и обе женщины обнялись.
Ночью Элен рассказала мне, как они с Жеромом добирались до Матары. До города было не очень далеко, но приходилось постоянно объезжать поврежденные участки дороги, подбирать и высаживать голосовавших людей, подолгу стоять перед мостами в ожидании, когда откроют проезд: на всех реках продолжали вылавливать трупы. По пути грузовик миновал дайверский клуб, куда мы собирались отправиться в тот роковой день, когда пришла волна: от здания клуба и примыкавшего к нему лагеря отдыха не осталось ровным счетом ничего. Элен спросила у полицейского, что стало с сотнями клиентов, и тот с тяжелым вздохом ответил: «All dead». Клиника в Матаре оказалась крупным учреждением — больница в периферийной Тангалле не шла с ней ни в какое сравнение, на обработку сюда привозили гораздо больше трупов, и запах смерти ощущался сильнее, чем накануне. Элен и Жерома провели в холодильную камеру: штук двадцать ячеек занимали тела погибших с европейской внешностью. «ВИП-зона», — мрачно буркнул Жером, его юмор становился все более и более вымученным. Служитель открывал ячейки одну за другой. Элен не могла сказать, чего опасалась больше: увидеть Джульетту или убедиться, что ее здесь нет. Ни в одной из ячеек тела девочки не оказалось. Жером и Элен обшарили клинику сверху донизу. Каждому встречному Жером совал под нос листок с описанием внешности Джульетты. В ответ люди сочувственно кивали и скорбным жестом показывали на серые вздувшиеся трупы, лежавшие на полу: смотрите, ищите. За час они осмотрели всю клинику и, не имея плана дальнейших действий, пребывали в полной растерянности. Кто-то посоветовал им заглянуть в офис, куда стекалась информация о жертвах катастрофы, поступавших в клинику. На экране компьютера в режиме слайдшоу мелькали фотографии погибших, которых из Матары отправляли в другие места. Перед монитором, сбившись в тесную группку, стояли человек шесть-семь ланкийцев, но они расступились, чтобы дать место Элен и Жерому. Их, должно быть, приняли за супружескую пару. Красивую пару: высокий мужчина в белой рубашке, с кучерявой шевелюрой, небритый, и женщина с великолепной фигурой, одетая в белые брюки и тенниску с короткими рукавами. На лицах обоих застыла печать тревоги и горя. Ланкийцам хватало своих бед и волнений, но эти европейцы вызывали у них чувство симпатии и желание оказать хоть какую-то помощь. Жером описал внешность дочери служащему за компьютером, но тот мало что понял и продолжал демонстрировать тягостное слайдшоу. На экране мелькали лица мужчин, женщин, детей, стариков, местных жителей и белых — изуродованные, распухшие, с открытыми или закрытыми глазами. Одно лицо сменяло другое, задерживаясь лишь на пару секунд, и вдруг на мониторе появилось фото Джульетты. Элен стояла рядом с Жеромом и видела, какими глазами он смотрел на снимок своей мертвой дочери. Слайдшоу продолжалось, образ Джульетты сменила следующая фотография. И тогда Жером пришел в себя. Словно обезумев, он бросился к компьютеру, требуя вернуть предыдущий снимок. Служащий щелкнул мышкой и пробежал глазами сопроводительную запись: Джульетты здесь не было, еще вчера ее перевезли в Коломбо. На экране появилось другое лицо, Жером снова всполошился и потребовал, чтобы вернули предыдущий снимок: он не мог отвести глаз от монитора, не мог расстаться с образом своей Джульетты. Служащий дважды кликнул мышкой, отменяя режим автоматического слайдшоу. Жером с отчаянием вглядывался в личико дочери, ее белокурые локоны и круглые загорелые плечики под бретельками красного платьица.
Каждый раз, когда появлялось следующее фото, он умолял: «Again! Again, again…» Я пишу эти строки и думаю о нашей собственной дочурке Жанне. С недавних пор она выучилась говорить «еще!» и теперь постоянно требовала, чтобы ей помогли попрыгать у нас на коленях или на кровати. Как поступила Элен, чтобы вывести Жерома из тупика? Взяла за руку и сказала: «Ну, все, пошли, пора возвращаться»? Что произошло между ними на обратном пути? В ее рассказе оставались белые пятна, и проливать на них свет она не собиралась. Конечно, она устала, перенервничала, однако я понимал: если она чего-то недоговаривает, то это продиктовано ее нежеланием сознаться в отвратительной и неуместной близости с Жеромом, и мысль об этой близости причиняла мне мучительную боль.
Выехать в Коломбо мы могли только через день. Делать было нечего, мы томились тягостным ожиданием и практически не виделись с посторонними — я почти не помню ни клиентов отеля, ни тех несчастных, что уцелели при катастрофе и нашли приют у гостеприимных хозяев «Эва Ланки». Швейцарские аюрведисты и Лени Рифеншталь, продолжавшая свои ежеутренние заплывы в бассейне, по-прежнему держались особняком и даже питались отдельно от всех, так что их практически не было видно. В ближайших к нам бунгало разместились супружеские пары из Израиля и Франции. У израильтян была девочка примерно того же возраста, что и Джульетта, и родители не спускали с дочки глаз, понимая, что ее могла постигнуть та же страшная участь. Что касается французской семейки, то она нам сразу не понравилась: парочку больше всего беспокоило, что станет с их кредитными карточками, попади они в руки нечестных людей, не говоря уж о наличных деньгах, на которых, как говорили супруги, умиляясь собственной щедрости, они уже поставили крест. Не сомневаюсь, что они испытывали неприязнь к Дельфине и Жерому: по сравнению с горем соотечественников потеря кредиток выглядела просто смехотворной. Как бы там ни было, мелочная парочка старательно избегала встреч с родителями погибшей девочки. Дождавшись, когда тех не окажется поблизости, эти жлобы бросались к Элен или ко мне, с наших мобильников звонили в свою страховую компанию и с пеной у рта требовали, чтобы за ними немедленно выслали вертолет.
На следующий день хозяева отеля предложили Жерому выехать в Коломбо. Микроавтобус вмещал, — если потесниться, — до дюжины пассажиров, и часть вечера ушла на распределение мест между желающими уехать. Через день-два предполагался еще один рейс, но уверенности в этом было мало: большинство транспортных средств на побережье власти реквизировали для проведения спасательных работ, не хватало топлива, поэтому упускать представившуюся возможность не следовало. Ввиду семейной трагедии безоговорочным правом на отъезд пользовались Жером, Дельфина и Филипп. С первого же дня мы были настолько близки с ними, что наш отъезд также рассматривался, как нечто само собой разумеющееся. Жан-Батист и Родриго изнывали от топтания между бунгало, рестораном и бассейном, и известие об отъезде встретили с облегчением. Из разговора с родителями Рут узнала, что Том ранен и находится в больнице маленького городка, расположенного в горах километрах в пятидесяти от моря. Местные терялись в догадках, каким образом он мог там оказаться. В силу того, что большие участки прибрежного шоссе оказались разрушены, попасть в Коломбо можно было только через внутренние районы острова, поэтому было решено взять с собой Рут и, сделав небольшой крюк, доставить ее к мужу. В микроавтобусе оставалось еще четыре места, и администрация отеля предложила их жлобскому французскому семейству, к счастью, «сладкая парочка» отказалась: либо ее раздражало соседство с соотечественниками в трауре, либо она по-прежнему рассчитывала на вертолет страховой компании.
Насколько я помню, к нашей компании, собравшейся на последний ужин, присоединились Рут и Жан-Батист, что несказанно поразило меня в его поведении за прошедшую неделю. Этот ужин проходил под знаком некой эйфории — лихорадочной и трагической, но эйфории. Мы выпили много пива и вина — того, что можно найти в винной карте любого ресторана на юге Шри-Ланка. Это было нечто вроде «божоле нуво» пятилетней выдержки тамильского разлива и к тому же отдающее пробкой. За неимением лучшего нам пришлось выпить несколько бутылок этой жуткой бурды, ставшей объектом насмешек Филиппа и Жерома, ценителей лучших бордосских вин. Им хватило одного лишь вида загадочной этикетки, чтобы разразиться ядовитыми критическим замечаниями. В ход пошли все известные им приколы и шутки: чернила и рок-н-ролл, послевкусие яблок «шато-белая лошадь», анекдоты про Кейта Ричарда… Заодно перепало и швейцарским аюрведистам. Стоило кому-то из них оказаться поблизости, как не на шутку разошедшийся Жером со смехом издевательски интересовался: все в порядке? Вашу безмятежность ничего не потревожило? Далеко ли продвинулись по пути к освобождению? Хорошо, ребята, просто отлично, продолжайте в том же духе! Но не только язвительность отличала его в тот вечер: Жером от чистого сердца поднял бокал за воскрешение Тома и заставил выпить всех, чем заметно смутил Рут. Всего несколькими часами раньше она тонула в бездне своего горя, вдалеке от мира живых, и не замечала вокруг себя никого: для нее существовал только мертвый Том, и она сама, решившая умереть. Но после чуда с телефонным звонком она снова стала такой, какой была всю жизнь — молодой симпатичной девушкой, разделяющей боль людей, поддержавших ее в тяжелую минуту. Однако это не имело отношения к сумасшедшей активности Жерома. Он ничего не ел, только пил, курил, смеялся и вызывающе громко разговаривал, не позволяя тишине повиснуть над столом. Нужно было держаться, и он держался. Он все терпел, поддерживал нас и увлекал всех за собой. В то же время, Жером краешком глаза следил за Дельфиной, и я тогда подумал: это и есть настоящая любовь, пет ничего прекраснее, когда мужчина по-настоящему любит свою избранницу. А Дельфина с отсутствующим видом глядела перед собой и хранила молчание. Казалось, будто Жером и Филипп, во всем поддерживавший зятя, исполняли вокруг нее некий священный танец и беспрестанно взывали: не уходи, умоляем, останься с нами. Рут, сидевшая рядом с ней, несколько раз робко брала ее за руку, словно не имела на это права, и в то же время нежно, ибо, не смотря ни на что, такое право у нее было.
Время было позднее, ужин подходил к концу. Родриго, валившийся с ног от усталости, устроился на коленях Элен и, как маленький мальчик — впрочем, таким он и был на самом деле, — положил голову ей на плечо. Рука матери нежно взъерошила его волосы. Этой лаской она словно бы успокаивала сына: я здесь, малыш, я с тобой. Потом она встала и понесла его в бунгало. Дельфина проводила их взглядом. О чем она думала? О том, что ей уже никогда не придется ласкать и укладывать в постель свою дочурку, как она делала это всего четыре дня тому назад? Что никогда больше она не присядет на край ее кровати, чтобы рассказать сказку на ночь? Что никогда больше ей не доведется собирать разбросанные игрушки? Отныне плюшевые зайчики и мишки, куклы, незатейливые мелодии музыкальных шкатулок до конца жизни будут разрывать ее сердце. Разве справедливо, что эта женщина прижимает к груди своего живого ребенка, тогда как моя девочка холодна, как лед, и больше никогда не заговорит, больше никогда не шевельнется? Как не возненавидеть их обоих, мать и ее ребенка? Как удержаться от мольбы: Господи, сотвори чудо, верни мне мое дитя, а взамен забери у нее; пусть ей будет так же больно, как сейчас больно мне; пусть на мои плечи ляжет ее печаль, такая удобная и респектабельная, позволяющая в полной мере насладиться своим везением? Дельфина отвела взгляд от силуэтов Элен и Родриго, растворявшихся в темноте аллеи, что вела к бунгало. Наши глаза встретились. Дельфина мягко улыбнулась и, говоря о Родриго, шепнула: «Он такой маленький…»
Нас разделяла бездонная пропасть и невообразимое расстояние, но в ее надломленном голосе прозвучали неподдельные нежность и доброта, и от этого у меня по спине побежали мурашки, ведь мне представлялось, что в ее душе бушевали совсем иные чувства. Теперь, по прошествии времени, мне кажется, что в тот вечер произошло нечто необыкновенное. Рядом с нами находились мужчина и женщина, пережившие самое худшее из того, что могло произойти в жизни, тогда как нас беда обошла стороной. Тем не менее, даже если у них были какие-то задние мысли, а они, несомненно, были; если бы они могли поменяться с нами местами и спастись, они бы так и сделали — все поступили бы так же, ибо нет таких людей, которые предпочли бы чужих детей своим. Такое поведение свойственно человеку, такова его природа. И все же, я думаю, в тот вечер они не желали нам зла. Они не испытывали к нам ненависти, что поначалу казалось мне неизбежным. Они искренне радовались чуду, вернувшему Рут радость, которой сами лишились навсегда, и потому ее так взволновал вид уставшего ребенка, прикорнувшего в объятиях матери. Мы вместе пережили страшную катастрофу, за несколько дней она невероятно сблизила нас и в то же время бесконечно далеко развела, но мы всем сердцем любили их, и, я надеюсь, они отвечали нам взаимностью.
Мы с Элен ушли из ресторана очень поздно. Дорожка из декоративной плитки тянулась вдоль бассейна, а потом ныряла в густую тень высоченных деревьев, куда почти не доносились голоса и раскаты смеха. Парк вокруг отеля был на удивление обширным: на дорогу от главного корпуса до нашего бунгало уходило не меньше пяти минут. Эта пятиминутная прогулка позволяла отрешиться от всех проблем и забот. Успокаивающе стрекотали цикады, в небе над пальмами сверкали бесчисленные россыпи звезд, таких крупных и ярких, что могло показаться, будто стрекочут именно они, а не прячущиеся в зелени насекомые. С пляжа у подножия горы доносился равномерный плеск набегавших волн. Мы шли молча, стараясь не нарушать ночного покоя. Усталость брала свое, хотелось как можно скорее вытянуться на постели и уснуть. Мы взялись за руки. Как сейчас помню: в те дни я испытывал детский страх, что Элен отвернется от меня, но она все же не забыла, что мы были вместе, по-настоящему вместе.
~~~
В конце концов, перед самым отъездом свободные места в микроавтобусе отдали паре швейцарских аюрведистов, которые прекрасно знали о трагедии Дельфины и Жерома, но предпочитали никак не демонстрировать своей осведомленности. Вместо обычного приветствия они ограничились кивком головы, адресованным всем сразу, и, заметив, что Жером, сидевший на переднем сиденье, закурил, заявили, что табачный дым мешает им даже при открытых окнах. С первых же километров поездка превратилась в бесконечную череду остановок для перекуров. Из машины выходили все, кроме аюрведистов. Будучи в меньшинстве, они не осмеливались жаловаться, но со всей очевидностью полагали, что перекуры делаются им назло.
До Галле мы добрались по прибрежной дороге, перекрытой множеством кордонов и запруженной конвоями спасателей. По обочинам тянулись бесконечные вереницы людей, уцелевших при катастрофе: одному богу известно, куда они брели со своими котомками и тачками. На подъезде к городу движение совсем замедлилось, но как только микроавтобус свернул на дорогу в горы, мы поехали быстрее, и картины массового исхода сменили виды роскошной и безмятежной природы. Деревенские жители неторопливо занимались своими делами и с улыбкой приветствовали нас, когда мы проезжали мимо. На глазах Жерома и Филиппа оживали их дорожные впечатления двенадцатилетней давности. Казалось, ничего не произошло. Казалось, здесь, вдали от побережья, никто не знал о случившейся трагедии.
Во время одной из остановок, когда мы курили на краю дороги, Филипп увлек меня в сторону и спросил: «Ты же писатель, скажи, у тебя не возникает желания написать книгу о том, что здесь произошло?» Его вопрос застал меня врасплох: такая мысль мне в голову не приходила. Я ответил, что пока не думал об этом. «Ты должен, — настойчиво сказал Филипп. — Будь я литератором, обязательно написал бы. Но я не умею, чего нельзя сказать о тебе. Это твоя работа». Филипп бросил на меня скептический взгляд и отошел. Не прошло и года после нашего разговора, как он сам написал эту книгу, и, надо признать, написал хорошо.
Больница в Ратнапуре отличалась от больниц в Тангалле и Матаре тем, что тут лечили живых людей, а не сортировали трупы. Здесь не было мертвецов, зато повсюду лежали раненые. Кроватей не хватало, людей укладывали на соломенные тюфяки прямо в коридорах, что очень затрудняло движение по больнице. То, что Тома нашли в пятидесяти километрах от берега, казалось нам чем-то непостижимым, почти сверхъестественным, но вовсе не волна забросила его в такую даль. Этому нашлось более чем прозаическое объяснение: больница в Ратнапуре находилась вдали от зоны бедствия, и сюда эвакуировали всех, кому еще можно было помочь. Многие пациенты были сильно изувечены, повсюду слышались стоны, хрипы; медикаментов и перевязочного материала катастрофически не хватало, немногочисленный медперсонал от усталости уже валился с ног. Вся эта картина живо напоминала полевой госпиталь во время войны. Мы шли по коридорам, открывая одну дверь за другой, пока Рут не замерла, взмахом руки подзывая нас с Элен. Она увидела своего Тома, и ей хотелось продлить этот момент, когда она видела его, а он ее нет. В палате находилось около двух десятков кроватей, и Рут жестом показала, где лежит ее муж — плотный, коротко стриженый молодой мужчина с перевязанной грудью. Том смотрел прямо перед собой пустым, безжизненным взглядом. Он не знал, что рядом была Рут, а самое главное — что она жива. Судя по всему, сейчас его состояние ничем не отличалось от того, в котором находилась она сама днем раньше. Наконец, Рут перешагнула порог. Она сделала всего пару шагов и, остановившись в ногах кровати, попала в поле зрения Тома. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, потом Рут бросилась к нему в объятия. Почти у всех, кто находился в палате, на глазах выступили слезы. В этом не было ничего зазорного, ведь встретились влюбленные, уже потерявшие надежду увидеть друг друга живыми. Рут и Том прикасались друг к другу с таким изумлением, будто не верили, что их встреча происходит наяву. Том лежал с тяжелой травмой грудной клетки — сломанное ребро проткнуло легкое, но лечили его вполне профессионально, так что причин для беспокойства не было. На прикроватной тумбочке лежала потрепанная книжка — шпионский боевик на английском языке, рядом с ней янтарно светилась гроздь крупного винограда, тут же теснились несколько баночек пива. Все это приносил маленький беззубый старичок. Как только Том появился в больнице, он сразу же взял над ним шефство и с тех пор ежедневно появлялся со своими дарами. Старичок и сейчас находился в палате — скромно сидел в ногах кровати Тома. Со словами благодарности Рут обняла ланкийца и поцеловала в обветренную морщинистую щеку. Нам пора было ехать, и Рут проводила нас до стоянки перед больницей, где попрощалась со всеми. Как только Том поправится, они вернутся домой. К счастью, для них все закончилось благополучно.
Как я уже упоминал, в суматохе отъезда Элен потеряла бумажку с адресом Рут и Тома. Мы не знали их фамилию, и потому не могли выяснить, как сложилась дальнейшая судьба молодых шотландцев. Я пишу эти строки по прошествии более трех лет со дня той страшной катастрофы. Если их планы осуществились, то сейчас они должны жить в доме, который Том построил собственными руками, и растить ребенка, а то и двух. Говорят ли они между собой о чудовищной волне? О днях, заполненных неизвестностью, переживаниями за жизнь любимого человека и свои несбывшиеся планы? Вспоминают ли о нас в своих рассказах о тех полных драматизма днях? Что они помнят о нас? Имена? Лица? Что касается меня, то я уже забыл, как они выглядели. Элен говорит, что у Тома были пронзительно голубые глаза, а Рут выглядела просто красавицей. Она иногда заводит о них разговор и искренне надеется, что молодые люди счастливы и проживут вместе до самой старости. Не сомневаюсь, что при этом Элен думает о нас.
Из посольства Франции в Коломбо нас отправили в «Альянс франсез»[7]. После катастрофы он превратился в сборный пункт для пострадавших туристов и центр поддержки: на полу в классных комнатах разложили матрасы, а в холле повесили список пропавших без вести, который постоянно пополнялся новыми именами. Все, кто нуждался в психологической помощи, могли получить ее у квалифицированных специалистов. Дельфина послушно согласилась встретиться с одним из психологов, и после беседы с ней врач поделился своими наблюдениями с Элен. Невероятная выдержка и стойкость Дельфины его настораживали, ибо последующая глубокая депрессия могла иметь для нее очень серьезные последствия. Царившая повсюду атмосфера катастрофы несла в себе нечто ирреальное, болеутоляющее, но вскоре Дельфине придется с головой окунуться в реальную жизнь. Элен согласно кивала, она знала, что психолог прав, и с беспокойством думала о том, что произойдет в Сент-Эмильоне, когда Дельфина перешагнет порог детской. Чтобы хоть как-то оттянуть этот неизбежный момент мы даже были готовы задержаться на острове, но вопросы с отъездом решались очень быстро — все зависело лишь от наличия мест на борту самолета, вылетавшего из Коломбо завтра утром. Жерома отвезли, на этот раз одного, в больницу, куда доставили тело Джульетты. По возвращении он сказал жене, что девочка осталась такой же красавицей, какой была раньше, но в разговоре с Элен Жером сквозь слезы признался, что солгал Дельфине: несмотря на холодильную камеру на теле девочки уже явственно виднелись следы разложения. По поводу кремации тоже возникли проблемы. Супруги хотели забрать тело дочери с собой, но никак не могли смириться с идеей похорон. Когда все кажется совершенно невыносимым, всегда находится какая-то мелкая деталь, нечто такое, что выглядит еще ужаснее, чем все остальное. Для Жерома и Дельфины это был образ маленького гроба. Они не хотели идти вслед за гробиком дочери и предпочитали кремировать тело. Им объяснили, что это невозможно: по санитарным требованиям тело должно быть отправлено в запаянном цинковом гробу, не подлежащем вскрытию. Если они хотят забрать тело, то дома его придется хоронить. Если же они хотят кремировать его, то это следует делать на месте. В конце концов, после долгих и нервных переговоров Жером и Дельфина согласились на второй вариант. Поздним вечером Жером и Филипп поехали в больницу. Вернулись они через несколько часов с наполовину опустошенной бутылкой виски, которую мы и прикончили всей компанией, после чего отправились пить дальше в ресторан, где Жером и Филипп неизменно ужинали в первый же вечер каждого своего приезда на Шри-Ланку. Когда подошло время закрывать заведение, хозяин продал нам еще одну бутылку, и она помогла нам скоротать оставшееся до отлета время. В самолет мы сели в приличном подпитии и сразу же отрубились.
О последней ночи в Коломбо у меня сохранились бессвязные, отрывочные воспоминания. Сначала кремацию хотели провести по буддийскому обычаю, но потом от этой идеи отказались, и обряд провели наспех, без посторонних лиц, после чего не оставалось ничего другого кроме как напиться и убраться восвояси. Конечно, следовало бы задержаться еще на один день, постараться сделать все, как следует, но в этом уже не было никакого смысла, впрочем, ничто уже не имело смысла, ничто не могло получиться, как следует. А потому нужно было заканчивать здесь все дела, просто обрубать концы, пусть даже это звучит не совсем прилично. В аэропорт мы приехали ранним утром. Жером выглядел, как пьяный панк. Своим внешним видом, налитыми кровью глазами и бессмысленной ухмылкой он бросал вызов другим пассажирам и на их критические замечания рявкал: «Моя дочь погибла, придурок, тебе это понятно?»
Однако один эпизод я хорошо запомнил. Когда мы прибыли в центр «Альянс франсез», нам предложили принять душ. Не припомню, чтобы в предыдущие дни в отеле «Эва Ланка» были перебои с водоснабжением. Да, позади осталась долгая и утомительная поездка, но не более того, тем не менее, мы чувствовали себя так, словно три месяца провели в пустыне без воды и мыла. Мы с Элен вошли в душевую вместе, после детей, и долго стояли лицом к лицу под тонкой струйкой воды, остро чувствуя свою беззащитность и уязвимость. Я смотрел на великолепное тело Элен и замечал на нем следы перенесенных тягот и усталости. Во мне пробуждалось не желание, а пронзительная жалость, потребность заботиться о ней, защищать и оберегать, насколько хватит моих сил. Меня не покидала дурацкая мысль: а ведь она тоже могла погибнуть… Боже, как она мне дорога! Я буду любить ее всегда, даже тогда, когда она состарится и ее тело потеряет упругость, станет дряблым и морщинистым. Вот тут-то нас захлестнуло осознание того, что происходило последние пять дней и заканчивалось именно в этот момент, словно открылся какой-то клапан, и на нас обрушился могучий поток чувств, в котором смешались печаль, облегчение, любовь. Я обнял Элен и сказал: «Не хочу даже думать о расставании, никогда». Она ответила: «И я тоже».
~~~
Квартиру, где мы живем сегодня, я нашел спустя две недели после нашего возвращения в Париж. Через несколько дней, заключив договор аренды, мы наняли мастера-отделочника, поляка, чтобы он освежил стены и сделал ремонт на кухне. Мы осматривали помещения и обсуждали объем работ, когда зазвонил мобильник Элен. Она ответила на звонок, какое-то время молча слушала своего собеседника, потом ушла в соседнюю комнату. Когда мы с поляком присоединились к ней, у Элен были полные глаза слез, подбородок мелко дрожал. Оказалось, звонил ее отец и сообщил, что у Жюльет снова обнаружили рак. Снова, потому что такой диагноз ей уже ставили, когда она была девушкой-подростком. Я знал об этом. А что еще мне было известно о сестре Элен? Пожалуй, только то, что она ходила на костылях, была судьей и жила в маленькой деревушке под Вьеном в департаменте Изер. Элен редко виделась с сестрой, хотя очень любила ее. Их жизни не имели ничего общего, и всегда находилось какое-то срочное дело, срывавшее поездку к Жюльет в глухую провинцию. Иногда Элен рассказывала мне о сестре, и в ее словах чувствовались нежность и даже восхищение. Перед самыми рождественскими каникулами у Жюльет случилась эмболия легочной артерии, Элен очень переживала по этому поводу, но цунами смыло ее тревогу вместе со всей нашей прежней жизнью. После возвращения с острова о болезни сестры мы больше не вспоминали, и вот на тебе: у нее снова рак. На этот раз рак груди с метастазами в легких.
В один из уикендов февраля — перед тем, как Жюльет начала курс химиотерапии — мы отправились навестить ее. Зная, что в результате лечения она лишится волос, Жюльет попросила Элен купить ей парик. В поисках самого лучшего Элен обежала все специализированные магазины. Кроме того, она купила платья своим трем племянницам. Вообще, всем, что имело отношение к элегантности, изысканности и изяществу, в семье заправляла Элен. Понятно, что ни Жюльет, ни ее муж, проживавшие в современном типовом коттедже в безликой деревушке, тягаться с ней в этих вопросах не могли. Я увидел молодую исхудавшую женщину, прикованную к креслу, ее спокойного симпатичного супруга и трех очаровательных маленьких девочек. Старшая — ей исполнилось семь лет — удивительно уверенными для своего возраста штрихами старательно рисовала в альбомах принцесс в диадемах и парадных платьях. С не меньшей серьезностью она занималась танцами, и я ее рассмешил своими неловкими антраша под музыку из «Лебединого озера». Если не считать этого легкого дурачества при знакомстве, я испытывал некое смущение и не участвовал в разговоре, тем более, что Жюльет быстро уставала и беседа становилась все более вялой и натянутой. Зимой темнеет быстро, и в доме зажгли свет, не смотря на то, что до вечера было еще далеко. По своему обыкновению я подошел к книжным полкам небольшой домашней библиотеки. Она состояла, главным образом, из учебных пособий, детских альбомов, популярных изданий по юриспруденции и медицинской этике и нескольких романов из числа тех, что покупают, отправляясь в поездку, чтоб скоротать время. Среди этих скучных, на мой взгляд, изданий, я вдруг наткнулся на книгу, выпадавшую из общего ряда. Это была повесть моей любимой писательницы Беатрис Бек, и называлась она «Еще дальше, но куда?» Перелистывая страницы, я наткнулся на фразу, которая рассмешила меня, и я прочитал ее вслух: «Гость всегда доставляет удовольствие, если не приходом, то уж точно своим уходом».
Жюльет дала понять, что нам не стоит торопиться с повторным визитом: ей потребуется какое-то время на восстановление после химиотерапии. В течение двух последующих месяцев сестры общались только по телефону. Жюльет по своей натуре предпочитала успокаивать близких, а не тревожить их, поэтому новости, приходившие от нее, не вызывали особого доверия. По ее словам, врачи высказывались оптимистично: сочетание химиотерапии и недавнего лечения герцептином, похоже, заставило болезнь отступить. Но речь шла о временном отступлении болезни, а не об излечении, так что даже в случае продолжительной ремиссии Жюльет могла строить планы на жизнь, исходя именно из ее сроков. На предложения Элен навестить ее, Жюльет отвечала, что стоит немного подождать: скоро потеплеет и можно будет посидеть в саду, кроме того, она пока еще слишком слаба. Эти разговоры разрывали Элен сердце. В каком-то ошеломлении она говорила мне: моя сестричка скоро умрет. Через полгода, год, но это произойдет, наверняка. Я обнимал Элен, брал ее лицо в свои ладони и успокаивал: я здесь, я с тобой, и это была правда. Немногим больше года тому назад я сам едва не потерял старшую сестру, а задолго до этого и младшую. Воспоминания о тех ужасных моментах помогали мне разделять чувства Элен, быть ближе к ней. Но это происходило только тогда, когда она говорила мне о своем горе, или когда я видел ее плачущей, а так, по правде говоря, я почти не думал о судьбе Жюльет. Если не считать этой проблемы, мы жили весело. Чтобы отметить новоселье, мы устроили большой праздник, и даже спустя несколько недель наши друзья не переставали повторять, что не припомнят, когда так веселились в последний раз. Я гордился красотой Элен, ее ироничностью и снисходительностью, мне нравилась ее легкая меланхолия, тем паче, что она не внушала тревоги. Фильм, снятый мною прошлым летом, планировалось представить на Каннском фестивале. Я ощущал себя блестящей, важной фигурой. Конечно, мне было жаль больную раком свояченицу-провинциалку, но сейчас она была так далеко… Ее угасавшая жизнь не имела ничего общего с моей собственной: передо мной открывались все двери, разворачивались грандиозные перспективы. Но больше всего меня раздражало то, что состояние сестры заметно угнетало Элен, и это мешало мне — не очень сильно, честно говоря, — полностью выплеснуть наружу ту потрясающую эйфорию, во власти которой я пребывал с начала весны.
Выход фильма стал отправной точкой на моем пути к славе, но до Канн на нем была промежуточная станция — кинофестиваль в Иокогаме. Я планировал лететь в Японию бизнес-классом, там соберутся все сливки французской кинематографии, и я уже предвкушал, как меня будут чествовать в японском стиле. Элен работала и не могла составить мне компанию, но в мое отсутствие она запланировала съездить, наконец-то, в Вьенну: Жюльет говорила, что ей стало лучше, погода наладилась, и можно будет подышать в саду свежим воздухом. Я улетал в понедельник, а в пятницу записал закадровый комментарий к документальной ленте, снятой в Кении совместно с одним из моих друзей, — в то время я много работал, мне даже казалось, что я не смогу остановиться. Осознание того, что запись прошла удачно, и я превосходно — лучше, чем когда-либо раньше, — владел своим голосом, доставили мне поистине нарциссическое удовлетворение. Мне даже удалось вставить в комментарий смешную фразу про гостей, которые доставляют удовольствие если не приходом, то уж точно своим уходом, так что мы с Камиллой, моим звукорежиссером, вышли из студии чрезвычайно довольные проделанной работой и самими собой. Мы отправились на террасу пропустить по стаканчику. Я стрельнул сигарету у девушки за соседним столиком, и мы обменялись шутками, до слез насмешившими хохотушку Камиллу. В этот момент подал голос мой мобильник. Звонила Элен. Она сообщила, что прямо с телевидения, не заезжая домой, отправляется на Лионский вокзал: с Жюльет плохо, она умирает.
Родители Элен ждали нас на вокзале Лион-Перраш. Они отдыхали в загородном доме в Пуату, но бросили все и через всю Францию помчались на машине к Жюльет. Я думал, что они позвонили Элен не сразу, а лишь спустя какое-то время, проделав половину пути, чтобы она не опередила их. Однако позже, на автоответчике нашего домашнего телефона я нашел несколько тревожных сообщений подобных тем, что я сам получал лет двадцать тому назад, когда моя младшая сестра попала в серьезную автокатастрофу. Тогда я пришел домой слишком поздно, да еще в изрядном подпитии и потому обнаружил их лишь на следующее утро. Мало того, что новость сама по себе была ужасной, так я еще не знал, куда деваться от стыда за то, что бессовестно проигнорировал сообщения и спал беспробудным сном пьяницы, хотя так оно и было на самом деле. А ведь мать, которую я часто обвинял в сокрытии правды во благо близких, сделала все возможное, чтобы поставить меня в известность о случившемся. Мы с Элен устроились на заднем сиденье, что напомнило мне давно подзабытый порядок вещей: взрослые спереди, дети сзади. Путь до больницы в районе Лион-Южный оказался довольно долгим и утомительным: рокадным дорогам не было ни конца, ни края, указатели попадались на глаза слишком поздно, нужные съезды оставались позади, поэтому приходилось ехать до ближайшего поворота и возвращаться назад по параллельной грунтовке. Зато проблемы с ориентированием позволяли говорить на нейтральные темы. Для родителей Элен, как, впрочем, и для моих тоже, хорошее воспитание заключалось, прежде всего, в умении сдерживать эмоции, но их покрасневшие глаза были полны слез, а руки Жака, отца Элен, заметно дрожали на руле. Перед самым прибытием Мари-Од, ее мать, сказала, не оборачиваясь, что, по всей видимости, этим вечером мы увидим Жюльет в последний раз. Хотя, кто знает, может быть, завтра тоже.
Жюльет лежала в реанимационном отделении. Элен с родителями вошли в палату, я хотел остаться на пороге, но Элен знаком показала мне следовать за ней и держаться позади. Она подошла к сестре и взяла ее за исхудалую руку с иголкой от капельницы в вене. От этого прикосновения Жюльет, лежавшая неподвижно, чуть повернула к ней запрокинутую голову. Ее легкие уже почти не работали, все оставшиеся силы были мобилизованы на поддержание дыхания — естественного процесса, ставшего, вдруг, невероятно тяжелым. Волос у нее на голове не было, изможденное лицо приобрело восковый оттенок. Мне довелось видеть много мертвецов за раз — это впервые произошло в Тангалле, — но я никогда не видел, как человек умирает. А теперь это происходило на моих глазах. Родители и сестра говорили с ней наперебой, так что Жюльет не могла им ответить, но она смотрела на них и, казалось, всех узнавала. Я не помню, что они ей говорили. Скорее всего, звали ее по имени, говорили, кто они и что они здесь, рядом. Жюльет, это папа. Жюльет, это мама. Жюльет, это Элен. Они брали ее за руки, касались исхудалого лица. Неожиданно Жюльет приподнялась, выгнув спину. Раз за разом она повторяла это резкое и неловкое движение, силясь сорвать с лица кислородную маску, словно она не столько помогала, сколько мешала ей дышать. С перепугу мы подумали, что маска неисправна, и Жюльет вот-вот умрет от нехватки воздуха. Прибежавшая на зов медсестра сказала, что прибор работает нормально. Элен выпустила Жюльет из объятий и помогла ей лечь на спину. Больная не сопротивлялась. Попытка встать с постели окончательно лишила ее сил. Теперь она выглядела отстраненной, недосягаемой для окружающих. Мы еще немного посидели у изголовья ее кровати. Медсестра рассказала нам, что днем, когда Жюльет еще могла говорить, она попросила повидаться с дочками, но только завтра утром, после праздника в их школе. Врачи полагали, что помогут ей продержаться. Они сделают все возможное, чтобы этой ночью больная смогла как следует отдохнуть. Жюльет с мужем спланировали все заранее. Она не хотела умирать, оглушенная лекарствами, и в то же время рассчитывала на них, опасаясь, как бы невыносимая боль не ускорила ее кончину. Она хотела, чтобы ей помогли продержаться ровно столько, сколько ей было нужно, чтобы завершить все дела, но не больше. Ясность сознания и нетребовательность пациентки впечатлили медсестру не меньше, чем ее мужество.
Мы провели в отеле бессонную ночь. Элен льнула ко мне, но, как и ее сестра, оставалась недосягаемой, словно окруженная невидимой стеной. Несколько раз она вставала и подходила к приоткрытому окну покурить. Я присоединялся к ней, и мы молча дымили сигаретами. Мы снимали номер для некурящих, поэтому в качестве пепельницы использовали пластмассовый стаканчик, а чтобы он не прогорел, плеснули на дно немного воды, которая очень скоро превратилась в отвратительную вонючую жижу. Вообще-то, мы оба собирались бросить курить. В нашем пассиве уже было несколько безуспешных попыток. Предпринимать очередную в неблагоприятной обстановке, а потом снова с разочарованием констатировать неудачу было, по меньшей мере, глупо, поэтому мы решили немного подождать и выбрать наиболее подходящий момент-такой, когда никто из нас не будет находиться в стрессовой ситуации. Для меня он настанет после выхода фильма, а для Элен — теперь я осознаю это, хотя о подобных вещах мы никогда не говорили, — после неотвратимо близившейся смерти сестры. Мы молча вставали, курили, снова ложились, опять вставали… В какой-то момент Элен сказала: хорошо, что ты здесь. Признаюсь, мне было приятно слышать ее слова. В то же время, меня не покидали мысли об Иокогаме. Я думал, что при сложившихся обстоятельствах едва ли смогу улететь в понедельник, и тщетно пытался оценить свои шансы. Вспоминались события на Шри-Ланке, особенно то, как мы обнимались под душем в «Альянс франсез» и клялись никогда больше не расставаться. Комната родителей Элен располагалась в этом же крыле отеля, через три номера от нашей. Они, как и мои отец с матерью, всю жизнь прожили, не расставаясь, старели вместе. И пусть они не были для нас примером, но уже то, что они вместе встретили старость, значило для меня очень много. Сейчас они, должно быть, молча лежали в постели. Может, обнимали друг друга. Может, плакали. Для их дочери это была последняя, в лучшем случае — предпоследняя ночь. Ей исполнилось всего тридцать три года. Но они приехали сюда, чтобы стать свидетелями ее смерти. А как там ее малышки? Спят ли сейчас? Что происходит в их головках? Каково это — знать в семь лет, что твоя мама умирает? А в четыре года? А когда тебе всего годик? Говорят, что в годовалом возрасте дети этого не осознают, не понимают. Но они без всяких слов должны чувствовать, что вокруг них происходит нечто чрезвычайно важное и трагическое, что жизнь вот-вот перевернется и больше никогда не будет такой же спокойной и безопасной, как раньше. Кроме того, мне не давал покоя языковой вопрос. Я терпеть не могу, когда слово «мама» используют не по прямому назначению — в виде обращения и в рамках частной жизни: пусть человек даже в шестьдесят лет обращается так к своей матери, я ничего не имею против, но у меня вызывает отвращение, когда в школе матерей говорят «мама такого-то» или, как Сеголен Руаяль — «мамочки». И в этом отвращении мне видится не что иное, как социальный рефлекс, заставляющий морщиться, когда рядом со мной кто-то говорит «на Париж» или же то и дело повторяет «не стоит беспокоиться». Тем не менее, даже для меня умирающая была не мамой Амели, Клары и Дианы, а их мамочкой, и это слово, которое я так не люблю, которое с давних пор навевало печаль, пробуждало во мне желание произносить его снова и снова. Мне хотелось тихонько позвать: мама, мамочка, расплакаться и заснуть убаюканным. Не утешенным, а именно убаюканным.
Жюльет с мужем Патрисом и тремя дочерьми жила в Розье, маленькой деревушке, где не было ни магазинов, ни кафе — ничего, кроме церкви и школы, вокруг которых теснились домики с небольшими приусадебными участками. Церковь была возведена примерно в конце XIX века, тогда как окружающие постройки относились к нашему времени. Совершенно естественно возникал вопрос, а как же выглядела деревня в давние времена, когда ее обитателями были простые крестьяне, а не современная молодежь, работавшая во Вьенне или Лионе и устроившаяся здесь из-за дешевого жилья и хорошей экологии для детей. Когда мы с Элен приезжали сюда в феврале, этот уголок показался мне еще более глухим — и домами, и жителями он сильно напоминал мне коммуну Геке неподалеку отсюда, где в свое время жил Жан-Клод Роман[8] с семьей. В июне здесь было куда лучше, чему в немалой степени способствовала хорошая погода. Сад с качелями и пластмассовым бассейном выходил на церковную площадь, достаточно было пересечь ее, чтобы оказаться перед школой. Я представлял себе, как после завтрака девочки отправляются на занятия с ранцами на спине и полдниками в пакетах, как жители ходят друг к друту в гости, как в гаражах над верстаками и газонокосилками висят велосипеды. Перспективами тут и не пахло, зато было спокойно.
В субботу утром, когда мы приехали, в доме было полно народу: Патрис с девочками, родственники с обеих сторон — родители, братья и сестры, не считая соседей, постоянно забегавших на чашку кофе. Кофеварка работала безостановочно, и чашки едва успевали споласкивать водой из-под крана. Я присоединился к семье самым последним, мне нужно было найти какое-либо занятие, и я устроился за кухонным столом, чтобы помочь матери Патриса готовить салат на завтрак. Мы все знали, зачем собрались тут, говорить на эту тему не стоило, но тогда о чем еще говорить? По совету Жюльет она читала мою книгу «Изверг», от нее же знала, что я — жених Элен. Женщина признала, что книга, на ее взгляд, оказалась очень жесткой. Я согласился с ней, более того, признал, что мне самому было тяжело писать ее, и я испытываю чувство стыда за то, что писал о таких страшных вещах. Вообще, людям моего круга совершенно не важно, о каких ужасах пишется в книге. Напротив, многие видят в этом ее достоинство, доказательство смелости автора. Но простых, неискушенных читателей вроде матери Патриса, это шокирует. Они не рассуждают, хорошо или плохо писать на ту или иную тему, но у них, тем не менее, возникает вопрос: а зачем об этом писать? Они думают: этот приятный, воспитанный мужчина, что помогает им резать огурчики для салата и искренне принимает к сердцу траур семьи, должно быть, на самом деле псих или несчастный человек — в любом случае, с ним не все в порядке. И хуже всего то, что я не могу не согласиться с ними.
Я сбежал на кухню и составил компанию матери Патриса еще и потому, что не осмеливался подойти к девочкам. Я говорю о старших — Амели и Кларе. Для общения с ними недостаточно быть добрым и хорошо воспитанным. Я не знал, что делать, но одно понимал совершенно ясно — сейчас я не был готов к этому. В свой первый приезд я паясничал и смешил Амели. Теперь в роли клоуна выступал Антуан, младший брат Элен и Жюльет, способный удивительно легко располагать к себе людей и завоевывать их сердца. Он был весел, дружелюбен и открыт, в его обществе каждый начинал чувствовать себя спокойно и непринужденно, особенно дети. Позже я обнаружил, что и в его душе может открыться бездна печали, а пока завидовал его простодушию и беспечному отношению к жизни, чем не могли похвастать ни я сам, ни, как мне тогда казалось, Элен. И все же, она была способна забываться. Я заметил это, когда она помогала жертвам цунами, а ее отношения с Кларой лишь подтвердили мои наблюдения. Патрис, как рассказала мне его мать, накануне беседовал со своими девочками. Та еще, надо сказать, беседа: мама скоро умрет, завтра, после школьного праздника, мы все в последний раз пойдем навестить ее. Ему пришлось повторить свои слова дважды, и Клара их услышала. Она знала, что в свои четыре годика вот-вот лишится незаменимой материнской любви, и уже пыталась найти ее у своей тети. Я смотрел, как Элен ласкает и утешает девочку, вытирает ей слезы, и был потрясен ее деликатностью, как и тогда, на острове, когда наблюдал за ней в совершенно противоположной ситуации — в утешении нуждались родители погибшего ребенка.
Я был и остаюсь сценаристом. Мое ремесло заключается как раз в том, чтобы создавать драматические ситуации, и, согласно одному из его правил, сценарист не должен бояться перегибов и мелодрамы. Тем не менее, я подумал, что в литературном произведении никогда не стал бы прибегать к такому бессовестному, выжимающему слезы приему, как сведение воедино двух параллельных линий — маленьких девочек, танцующих и поющих на школьном празднике, и их матери, умирающей в это время в больнице. В ожидании выступления девочек, мы с Элен через каждые десять минут выходили за пределы школьного дворика, чтобы покурить, потом возвращались к скамье, где располагалась вся семья. Сначала на сцене появилась Клара с малышками из детского садика, и дети исполнили танец маленьких рыбок, потом вышла Амели в балетной пачке и показала нам номер с обручем. Как и все родители, мы махали руками, чтобы привлечь внимание наших маленьких артисток, показать, что мы здесь. Для них, девочек сознательных и прилежных, этот спектакль имел большое значение. Несколькими днями раньше они верили, что мама тоже придет посмотреть на них. Когда ее увезли в больницу, Патрис сказал дочкам, что она вернется как раз к празднику. Через какое-то время ему пришлось сообщить, что мама может и не успеть, но в любом случае она скоро будет дома. И уже накануне праздника он был вынужден сказать девочкам, что мама больше никогда не вернется. При этом самым мучительным было то, что праздник получился просто замечательным. Честное слово. Мои сыновья Габриэль и Жан-Батист уже выросли, но мне довелось повидать немало таких мероприятий по случаю завершения учебного года в детском саду и начальной школе, поприсутствовать на спектаклях, концертах, представлениях мимов. И каждый раз они неизменно трогали зрителей до глубины души, хотя несли на себе отпечаток некоторой незавершенности, натянутости, казались слепленными на скорую руку. Так что, если самым снисходительным из родителей и было за что благодарить педагогов, отвечавших за организацию спектаклей, так это за то, что они делали их короткими. В Розье же школьный спектакль оказался довольно продолжительным, но и поставлен он был отнюдь не как Бог на душу положит. Маленькие балетные номера и театральные пьески отличались точностью и ясностью, невозможными без кропотливого, упорного труда и серьезного отношения, немыслимого в школах для маменькиных сынков, куда ходили мои мальчишки. Здесь дети выглядели счастливыми, уравновешенными. Они росли в сельской местности, в безопасной семейной среде. В Розье люди разводились и расставались, как повсюду, только потом им приходилось уезжать: в этой деревушке жили сплоченные семьи, здесь каждый ребенок во время своего выступления на сцене мог видеть на скамейке среди зрителей своих родителей и, само собой разумеется, они были вместе. Такую жизнь обычно показывают в рекламе взаимного страхования или банковских ссуд; в этой жизни люди интересуются годовой ставкой по накопительному счету и сроками каникул в зоне В[9], в этой жизни существуют гипермаркеты «Ошан», а люди ходят в рабочей одежде. Это во всех отношениях средняя жизнь, лишенная не только стиля, но и осознания того, что ее можно попытаться сделать ярче и интересней. Я смотрел на такую жизнь свысока — я бы ни за что на нее не согласился, — однако сегодня это не мешало мне думать, глядя на детей и их родителей с видеокамерами в руках, что они выбрали жизнь в Розье не только из соображений безопасности и стадности, но прежде всего из любви.
После спектакля родители учеников вышли из школьного дворика и собрались на площади перед церковью. Печальное известие уже стало всеобщим достоянием. О Жюльетге старались не говорить в прошедшем времени, но ложных надежд на ее выздоровление тоже никто не питал. Более или менее близкие друзья и соседи подходили к Патрису, державшему на руках младшую Диану, клали ему руку на плечо и предлагали присмотреть за детьми или разместить у себя членов семьи, приехавших на похороны его супруги. Печальной и мягкой улыбкой он благодарил людей за самые банальные проявления сочувствия — что, впрочем, не мешало им быть совершенно искренними, — и меня не переставала поражать простота Патриса. Он стоял в шортах и сандалиях на босу ногу, давал пустышку крошечной дочурке, и перед ним не стоял вопрос, как демонстрировать свою печаль. На площади началось гулянье. Заработали аттракционы для любителей рыбной ловли, стрельбы из лука, метким попаданием теннисного мяча можно было попытаться развалить пирамиду из консервных банок, а в художественной мастерской — раскрасить яркими красками изображения сказочных персонажей; начался розыгрыш лотереи… Амелия вместе с другими детьми участвовала в распространении лотерейных билетов, и все члены семьи, включая соседей, приобрели у нее по «счастливому билетику», но никто из нас ничего не выиграл. Когда начался розыгрыш, Амелия прибежала к нам с Элен и я, чтобы рассмешить девочку, разыгрывал бурную деятельность: лихорадочно проверял номера своих билетов и изображал горькое разочарование из-за проигрыша. Она смеялась, но как-то по-своему — серьезно. Я пытался представить себе, каким этот день сохранится в ее памяти, о чем она будет вспоминать, став взрослой. Пишу эти строки и думаю, какие чувства она испытает, если ей доведется когда-либо прочитать их. После гулянья мы вернулись домой, где в саду под большой катальпой уже был накрыт обед. Солнце припекало вовсю, из-за живой изгороди доносились крики и смех детей, плескавшихся в надувных бассейнах. Клара и Амелия чинно сидели за столом и рисовали маме открытки. Если краска выходила за пределы карандашного контура, девочки хмурили брови и переделывали все заново. После дневного сна проснулась маленькая Диана, и Патрис с детьми в сопровождении Сесиль — другой сестрой Жюльетт — отправился в больницу. Прежде чем сесть в машину, Амелия обернулась к церкви, украдкой перекрестилась и торопливо прошептала: «Сделай так, чтобы мама не умерла».
Наша с Элен очередь подошла ближе к вечеру. Я заранее предполагал, что мне придется вести машину, поэтому накануне постарался запомнить маршрут, чтобы доехать до больницы без ошибок и проволочек. Я мало чем мог помочь, поэтому считал делом чести быть хотя бы хорошим водителем. Мы вошли через знакомые двустворчатые двери, миновали те же пустынные коридоры, освещенные холодным неоновым светом, и надолго задержались перед переговорным устройством в ожидании разрешения пройти в реанимационное отделение. Когда мы вошли в палату, Патрис сидел на кровати рядом с женой, положив руку ей под голову. Жюльетт была без сознания, ее дыхание оставалось затрудненным и частым. Чтобы Элен смогла побыть наедине с сестрой, Патрис вышел из палаты. Элен присела на край кровати и сжала безжизненную руку Жюльетт, потом нежно коснулась ее лица. Время, отведенное на визит, как-то незаметно подошло к концу. Выйдя из палаты, Элен спросила Патриса, что говорят врачи. Тот ответил, что, по их мнению, смерть наступит этой ночью, но никто не мог сказать, как долго продлится агония. Тогда, сказала Элен, нужно, чтобы они помогли ей. Партис кивнул головой и вернулся в палату.
Дежурным врачом оказался молодой, но уже лысый мужчина рассудительного вида с очками в тонкой золотистой оправе. Кроме него в кабинете была медсестра-блондинка, но в отличие от врача, она прямо-таки лучилась теплом. Приняв предложение присесть, Элен сказала: «Вы, должно быть, догадываетесь, о чем я хочу вас попросить». Врач ответил едва заметным кивком, означавшим не столько «да», сколько предложение продолжать, и Элен со слезами на глазах продолжила разговор. Она спросила, сколько времени осталось ее сестре, на что врач ответил, что не может сказать точно, но уверен, что счет идет уже не на дни, а на часы, она находится на грани жизни и смерти. «Ей нужно помочь, сейчас…» — повторила Элен, и в ответ услышала: «Мы и так это делаем». Элен оставила номер своего мобильника и попросила позвонить ей, когда все закончится.
На обратной дороге ее начали мучать сомнения: достаточно ли ясно она выразила свою мысль в разговоре с врачом, его ответ тоже казался ей довольно неопределенным. Я постарался успокоить ее: ни с одной из сторон двусмысленности в словах не было. Элен беспокоило также рвение медсестры, упоминавшей о возможном улучшении состояния пациентки. По ее словам выходило, что Жюльетт могла протянуть еще сутки или даже двое. Но Элен считала, что продлевать мучения больной на такой срок просто негуманно. Жюльетт уже попрощалась с родными, Патрис неотлучно находился рядом с ней: момент был самый подходящий. Лучшее, что могла сделать медицина на этом этапе — не упустить его.
Мы остановились на главной улице Вьенна, чтобы купить сигарет и выпить по бокалу вина на террасе небольшого кафе. Мимо нас неспешно шли легко одетые горожане. Маленький провинциальный городок окутывали теплые вечерние сумерки, все вокруг пахло летом и югом. Движение транспорта не напрягало вовсе, если не считать нескольких местных юнцов на мотоциклах, пронесшихся по улице с оглушительным ревом моторов. Потом, громко сигналя клаксонами, проехал свадебный кортеж с белыми лентами на антеннах автомобилей, а спустя несколько минут этот «парад» завершила рекламная машина, объявлявшая о вечернем кукольном представлении. «Состоится встреча в верхах! — орал в рупор парень, стоявший в кузове грузовичка. — Встречаются Петрушка и Винни-Пух, такое событие нельзя пропустить!» Складывалось впечатление, что и здесь, как в случае со школьными праздниками, сценарист особо не напрягался.
Мы заговорили о Патрисе. Как он справится один с тремя девочками, да еще без надежного источника средств к существованию? На комиксы, которые он рисовал в своей подвальной мастерской, особо рассчитывать не приходилось, семью содержала Жюльетт на свою зарплату судьи, но, даже если малышкам ни в чем не отказывали, в конце каждого месяца им приходилось туговато. Конечно, выручит страховка, она поможет выплатить кредит за дом, но Патрису придется искать работу. Доброта и скромность хороши, но это не профессия. Фирму по связям с общественностью Патрис вряд ли учредит, но на него всегда можно положиться: он сделает все, что нужно. Пройдет время, и он снова женится. Такой симпатичный и добрый парень обязательно найдет хорошую женщину и научится любить ее, как любил раньше Жюльетт: он не замкнется в трауре — склонности к нездоровой самоизоляции у него не замечалось. Однако, всему свое время, предсказывать будущее — дело неблагодарное. А пока Патрис был здесь, обнимал свою угасающую жену и, сколь долгой ни была бы ее агония, никто не сомневался, что он останется с ней до конца, и Жюльетт уйдет с миром и чувством защищенности. Мне казалось, нет ничего более ценного, чем это чувство и осознание возможности умереть на руках любящего человека. Элен передала мне разговор Жюльетт с Сесиль, состоявшийся накануне, незадолго до нашего приезда, когда Жюльетт еще могла говорить. Она радовалась, что ее скромная жизнь удалась. Сначала я подумал, что это были слова утешения, потом они показались мне искренними, но в итоге я понял, что это — чистая правда. Я вспомнил знаменитую фразу Скотта Фицджеральда: «Любая жизнь есть процесс разрушения», и усомнился в ее справедливости. Все же, как мне кажется, не любая. Жизнь самого Фицджеральда — возможно. Моя — может быть. Раньше я опасался этого куда больше, чем теперь. Кроме того, никто не знает, что происходит в последний момент. Жизни многих людей на первый взгляд кажутся не состоявшимися, но такое впечатление обманчиво, потому что у последней черты они меняются, проявляя свою истинную, до сих пор ускользавшую от нас суть. У других жизнь, казалось бы, сложилась просто замечательно, хотя на самом деле это было бесконечное падение в ад. Когда Жюльетт давала оценку своему жизненному пути, я ей верил: доказательством ее правоты являлся образ смертного ложа, на котором Партис бережно обнимал свою жену. Я сказал Элен: «Ты знаешь, со мной что-то произошло. Если бы несколько месяцев тому назад я узнал, что у меня рак, и я скоро умру, если бы я, подобно Жюльетт, задал себе вопрос, удалась ли моя жизнь, я не смог бы ответить, как она. Я бы сказал: нет, моя жизнь не состоялась. Но кое-чего мне удалось добиться: у меня есть двое красивых и умных сыновей, я написал несколько книг и в них воплотил самого себя. Я сделал все, что мог, использовав доступные силы и средства, так что мой итог отнюдь не нулевой. Но у меня не будет главного — любви. Да, меня любили, но я не научился любить — или не сумел, что одно и то же. Никто не смог найти опору в моей любви, как не найду ее и я в любви близких в конце своего пути. Так бы я сказал до цунами. Но после волны я выбрал тебя, мы выбрали друг друга, и все изменилось. Ты здесь, рядом со мной и, если бы завтра мне пришлось умереть, я бы сказал, как Жюльетт, что моя жизнь удалась».
~~~
У меня перед глазами лежат четыре листка, вырванные из блокнота, с подробнейшим описанием номера 304 в отеле «Дю Миди» в небольшой деревушке Понт-Эвек, что в департаменте Изер. Я должен был принять участие в коллективном написании книги в честь моего друга Оливье Ролена. Годом раньше он опубликовал роман с детальным описанием гостиничных номеров в разных странах мира. Эти номера служили декорациями для отдельных новелл, с действующими лицами которых — хостессами баров, торговцами оружием и прочими темными личностями — автору доводилось пьянствовать. Издателю пришла в голову идея продолжить игру, предложив писателям, дружившим с Оливье, описать какой-нибудь гостиничный номер и на его фоне дать волю своей фантазии. В один из моментов той бесконечной ночи, когда мы ждали звонка с сообщением о смерти Жюльетт, я рассказал об этом заказе Элен, надеясь немного отвлечь ее от мрачных мыслей, при этом заметил, что колеблюсь в выборе отеля. Характер затеи, романтический и игровой, предполагал довольно экзотическое заведение. В этом плане у меня в запасе была гостиница «Вятка» в российском городке Котельнич: идеальный пример брежневского стиля. Там не меняли сгоревших лампочек ни разу с момента ее открытия. Если сложить все дни, что я провел в «Вятке» в ходе неоднократных посещений города, то получится три-четыре месяца. Прямо противоположным примером является единственный отель, где я жил по-настоящему — несколько недель, — роскошный «Интерконтиненталь» в Гонконге. Тогда мы снимали «Усы», и на весь период съемок ко мне приехала Элен. Где бы мы ни находились — в вестибюле отеля, в нашем номере на двадцать восьмом этаже с панорамным видом на залив, в лифте, летящем вверх или вниз, — нам казалось, будто мы герои из «Трудностей перевода»[10]. Отель в Йокогаме, как я полагал, должен был быть примерно таким же, и я пообещал себе, в качестве приятного времяпрепровождения, описать свой номер. Если не поедешь в Йокогаму, сказала Элен, можешь вместо него описать хотя бы этот, прямо сейчас. Мы хоть чем-то займемся. Я достал блокнот, и мы приступили к работе с не меньшим рвением, чем тогда, когда репетировали эротическую сцену в моем фильме. Я обратил внимание, что вся комната площадью примерно пятнадцать квадратных метров, была оклеена желтыми обоями, в том числе и потолок. Элен подчеркнула один существенный нюанс: изначально обои были не желтые, а белые с крупными рельефными точками, имитирующими тканый узор, и лишь потом их покрасили в желтый цвет. Покончив с обоями, мы перешли к столярке: дверям, окнам, плинтусам, изголовью кровати, также окрашенным в желтый цвет, только более насыщенный. В целом номер был желтым, как яичный желток, разнообразие вносили розовые и пастельно-зеленые штрихи на постельном белье и шторах. Эти же цвета присутствовали и на двух литографиях, висящих над кроватью и напротив нее. Отпечатанные в 1995 году фирмой «Нувель Имаж», они обе отражали влияние Матисса вместе с югославским примитивизмом. Опершись на локоть, я торопливо записывал замечания Элен: она ходила взад-вперед, считала электрические розетки и проверяла, как включается освещение в зависимости от перемещений по номеру; казалось, она все глубже и глубже погружается в свою странную инвентаризацию. Детали я опускаю: это был банальный номер в банальном отеле, хотя весьма хорошо содержавшемся силами очень любезного персонала. Лишь одна вещь пробудила у нас некоторый интерес; она же, кстати, вызвала наибольшие затруднения при ее описании. Я просматриваю свои записи: «Речь идет о встроенном шкафе с двойными дверцами: одна открывается в собственно шкаф, а вторая, под прямым углом, — в гостиничный коридор. Он напоминает окошко для раздачи блюд с двумя полками: верхняя полка служит для столового белья, нижняя — для подносов с завтраком, как на это четко указывают значки, выгравированные на стекле двух маленьких фрамуг. Значки показывают, что и куда именно следует класть, и вместе с тем позволяют видеть, лежат там нужные предметы или нет». Я не уверен, что изложенное тут всем понятно, да ладно, что поделаешь. Мы с Элен долго ломали голову: есть ли у этого — отнюдь не банального — шкафа какое-либо название, способное заменить подобные заковыристые описания. Есть люди, обладающие настоящим талантом в этом плане. Чего ни коснись, они знают, как это называется. Оливье принадлежит как раз к таким, чего не скажешь обо мне, даже Элен может дать мне фору. Не скрою — упомянутое выше слово «фрамуга» принадлежит именно ей.
Рассвело. Мы завершили нашу инвентаризацию, телефон так и не зазвонил. Мысль о том, что ее сестра по-прежнему балансирует между жизнью и смертью, ужасала Элен. Я тоже был не в своей тарелке. Мы задернули шторы, с головой укрылись пледом и, прижавшись друг к другу, забылись беспокойным сном. Телефонный звонок разбудил нас в девять часов. Жюльетт умерла в четыре утра.
Антуана, Жака и Мари-Од мы встретили в столовой отеля, куда спустились на завтрак. Сесиль с Патрисом и девочками была в Розье. Мы молчаливо обнялись и обменялись сочувственным пожатием плеча — в нашем круге этот жест был выражением крайней печали. После этого пошел разговор о вещах сугубо практических: о похоронах, кто останется сегодня, как родственники будут сменять друг друга в последующие дни, чтобы позаботиться о Патрисе и малышках; кое-кто уже начал строить планы по приему детей на время летних каникул. Что касается ближайших часов, то программа была уже определена: все едут в Розье, оттуда в больницу — полагаю, кто-то просто сказал: «поедем, навестим Жюльетт», а не «отдадим последний долг» или «поклонимся останкам». Надо отдать должное: местные жители предпочитали говорить по старинке «преставился» или «ушел» вместо современного дубового «умер». После этого предстоит поездка в Лион к коллеге Жюльетт. К коллеге Жюльетт? В день ее смерти? Мы с Элен были несколько удивлены. Да, объяснил Жак, к ее коллеге в суде малой инстанции Вьена. Они были очень близки, особенно в последнее время. Их сближало то, что в молодости она тоже перенесла рак, и в результате ей ампутировали ногу. Именно Жак предложил утром собравшимся членам семьи отправиться к ней, чтобы сообщить о кончине Жюльетт. Такой визит с выражением соболезнования судье-инвалиду показался мне довольно нелепым, но мне оставалось лишь следовать за всеми.
Я ничего не помню о первой встрече с девочками, только что потерявшими свою маму. Кажется, все было тихо и спокойно. Во всяком случае, обошлось без слез и криков. После этого мы отправились в траурный зал больницы. Это было просторное помещение с высоченным потолком, очень светлое — подобие атриума, напоминавшего убранством декорации классической трагедии, с выходами в салоны для прощания с покойными, часовню и туалеты. В последних, кстати, из-за невероятной акустики воду приходилось спускать понемногу. Этим воскресным утром мы были единственными посетителями. Нас встретил какой-то человек в белом халате санитара, усадил в кресла в углу просторного зала и рассказал, как пройдут несколько дней перед похоронами. Как оказалось, это был не санитар, а доброволец, отвечавший за прием родственников умерших. Он предельно четко разграничил обязанности больницы и социальной службы, которую представлял, с одной стороны, и профессионалов похоронного бюро с другой. Больница отвечала за периодические осмотры тела, обеспечивала его транспортировку из морга в помещение, где будет установлен гроб с телом для прощания, и приемлемый внешний вид покойника: он должен быть обмыт, причесан и, при необходимости, подкрашен. Эти услуги были бесплатными, и люди, вроде него, всегда были готовы оказать посильную помощь семьям усопших. Более сложные косметические услуги, потребность в которых могла оказаться необходимой особенно летом, когда похороны происходили не сразу, а через несколько дней, обеспечивались специалистами похоронных бюро и, соответственно, были платными. Доброволец несколько раз перечислил перечни бесплатных и платных услуг, пока не убедился, что его хорошо поняли, и я посчитал это нормальным, если учесть, что на месте семейства Жюльетт могли оказаться не столь собранные люди. Несколько раз в речи мужчины прозвучала фраза «мы здесь для того, чтобы все прошло как можно лучше». Не сомневаюсь: он повторял ее всем посетителям слово в слово, и она была неотъемлемым элементом всего того, что окружает смерть и несчастье. Но и так было видно, что он, действительно, делает все от него зависящее, чтобы траурный ритуал прошел как можно лучше.
С минуты на минуту нас должны были проводить к Жюльетт — ее уже подготовили к нашему визиту, но дочерей к ней привезут лишь во второй половине дня. Матери Патриса пришла в голову идея предложить девочкам выбрать любимое платье Жюльетты, или же то, которое, по их мнению, как нельзя лучше шло их маме. На самом деле, Жюльетт почти не носила платьев, она предпочитала мешковатые и удобные брюки, но при этом следила, чтобы ее девочки всегда были красиво одеты. Они должны выглядеть, как принцессы, говорила она. Так что, неспроста Амели постоянно рисовала принцесс. Утром мать Патриса позвала старших девочек и предложила им выбрать лучшее платье для мамочки, ведь в нем ей придется отправиться в очень далекий путь. Это платье мы привезли в больницу, чтобы именно в нем мать встретила своих ненаглядных малышек. Санитар-доброволец из социальной службы одобрил такое решение и тут же сообщил, что нам очень повезло — его сменщик был превосходным специалистом по макияжу. Мари-Од озабоченно возразила, ведь Жюльетт почти никогда не красилась. Но санитар успокоил ее: на то и есть хороший специалист, чтобы делать свою работу как можно деликатнее, создавать впечатление, что усопшая не накрашена, она просто живая. Прошли десять тягостных, бессодержательных минут, и, когда мы выходили из ритуального зала, появился специалист по макияжу. Предвидя реакцию членов семьи, он принес свои соболезнования и спросил, не желает ли кто-нибудь из нас — может быть, кто-то из сестер — помочь ему подготовить покойницу. Этот акт может показаться тяжким, тут же заметил гример, но он несет в себе большой символический заряд. Впрочем, если в последнюю минуту вызвавшийся не справится с эмоциями, он сам доведет дело до конца. Человек не должен заставлять себя делать то, что ему неприятно. Элен и Сесиль нерешительно переглянулись. В конечном итоге, ни одна, ни другая не пошли помогать гримеру. Я и сегодня вспоминаю этого специалиста: по дороге домой мы с Антуаном и Элен не преминули перемыть ему косточки: парень носил розовые бермуды, был полноват, заметно шепелявил, а крашеной челкой напоминал парикмахера-гомосексуалиста из дешевого бульварного фильма. И лишь теперь, написав эти строки, я задумался: что же заставляло его добровольно приходить по воскресеньям в больницу и подкрашивать трупы, направляя к застывшим безразличным лицам пальцы близких родственников усопших? Возможно, просто стремление быть полезным. Лично для меня такая мотивация куда таинственнее, чем простая извращенность.
Я, как мог, оттягивал этот момент, но вот все мы — восемь человек — стоим на лестнице дома, в котором жил одноногий судья. Старинный, добротный особняк находился на пешеходной улице, выходившей на вокзал Перраш, и я подумал, что отсюда будет удобно уезжать. Узкая каменная лестница круто задиралась вверх, лифта не было и в помине. Мне показалось странным, что одноногий человек живет здесь, однако мы остановились на втором этаже. Кто-то позвонил, дверь открылась, мы по очереди переступали порог, представлялись и пожимали руку хозяину квартиры. На лестнице сработало реле времени, и свет погас. В темноте хозяин не разобрал, есть ли еще кто на площадке, и захлопнул дверь у меня перед носом. Не знаю, почему — мы оба находим это странным — мои отношения с Этьеном Ригалем начались подобным образом. Точно так же я не могу понять, почему мне представлялось, будто судья-инвалид жил бобылем в крошечной темной квартирке, заваленной пыльными папками с материалами старых дел и пропитанной стойким кошачьим запахом. Все было как раз наоборот: квартира оказалась просторной, светлой, обставленной красивой ухоженной мебелью, и не надо было заглядывать в приоткрытую дверь детской, чтобы убедиться — здесь жила дружная семья. Однако жены и детей дома не оказалось, похоже, их попросили пойти прогуляться — Этьен принимал нас в одиночестве. На вид он выглядел лет на сорок с хвостиком, был высок, хорошо сложен. Светло-голубые джинсы гармонировали с серой тенниской. На открытом лице за очками без оправы живо поблескивали ярко-голубые глаза навыкате. Говорил он мягким, высоковатым голосом. Когда Этьен шел впереди, проводя нас в гостиную, было заметно, что он хромает — при опоре на правую ногу заметно подволакивает негнущуюся левую. Окна гостиной выходили на улицу, и через открытые ставни лучи солнца насквозь пронизывали всю комнату, заливая ярким светом красивый паркет старинной работы. Мы расселись попарно: родители устроились в двух сдвинутых креслах, мы с Элен скромно примостились на одном конце длиннющего канапе, а Антуан с женой на другом, Сесиль и ее муж расположились на стульях. На низком столике стояла большая ваза со спелой черешней и поднос со стаканами, наполненными фруктовым соком. Этьен спросил, не желаем ли мы выпить по чашечке кофе, и все в один голос ответили «да!» Хозяин дома улыбнулся и отправился на кухню варить кофе. За время его отсутствия никто не произнес ни слова. Элен подошла к окну покурить, и я присоединился к ней, но прежде поинтересовался содержимым полок книжных шкафов. Библиотека свидетельствовала о том, что вкусы ее владельца были более индивидуальными, чем в Розье, и во многом схожи с моими собственными. Этьен вернулся в гостиную с кофе: он пользовался кофеваркой экспрессо, готовившей лишь одну чашку за раз, но, несмотря на это обстоятельство, на его подносе загадочным образом стояли, источая восхитительный аромат, девять чашек горячего кофе. Он попросил у Элен сигарету и извиняющимся тоном добавил, что уже давно бросил курить, но сегодня особый день, и ему как-то не по себе. Не сговариваясь, мы оставили для него кресло напротив канапе. Оно стояло прямо посередине и чем-то напоминало место для свидетелей в суде. Но Этьен предпочел сесть прямо на пол, точнее, он присел на согнутую правую ногу, а левую вытянул перед собой — такая поза казалась чудовищно неудобной, тем не менее, в таком положении он провел почти два часа. Мы смотрели на него. Он смотрел на нас, переводя взгляд с одного на другого, и я не мог понять, нервничает он или же совершенно спокоен. Наконец, Этьен коротким смешком прервал неловкую паузу и сказал: «Странная ситуация, вам не кажется? Идея собрать вас вдруг показалась мне не только абсурдной, но и самонадеянной. Можно подумать, будто я могу сообщить вам нечто новое о вашей дочери, сестре… Вы знаете, я очень боюсь. Я боюсь вас разочаровать, а еще я боюсь показаться вам смешным. Мой страх не заслуживает вашего внимания, просто в данный момент я испытываю именно это чувство. Я ничего не подготовил к этой встрече. Вчера я попытался сочинить в уме какую-то речь, наметив ряд тем, которые хотел затронуть, но у меня ничего не получилось, и я оставил эту затею. Да и вообще, я не очень силен в таких вещах. Поэтому буду говорить то, что придет в голову. — Он помолчал, потом продолжил: — Есть кое-что, о чем вы, как мне кажется, даже не догадываетесь, и потому я хочу, чтобы вы поняли: Жюльетт была великим судьей. Вы, конечно, знаете, что она любила свою работу и делала ее безупречно. Возможно, вы думаете: да, она была отличным судьей, но эти слова не отражают истинного положения дел. Мы с ней проработали в суде Вьена целых пять лет, и мы были великими судьями».
Последняя фраза и то, как она была сказана, встревожили меня не на шутку. В голосе Этьена звучала невероятная гордость, приправленная странной смесью беспокойства и радости. Это беспокойство мне знакомо, я легко узнаю тех, в кого оно вселяется исподтишка, в толпе, в темноте — это мои братья, но вот радость, что примешивалась к ней, серьезно озадачила меня. Чувствовалось, что говоривший был человеком легковозбудимым, беспокойным, постоянно устремленным за чем-то ускользающим от него, и в то же время это нечто было неотъемлемой частью его непоколебимой веры в себя. Объективность, благоразумие, умение владеть собой отступили на задний план, он черпал силу в собственном страхе и сеял его вокруг себя. Непонятно как зараженный им, я понял, что вот-вот должно произойти какое-то событие.
Первые фразы Этьена я привел по памяти: за их буквальную точность я не ручаюсь, но в целом их смысл был именно таков. Потом у меня в памяти все смешалось, как смешалось все в его речи. Он говорил о правосудии, о том, как они с Жюльетт отправляли его. В суде Вьена они занимались, главным образом, жилищными вопросами и делами по кредитным задолженностям, фигурантами которых выступают бедные и богатые, слабые и сильные. При этом им нравились сложные дела — не те, что рядами папок оседали на полках, а те, что запоминались надолго и создавали прецеденты. По его словам, Жюльетт не понравились бы высказывания, будто она всегда принимала сторону бедных: это было бы слишком просто и слишком романтично, а главное — не отвечало бы интересам правосудия, поэтому она никогда не изменяла своему профессиональному долгу. Она бы сказала, что стоит на стороне закона, но она стала, они оба стали виртуозами в искусстве применения права во всех его тонкостях. Они могли сутками разбирать по косточкам график погашения долга, перелопачивали горы специальной литературы в поисках давней инструкции, о которой никто бы никогда не вспомнил, передавали материалы в Европейский суд, доказывая, что сложение процента ссуды и штрафных неустоек, практикуемое некоторыми банками, с лихвой покрывает размер ссуды, и такая беззастенчивая обдираловка не только аморальна, но и незаконна. Их судебные постановления публиковались, становились предметами обсуждения и ожесточенных нападок. Их оскорбляли и обливали грязью в «Даллозе»[11]. В судебной системе Франции начала XX века суд малой инстанции Вьена занимал важное место — он был своеобразной юридической лабораторией. Специалистов интересовало, какой очередной сюрприз преподнесут им двое хромых судей из Вьена. Да, они отличались еще и этим: оба хромали, оба в подростковом возрасте болели раком, но смогли победить его. Объединенные общим недугом и осознанием того, что им пришлось пережить, они нашли общий язык с первого же дня. С этого момента я начал понимать: в основе образа мыслей и манеры речи Этьена лежал метод свободных ассоциаций, которым он обязан, как мне кажется, не столько учебе на юридическом факультете, сколько опытом посещения психоаналитика. Но во время нашей первой встречи я терялся в его резких переходах от обсуждения какого-то вопроса юридической техники к глубоко личному воспоминанию, связанному с его хромотой, болезнью, или теми же проблемами Жюльетт. Рак разрушил их и возродил, а когда болезнь вновь взялась за Жюльетт, вступить с ней в схватку пришлось и Этьенну. Вокруг Жюльетт возникла пустота, которую не смогли заполнить ни Патрис, ни семья. Это оказалось под силу лишь ему одному, и из этой пустоты он сейчас говорил с нами. Что он хотел сообщить нам? Наверное, ничего хорошего. Вряд ли он скажет, что Жюльетт была мужественной женщиной, настоящим бойцом, что она любила нас и умерла счастливой. Все это мы могли услышать от других людей. Он говорил о другом, о том, что ускользало не только от нас, но и от него самого, и вместе с тем наполняло залитую солнцем гостиную своим подавляющим, однако вовсе не печальным присутствием. Я почувствовал его знак в тот самый момент, когда Этьен упомянул об ужасе первой ночи, проведенной в больнице в полном одиночестве, когда он узнал, что тяжело, смертельно болен, и отныне это знание — неотъемлемая часть его жизни. Тогда он пережил чувства, подобные тем, что испытывает свидетель глобального катаклизма, всеобщего разрушения, чудовищной метаморфозы. Это было полное физическое уничтожение, а, возможно, закладка фундамента иного существования. Другие подробности той встречи уже стерлись из моей памяти, однако я хорошо помню, как во время прощания, когда мы по очереди пожимали руку хозяину дома, он обратился ко мне. За время нашего визита он ничем не показал, что знает меня как писателя, зато теперь он посмотрел мне в глаза и громко, так, чтобы слышали все остальные, сказал: «Вам стоит о ней подумать, о проблеме первой ночи. Возможно, эта тема для вас».
Наша компания, ошеломленная результатами визита к судье, вышла на улицу. Мы с Элен решили ехать домой поездом, остальные возвращались в Розье — им еще предстояло участвовать в похоронах. По пешеходной улице мы отправились на вокзал Перраш, миновав большую площадь Камо. Воскресенье, два часа пополудни, невыносимая жара. Состоятельные горожане обедали дома, те, кто был победнее, отдыхали на зеленых газонах. В ожидании поезда, мы перекусили бутербродами, устроившись за столиком на террасе перед кафе. После расставания с остальными членами семьи мы не обмолвились ни словом. То, что произошло за последние два часа, потрясло меня, и в то же время — не подберу другого слова — воодушевило. Я хотел сказать об этом Элен, но побоялся, что в данных обстоятельствах мой энтузиазм будет выглядеть неуместным. Кроме того, я не был уверен, что Этьен понравился ей так же, как мне. В какой-то момент она вела себя почти враждебно по отношению к нему. По его словам, он обещал Жюльетт по очереди брать ее девочек на стажировку. «Подождите-ка, — возразила Элен, — еще слишком рано говорить об этом, к тому же, из уважения к памяти их матери, девочкам не стоит навязывать профессию юриста, если им хочется заниматься чем-то другим». «Их никто и не заставляет становиться юристами, — спокойно ответил Этьен. — Я говорю только о краткосрочной практике — всего несколько дней — обычной для учащихся лицея». Пока он говорил, я чувствовал, как Элен сердится и теряет терпение. Происходящее напоминало мне ситуацию, когда вы смотрите любимый фильм в присутствии человека, равнодушного к происходящему на экране: я хорошо видел, что именно задело ее в словах Этьена. Рискнув нарушить молчание, чтобы сказать: «Мне понравился этот парень», я ожидал, что она ответит: «Тот еще католик». Для Элен, как для многих людей, выросших в католической среде, такая оценка носила крайне негативный характер. В отличие от меня. Но она промолчала. Этьен тронул ее сердце, точнее, ее тронули слова, сказанные им в адрес Жюльетт. Элен заинтересовалась Этьеном, поскольку тот был другом и доверенным лицом ее сестры. Что касается меня, то тут все было иначе: именно рассказ Этьена пробудил во мне интерес к личности Жюльетт.
Тем не менее, Элен заметила, что он признался в любви к Жюльетт, хотя и не сказал этого прямо.
На что я ответил: «Не знаю».
Спустя сутки после смерти Жюльетт, я заново обдумал историю, рассказанную Этьеном, и мне в свою очередь захотелось пересказать ее. В дальнейшем у меня появились большие сомнения по поводу этого проекта, почти три года я не вспоминал о нем и считал, что уже никогда не вернусь к нему, но неожиданно ситуация изменилась. Я получил от издателя заказ, мне оставалось только сказать «да». Лежа рядом со спящей Элен, я прикидывал, что напишу небольшую повесть, которая будет читаться за пару часов — примерно столько времени мы провели у Этьена — и передаст эмоции, пережитые тогда мною. В тот момент этот план казался мне вполне конкретным и осуществимым. С технической точки зрения повесть следовало писать в стиле «Изверга»[12], от первого лица, без литературного вымысла и эффектных ходов. В то же время, она должна быть его полной противоположностью, его своеобразным позитивом. Действие происходило в том же районе и в той же среде, люди жили в тех же домах, читали те же книги, имели тех же друзей, только в одном случае мы имели Жан-Клода Романа — воплощение лжи и несчастья, а в другом — Жюльетт и Этьена, пораженных страшным недугом, но, несмотря ни на что, честно отправлявших правосудие и стремившихся к истине. Меня смущало лишь одно странное совпадение: Роман утверждал, что страдает болезнью Ходжкина[13] — под этим благопристойным именем он пытался скрыть обитавшее в нем мерзкое чудовище; примерно тогда же Жюльетт, действительно, боролась с пожиравшим ее лимфогранулематозом.
В свою очередь, Элен решила написать траурную речь для похорон. Мы обсудили эту идею, и я помог ей привести в порядок разрозненные мысли. Элен хотела сказать, что на всем протяжении своей незаметной, спокойной жизни — так говорила Жюльетт, хотя эти определения были далеки от действительности, — ее сестра постоянно стояла перед проблемой выбора. Она не тянула с принятием решений, а приняв, уже не отступала от них. Жюльетт дорожила своим выбором: профессией, мужем, семьей, домом, совместной жизнью — всем, кроме болезни. Эта жизнь принадлежала ей, и она никогда не претендовала на другую: ей с избытком хватало своей. Для Элен такой подход имел особое значение, вероятно, потому, что резко отличался от сложившегося у нее хаотичного восприятия собственной жизни. В то же время ее тревожили бессмысленные фрагменты каких-то смутных воспоминаний. В отличие от людей, обожающих подкармливать своих близких вкусненьким, Элен задаривала тех, кого любила, всякими шмотками. Она говорила: «Мне всегда хотелось подарить Жюльетт красивую сумочку, но, уже стоя на пороге бутика, я вспоминала, что костыли помешают ей носить сумочку. Но я могла бы купить ей очень красивый рюкзак вместо тех бесформенных торб, что она таскает. Могла бы. Мне не нравится ее невзрачное барахло, да и я хороша: дарила ей так мало красивых вещей. Мой последний подарок- парик — был просто ужасен. И еще: в детстве я всегда завидовала ей, потому что она была меньше меня и красивее. Да, можешь мне поверить, ты же не видел ее раньше, но я покажу». Она шла за альбомами и раскладывала их на кухонном столе. Мы с ней уже листали их, когда распаковывали коробки после переезда, но тогда я обращал внимание только на Элен. Я рассматривал фотографии Жюльетт, сделанные в последние годы, в детстве, юности… Да, она действительно была красива. Не знаю, красивее ли Элен, я так не думаю, но все равно могу с полным правом назвать ее красавицей и совсем не такой суровой, какой она представлялась мне из-за своего физического недостатка и профессии. Я видел ее улыбку, костыли, стоящие поблизости, а главное, я видел живую, привлекательную женщину, которую переполняла жажда жизни. Тогда-то я и рассказал Элен о своем проекте. Я боялся, что она почувствует себя оскорбленной. Еще бы: ее родная сестра, которую я почти не знал, только что умерла, и тут — хоп! — я собираюсь писать о ней книгу. Не скрою, сначала Элен была удивлена, но потом одобрила мое решение. Жизнь подвела меня к нужному месту, Этьен показал его мне, и я его занял.
На следующий день, за завтраком, Элен расхохоталась и сказала: «Ну, ты даешь! Из всех, кого я знаю, ты единственный, кому могло прийти в голову, будто история дружбы двух хромых, да еще больных раком юристов из суда малой инстанции Вьена — это сюжет, на котором можно заработать. Мало того, что они не спят вместе, так в конце она еще и умирает. Я верно излагаю? Это и есть твоя история?»
Я кивнул головой: да.
~~~
Процедура была такой: в восемь утра я садился на поезд на Лионском вокзале, в десять часов выходил в Перраше и спустя четверть часа звонил в дверь Этьена. Он варил кофе, мы устраивались на кухне, я открывал блокнот, и он начинал говорить. Когда я писал «Изверга», мне приходилось беседовать с людьми, имевшими отношение к делу Романа, и везде, будь то Лион или округ Жекс, я старался не делать записей из опасения разрушить хрупкое доверие, возникавшее между мной и моими собеседниками. Вернувшись в отель, я записывал то, что мне удалось запомнить. С Этьеном мне не нужно было маскироваться. В общении с ним, а потом с Патрисом, я чувствовал себя свободно, не выбирал слов и не боялся сделать неверный шаг, способный оттолкнуть их и, тем самым, помешать моей работе. В день похорон я приехал к нему, чтобы сообщить о своем решении написать повесть о нем и о Жюльетт и договориться о встрече для серьезного разговора. Этьен ничуть не удивился, достал записную книжку, перелистал последние страницы и предложил встретиться в пятницу, 1 июля. Так начался наш совместный проект. Этьен должен был рассказывать о прожитой жизни, что он и делал, не скрывая своего удовольствия. Вообще, он любил рассказывать о себе. «Это мой способ общения, — заметил он и с завидной долей проницательности добавил: — как, впрочем, и ваш тоже». Он знал, что говоря о нем, я поневоле буду говорить о себе. Это нисколько не смущало его, напротив. Полагаю, его вообще ничто не смущало, и как-то незаметно я стал испытывать то же самое. Не часто приходится рассказывать едва знакомому человеку о пережитом, о том, кто ты и что ты. Обычно такое случается в ходе романтического свидания или на приеме у психоаналитика, причем происходит это абсолютно естественно и добровольно. Как я уже говорил, манера общения Этьена отличалась свободой, ассоциативностью и резкими переходами от одной темы к другой, от одного времени к другому. Что касается меня, то я предпочитаю хронологический принцип, больше того, я просто помешан на хронологии. Эллипсис устраивает меня лишь как риторический прием, должным образом оформленный и управляемый, в противном случае он приводит меня в ужас. Возможно, из-за прорехи в моей жизни и стремлении залатать ее как можно прочнее, мне не обойтись без ориентиров типа: предшествующий вторник, следующая ночь, тремя неделями раньше… Чтобы не пропустить ничего важного, я постоянно просил Этьена излагать события по порядку, и это заставило меня начать рассказ с воспоминания о его отце.
Он преподавал в университете астрономию, математику, статистику, философию наук и семиотику, но при всей широте его интересов ни одна из этих дисциплин не стала для него основной, и ни в одной из них он не преуспел. Воспитанный на точных науках, он тянулся к реальной жизни, к человеку со свойственными ему сомнениями и проблемами. В шестидесятые годы его пригласили учить рабочих завода «Пежо» в Монбельяре, где семья жены владела огромным особняком с запутанной планировкой — протопить его было практически невозможно, и впоследствии дом пришлось продать. Под обучением работодатели понимали научную подготовку, поэтому брали на работу учителя математики, но тот считал себя просветителем и преподавал рабочим философию, политологию и основы нравственности. Через несколько месяцев его уволили, как случалось и в других местах, но даже за короткое время ему удавалось оставить свой отпечаток в душах лучших учеников. Он был типичным социал-католиком, читателем Симоны Вейль[14] и Мориса Клавеля[15], верным сторонником Рокара[16], членом Объединенной социалистической партии, под флагом которой пошел на выборы в законодательные органы департамента Коррез, семейной вотчины по отцовской линии. Выборы успеха не принесли, однако его соперник — лидер местных сторонников Жака Ширака — взял верх только во втором туре. Добрый христианин среди атеистов, в компании верующих он превращался в ярого антиклерикала, готового утверждать, что Иисус спал со своим любимым учеником Иоанном. В нем странным образом уживались бунтарь, обреченный быть на плохом счету у любой власти, францисканец, способный поселиться хоть в заводском цеху или шагать в сандалиях, не разбирая пути, и буржуа, стремящийся к успеху и остро воспринимающий свои неудачи. Теперь, оглядываясь в прошлое, Этьен считает, что лет десять, как минимум, отец прожил в глубокой депрессии. Его эксцентричность приобретала горький привкус: не очень-то приятно было, прогуливаясь с приятелями, встретить его на улице в пиджаке с галстуком, черных носках с туфлями и шортах «Адидас», из которых торчали худые волосатые ноги. Вместе с тем, ему был чужд эгоизм, и Этьен не мог припомнить за ним ни одного низкого поступка. Из древнееврейских предписаний он усвоил для себя правило отдавать десять процентов заработанного беднякам, и, если в конце года не мог отложить этих десяти процентов, то занимал их, чтобы выполнить свое обязательство. Он выглядел грустным и уставшим от жизни, но чувство справедливости никогда не покидало его — Этьену не на что было пожаловаться. По его словам, он лишь придерживается выбора, сделанного раньше отцом. В отличие от него, Этьен был атеистом, что не мешало ему придерживаться Писания и с теплым чувством вспоминать дом священника в Со, где местный кюре — умнейший человек, стремившийся пробуждать в людях мысли и чувства, — давал ему и его друзьям читать труды дона Элдера Камара[17] и других либеральных теологов. Этьен считал, что отнюдь не случайно трое его друзей, часто бывавших в доме у священника, тоже стали судьями и, в отличие от большинства представителей их поколения, придерживались левых взглядов. В глубине души Этьен, как и его отец, жаждал изменить общество, сделать его чище и справедливее, но при этом хотел быть хитрее отца: пути Дон Кихота он предпочел путь реформиста.
Этьен вернулся к этой теме позже, когда в августе я навещал его в родовом гнезде Ригал ей в департаменте Коррез. Большой дом с узкими оконными проемами, сложенный из крупного бутового камня, принадлежал его семье с XVII века. Именно отец посчитал необходимым выкупить его у родственников и восстановить в первоначальном виде, за исключением отопления и удобств. Вместе с супругой он собирал крестьянскую мебель, хлебные лари, сундуки из темного дерева, готические стулья с высокой спинкой, выглядевшие так, будто сошли с полотен братьев Ленен[18], правда, при их виде не возникало желания присесть и почитать у камина. Этьену нравилось проводить там отпуск, и он никогда не упускал возможность вернуться в отчий дом. Вместе с тем, у него крепла уверенность в том, что в детстве отец стал жертвой сексуальной агрессии. Ему не хватало фактов, чтобы подкрепить свое предположение, и это напомнило мне американскую биографию романиста Филипа К. Дика — в ее основе лежало такое же утверждение, и хотя у автора не было никаких доказательств того, что в детские годы Дик подвергся сексуальному насилию, он считал, что об этом свидетельствуют особенности его личности, и объяснить их можно только перенесенной психологической травмой. Когда я обратил на это обстоятельство внимание Этьена, он согласился со мной и признал, что его выводы не имеет под собой реальной почвы: вероятно, это всего лишь игра воображения, единственное приемлемое объяснение непонятного отвращения отца к физическому контакту. Бог свидетель, он был любящим отцом, более того, он сумел пробудить в своих детях уверенность в себе, но никогда не целовал и не обнимал их. Стоило ему лишь слегка задеть кого-нибудь, как он вздрагивал будто от прикосновения к змее. Возможно, он не подвергался насилию, но несомненно одно — у него имелись серьезные проблемы. Испытывал ли сам Этьен нечто подобное? Сначала последовал отрицательный ответ: нет, все в полном порядке, но потом, поразмыслив, он припомнил, что в школе всегда держался особняком, днем предавался своим мечтам, а по ночам просыпался от жутких кошмаров, и, наконец, признался, что до шестнадцати лет страдал энурезом. Я сразу узнал эти признаки — правда, мочиться в постель я перестал в более раннем возрасте, — и могу сказать: далеко не все у него было в порядке.
Этьен очень рано понял, что хочет стать судьей. Подобная склонность меня заинтересовала. В лицее у нас был такой тип, он мечтал вырасти и стать судьей. Не знаю, сбылась ли его мечта, но сволочь он был порядочная. Мне казалось, что судья в его представлении — тот же фараон, причем такой, какого играл Мишель Буке[19] в фильмах Ива Буассе[20]: двуличный и порочный тип, в руки которому лучше не попадаться. Возможно, я ошибался, возможно, все мы ошибались — неискушенные читатели «Шарли-Эбдо»[21], возможно, тот мальчик был по натуре очень робким, гордился своим призванием, и насмешки больно задевали его, но в итоге он стал замечательным человеком, похожим на Этьена Ригаля. Знай я Этьена в те годы, то, вполне вероятно, опасался бы его тоже. Хотя не знаю, я предпочитаю думать, что мы стали бы друзьями. Одной из причин, побудивших меня к написанию этой истории, стала манера речи Этьена, когда он впервые сказал: «Мы с Жюльетт были великими судьями». В этих словах прозвучала удивительная уверенность и гордость. Так мог говорить артист, понимающий, что его карьера не завершена, впереди еще долгий творческий путь, и вместе с тем осознающий, что у него в активе есть по меньшей мере одна работа, которой можно гордиться независимо от того, что уготовано ему будущим: он сделал свою ставку и выиграл. В то же время меня смущало понятие величия в сочетании с профессией судьи. Если бы мне предложили назвать трех или даже одного великого судью, я бы пришел в замешательство. На слуху были несколько имен, связанных с рядом резонансных дел, освещавшихся в прессе, — Альфан, Ван Рюинбек, Ева Жоли[22] — но они были судебными следователями, а не судьями, ведущими процесс в зале суда, облачившись в мантии с горностаевой отделкой; усилиями романистов и киношников именно последние обрели сомнительную репутацию несимпатичных хранителей буржуазного порядка. И пусть все мы согласны с известным и справедливым постулатом — главное не то, что ты делаешь, а то, как ты это делаешь, и что лучше быть хорошим колбасником, чем плохим художником, мы понимаем различие между творческими профессиями и всеми остальными: именно в первых совершенство как совокупность способностей, таланта и харизмы может оцениваться понятиями величия. В правовом контексте я понимаю значение слов великий адвокат, чего не скажу о сочетании великий судебный пристав. И великий судья, право же, ничем не лучше, особенно когда речь идет о члене суда малой инстанции, специализирующемся не на громких уголовных делах, а на тривиальных гражданских тяжбах: стена, принадлежащая двум владениям, опека, задолженность по арендной плате… Скажем так, это заведомо не то, о чем я бы мечтал.
(А тут еще в Библии сказано: «Не судите».)
Объясняя свой выбор, Этьен назвал три мотива: его прельщала возможность решать, что является справедливым, а что нет, и вершить правосудие; он хотел изменить мир, но в то же время занимать в нем достойное место: не беспокоиться о материальном положении, вести респектабельную жизнь; наконец, вынося приговор, судья применяет власть, а он чувствовал если не вкус власти, то, по меньшей мере, тягу к ней.
Я не до конца разобрался с этим нюансом, но он выявил одну характерную черту личности Этьена, и она мне понравилась. Особенно ярко она проявилась в день нашего коллективного визита. Каждый раз, когда Этьена кто-нибудь перебивал — не для того, чтобы возразить, а наоборот, чтобы подтвердить, дополнить или прокомментировать сказанное им, он качал головой и бормотал, мол, это не совсем то, что он имел в виду. Однако, продолжая, он говорил то же самое, почти слово в слово. Мне кажется, такое отрицание было необходимо ему для общения с людьми. Когда отец Жюльетт упомянул о дружбе между Этьеном и его дочерью, тот поморщился и заявил: они были не друзьями, а близкими, что далеко не одно и то же. Спустя какое-то время, узнав его получше, я заметил, что для обозначения их отношений с Жюльетт меня вполне устраивает слово дружба, если же это нечто другое, то тогда я вообще не понимаю, что такое дружба и с чем ее едят. У меня вошло в привычку подтрунивать над его манией отвергать все, сказанное другими, чтобы затем повторить, лишь поменяв слова местами. Этьена это забавляло: всегда приятно, — говорил он, — когда близкие люди видят в наших недостатках лишние поводы любить нас. С того момента он стал все чаще и чаще соглашаться со мной.
~~~
Январь 1981 года. Мне стукнуло двадцать три, я работаю в Индонезии как альтернативщик[23], и там же пишу свой первый роман. Ему восемнадцать, и он заканчивает школу в Со. После экзамена на степень бакалавра дальнейший путь сомнений не вызывает: сначала юридический факультет потом Национальная школа по подготовке и совершенствованию судебных работников. Он играет в теннис. Все еще девственник. И вот уже несколько месяцев испытывает боль в ноге. Сильную боль, и с каждым днем она становится все сильнее и сильнее. После многочисленных, но не очень убедительных консультаций ему делают биопсию, и, получив результат, отец срочно везет Этьена в институт Кюри. Рокового слова он не произносит, но с волнением и тревогой на лице выдавливает: «Биопсия показала наличие подозрительных клеток». В одном из кабинетов цокольного этажа паренька осматривают несколько врачей. «Ну что ж, молодой человек, — говорит один из них, — постараемся сохранить вас в целости и сохранности».
«Ты домой не едешь. Ты остаешься здесь».
«Почему, что случилось?»
«А ты не понял? — удивляется отец, раздосадованный и смущенный тем, что до сына так и не дошла суть проблемы. — У тебя рак».
Посещения родственников разрешены только до восьми часов. Этьен остается один в больничной палате. Ему приносят ужин и таблетку снотворного, скоро погасят свет. Темнеет. Наступает его первая ночь в больнице. Именно о ней он говорил в день нашей первой встречи и теперь вновь возвращается к ней: для него очень важно рассказать мне все в мельчайших подробностях.
Он лежит на кровати в одних трусах: отец не думал, что все произойдет так быстро, и Этьена оставят в больнице, поэтому не взял пижаму. Этьен приподнял одеяло и посмотрел на свои ноги — нормальные ноги юноши спортивного телосложения. Только в левой притаилась болезнь, постепенно точившая ее изнутри.
Несколькими месяцами раньше он прочитал роман Джорджа Оруэлла «1984». Одна из сцен буквально потрясла его. Главный герой, Уинстон Смит, попал в руки политической полиции, и офицер, который вел допрос, объяснил, что его работа состоит в том, чтобы подобрать к каждому подозреваемому свой ключик — определить, чего тот боится больше всего на свете. Людей можно пытать, вырывать им ногти или яички, но всегда найдутся такие, кто выдержит боль, причем сразу и не скажешь, кто на это способен: настоящие герои — не всегда те, кто ими кажется. Но стоит узнать, чего больше всего боится человек, и дело сделано. От героизма не остается и следа, о сопротивлении нет и речи, когда приводят его жену или ребенка и спрашивают, что лучше — применить пытку к нему самому или к его близким? И каким бы храбрым он ни был, как бы не любил своих родных, человек предпочтет избежать мучений. У каждого есть свои, личные страхи, противостоять которым просто невозможно. Что касается Смита, офицер провел дознание и выяснил, что невыносимым кошмаром для него является крыса в клетке; клетку подносят к его лицу, открывают, и голодная крыса бросается на него, ее острые зубы впиваются в щеки, нос, наконец, находят лакомые кусочки — глаза, и тут же их вырывают.
В первую ночь именно этот образ терзал Этьена. Только крыса находилась внутри его и пожирала его живьем изнутри. Она начала с голени, теперь поднимается вверх, затем прогрызет себе путь во внутренности, по позвоночнику поползет дальше и, наконец, доберется до самого мозга. Странно, но он ничего не чувствовал, словно тело и боль, не отпускавшая его уже несколько месяцев, куда-то бесследно исчезли, однако сам образ был настолько ужасен, что Этьену хотелось умереть, лишь бы избавиться от него, не дать ему укорениться. Он страстно желал, чтобы его мозг угас, и все остановилось, перестало существовать. Тем не менее, барахтаясь в этом кошмаре, он уцепился за спасительную мысль: я любой ценой должен найти выход, чтобы пережить эту ночь: другой образ, другие слова. Если он доживет до утра, произойдет нечто такое, что, вероятно, не спасет его, но избавит от невыносимого страха. Не без помощи снотворного он погрузился в полузабытье, на дне которого рыскала ощерившаяся ненасытная крыса. Он то засыпал, то просыпался; простыни насквозь промокли от пота. И когда забрезжил рассвет, крысы уже не было. Она ушла, и больше не возвращалась. Ее место заняла фраза. Она обрела для него видимую форму, словно была огнем начертана перед ним на стене.
Этьен так и не произнес ее. Вместо нее звучали другие, но все они казались мне приближениями, парафразами. На мой взгляд, ни одна из них не обладала той мощью убедительности и действенности, о которой он говорил. Я записал в блокнот: раковые клетки такая же часть тебя, как и здоровые. Эти раковые клетки — ты сам. Они вовсе не чужеродное тело, не крыса, что коварно внедрилась в твое тело. Они — часть тебя. Ты не можешь ненавидеть свою болезнь, ибо ты не можешь ненавидеть самого себя (еще как можешь, подумал я, но оставил эту мысль при себе). Твой рак — не враг, это ты сам.
Я понял, о чем говорил мне Этьен: эти фразы, и в особенности та, что скрывалась за ними, были решающими. Полагаю, он вспомнил нечто такое, что звучало совершенно естественно для него, но не имело ровно никакого значения для меня. Думаю, надо подождать, мы еще не закончили с первой ночью.
Между тем, образ крысы был мне знаком. С той лишь разницей, что меня изнутри пожирал другой зверь — лиса. Крыса перекочевала к Этьену из Оруэлловского «1984», а моя лиса — из истории про маленького спартанца, которую проходят на уроках латинского языка. Мальчишка украл лису и спрятал у себя под туникой. На совете старейшин лиса принялась кусать его за живот. Вместо того, чтобы отпустить рыжую и, тем самым, сознаться в краже, маленький спартанец, не моргнув глазом, позволил ей пожирать себя заживо, и это закончилось для него весьма печально.
Я рассказал Этьену, как однажды ходил к бывшему психоаналитику Франсуа Рустану[24]. Я пожаловался ему на лису, что с детства таилась у меня под грудиной, терзая солнечное сплетение, и поинтересовался, можно ли избавиться от нее, выяснив, что к чему. Выслушав меня, Рустан пожал плечами. Он больше не верил ни в толкования, ни в сам психоанализ, только в правильную последовательность действий. Он сказал: «Выпустите вашу лису наружу. Пусть она свернется на диване в комочек. Вот и все. Видите, она здесь, и ведет себя совершенно спокойно». У дверей он пожал мне руку и добавил: «Если хотите, можете оставить свою лису у меня. Я присмотрю за ней».
Какое-то время я думал, что все получилось. Ходить к нему за лисой мне не пришлось, она вернулась сама. Сейчас зверюга оставила меня в покое: то ли спит, то ли в самом деле ушла, но три года назад, когда я часто общался с Этьеном, она была здесь. Терзала меня. И помогала его слушать.
К химиотерапии приступили с первого же дня в надежде спасти ногу, и врачам это удалось. Этьен стойко перенес большую часть лечения, единственное, с чем он не мог смириться, так это с потерей волос. Он был неуравновешенным, легко возбудимым юношей, далеким от истинной возмужалости. Девушки в равной мере пугали и привлекали его. Поэтому, когда у него начали выпадать волосы и, глядясь в зеркало, он увидел в своем отражении лысого и безбрового зомби без волос на лобке, каким ему предстояло скоро стать, никто не смог его убедить, что волосы быстро отрастут и все будет, как прежде. Этьена охватила паника, причем настолько сильная, что он прервал курс лечения. И сделал это сам, тайком, никому не сказав ни слова. Ему оставалось всего несколько сеансов продолжительностью по полдня каждый и еще три дня, как вначале. Родители продолжали бы возить его лечение, но он отказался, заявив, что будет ездить сам на метро. На самом деле он никуда не ездил, а в институте Кюри сообщил, что продолжает курс в клинике в Со и даже попросил, чтобы ему выписали назначение. Судя по всему, его слова прозвучали весьма убедительно: никто не позвонил родителям, чтобы проверить, выполняются ли предписанные процедуры. Свободное время он убивал, слоняясь по Парижу и листая книжки в лавках Латинского квартала. О чем он думал, прогуливая сеансы химиотерапии, как прогуливают уроки в школе, не задумываясь о грядущем конце учебного года? Осознавал ли, насколько сильно рисковал своей жизнью? Да, отвечал он. Когда случился рецидив, первым делом ему в голову пришла мысль: а что было бы, пройди я химиотерапию до конца? Потерял бы ногу или нет? Ответа он не получил, и этот вопрос быстро перестал его интересовать.
Экзамен на степень бакалавра он сдал в июне, но от летнего отдыха отказался, несмотря на настойчивые советы, и нашел подработку в спортивном филиале Fnac в отделе теннисных ракеток. Занятия спортом ему были противопоказаны: в случае перелома голени на восстановление рассчитывать не приходилось, однако он продолжал играть в теннис и даже футбол, где получить удар бутсой по ноге было проще простого. На вопрос, что это — нормальная беспечность подростка, едва избежавшего смерти и жаждущего вольной жизни, или некое глубинное, неосознанное стремление, ответа также не последовало.
В конце года врачи объявили Этьену, что он здоров. От него требовалось проходить контрольные медосмотры раз в три месяца, а потом и того реже — раз в полгода. Он ходил в институт Кюри после лекций по праву в Пантеоне[25]. В приемном покое было полно раковых больных, и он смотрел на них с нескрываемым отвращением. Однажды на носилках принесли женщину в ужасном состоянии. Она весила не больше тридцати пяти килограмм, ее лицо ссохлось и напоминало высушенные головы, изготовлением которых славились индейцы хиваро. Несчастную приняли без очереди, и он, кипя от гнева, подумал: почему первой приняли ее, а не меня, ведь мне еще так много предстоит сделать, тогда как ей осталось только умереть? Он не стыдился своей черствости, напротив, гордился ею. Этьен испытывал отвращение не только к болезни, но и к больным — его это больше не касалось.
~~~
Болезнь вернулась, когда ему исполнилось двадцать два. Боли в ноге — той самой — возобновились с новой силой: он не только лишился сна, но даже ходил с трудом. Я не поверил своим ушам, когда он сказал, что ни у него самого, ни у родителей не возникло и мысли о рецидиве, что было бы совершенно естественным. Все посчитали, что ничего страшного не произошло, сильная боль в ноге может быть вызвана ушибом мышцы или воспалением сухожилия. Как бы там ни было, сам Этьен не распознал ее. Его снова отправили в институт Кюри на рентген. Спустя три дня результаты обследования были готовы, и оптимизма они не внушали: на этот раз открыто прозвучали слова рак и ампутация.
На час дня у него был назначен визит в клинику, а в девять утра в Пантеоне начинался экзамен на степень магистра. Экзаменатор запаздывал, не появился он и к одиннадцати часам. Этьен пошел в секретариат, чтобы объяснить ситуацию: в час пополудни он должен быть в институте Кюри на улице Ульм. Специалистам предстояло принять важное решение: ампутировать ему ногу или нет. Этьен не чуждался театральных эффектов и не без удовольствия наблюдал за волнением и растерянностью секретарши, услышавшей такое заявление. Она предложила ему перенести экзамен, но он отказался, и тогда она заметалась в поисках другого экзаменатора. По мнению Этьена, экзамен прошел нормально, однако он и по сей день удивляется, что получил только двенадцать баллов: успехи в учебе в сочетании с состраданием к его состоянию позволяли ему рассчитывать на большее.
В институте Кюри он выслушал окончательный приговор: рак малой берцовой кости, ногу необходимо ампутировать, и как можно скорее. Как и четыре года тому назад, врачи предложили немедленную госпитализацию, чтобы уже утром прооперировать его, но Этьен твердо стоял на своем: в следующее воскресенье его подружка Орели празднует свое двадцатилетие, и он собирался к ней на вечеринку. Врачи уступили: в институт он приедет в воскресенье вечером, а в понедельник утром ляжет на операционный стол.
Я пытался представить себе не только состояние Этьена после роковой консультации, но и чувства его отца. Очень страшно узнать, что вам ампутируют ногу, но во сто крат страшнее узнать, что ампутируют ногу вашему двадцатидвухлетнему сыну. Кроме того, в молодости отец Этьена страдал костным туберкулезом и потому мучился вопросом, не связан ли рак сына с его собственным давним недугом. Это более чем сомнительное предположение порождало чувство вины, и она лишь усугубляла гложущее его жуткое чувство беспомощности. Убитый горем, отец всерьез заговорил о донорстве: он готов был пожертвовать своей ногой, чтобы пересадить ее сыну. Этьен расхохотался и сказал: мне твоя старая нога не нужна, оставь ее себе.
Он попросил отца отвезти его к Орели — она тоже жила в Со — а вечером заехать за ним. Молодые люди встречались два года, вместе открыли для себя таинства интимной близости. Орели была красавицей и умницей; Этьен и сейчас считает, что они могли бы пожениться. Они лежали на кровати, тесно прижавшись друг к другу, наконец, собравшись с духом, он сказал: в понедельник мне отрежут ногу, и в первый раз заплакал. До позднего вечера они не вставали с постели; Орели обнимала его, гладила волосы, лицо, тихо шептала нежные слова, но когда Этьен спросил, будет ли она любить его одноногого, честно ответила: не знаю.
Накануне дня рождения Орели произошло странное событие. Не утруждая себя объяснениями, Этьен взял машину отца и поехал в сауну на улице Сент-Анн, чтобы трахнуться с мужчиной. Ни раньше, ни впоследствии подобные желания у него никогда не возникали. Он вовсе не был гомосексуалистом, но в тот вечер на него словно что-то накатило. Эта выходка стала одним из его последних осознанных поступков в бытность человеком о двух ногах. Что там происходило на самом деле? Память не сохранила ничего, как это зачастую бывает со снами, за исключением каких-то второстепенных деталей. Он помнил, как ехал, парковал машину на авеню Опера, искал улицу, где никогда раньше не был, платил за вход, раздевался и заходил в наполненный клубящимся паром зал, где голые мужчины обнимались, отсасывали друг у друга, занимались содомией. Что он делал? С кем? Как тот тип выглядел? Главное действо стерлось из его памяти. Просто он знает, что это было. Потом он вернулся в Со. Родители еще не спали, он поговорил с ними о каких-то пустяках безразличным тоном, ставшим для него обычным с тех пор, как прозвучал приговор врачей, и когда говорить, собственно, уже не о чем.
Не знаю, попадет ли предыдущий абзац в окончательную редакцию книги. Этьен обозначил свою позицию предельно четко: можешь писать все, о чем я говорю, контролировать тебя я не собираюсь. Однако же, я прекрасно понимаю, что, перечитывая текст перед публикацией, он попросит меня убрать этот кусок. Не столько из-за стыда — я уверен, что стыда за тот случай он не испытывал, — сколько из уважения к своим близким. Он сам не находил объяснения своему странному поступку — по большому счету, в нем не было ничего дурного. Но даже если бы и было, он бы все равно его не стыдился. А если бы и стыдился, то посчитал бы свой стыд также достойным упоминания. Он бы сказал: я это сделал и теперь стыжусь своего поступка, но этот стыд — часть меня, и я не собираюсь отказываться от него. Фраза «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» представляется мне если не воплощением мудрости, то одной из самых глубоких по смыслу, и что мне нравится в Этьене, так это его способность воспринимать ее буквально, кроме того она, на мой взгляд, дает ему право быть судьей. Он не хочет отбрасывать ничего из того, что делает его человечным, несчастным, способным согрешить, великолепным, и поэтому, рассказывая о его жизни, я тоже не хочу ничего вырезать.
(Замечание Этьена на полях рукописи: «Никаких проблем, пиши все, что считаешь нужным».)
На день рождения Орели собралась не только молодежь. Поздравить ее пришли друзья, родственники, близкие знакомые — люди разного возраста. Праздник состоялся днем в цветущем саду. Чтобы все прошло без сучка и задоринки, сначала провели репетицию представления. Этьен должен был петь, и он спел. Боль была такой невыносимой, что ему пришлось опираться на костыли. Все гости знали, что вечером он ложится в клинику, и наутро ему предстоит операция по ампутации ноги.
Время летело очень быстро, стрелки часов приближались к шести. Этьен лежал под деревом, положив голову на колени Орели, и девушка нежно перебирала пальцами его волосы. Время от времени он заглядывал ей в глаза. «Я здесь, Этьен, — с улыбкой шептала она, — я здесь». Успокоенный, он опускал веки. Он немного выпил, совсем чуть-чуть, и теперь находился в состоянии легкой эйфории. Неподалеку о чем-то беседовали гости, монотонно жужжала оса, с улицы доносилось хлопанье автомобильных дверей. Этьену было хорошо, он хотел, чтобы так было всегда, чтобы он ничего не почувствовал, когда пробьет его час. Потом пришел отец и сказал: «Этьен, пора идти». Даже теперь он с трудом представляет, чего стоило отцу произнести тогда три простых слова: «Этьен, пора идти». Ему было невыносимо тяжко, но он справился с собой. Нужные слова были сказаны, все необходимое сделано; в сущности, по мнению Этьена, иначе и быть не могло. Хотя, не факт: от мог бы разрыдаться, упереться, кричать «нет, я не хочу», как некоторые приговоренные к смерти, когда открывают дверь их камеры и говорят: «Пора идти». Но все обошлось, ему протянули руку, и он поднялся.
Вот так: я встал, чтобы ехать в клинику, где мне отрежут ногу.
~~~
Он попросил родных быть с ним в момент пробуждения и, открыв глаза, увидел вокруг себя родителей, брата, сестер и Орели. Первым ощущением после выхода из наркоза было чувство покоя — ему ничего не болело. Опухоль сдавливала нервные окончания, вызывая сильную боль, и на протяжении последних нескольких месяцев эта боль стала просто невыносимой. Но теперь он ничего не чувствовал. Зато видел: под простыней вырисовывались контуры правой ноги и бедра левой, но ниже, где полагалось быть колену, простынь проваливалась — там было пусто. Он не сразу осмелился приподнять простыню. Привстав, Этьен вытянул руку и пошарил там, где раньше находилась нога. В голове билась лишь одна мысль: он остался без ноги, и вместе с тем не мог в это поверить. Если бы не пустота в том месте, где ей полагалось быть, если бы он сам не убедился, что ее нет, ничто не напоминало об ее отсутствии. Его рассудительный разум воспринял новую информацию, но не он отвечает за состоянии тела и заставляет его двигаться. Когда Этьен захочет одеться, натянуть трусы, к примеру, эта потребность не застанет его врасплох, он уже будет готов и первым делом прикинет: у меня нет ноги, сейчас я должен сделать то, чего еще не делал после ампутации, и действовать я должен совсем не так, как раньше. Он все обдумает, но когда возьмет трусы и нагнется, то, прежде всего, постарается всунуть в них левую ногу, прекрасно зная и видя, что ее-то у него и нет. Ему понадобится сделать над собой осознанное усилие, чтобы вставить в трусы правую ногу, медленно натянуть их, минуя пустоту слева, выше колен, а затем завершить процедуру, привычно оторвав от стула задницу. Ну вот, трусы надеты. Для всего прочего методика остается неизменной, требуется лишь подкорректировать программу, перейти из режима «нормальный» в режим «инвалид». Придется привыкать не только к пустоте на месте ноги, но и к переходу от пустоты к жалкому огрызку, который называют отвратительным словом — культя.
Критический момент — это первое прикосновение к ней. А ведь она близка, достаточно только протянуть руку, надо только преодолеть свое отвращение. Этьен долго не мог представить, что кто-то другой, в особенности другая, однажды с любовью прикоснется к культе и погладит ее, а не отдернет брезгливо руку. Предполагалось, что он будет восстанавливаться в реабилитационном центре в Валантоне, неподалеку от Кретея, куда его перевезли после выписки из клиники. На этом эпизоде Этьен не стал долго задерживаться. Он лишь заметил, что вокруг ампутации скопилось слишком много лжи. Тебе объясняют: вам ампутируют ногу выше колена, это идеальный уровень для установки протеза, скоро вы будете вести нормальную жизнь. Потом, в реабилитационном центре ты спрашиваешь врача, когда сможешь вернуться к игре в теннис, и врач смотрит на тебя, как на сумасшедшего: в пинг-понг — да, пинг-понг — это очень хорошо, но про теннис забудь. До протезирования тебя уверяют: когда ты привыкнешь к протезу, он станет частью твоего тела, в самом деле, тебе покажется, будто у тебя появилась новая нога. Наконец, приходит день, когда тебе надевают протез, он щелкает — клик-клак, — и ты понимаешь, что это не более, чем шутка, и твой протез никогда не станет новой ногой. Видя твои слезы, заботливый персонал мягко замечает, что через это проходят все, для привыкания требуется время, но другие обитатели реабилитационного центра, инвалиды со стажем, говорят тебе, по меньшей мере, среди них всегда найдется один, кто скажет: добро пожаловать в наши ряды, добро пожаловать в общество тех, кто на три четверти человек и на одну четверть железяка.
Этьен сбежал оттуда. Ему предстояло провести в центре три месяца, но уже в конце первой недели он попросил родителей купить ему инвалидную машину с одной педалью, чтобы иметь свободу передвижения, и в конце второй недели вернулся домой. Инвалиды из Валантона вызывали у него такое же отвращение, как и раковые больные из института Кюри. Он не хотел иметь с ними ничего общего.
Что касается годичного курса химиотерапии, то он был обязательным, и это не обсуждалось. Этот год стал для Этьена кошмаром. Трехдневные сеансы проводились раз в месяц, и в течение этих трех дней его постоянно тошнило. Три дня бесконечной рвоты, когда тошнить нечем. Каждый раз при мысли о возвращении в клинику Этьена охватывал ужас. В принципе, он считал, что жизнь следует воспринимать во всей ее полноте, и страдания не являются исключением. Этой точки зрения он придерживался уже тогда, но мучения от химиотерапии считал явным перебором. Мало того, что от нее нет никакого толка, так еще и чувствуешь себя чересчур мерзко и унизительно. Лучший выход — впасть в забытье, и Этьен просил врачей оглушать его успокоительными. Приходить и ухаживать за ним разрешили только матери, Этьен не хотел, чтобы Орели видела его в таком состоянии. Теперь, спустя двадцать лет, он сожалел об этом, причем куда больше, чем из-за прерванного им первого курса химиотерапии: Орели хотела быть рядом с ними, это было ее место, ведь она любила его, но он не позволил ей. Он ей не доверял.
Химиотерапия не только сказывалась на его общем состоянии, но и отражалась на внешности — он терял волосы, чего так боялся в первый раз. На его теле практически не осталось растительности. Орели настаивала, чтобы он сбрил ту малость, что еще оставалась, но Этьен отказался и сохранил несколько длинных прядей, отчего выглядел еще уродливей. Упреки девушки были вполне обоснованы: глядя на себя в зеркале, он видел голое, исхудалое, безволосое и бледное одноногое существо. Молодой человек со спортивной фигурой, каким он был всего несколько месяцев тому назад, превратился в гадкого мутанта. Орели держалась почти год, потом ушла от него. Последующие шесть лет женщин в его жизни не было.
Этьен начал работать с психотерапевтом после первого заболевания. По его заверениям, рак тут был ни при чем — к тому времени он считал, что уже выздоровел, — нет, причиной обращения к специалисту стали сексуальные проблемы. Он не распространялся на эту тему, но я убежден, что в их основе лежала сексуальная неуверенность, свойственная ему в то время. После рецидива болезни и ампутации психотерапевт ежедневно навещал его в клинике. Врач был всего на десять лет старше Этьена, и случай с молодым раковым больным, перенесшим ампутацию, стал для него своего рода премьерой. Он говорил: это дебют для нас обоих, я не знаю ни что делать, ни к чему мы придем. Но Этьена такая ситуация вполне устраивала и успокаивала.
Постепенно психотерапия переросла в сеансы психоанализа, растянувшиеся на целых девять лет. За это время Этьен успел закончить Национальную школу магистратуры и уже работал судьей на севере, но два раза в неделю он ездил в Париж, не пропуская ни одного сеанса. Как следствие, приобретенный опыт лег в основу почти религиозного доверия к бессознательному[26]. Он не был верующим, во всяком случае, не считал себя таковым, но имел склонность и способность отдаваться во власть Оно[27], превосходившего его своей мощью и, возможно, разумностью. По отношению к нему Оно не было ни внешней силой, ни персональным божеством, ни явлением высшего порядка. Эта мощь, будучи им, им не являлась, она превосходила его, вдохновляла, терзала и спасала, и постепенно он научился подчиняться ей. Я бы не стал утверждать, что бессознательное было для него тем же, что Бог для христиан, скорее тем, что китайцы именуют Тао.
Начиная с этого момента, мне приходилось действовать с большими предосторожностями. Могу предположить, что на сеансах психоанализа он много говорил о своем раке, так вот: меня удивляло, что при глубокой верой в силу бессознательного, он так враждебно выступал против любого психосоматического толкования рака. Эту тему Этьен не обсуждал, тут он, как говорится, стрелял навскидку. «Кое-кто говорит: всему виной мозги, стресс, не улаженный психический конфликт. Таких людей я готов убить, — сказал он, — а еще мне хочется прикончить их за высказывания типа „ты выкрутился, потому что ты боролся, потому что ты — мужественный человек“. Все это чушь. Многие борются, и храбрости им не занимать, но не всем удается выкрутиться. И пример тому — Жюльетт».
Он сказал это в тот день, когда встретился с семьей, потом повторил во время нашей первой встречи с глазу на глаз, и каждый раз я делал вид, что согласен с ним, хотя на самом деле в этом не уверен. Конечно, у меня нет ни оснований, ни права делать выводы по такому спорному, а скорее всего, неразрешимому вопросу. Высказываясь по этому поводу, я понимаю, что никак не затрагиваю этиологию рака, зато получаю возможность изложить свою точку зрения: с одной стороны, чисто интуитивно, я думаю, что рак — не та болезнь, что случайно сваливается вам на голову (во всяком случае, не всегда), с другой стороны, мне кажется, что в глубине души Этьен тоже так считает, либо делает соответствующий вид, но его пылкая риторика носит совсем не защитный характер.
Я перечитал «Марс» Фрица Цорна. Книга потрясла меня, как и большинство читателей, когда вышла в свет в 1979 году. Она начиналась так: «Я молод, богат и образован; а еще я одинок, несчастен и страдаю неврозом. Я получил буржуазное воспитание и вел скромную жизнь. Кроме того, я болен раком, что само собой разумеется, если судить по тому, что я только что сообщил. Ну, вопрос рака представляется двояко: с одной стороны, это болезнь тела, от которой я, весьма вероятно, скоро умру, но, возможно, мне удастся ее победить и выжить; с другой стороны, это болезнь души, в связи с чем я могу сказать только одно: вот шанс, что она, наконец-то, себя проявит».
Последняя фраза звучала так: «Объявляю себя в состоянии тотальной войны».
Удивительно, но факт остается фактом: Zorn, что в переводе с немецкого языка означает «гнев», это псевдоним, тогда как настоящее имя автора — Angst, то есть «страх». Между этими двумя именами, между двумя фразами заключен молодой представитель высшего общества, покорный и отчужденный, «воспитанный до смерти», как он сам говорит, ставший одновременно бунтарем и свободным человеком. Болезнь, страшное приближение смерти показали ему, кем он был, и кто он есть, — Этьен сказал бы: где он есть, — это называется излечиться от невроза. Перечитывая «Марс», я все время размышлял, как могла бы сложиться жизнь Фрица Цорна, если бы он выжил, о состоявшемся человеке, каким он мог бы стать, если бы ему было дано насладиться расширением сознания, за которое он заплатил столь высокую цену. И я подумал, что для меня таким состоявшимся человеком был Этьен.
Я не стал говорить ему ни об этом, ни о другой книге, не столь известной, но оказавшей на меня этим летом почти такое же воздействие. Она называлась «Книга Пьера: психика и рак», это долгая беседа Луизы Ламбриш[28] с психоаналитиком Пьером Казенавом. Он пятнадцать лет болел раком и умер до выхода книги в свет. Казенав называл себя «носитель рака», а не «больной раком». «Когда мне сообщили, что у меня рак, — сказал он, — я понял, что он был у меня всегда. В этом заключается специфика моей личности». Он стал специализироваться на психоанализе для больных раком, основываясь на собственной предпосылке, апробированной на большинстве пациентов. Смысл ее сводился к тому, что «худшее из страданий — то, которое нельзя разделить». Чаще всего больной раком страдает вдвойне: прежде всего, он не может разделить со своим окружением испытываемый им страх, во-вторых, под этим страданием кроется другое, застарелое, сложившееся еще в детские годы, никем не разделенное и не замеченное. А это и есть самое страшное: носить все в себе без поддержки и участия близких.
Смысл лечения раковых больных, говорил он, сводится к тому, чтобы увидеть и распознать их страдания, приложить все усилия, чтобы пациент избавился хотя бы от них. Его жизнь от этого длиннее не стала, но если выбирать между Мольером, насмехавшимся над врачами, чьи пациенты умирали здоровыми, и великим английским психоаналитиком Винникоттом[29], просившим у Всевышнего милости умереть в добром здравии, Пьер Казенав однозначно принимал сторону Винникота. Его клиент — это больной, который воспринимает свою болезнь не как неожидавшую катастрофу, а как фактор, касающийся лично его, как некое темное следствие его жизни, крайнее проявление выпавших на его долю несчастья и смятения. У такого больного — а когда Пьер Казенав говорит о таком больном, он имеет в виду и самого себя, — отсутствуют некие элементы первичного нарциссизма. Глубокая трещина рассекает саму сущность его личности. Люди бывают двух типов, считал он: одним часто снится, что они падают в бездну, другим нет. Они чувствуют себя превосходно, твердо стоят на земле, по-хозяйски ходят по ней. Первые же всю жизнь страдают от головокружения и страха, вызванного сомнениями в своем реальном существовании. У взрослого такая болезнь младенца может неприметно длиться годами в виде скрытой депрессии, и в один прекрасный день она превращается в рак. Но человека это не удивляет, он признает ее, ибо знает, что его рак — не что иное, как он сам. Всю жизнь человек чего-то боится, тогда как на самом деле все уже произошло. К тем, кто пережил подобную катастрофу и, конечно, благополучно забыл ее, память возвращается, когда врачи ставят им смертельный диагноз. Новая беда пробуждает старую и вызывает к жизни чувство невыносимой физической подавленности, но люди не понимают причин ее возникновения. Пьер Казенав рассматривает подобное отчаяние, близкое к настоящей панике, как отчаянные конвульсии потаенного существа, которое, по сути дела, никогда не имело права на существование, и вдруг понимает, что его дни сочтены. Для тех, кто никогда не сомневался в своем существовании, сообщение о смерти становится событием печальным, жестоким и несправедливым, но вполне вписывается в уклад жизни. А что же с теми, кто, в глубине души, ставил под сомнение факт собственного бытия? Таким людям психоаналитик предлагает воспринимать болезнь и даже приближение смерти как последнюю возможность истинного существования. Он цитирует загадочную, волнующую фразу Селина[30]: «Возможно, это и есть то, что человек ищет на протяжении всей жизни, — глубочайшая скорбь, которая поможет ему стать самим собой перед лицом смерти».
Пьер Казенав вовсе не теоретик, он говорит исключительно об опыте, как собственном, так и своих пациентов; посредством следующей формулы он определяет свое искусство, и мне хотелось бы заслужить право отнести ее на свой счет: «безусловная взаимосвязанность с тем, что в глазах обычного человека представляется чудовищным отчаянием». В описываемой им клинической картине я узнаю одного типа, который вовсе не был раковым больным; он, страшно сказать, был лишен такого шанса и потому придумал себе рак, ибо смутно полагал, что это сущая правда, и неосознанно стремился к тому, чтобы ее признали клетки его тела. Но, поскольку эти выдумки не соответствовали истине, ему не оставалось ничего другого, кроме как прибегнуть ко лжи. Речь идет о Жан-Клоде Романе. Признаюсь, в нем я узнаю какую-то часть самого себя, но мне повезло: боль помогла мне писать книги, а не плодить метастазы и ложь. Во мне есть что-то и от Этьена с его ночными кошмарами, энурезом и уверенностью в том, что его отец в детстве стал объектом насилия. Конечно, я не думаю, будто все раковые опухоли истолковываются подобным образом, но мне кажется, что есть люди, сущность которых повреждена с рождения. Несмотря на все их усилия, мужество и желание, они не могут жить по-настоящему, для них доступен только один путь, и он проложен в них самих — это болезнь, причем не лишь бы какая: рак. В силу того, что я верю в это, некоторые люди неприятно поражают меня своими высказываниями типа: человек свободен в своем выборе, он должен захотеть быть счастливым, это его моральный выбор. Они считают грусть дурным тоном, в депрессии усматривают признак лени, а тоску расценивают как грех. Согласен, это грех, даже смертный грех, но некоторые люди рождаются грешниками, рождаются проклятыми, и ничего не могут изменить в своем положении, несмотря на все усилия, мужество и волю. Между людьми с разрушенной сущностью и всеми остальными существует конфликт, подобный классовой борьбе между бедными от богатыми. Понятно, что кому-то из бедняков удастся преуспеть, чего не скажешь о подавляющем большинстве; сказать меланхолику, что для обретения счастья ему нужно всего лишь принять соответствующее решение, это все равно, что посоветовать голодному питаться исключительно сдобными булочками. Пьер Казенав утверждает, что смертельная болезнь и смерть могут дать таким людям шанс наконец-то почувствовать вкус жизни, и я разделяю его мнение, более того, если говорить начистоту, мне случалось чувствовать себя таким несчастным, что я сам стремился к смерти. Пишу эти строки с мыслью, что для меня все проблемы остались позади. Думаю даже, что я выздоровел, хоть это может прозвучать чересчур самонадеянно. Но я не хочу ничего забывать. Хочу помнить себя таким, каким был сам, какими были многие другие. Я не стремлюсь стать прежним, но вместе с тем не хочу забывать того, кого терзала лиса, и кто три года назад начал писать эту повесть.
Книга Николя Бувье «Рыба-скорпион» — я читал ее на Цейлоне — также заканчивается словами Селина: «Худшее поражение — забыть все, особенно то, что вас убило».
~~~
Закончив Национальную школу магистратуры, Этьен сделал два важных шага: вступил в Профсоюз работников органов правосудия и занял ответственный пост судьи по исполнению наказаний в Бетюне. Профсоюз объединял рядовых судей левой ориентации. Их не интересовало продвижение по социальной лестнице, зато привлекала охота на преступников из чиновничьей среды, за что их упрекали в отправлении классового правосудия, только с обратным уклоном. Классический пример — дело нотариуса из Брюэ-ан-Артуа[31], обвиненного в изнасиловании и убийстве без каких бы то ни было убедительных улик лишь на том основании, что он имел красивый дом, хорошую машину и пузо члена Ротари клуба. Что касается Бетюна, то там проблемы были те же, что и в Брюэ, как, впрочем, во всех бедных северных регионах: безработица, нищета, бесхозные шахтные отвалы и преступления на парковках, где одни неграмотные алкоголики насиловали других. Оба эти шага были продуманы и взаимосвязаны, но противоречия между ними возникли довольно быстро. Очень скоро Этьен почувствовал, что его затирают некоторые старшие товарищи по профсоюзу, активно занимавшиеся политикой. Эти сорокалетние участники событий 1968 года сумели воспользоваться приходом к власти левых сил и поделили между собой важные посты. На добрых лет двадцать они блокировали продвижение по служебной лестнице своих более молодых коллег; отныне способному и ловкому дебютанту оставалось рассчитывать только на крохи с барского стола. Шел второй семилетний срок президентского мандата Миттерана. Этьена, как молодую надежду левой юриспруденции, выбрали для участия в работе комиссии по реформе закона по исполнению наказаний, что могло бы открыть перед ним дверь министерского кабинета. Его стремление стать судьей было продиктовано, по его собственному признанию, склонностью к власти и комфортной жизни, а ведь он, обладая острым чувством классового сознания, не мог не понимать, что постепенно утрачивает связи со своей средой. Раньше судьи считались важными персонами, но в 1989 году, когда он закончил Национальную школу магистратуры, в табели о рангах судей поставили ниже супрефектов и, мало-помалу, перестали приглашать на официальные приемы. В отличие от большинства высокопоставленных государственных служащих, имевших, особенно в провинции, служебные машины и квартиры, судьи были лишены всяких льгот в натуральной форме. Они работали в плохо отапливаемых помещениях, без компьютера, со старым серым телефоном на столе и угрюмыми секретаршами. Всего за одно поколение важное лицо, всегда бывшее на привилегированном положении, стало обычным добрым малым: теперь он ездит в метро, питается в кафетерии из подноса с отделениями, и все чаще этот добрый малый оказывается женщиной, что безошибочно свидетельствует о пролетаризации профессии. У Этьена, любителя комфорта и буржуазного образа жизни, имелись все основания при первом же удобном случае переметнуться в лагерь более зажиточной и солидной публики. Он не сказал, каких золотых гор ему наобещали, но я знаю: он слишком горделив, чтобы хвастаться, и, полагаю, по этой причине выбрал — именно выбрал, а значит, имел из чего выбирать — должность рядового следователя среди сброда Па-де-Кале.
То, чем занимается в своем кабинете судья по исполнению наказаний, немного напоминает процедуру в кабинете психоаналитика. Он слушает и пытается понять, что способен понять человек, сидящий напротив него.
Его клиентура состоит из людей с серьезными проблемами: многие из них наркоманы и носители ВИЧ. Шансы на то, что они выкрутятся, ничтожно малы, добрые слова заведомо напрасны. Тем не менее, они все же есть — правдивые и уместные одновременно, иногда даже действенные.
Работая с такими потерянными, раздавленными личностями, с юных лет покатившимися по наклонной плоскости, Этьен обнаружил, что чем труднее ему понимать собеседника, тем спокойнее он становится. Глядя на чужие страдания, он инстинктивно входил в то состояние, что помогало ему переносить собственные муки, когда он болел раком. Он словно бросал якорь вглубь самого себя. Не надо раздражаться, не надо бороться, пусть все идет своим чередом: лечение, болезнь, жизнь. Не надо выдумывать умные фразы, пусть слова сами срываются с губ: и не факт, что они будут хорошими, но только так у хороших появится шанс быть услышанными теми, кому они предназначены.
Этьен часто рассказывает о себе. Тому, кто испытывает страх и презирает себя, он говорит про собственный страх, про свой искаженный до неузнаваемости образ, возникший однажды перед его внутренним взором. Больному он рассказывает о своей болезни. Говоря на эти темы, он отбрасывает стыдливую сдержанность. Два случая заболевания раком и ампутированная нога производят на его клиентов серьезное впечатление. Он это знает и без зазрения совести пользуется этим: хорошо, если его несчастья пойдут на пользу благому делу.
Кому или чему, на самом деле? Другому человеку? Более умному? Лучшему? Этьен сказал, что от такой мысли его тошнит. Что до меня, то я считаю ее справедливой. Чересчур благонамеренная и правильная, сказала бы Элен, но все же справедливая, и он был ее живым воплощением.
Что ты хочешь сказать? Что я нормальный парень, потому что у меня был рак и мне отрезали ногу? А если бы нет?
Нет, нет, я признаю: проблема гораздо сложнее, чем представляется на первый взгляд, можно болеть раком и остаться подлецом или идиотом, но на самом деле я сказал то, что имел в виду. А если я о чем-то умалчиваю, тем более, что не говорю здесь о Фрице Цорне или Пьере Казенаве, так это о том, что его, по-моему, вылечил его же рак.
Я пытаюсь представить себе молодого судью, ковыляющего по тротуарам Бетюна. Он живет не здесь, не стоит преувеличивать, он снял квартиру в Лилле. Привез свои книги, пластинки. По вечерам он снимает протез и в одиночестве ложится в постель. Всегда один. Лечение, физический недостаток, потеря шевелюры и волос на теле нанесли жестокий удар по его либидо. Теперь он чувствует себя лучше, да и волосы отросли, остроумия ему не занимать, вообще можно сказать, что он соблазнительный мужчина, но уж чего не скажешь, так это того, что у одноногого мужчины нет проблем в жизни и общении с женщинами. Он еще не встретил ту, кто примет его таким, какой он есть, кто полюбил бы его с двумя ногами, но встретит и полюбит его одноногого. Чувствует ли он, что скоро все изменится и к нему вернутся любовь и доверие? Или он уже потерял всякую надежду? Нет, он не отчаивается. Даже оказавшись на дне пропасти, он не считал свое положение безнадежным. Жажда жизни никогда не покидала его: после кошмарных сеансов химиотерапии она вела его в кафе напротив института Кюри и заставляла заказать здоровенный сэндвич с колбасой. Облокотившись на барную стойку, он уплетал его за обе щеки и думал, что жить все-таки хорошо, даже в шкуре Этьена Ригаля. Тем не менее, он был пленником явления, известного психиатрам как путаница понятий: любой выбор для него оказывался проигрышным. Решка — ты выигрываешь, орел — я проигрываю. Трудно перенести, когда тебя отвергают из-за того, что у тебя одна нога, но еще хуже оказаться объектом желания по той же причине. «Первый раз, когда девушка дала мне понять, что из-за этого не хочет со мной спать, — вспоминал Этьен, — я влепил ей оплеуху. Но однажды мне довелось услышать, как другая девица в присутствии кучи народа заявила: „Хочу трахнуться с Этьеном, меня дико заводит мысль о его деревянной ноге“. И, поверь мне, вынести такое еще тяжелее. Тем не менее, нужно научиться проглатывать и это. Мне помогло то, что в конце сексуальной пустыни я встретил девушку, которую в детстве изнасиловал ее собственный отец, а позже, в подростковом возрасте, она стала жертвой двух неизвестных насильников. Даже упоминание о сексе наводило на нее дикий ужас. В то время я тоже боялся секса, как огня. Как говорится, два сапога — пара. Несомненно, именно по этой причине мы оказались вместе в постели. Мы сделали все возможное, чтобы избавиться от страха, и наш опыт оказался просто потрясающим. Необыкновенным с сексуальной точки зрения, невероятным по нежности и самозабвению, одним из лучших в моей жизни. Я часто рассказывал об этом изнасилованным женщинам, а иногда и юношам, принимая их в своем кабинете. Я говорил им: „Да, то, что с вами произошло отрицательно сказывается на сексуальном поведении, это серьезная травма, неблагоприятный фактор, но вы должны знать, что есть люди, для которых ваше затруднение покажется сущей мелочью, и если вы согласитесь с этим, то сможете взглянуть на свою проблему другими глазами“».
Набирая в Гугле слова «сексуальность, увечье», я попал на сайт Overground, предназначенный для людей, испытывающих сексуальную тягу к инвалидам. Они называют себя «поклонниками» — по-английски devotees. Но среди них есть своего рода экстремисты — «претенденты», или wannabees, то есть те, кто жаждет лично перенести операцию по ампутации конечности, чтобы отождествлять себя с объектом своей страсти. Претенденты, переходящие от слов к делу, встречаются довольно редко, в большинстве своем они удовлетворяются спекуляциями вокруг самой идеи и делают фотомонтажи, изображая самих себя со столь желанной культей. Те, кто идет до конца, обрекают себя на страдания. Мне довелось читать свидетельские показания одного из них: на протяжении ряда лет он пытался найти «подходящего» хирурга, который согласился бы отрезать ему здоровую ногу, и в итоге тяжело ранил себя в ногу из охотничьего ружья, причем сделал это настолько успешно, что ампутация стала неизбежной. Поклонники и претенденты образуют весьма предосудительное, стыдливое сообщество и хотели бы избавиться от чувства стыда: мы не извращенцы, — говорят они, — конечно, наши желания довольно своеобразны и распространены лишь среди узкого круга лиц, но они естественны, и мы хотели бы иметь возможность говорить о них открыто. Они признают, что их желания труднореализуемы. Идеальную пару составили бы поклонник и претендент, жаждущий перенести ампутацию, тогда оба наслаждались бы своей взаимодополняемостью, пребывая в совершенной гармонии: большое преимущество интернета заключается в том, что он способствует встречам подобного рода, исходя из принципа, что все разрешено между соглашающимися сторонами, достигшими зрелого возраста, — даже, как это случилось несколько лет тому назад, заключению контракта между одним типом, желавшим съесть себе подобного, и другим, изъявлявшим готовность — вначале, по меньшей мере, — быть съеденным. Но подобный идеальный союз встречается крайне редко, особенно когда склонность претендента имеет ярко выраженный фантазматический характер. В жизни чаще всего приходится сталкиваться с ситуацией, когда поклонник — допустим, это мужчина — женат на женщине, которая ничего не знает о его желаниях и придет в неописуемый ужас, когда тайное станет явным. На интернет-сайте ему советуют действовать осмотрительно и неторопливо, предложить супруге поучаствовать в эротических играх с использованием костылей, но совершенно ясно, что в склонности к ампутации признаться куда сложнее, чем в пристрастии к содомии или ондинизму[32], и еще меньше шансов «обратить в свою веру» партнера, если ранее у того не замечалось тяги к инвалидам. Третий путь — самый роскошный для поклонника — встретить настоящего инвалида. В принципе, напрашивается мысль, что эти люди, чей физический недостаток у многих вызывает отвращение, должны радоваться, встретив тех, кого их увечье, напротив, привлекает. Проблема, которую не может скрыть даже интернет-сайт, ведущий активную пропаганду среди новых сторонников, состоит в том, что большинство невольных инвалидов — то есть подавляющая часть людей, перенесших ампутацию — реагируют точно так же, как Этьен, когда девица сообщила ему о своем желании переспать с ним из-за его деревянной ноги: их тошнит от отвращения. Влечение поклонников вызывает у инвалидов чувство брезгливости и обвинение в лицемерии: обхаживая женщину-инвалида, поклонник должен тщательно скрывать, что делает это по причине ее увечья, женщина должна думать, что желанна сама по себе.
Когда я приехал во второй раз, мы с Этьеном проговорили до самого утра. Перед завтраком он позвонил жене и предложил ей присоединиться к нам в итальянском ресторанчике, куда он водил меня во время предыдущего визита. Я мельком видел Натали на похоронах Жюльетт, и теперь с беспокойством думал, как она воспримет странную авантюру, затеянную мной и ее супругом, но как только эта решительная улыбчивая блондинка устроилась на банкетке рядом с ним, все мои сомнения улетучились. Казалось, ситуация веселила ее: Этьен доверял мне, она тоже, и оба с нескрываемым удовольствием наперебой рассказывали о том, что называли между собой «американской четвертью часа» — этого выражения я раньше я не слышал, и оно обозначало определенный момент на празднике, когда девушки брали инициативу в свои руки и сами выбирали кавалеров.
На календаре была осень 1994 года. Этьен закончил курс психоанализа. Объективно для него ничего не изменилось, но он чувствовал, будто в нем что-то открылось, и теперь мячом владеет команда под названием «жизнь». Психоаналитик подтвердил его ощущения, и они вместе решили провести еще один сеанс, теперь уже последний. Этот момент был волнующим: два раза в неделю в течение девяти лет ты говоришь какому-то человеку то, чего не сказал бы никому другому; завязываются совершенно своеобразные отношения, и вот по обоюдному согласию эти отношения прекращаются, ибо конечная цель их достигнута. После последнего сеанса Этьен отправился на Северный вокзал и сел на поезд до Лилля, где во второй половине дня ему предстояло повести первое занятие с группой молодых адвокатов. После занятий вся группа — в нее входила и Натали — собралась в кафе, чтобы перемыть косточки новому преподавателю. Одним Этьен очень понравился, другие высказывались резко против. Натали принадлежала к числу первых. Она считала его блестящим, оригинальным специалистом, отрицателем традиционного подхода к юриспруденции. Девушку волновал его мягкий голос, за тонким юмором угадывался богатый жизненный опыт, какая-то завораживающая тайна. Натали провела собственное расследование: узнала его адрес, выяснила, что он живет один, гуляет один, в одиночестве ходит во «Фнак» за книгами. Он нравился ей все больше и больше. На следующих занятиях ей показалось, что он интересуется девушкой с ее потока, но это ее ничуть не обеспокоило: во-первых, та девушка была уже помолвлена, а во-вторых, и это самое главное, хоть он об этом даже не догадывался, для нее он был мужчиной ее жизни. Она пригласила его на вечеринку, он не пришел. Непродолжительные курсы подходили к концу, оставалось всего несколько занятий. И тогда она отправилась к нему в суд и сообщила, что слушатели, неудовлетворенные программой, хотели бы прослушать хотя бы еще одну лекцию. На самом деле это было не так, но она подговорила десяток приятелей, и те стали статистами на последнем дополнительном занятии, состоявшемся на квартире Этьена и прошедшем в очень неформальной обстановке. В конце, когда все разошлись, Натали задержалась и предложила ему пойти в кино. Фильм назывался «Три цвета: Красный»[33], и повествовал об истории судьи — одноногого, пожилого и циничного мизантропа в исполнении Жана-Луи Трентиньяна. Но они не обратили на такое совпадение никакого внимания, потому что уже через десять минут после начала фильма Натали поцеловала Этьена. Весь оставшийся день они провели вместе, ночевать она осталась у него. Этьен понимал, что в его жизни вот-вот произойдет что-то невероятное, и испугался. У него была запланирована поездка в Лион, где он собирался провести неделю отпуска у знакомой, и он уехал в надежде успокоиться, собраться с мыслями. В Лионе он провел бессонную ночь и под утро понял, что влюбился, его любовь взаимна, надежна, тверда, и на ней он сможет построить свою жизнь. Утром Этьен позвонил Натали: я возвращаюсь, давай встретимся у меня дома; хочешь остаться со мной? Она приехала к нему с вещами, и с тех пор они больше не расставались. Но Этьену предстояло сказать ей еще кое-что, далеко не столь радостное: несмотря на то, что он уже несколько лет не делал тесты, не желая омрачать себе жизнь, он был почти уверен, что химиотерапия сделала его бесплодным. Натали не отрицала существования такого риска, поскольку хотела иметь детей, но она не стала зацикливаться на проблеме, а сразу занялась поисками ее решения. Она приобрела книгу биолога Жака Тестара[34] с описанием различных вспомогательных репродуктивных технологий: если не сработает ни один из них, у нас будут приемные дети, заявила она. Но, прежде всего, нужно пройти тест. Она все решила и организовала, ему оставалось лишь выполнять то, что от него требовалось. Натали приняла его таким, каким он был: с инвалидностью, страхами, возможной стерильностью — со всем тем, что угнетало его последние годы; все это шло одним комплектом, и этот комплект ее устраивал. Она сопровождала его в банк спермы, а через неделю они отправились туда за результатом. Секретарша сказала Этьену, что интерн хочет лично встретиться с ним, и это их встревожило, но когда интерн открыла дверь зала ожидания, то не смогла сдержать улыбку, заметив, как они жмутся друг к другу точно испуганные воробьи на краешке скамейки, обтянутой черным дерматином. И я тоже улыбнулся, видя их сидящими в обнимку на ресторанной банкетке спустя одиннадцать лет после того визита. «В последние дни мне приходилось сообщать много плохих новостей, — сказала им интерн, — поэтому мне хочется объявить хорошую: вы можете иметь ребенка». Выходя на улицу, они переглянулись: ну что, займемся? На следующий месяц Натали забеременела.
Она была родом с севера, этот север сидел у нее в печенках, как, впрочем, и у него. К тому же, один из его коллег, тоже специалист по уголовному праву, уже не раз говорил с умным видом человека, видящего дальше своего собеседника, что истинное призвание Этьена — судебное производство. Коллега был намного старше Этьена, придерживался правых взглядов, отличался безупречной честностью и относился к числу судьей старой закалки. Их взгляды во многом расходились, но они с уважением относились друг к другу, и Этьен был вполне готов положиться на его мнение; не имея ярко выраженной склонности, человек чаще всего действует наугад, что до меня, то я в подобных случаях полагаюсь на туманные советы «Книги Перемен»[35]. Хорошо, когда ты сам принимаешь решение, но можно принять неверное решение и пойти на поводу у постороннего человека, потому что вам нравится совет или заманчивое предложение, потому что вы хотите пустить жизнь по новому руслу, перестав цепляться за такое второстепенное обстоятельство, как ваше желание. «А ведь в самом деле, раньше я как-то не видел себя в роли члена суда малой инстанции, — размышлял Этьен, — но если месье Бюссьер уверен, что мне это подходит, то почему бы нет? Почему бы мне не выставить свою кандидатуру на освобождающийся пост в суде малой инстанции Вьена? Кроме того, Вьен находится совсем рядом с Лионом, Натали могла бы стать членом лионской коллегии адвокатов, и наконец, там теплее, чем в Бетюне».
~~~
Вьен, супрефектура департамента Изер, — городок с 30000 жителей, галло-римскими развалинами, старинным кварталом, бульваром с множеством уютных кафе и ежегодным джазовым фестивалем в июле. Вместе с тем, Вьен настолько буржуазен, насколько Бетюн обижен судьбой. Круг влиятельных горожан, коммерческие или судейские династии, строгие фасады особняков, за которыми в узком кругу происходят наследственные разборки: все это забавляло Этьена, оказавшегося вдруг заброшенным в глубинку, какой показывал ее в своих фильмах Шаброль[36], тем более, что он не собирался жить в Вьене, а лишь ездить туда три раза в неделю — полчаса на машине из района Перраш, где они с Натали нашли подходящую квартиру. Его рассказы искренне веселили Натали, ибо настоящий центр притяжения их жизни находился не там, а в этой ухоженной и со вкусом обставленной ими квартире, где вскоре появился на свет их второй ребенок. Однако, когда на первое же судебное слушание, проходившее под председательством Этьена, адвокат явился с получасовым опозданием и даже не потрудился извиниться, молодой судья понял, что его испытывают на прочность, и поддаваться такому беспардонному нажиму он не имеет права. Вьенская адвокатура сложилась двадцать лет тому назад, эти же люди останутся на своих местах еще двадцать лет; до них в коллегии были их родители, после них будут их дети, и когда появляется новый судья откуда-то со стороны, их действия предельно ясны — чужак должен понять, кто в доме хозяин, а кто гость, и кто под чью дудку будет плясать. Этьен вызвал к себе того адвоката и вежливо сказал: «Поскольку вы опоздали в первый раз, я не стану предавать данный случай огласке, но, пожалуйста, воздержитесь от повторения, ибо для вас это может закончиться весьма плачевно».
Второго случая не было.
Когда Этьен был судьей по исполнению наказаний, он принимал людей в своем кабинете. Одетый в джинсы и футболку, как и его клиенты, он выслушивал их, давал советы, находил конкретные пути решения их проблем, причем чаще всего они не имели под собой юридической основы. Такие взаимоотношения могли тянуться годами. Теперь же, в суде малой инстанции, он носил мантию и восседал на возвышении в окружении секретаря суда и судебного исполнителя, также облаченных в мантии и обращавшихся к нему с иерархическим почтением, чересчур чопорным, на его взгляд. На первом же слушании не обошлось без ляпа: выходя из совещательной комнаты он галантно посторонился, пропуская вперед свою секретаршу, и эта причуда судьи застала ее врасплох. Она отказалась проходить первой, смутившись так, словно заподозрила его в желании заняться с ней содомией, воспользовавшись подвернувшимся случаем. После этого Этьен заметил, что секретарша старается держаться на приличном расстоянии позади него, пока он не переступит порог. До последнего момента она делала вид, что раскладывает папки на столе, при этом ее руки заметно дрожали. Про себя Этьен улыбался, наблюдая за формальной церемонностью, но ему не хватало личных взаимоотношений с подсудными. Он принимал решения, влиявшие на жизнь людей, которых он видел в лучшем случае минут пять-десять. Теперь он имел дело не с личностями, а с делами. Более того, все приходилось делать быстро. Загруженность канцелярий вела к отправлению механического правосудия: такое-то нарушение карается таким-то наказанием, такой-то изъян в контрактных обязательствах ведет к принятию такого-то решения, при этом все делается в спешке, тем более что продуктивность, то есть количество вынесенных решений, является решающим критерием при аттестации судьи, а значит и его карьерного роста. Этьену нравилось работать в быстром темпе, но он дал себе слово не гнаться за количеством, а видеть в каждом деле единственную в своем роде оригинальную историю, требующую особенного, нетривиального правового подхода.
Осенью я дважды ездил во Вьен, чтобы побродить по дворцу правосудия. Это красивое здание XVII века возвышается над маленькой площадью, где находится гордость города — храм Августа и Ливии. Когда я не был «на аудиенции», как однажды выразился неожиданно для самого себя, я встречался с судьями, секретарями суда и адвокатами — всеми теми, кому рекомендовал меня Этьен. Я допытывался у них, чем все-таки занимается судья малой инстанции, как Этьен и Жюльетт выполняли свою работу, а они спрашивали, зачем мне все это надо, как я собираюсь использовать полученные сведения. Почтительная дань уважения недавно ушедшей из жизни свояченице? Статья о правосудии во Франции? Памфлет на тему о чрезмерной задолженности? Я ничего не мог им ответить, но чувствовал: им льстит интерес писателя к работе судов малой инстанции, никогда не привлекавших широкое внимание публики, и в то же время они держались настороже. Имя Этьена открывало мне двери, но не так широко, как я рассчитывал. Я позвонил судье — его преемнице — и, ссылаясь на Этьена, сказал, что в течение одной-двух недель хотел бы присутствовать на заседаниях суда, на что получил ответ: без соответствующей подготовки подобные стажировки не организуются. Я ни слова не говорил о стажировке, просто предупреждал ее из вежливости, что собираюсь посещать судебные слушания, в большинстве своем открытые, но, как это часто бывает, когда делаешь глупость и просишь никому ненужное разрешение, муха тут же превращается в слона: судья заявила, что не может взять на себя такую ответственность, и за разрешением мне следует обратиться аж к первому председателю апелляционного суда. «А почему сразу не к министру юстиции?» — пошутил Этьен, совсем не удивленный таким поворотом. И тут до меня дошло, что на новую хозяйку кабинета давит тень ее предшественника, и она, должно быть, видит во мне наемного шпиона, эмиссара Императора, вернувшегося, чтобы вызвать к жизни призраки Реставрации.
В конце концов, я все же устроил нечто вроде стажировки и сам удостоверился в том, что мне сказал Этьен: судья малой инстанции — это эквивалент участкового врача в органах юстиции. Непогашенные задолженности по квартплате, выселения, удержания из зарплаты, опека над недееспособными или престарелыми лицами, тяжбы по суммам менее 10000 евро, если больше, то это уже компетенция суда большой инстанции, занимавшего престижную часть дворца правосудия. Те, кто посещал заседания суда присяжных или даже исправительного суда, могут сказать, что суд малой инстанции представляет собой непривлекательное зрелище, в худшем случае — жалкое. Там все мелкое: ущерб, возмещение убытков, ставки. Это обитель бедности, но она не обернулась преступностью. Судьи барахтаются в липкой тине обыденности, имеют дело с людьми, погрязшими в заурядных и вместе с тем непреодолимых трудностях, и чаще всего даже не видят своих клиентов, поскольку те не приходят на слушания, ни их адвокатов, потому что адвокатов у них нет; и тогда судьи рассылают судебные решения заказной почтой, добрая половина которой остается невостребованной.
На севере специалиста по уголовному праву обеспечивали работой наркоманы и ВИЧ-инфицированные, тогда как во Вьене специалист по гражданскому праву занимался тяжбами в кредитно-потребительской сфере. Вьен, как я уже говорил, — город буржуазный, а Изер — не самый бедный из французских департаментов, но Этьену хватило нескольких недель, чтобы убедиться: он жил в мире, где люди задыхались в долговых тисках и не могли из них выбраться. На судебных заседаниях по гражданским делам мелочная разборка по поводу смежной стенки или чрезмерному потреблению воды становилась глотком свежего воздуха, ибо позволяла хоть ненадолго отвлечься от монотонной череды заявлений кредитных учреждений по вызову в суд несостоятельных должников.
К такой стороне социальных бед Этьен не был подготовлен ни жизнью, ни учебой. За годы, проведенные в Национальной школе магистратуры, один из преподавателей лишь однажды упоминал о праве потребления, при этом говорил с таким ироничным пренебрежением, будто речь шла о праве, предназначавшемся для дураков, для тех, кто подписывает контракты, не читая, и не заслуживает помощи. В учебниках говорится: основа гражданского права — контракт, а основа контракта — свобода воли и равенство сторон. Никто не берет или не должен брать на себя обязательства против своей воли. Те, кто это делает, должны быть готовы к последствиям: следующий раз они будут осторожнее. Этьену не нужно было тратить восемь лет в Па-де-Кале, чтобы понимать: свободы и равенства между людьми нет, но это не меняло его взглядов — иначе он не был бы юристом — на простую идею: контракты должны соблюдаться. Он вырос в буржуазной среде и никогда не испытывал настоящих финансовых трудностей. Они с Натали имели общий счет в банке, сберегательную книжку, договор страхования жизни и заем на жилье, который погашали автоматическими списаниями с банковского счета, рассчитанными таким образом, чтобы никогда не волноваться хватит ли им денег на отпуск. Что касается револьверного кредита, то Этьен знал лишь одно: клиентская карточка «Фнака» давала ему право пользоваться некими хитроумными платежными механизмами, но он никогда к ним не прибегал, предпочитая оплачивать свои диски и книги наличными или очками лояльности, если денег на все новинки не хватало. Изредка — поскольку не числился в списках клиентов — он находил в почтовом ящике яркие рекламные буклеты различных кредитных учреждений. «Черпайте деньги из вашего резерва, когда захотите», — уговаривал Sofinco. «Доставьте себе удовольствие прямо сейчас», — предлагал Finaref. «Нужны деньги? Как быстро?» — вопрошал Cofidis. «Самое время воспользоваться», — убеждал Cofinoga. Все эту макулатуру Этьен, не читая, отправлял в мусорную корзину.
В ходе судебных слушаний перед ним прошло немало бедолаг, проглотивших разноцветную наживку, и с тех пор он смотрел на рекламные листки уже другими глазами. Этьену открылось, как просто убедить бедняков, что даже они могут приобрести стиральную машину, автомобиль, приставку «Нинтендо» для детишек или просто продукты питания, что они возместят долг позднее, и это обойдется им не дороже, чем при оплате наличными. В отличие от контролируемых и недорогих ссуд, предоставляемых обычными банками со своими кредитными учреждениями-филиалами, подобные контракты заключаются в мгновение ока: достаточно поставить подпись внизу рекламки, носящей название «предварительная оферта». Это можно сделать в кассе магазина, документ тут же обретает силу и продлевается по умолчанию. Покупатель берет все, что хочет и когда хочет, постепенно он начинает осознавать себя владельцем дармовых денег. Предложение составлено так, что никоим образом не развеивает это приятное чувство. Например, речь идет не о займе, а о «финансовом резерве», не о кредите, а о «платежном механизме». Вам говорят: «Вам нужны 3000 евро? 3000 евро за 1 евро в месяц вас устроит? Уважаемая мадам, вы зашли вовремя. Дело в том, что нам рекомендовали вас как надежного клиента — нашего магазина, нашего центра посылочной торговли, — достойного воспользоваться совершенно исключительным предложением. Вы прямо сейчас можете открыть кредитный резерв на сумму до 3000 евро». Сведения о чрезмерно высокой стоимости этого кредита набраны крохотным шрифтом на обороте оферты, кто-то знакомится с текстом, кто-то нет. Чаще всего нет. Как бы то ни было, бумажку подписывают, ибо при отсутствии денег это единственный способ купить все необходимое, впрочем, не всегда такое уж необходимое, скорее просто то, что хочется, ведь даже бедным чего-то хочется, и в этом заключается вся драма. Там, где банк из осторожности откажет, кредитное учреждение всегда скажет «да». Именно поэтому банкиры любезно отправляют туда ненадежных клиентов. Кредитному учреждению все равно, что вы уже по уши погрязли в долгах. Там ничего не проверяют: подпишите оферту, сорите деньгами — это все, что от вас требуется. Все идет хорошо, пока вы ежемесячными выплатами погашаете свой долг, точнее долги, поскольку подобные кредиты имеют свойство накапливаться. Вы и глазом не успеете моргнуть, как наберете с десяток коварных карточек; как следствие, неизбежно начнутся проблемы с выплатами: вы не потянете. И тогда кредитное учреждение подает иск в суд. Оно требует взыскания причитающихся ему сумм плюс процентов по контракту, плюс пени, также предусмотренной контрактом. В результате получается сумма намного большая, чем вы могли себе представить.
В этом году состоялся процесс, наделавший много шума в прессе. Речь шла о семейной паре, чей ежемесячный доход составлял 2600 евро: он был рабочим, она — санитаркой. Они хотели убить пятерых своих детей и покончить жизнь самоубийством. Двенадцать лет семья жила в кредит, имела шесть банковских счетов, двадцать один револьверный кредит, пятнадцать потребительских карточек и около 250000 евро долга, но наступил момент, когда кредиторы потребовали возврата денег. Заманчивые предложения сменились настойчивыми требованиями погасить задолженность, причем все заимодавцы обрушились на семью одновременно. Стало невозможным покрывать один кредит за счет другого, открывать новую кредитную линию с расчетом выгадать время. Игра была закончена. Последней, еще незаблокированной кредитной карточкой супруги воспользовались для покупки новой одежды, чтобы их дети в красивых обновках могли отправиться в мир иной — «такой же, только без долгов», как с пугающей искренностью сказал глава семейства. Коллективного самоубийства не получилось, погибла только одна из девочек. По приговору суда присяжных отец получил пятнадцать лет, мать — десять. Этот процесс взбудоражил всю Францию. «Дело трогательное, — сказал Этьен, — но на самом деле не показательное, поскольку семья Картье пользовалась кредитом абсолютно беспечно и жила не по средствам. Они покупали телевизор и игровую приставку для каждого ребенка, самую дорогую электробытовую технику, часто и без нужды меняли машину, мебель, аппаратуру, подписывались на все что ни попадя; одним словом, относились к такой категории людей, которым даже самый бестолковый продавец мог впарить все, что ему вздумается. Социологи называют людей этого типа „активными“ сверхдолжниками, из-за экономического кризиса их стало значительно меньше по отношению к „пассивным“ сверхдолжникам. Последних нельзя упрекнуть в чрезмерном потреблении и безрассудном использовании кредита лишь на том основании, что они бедны, очень бедны, и у них нет другого выбора кроме как брать в долг, чтобы заполнить тележку в магазине пакетами с лапшой. Как правило, к ним относятся люди старше пятидесяти лет с минимальным реабилитационным доходом[37] или одинокие женщины с детьми, не имеющие ни специальности, ни работы, ни перспективы найти ее — если очень повезет, они смогут устроиться куда-нибудь на неполный рабочий день с низкой зарплатой, без всяких гарантий и с классическим негативным последствием: в итоге выяснится, что выгоднее не работать, а жить на гарантированное пособие. У таких есть только долги и нет средств выплачивать их. Дела на этих должников стопками громоздятся на столе судьи малой инстанции».
И как же поступает судья малой инстанции? В принципе, у него не так уж много места для маневра. Он прекрасно видит, что одну сторону представляет загнанный в угол бедняк, другую — крупное, беспощадное кредитное учреждение, но оно по определению не обязано сентиментальничать и кого-то жалеть, как, впрочем, и сам судья. Между бедняком и крупной конторой заключен договор, и роль судьи заключается в обеспечении выполнения договорных обязательств: он должен либо заставить должника платить, либо принять решение описать его имущество. Проблема заключается в том, что должник чаще всего оказывается неплатежеспособным и даже не подлежащим обращению взыскания, то есть обладает лишь самым необходимым для выживания. До середины XIX века выходом из тупика было заключение должника в долговую тюрьму. Этьен рассказал мне, что это установление было упразднено не из соображений гуманности, а прежде всего потому, что содержание заключенных возлагалось на их кредиторов, а не на государство, и экономические интересы возобладали над чувством удовлетворения от вида должника, упрятанного за решетку. В наши дни существует другое вариант — комиссия по сверхзадолженностям.
Этьен еще учился в Национальной школе по подготовке и совершенствованию судебных работников, когда в 1989 году под давлением крайней социальной необходимости в каждом департаменте страны согласно закону Нейерц[38] были созданы комиссии, отвечавшие за поиск решения в тех случаях, когда его, по всей очевидности, не существовало. В глазах преподавателя, потешавшегося над потребительским правом, имевшим репутацию незаслуженной подпорки для дураков, введение совершенно скандального с юридической точки зрения новшества — права не платить по долгам — выглядело почти что концом света. Теоретически, речь шла о другом — об оценке возможностей должника делать ежемесячные выплаты при условии затягивания пояса и предложении заинтересованным сторонам, как должнику, так и кредитору, графика погашения долгов. На самом деле, после жонглирования отсрочками, переносами и продлениями сроков выплат наступал момент, когда говорить можно было только о ликвидации долгов. Спустя пятнадцать лет, когда ситуация ухудшилась еще больше, этот юридический казус окончательно оформился c принятием закона Борлоо[39], вводившего в судебную практику «процедуру персонального восстановления», известную также под названием «гражданская несостоятельность». С этого момента к физическим лицам стал применяться принцип коммерческого банкротства. Иными словами, если при рассмотрении их дел сложившаяся ситуация расценивалась как «совершенно безнадежная», — а вынесение такого заключения в любом случае представляется крайне спорным, — их долги просто-напросто аннулировались, и кредиторам ничего не оставалось делать.
Ничего подобного еще не было в 1997 году, когда Этьен приехал во Вьен. Но общества потребителей и парламентарии, как левые, так и правые, активно работали в этом направлении, выступая против лоббирования кредитных учреждений. В качестве примера они приводили Эльзас и Мозель, где подобная практика применялась уже много лет, и катастрофы не произошло — земля не сошла со своей оси. С 1998 года закон Обри сделал возможным частичное освобождение от долгов, и этот путь все чаще и чаще стали рекомендовать комиссии по сверхзадолженностям. Следовать этим рекомендациям или нет зависело от судьи, его взглядов на право и жизнь.
Во Вьене я посетил слушания нескольких дел по сверхзадолженностям. К тому времени Этьен уже не занимался судопроизводством, и председательствовал на тех судебных заседаниях судья Жан-Пьер Риё. Он был предшественником Жюльетт на этой должности, и после ее смерти был назначен временно исполняющим обязанности судьи. Этьен проработал с ним два года и отзывался о нем наилучшим образом. «Ты сам увидишь, — сказал он, — Риё — моя полная противоположность, но он знает, где он». В устах Этьена странная фраза «он знает, где он» являлась комплиментом самого высокого достоинства. Сначала я не улавливал ее смысл, но теперь он стал для меня понятнее, и причина того, несомненно, заключается в том, что я сам стал лучше понимать, где я. Жан-Пьер Риё — пятидесятилетний здоровяк, в прошлом регбист и воспитатель малолетних правонарушителей, ставший судьей уже в зрелом возрасте, любил вспоминать, что до 1959 года судья малой инстанции назывался мировым судьей. Смысл своей профессии он видел в примирении сторон и поиске путей, позволяющих людям договариваться между собой. А еще ему очень нравились выезды на места совершения правонарушений, к сожалению, из-за нехватки времени они проводились все реже и реже. Допустим, человек обращается к вам с жалобой: «Фирма „Пупкин“ установила мне ворота с электрическим приводом, но они не работают». Что вы делаете? Вы отправляетесь посмотреть на эти ворота. Вы вызываете машину, берете с собой секретаршу, звоните на фирму «Пупкин», чтобы они тоже приехали по указанному адресу и, если повезет, договариваетесь подписать на месте протокол о соглашении сторон, после чего все отправляются пропустить по стаканчику. Такой крестьянский стиль работы был чужд Этьену. Он не любил разъезжать по всякого рода вызовам. Ему нравилось право в чистом виде, тонкость юридического рассуждения, тогда как Жан-Пьер охотно соглашался выступать в роли выездного юриста. «Я ничего не понимаю в праве, — пожимал он плечами. — Я лишь хочу, чтобы люди не жульничали и не крали».
В отличие от судебных заседаний по гражданским делам, проходивших в большом зале суда, слушания по сверхзадолженностям проводились в маленьком помещении, прозванном библиотекой из-за того, что там на единственном стеллаже пылились несколько томов законов. На секретаре суда красовалась мантия и кружевные брыжи, зато судья сидел в рубашке без пиджака. Глядя на него, можно было подумать, что находишься в офисе Национального агенства по безработице или какого-то социального учреждения, и то, что посетитель мог видеть и слышать там, лишь усиливало это впечатление.
Ситуация не предполагает обилия вариантов. Допустим, люди подали документы в комиссию по сверхзадолженностям — источник информации для Банка Франции в каждом департаменте («можно подумать, у Банка Франции нет других дел», — заметил Жан-Пьер). Вполне возможно, что их досье будет объявлено не подлежащим принятию, и они обжалуют это решение. Может статься, его примут, и комиссия разработает график погашения долгов, но один или несколько кредиторов оспорят его, ибо он уменьшает или даже аннулирует их долговое требование. Наконец, существует вероятность того, что судья узаконит план комиссии без всяких слушаний.
Прежде чем секретарь суда пригласила клиента в зал заседания, Жан-Пьер бросил взгляд на обложку папки с документами. Величина графы с именами кредиторов позволяла оценить размер ущерба. Поскольку речь шла о мадам А., он кивнул головой — бывало и хуже.
Мадам А. — сорокапятилетняя толстушка в обтягивающем зелено-лиловом спортивном костюме, с короткой челкой на лбу и большими очками причудливой формы на носу явно чувствовала себя не в своей тарелке. Задавая вопросы, Жан-Пьер всячески старался ее успокоить. «Ну, хорошо, — добродушно сказал он, — давайте посмотрим, что мы можем для вас сделать». И уже по его тону было понятно, что он как-то попытается помочь. Мадам А. зарабатывала 950 евро в месяц, работая санитаркой, растила двоих детей шести и четырех лет, получала на них пособия, а также субсидию на оплату жилья, но, поскольку она работала, субсидия была уменьшена, и теперь покрывала всего лишь треть квартирной платы. Ситуация стала критичной, когда три года назад она развелась с мужем, поскольку все расходы выросли вдвое. Когда Жан-Пьер спросил, есть ли у нее машина, женщина напряглась, почувствовав в этом вопросе опасность — на машину можно было наложить арест — и поспешила объяснить, что автомобиль ей крайне необходим, чтобы ездить на работу. Жан-Пьер ответил, что никто не собирается трогать ее машину, тем более, что ей больше десяти лет и она, пардон, не стоит даже ломаного гроша. Ну, а что насчет пособия по присмотру за детьми? Вы его получаете? Да, смущенно призналась мадам А., словно в этом было что-то постыдное.
На основании полученных сведений комиссия высчитала по таблице, предусмотренной Трудовым кодексом, ту часть ее доходов, что могла быть отведена на возмещение долгов — 57 евро в месяц. Вместе с невыплаченными налогами задолженность Государственному бюро по обустройству и строительству во Вьене, сдававшему ей квартиру, банку «Креди Мюнисипаль де Лион» и кредитным учреждениям «Франс-Финанс» и Cofinoga составляла 8675 евро. По расчетам комиссии выходило, что за десять лет мадам А. может возместить не более 6840 евро. Оставались еще 1835 евро, и комиссия предлагала этот долг ликвидировать. Но тогда требовалось определить, кто из кредиторов понесет ущерб. Прежде всего, должны быть уплачены налоги, таков закон. За ними идет Государственное бюро Вьена по обустройству и строительству — кредитор с социальной направленностью, поэтому разорять его нет никакого резона. Значит, ни с чем остаются «Креди Мюнисипаль», «Франс-Финанс» и Cofinoga. Им-то комиссия и направила письма с соответствующим предложением. Два учреждения на них никак не отреагировали, что означало их согласие. Зато «Франс-Финанс» ответил протестом, и мадам А. это сильно обеспокоило, потому что кредиторы выслали ей очень жесткое письмо с утверждением, будто она не хочет платить, хотя им известно, что она в состоянии вернуть долг. «У вас есть письмо?» — спросил Жан-Пьер. Шмыгая носом, мадам А. порылась в целлофановом файлике, который не выпускала из рук, словно это был спасательный круг. Жан-Пьер пробежал письмо глазами и спросил, общались ли кредиторы с ее соседями, звонили ли ей на работу. Ответ был утвердительный. «Хорошо, — сказал Жан-Пьер. — Сейчас я объясню вам, как мы поступим. Я должен вынести решение не позднее двух месяцев, таков закон, но я предпочитаю сообщить его вам прямо сейчас. Прежде всего, я приму предложение комиссии. Это значит, что я аннулирую ваш долг перед „Франс-Финанс“, тем самым они лишатся права посылать вам письма, звонить на работу и беседовать с соседями. Если они это сделают, то нарушат закон, и тогда вы сможете прийти ко мне с жалобой. Теперь, что касается вас: вы должны ежемесячно выплачивать 57 евро налоговой инспекции и Государственному бюро по обустройству и строительству. Эти выплаты обязательны и не подлежат обсуждению. Пока вы это делаете, пока вы скрупулезно соблюдаете график, вам не о чем беспокоиться. Следующий момент: вы не должны брать новых кредитов. Никаких. Вам все ясно?» Мадам А. все поняла и с облегчением удалилась.
Как только за ней закрылась дверь, Жан-Пьер вздохнул и сказал: «Не сомневаюсь, она будет делать все, что сможет. Только я не уверен, что у нее все получится. Хотелось бы мне знать, как выкрутиться в ситуации, когда получаешь 950 евро в месяц, имеешь двух детишек, платишь полтора евро за литр бензина, ибо без машины никак не обойтись — она нужна, чтобы ездить на работу, при этом квартплата растет, а субсидия на оплату жилья снижается. Меня разбирает смех, когда всякие балаболы утверждают, будто план по выходу из сверхзадолженности — это пустяк, вам списывают долги и баста! На самом деле жизнь превращается в ад, ты только и делаешь, что платишь, платишь в течение десяти лет, не можешь отложить ни гроша, взять кредит, улучшить бытовые условия. Все подсчитано настолько точно, что ты не имеешь права на ошибку: малейший непредвиденный расход превращается в катастрофу. Стоит расслабиться хоть на миг, и ты покойник. Поверь: большинство из тех, кто приходит сюда, непременно возвращается. С ней, надеюсь, все будет хорошо, но эти… ты только взгляни на список».
На обложке дела супругов Л. я насчитал не меньше двадцати кредиторов, среди них были банки, арендодатели, кредитные учреждения, владельцы СТО и даже мелкие торговцы. Супружеская пара пользовалась кредитом, где только можно, и не смотря на то, что по отдельности размеры задолженностей не впечатляли, общая сумма выглядела очень внушительно. Месье и мадам Л. вошли в зал. Обоим было около тридцати, мужчина отличался крайней худобой и землистым цветом лица, его левую щеку периодически сотрясал нервный тик, зато румяная пышнотелая дама являла полную противоположность своему мужу, и если мадам А. на протяжении всего заседания едва сдерживала слезы, то она пребывала в полной апатии. Как выяснилось, пара недавно рассталась, но отвечать по долгам решила совместно. За женщиной сохранилась квартира, где она проживала с четырьмя детьми, мужчина ночевал в неисправной машине. Дама несколько месяцев работала официанткой, а ее бывший муж — агентом по продаже товаров на дому: пытался сбагривать огнетушители весом больше пятидесяти килограммов старикам, которые не могли даже приподнять их. Его уволили из-за низкого уровня продаж, а она оставила работу из-за сломанной машины: кафе закрывалось поздно ночью, когда автобусы уже не ходили, и добраться домой было не на чем. В довершение ко всему, оба оказались серопозитивны. Напрашивается вопрос, почему при ограниченных размерах социальной помощи, наличии крупного долга и практически нулевой надежде на «погашение всей задолженности в случае восстановления имущественного состояния», согласно действующей юридической формулировке, для них не установили факт гражданской несостоятельности, что означало бы списание всех долгов, а направили в комиссию по сверхзадолженности, не обладающую такими полномочиями. Долг четы Л. составлял почти 20000 евро. Их платежеспособность оценили — один Господь знает, как — в 31 евро в месяц. Этого оказалось достаточно, чтобы разработать десятилетний график погашения долга без малейшей надежды на его соблюдение. Но сверх того они ничего не просили, было видно, что люди измотаны и нуждаются в передышке, в нескольких неделях жизни без давления со стороны фирм по взысканию задолженностей, пустивших в ход все средства, несмотря на очевидную неплатежеспособность должников: на их почтовый ящик клеились броские красные стикеры, об их проблемах информировали соседей и даже приставали к детям с требованием передать родителям: «Если они не вернут долг, вас выгонят из дома. Папа и мама любят вас, они не хотят, чтобы вы ночевали на улице, поэтому попросите их заплатить то, что они должны. Может быть, они послушают вас, своих детей». «Мне не впервой сталкиваться с такой грязью, так все и происходит, — добавил Жан-Пьер, — но хуже всего то, что негодяи, занимающиеся этим сволочным делом, — такие же бедолаги, как и их жертвы. Их каждую неделю видишь в комиссии по сверхзадолженности, а когда спросишь, чем они занимаются, то выясняется, что на условиях почасовой оплаты они ишачат на конторы по вышибанию долгов, но как только в оборот берут их самих, не могут сообразить, что к чему». Короче, Жан-Пьер спросил у Л., не лучше ли будет, если он вынесет решение об их гражданской несостоятельности, и пояснил, что это означает списание всех долгов, но бывшие супруги отказались: все документы уже собраны, и они слишком устали, чтобы все начинать сначала. Жан-Пьер только вздохнул: «Но вы уже видели свой график погашения задолженности? Видели, что должны ежемесячно выплачивать по 31 евро?» Последовал утвердительный кивок с коротким «да», и у меня сложилось впечатление, что, скажи он 310 или 310000 евро, ответ был бы таким же. Прежде чем отпустить посетителей, Жан-Пьер решил убедиться, что они находятся под надзором служб социальной помощи, и где-то есть люди, к которым при необходимости они могут обратиться. Месье и мадам Л. снова ответили «да, да» и торопливо вышли, словно не могли больше находиться в этом зале и отвечать на неприятные вопросы. Установленный для них график погашения задолженности и официальная повестка были разосланы всем кредиторам. С возражением выступило только одно кредитное учреждение, но никто из их представителей в суд не явился: скорее всего, там трезво оценили ситуацию и посчитали дело заведомо проигрышным. Однако, выйдя из зала, чтобы пригласить следующих клиентов, секретарь суда вернулась с удивленным лицом в сопровождении мужчины в клетчатой рубашке. Он также пришел по делу месье и мадам Л., получив соответствующую повестку. Мужчина работал в «Интермаркете», и на него повесили два чека без покрытия на сумму 280 евро. Услышав это, я подумал, что «Интермаркет» не обеднеет, если недосчитается 280 евро. Но все оказалось не так просто: на самом деле речь шла не об «Интермаркете», а о небольшом продовольственном магазине самообслуживания, с которым был заключен договор о переуступке права пользования товарным знаком. Этот мини-маркет находился в Сен-Жан-де-Буме, небольшой деревне неподалеку от Розье, а мужчина в клетчатой рубашке был вовсе не циничным представителем крупной торговой фирмы, а низкооплачиваемым наемным работником, и если в кассе недосчитаются 280 евро, ему придется заложить эту сумму из своего кармана. Мужчина столкнулся с Л., когда они выходили из здания суда, он узнал их и, не скрывая разочарования, признал, что выглядели они не лучшим образом. «Вы сами это сказали, — со вздохом подтвердил Жан-Пьер, — поэтому я не собираюсь рассказывать вам байки. К сожалению, наступил момент, когда мы можем лишь констатировать факты. Мне не по силам тягаться с Банком Франции, я не могу найти деньги там, где их нет. Взгляните на опись: множество кредиторов, практически нет доходов, четверо детей, так что…» «Так что?» — переспросил работяга из деревенского мини-маркета. «А то, что вы видели график погашения. Банк Франции предложил им возместить часть долгов, остальные будут списаны». После непродолжительного молчания мужчина расстроенно пробормотал: «А-а… значит, вот так». И хоть он понимал, что рассчитывать на иной исход не приходилось, такой финал был ему не по душе, но особенно больно задевало то, что судья выступал в поддержку предложенного решения. С документом в руке Жан-Пьер встал с кресла, обошел стол и присел рядом с посетителем: «Смотрите, не все так плохо. График выплат рассчитан на 10 лет и, честно говоря, кажется мне несколько сомнительным, если учесть неустроенность их жизни. Но, обратите внимание: то, что они должны вам, списанию не подлежит. Согласно плану, пятьдесят три месяца вы не получаете ничего — за это время возмещаются долги приоритетным кредиторам, — затем девять месяцев вам выплачивают по 31 евро. Вполне вероятно, вы вернете ваши деньги через четыре года с хвостиком. Я не могу вам этого обещать, я не знаю, что с ними будет через четыре года, но это возможно». Мужчина в клетчатой рубашке ушел; разговор с судьей оптимизма ему не добавил, но и не лишил надежды.
Этьен осваивал профессию судьи малой инстанции рядом с Жан-Пьером. По существу, они придерживались одних взглядов на юриспруденцию. Они считали, что кредитные учреждения заходят слишком далеко, и при любом удобном случае не упускали возможности их прижучить. Но они шли наощупь, пытались решать проблемы точечно, не подводя под них юридическую базу, не стараясь создавать прецеденты. Позднее Этьен узнал, что другой судья малой инстанции, Филипп Форе, превратил свой суд в Ньоре в настоящий форпост защиты прав потребителя. Этьен знал себе цену, он не намеревался скромно стоять в сторонке и потому никогда не стеснялся спрашивать, если чего-то не понимал, или же брал пример с тех, кто обладал большим опытом и знаниями. Он связался с Форе и взял на вооружение его методы, существенно отличавшиеся от эмпирического подхода Жан-Пьера.
Форе закончил Национальную школу по подготовке и совершенствованию судебных работников в один год с Этьеном, но сразу же попал на пост судьи малой инстанции; как раз в это время на местах начали создаваться комиссии по сверхзадолженности. Несмотря на происхождение из бедной семьи, а может именно по этой причине, Форе испытал потрясение после знакомства с новым законом. Его суть шла вразрез со всем тем, чему его учили на протяжении долгих лет учебы — неукоснительно соблюдать договора и уважать право, не предназначенное для дураков. Относительно последнего, его мнение вскоре изменилось: право существовало и для дураков, для невежд, для всех тех, кто подписал договор, но кого все-таки «кинули».
Однако, для борьбы с жульничеством существовал специальный закон, известный как закон Скривенер. Принятый в 1978 году во время президентства Жискара д’Эстена, он отличался не столько либеральной, сколько социал-демократической направленностью, в том смысле, что ограничивал неприкосновенную до того свободу договоров.
По чистой либеральной логике, все люди свободны, равны и являются достаточно взрослыми, чтобы договариваться между собой без участия государства. По чистой либеральной логике, домовладелец имеет полное право предложить своему квартиросъемщику арендный договор, согласно которому в любой момент может выставить его на улицу или вдвое увеличить арендную плату, потребовать гасить свет в семь часов вечера или носить ночную рубашку, а не пижаму: коль скоро квартиросъемщик обладает симметричным правом не соглашаться с таким договором, все идет хорошо. Однако, закон принимает во внимание действительность и тот факт, что стороны, на самом деле, не так свободны и равны, как в либеральной теории. Один имеет, другой просит, у одного есть выбор, у другого нет. Именно поэтому арендные договора, как, впрочем, и кредитные, регулируются ограничениями. С одной стороны, кредиты нужно поощрять, так как они оживляют экономику, с другой стороны, нельзя позволять людям злоупотреблять ими, поскольку это разлагает общество. В общем, закон Скривенер объявлял неправомерными статьи, делавшие контракт чересчур кабальным, и обязывал заимодавца, поскольку именно он составляет контракт, выполнять ряд конкретных требований, использовать типовые образцы, указывать реквизиты, соблюдать требования удобочитаемости, одним словом, предпринимать шаги, необходимые для того, чтобы кредитополучатель имел хотя бы представление о том, во что он ввязывается.
Проблема заключалась в том, что кредитные учреждения, чью деятельность, как предполагалось, будет регламентировать закон Скривенер, его игнорировали, а потребители — те, кого он должен был защищать, — его просто не знали. Флоре изучил закон досконально и твердо решил, что заставит всех его соблюдать. Ни больше, ни меньше.
Открывая досье типа «Cofinoga против мадам имярек», большинство его коллег ограничивались констатацией фактов: действительно, мадам имярек больше не выплачивает ежемесячные взносы, предусмотренные договором; действительно, по условиям данного договора Cofinoga имеет основания для востребования основной суммы, процентов и пени; действительно, у мадам имярек нет ни гроша, но закон есть закон, договор есть договор, и, к сожалению, у меня, как судьи, нет иного выбора кроме как принять исполнительное решение, то есть наложить арест на имущество мадам имярек или направить ее в комиссию по сверхзадолженности.
Флоре меньше всего интересовали долги мадам имярек — он сразу принимался за договор. Противозаконные статьи он обнаруживал в контрактах довольно часто, а что до нарушений в их оформлении, то без них не обходился практически ни один документ. Закон требует, к примеру, чтобы текст договора печатался восьмым кеглем, на самом деле им там и не пахло. По закону продление срока действия договора должно предлагаться в письменной форме — об этом не было и речи. Флоре составил для себя таблицу наиболее часто встречавшихся нарушений и, находя их, помечал галочками в соответствующих клетках, а на судебном заседании объявлял: договор не стоит выеденного яйца. От удивления у адвоката Cofinoga глаза лезли на лоб. Если он находил в себе смелость, то пытался возразить: «Господин Председатель, но это же не ваша забота. Выдвигать возражения должен ответчик или его адвокат, вы не можете подменять его». Ответ Флоре был коротким: «Подавайте апелляцию».
Тем временем, он объявлял, что Cofinoga имеет все основания требовать возвращения основной суммы, но не процентов и пени. А ведь заемщик погашает прежде всего проценты и страховку. Если судья решает, что возврату подлежит только основная сумма, и что деньги, уже выплаченные заемщиком, таковой и являлись, он имеет полное право объявить заемщику, что его долг составляет, скажем, уже не 1500 евро, а 600, иногда вообще ничего, или даже Cofmoga должна ему некоторую сумму. От счастья мадам имярек падала в обморок.
В Ньоре эту юридическую технику внедрил в судебный процесс Филипп Флоре, Этьен занялся тем же во Вьене (я написал: «повторил его», но Этьен на полях рукописи сделал пометку: «И все же нет!» Принимаю к сведению.). Он с нескрываемым удовольствием применял ее на слушаниях по гражданским делам и в особенности на судебных заседаниях по сверхзадолженности, когда его пристрастие к выявлению нарушений и вынесению решения о потере права на проценты в корне меняло ход дела. Прежде всего, с точки зрения несчастного должника, высказывания типа: «Вы не можете платить, ваша ситуация непоправимо безнадежна, поэтому у меня нет другого выбора — я списываю долги» и «с вами поступили плохо, я исправляю допущенную ошибку» означают далеко не одно и тоже. Слышать и произносить второе намного приятнее, и Этьен не отказывал себе в этом удовольствии. Вместе с тем, после уменьшения общей суммы долга можно было приступать к составлению графика его возмещения: теперь он уже не выглядел таким утопическим. И в этом случае именно судья решал, кому возвращать долг в первую очередь, кому позднее, если получится, а кто вообще останется ни с чем. Это было политическое решение. Некоторые кредиторы могли остаться без денег не только потому, что у должников не хватало средств для погашения задолженности, но еще и потому, что не заслуживали этого. Потому что плохо себя вели, потому что имели сомнительную деловую репутацию, потому что в принципе жулики заслуживают, чтобы время от времени их обжуливали. Конечно, Этьен не говорил подобных вещей в открытую. Из числа кредиторов он предпочитал выделять тех, кому списание долгов нанесет серьезный ущерб, и тех, кто его даже не почувствует: с одной стороны — это владелец небольшой станции техобслуживания, небогатый частный арендодатель, мелкий торговец-франчайзер из Сен-Жан-де-Бурне, которые в случае неплатежа сами рискуют попасть в ловушку сверхзадолженности; с другой — крупное кредитное учреждение или большая страховая компания, в любом случае включавшая риск неплатежа в стоимость договора. Он считал, что мелкий поставщик, автомеханик, франчайзер из Сен-Жан-де-Бурне, раз обжегшись, перестанут доверять людям, никогда больше не пойдут им навстречу, и это приведет к нарушению социальных связей, тогда как именно в их сохранении Этьен видел роль судьи: делать все возможное, чтобы люди могли жить в согласии друг с другом.
Тем не менее, даже Жан-Пьер считал, что Этьен перегибает палку, и в шутку называл его Робеспьером или судьей-революционером. Он говорил: «Это слишком просто, но судья не должен делить мир на крупные недобросовестные заведения и неискушенных, загнанных в угол бедняков, равно как и безоглядно становиться на сторону последних». На это замечание Этьен отвечал словами Флоре: «Я всего лишь применяю закон». Да, он применял его, но на свой лад, помня выступление Бодо перед студентами Национальной школы по подготовке и совершенствованию судебных работников, оказавшую на него неизгладимое впечатление. Бодо, один из организаторов Профсоюза работников органов правосудия в шестидесятые годы, получил взыскание от министра юстиции — в то время этот пост занимал Жан Леканюэ[40] — за то, что обратился к молодым судьям с такой речью: «Будьте пристрастными. Чтобы сохранить равновесие между сильным и слабым, между богатым и бедным, а весят они отнюдь не одинаково, поступайте так, чтобы чаша весов склонялась в нужную сторону. Будьте заранее настроены в пользу женщины, а не мужчины; должника, а не кредитора; рабочего, а не работодателя; вора, а не полиции, участника судебного разбирательства, а не судебной системы. Закон можно истолковать по-разному, он скажет то, что вы вложите в его уста. Разбираясь с вором и обокраденным, не бойтесь наказать потерпевшего».
Что касается адвокатов банков и кредитных учреждений, то они выходили из зала суда растерянными и в то же время взбешенными. Им предстояло объяснять своим клиентам, что они проиграли, хотя раньше в подобных случаях всегда брали верх, из-за одноногого судьи, председательствующего в суде Вьена и оказавшегося редкостным занудой: он измеряет высоту букв и разводит руками — сожалею, но здесь не восьмой кегель, а потому прощайте проценты и штрафные неустойки. Если ход с восьмым кеглем не срабатывал, он находил что-либо другое: пощады не было ни одному договору. Неподалеку, в Бургуэне, имелся еще один суд малой инстанции, и судья там был полной противоположностью Этьену: кредиторы всегда уходили от него удовлетворенными. По этой причине они из кожи вон лезли, стремясь обойти правила территориального деления и подать свои дела на рассмотрение понимающему человеку: жесткому к бедным, мягкому к богатым, шутил Этьен, но, конечно же, судья из Бургуэна себя таким не считал и мог бы сказать о себе то же самое, что говорили Этьен и Флоре: я применяю закон. В 1998 или 1999 году такой способ его применения еще главенствовал в судопроизводстве. Судьи из Ньора и Вьена даже среди своих коллег слыли леваками и бунтарями. Однако, ситуация начинала меняться к лучшему.
По данным Флоре выходило, что кредитные учреждения имели приблизительно два процента неоплаченных задолженностей. Такие убытки соответствовали принятым нормам и, как правило, заранее закладывались в сумму договоров. Они не мешали заимодателям спать спокойно. А вот настоящую угрозу и серьезное беспокойство вызывал риск широкого распространения неплатежей. Кредиторы прекрасно знали, что 90 % их контрактов составлены с нарушением закона. Пока во Франции есть два-три судьи, вскрывающих нарушения и действующих вопреки интересам кредитных организаций, это еще ничего, тем более, что их решения зачастую признаются недействительными в результате подачи апелляции. Но, если их будет пятьдесят или сто, дело примет совсем другой оборот. Это может обойтись кредиторам очень дорого.
Такие перспективы воодушевляли Этьена и Филиппа Флоре. Они видели себя одновременно Давидами, сокрушающими кредитного Голиафа, и первопроходцами, уверенными, что за ними неизбежно последуют остальные. Они распространяли копии своих судебных решений среди членов Ассоциации судей малой инстанции, стараясь перетянуть как можно больше коллег в свой лагерь. Каждый новый сторонник означал победу, приближавшую их к критическому моменту, когда судебная практика даст крен в нужную сторону, а банки испытают настоящее потрясение.
В тот день, когда представители крупного кредитного учреждения попросили Этьена встретиться с ними, он испытал чувство настоящего торжества. На встрече, состоявшейся в их офисе, присутствовали четыре человека: два топ-менеджера компании, причем один из них специально приехал из Парижа, и два адвоката из Вьена. Меня так и подмывает описать эту встречу, как сцену из полицейского боевика. Сначала все шло спокойно, кто-то из хозяев даже пошутил: «Значит, это вы — нарушитель спокойствия?» Но очень скоро шутки сменились скрытыми, а затем и вовсе откровенными угрозами. В ход пошли запугивание и попытки подкупа. Мужчина в костюме и фетровой шляпе говорил, расхаживая из угла в угол. Одноногий судья невозмутимо наблюдал за ним. Наконец, разговорчивый тип остановился перед судьей и, кривя губы, процедил: «Я вас раздавлю». Он схватил со стола какую-то безделушку и смял ее побелевшими цепкими пальцами, потом разжал кулак и бросил обломки на пол: «Я раздавлю вас точно так же». На самом деле все происходило совсем не так. Беседа была любезной и тактичной, как это принято в приличном обществе. Оба менеджера признали, что судебные постановления, вынесенные во Вьене, их обескураживают и раздражают, более того, они опасаются, что количество подобных решений будет расти как снежный ком, — как раз на это и рассчитывал Флоре. Кроме того, если двигаться в этом направлении, кредит станет невозможным, разве кто-нибудь от этого выиграет? Но они собрались здесь не для того, чтобы излагать свои взгляды на правовые аспекты судопроизводства, скорее, они хотели бы попросить совета. Как избегать спорных моментов? Что делать, чтобы не нарушать закон?
«Все очень просто, — ответил Этьен, не скрывая своего удивления. — Есть закон, просто соблюдайте его».
Хозяева офиса вздохнули: «Это так сложно…»
«В чем вы видите сложность? Закон требует, чтобы текст договора набирался восьмым кеглем, но это требование практически никогда соблюдается, и я не упускаю возможность вставить вам палки в колеса. Вы можете возразить: это крючкотворство. Тогда скажите мне, почему, зная правило, вы никогда не применяете его на практике, что, на самом деле, совсем не сложно. Я знаю ответ: просто потому, что вас устраивает, когда договора неудобочитаемы. Почему вы никогда не отправляете письменное предложение о продлении срока действия договора? Почему он продлевается у вас автоматически, что противоречит закону, и мне снова предоставляется случай указать на это? Я вам скажу, почему — один из ваших коллег по бизнесу поделился со мной информацией (на самом деле, это был Флоре, он обзавелся приятелями, работавшими в кредитных учреждениях, и те снабжали его интересными сведениями). Когда вы рассылали такие письма, процент расторгаемых договоров достигал тридцати процентов. Согласитесь, это неприятно. Другое дело — „спящий“ кредит. Опыт показывает, рано или поздно, владелец воспользуется им, тогда как расторгнутый договор означает — одним клиентом у вас стало меньше. Почему вы не упоминаете о ссудном проценте, крохотным шрифтом указанном на обороте крикливой рекламной листовки? Вы сами знаете, почему. Потому что ваш ссудный процент достигает чудовищных размеров. 18–19 % — это больше, чем предельно допустимая кредитная ставка, и вы втихаря навязываете такие условия людям, которые, осознавай они последствия своего шага, никогда не подписались бы под ними».
«Тут вы как раз ошибаетесь, — возразил парижанин. — Они подписывают в любом случае, потому что у них нет выбора. Вы всегда можете сказать: выгоднее заключить договор на классический заем, но проблема наших клиентов заключается в том, что классический заем им никто не даст. Это все равно, что страховать свою машину, когда повышение размера страховых взносов таково, что никто не хочет с вами связываться — обойдется слишком дорого. Вы постоянно говорите об информации. Сегодня вы говорите, будто мы недостаточно информируем наших клиентов о том, во что они ввязываются, а завтра — что мы сами не интересуемся их платежеспособностью. Но нашим клиентам нужны деньги, а не сведения, способные удержать их от займа. В свою очередь, мы хотим зарабатывать деньги, давая их взаймы, а не собирать информацию, которая помешает нам делать это. Мы всего лишь занимаемся своим делом, кредит существует, хотим мы того или нет, а вы с вашими постоянными мелочными придирками к оформлению договоров просто занимаетесь рекламой. Реклама всегда так делается. Большими буквами пишут: купите машину за 30 евро в месяц, потом стоит звездочка и ниже мелким шрифтом идет приписка: да, это правда, существуют условия, при которых покупка обойдется вам чуть больше 30 евро в месяц, или же предложение действительно только в определенный период времени. Это всем известно, люди не дураки. Но вы, если я правильно понимаю, хотите жить в мире без рекламы, без кредита, а может и без телевидения, ибо хорошо известно, что телевидение оболванивает людей…»
«Конечно, — с улыбкой заключил Этьен. — И еще проводить отпуск в Северной Корее. Нет, меня очень устраивает мир, где люди имеют право нарушать закон. Но как судья, я тоже хочу иметь право требовать его соблюдения. Такова суть либерализма. Или я не прав?»
~~~
Этьена разбирает смех, когда он вспоминает о своей первой встрече с Жюльетт. В дверь его кабинета постучали, он отозвался: «Да, войдите», и, когда поднял голову от бумаг, увидел, как она направляется к нему, опираясь на костыли. Этьен невольно подумал: «Замечательно! Хромая!»
Но не сама мысль веселит его даже сейчас, хотя с тех пор прошло уже много времени, а то, что родилась она так внезапно и, едва сформировавшись, вылилась в пару слов, за точность которых он ручается. В следующий момент он увидел над костылями открытое приятное лицо с красивой улыбкой, веселое и в то же время серьезное, что, несомненно, положительно сказывалось на общем впечатлении. Но на передний план, прежде всего, выступали костыли посетительницы и ее хромота: он тут же воспринял это как подарок и испытал радость от того, что может ответить ей тем же. Никаких проблем: достаточно встать и обогнуть стол — она увидит, что он тоже хромает, только обходится без костылей.
В начале осени я решил съездить во Вьен, чтобы посетить дворец правосудия и понять, в чем, собственно, заключается работа судьи малой инстанции. Тогда же я понял, что пришло время позвонить Патрису. Я опасался этого звонка, потому что еще не говорил с ним по поводу моего проекта, о нем знали только Этьен и Элен. Патрис был немного удивлен, но возражений с его стороны не последовало. Он коротко сказал: «Приезжай».
Он встречал меня на перроне вокзала с Дианой на руках и, поздоровавшись, спросил, не буду ли я возражать, если мы сходим за покупками в «Интермарше». Девочки не ходят в школьную столовую, ему нужно готовить три раза в день на трех маленьких дочек, а самой младшей исполнилось всего полтора годика. Патрис вел себя совершенно спокойно, разве что иногда слегка повышал голос, когда девочки слишком уж расходились. Я помогал ему, как мог: носил продукты из машины в дом, накрывал на стол, убирал посуду, загружал ее в посудомоечную машину потом доставал оттуда, протирал стол из желтого огнеупорного пластика, собирал с пола рис, просыпанный Дианой, и баночки йогурта, разбросанные ею с высоты детского стульчика; одним словом, спустя час я уже считался одним из домочадцев. Патрис воспринимал мое присутствие с невозмутимостью и спокойствием, я не мешал ему и, тем более, детям. После обеда он уложил Диану спать, Амели и Клара отправились через площадь в школу, а мы устроились в саду под катальпой выпить по чашечке кофе. Разговор шел понемногу обо всем, в том числе о повседневном укладе жизни семьи после смерти Жюльетт. Патрис не проявлял ни заинтересованности, ни желания обсуждать эту тему, и совсем не походил на человека, спокойно выжидающего, когда это дойдет до его собеседника. Я приехал провести с ними несколько дней, мы пили кофе, болтали о том о сем, и этого было достаточно. По дороге во Вьен я с волнением обдумывал, как буду строить с Патрисом разговор, какие аргументы позволят мне завоевать его расположение, но теперь подобные вопросы меня совсем не волновали. Когда чашки опустели, я достал блокнот, как это было на кухне у Этьена, и сказал: «А теперь расскажи мне о Жюльетт. Но для начала немного о себе».
Его отец, высокий сухощавый мужчина с суровым нравом, был преподавателем математики. Он носил бороду, и она придавала ему еще более строгий вид. Мама работала учительницей, но оставила работу ради воспитания детей. Общая любовь к горам заставила их обосноваться сначала в Альбервиле, потом перебраться в деревню близ Бург-Сен-Мориса, где они купили дом. Отец с самого начала был одним из активных борцов за сохранение экологии и имел репутацию непримиримого противника крупных горнолыжных курортов, рекламы, телевидения — он категорически отказывался иметь его в своем доме — и общества потребления в целом. Сыновья очень любили его, и в то же время немного побаивались. Мать, со своей стороны, чересчур опекала их. Она хотела, чтобы ее мальчики были открытыми и уверенными в себе. Патрис считал, что она слишком уж нянчилась с ними, во всяком случае именно с ним. Например, она заставила его провести два года в пятом классе начальной школы, ибо не считала его готовым к переходу в шестой из-за того, что он побаивался приставаний старших детей на школьном дворе. Пока он и его братья были детьми, все шло хорошо: вместе с приятелями они играли в ковбоев на деревенских улицах. Но когда детвора подросла, обстановка изменилась. Приятели забросили учебу после окончания колледжа, но о том, чтобы трое братьев поступили так же, не могло быть и речи. Дружки носились на мопедах, курили, болтались с девчонками; у братьев не было мопедов, они не курили и не заводили себе подружек: они довольно быстро усвоили семейные ценности, чтобы понимать бессмысленность подобного времяпрепровождения. Вместо похода на танцы в субботу вечером они гасили свет в своей комнате и слушали альбомы Грэма Оллрайта[41] и «Пинк Флойд». Они не чувствовали себя выше других, но отличными — да. Друзья детства, а они видятся с ними и по сей день, работают автомеханиками, каменщиками, выдают лыжи на горнолыжных базах или прокладывают трассы на склонах вокруг Бург-Сен-Морис; оба брата Патриса пошли по стопам матери и стали учителями, сам Патрис устроился художником-мультипликатором в Изере: уезжать из Савойи никому и в голову не приходило. Никто их них не добился заметных успехов, но и неудачниками их не назовешь, однако же различия остались. После дневного сна встала Диана, и мы отвели девочку к няньке — днем в течение нескольких часов та присматривала за малышкой. Патрис между делом заметил, что она и ее муж принадлежали совсем к другой среде. Под этими словами подразумевалось, что они жили с включенным телевизором, болели за какие-то футбольные команды, а в плане политики придерживались правых взглядов, даже крайне правых. В заключение он добавил, что это замечательные люди, и я совершенно уверен в искренности его слов. Констатируя различия в жизненных ценностях, Патрис был далек от какого бы то ни было высокомерия и снобизма, кажущихся особенно злобными в тех случаях, когда дистанция между этими ценностями, при взгляде со стороны, представляется незначительной. Все это не мешало Патрису беседовать с соседями об Attac[42] и налоге Тобина[43], конечно, без особого успеха, без малейшего сомнения в справедливости своих убеждений, но и без презрения к тем, кто их не разделяет и сетует на засилье иностранцев во Франции.
В школе он учился не очень хорошо и сам себя называл лентяем. Больше всего он любил мечтать, забравшись в уютный утолок, представлять себя героем вымышленного мира, населенного рыцарями, великанами и принцессами. Свои мечты он облек в сочинение книг-игр. Завалив экзамен на бакалавра, Патрис отказался от пересдачи: из того, что преподавали в лицее, его не привлекал ни один предмет. Проблема заключалась в том, что ему не нравилось ничего, ни одна специальность за исключением профессии рисовальщика комиксов. На затруднительный вопрос: чем ты хочешь заниматься, когда станешь взрослым, он нашел свой ответ. Это было не столько настоящим призванием, сколько своего рода убежищем, признавал он, способом уходить из реального мира, где требовалось быть сильным и сражаться за свое место под солнцем. Родители согласились отправить его в Париж, где ему предстояло делить маленькую комнатушку с кем-то из родственников и упорно работать над рисунками, что могло бы открыть ему двери издательств. По прошествии времени Патрис сожалел, что не закончил курсы рисования, где смог бы освоить технику рисунка. Он был самоучкой, рисовал шариковой ручкой на листах бумаги в клеточку и, по сути дела, понятия не имел о том, что происходит в выбранной им сфере деятельности. Впрочем, кое-какие имена и названия были у него на слуху: Йохан и Пивит, «Спиру», Тинтин, Блуберри, и этого ему было достаточно. Время от времени Патрис заходил в книжный магазин «Жибер Жён» и листал журналы «Эхо саванн» и «Флюид Гласьяль» с комиксами для взрослых, но они вызывали у него неприятие: ему казалось, что просматривая агрессивные, изощренные, отточенные картинки, он предает мир детства, связь с которым чувствовал очень остро. В прогулках по улицам Парижа его часто сопровождал двоюродный брат, учившийся в музыкальном лицее по классу альта и такой же неисправимый романтик. Иногда они ходили в парк Со и взбирались на дерево. Устроившись на ветвях, они проводили там весь день, мечтая о грядущей встрече со сказочной принцессой. Тем не менее, под самый новый год Патрис написал слово «конец» внизу последнего листа своего комикса и попытался куда-нибудь его пристроить. В издательстве «Кастерман» ему любезно сказали, что комикс неплох, но чересчур наивен и сентиментален. Разочарованный, но не удивленный, Патрис вышел на улицу с папкой под мышкой и больше никуда не ходил. Как видно, мир комиксов оказался более жестким, чем мир его комиксов.
Когда подошел призывной возраст, он не подсуетился с альтернативной службой и не откосил от армии, как его более расторопные и ушлые сверстники из буржуазной среды: Патрис был против войны и армии, поэтому считал естественным отказ от военной службы по религиозно-этическим соображениям. В итоге его отправили заниматься организацией культурных мероприятий в крепости неподалеку от Клермон-Феррана, что могло бы ему понравиться, если б только его компаньоны не оказались такими же грубиянами и распутниками, как обычные солдафоны; затем последовал перевод в центр педагогической документации, где рисовал серии картинок для обучения языкам. Спустя два года Патрис демобилизовался и зарегистрировался на бирже труда. Вскоре ему предложили работу шофера, доставляющего товары на дом, и он переехал в небольшую однокомнатную квартирку в Кашане[44]. Объективно, его будущее вызывало определенную тревогу, но Патрису все было до лампочки. Его совершенно не беспокоили ни житейские заботы, ни карьера, ни страх перед завтрашним днем.
Он записался на курсы любительского театра в молодежном доме культуры V-го округа. Основной упор там делался на импровизацию и артистическую жестикуляцию, что нравилось Патрису гораздо больше, чем постановки собственно пьес. Студийцы ложились на маты, устилавшие пол, включалась более или менее приличная музыка, и от молодых людей требовалось только одно — дать себе волю, дать выход своим чувствам. Сначала ты сосредотачиваешься, сворачиваешься в комок, потом начинаешь двигаться, медленно привстаешь, открываешься, как цветок, обращенный к солнцу, протягиваешь руки к другим, вступаешь с ними в контакт. Это было потрясающе. В парных упражнениях два человека усаживались лицом к лицу и смотрели друг другу в глаза, стремясь передать различные эмоции: подозрительность, доверие, страх, вожделение… Театральный опыт показал Патрису, насколько неловко он чувствовал себя в общении с другими людьми. На фотографиях той поры он выглядел красивым парнем, хотя сам себя называл прыщавым дылдой с редкой бороденкой, круглыми очками, шапкой волос в африканском стиле и шарфами домашней вязки. Театр открыл его как личность. Он стал для него дорогой к людям, особенно к девушкам. Патрис вырос в мальчишеской компании, при этом не только ни разу не спал с девушкой, но буквально не знал, с какой стороны к ней подойти. Благодаря театральным курсам, он обзавелся знакомыми девчонками, приглашал их в кафе или кино, но романтизм Патриса упирался в чрезмерную стыдливость, и его смущали подруги, казавшиеся чересчур нескромными. Именно в этот период на горизонте появилась Жюльетт.
Когда Элен говорила, что Жюльетт была самой красивой из трех сестер, и потому она ее ревновала, я лишь скептически качал головой. Я видел ее больной, потом умирающей, видел детские фотографии — на них Элен и Жюльетт были похожи, как близнецы. На снимках, что показал мне Патрис, она действительно выглядела потрясающе: большой чувственный рот, красивые белоснежные зубы как у Джулии Робертс или Беатрис Даль и улыбка — не просто лучезарная, как говорят все, кто ее знал, а поглощающая, почти плотоядная. Общительная, забавная, непринужденно чувствующая себя в обществе, она обладала блеском, способным обескуражить скромного парня вроде Патриса. К счастью, у нее были костыли. Они-то и делали ее досягаемой.
Они не сразу стали встречаться один на один, их первые «свидания» происходили во время групповых мероприятий. Преподаватель водил их в театр, а там много лестниц, и Жюльетт не могла по ним ходить. Патрис, хоть и робкий, был парнем крепким. В первое же посещение он взял девушку на руки, и с тех пор эту привилегию у него никто не оспаривал. Так они и поднимались — одна лестница сменяла другую, но Патриса совсем не тяготила его ноша. Потом они стали посещать памятники архитектуры, отдавая предпочтение многоэтажным, а когда сидели бок о бок в полумраке театральных залов, то всегда держались за руки. Патрис вспоминал, что они оба были очень чувствительны к такому контакту. Их пальцы соприкасались, переплетались, обменивались нежными поглаживаниями, но каждый раз это происходило по-разному, неизменно волнующе и словно впервые. Он с трудом верил, что такое чудо происходит с ним. Потом они поцеловались. Потом переспали. Он раздел Жюльетт и нагую заключил в объятия, ласково и нежно раздвинул ее почти безжизненные ноги. Для обоих это происходило впервые.
Патрис нашел принцессу своей мечты. Красавицу, умницу, слишком красивую и умную для него, как он считал, тем не менее, с ней все было просто. От нее не стоило ждать кокетства, предательства и подвоха. Он сам мог быть у нее под контролем, мог довериться ей, не боясь, что она воспользуется его неискушенностью. То, что с ними происходило, имело большое значение для обоих. Они любили друг друга и собирались пожениться.
Тем не менее, сначала их беспокоило различие в характерах, особенно ее. Патрис не только не имел настоящей профессии, но и не задумывался о том, чтобы обзавестись ею. Ему хватало того, что он зарабатывал шофером по доставке товаров и руководителем студии комиксов в одном из парижских центров досуга. Жюльетт, напротив, была решительной и волевой. Своим занятиям она придавала большое значение. Ее раздражала мечтательность Патриса и его пассивность, а Патрису не нравилось, что она изучает право. Тем более, в Ассас[45], известном как гнездо крайне правых. Патрис не отличался особой политической активностью, но считал себя анархистом и в правых партиях видел лишь репрессивный инструмент на службе у богатых и власть имущих. Если бы Жюльетт хотела стать адвокатом, защищать вдов и сирот, то это он бы еще понял, но судьей! На самом деле, был момент, когда Жюльетт подумывала стать членом коллегии адвокатов. Она получила степень магистра по хозяйственному праву, но от учебного процесса ее просто тошнило. Студентов учили как хитрить, чтобы будущие клиенты могли получать прибыли по своему желанию, и как выжимать из них приличные гонорары. Либерализм, открыто приравненный к праву сильного, циничные улыбки преподавателей и сокурсников, все это оправдывало идеалистическую критику со стороны Патриса. Жюльетт терпеливо объясняла, что ей нравится право, потому что в конфликте слабого с сильным закон защищает, а свобода обеспечивает равные условия для всех, и чтобы закон соблюдали, а не извращали, она хочет стать судьей. Патрис принимал эту точку зрения, но, тем не менее, ему было трудно свыкнуться с мыслью, что его жена — судья.
Не легче давалось и восприятие различий в образе жизни. Жюльетт жила с родителями в большой квартире рядом со станцией метро Данфер-Рошро, и всякий раз, когда Патрис ездил к ней, он чувствовал себя очень неловко. Жак и Мари-Од были известными учеными и добрыми католиками, проповедовали элитарность и придерживались правых взглядов, поэтому, попадая к ним в дом, Патрис чувствовал, что на него посматривают свысока: ведь он выходец из семьи провинциальных учителей, из захолустья, где ездят на старых колымагах, облепленных наклейками, призывающими выступать против строительства атомных электростанций. У него дома дискуссия считалась нормой: можно обсуждать все, нужно обсуждать все, ведь из спора рождается истина. Однако, с точки зрения родителей Жюльетт, как, впрочем, и моих тоже, дискутировать с каким-то савояром, сторонником защиты окружающей среды, считающим, что микроволновки опасны для здоровья, все равно, что спорить с дремучим невеждой, готовым утверждать, что Земля плоская и Солнце вращается вокруг нее. Не бывает двух правильных мнений — бывают люди, которые знают, и люди, которые не знают, и не стоит делать вид будто их спор идет на равных. Следовало признать, Патрис был славным молодым человеком, искренно любил Жюльетт, но символизировал все то, что Жак и Мари-Од на дух не переносили: длинные патлы, радикализм Мая 1968, и особенно поражения. В их глазах он был неудачником, они не могли согласиться с тем, что их дочь, такая красивая и талантливая, влюбилась в недотепу. Что касается Патриса, то для него объекты неприятия выглядели довольно расплывчато: огромная столица, религия, как опиум для народа, вышедшая из-под контроля наука, но переносить абстрактную неприязнь на конкретные личности было не в его характере. Он чувствовал презрение со стороны будущих тестя и тещи, и это обезоруживало его, он не мог ответить им той же монетой, разве что думать: лучше бы ему вообще не встречаться с ними. Но встреча произошла, он любил Жюльетт, и с этим нужно было что-то делать.
Я думаю, из-за этого она страдала больше чем он, потому что была дочерью своих родителей и не могла не видеть его их глазами. Жюльетт не тешила себя иллюзиями. Она выбрала его вполне сознательно. Но перед тем, как сделать окончательный выбор, она долго колебалась. Ей пришлось представить себе будущую жизнь с Патрисом в резком, скорее даже жестоком свете: оценить размеры клетки, на жизнь в которой себя обрекает, и прочность ее фундамента, убедиться в его безграничной любви, в том, что он до конца жизни будет носить ее на руках.
Вопросы возникали и у Патриса. Право, тесть с тещей, необходимость делать карьеру… все это было не для него. Жизнь с Жюльетт грозила вырвать его из привычной среды обитания. И потом, разумно ли связывать жизнь с девушкой-инвалидом, не нагулявшись вдоволь с другими? Однажды они обсудили этот вопрос и пришли к разумному заключению, что не подходят для совместной жизни. Каждый изложил свои аргументы. У Патриса их оказалось больше: из них двоих он с самого начала был более разговорчивым. Он откровенно выкладывал все, что приходило ему в голову, тогда как Жюльетт была более сдержанной и не выворачивала душу наизнанку. Разговор закончился тем, что они решили расстаться и, расстроенные донельзя, расплакались, как дети. Два часа они рыдали в объятиях друг друга, лежа на узкой кровати в крохотной квартирке Патриса в Кашане. Тогда-то, утирая слезы, оба поняли: каким бы ни было горе одного, другой всегда найдет слова утешения, а вот единственным безутешным оказалось именно то, которое они сейчас причиняли друг другу. Вопрос о будущем решился однозначно: они будут жить вместе и никогда не расстанутся. Именно так они и поступили.
Жюльетт дала понять родителям, что признает их недовольство сделанным ею выбором, но требует уважать его. Молодые люди устроились в маленькой однокомнатной квартирке на восьмом этаже жилого дома в XIII-ом округе. Лифт часто выходил из строя, тогда Патрис нес Жюльетт домой на руках. Несколькими этажами ниже находилось общежитие, где селили бывших зеков, и Жюльет добровольно взялась помогать им в качестве юрисконсульта. Денег хватало лишь на то, чтобы сводить концы с концами: их бюджет состоял из пенсии по инвалидности Жюльетт — она считала делом чести не просить денег у родителей — и гонораров, что платили Патрису за комиксы в одном из магазинчиков для коллекционеров электронных телефонных карточек. Позднее они перебрались в Бордо, где Жюльетт поступила в Национальную школу по подготовке и совершенствованию судебных работников — спустя десять лет после того, как ее закончил Этьен. Она училась превосходно и заслужила всеобщую любовь, как это происходило повсюду, где ей доводилось бывать. Вполне логично, что эмблемой ее выпуска стал рисунок Патриса, изображавший Марианну в облике Жюльетт. Вскоре на свет появилась Амели. После окончания школы Жюльетт решила специализироваться по гражданскому праву, а местом работы выбрала суд малой инстанции во Вьене, потому что точно выяснила: в здании тамошнего суда имеется лифт.
~~~
Чем дольше длилась наша беседа под тенистой катальной, тем больше меня удивляло доверительное отношение Патриса ко мне. Не думаю, что заслужил его чем-то особенным: он точно так же относился бы к любому другому человеку, потому что еще не привык проявлять осторожность. К нему приехал свояк, к тому же писатель, автор книг, имевших репутацию черных, даже жестоких, сообщил, что собирается написать повесть о его покойной жене и просит рассказать об их жизни. Вот он и рассказывал, при этом не стремился показать себя в лучшем свете, как, впрочем, и в худшем. Он оставался самим собой, и его совершенно не интересовало мое мнение. Он не строил из себя важную персону, и ему нечего было стыдиться. Видимая беззащитность на самом деле придавала ему большую силу. Этьен не зря с восхищением сказал о нем: «Он знает, где он».
Амели и Клара вернулись из школы, и мы вчетвером отправились на велосипедах к няньке за Дианой. У Патриса на багажнике было закреплено сиденье для Клары, а Амели уже умела самостоятельно ездить на двухколесном велосипеде. Мы пересекли дорогу и земляную площадку перед школой, миновали церковь и свернули на узкую улочку, что вела к кладбищу. Пейзаж тут был самый что ни на есть деревенский: зеленые ложбинки и коровы, лениво жующие сочную траву. «Заскочим поздороваться с мамочкой?» — предложил Партис. Мы прислонили велосипеды к кладбищенской ограде, он взял Клару на руки. Могила Жюльетт была покрыта рыхлой землей и обложена большими круглыми камнями, ярко раскрашенными местными детишками и подписанными их именами. Я снова подумал о дне похорон. В церкви Патрис произнес простые, трогательные слова и в завершение сказал, что потерял свою любовь; потом с пылкой речью выступил Этьен, назвав смерть жестокой; его сменила Элен и зачитала свой текст, сочиненный накануне, о том, что маленькая спокойная жизнь Жюльетт не была ни маленькой, ни спокойной: она сама выбрала ее и достойно прожила. Небольшую проповедь произнес крестный отец Жюльетт, дьякон. Его дочь тоже умерла от рака. Позднее Этьен сказал мне, что ему не понравились благостные, правильные улыбки, которыми он щедро приправлял известие, что отныне Жюльетт пребывает в царстве Божием, чему все мы должны радоваться; в то же время он признавал, что некоторые были рады слышать это, а раз так, то почему бы и нет? После панихиды процессия двинулась на кладбище — сегодня мы с Партисом и девочками приехали той же дорогой. Ничем торжественным она не отличалась, но так было даже лучше. На катафалк гроб не ставили, его всю дорогу несли на плечах. В процессии было много детей и молодых пар: хоронили все же молодую женщину. Но у могилы все пошло кувырком: Патрис, раздраженный проповедью дьякона — он считал ее ханжеским фарсом, — сказал, что теперь каждый может попрощаться с Жюльетт так, как посчитает нужным. Еще в церкви он снял крест, лежавший на крышке гроба. Как и его родня, он верил в искренность и непосредственность проявления чувств в любых обстоятельствах, он сам жил так и считал это нормой, но без благопристойности, свойственной религиозному ритуалу, процедура оказалась скомканной. Вместо того, чтобы стать друг за другом, по очереди подойти к могиле и бросить горсть земли на крышку гроба, люди сбились в неорганизованную растерянную толпу. Предоставленные сами себе, они не решались исполнить то, что им подобает, а то и не знали, как себя вести. У края могилы началась толкотня: под ногами у взрослых вертелись дети, пытаясь положить на место раскрашенные ими камни, и только усугубляли всеобщую суматоху. Чтобы навести хоть какой-то порядок, один из верующих затянул «Аве, Мария», но молитву подхватили всего несколько человек. Многие уходили с кладбища и сбивались на дороге в маленькие молчаливые группки, кто-то закуривал, и никто не знал, закончилась церемония или нет. Точку поставил могильщик: он подъехал на автопогрузчике с полным ковшом земли и высыпал ее в могилу. По-моему, Патрис явно не справлялся, когда на него возлагалась ответственность за общественный ритуал, но в компании со мной и дочерями он вел себя безупречно, говорил простым и точным языком, и я подумал, что на девочек эти частые посещения кладбища действовали успокаивающе. Клара молчала, сидя на руках у отца, зато Амели привычно обежала соседние могилы. По ее мнению, они были не такие красивые, как мамина. «Мне не нравится мрамор, — говорила она, — он кажется мне унылым», и по ее напыщенному тону можно было без труда догадаться, что она произносит фразу, услышанную от кого-то из взрослых, и повторяет ее при каждом визите, потому что ей это нравится. Я смотрел на нее и думал, сохранятся ли наши отношения, когда она вырастет. Скорее всего да, при условии, что я напишу эту книгу. Буду ли я по-прежнему с Элен? Примем ли мы с ней участие в воспитании девочек, как она того хочет? Сможем ли мы каждый год брать их с собой в отпуск, а не только в первое лето после смерти их матери? Через десять лет Амели будет молодой девушкой и, возможно, я стану для нее кем-то вроде дядьки, написавшего книгу о ее родителях и о ней самой, только еще маленькой. Я представлял Амели с этой книгой в руках и думал, что писал ее на глазах трех сестер.
После ужина я прочитал Кларе сказку на сон грядущий. В ней шла речь о лягушонке, который боялся темноты, слышал странные звуки и прятался в постели папы и мамы. «А у меня больше нет мамы, — сказала Клара. — Моя мама умерла». Я кивнул: «Это так, детка», и не нашел слов, чтобы добавить что-то еще. Я думал о своих собственных детях и о сказках, что читал им, когда они были маленькими. Я думал о том, что нам с Элен едва не удалось обзавестись общим ребенком, но она потеряла его после смерти сестры, и другого у нас уже не будет. Я вспоминал, как Клара и Амели гостили у нас неделю во время школьных каникул. Клара все время твердила: «Когда мы вернемся домой, может быть, там уже будет мама». Она не переставала надеяться, что в один прекрасный день дверь откроется, и на пороге появится ее мамочка. Девочки часто ходят на могилу матери, и мне кажется, это хорошо: по меньшей мере, они знают, что она там, а не где-то везде и в то же время нигде. Пройдет время, и мать перестанет чудиться им за каждой закрытой дверью.
Когда девочки уснули, мы с Патрисом спустились в его мастерскую в полуподвальном помещении, где для меня была приготовлена кровать. Он рассказал о проекте нового комикса — очередной истории про рыцарей и принцесс под рабочим названием «Храбрец». «Вот как? Храбрец?» — я улыбнулся, и он ответил легким извиняющимся смешком с оттенком гордости: мол, как есть так есть, себя не переделаешь. За «Храбреца» он еще не принимался, прежде нужно было закончить заказ — серию одностраничных скетчей с полудюжиной очень характерных псов в качестве персонажей: злобный ротвейлер, сноб пудель, высокомерный далматинец, симпатичный дворовый пес — ему, как я понял, в этих историях отводилась роль положительного героя. Я сказал об этом Патрису, и он рассмеялся тем же смешком, словно хотел меня похвалить: «Отлично, ты меня узнал. Храбрец и дворняга — это я». Я просмотрел все листы. Это был комикс для детей, немного старомодный, но прорисованный четкой, уверенной линией, и невероятно непритязательный. Невероятно — не то слово, скорее даже непостижимо непритязательный, и я такого подхода не могу понять. Будучи по натуре человеком амбициозным, активным, я должен верить, что пишу исключительные произведения, что ими будут восхищаться. Такая вера воодушевляет меня, а ее отсутствие, наоборот, повергает в уныние. Чего не скажешь о Патрисе. Ему доставляет удовольствие рисовать то, что ему нравится, но он не считает свою работу исключительной и не испытывает потребности считать ее таковой, чтобы жить в мире с самим собой. Свой стиль он тоже не стремится изменить. Для него это было бы равносильно отказу от привычных грез, и тут он ничего не мог с собой поделать. В чем-чем, но в этом он был мастером своего дела.
Пока мы рассматривали рисунки, зазвонил телефон. «Привет, Антуан! — сказал Патрис, сняв трубку. — Ну, что? Все в порядке?» Последовал утвердительный ответ. Лаура, жена Антуана, только что родила сына-первенца. «Артур? Хорошее имя». Пока Патрис поздравлял шурина, я опасался, что он проговорится о моем присутствии. Антуан был бы сильно удивлен, узнай он, что я на несколько дней приехал в Розье без Элен, но еще больше это поразило бы их родителей. Я не просил Патриса хранить мой визит в тайне, к тому же, насколько мне было известно, он никогда не лгал, однако на сей раз он просто не упомянул о моем присутствии.
~~~
Мари-Од и Жак были последними, с кем я говорил по поводу книги. В отличие от траура Патриса, их скорбь меня серьезно смущала. Я боялся, что своими вопросами растревожу притупившуюся боль родителей Жюльетт, хотя понимал всю абсурдность своих опасений: боль от потери не затихает никогда, и время ее не лечит. Супруги находили утешение в своих маленьких внучках и заботились о них не на словах, а на деле, проявляя величайшую чуткость и нежность. Все мы — Патрис, Этьен, Элен и я — по-своему верим в целительную силу слова. Но Жак и Мари-Од, как и мои собственные родители, имели на сей счет свое мнение, их девизом могли бы стать слова: никогда не оправдывайся, никогда не жалуйся. Поэтому я сначала практически завершил работу над книгой и лишь потом поставил их в известность о своем проекте и попросил рассказать мне о том, что они знали лучше кого бы то ни было — о первом заболевании Жюльетт. Об этом они не говорили даже между собой, как и о рецидиве болезни и смерти дочери, но в надежде, что когда-нибудь в будущем книга благотворно повлияет на внучек, они согласились. Мы устроились в гостиной, и супруги повели рассказ, утонув в глубоких креслах, стоявших довольно далеко одно от другого, потом Жак перебрался на диван — поближе к жене, взял ее за руку и больше не отпускал. Пока говорил один из них, другой не спускал с него нежного и беспокойного взгляда, опасаясь, что у того вдруг сдадут нервы. У обоих на глаза наворачивались слезы, но они брали себя в руки, извинялись и продолжали: такова была их манера держаться и любить друг друга.
Жюльетт было шестнадцать лет, и она училась в предпоследнем классе лицея, когда впервые показала матери большую припухлость на шее и пожаловалась на боль. Ее тут же отвезли в больницу Кошен, потом в центр рентгенотерапии, где у девочки определили лимфогранулематоз — рак лимфатической системы, тот самый, что придумал себе Жан-Клод Роман. Жак и Мари-Од верили не в бессознательное, а в нарушение нормальной деятельности клеток, поэтому говорить с ними о психосоматической природе заболевания было бы бесполезно и вместе с тем жестоко; более того, в случае с их дочерью подкрепить такую гипотезу было в общем-то нечем, хотя Патрис упоминал о чувстве одиночества, преследовавшем Жюльетт в детские годы, о чем она не раз вспоминала в конце жизни. Как бы то ни было, возникал вопрос о неотложном лечении. Для врачей Жак и Мари-Од оказались трудными собеседниками в силу своего положения, информированности и требовательности, как следствие, лечащий врач Жюльетт предоставил им право самим выбирать между радио- и химиотерапией. Теперь они считают такое решение чудовищным, тем более, что оно породило бесполезное и мучительное сомнение: возможно, все сложилось бы не так, сделай мы другой выбор? Жюльетт прошла курс радиотерапии, лечения более щадящего — от него у пациентов не выпадали волосы. Прошло несколько месяцев, и врачи сделали заключение, что она поправилась. Девочка продолжила учебу, возобновила занятия танцами, приняла участие в демонстрации мод. О ее болезни в семье больше не говорили, что до всего остального, то только вскользь: Антуан, которому в то время было четырнадцать лет, никогда не слышал слово рак.
На следующее лето, в Бретани, Жюльетт начала оступаться и терять равновесие. Ее, обычно живую и резвую, теперь все чаще видели в плохом настроении, не расположенной к подвижным играм и занятиям. На самом деле, она пыталась скрыть, и прежде всего от самой себя, что ноги держат ее все хуже и хуже. Ситуация напоминала историю, случившуюся с Этьеном несколькими годами раньше, с той лишь разницей, что речь не шла о рецидиве рака. Первые исследования не позволяли делать какие-либо выводы, ей сделали по меньшей мере три поясничные пункции, и о них она сохранила самые жуткие воспоминания. Родители опасались рассеянного склероза. Наконец, один из неврологов в больнице Кошен открыл им всю правду. Девочка получила травму при прохождении курса радиотерапии. Отсчитывая позвонки для ограничения участка спины, подлежащего облучению, медперсонал, по всей видимости, допустил ошибку, и это привело к наложению двух зон лучевого воздействия. В том месте, где спинной мозг получил двойную дозу облучения, он оказался поврежден, нарушилось прохождение нервных импульсов в ногах, и пациентка начала постепенно терять над ними контроль. «Что же теперь делать?» — растерянно спросили Жак и Мари-Од. «Пытаться минимизировать ущерб, — ответил невролог с обнадеживающей миной на лице. — Ждать стабилизации состояния больной. Что случилось, то случилось, теперь остается наблюдать, каковы будут последствия».
С этого момент начался настоящий кошмар. Ни отец, ни мать не осмеливались повторить Жюльетт слова невролога. Они уклонялись от разговоров на тему болезни, и только оказавшись в одиночестве давали волю своим чувствам. Жак постоянно вспоминал сцену, свидетелем которой был полгода тому назад: он привез Жюльетт на лечение и, ожидая за дверью, услышал спор двух радиологов по поводу центрирования, то есть речь шла о метках, нанесенных на спину его дочери; судя по всему, между врачами имелись разногласия, потом кто-то из них резко повысил голос, словно ставил точку в споре, и это немного встревожило Жака. Теперь он считал, что роковая ошибка произошла именно в тот самый момент. Причем ошибка заключалась вовсе не в выборе метода лечения — радио- или химиотерапия: облучение полностью избавило Жюльетт от лимфомы, только его провели неправильно, и как следствие, оплошность медиков по сути дела лишила девочку ног. Жак и Мари-Од чуть ли не ежедневно осаждали центр лучевой терапии, стремясь призвать к ответу директора. Это был, вспоминали они, холодный, самодовольный тип, безразличный к их горю и пренебрежительно относившийся к их научному авторитету. Одним взмахом руки он отмел диагноз невролога из Кошена, не признал никакой ошибки в действиях своего персонала и отнес то, что отныне следовало называть инвалидностью Жюльетт, на счет «повышенной чувствительности» к лечению, в чем не повинен никто, кроме матушки-природы. Еще немного, и он сказал бы, что это она во всем виновата. Жак и Мари-Од возненавидели этого прыща так, как никогда и никого в жизни, смутно осознавая, что посредством его они ненавидят свое бессилие. В завершение разговора они попросили показать им медицинскую карту дочери. Директор центра со вздохом пообещал передать ее, но своего обещания не сдержал: супругам сказали, что карта пропала.
Что же Жюльетт, о чем думала она все это время? Элен вспоминает, что сестра страдала так называемыми «мигренями»: она целыми днями сидела в темноте, с ней нельзя было поговорить, к ней невозможно было прикоснуться. Любой сенсорный контакт становился для нее настоящим мучением. А еще Элен помнила, как мать мимоходом и вполголоса сообщила ей, что Жюльетт рискует на всю жизнь остаться прикованной к инвалидной коляске, но она не должна знать об этом, иначе у нее пропадет желание бороться. Мари-Од сейчас сознается, что первое время боялась уходить на работу из опасения: как бы Жюльетт, несмотря на всю свою силу воли, «не наделала глупостей». Атмосфера в доме была куда более тягостной, чем годом ранее. Лимфогранулематоз — болезнь тяжелая, но в девяти случаях из десяти излечивается и, даже если представляет реальную угрозу, быстро локализуется и устраняется: это, так сказать, небольшое осложнение, но сейчас все обстояло совсем иначе.
На слово «необратимый» наложили табу. Сначала Жак и Мари-Од запретили его произносить, но спустя какое-то время стали искать в себе смелость отменить этот запрет. По сути дела, они скрывали от дочери то, с чем поначалу не могли согласиться сами. Но потом родителям пришлось сдаться. Близилось совершеннолетие Жюльетт, и им предоставили возможность подготовить досье, дающее ей право на различные денежные пособия, удостоверение инвалида, сдачу экзамена на право вождения специально оборудованного автомобиля и других льгот, которым отныне предстояло стать частью ее жизни. В состав досье входил документ, подтверждающий наличие стабилизированного, но необратимого повреждения спинного мозга. Жак и Мари-Од как могли оттягивали момент сбора всех документов воедино: часть из них подписывали они сами, другие подмахнула Жюльетт, не вдаваясь особо в их содержание. Удостоверение инвалида она получила за несколько дней до своего дня рождения.
В восемнадцать лет этой очаровательной девушке спортивного типа пришлось осознать, что она уже никогда не сможет ходить, как все остальные люди. Одна нога станет совершенно безжизненной, вторая будет едва шевелиться: ей придется волочить их, опираясь на костыли, и она не сможет раздвинуть их сама, когда впервые займется любовью. Для этого ей тоже понадобится помощь, так же, как выбраться из ванны или подняться по лестнице. Во время похорон в одной из речей прозвучала мысль, что склонность Жюльетт к правосудию была связана с несправедливостью, выпавшей на ее долю. Тем не менее, когда родители решили подать в суд на центр лучевой терапии, Жюльетт — уже тогда студентка Национальной школы по подготовке и совершенствованию судебных работников — этому воспротивилась. Она считала, что нет никакой разницы, как человек становится инвалидом — по болезни или в результате лечения, и бессмысленно считать одно более несправедливым, чем другое. Говорить о несправедливости в данном случае просто неуместно: да, очень жаль, произошло несчастье, но правосудие тут ни при чем. Чтобы свыкнуться со своей инвалидностью, она предпочитала забыть о ее причинах и вероятных виновниках.
Понимая, что это навсегда, она терпеть не могла, когда ее начинали утешать: как знать, может, все образуется. Мать Патриса, движимая наилучшими побуждениями, надеялась, что в один прекрасный день щелкнет какой-то тайный замочек, и ноги Жюльетт снова подчинятся ее воле. Сторонница нетрадиционной медицины, она настояла, чтобы невестка посетила целительницу. Та сначала делала руками какие-то пассы, затем показала Патрису, как делать массаж спины: сверху вниз, очень медленно, а в районе крестца сделать движение, будто что-то собираешь, и с силой стряхнуть с рук негативную энергию, рассеивая ее в пространстве. В течение нескольких недель Патрис тщательно выполнял полученные инструкции и ожидал положительных сдвигов. Жюльетт получала удовольствие от массажа как такового, но не рассчитывала на улучшение своего состояния. В конце концов, она сказала ему об этом, и добавила, что ей бы не понравилось, если б ее таскали в портшезе по горным тропкам или по пляжам в Ландах[46], уговаривая поплескаться в волнах, словно от этого ей станет лучше. Есть другие, не менее приятные для нее вещи, и без этих фокусов. Ее не интересовали гаджеты, позволяющие безногому кататься на лыжах или взбираться на Монблан, какими бы хитроумными они ни были. Это не для нее. Патрис все понял и распростился с мыслью увидеть ее когда-нибудь стоящей на своих ногах. Он любил ее такой, какая она есть.
~~~
Эта история произошла в кабинете Этьена в шесть вечера спустя несколько месяцев после их знакомства. У обоих выдался трудный день. Этьену надо было ехать домой в Лион, Жюльетт — в Розье, но она уже знала, что перед уходом Этьен любил посидеть в кресле с закрытыми глазами, не двигаясь. Он не думал ни о чем конкретном — ни о том, что было сделано за день, ни о том, что предстоит делать завтра; если же мысли о работе и посещали его, то лишь мимоходом, их тут же вытесняли другие. Жюльетт нравилось составлять ему компанию в такие моменты, и он, до сих пор предпочитавший наслаждаться одиночеством, с удовольствием ждал ее визитов. Иногда они разговаривали, иногда просто молчали: с этим проблем у них никогда не возникало. Но в тот вечер, едва она вошла в кабинет и села, прислонив костыли к подлокотнику кресла, Этьен почувствовал — что-то случилось. Но Жюльетт заверила его, что все в порядке. Он продолжал настаивать. В конце концов она сдалась и рассказала об инциденте, происшедшем днем. Инцидент — слишком сильно сказано, скорее небольшая напряженность, но она восприняла ее довольно болезненно. Жюльетт попросила одного из судебных исполнителей принести из ее машины папки с делами, тот вздохнул и отправился выполнять просьбу. Вот и все. Он ничего не сказал, просто вздохнул, но этот вздох говорил, — во всяком случае, так восприняла Жюльетт — что его раздражает обязанность оказывать ей услуги, потому что она инвалид. «А я, — горько заключила девушка, — всегда старалась не злоупотреблять…»
Этьен перебил ее: «Ну и зря. Наоборот, тебе следовало бы больше пользоваться своим положением. Не стоит попадать в эту ловушку и стесняться жизни, изображая из себя инвалида, который поступает так, будто он и не инвалид вовсе. Уясни себе раз и навсегда: люди должны оказывать тебе всякие мелкие услуги, кстати, они обязаны это делать, и в большинстве случаев с удовольствием тебе помогают, потому как счастливы, что не оказались на твоем месте. Не стоит на них за это сердиться — стоит только начать и уже не остановишься, но это правда».
Жюльетт улыбнулась, его пылкость часто забавляла ее. На этом можно было бы закрыть тему, но в тот вечер Этьена понесло, и он спросил: «Тебе это надоело, а?»
Она пожала плечами.
«Мне тоже, — продолжил он. — Мне это надоело».
Пересказывая мне события того вечера, он повторил: «Мне это надоело».
Потом Этьен объяснил: «Это очень простая, но крайне важная фраза, потому что с ее помощью человек ограничивает сам себя. Он запрещает себе не только произносить ее, но, насколько возможно, даже думать о ней. После мысли „мне это надоело“ очень скоро приходит констатация факта: „это несправедливо“ и „я мог бы жить иначе“. Но тут таится опасность. Стоит подумать „это несправедливо“, как нормальной жизни приходит конец. Когда начинаешь размышлять, что все могло бы быть иначе, что ты мог бы бегать как все, чтоб успеть на метро, или играть в теннис со своими детьми, это значит только одно — твоя жизнь пошла под откос. Мысли „мне это надоело“, „это несправедливо“ и, наконец, „жизнь могла бы сложиться по-другому“ ведут в тупик. Тем не менее, они существуют, и едва ли есть смысл лезть из кожи вон, делая вид, будто это не так. Свыкнуться с ними непросто».
Справиться с собой не так уж сложно, но главное — не говорить об этом с другими. Они заметили, что это правило справедливо для них обоих. Говоря о других, они имеют в виду в первую очередь Натали — для него, и Патриса — для нее. В принципе, они могут выслушать все, но эти мысли все же лучше держать при себе, ибо они причиняют им боль, боль с примесью печали, бессилия и вины, поэтому надо стараться не передавать ее тем, кого любишь. В то же время не стоит перегибать палку, чересчур сдерживая свои эмоции. «Иногда, — признался Этьен, — я распускаюсь в присутствии Натали. Кричу, что мне все надоело, что слишком тяжело и несправедливо жить с пластмассовой ногой, что от этого мне хочется плакать. И я, действительно, плачу. Такое происходит, когда жизнь давит чересчур сильно — примерно раз в три-четыре года, потом все нормализуется до следующего раза. Ну, а ты? Ты говоришь так иногда Патрису?»
«Иногда».
«И ты плачешь?»
«Бывает».
Во время разговора по щекам у обоих безудержно текли слезы. Этьен и Жюльетт ничуть не стыдились их и даже испытывали чувство облегчения и радости. Когда можешь сказать «это так тяжело», «это несправедливо», «надоело», не опасаясь, что собеседник почувствует себя виноватым, когда можешь быть уверенным — привожу слова Этьена, — что другой человек услышал то, что ему сказали, и ничего больше, и не ищет в сказанном скрытого подтекста — это огромная радость, невероятное облегчение. Поэтому они не пытались унять слез. Они понимали или догадывались, что такой срыв возможен только раз, и другого они больше не допустят, ибо в нем уже не будет искренности. Но в тот вечер они дали волю чувствам.
«Когда захожу в туалет, — сказал Этьен, — я начинаю считать теннисные очки. Придаю им видимую форму. Я не играл в теннис с двадцати лет, но в уме все еще продолжаю играть и знаю, что буду испытывать тягу к теннису до конца жизни».
«А я, — подхватила Жюльетт, — без ума от танцев. Я обожала танцевать, занималась танцами до семнадцати лет — это не много, а в семнадцать узнала, что больше никогда не смогу танцевать. Месяц назад была свадьба у брата Патриса, я смотрела, как танцуют другие, и завидовала им до смерти. Я улыбалась, я их любила, мне нравилось быть там, но потом музыканты заиграли YMCA, ее крутили все время, когда у меня были ноги. Помнишь: Уай-эм-си-эй! Я бы отдала десять лет жизни за то, чтобы потанцевать пять минут пока звучит эта песня».
После того, как они вдоволь наоткровенничались, Жюльетт серьезно сказала: «В то же время, не случись со мной несчастья, я бы, наверное, не встретилась с Патрисом. Конечно, нет. Я бы даже не обратила на него внимания. Мне нравились мужчины совсем другого типа: блестящие, уверенные в себе кавалеры: такие больше мне подходили, потому что я была девушкой красивой и заметной. Не скажу, что инвалидность сделала меня умнее и глубже, но именно благодаря ей я нашла Патриса, благодаря ей у нас растут дочери; я ни о чем не сожалею и ни в чем не раскаиваюсь, наоборот: не проходит и дня, чтобы я не подумала: у меня есть любовь. Все гоняются за ней, а я не могу бегать, но она у меня есть. Я люблю эту жизнь, я люблю свою жизнь, люблю ее такой, какой она есть. Понимаешь?»
«Еще как, — ответил Этьен. — Я тоже люблю свою жизнь. Именно поэтому я не могу сказать Натали: мне все надоело. Если она услышит это, то подумает, что я хотел бы какую-то другую жизнь, и, не имея возможности дать ее мне, будет переживать. Но слова „мне все надоело“ вовсе не означают, что человек хотел бы жить другой жизнью, или же испытывает грусть. Вот ты сейчас грустишь?»
Она уже не грустила.
~~~
Между ними было много общего. Оба пережили страдания, понятные лишь тем, на чью долю они выпали. Оба принадлежали одному миру. Родители обоих были парижанами, выходцами из буржуазной среды, учеными и христианами, только родители Жюльетт придерживались правых взглядов, а Этьена — левых, но это различие ничего не значило по сравнению с одинаково высокой оценкой места, занимаемого семьями в своей среде. Оба заключили брак с представителями более скромной социальной прослойки, как говорили в их кругу (примечание Этьена: «не в моем»), и искренне любили своих избранников. Браки стали центром притяжения жизни каждого из них, отправной точкой их существования. Оба имели этот прочный фундамент, и были бы сильно удивлены, услышав — до того, как произошла их встреча, — что им чего-то не хватает. Но это «что-то» они обрели в должный момент с восторгом и благодарностью. Этьен, верный своей манере противоречить собеседникам, не признавал слова дружба, но я сказал, что быть друзьями означает то же самое, причем настоящий друг — явление столь же редкое и бесценное, как настоящая любовь. Несомненно, отношения между мужчиной и женщиной выглядят более сложными, потому что к ним примешивается желание, а с ним и любовь. Что касается Жюльетт и Этьена, то тут мне сказать нечего, разве что констатировать: Патрис с одной стороны, Натали с другой поняли, что впервые в жизни их супругов появились другие люди, достойные внимания, и полностью их поддержали.
Кроме приведенного выше разговора, бесед личного характера они больше не вели. В дальнейшем их общение касалось исключительно работы. Есть люди, которым нравится работать с конкретным человеком, точно так же, как другим нравится заниматься любовью с конкретным человеком. После смерти Жюльетт Этьен понял, что навсегда сохранит память о существовавшем между ними взаимопонимании. Между ними не было никакого физического контакта, если не считать рукопожатия в начале первой встречи. Больше они никогда не прикасались друг к другу: не обнимались в знак приветствия, даже не обменивались кивком головы, не здоровались и не прощались. Расставаясь на день или уезжая на месяц в отпуск, они встречались так, словно один из них возвращался из соседнего кабинета, куда выходил минутой раньше за папкой с документами. Но, по словам Этьена, в сложившейся между ними манере совместного ведения дел было что-то чувственное и сладострастное. Они оба обожали момент, когда вскрывалось слабое место, когда умозаключения выстраивались в стройную цепочку. «Мне нравится, — говорила Жюльетт, — когда в твоих глазах появляется блеск».
Их стиль работы, как судей, различался во всех отношениях. Жюльетт выглядела уравновешенной, степенной и всем своим видом внушала доверие. Она всегда начинала судебное заседание с разъяснения процедуры его проведения и юридических тонкостей: что такое правосудие, почему присутствующие собрались в этом зале, принцип оценки доказательств и принцип состязательности. Если требовалось повторить разъяснения, она терпеливо начинала все с начала. Она не торопилась, всегда помогала подсудным, плохо понимавшим тонкости судопроизводства или не способным точно изложить свои мысли. Этьен, наоборот, был резок и временами груб: он мог оборвать адвоката, заявив ему: «Я вас хорошо знаю, мэтр, и мне известно, что вы сейчас скажете, не стоит продолжать. Заседание закончено». С его слушаний люди выходили обескураженными, со слушаний под председательством Жюльетт — успокоенными. Различия прослеживались и в стиле их судебных постановлений, говорил мне Этьен. У Жюльетт, по его мнению, они были классическими, четкими, сбалансированными, у него — скорее романскими: шероховатыми, неровными, с перепадами тона. Я хотел бы почувствовать это, но, к сожалению, мое ухо не так хорошо натренировано, чтобы улавливать подобные нюансы.
Они вели одни и те же сражения, точнее, Жюльетт присоединилась к битвам Этьена в области жилищного права и особенно права потребления, но, я думаю, их подтолкнули к этому разные причины. Если такой блестящий человек, как Этьен, выбрал для себя суд малой инстанции, провинцию и мелкие дела, то, мне кажется, он поступил так из предпочтения быть первым в своей деревне, чем вторым или сотым в Париже, в зале суда присяжных. Евангелие, Лао-цзы[47] и Книга Перемен в один голос призывают «способствовать малому», но когда люди вроде Этьена или меня придерживаются такой линии поведения, то это явно продиктовано тревожной и досадной склонностью к величию, и за подобной ангажированностью я вижу авторское тщеславие, стремление к признанию применительно к темам, которые представляются мне просто смехотворными, — можно подумать, будто авторское тщеславие, терзающее меня самого, распространяется на нечто несравнимо более достойное.
У Жюльетт таких проблем не было. Ее устраивала безвестность, как и то, что Этьен выступал в роли ее наставника и глашатая. Они вместе всесторонне обсуждали судебные постановления, и те, что принадлежали ему, появлялись в юридических изданиях под его именем. Этьен не раз предлагал ей опубликовать свои собственные постановления, выйти из тени, но она не соглашалась. Я думаю, ею двигало бескорыстное отношение к правосудию и неожиданное удовлетворение от работы судьей несмотря на неодобрительное отношение мужа. Они много говорили о политике, как, впрочем, и обо всем остальном. По основным проблемам расхождений во мнениях у них не было, зато по отношению к различным организациям Патрис высказывался крайне негативно и критиковал их за все, что бы они ни делали, так что в семье Жюльетт приходилось брать на себя незавидную роль блюстителя порядка. Тем не менее, она считала, что проделала большой путь по сравнению со средой происхождения. Она голосовала за социалистов или за зеленых, когда те не слишком докучали социалистам, по рекомендации мужа читала статьи в «Политис» и «Ле Монд Дипломатик», но в глазах Патриса этого было недостаточно, и Жюльетт не видела причин, чтобы целиком и полностью разделять ценности его социальной среды. Несмотря на приверженность буржуазному образованию, в чем упрекал ее супруг, именно от нее он узнал формулировку — образец классики в Национальной школе по подготовке и совершенствованию судебных работников, согласно которой Уголовный кодекс — это то, что мешает бедным грабить богатых, а Гражданский кодекс — это то, что позволяет богатым грабить бедных, и она первая признала, что в ней заключалась немалая доля истины. Вступая на должность в суде малой инстанции, Жюльетт полагала, что ей придется утверждать несправедливый общественный порядок, однако благодаря Этьену она оказалась на острие увлекательной, смелой борьбы в защиту вдов и сирот. Конечно, она отвергала эту риторику, говорила, что занимает нейтральную позицию и ее заботит только соблюдение закона, но отныне «судья из Вьена», как начинали писать в справочниках по судопроизводству, представлял собой двух хромых, а не одного.
После прихода Жюльетт на место Жан-Пьера Риё работать в суде стало тяжелее. Кредитные учреждения, недовольные действиями горстки судей с левыми взглядами, систематически оказывавших поддержку несостоятельным заемщикам, подавали апелляции на вынесенные судебные постановления. Дела передавались на рассмотрение в Кассационный суд. И с не меньшим постоянством Кассационный суд, известный своими правыми настроениями, признавал недействительными постановления суда малой инстанции. Бедолаги, радовавшиеся избавлению от процентов и штрафных неустоек, в конце концов узнавали, что рано радовались: судья поглавнее надавал по рукам хорошему судье, и теперь придется платить все. Для этого Кассационный суд использовал два приема и, чтобы разобраться в них, потребуется вникнуть в некоторые технические тонкости.
Первый прием — потеря права на обращение в суд в связи с истечением установленного срока. Закон гласит, что кредитор должен принимать меры в течение двух лет после первого факта неплатежа, в противном случае он теряет право на подачу иска, и его посылают куда подальше. Смысл состоит в том, чтобы лишить кредитора возможности объявиться через десять лет и потребовать возврата огромных сумм, накопившихся с его же попустительства, и при том, что он ни разу не призвал должника к порядку. Конечно, эта мера защищает должника. Но Кассационный суд уточняет: необходимо соблюдать разумный баланс, и обе стороны должны находиться в одинаковых условиях, то есть у должника тоже есть два года, чтобы оспорить законность договора после его подписания. По истечении двух лет — до свидания, должник лишается права обращаться в суд с жалобой. Не знаю, какие мысли роятся в голове читателя, если он внимательно прочитал написанное выше. Не исключено, что на моей оценке этих юридических, а также политических и моральных нюансов сказывается чересчур сильное влияние Этьена. Между тем, мне не понятно, как можно не замечать очевидного дисбаланса подобного равновесия. Ведь именно кредитор всегда подает в суд на дебитора, и никак иначе. Выходит, ему достаточно выждать два года, чтобы потом перейти в атаку, будучи в полной уверенности, что никто и слова не скажет против его контракта, какими бы противозаконными пунктами он ни был напичкан. Таким образом, чтобы оградить себя от неприятностей, заемщик должен знать о незаконности договора при его подписании. Он должен быть полностью информирован, тогда как дух закона запрещает пользоваться неосведомленностью человека.
Подобная трактовка закона, призванного защищать заемщика, в пользу заимодавца была серьезным ударом для Этьена, Флоре и примкнувшей к ним Жюльетт. Их постановления опирались на закон, но, когда дело доходило до его трактовки, последнее слово оставалось за Кассационным судом, и так происходило все чаще и чаще. Пространства для маневра почти не оставалось, а делать ставку на потерю права на обращение в суд в связи с истечением установленного срока не всегда представлялось возможным. Говоря шахматным языком, пара ладей грозила матом, но в качестве путей отхода еще оставались диагонали. Ситуация стала критической, когда в дополнение к ладьям противник вывел на игру ферзя. Ферзем Кассационного суда стало постановление, вынесенное весной 2000 года, согласно которому судья не мог по собственной инициативе фиксировать нарушение закона. Либеральная теория предстает во всей красе: нельзя иметь больше прав, чем просишь; для возмещения ущерба потерпевшая сторона должна обратиться в суд. Если в случае тяжбы между заемщиком и кредитором, первый не жалуется на договор, то судья не имеет права делать это вместо него. В либеральной теории все так, но в реальной жизни заемщик никогда не обращается в суд, потому что не знает законов, потому что не он подает иск, потому что в девяти случаях из десяти у него нет адвоката. Неважно, заявляет Кассационный суд, обязанности судьи — это обязанности судьи: он не должен вмешиваться в то, что его не касается; если он чем-то возмущен, то должен держать свои чувства при себе.
Этьен, Флоре и Жюльетт были возмущены, но лишены свободы действий; те из должников, кого они тешили напрасными надеждами, пребывали в шоковом состоянии. Зато кредитные учреждения ликовали.
В один из октябрьских дней 2000 года Этьен сидел в своем кабинете и просматривал юридические издания. На глаза ему подвернулось постановление Суда Европейских сообществ[48] с обширными комментариями, и он начал читать — сначала рассеянно, потом все более и более внимательно. Предметом рассмотрения был договор на потребительский кредит, предусматривавший перенос любых споров в суд Барселоны, где располагался офис кредитного учреждения. Выходило, что по этой причине потребитель, проживающий в Мадриде или Севилье, должен был ехать в Барселону, чтобы выступить в свою защиту? Противозаконность данного пункта договора бросилась в глаза судье из Барселоны, и он указал на нарушение. Но в Испании судья тоже не имеет права предпринимать подобные действия по собственной инициативе, поэтому он передал дело в Суд Европейских сообществ. СЕС вынес свое постановление. И теперь Этьен изучал опубликованный документ. Не дочитав до конца, он вышел из кабинета и спустился на первый этаж. Там в большом зале с приемной проходило судебное заседание под председательством Жюльетт. Этьен приоткрыл дверь и взмахом руки позвал ее. Жюльетт, как та актриса, чье внимание пытаются привлечь из-за кулис в самый разгар представления, ничего не поняла и продолжила заниматься своим делом. Но Этьен настойчиво махал рукой. К великому удивлению секретарши, судебного исполнителя и сторон, противостоявших друг другу в деле о неисправном бытовом насосе-измельчителе, Жюльетт приостановила заседание и, вооружившись костылями, заковыляла к двери в приемную, где ее ждал Этьен. «Что случилось?» «Посмотри на это», — он протянул ей журнал. Она начала читать.
«Что касается вопроса, может ли суд, рассматривающий дело, связанное с договором, заключенным между специалистом и потребителем, устанавливать в рабочем порядке противозаконный характер какого-либо пункта данного договора, следует помнить, что система защиты, внедренная в практику европейской директивой, основывается на идее, что потребитель существенно уступает специалисту в том, что касается как умения заключать сделки, так и уровня информированности. Цель директивы, обязывающей страны-члены сообщества принимать меры к тому, чтобы противозаконные пункты не связывали потребителей, не может быть достигнута, если последние вынуждены самостоятельно вскрывать их неправомерный характер. Таким образом, эффективная защита потребителя будет обеспечена только тогда, когда судья национального суда получит возможность фиксировать такие пункты по собственной инициативе».
Уфф. В фильме сцену чтения этих строк главной героиней сопровождала бы напряженная музыка, усиливающая драматический накал происходящего. Зритель видит крупным планом губы героини, приоткрывающиеся по мере чтения; сначала ее лицо выражает растерянность, затем недоверие и, наконец, восторг. Она переводит взгляд на героя и лепечет что-то вроде: «Но как… что это значит?»
Герой — спокойный и сильный — на виде с обратной точки: «Там все написано».
Я шучу, конечно, и все-таки есть что-то комичное в противопоставлении этой неудобоваримой прозы и вызванной ею бури чувств, но точно так же можно насмехаться практически над всеми человеческими начинаниями и затеями при условии, что сам не принимаешь в них участие. Этьен и Жюльетт вели борьбу, исход которой влиял на жизнь десятков тысяч простых людей. На протяжении нескольких месяцев они терпели одно поражение за другим и уже были готовы признать себя побежденными, как вдруг Этьен нашел неожиданный ход, способный изменить ход битвы. Когда мелкий чиновник глумится над тобой: «Будет так, как я сказал, и никак иначе; я ни перед кем не должен отчитываться», — всегда приятно обнаружить, что у него есть большой начальник, и этот начальник признает твою правоту. Мало того, что Суд Европейских сообществ не согласился с решением Кассационного суда, но он занимал еще и более высокое положение в европейской судебной иерархии: право сообществ имеет приоритет перед национальным правом. Этьен не разбирался в праве Европейских сообществ, но оно ему уже нравилось. Он даже начал развивать теорию и, если память мне не изменяет, изложил ее в день смерти Жюльетт: чем выше уровень правовых норм, тем более щедры и близки они к великим принципам, установленным Правом с большой буквы «п». Государства творят мелкие гадости с помощью декретов, тогда как Конституция или Декларация прав человека и гражданина объявляют их вне закона и поднимаются на вершину добродетели. К счастью, Конституция или Декларация прав человека обладают гораздо большим весом по сравнению с декретом, поэтому было бы глупо не воспользоваться этим козырем, чтобы положить конец проискам лакеев или даже их господина. Спору нет, кредитор имеет право заставить должника вернуть долг, но вести достойную жизнь — такое же право, и, решая, на чью сторону стать в споре, нужно помнить, что второе является частью более высокой юридической нормы, и потому приоритет за ним. Так же обстоит дело, с одной стороны, с правом домовладельца взимать арендную плату, и с другой — с правом нанимателя иметь крышу над головой. Благодаря борьбе, что на протяжении многих лет ведут судьи вроде Этьена и Жюльетт, последнее становится противопоставляемым, то есть, на практике, получает превосходство над первым.
Этьен заметно разволновался, в глазах появился блеск. Жюльетт сказала ему об этом: ей нравилось, когда его глаза блестели. Волнение Этьена передалось и ей, но она старалась держать себя в руках: в их команде именно ей отводилась роль реалиста, твердо стоящего на земле. «Нужно все спокойно обдумать», — сказала она. Кому-то может показаться, что обращаться к помощи европейского права в борьбе против национальной судебной практики — ничего не стоит, на самом деле это далеко не так, такое обращение может обойтись очень дорого. Против этой судебной практики выступали ассоциации потребителей и, не без активной помощи Флоре, вели с ней затяжную окопную войну. Блицкриг, задуманный Этьеном и Жюльетт, в случае провала грозил свести их длительную работу на нет. Если СЕС скажет «нет», кредитные учреждения окончательно одержат верх.
Несколько дней прошли в лихорадочной суете, телефонных переговорах и электронной переписке с Флоре и профессором права Европейского сообщества Бернадетт ле Бо-Феррарез: после первой же консультации она всерьез заинтересовалась возникшей ситуацией. Она считала, что ответ Суда Европейских сообществ не гарантирован, но попробовать стоит. Это все равно ждать президентского помилования накануне казни: либо пан, либо пропал. В конце концов, они решили действовать. Кто начнет? Кто будет писать провокационное судебное постановление? Это мог быть любой из них троих, но тут все было ясно заранее: Этьен просто обожал идти в первых рядах.
За несколько месяцев на его столе скопилась целая стопка дел, связанных с договором под красивым названием «Либраву» от нашего старого знакомого Cofidis. Этот «Либраву» можно было бы изучать в школе как пример откровенного сползания к жульничеству. Договор преподносится как «беспроцентная заявка на денежные средства», причем слово «беспроцентная» набрано огромными буквами, тогда как процентная ставка указана на обороте крошечным кеглем, и ее величина составляет 17,92 %, что в сумме со штрафными санкциями превышает предельно допустимую кредитную ставку. Из стопки дел Этьен наугад вытащил папку, куда предстояло заложить маленькую бомбу замедленного действия. На папке значилось «Cofidis SA против Жана-Луи Фреду». Сделку никак нельзя было назвать крупной: Cofidis требовал возврата 16310 евро, 11398 евро составляли основную сумму долга, остальное — проценты и штрафные санкции. Месье Фреду на судебном заседании не присутствовал: у него не было адвоката. Зато Cofidis представлял ветеран коллегии адвокатов Вьена — тертый калач, чувствовавший себя в зале суда, как дома. Он не встревожился, когда Этьен обратил внимание на то, что «условия финансового характера неудобочитаемы», что «это отсутствие удобочитаемости следует сопоставить с особо крупным шрифтом надписи, указывающей на беспроцентный характер договора» и что в силу указанных обстоятельств «условия финансового характера могут рассматриваться как неправомерные». Он не беспокоился, потому что наизусть знал мелочные придирки Этьена. Впрочем, адвокат относился к нему с уважением, и его ответ прозвучал хоть и насмешливо, но нисколько не агрессивно, словно он играл свою роль в идеально отработанном номере популярного дуэта: «Нам наплевать, даже если эти условия противоречат закону, потому как договор датирован январем 1998 года, а вызов в суд — августом 2000, так что срок утраты права за просрочкой давно истек. Очень сожалею, господин Председатель, это была симпатичная схватка во имя чести, но закон есть закон, и давайте прекратим спор».
«Хорошо, — согласился Этьен, — давайте прекратим. Судебное постановление появится через два месяца». Чем ниже он сгибался внешне, тем больше ликовал в душе. Если бы зависело от него, он вынес бы судебное решение на следующей неделе, но следовало вести себя как ни в чем не бывало, соблюдать установленный срок. Судебное заседание закончилось в пятницу в шесть часов вечера, а в субботу утром он сидел дома за компьютером и работал над текстом постановления, пребывая в состоянии нервного возбуждения и веселья. Время от времени его разбирал смех. Через два часа документ, получившийся непривычно большим — целых четырнадцать страниц, — был закончен. Этьен позвонил Жюльетт и зачитал ей постановление. Она тоже не смогла сдержать смех. Потом настал черед Флоре и Бернадетт — она окончательно присоединилась к их «заговору». Компания судей решила не торопить события, все тщательно проверить, обдумать и взвесить каждое слово. Дальнейшая процедура выглядела крайне мудреной, но в общих чертах все было просто. Суть судебного постановления заключалась в следующем: я не могу вынести судебное решение, потому что в законе отсутствует ясность, и, чтобы внести ее, я должен задать Суду Европейских сообществ вопрос, имеющий значение преюдициального: соответствует ли нормам европейской директивы то обстоятельство, что после потери права на обращение в суд в связи с истечением установленного срока судья национального суда не может по собственней инициативе фиксировать противоправное условие в договоре? Прошу ответить мне «да» или «нет», и я буду рассматривать дело в соответствии с вашим ответом.
В течение двух месяцев, отведенных законом на подготовку судебного постановления, компания изнывала от нетерпения. По прошествии этого срока постановление — на самом деле, оно таковым не является, пока не получен ответ на преюдициальный вопрос, — можно будет рассылать участникам слушания и, главное, Суду Европейских сообществ. Спустя какое-то время Этьен встретился в коридоре суда с адвокатом Cofidis, пребывавшим в некоторой растерянности после получения непонятного юридического документа. «Ну, если вам так хочется…, — легкомысленно заявил он. — Мы подадим протест, Кассационный суд отменит постановление — это его работа — и вместе с ним аннулирует ваш вопрос. Мы просто потеряем год, лично мне это до лампочки, вам тоже, зато бедолага ответчик в конечном счете заплатит сполна». Этьен, предвидевший такой ответ, улыбнулся: «Не думаю, что на сей раз все будет именно так: Кассационный суд заявил, что обжаловать можно только решения по существу дела, но не решения по промежуточному вопросу, возникшему в ходе судебного разбирательства, а то, что вы получили, как раз таковым и является». Его собеседник поднял брови: «Вы уверены?» «Еще как», — ответил Этьен. «Ну, ну», — хмыкнул адвокат.
Шестеренки завертелись, и дело стронулось с мертвой точки. В Люксембурге начали переводить запрос Этьена на все европейские языки и рассылать его в страны-члены сообщества. Обсуждать поднятую тему могли все желающие. Прошло полгода. Апрельским утром 2001 года в суд пришло письмо — толстый конверт со штампом Суда Европейских сообществ. Этьен был один в кабинете, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не вскрыть конверт до прихода Жюльетт. Секретаря предупредили: не беспокоить. В конверте находились два документа: один очень большой — доклад юристов Cofidis, второй, менее пространный — заключение Европейской комиссии. О содержании первого они догадывались; вся интрига была заключена во втором и, чтобы насладиться напряженным ожиданием, мучительным и в то же время восхитительным, они заставили себя прочитать сначала первое: двадцать семь страниц убористого текста, составленного целой группой адвокатов — этакого антикризисного комитета. Неприятель почувствовал опасность и пустил в ход тяжелую артиллерию. Уже в преамбуле речь пошла о «непродуктивной бунтарской атмосфере», «фронде, поддерживаемой рядом судей, представляющих некоторые профсоюзы, и даже отдельными членами Профсоюза работников органов правосудия». «Видишь, — с восхищением заметил Этьен, — версальцы во все времена пишут одинаково». Затем в боевых порядках следовали сугубо юридические аргументы, служившие основанием для главного, политического довода: постоянные придирки к кредитным учреждениям и поддержка неплатежеспособных должников приведет к нарушению работы всей системы в целом, что отрицательно скажется на честных заемщиках. В общем, ничего неожиданного, если не считать пафосного тона. В другой ситуации он казался бы безобидным, но в рамках юридического текста приобретал остроту персональной атаки, вроде выстрела из базуки. Это льстит и волнует. Они прочитали доклад, не пропустив ни строчки. Теперь оставалось ознакомиться с приговором. Европейская комиссия — это не Суд Европейских сообществ, она дает заключение, но не выносит решение, но этого заключения, как правило, придерживаются, и если Комиссия говорит «нет», СЕС наверняка скажет «нет». Нет будет означать поражение и унижение. С этим придется свыкнуться; Этьен и Жюльетт не станут делать харакири на рабочем месте, но им придется не сладко, и они это понимали. «Читай ты, — сказал Этьен, — ты сильнее меня». Жюльетт начала читать. Принцип эффективности… компенсация судьей неосведомленности одной из сторон… ссылка на постановление суда в Барселоне…
Она подняла голову и улыбнулась: «Они сказали „да“».
«Это было все равно, что идти по ветхому деревянному мостику, — сказал Этьен. — Мостику шаткому, опасному. Сначала ставишь одну ногу. Видишь — вроде держит. Тогда ступаешь другой».
(Переписывая черновик, я осознаю, насколько смелой является эта метафора для человека без ноги.)
Этьен не стал ждать, когда СЕС подтвердит заключение Комиссии, и «удвоил ставку», поставив второй преюдициальный вопрос. Речь снова шла об исполнении судьей своей должности, о его праве фиксировать несправедливость, жертва которой не подала жалобу в суд, но на сей раз Этьен подошел с другой стороны. Некий месье Жине сменил месье Фреду, а вместо компании Cofidis появилась компания АСЕА, в остальном новое дело практически ничем не отличалось от предыдущего. В ходе судебного заседания Этьен заметил, что полная кредитная ставка, так называемый ПКС, не упоминается в кредитном предложении, и он считает это нарушением закона. Никто кроме Жюльетт не знал об успехе его первого демарша, никто и не догадывался, что он готовит следующий. Адвокат АСЕА без опаски выдвинул аргумент, заранее припасенный на тот случай, если судья-придира начнет цепляться ко всяким мелочам. Неправомерность, если таковая имеется, относится к публичному порядку в области социально-экономической защиты, и судья не должен сюда вмешиваться.
Публичный порядок в области социально-экономической защиты — еще одна находка Кассационного суда. Начиная с семидесятых годов, он отделяет его от публичного порядка в области управления экономикой. Публичный порядок в области социально-экономической защиты не имеет отношения к обществу, он затрагивает интересы лишь отдельных людей. Именно они должны отстаивать свои права, тогда как судья, представляющий общество, не может вмешиваться в этот процесс по собственному желанию. Публичный порядок в области управления экономикой — другое дело: он имеет отношение к обществу в целом, к организации рынка, и его нарушение может и должно быть предметом внимания судьи.
Этьен считал такое различие дурацким. «На севере я занимался уголовными делами, сегодня в Лионе я занимаюсь тем же, — сказал он. — Во имя публичного порядка я согласился выполнять эту крайне неприятную работу — сажать людей в тюрьму. Во имя публичного порядка я согласился бросать за решетку африканцев, укравших автомобильный радиоприемник. Правосудие — штука жестокая. Я допускаю эту жестокость, но при условии, что порядок, которому она служит, является последовательным и неделимым. Кассационный суд утверждает, будто защищая месье Фреду и месье Жине, мы защищаем только этих граждан, но им следовало бы быть умнее и защищаться самостоятельно, в противном случае пусть пеняют на самих себя. Я с этим не согласен. Защищая месье Фреду и месье Жине, мы защищаем общество в целом. Я полагаю, что есть только один публичный порядок.
Одно из преимуществ права европейского сообщества заключается в том, что оно не ограничивается публикацией каких-то законов: всегда указываются преследуемые цели, и, как следствие, на них можно ссылаться. Цель директивы, на которую я ссылаюсь, — продолжал Этьен, — совершенно понятна и либеральна. Речь идет об организации свободной конкуренции на кредитном рынке. Именно поэтому она обязывает все европейские кредитные организации указывать в договорах полную кредитную ставку: конкурентная борьба должна быть прозрачной. Не указывать ПКС — значит нарушать закон, с этим все согласны, но Кассационный суд запрещает мне отмечать данное нарушение под предлогом, что тем самым я занимаюсь только отдельными людьми, вторгаясь в публичный порядок в области социально-экономической защиты, а не рынком с его публичным порядком в области управления экономикой. Таким образом, я спрашиваю Суд Европейских сообществ: полная кредитная ставка указывается для защиты заемщика или для организации рынка? Поскольку в директиве написано буквально следующее — для организации рынка, мой вопрос становится еще проще: скажите мне, правильно ли я прочитал. Если да, то судебная практика Кассационного суда не имеет смысла».
Теперь, когда прошло много времени, Этьен считает постановление по делу Фреду довольно корявым и не совсем верным. По его мнению, Суд Европейских сообществ вполне мог завернуть его, но есть подозрение, что он утвердил то решение, исходя из собственных интересов: СЕС не хотел упустить удобный случай, чтобы подчеркнуть свое превосходство над национальным правом. Зато постановлением по делу Жине Этьен очень гордился. Этот юридический документ приводил его в восторг. Прежде всего, в нем не было и намека на левые настроения. Этьен не считал себя опасным леваком, каким подавали его адвокаты Cofidis. Он придерживался социально-демократических взглядов, но верил в эффективность конкуренции: очень приятно поймать ультра-либеральное кредитное учреждение, опираясь на его же логику и аргумент, достойный самого Алена Минка[49]. Особенно ему нравился стиль, контраст между масштабом поставленной проблемы — публичный порядок, это что такое? — и приводящей в замешательство, обманчивой наивностью решающего ее вопроса — я правильно прочитал? Ему нравился простой и очевидный способ попасть в цель. Я его понимаю, потому что в своей работе тоже люблю, когда все просто, очевидно, и попадает в точку. И, конечно, когда это эффективно.
Кстати, давайте поговорим об эффективности. До ухода со своего поста во Вьене, вынося решение по делу Фреду, Этьен смог лишить Cofidis права на процентные отчисления. В деле Жине кредитор вовремя заметил, что ветер поменял направление, и предпочел выйти из игры. Двойная победа и особенно тот факт, что она породила прецедент, привела к тому, что Жюльетт и Этьен стали — как он с гордостью говорил — «объектами нападок в „Даллозе“ со стороны профессоров права, изображавших „судью из Вьена“ особо опасным врагом общества». Итогом их битвы можно было гордиться: закон о потере права на обращение в суд в связи с истечением установленного срока претерпел серьезные изменения, должностные обязанности судьи расширились, долги десятков тысяч малоимущих на законных основаниях уменьшились. Конечно, результат не столь эффектный как, скажем, отмена смертной казни, но уже достаточный, чтобы понимать: они работали не напрасно, и даже были великими судьями.
~~~
Этьен сказал, что перевелся в Лион на должность следственного судьи по ряду причин: во-первых, восемь лет работы в суде малой инстанции окончательно измотали его, во-вторых, рано или поздно приходит такой день, когда, все же, нужно уходить, тем более на гребне побед. Адвокаты из Вьена судачили за его спиной, мол, этот перевод — наказание: он слишком надоел всем, в министерстве юстиции его не переваривают. Какой бы ни была истина, Этьен сам признавал, что его перевод — вовсе не повышение по службе, и должность судьи во Вьене была и, скорее всего, останется самой престижной в его карьере, но не факт, что самой интересной.
Расставание с судом малой инстанции означало также расставание с Жюльетт. Из Вьена до Лиона можно доехать на машине за полчаса, но они понимали, что их дружба держалась на ежедневной профессиональной деятельности, совместной работе над делами, возможности в любой момент без стука войти в кабинет друг к другу, жить вместе на работе так, как другие пары живут дома. Первое время они несколько раз обедали вдвоем, семьями проводили уикенды, но это было уже совсем не то, и такие встречи не нашли продолжения. Этьен начал думать, что даже если бы они больше не виделись, было бы не так страшно, ибо Жюльетт уже стала частью его самого, частью его личности, собеседником, к которому адресовалась большая часть внутренних монологов, и он не сомневался, что она чувствовала то же самое. Они часто перезванивались. Жюльетт рассказывала, как идут дела в суде после его ухода, делилась сплетнями про секретарш и судебных исполнителей. От этих разговоров Этьен получал удовольствие, как от детских фантазий типа: ты умер, но слышишь все, что говорят на твоих похоронах. С новым судьей, пришедшим ему на замену, она ладила не столь хорошо, но это нормально: она пережила потрясающее время и не могла рассчитывать, что так будет продолжаться всегда. В течение последних пяти лет Этьен находился в постоянном возбуждении от бесконечной борьбы с банками и Кассационным судом, теперь же адреналин отхлынул, и азарт сражения уступил место усталости. Жюльетт работала не покладая рук, чтобы быть в курсе всех дел, поданных ей на рассмотрение: ложилась за полночь, вставала в пять утра, но постоянно боялась не успеть, упустить что-то важное. Слушая ее, Этьен чувствовал, что она теряет уверенность, ему хотелось быть рядом и помочь, как он умел это делать, превращая самую нудную работу в увлекательное, веселое приключение. Поэтому он испытал настоящее облегчение, когда Жюльетт сообщила ему о своей беременности: по меньшей мере, теперь она сможет перевести дух. Однако третья беременность оказалась более тяжелой, чем обе предыдущие. Она сама решила завести третьего ребенка, это немного пугало Патриса, но Жюльетт стояла на своем: этот будет последним. Диана родилась 1 марта 2004 года. Этьен навестил маму с новорожденной в родильном доме, потом приезжал к ним в Розье. Амели и Клара играли с маленькой сестричкой в дочки-матери. Жюльетт не сводила с дочерей глаз, и Этьен видел в них бесконечную любовь и счастье. Но было еще нечто такое, чего он не смог или не захотел распознать, и это нечто разрывало ему сердце. Жюльетт вернулась к работе после летнего отпуска, это было ее второе возвращение в суд без него. В их телефонных разговорах постоянно звучали слова усталость, слабость, истощение, потом к ним добавилось еще одно — страх. Его он никогда раньше от нее не слышал.
Однажды декабрьским утром Патриса разбудил звук затрудненного дыхания. Жюльетт рядом с ним плакала и в то же время задыхалась. Он попытался ее успокоить. Между двумя спазмами ей удалось сказать, что она не знает, что с ней происходит, но чувствует себя очень плохо. Патрис договорился о срочном приеме у терапевта во Вьене. К врачу поехали все вместе — в субботу старшим девочкам не надо было идти в школу, а младшую вести к няньке. Пока длилась консультация, Амели и Клара рисовали в приемной. Терапевт также в срочном порядке отправил Жюльетт сделать снимок легких. Чтобы развлечь заскучавших дочерей, Патрис отвел их в книжный магазин, где был отдел детских книжек, и там они навели свой «порядок». Диана ревела, сидя у на руках у отца, а он терпеливо расставлял на место книжки, оставленные старшими, где попало, и извинялся перед продавщицей: слава Богу, у нее тоже были дети, и она знала, каково это. Потом они заглянули в рентгеновский кабинет, забрали снимок и вернулись к терапевту. Тот посмотрел снимок и с встревоженным видом сказал, что надо ехать в Лион на компьютерную томографию. Все сели в машину. Исследования затянулись до полудня; девочки не кушали, не отдыхали, Диане не меняли подгузник. Сидя на заднем сиденье, все трое орали, стараясь перекричать друг друга, а Жюльетт была не в состоянии их успокоить. Словом, это был ад. В лионской больнице снова пришлось ждать — томография требовала времени. К счастью, для детей имелась игровая зона с бассейном, заполненным мячами. Каждые десять минут к Патрису приставала пожилая дама с одним и тем же вопросом — где она находится, и он, видя, что с женщиной не все в порядке, терпеливо отвечал: «В больнице, в Лионе, во Франции». Он был настолько выбит из колеи, что даже не встревожился, но, когда сообщили диагноз — эмболия легочной артерии, поймал себя на том, что почувствовал облегчение: да, эмболия легочной артерии — болезнь серьезная, но все-таки это не рак. Жюльетт решили отвезти на машине скорой помощи в протестантскую больницу Фурвьер и сразу же поставить капельницу с антикоагулянтами, чтобы растворить сгустки крови, закупорившие кровеносные сосуды легких. Патрис договорился с женой, что отвезет малышек домой, а потом вернется с одеждой и туалетными принадлежностями, поскольку ей придется провести в больнице несколько дней. Прежде чем уехать, Патрис повидался с врачом, сделавшим заключение по результатам томографии: исследование не выявило ничего, что могло бы вызвать тревогу. Общую картину портило лишь одно — следы фиброза, спровоцированного, по всей видимости, давним курсом рентгенотерапии. Облучение вызвало уплотнение соединительной ткани внутренних органов, отличить новые повреждения от старых было трудно, но в целом все выглядело не так уж плохо.
Из больницы Жюльетт почти сразу же позвонила Этьену. Он хорошо помнил ее слова: «Приезжай, приезжай скорей, мне страшно». И когда, спустя полчаса, он вошел к ней в палату, то понял: она не просто напугана — она была в ужасе.
«Что случилось, что тебя так напугало?»
Дрожащей рукой она указала на трубку, соединявшую ее с капельницей: «Это. Все это. Возвращение болезни. Нехватка воздуха. Смерть от удушья».
Жюльетт говорила короткими, рублеными фразами, в ее голосе звучал протест, совершенно не свойственный ей. Возмущение, горечь, сарказм — это был не ее стиль, но в тот день Этьен видел ее именно такой: взбунтовавшейся, полной желчи и злой иронии. Обычно даже крайняя усталость не могла стереть приветливое выражение с ее лица, теперь же оно выглядело замкнутым, почти враждебным. С кривой усмешкой Жюльетт сказала: «В последние дни я подумывала, не взять ли мне надбавку к пенсии, но теперь, похоже, об этом не стоит беспокоиться. И на том спасибо».
Этьен никак не отреагировал на ее слова, лишь спокойно спросил, не сообщили ли ей часом, что она умирает? Жюльетт пришлось признать, что нет, ей сказали то же самое, что и Патрису: эмболия легочной артерии, связанная, по всей видимости, с рентгенотерапией, и это ее окончательно доконало. Особенно то, что придется платить по счетам старой болезни, с которой, как ей казалось, она навсегда распрощалась.
Немного помолчав, она заговорила снова, но уже спокойнее: «Я страшно боюсь умереть, Этьен. В шестнадцать лет, когда я болела, у меня было романтическое представление о смерти. Она казалась мне привлекательной. Я не знала, была ли моя жизнь действительно под угрозой, но возможность умереть как-то не пугала меня. Ты сам говорил мне, что в восемнадцатилетнем возрасте считал, будто подцепить рак — это клево. Я отлично помню, ты сказал „клево“. Но теперь у меня есть дети, и мне страшно. Я прихожу в ужас при мысли, что оставлю их одних. Понимаешь?»
Этьен кивнул. Конечно, он понимал, но вместо того, чтобы сказать то, что сказал бы любой другой на его месте: «Кто тебе говорит о смерти? У тебя эмболия легочной артерии, а не рак, так что не сходи с ума», он произнес: «Если тебя не станет, они от этого не умрут».
«Это невозможно. Я очень нужна им. Никто не будет любить их так, как я».
«Откуда ты знаешь? Ты слишком высокого о себе мнения. Надеюсь, сейчас ты не собираешься умирать, но если придется, то постарайся не только говорить, но и думать: их жизнь не закончится вместе с моей. Даже без меня они будут счастливы».
Когда Патрис вернулся, поручив девочек заботе соседей, Жюльетт не проявляла и тени той паники, единственным свидетелем которой стал Этьен. Она взяла на себя роль образцовой пациентки, доверчивой и позитивной, решив, что так будет лучше для всех. Врачи говорили, что кризис миновал, причин сомневаться в их выводах не было, и она, возможно, поверила в это. Через пять дней ее отправили домой с предписанием носить эластичные чулки и принимать антикоагулянты, чтобы окончательно восстановить дыхательную функцию.
Однако этого не случилось. Ей по-прежнему не хватало воздуха, она задыхалась, словно рыба, вытащенная из воды, вытягивала шею, чувствовала постоянную тяжесть в груди. «Вы оцениваете свое состояние как невыносимое?» — спросил врач по телефону. Нет, невыносимым его нельзя было назвать — она же терпела, но мучительным и тревожным — несомненно. Нужно подождать, пока не подействуют лекарства, последовал ответ. Посмотрим на результат в начале января.
Рождественские каникулы они провели в Савойе у родителей Патриса. Девочки дулись на мать из-за того, что она постоянно жаловалась на усталость, не помогала наряжать елку, не играла с ними. Тогда она преображалась, шутила, изображала из себя старую, ни на что не годную старушку, место которой в мусорной корзине. Малышки веселились, кричали: «Нет! Нет! Только не в корзине!» Но Патрису Жюльетт призналась, что именно так она себя и чувствовала: гнилой изнутри, неизлечимой, годной лишь для свалки. В доме было полно народа, царила шумная предпраздничная суета, дети топали по лестницам и носились из одной комнаты в другую. Супруги запирались в своей спальне, ложились на кровать и бережно обнимали друг друга. Жюльетт шептала, поглаживая щеку мужа: «Бедный мой, тебе со мной не повезло». Патрис протестовал: он вытащил счастливый билет, лучшего и быть не могло. Тронутая очевидной искренностью его слов, она отвечала: «Это я сделала свой лучший выбор в жизни. Я тебя люблю».
В день Рождества на Шри-Ланку обрушилось цунами. Семья узнала, что Элен и Родриго не пострадали еще до того, как поняли, какой опасности они избежали. Но очень скоро все новостные каналы начали транслировать специальные выпуски, позволявшие наблюдать за катастрофой в прямом эфире: виды опустошенных тропических пляжей сменялись картинками разрушенных бамбуковых хижин, кричащих и плачущих полуодетых людей. Все, что там происходило, казалось бесконечно далеким от заснеженной Савойи, дома из бутового камня, огня в камине. В огонь подбрасывали смолистое полено, сочувствовали пострадавшим и наслаждались чувством собственной безопасности. Все, кроме Жюльетт. К ней относились, как к выздоравливающей, словно с каждым днем ей становилось все лучше, хотя она чувствовала, что лучше не становится, что это не нормально, когда постоянно нечем дышать. Она видела беспокойство Патриса и не хотела тревожить его еще больше. Думаю, ей хотелось позвонить Этьену, и если она этого не сделала, то вовсе не из опасения побеспокоить его, — напротив, она знала, что может обратиться к нему в любое время, — а потому что звонить Этьену было равноценно приему чрезвычайно мощного и эффективного медицинского препарата, который берегут на тот случай, когда станет совсем худо. Жюльетт уже чувствовала себя очень плохо, но начинала подозревать, что худшее еще впереди.
Через день после возвращения в Розье, Патрису пришлось везти ее в больницу. Всю ночь, проведенную в отделении экстренной помощи, Жюльетт задыхалась. Врачи определили осложнение эмболии: вода в плевре сдавливала артерию и мешала нормальному дыханию. Новый год Жюльетт провела в больнице во Вьене. Жидкость из легких удалили. Как и в прошлый раз, ее отправили домой, сказав, что сейчас она пойдет на поправку. Снова день проходил за днем, но лучше ей не становилось. Жюльетт снова госпитализировали, на этот раз в пульмонологию больницы Лион-Сюд. И снова ей провели дренаж легких, но на сей раз сделали анализ удаленной жидкости и выявили метастазированные клетки. Жюльетт объявили, что у нее рецидив рака.
~~~
В то утро Этьен повел старшего сына Тимоте на тренировку. Сидя на скамейке за сеткой корта, он наблюдал за его игрой, когда в кармане зазвонил мобильник. Жюльетт без обиняков рассказала ему поставленном диагнозе. Она была спокойной, говорила ровным голосом, и ничто не напоминало о паническом звонке месячной давности из протестантской больницы. Этьен попытался успокоиться, как умел делать только он — полностью концентрируясь на лишь ему известной точке внутри живота. Сначала в голову пришла мысль немедленно отправиться в Лион-Сюд, но он передумал, и тому имелось несколько причин: во-первых, сегодня он работал, во-вторых, Жюльетт сказала, что сейчас у нее находится Патрис, в-третьих, он предпочитал встречаться с ней один на один и, наконец, по собственному опыту он знал, что вечер в больничной палате — самое тяжелое время, а также время самых глубоких откровений и близости.
Он приехал после ужина. Под взглядом Жюльетт Этьен подошел к изножью кровати и там остановился. Никаких объятий, дружеских поцелуев, похлопываний по плечу или рукопожатий. Он знал, что весь день она могла расслабляться в объятиях Патриса, слушать нежные, успокаивающие слова, что говорят обычно маленькой девочке, проснувшейся среди ночи от кошмара: не бойся, я с тобой, возьми меня за руку, сожми ее, пока ты держишь мою руку с тобой не произойдет ничего плохого. С Патрисом она могла вести себя, как маленькая девочка, ведь он был ее мужчиной. С Этьеном все было иначе, и она была другой женщиной: дамой с сильным характером, способной управлять своей жизнью и размышлять над ней. Патрис был ее тихой гаванью, но не Этьен. С Патрисом она должна быть сильной, тогда как с Этьеном имела право на то, что нельзя показывать тем, кого любишь: страх и отчаяние.
Жюльетт выглядела такой же спокойной, как во время утреннего телефонного разговора. Какое-то время оба молчали, потом она сказала, что у нее рак груди, а не легких. Очаг был в груди, в легких появились метастазы. Днем ей сделали сцинтиграфию[50], чтобы выяснить нет ли метастаз в костях. Результат не совсем ясен, или же врачи не хотят говорить ей правду. В любом случае, дело плохо.
Этьен вспомнил поразившую его фразу из книги биолога Лорана Шварца[51]: раковая клетка — это единственный живой организм, который может быть бессмертным. И еще он подумал: «Ей тридцать три года». Вместо того, чтобы сесть в кресло у кровати, Этьен пристроился как можно дальше от нее — на огромном чугунном радиаторе, прогревавшем небольшую палату так, словно это была сауна. Жюльетт молчала, и говорить пришлось ему. Начиная с этого момента все будет меняться буквально каждый день: лечение, протоколы процедур, чаяния, напрасные надежды… Такие изменения — самое тяжелое в течении болезни, и к ним она должна быть готова. Нужно максимально ограничить посещения родственников и знакомых, поскольку это неоправданная трата энергии. Главное держаться, день за днем, не тратить сил понапрасну. Если через несколько месяцев она почувствует себя настолько хорошо, что решит вернуться к работе, то ей стоит просить перевод в Лион, там будет легче чем во Вьене. В этом вопросе Этьен был настроен очень решительно, он даже предложил написать от ее имени письмо и поговорить о ней с первым председателем апелляционного суда в Гренобле. Но он больше не говорил о девочках, о том, что надо готовиться покинуть их, или о том, что надо готовить их к ее уходу. Этьен знал, что она думала именно об этом, но пока ему было нечего сказать помимо того, что уже он сказал раньше, в протестантской больнице.
После небольшой паузы Жюльетт сказала, что не хочет избавляться от болезни той же ценой, как в юности. Тогда родители отдали ей всю свою любовь, энергию, знания; будь такая возможность, они бы забрали ее рак себе, но она не желала, чтобы кто-то другой оказался на ее месте. Она предпочла бы нести свой крест до конца, до самой смерти, что казалось теперь неизбежным, и рассчитывала на помощь Этьена.
«Ты помнишь, — спросил он, — свою первую ночь, когда впервые узнала о том, что у тебя рак?»
Нет, память Жюльетт не сохранила подробностей. Она не помнила, чтобы ей сказали: «У тебя рак», как и того, чтобы к ней после этого пришло осознание факта: ее болезнь — рак. Это неизбежно случилось позже, но сам момент перехода от неведения к знанию, момент, когда прозвучало роковое слово, ускользал из ее памяти. «Ты понимаешь, что я имею в виду, когда говорю избавиться от болезни?»
«Еще как! — ответил Этьен. — Значит, твоя первая ночь оказалась такой. Теперь я расскажу тебе о своей, это важно».
Я уже рассказывал, что в конце первой встречи с Этьеном, после его двухчасового монолога, когда я чувствовал себя так, будто меня выжали в центрифуге, он добавил: «История про первую ночь в больнице, возможно, для вас. Подумайте над этим». Я подумал и взялся писать эту книгу. Во время нашей первой встречи с глазу на глаз он снова затронул ту же тему, и я максимально точно записал рассказ Этьена о первой ночи в институте Кюри, не забыв про крысу, пожиравшую его изнутри, и спасительную загадочную фразу. Тогда я мало что понял, но подумал: да, это важно, рано или поздно мы вернемся к воспоминаниям Этьена, и тогда, возможно, я смогу разобраться в его мыслях. И вот спустя три месяца мы снова сидим у него на кухне, пьем ароматный эспрессо, и он рассказывает о своей поездке к Жюльетт в тот день, когда она узнала, что у нее рак. Он пересказал мне то, что говорил ей, то есть повторил свой прежний рассказ; я жадно слушал его, но так и не уловил пресловутую загадочную фразу. Я делал записи, и на следующий день сверил их с заметками из старого блокнота. Они оказались идентичными. Те же обманчивые фразы с точностью до слова, лишенные таинственного блеска, которым сияла, по словам Этьена, настоящая фраза. Я разочарованно подумал: «Вряд ли что-то можно сказать, не испытав все на собственной шкуре, а тот, кому это удалось, не находит нужных слов». Перелистывая блокнот, я наткнулся на другую фразу. Я выписал ее, когда перечитывал книгу «Марс»: «Как известно, сами по себе раковые опухоли не болят; болят здоровые органы, сдавленные раковыми опухолями. Полагаю, то же самое применимо к душевной муке: везде, где болит, это я». А вот слова Этьена: «Моя болезнь — часть меня. Это я сам. А раз так, я не могу ее ненавидеть». Похоже, но не то же самое. Фриц Зорн повторяет: «Наследие родителей во мне похоже на гигантскую раковую опухоль: все, что страдает во мне, мое несчастье, мучение, отчаяние — это я». Этьен не говорил мне, что семейный или социальный невроз принимал для давления на его душу форму опухоли, но он без конца твердил на все лады: «Моя болезнь — это я. Она не чужда мне». Однако то, что он говорил, — во всяком случае, то, что говорили нечто или некто из глубины его души, — противоречило тому, что он заявлял открыто, громким голосом. В такой манере он вторил Сьюзен Зонтаг[52], написавшей в своем превосходном эссе «Болезнь как метафора»: «Психическое объяснение рака — это миф, лишенный научного обоснования, и в то же время нравственная мерзость, ибо вызывает у больных чувство виновности. В этом заключается официальный тезис, линия партии». Но в узком кругу Этьен высказывался в стиле Фрица Зорна или Пьера Казенава: его рак не является агрессором извне, он — часть его самого, внутренний враг, а, возможно, даже не враг. Первая манера мышления представляется рациональной, вторая — мистической. Можно утверждать, что взросление — ему, предположительно, должен способствовать психоанализ — это переход от мистического мышления к рациональному, но точно так же можно утверждать, что никакой переход не нужен: то, что является истинным на одном уровне сознания, не является таковым на другом, и обитать необходимо на всех его уровнях, от подвала до чердака. Полагаю, именно таким путем пошел Этьен.
Перед уходом он сказал Жюльетт: «Не знаю, что произойдет этой ночью, но что-то непременно должно случиться. Завтра ты будешь другим человеком». Когда он вернулся на следующий день, она встретила его с расстроенным выражением на лице. «Ничего не вышло, — пожаловалась Жюльетт. — Не получилось никакого преображения. Я не воспринимаю болезнь так, как ты; на самом деле, я даже не поняла, какой ты ее себе представлял. Лично мне казалось, будто она сидит и пялится на меня из того кресла».
Она ткнула пальцем в сторону кресла из черного дерматина с ножками и подлокотниками из металлических трубок. Этьен и в этот раз его проигнорировал, отдав предпочтение радиатору отопления.
(Три года тому назад, читая эту страницу, Этьен сказал мне, что нечто, притаившееся в кресле, напомнило ему моего лиса, свернувшегося в клубок на диване Франсуа Руслана. Лично я думаю, что в тот день Жюльетт высказала идею, противоположную его собственному взгляду: «Моя болезнь чужда мне. Она меня убивает, но она — это не я». И еще мне кажется, что по-другому свою болезнь она никогда не представляла.)
«Ну вот, ты пережила свою первую ночь, — сказал Этьен. — Ты познакомилась с болезнью и выделила ей какой-то уголок в своем сознании, но не больше. Это хорошо».
Для Жюльетт его слова прозвучали не очень убедительно. Она вздохнула, словно студент, заваливший экзамен и предпочитающий сменить тему для разговора, потом печально произнесла: «Мои девочки забудут обо мне».
«Ты тоже не вспоминала о матери, когда была маленькой. Как и я о своей. Мы больше не видим их лиц. Однако они живут в нас».
Этьен сказал, что эти слова сами по себе всплыли в его памяти. И точно так же спонтанно я ответил ему: «Ты много рассказывал об отце, и почти ничего о матери. Расскажи мне о ней». Он посмотрел на меня удивленным взглядом, помолчал, а потом заговорил. Детские годы матери пошли в Иерусалиме, где дед руководил французской больницей. Маленькая девочка не ходила в школу, по всем предметам занималась с матерью. Долгое время ее круг общения был ограничен только членами семьи. Отец Этьена тоже воспитывался в изоляции, выходит, встретились две одинокие души. Мать всем сердцем любила этого эксцентричного, непокорного и несчастного человека. Она сумела защитить их детей от подавленности мужа, передать им дух свободы и стремления к счастью, чего не было ни у нее, ни у него, и Этьен по праву восхищался ею. Он был третьим ребенком в семье. До его рождения второй мальчик, Жан-Пьер, умер в годовалом возрасте от дыхательной недостаточности. Малыша отвезли в больницу, и там он задохнулся в страшных, непостижимых мучениях вдали от матери — ей запретили оставаться с ребенком. Несчастную женщину до конца жизни терзала мысль: ее малютка умер в одиночестве, без нее. «Вот и все, что я могу рассказать тебе о моей матери», — заключил Этьен.
Жюльетт потребовала от врачей в Лион-Сюд быть с ней до конца честными, и они сдержали слово. Ей сообщили, что она неизлечимо больна и умрет от рака, но сказать, сколько ей оставалось жить, затруднялись: в принципе, болезнь могла тянуться годами. Следовало быть готовой к тому, что эти годы пройдут под знаком красного креста, и качество ее жизни существенно понизится. У нее был муж, трое маленьких дочек, которых надо растить, и она решила лечиться. Спустя неделю после постановки диагноза, она начала химиотерапию и курс лечения герцептином: раз в неделю ложилась в дневной стационар под капельницу. С лечением рака все было понятно. Что касается проблем с дыханием, то антикоагулянты, к несчастью, оказались неэффективными. От легких Жюльетт осталось, как говорится, одно название. «Картон», — сказал рентгенолог, печально покачивая головой: он никогда не видел, чтобы женщина ее лет была в таком состоянии. Напрашивалось единственное решение — «сажать» больную на аппарат. Для этого в Розье отправили два огромных кислородных баллона, от грузовичка до дома их пришлось везти на двухколесной тележке. Один баллон поставили в спальне, второй — в гостиной. В комплект кислородного аппарата входили ползунковый регулятор подачи газа, длинный шланг, нечто вроде очков с заушинами и две небольшие трубки, вставляющиеся в нос. Как только Жюльетт чувствовала приближение приступа, она надевала маску, и ей сразу же становилось легче: Какое-то время теплилась надежда, что использование кислородного прибора — мера временная, но Жюльетт прибегала к его помощи все чаще и чаще, а к концу практически не расставалась с ним и горевала, что дочери запомнят ее жалкой калекой или существом из научно-фантастического фильма.
Когда Амели спросила ее: «Мамочка, а ты умрешь?» она решила ответить дочери так же честно, как врачи ответили ей самой. Она сказала: «Да, все когда-нибудь умирают, даже Клара, Диана и ты — вы умрете, но очень-очень нескоро, и папа тоже. Ну а я умру пораньше, но все-таки немного нескоро».
«Через сколько времени?»
«Врачи не знают, но не сейчас. Я тебе обещаю, не сейчас. Поэтому не надо бояться».
Конечно же, Амели и Клара боялись, но не так, как если бы им врали. Некоторым образом, слова матери не только успокоили обоих девочек, позволив им и дальше жить привычной девчачьей жизнью, но и ободрили их отца. Патрис всегда жил настоящим. Он инстинктивно претворял в жизнь то, что мудрецы всех времен называли секретом счастья — быть здесь и сейчас, не сожалея о прошлом и не беспокоясь о грядущем. Теоретически, мы признаем: бессмысленно беспокоиться по поводу проблем, что могут появиться через пять лет, поскольку мы не знаем, в каком виде они предстанут перед нами, и будем ли мы еще живы, чтобы противостоять им. Мы признаем это и, тем не менее, переживаем. Но Патриса подобные вещи не волновали. Такая беззаботность происходит от душевной чистоты, веры в себя, свободы, всех добродетелей из Заповедей блаженства[53], и все, что я пишу здесь, озадачило бы его — настолько бескомпромиссна его мирская культура; вместе с тем, меня удивляет, что такие ревностные христиане, как его тесть и теща, не видят, что жизненная позиция этого примитивного антиклерикала — есть не что иное, как дух Евангелия. Подобно ребенку, без конца твердящему под одеялом магическую фразу, несущую успокоение, подобно собственным дочерям, Патрис молил: только не сейчас. Через три, четыре, пять лет. На протяжении этих трех, четырех, пяти лет Жюльетт будет становиться все более слабой, все более зависимой, и он должен будет заботиться о ней, помогать ей, носить на руках, как это было в самом начале. Не хочу быть чересчур идилличным: бессонница и тревога измотали Патриса, как измотали бы любого другого на его месте, но я думаю — он и сам мне об этом сказал, — что он очень рано начал претворять свою программу в жизнь: быть на месте, носить Жюльетт, жить с ней столько, сколько отведено свыше, не думая о моменте, когда все закончится, и что выполнение этой программы всем им — ему, ей и их девочкам пошло на пользу.
Как только врачи объявили о болезни Жюльетт, мать Патриса невесть откуда прознала о некоем Белянски, неортодоксальном исследователе, чьи лекарственные препараты на растительной основе якобы излечивали — не просто приносили облегчение, а излечивали — больных раком и СПИДом. Приводимые ею свидетельства смущали Патриса, он лишь отчасти принимал их на веру, но, не желая упускать ни малейшего шанса, попытался уговорить Жюльетт принимать пилюли параллельно с химиотерапией. Как истинная дочь своих родителей, она ответила, что если бы существовали чудодейственные таблетки от рака или СПИДа, это было бы известно. Как истинный сын своих родителей, Патрис объяснил ей, что если сведения о них не получили широкого распространения, то лишь потому, что открытие Белянски ставит под угрозу интересы фармакологических лабораторий, и они делали все возможное, чтобы скрыть его от общественности. Подобные разговоры сильно раздражали Жюльетт. Эта тема всегда была предметом спора между ними. Она терпеть не могла теорий заговора, тогда как Патрис охотно принимал их на веру. Ему пришлось пойти на попятную, но от своей затеи он не отказался: даже если она не верит в пилюли Белянски, он просит ее попробовать их для него: чтобы в случае трагического исхода он не мучил себя упреками за пренебрежение даже малейшим шансом спасти ее. Жюльетт вздохнула: «Ну, если это нужно, чтобы ты чувствовал себя лучше, тогда другое дело — я согласна». Домашний врач привез пилюли, объяснил, как их принимать, и она неохотно уступила, понимая, что ей придется скрывать это от лечащих врачей. Дав согласие, Жюльетт выразила опасение, как бы лечение по методу Белянски не сказалось отрицательно на действии герцептина, и ей ответили, пожав плечами, что это пищевая добавка, и если она не даст положительного результата, то не навредит тем более. Спустя несколько недель Жюльетт перестала принимать пилюли, и Патрис не осмелился спорить с ней.
Она была измотана, плохо спала, а днем почти ежечасно, за редкими исключениями, прибегала к помощи кислородного аппарата. Мелкие болячки, обычно сопровождающие тяжелую болезнь, также не замедлили дать о себе знать: сначала появилась аллергия на порт-систему[54], потом из-за тромбоза рука посинела до самого плеча, и Жюльетт снова пришлось срочно госпитализировать. Однако, по мнению врачей, она хорошо переносила химиотерапию — лучше, чем сама того ожидала, даже лучше Этьена, вспоминавшего свое собственное лечение. Это уже обнадеживало, и Патрис не мог удержаться от мыслей: «А если, в конце концов, все сложится хорошо? Что, если врачи были слишком пессимистичны и не хотели внушать несбыточных надежд из этических соображений? Что, если она поправится? Возможно, у нее начнется длительная ремиссия, не понадобится серьезное лечение, и она не будет так мучиться? Тогда в погожие дни мы будем гулять в лесу, устраивать пикники».
В феврале состояние Жюльетт немного улучшилось, и она согласилась повидаться с нами. Мы с Элен и Родриго тут же отправились в дорогу, не забыв уложить в багаж парик. У Жюльетт всегда были потрясающие, длинные и густые черные волосы, однако она собиралась обрезать их, не дожидаясь, когда начнет терять эту красоту и обретет — по ее собственному выражению — истинный облик больной раком. Через несколько дней после нашего отъезда Патрис постриг ее наголо. В дальнейшем он повторял эту процедуру еженедельно, аккуратно и осторожно работая машинкой, чтобы кожа на голове не выглядела щетинистой. Стрижка, по его признанию, была для обоих моментом особой близости и нежности. Они приступали к ней только тогда, когда поблизости не было дочерей, и никто не гнал их в шею. Я подумал: «Уединяются, как супружеская пара, чтобы днем заняться любовью».
В отличие от Этьена, который любил поговорить о сексе, предварив его условием, чтобы разговор того стоил, но при этом никогда не допускал вольностей, Патрис был довольно стеснительным человеком, поэтому, перелистывая листы одного из его комиксов с грациозными принцессами и доблестными рыцарями, я с удивлением заметил изображение ангела с четко прорисованным членом. На мой вопрос он без смущения ответил, что во время беременности Жюльетт и после рождения Дианы они не занимались любовью, желание вновь пробудилось ближе к осени, чему они оба были очень рады, но потом у Жюльетт начались проблемы со здоровьем: постоянная усталость, затрудненное дыхание, эмболия, ну, и все остальное… Последний раз они занимались любовью сразу же после того, как Жюльетт сообщили, что у нее рак. Все получилось как-то неловко, не согласованно, словно впервые. Патрис боялся сделать ей больно. Он не знал, что это был их последний раз. Помимо секса как такового, между ними с самого начала установились отношения совершенно особой нежности и гармонии. Они постоянно стремились к физическому контакту, даже ложась спать, тесно прижимались друг к другу, как ложки в футляре. Стоило одному повернуться на другой бок, как второй во сне поворачивался тоже, она подтягивала ноги руками, и они снова оказывались в прежней позе, только перевернутой: засыпая, Патрис прижимался к спине жены, а когда просыпался, оказывалось, что уже Жюльетт льнет к нему сзади, подтянув колени к его согнутым ногам. С осложнением болезни это стало невозможным: появился кислородный баллон, Жюльетт должна была спать полусидя, и спальня выглядела, как больничная палата. Им обоим очень не хватало той ночной близости, ставшей привычной за годы совместной жизни, но они по-прежнему держались за руки, стремились прикоснуться друг к другу в темноте и, не смотря на то, что площадь такого контакта сильно сократилась, Патрис не мог припомнить ни одной ночи, чтобы они не соприкасались хотя бы маленькими участками открытого тела.
Медики подвели первый итог в конце февраля, и им пришлось признать, что результат лечения был неутешительным. Новые метастазы не появились, рак не прогрессировал, но и не отступал. «Неприятно то, — сказал лечащий врач, — что клетки размножаются слишком быстро». Откровенно говоря, от лечения семья ожидала большего, тем не менее, его решили продолжать, хоть и без особой надежды на успех, а по мнению Жюльетт отчасти еще и потому, что никто не мог предложить ничего другого.
По дороге домой она заявила Патрису, что ей надоело обманывать себя. Пришла пора готовиться к неизбежному.
~~~
Жюльетт не скрывала свою болезнь от окружающих. Немного оправившись после эмболии, она сказала соседке Анне-Сесиль: «Ты знаешь, я очень испугалась: все, что произошло, было очень серьезно. Ты должна знать: я рассчитываю на тебя в том, что касается моих девочек». Через месяц, когда диагноз был окончательно поставлен, она без обиняков сообщила друзьям: «У меня рак, я не уверена, что выкарабкаюсь, и мне может понадобится ваша помощь». Вместе с двумя другими семейными парами из Розье — Филиппом и Анной-Сесиль, Кристин и Лоран, они жили маленькой сплоченной группой. У всех были дети одного возраста, да и образ жизни ничем не отличался. Все приехали в Розье из других мест; собственно говоря, коренных жителей в деревне можно было пересчитать по пальцам, поэтому приезжие уживались тут без особых проблем. Подобные сообщества я уже видел в Жексе и, заходя на чашечку кофе то к одним, то к другим в новые дома, обставленные в незатейливом веселом стиле, с почтовыми ящиками, украшенными смешными картинками Патриса на тему «нам не нужны ваши рекламные листовки», мог представить, будто вернулся в те времена, когда собирал свидетельства друзей Флоранс и Жан-Клода Романа. Во дворах готовили барбекю, присматривали за детьми друг друга, менялись DVD-дисками: боевики для мальчишек, романтические комедии для девочек. Патрис и Жюльетт смотрели фильмы на экране своего компьютера, потому что — единственные в деревне — не имели телевизора. Такой вызов, унаследованный от семьи Патриса, периодически становился объектом шуток в кругу друзей, как и склонность Патриса воспринимать буквально то, что говорилось в переносном смысле. Вместе с Филиппом они составляли забавный дуэт: фальшивый циник и идеалист-мечтатель, и Патрис с улыбкой признавал, что иногда добавлял чуждых ему ноток в манеры пса Рантанплана[55].
За несколько недель до того, как Жюльетт сообщила о своей болезни, Анна-Сесиль объявила, что она ждет ребенка. Параллельное развитие своей беременности и болезни соседки она вспоминала, как нечто особенно ужасное. Обеих женщин тошнило, только недомогание Жюльетт было связано с химиотерапией. Одна носила в себе жизнь, другая — смерть. Четвертого ребенка Анна-Сесиль и Филипп хотели привезти в обновленный дом, и затеяли большой ремонт. Патрис и Жюльетт тоже планировали убрать перегородки, перекрасить стены, превратить подвальное помещение в настоящий рабочий кабинет. Они вчетвером обсуждали свои планы, разложив на столе чертежи, каталоги и альбомы колеров, но в их нынешнем положении вопрос ремонта потерял актуальность. Анна-Сесиль и Филипп стыдились своего счастья, увеличения семейства и благополучия в то время как на друзей, до сих пор живших такой же жизнью, обрушилось горе. Анне-Сесиль казалось, что на месте Жюльетт она испытывала бы к себе неприязнь, потом случилось бы то, что чаще всего в таких случаях и происходит: в общении появляется неловкость, натянутый тон приходит на смену дружескому, визиты становятся все более и более редкими. Но она поняла, что Жюльетт не сердилась на нее за счастье, совсем нет; ее по-настоящему интересовала ее беременность, их планы на будущее, и с ней можно было обсуждать все это, не опасаясь, что такие разговоры покажутся смешными или неуместными, и чтобы быть полезной не нужно ходить с грустным видом.
Как-то раз Патрис и Жюльетт неожиданно зашли к ним поздним мартовским вечером, возвращаясь из Вьена после ужина в китайском ресторане: съездить в город немного развеяться их уговорили приехавшие на несколько дней Жак и Мари-Од, они же остались присматривать за девочками. В гостиной разожгли камин, и Анна-Сесиль предложила гостям легкого шампанского, а Филипп виски. Жюльетт выждала, когда все рассядутся, и сообщила, что результаты ее последних анализов оставляют желать лучшего, в связи с чем они с Патрисом обсудили за ужином два важных вопроса и теперь она хотела бы вернуться к ним снова. Первый касался ее похорон. Анне-Сесиль и Филиппу хватило такта, чтобы удержаться от протестующих криков и ненужных возражений, и я уверен, что Жюльетт была им признательна за это. «Патрис в Бога не верит, — сказала она, — что касается меня, то я даже не знаю, это все сложно, но вы — настоящие католики. Из всех наших друзей — только вы верующие, и мне нравится, как вы живете с вашей верой. Я подумала и скажу вот что: похороните меня по-христиански. Во-первых, сама церемония выглядит не так мрачно и позволит людям собраться вместе, во-вторых, похороны станут тяжелым ударом для моих родителей, я не могу взваливать все хлопоты на их плечи. Поэтому мне бы хотелось, чтобы похоронами занялись вы. Согласны?» «Согласны», — ответила Анна-Сесиль невыразительным голосом, а Филипп с серьезным видом добавил: «Сделаем, как для себя».
«Хорошо, тогда перейдем ко второму вопросу. Я знаю, что после моей смерти у Дианы не останется обо мне сознательных воспоминаний. Амели будет меня помнить, кое-что сохранится в памяти у Клары, а у Дианы — нет, и мне больно осознавать это. Патрис фотографирует, конечно, но ты, Филипп, делаешь это как настоящий профессионал. Я прошу, чтобы в оставшееся время ты снимал меня как можно больше. Возможно, в куче снимков потом найдется несколько приличных фотографий».
Филипп согласился и сделал, что мог. «Самым страшным, — вспоминает он, — было то, что наведенный на нее фотоаппарат отныне означал: ты скоро умрешь».
Нужно было успеть завершить все дела, как накануне судебных вакансий, и Жюльетт боялась, что ей не хватит времени. Она не знала, сколько ей еще оставалось, но справедливо полагала, что совсем немного. Она распределила обязанности между друзьями, заручившись их поддержкой, и больше к этой теме не возвращалась. Филипп отвечал за фотографии и отпевание. Анна-Сесиль была логопедом, поэтому на нее возлагалась обязанность исправить дикцию Клары, а Кристин, преподаватель колледжа, отвечала за учебу в школе. Лоран занимал пост начальника отдела кадров на предприятии, и на него возлагались обязанности советника по денежным вопросам: пособие по случаю смерти, кредит на дом, социальное обеспечение и страхование Патриса и дочерей — эти вопросы беспокоили Жюльетт больше всего. Вместе с Лораном они изучили два варианта: скоропостижная кончина и смерть после продолжительной болезни. Второй вызывал у нее большие сомнения с финансовой точки зрения: пособия по продолжительной болезни предполагают понижение заработной платы, тогда как семейный бюджет уже и так трещал по швам. Тут можно было сжульничать: выйти на неделю на работу, потом снова уйти на больничный или работать на четверть ставки по медицинским показаниям, но Жюльетт боялась, что у нее не хватит на это сил. В случае ее смерти кредит на дом будет погашаться по страховке, и член совета кассы взаимопомощи органов юстиции, к которому Жюльетт ездила в компании с Лораном, сообщил им, что Патрис будет обеспечен в течение двух лет. А потом?
Мужа она тоже готовила к жизни без нее. Сначала Патрис отказывался от разговоров на эту тему, считая их нездоровыми, но вскоре заметил, что они шли на пользу обоим: беседы снимали напряжение, и после них Жюльетт становилась заметно спокойнее. В том, как они садились за стол при свете настольной лампы, чтобы поговорить о жизни после смерти Жюльетт, было нечто совершенно ирреальное, вместе с тем, такие разговоры проходили в атмосфере удивительной супружеской нежности. Так сложилось, что в их семье она работала вне дома, а он занимался хозяйством. В любых аспектах домашнего быта Патрис не нуждался в советах и указаниях, тем не менее, Жюльетт все держала под контролем, как чересчур въедливый домовладелец, указывающий будущему квартиросъемщику где что в доме ставить, по каким дням выносить мусор и когда возобновлять договор на обслуживание бойлера. Самым тяжелым стал день, когда Жюльетт затронула вопрос летних каникул. Она их уже организовала таким образом, чтобы девочки провели по нескольку недель в каждой из двух семей. Она считала, что было бы неплохо, если Патрис какое-то время поживет один и отдохнет: это лето для него станет крайне тяжелым. Поняв, что речь идет о предстоящем лете, Патрис, как показалось Жюльетт, едва сдержал слезы. Она взяла его за руку и пояснила, что сказала так на всякий случай, но ее отговорка никого не могла обмануть.
Мне вспомнилось прошедшее лето, когда Патрис рассказал мне про этот случай. Мы забрали к себе на неделю Клару и Амели, как того хотела Жюльетт, и приложили максимум усилий, чтобы развлечь девочек. Клара практически не отходила от Элен, а Амели начала писать роман, исписывая каллиграфическим почерком страницы толстой переплетенной тетради; героиней была, конечно же, прекрасная принцесса, а первая страница начиналась со слов: «Жила-была мамочка, и было у нее три дочери». Внезапно образы-воспоминания предстали передо мной как предвидения: велосипедные прогулки, купания, ласки, пропитанные печалью, — все это несколько месяцев тому назад придумала Жюльетт и подвела черту: «Меня больше не будет. Это лето мои девочки впервые проведут без меня».
Во время моей «стажировки» в суде малой инстанции мадам Дюпраз, секретарь суда, с которой лучше всего ладила Жюльетт, рассказала мне об опеке над несовершеннолетними, этими вопросами они обе занимались по вторникам. Когда один из родителей в семье умирает, оставляя наследство детям, на судью по делам опеки возлагаются обязанности по защите интересов детей, то есть он должен контролировать использование денежных средств вторым родителем. Судья обязан известить его об этом через месяц или два после смерти супруга, однако кое-кто принимает требование закона в штыки, считая это вмешательством в жизнь семьи. Суть состоит в том, что вдовец или вдова не имеют права снять ни гроша со счета своего ребенка без разрешения судьи. Банки еще строже соблюдают это правило, потому что в случае его нарушения будут обязаны возместить соответствующую сумму по решению суда. В большинстве случаев вопросов не возникало, и Жюльетт быстро привыкла подписывать целые пачки постановлений в июне — перед каникулами и в декабре — перед Рождеством. Но бывают случаи, когда граница между интересами ребенка и взрослого довольно размыта. Можно разрешить ремонт кровли, потому что для ребенка лучше, когда ему на голову не капает вода с крыши. Но для него также лучше, когда отца не преследуют судебные исполнители; означает ли это, что капитал ребенка может использоваться для погашения родительских долгов? Мнение судьи зависит от его способности оценить ситуацию, кроме того, ему требуется немало такта, чтобы вынести взвешенное, разумное решение. «В этой чрезвычайно человечной области права Жюльетт не было равных», — сказала мне мадам Дюпраз. Кстати, с ней уже приходилось иметь дело Патрису и, несомненно, она думала именно о нем, когда вспоминала некоего молодого человека, приходившего к ним в суд, чтобы открыть дело. Мужчина только что потерял жену и остался с двумя маленькими детьми на руках, но то, как он говорил о покойной супруге и детях, с каким благородством и душевной простотой нес бремя своего горя, потрясло и судью, и секретаря чуть ли не до слез. В довершение к этому он был красив, настолько красив, что у Жюльетт и мадам Дюпраз вошло в привычку шутить: «Ах, того красавчика следовало бы вызывать почаще». Я сразу подумал, а вспоминала ли Жюльетт, пока была жива, эпизод с молодым вдовцом, таким красивым, добрым и беспомощным; представляла ли себе разговор, что состоится у Патриса через два-три месяца после ее смерти в кабинете, ранее принадлежавшем ей; предвидела ли, какое впечатление произведет ее супруг на хозяина этого кабинета? Несомненно.
Филипп, взявший за привычку два или три раза в неделю бегать по утрам, уговорил Патриса присоединиться к нему: бег поможет избавиться о дурных мыслей. Они не столько бегали, сколько трусили по проселкам вокруг Розье: во-первых, Патрису не хватало физической подготовки, а во-вторых, они могли поговорить по душам. Патрис доверял Филиппу то, что не осмеливался сказать Жюльетт. Он упрекал себя за то, что недостаточно хорошо поддерживал ее, а иногда даже сбегал в свой подвал. Тяжело находиться в доме все время только вдвоем: Жюльетт лежала на диване в гостиной рядом с кислородным баллоном, пыталась читать, дремала, боролась с недомоганием и, в общем-то, не нуждалась в его присутствии, а он спускался в полуподвальную комнату, служившую ему мастерской, пытался работать, но вскоре переключался на компьютерные игры, позволявшие на время отключиться от реальности. Иногда к нему присоединялся тринадцатилетний Мартен, сын Лорана и Кристин, и тогда они часами летали на самолетах или огнем из базук в пух и прах разносили бесчисленные орды врагов. Жюльетт не нравилось, что он убивает время таким образом, вместе с тем, она понимала, что такая отдушина ему необходима. Стоило выключить компьютер, как на Патриса наваливались страх, сожаление, стыд, безграничная любовь, а потом появлялись вопросы, не имевшие ответа. Но уже не «неужели она умрет?», а «когда она умрет?» Можно ли было что-то сделать, чтобы этого не случилось? Что изменилось бы, если бы опухоль обнаружили раньше? Было ли первое заболевание раком каким-то образом связано с Чернобылем, а второе — с высоковольтной линией, проходившей в пятидесяти метрах от их старого дома? Очень тревожную статью по этому поводу он прочитал в журнале «Нет ядерной энергетике». Вообще, подобный вздор — как говорили родители Жюльетт — выводил их из себя, поэтому Патрис предпочитал не говорить на эту тему вслух, но серьезных сомнений от этого у него не убавлялось.
Филипп, слушая откровения Патриса, начинал беспокоиться. Он опасался, что тот не выдержит удара, и смерть Жюльетт окончательно сломает его. Филипп и сам сомневался, что перенес бы такое несчастье: если бы Анна-Сесиль умерла, для него вместе с ней умер бы весь мир. Но теперь он с восхищением видит, что Патрис справляется с горем и продолжает управлять своей жизнью, а тем, кто удивляется, глядя на него, отвечает: «Я принимаю жизнь такой, какая она есть. Мне нужно вырастить трех дочерей, и я их ращу». Его очень редко можно видеть в унынии. Он держится. «Браво!» — говорит Филипп.
Если не считать задач, поставленных друзьям, Жюльетт почти не раскрывалась перед ними, иными словами — не говорила бесполезных пустяков, никого не интересующих и ни к чему не обязывающих. В ее понимании это значило жаловаться, а жаловаться она не хотела. Днем, когда Анна-Сесиль или Кристин забегали к ней выпить чашечку чая и поболтать, она говорила, что дни тянутся страшно медленно, и она проводит их то на диване, то в кресле, будучи не в силах избавиться от мучительной тошноты; что у нее нет сил читать, разве что посмотреть иногда какой-нибудь фильм; что жизнь скукоживается, и это уже не смешно. Тут Жюльетт ставила точку: а зачем говорить что-то еще? Ее беспокоило другое: она больше не могла заниматься с девочками, как прежде. С мыслью съездить во Вьен и посмотреть, как танцует в театре Амели, пришлось распрощаться — у Жюльетт не оставалось сил даже почитать дочкам перед сном. Вместо того, чтобы пользоваться этими моментами, а они, несомненно, были последними в их совместной жизни, по вечерам ей хотелось только одного: чтобы девочки угомонились, и Патрис уложил их спать. От бессилия Жюльетт хотелось плакать. И она, никогда не повторявшая свои наказы дважды, без конца переспрашивала: «Ты им расскажешь обо мне, да? Ты им расскажешь, как я боролась? Что я делала все, что могла, лишь бы не оставить их?»
Она также беспокоилась о родителях. Если бы это зависело только от них, они перебрались бы в Розье, чтобы, по меньшей мере, быть рядом с дочерью, поддержать ее и окружить заботой, но уже через несколько дней Жюльетт хотелось, чтобы родители уехали. Как ни старались Жак и Мари-Од, но их косые взгляды вслед Патрису причиняли ей боль, дискомфорт мужа унижал ее, наконец, им совсем не подходила жизнь в деревне. Их присутствие превращало ее в ту девочку-подростка, которую спасали от рака пятнадцать лет назад, но она больше не хотела ею быть. Слова «моя семья» означали для Жюльетт семью, созданную ею, а не ту, где она появилась на свет. Времени и сил у нее оставалось все меньше, она жила той жизнью, что выбрала для себя сама, а не той, что досталась ей по наследству. Тем не менее, она любила родителей и знала, как глубоко они страдают в бессильном ожидании ее смерти. Жюльетт хотела бы помочь им выдержать это испытание, но не знала, как. И уж тем более этого не знали ни Кристин, ни Анна-Сесиль.
Подруги пытались поговорить с ней по душам, но стоило им лишь намекнуть на страх, который должна вызывать у нее болезнь, как Жюльетт тут же пресекала подобные попытки: «Нет, все в порядке. На это у меня есть Этьен».
Однажды я сказал Этьену: «Я совершенно не знал Жюльетт, скорбь ее близких — не моя скорбь, у меня нет никаких прав писать о ней». Он ответил: «Как раз это и дает тебе полное право, со мной, в некотором смысле, было то же самое. Ее болезнь не была моей болезнью. Когда она сообщила, что у нее рак, я подумал: „Уф! Хорошо, что не у меня“, но, возможно, именно потому что я так подумал, не постыдился так подумать, я смог ей хоть немного помочь. В какой-то момент, чтобы стать ближе к ней, я захотел вспомнить про свой второй рак, про страх смерти и ужасающее одиночество, но у меня ничего не вышло. Конечно, я мог думать об этом, но прочувствовать заново — нет. Тогда я сказал себе: „Тем лучше. Умрет-то она, а не я“. Ее смерть потрясла меня, как ничто другое в моей жизни, но верха надо мной не взяла. Я был перед ней, рядом с ней, но на своем месте».
Этьен никогда не звонил Жюльетт, инициатива всегда принадлежала ей. Он не успокаивал ее, но она могла говорить все, не опасаясь сделать ему больно. Все — это страх. Моральный страх охватывал ее, когда она представляла мир, в котором ее нет, когда понимала, что никогда не увидит, как вырастут ее дочери. Физический страх также проявлял себя все чаще и чаще. Само тело восставало против приближающегося конца. Страх возникал всякий раз, когда результаты анализов свидетельствовали об ухудшении состояния: Жюльетт пыталась внушить себе, что других новостей, кроме плохих, уже не будет, но это не помогало. Страх не покидал ее и в ходе лечения: бесконечные страдания ни к чему не вели, надежд на выздоровление не было, процедуры лишь продлевали мучительное существование. В апреле она сказала Этьену: «Я так больше не могу, это выше моих сил, я сдаюсь». Он ответил: «Имеешь право. Ты сделала все, что могла, никто не в праве требовать, чтобы ты продолжала бороться. Сдавайся, если хочешь».
Слова Этьена пошли ей на пользу. Жюльетт хранила их про запас, словно ампулу с цианидом на случай пыток, и продолжала борьбу. Она полагала, что почувствует облегчение в тот день, когда медики скажут: «Вы знаете, мы больше ничего не можем для вас сделать, поэтому оставляем вас в покое», и была удивлена, насколько тяжело восприняла это известие, когда роковой день наступил. Врачи сообщили, что прекращают герцептиновую терапию, отрицательно влиявшую на работу сердца и, насколько позволяли судить постоянные наблюдения, не оказывавшую никакого положительного эффекта. Все произошло не совсем так, как представляла Жюльетт, но означало одно: врачи опустили руки. Если раньше она рассчитывала, что протянет еще несколько месяцев, то теперь поняла: речь идет уже о неделях, а то и днях.
~~~
Сразу после отмены герцептина у нее с Патрисом состоялся жаркий спор насчет референдума по Европейской Конституции. Патрис высказывался в пользу отрицательного ответа, он даже забросил компьютерные игры, отдавая предпочтение интернет-форумам. Это увлечение стало для него новым наркотиком. Он поднимался из подвала с распечатанными и помеченными маркером документами, скачанными с сайта АТТАС. Мы можем и должны, утверждал он, сопротивляться безраздельному господству либерализма, извращенно представленного обществу как неизбежность. Жюльетт слушала его, но свое мнение держала при себе, а он помнил ее молчание в период первой войны в Персидском заливе, когда они только встретились. Патрис выступал против интервенции, разоблачал махинации средств массовой информации и, поскольку Жюльетт молчала, полагал, что она разделяет его взгляды, однако, оказавшись прижатой к стеке, она была вынуждена признать, что это не так. Она предпочитала занимать нейтральную позицию до тех пор, пока не разберется с собственными мыслями. Патрис словно с неба свалился. Почему она не сказала раньше? Почему бы им не обсудить эту тему? Ответ был прост: она прекрасно знала, что он не изменит свою точку зрения, и не видела смысла спорить впустую. То же самое произошло в мае 2005 года. Каждый дулся на семью другого, кроме того, Патрис злился — и не безосновательно — на влияние Этьена. Дошло до того, что Жюльетт пожелала ему встретить после ее смерти клевую красотку-антиглобалистку вместо больной раком плаксивой тетки с правыми взглядами. Патрис рассказал мне о последней ссоре лишь потому, что я спросил, как он видит свою будущую жизнь с романтической точки зрения. Мой вопрос заставил его задуматься, но отнюдь не шокировал. Возможно, Жюльетт была права, возможно, он начнет жизнь заново с какой-нибудь красоткой-антиглобалисткой, почему бы нет? Этого не миновать. Но что ему особенно нравилось в Жюльетт, так это то, что при нормальных обстоятельствах он бы не видал ее, как своих ушей. Она постоянно подталкивала его, выбивала из привычной ему колеи. Она воплощала собой различие, неожиданность, чудо — все, что случается лишь один раз в жизни, да и то, если повезет. «Именно поэтому я не собираюсь жаловаться, — заключил Патрис, — мне крупно повезло».
В среду 9 июня он взял в видеосалоне Вьена фильм Аньес Жауи «Посмотри на меня». Уложив дочерей спать, Патрис поставил компьютер на подставку для ног перед диваном в гостиной, и они с Жюльетт с удовольствием окунулись в события, происходившие на экране. Жюльетт сидела в кислородной маске, но чувствовала себя вполне сносно. К концу фильма она задремала на плече у супруга, что случалось теперь почти каждый раз, когда они смотрели кино или он читал ей вслух. Патрис сидел, не шевелясь, опасаясь разбудить жену. За эти минуты покоя, когда он прислушивался к ее дыханию и ему казалось, что одним лишь своим присутствием он защищает ее, он был готов еще долго жить такой жизнью, какой бы ужасной она не представлялась. Даже всегда. С тысячей предосторожностей Патрис перенес Жюльетт в спальню и уложил в постель. Потом задремал, держа ее руку в своей. В четыре часа утра больную разобрал внезапный неукротимый кашель. Она не могла дышать, не помогал даже дыхательный аппарат, настроенный на интенсивную подачу кислорода. Глядя на Жюльетт, можно было подумать, что она тонет. Как и в декабре, Патрис позвонил в скорую, потом Кристин, чтобы она пришла присмотреть за детьми. Кристин хотела войти в комнату, пока не прибыли врачи, но Жюльетт замахала рукой: «Нет, нет, не надо». Кристин по сей день сожалеет, что не ушла с дороги санитаров, когда те несли Жюльетт на носилках: оказавшись с ней совсем рядом, она, как ей кажется, нарушила желание подруги: Жюльетт не хотела, чтобы ее видели в таком состоянии. Патрису Кристин сказала, чтобы он ни о чем не беспокоился и оставался в больнице столько, сколько понадобится. В реанимационном отделении уровень насыщения кислородом у Жюльетт пришел в норму, но она продолжала задыхаться. Ей ввели дозу морфина, и больной стало немного легче. Из правой плевральной полости откачали два литра жидкости, но это ничего не дало. Так прошел четверг. В пятницу утром заведующий онкологическим отделением вошел в палату и с сожалением сообщил, что они больше ничего не могут сделать, защитные резервы организма исчерпаны, и она умрет через несколько дней, а возможно, ближайших часов. Жюльетт ответила, что она готова, и попросила вызвать родителей, брата и сестер, чтобы попрощаться с ними, если они успеют приехать до вечера. Что касается дочерей, то Жюльетт не хотела портить старшим девочкам представление в школе и спросила врача, может ли он сделать так, чтобы на следующий день она была в состоянии повидаться с ними. Врач заверил ее, что это возможно: дозировку морфина изменят таким образом, чтобы она не слишком страдала и при этом оставалась в сознании. Покончив с этим, Жюльетт собрала в палате всю бригаду медиков, лечивших ее с февраля месяца, и каждого в отдельности поблагодарила за заботу. Она не имела к ним претензий из-за неудавшегося лечения и не сомневалась: они сделали все, что было в человеческих силах. Затем она отправила Патриса домой — девочки уже заждались его. Ей осталось только повидаться с Этьеном.
Этьен: «Я был ее старшим братом в плане работы и в плане болезни. Мы шли одной дорогой, только я опережал ее, и мы оба понимали это. Но в ту пятницу именно она стала старше. Она сказала: „Этьен, ты принадлежишь к тем немногим людям, кто придал смысл моей жизни, благодаря им я прожила ее по-настоящему. Думаю, это была хорошая жизнь, даже несмотря на болезнь, и я довольна ею“. Впервые я не нашел, что ей ответить. Она перешла ту грань, за которую я уже не мог ступить. Я спросил: а письмо, ты написала письмо? Мы с ней много говорили о письме, которое она хотела оставить своим девочкам. Какие-то наброски у нее были, но каждый раз, когда Жюльетт бралась приводить их в порядок, она терялась: получалось либо слишком много, либо почти ничего — я вас люблю, я вас любила, будьте счастливы. Она печально покачала головой — нет, не написала. Тогда я предложил ей заняться этим. „Здесь, прямо сейчас?“ „Да, прямо сейчас, а когда еще? Для начала, что бы ты сказала дочерям о Патрисе?“ Говорить ей становилось все труднее и труднее, но Жюльетт ответила без колебаний: „Он был моей опорой. Он нес меня. — Потом, чуть помолчав, добавила: — Он отец, которого я вам выбрала. Вам тоже придется делать в жизни выбор. Вы можете просить у него все, и пока вы маленькие, он даст вам то, что вы попросите, но когда повзрослеете, вам придется выбирать. — Она подумала и закончила: — Все“.
Вернувшись домой, я за пару минут написал письмо и передал его Сесиль, сестре Жюльетт. Потом она сказала мне, что прочитала письмо Жюльетт, и та в знак одобрения кивнула головой. Прежде чем выйти из палаты, я присел на край кровати и взял ее за руку. Мы обменялись рукопожатием шесть лет тому назад, когда она вошла в мой кабинет, и с тех пор до этой пятницы больше никогда не прикасались друг к другу».
Когда Патрис вернулся домой, дети уже были под присмотром его матери: она только что приехала и сменила Кристин. Девочки не выглядели напуганными, они уже привыкли к тому, что их мама время от времени ложится в больницу. Им только хотелось знать, будет ли она дома к школьному празднику. Патрис ответил, что нет, и дочери зашумели: она обещала. Тогда Патрис сказал, что она не вернется, и завтра, после праздника, они все вместе отправятся к ней в больницу. В последний раз, потому что мама умрет. Он держал на руках маленькую Диану и обращался к ней, хотя ей был всего год и три месяца, но сказанное касалось в первую очередь ее старших сестер. Амели и Клара расплакались, раскричались и, перевозбужденные, бесились до самого вечера. Как ни странно, заснули они очень быстро. В понедельник рано утром Патрис поехал в больницу, чтобы успеть вернуться к началу спектакля в школе. За ночь состояние Жюльетт ухудшилось. Она вела себя очень беспокойно: зрачки закатывались, неравномерное хриплое дыхание сотрясало все ее тело. Почувствовав присутствие мужа, она вцепилась в его руку и несколько раз громко произнесла, пытаясь оторвать голову от подушки: «Ну вот, сейчас, уже скоро!» Патрис попытался сказать, что дети приедут навестить ее после праздника, но Жюльетт, казалось, не понимала его и раз за разом повторяла: «Ну вот, сейчас, уже скоро!» Патрис был подавлен: он не хотел, чтобы девочки видели мать в таком состоянии, кроме того, он поверил ей, когда Жюльетт сказала, что не боится смерти. Она заверяла, что самое страшное для нее — оставить их, всех четверых, а смерть: что-ж, она к ней готова. Такой стоицизм был ей свойственен, она хотела, чтобы ее запомнили такой, но теперь Патрис видел страдающего, задыхающегося человека на грани паники. От ясного сознания, безмятежности не осталось и следа. Она теряла над собой контроль. Патрис не узнавал ее, это повергло его в шок, и он побежал к медсестрам. Ему сказали, что больная находится под воздействием атаракса; как было обещано, медперсонал делает все возможное, чтобы к приходу дочерей пациентка была, насколько это возможно, в здравом уме и твердой памяти. Врачи, конечно, старались, но выполнить обещанное в полной мере им все-таки не удалось. Когда Патрис в сопровождении Сесиль привел девочек, Жюльетт балансировала на грани сознания. Говорить нужно было, приблизившись к ней как можно ближе. Ее взгляд на секунду останавливался на говорящем, потом устремлялся в пустоту. Пару раз Жюльетт кивнула головой, что можно было принять за знак согласия. Амели и Клара нарисовали для мамы красивые картинки и принесли видеокассету с записью школьного спектакля, но, несмотря на его важность для девочек и их матери — еще накануне Жюльетт беспокоилась о представлении — Патрис не решился подключить видеокамеру к стоявшему в палате телевизору. Посещение вышло настолько тягостным, что его решили сократить. Клара поцеловала маму, Патрис приложил Диану щечкой к ее лицу, но Амели была так напугана, что прижалась к тетке и не отходила от нее ни на шаг.
В этом месте рассказ Патриса прервало появление Амели: она вошла в гостиную в пижаме, босиком. Отец уже давно уложил ее спать, но она должно быть проснулась и слышала наш разговор через приоткрытую дверь. Это ничуть не смутило Патриса: он начинал свой рассказ о последних днях Жюльетт в присутствии детей и даже не старался говорить тише. Амели стала перед нами и сказала: «Мне еще тяжелее, чем Кларе и Диане, потому что я с мамочкой не попрощалась, но мне было очень страшно». Патрис спокойно ответил, что хоть она и не поцеловала маму, зато поздоровалась с ней, и самое главное — она была в палате, и мама ее видела. По его тону я понял, что они разговаривают на эту тему уже не в первый раз и, пока он снова укладывал дочь в постель, подумал: «Хорошо, что Амели сумела сформулировать и высказать упрек к самой себе. Впоследствии эта вина не сможет отравить ей жизнь неизвестно откуда взявшимися угрызениями совести». И поскольку у меня были веские основания считать справедливой психоаналитическую вульгату о преимуществе слова над губительными последствиями умолчания, я искренне поздравил Патриса, когда он вернулся в гостиную, с его позицией по отношению к дочерям: все вещи должны называться своими именами.
Посещения закончились, и Патрис остался наедине с Жюльетт. Ей стало немного легче, но ясность мысли не вернулась, вопреки его ожиданиям. Вытянувшись на краю постели, он пытался говорить с женой, угадать ее желания. Он дал ей попить, и Жюльетт удалось сделать пару глотков. В какой-то момент ее грудь заходила ходуном, тело судорожно выгнулось, и Патрис подумал, что ее час пробил, но нет, она не умирала, она мучилась от боли. Небытие засасывало ее, но Жюльетт сопротивлялась. Патрис спросил: «Тебе страшно?» Кивком головы она отчетливо ответила — да. «Погоди, — сказал он, — я помогу тебе. Я сейчас вернусь. Только не волнуйся, я вернусь». Он тихонько поднялся с кровати и пошел в кабинет врача сказать, что пришло время помочь ей уйти. Получасом позже с той же просьбой к тому же врачу обратились и мы с Элен. Врач ответил нам, что этим уже занимаются, а еще раньше Патрису: «Хорошо, подождите меня здесь» и вышел, оставив его в кабинете одного на пять минут, которые показались Патрису вечностью. С отсутствующим взглядом Патрис рассматривал плинтус с облупившейся краской, неоновую лампу, потрескивавшую на потолке в окружении роящейся мошкары, смотрел в темноту за окном, и у него возникло ощущение, что это и есть реальный мир, ничего другого нет, не было и никогда не будет. Когда он вернулся в палату, глаза Жюльетт, до того полуоткрытые, были закрыты. Внезапно он испугался, что за время его краткого отсутствия она впала в кому. Что она могла смутно видеть входящего в палату незнакомца — он что-то сделал, то ли укол, то ли поковырялся с капельницей, это уже не важно — и в полубессознательном состоянии подумать: «Он пришел прикончить меня». Что перед тем, как все погрузилось в темноту, ее последней мыслью могло быть паническое: «Я умираю, а Патриса нет рядом». В последующие дни этот страшный, воображаемый сценарий настолько измучил Патриса, что ему пришлось обратиться к врачу, и тот успокоил его: ничего подобного произойти не могло, поскольку действие дозы морфина длится более часа, и Жюльетт уходила в забытье довольно долго.
Он снова вытянулся рядом с ней, на этот раз устраиваясь поудобнее, почти как дома. Жюльетт дышала ровно и, казалось, боли отпустили ее. Она находилась в том сумеречном состоянии, которое в любой момент могло обернуться смертью, и Патрис сопровождал ее до самого конца. Он шептал ей на ушко нежные слова, касался рук, лица, груди, время от времени осыпал легкими поцелуями. Понимая, что Жюльетт была не в состоянии слышать его голос, чувствовать прикосновения, он был уверен, что ее тело все еще улавливает их, что она уходит в небытие с ощущением чего-то знакомого, окруженная теплотой и любовью. Он был рядом. Он рассказывал ей об их жизни, о том счастье, что она ему подарила; как он любил смеяться вместе с нею, говорить обо всем и даже спорить. Он обещал, что будет всегда заботиться об их девочках, и ей не стоит об этом беспокоиться. Он проследит, чтобы дети одели шарфики и не простудились. Он напевал любимые песни Жюльетт, описывал миг смерти, как ослепительную вспышку, непостижимую волну покоя, блаженное возвращение к состоянию чистой энергии. Когда-нибудь он тоже познает все это и соединится с нею. Слова приходили к Патрису легко, он произносил их очень тихо и спокойно, они околдовывали его самого. Жизнь доставляет боль своим сопротивлением неизбежному, но скоро мучениям, порожденным ею, наступит конец. Медсестра сказала ему: «Те, кто борется за жизнь, умирают быстрее». «Если это тянется так долго, — размышлял он, — значит, Жюльетт прекратила бороться, и то, что еще живет в ней, остается спокойным и заброшенным. Не борись больше, любимая, хватит, пусть все идет своим чередом».
Тем не менее, ближе к полуночи Патрис подумал, что оставаться ей в таком состоянии еще и завтра просто невозможно. «В четыре часа утра, — решил он, — я отключу дыхательный аппарат». Но уже в час ночи Патрис почувствовал, что больше не может ждать. Ему казалось, что он ощущает нетерпение Жюльетт, и потому отправился к дежурной медсестре, чтобы спросить, нельзя ли отключить пациентку от аппарата, ибо, по его мнению, для этого наступил подходящий момент. Но медсестра не согласилась с ним и предложила оставить все, как есть. Потом Патрис заснул. Около трех утра его разбудил рокот вертолета, почему-то надолго зависшего над больницей. Патрис перевел взгляд на будильник. Без четверти четыре дыхание Жюльетт, и без того едва ощутимое, остановилось. Патрис настороженно замер, но ничего не происходило, сердце Жюльетт больше не билось. Похоже, она догадалась, что муж хотел сделать в четыре часа утра, и избавила его от этого шага.
Патрис все говорил, говорил, и у меня сложилось впечатление, что он не хочет заканчивать свой рассказ.
«Мне не пришлось закрывать ей глаза. Я смотрел на нее и видел прекрасное просветленное лицо — совсем не такое, как в последние дни. Я думал: „Это моя жена, и она умерла. Моя жена умерла“. Лежа рядом, я чувствовал, как уходит ее тепло, и удивился, что это происходит так быстро. Через четверть часа от нее веяло холодом. Я поднялся, оповестил медсестер, позвонил Сесиль — она всю ночь ждала известий, потом вышел из больницы и несколько раз прошелся вокруг здания. Небо на востоке чуть посветлело, облака над городом окрасились в нежный розовый цвет. Я чувствовал облегчение от того, что все закончилось, но самое главное — в этот момент я испытывал невыразимую нежность к Жюльетт. Не знаю, как это сказать, слово нежность кажется мне не совсем точным, но то, что я чувствовал, было гораздо сильнее и значительнее, чем любовь. Спустя несколько часов, находясь в траурном зале, я больше не испытывал этого чувства: любовь — да, но той вселенской нежности уже не было».
~~~
В пятницу, расставаясь с Жюльетт, Этьен спросил, как ему поступить: приехать к ней снова или оставаться на связи. Она предпочла последнее. Этьен провел всю ночь в ожидании звонка, предполагая, что она больше не позвонит: они сказали друг другу все, что хотели; теперь рядом с ней оставалось место только для Патриса. Утром Этьен сел на автобус, идущий до больницы, но, не доехав двух остановок, сошел и вернулся домой. Субботу он провел в кругу семьи, сходил с детьми за покупками в «Декатлон», попытался занять себя работой. Жюльетт просила, чтобы его оповестили в случае ее смерти, и в пять утра ему позвонила мать Патриса. Этьен вспоминает, что здорово рассердился на нее за ранний звонок, но еще больше его возмутили слова «Жюльетт ушла» вместо «Жюльетт умерла». Он буркнул: «Да знаю я, знаю» и на предложение приехать попрощаться с покойной в траурном зале ответил отказом, мол, это его не интересует.
На следующий день после моего долгого ночного разговора с Патрисом мы с Этьеном пообедали во Вьене, и он вместе со мной поехал в Розье. Едва мы вышли из вагона, как он тут же сообщил, что возвращается домой. Они с Патрисом не виделись со дня похорон, между ними ощущалась какая-то натянутость, но я предложил сварить кофе и выпить по чашечке во дворе, в тени катальпы, где мы провели, в конце концов, почти весь день, испытывая удовлетворение от состоявшейся встречи.
Мне запомнились два момента той встречи.
Патрис рассказывал, как он с детьми учится жить без Жюльетт. «Ее энергия поддерживает меня, — говорил он, — но потом вдруг наступает какой-то период, когда я ее больше не ощущаю. Особенно трудно по ночам. Сначала я думал, что никогда не засну без Жюльетт, мне все время казалось, что я чувствую ее рядом. Просыпаюсь, а ее нет, и я понимаю, что пропал, окончательно пропал. Мало-помалу я привык к этому ощущению. Знаю, что постепенно оно исчезнет. Придет такой день, когда целых пятнадцать минут я не буду думать о Жюльетт, потом час… Я пытаюсь объяснить это девочкам… Когда я говорю им, что нам повезло с мамой, мы любили ее, и она любила нас, Клара отвечает, что больше всего повезло Амели, потому что она была с мамой дольше всех, а потом Диане, потому что она еще ничего не понимает, а раз так, то именно ей из них троих тяжелее всего… Несмотря ни на что, мне кажется, что дела у нас четверых идут хорошо. Думаю, мы справимся. А ты как?»
Патрис повернулся к Этьену. Вопрос явно застал того врасплох.
«Что, я?»
«Да, — кивнул Патрис, — как у тебя складывается жизнь без Жюльетт?»
Этьен потом признался мне, что был шокирован и потрясен таким вопросом: получается, что он тоже должен был соблюдать траур, то есть вдовец практически ставил их на одну доску. В глубине души он считал это правомерным (заметка Этьена: «Не совсем так: я считал правомерным иметь какое-то место»), но никогда не стал бы претендовать на подобное равенство. Однако силу своего невероятного великодушия Патрис признал за ним такое право, как нечто само собой разумеющееся.
«У меня? — со смешком переспросил Этьен. — Да очень просто. Больше всего мне не хватает общения с Жюльетт. Это очень эгоистично с моей стороны, но, как обычно, в подобных ситуациях я думаю прежде всего о себе и о том, что есть вещи, о которых я не скажу больше никому до самой смерти. Вот так. Человека, с кем я мог говорить о них, не опасаясь превратить разговор в мелодраму, больше нет».
Позднее, в память о Жюльетт, Патрис занялся составлением слайд-шоу для семьи и друзей. В первую очередь он выбрал очень большие снимки, потом взялся за более скромные. Некоторые фотографии не вызывали сомнений, по поводу других он долго колебался. Ему было тяжело отказаться от любой из них, потому что каждый раз у него возникало впечатление, будто он обрекает на забвение какой-то миг их жизни. За этим спокойным и в то же время печальным занятием Патрис проводил вечера в своей мастерской после того, как укладывал дочерей спать. Он любил эти моменты и не торопился заканчивать работу над слайд-шоу, ибо понимал: как только он все сделает, скопирует и разошлет адресатам, будет пройдена некая точка, а ему вовсе не хотелось приближаться к ней, во всяком случае, не так скоро.
«Напоминает письмо, что хотела написать Жюльетт детям, — заметил по этому поводу Этьен. — Она все собиралась взяться за него и в то же время оттягивала этот момент, потому что знала: как только она поставит точку, ей больше нечего будет делать».
Мы замолчали. На другой стороне площади зазвенели детские голоса — закончились занятия в школе. Через несколько минут Амели и Клара вернутся домой, их надо будет покормить, потом идти за Дианой. Молчание нарушил Этьен: «Есть фотография, которая не может попасть в твое слайд-шоу, потому что она не существует. Но если бы мне пришлось выбирать, я взял бы себе на память лишь ее одну. Помнишь, как-то раз мы вчетвером ездили в театр в Лион. Ты с Жюльетт и я с Натали. Мы приехали чуть раньше и ожидали вас в фойе. Мы видели, как вы вошли в холл, как поднимались по парадной лестнице. Ты нес Жюльетт на руках. Она обнимала тебя за шею и улыбалась, однако больше всего потрясало то, что она выглядела не просто счастливой, а невероятно гордой, как и ты сам. Все смотрели на вас и расступались, уступая дорогу рыцарю с принцессой на руках».
Патрис помолчал, потом улыбнулся — чуть удивленно и вместе с тем мечтательно, как бы признавая очевидное: «Как странно, что ты сказал это сейчас. Я всегда любил носить людей… Даже в детстве таскал на руках младшего брата. Я сажал малышей в тачку и катал их или же устраивал их у себя на плечах…»
Сидя в поезде, уносившем меня в Париж, я размышлял, существует ли формула, столь же простая и точная — он любил носить, ему пришлось ее носить, — для определения сути отношений, объединявших меня и Элен. Ничего подходящего в голову не приходило, но я убедил себя, что когда-нибудь такая идея все же появится.
~~~
К тому времени, как я вернулся из Розье, груди Элен набухли, и она объявила мне о своей беременности. Мне следовало радоваться, но я испугался. Единственное объяснение этому страху я видел в том, что не чувствовал себя готовым к переменам: существовало слишком много препятствий, слишком много нерешенных вопросов. Чтобы снова стать отцом в том возрасте, когда жизнь переваливает за экватор, нужно быть самому примерным сыном, а таковым я себя не считал. Но мне удалось перебороть себя: несмотря на смятение, я решил, что лучше сказать «да», чем «нет», и более-менее сознательно, наугад, начать работать над собой. Мой проект отступил на второй план, я позвонил Этьену и Патрису и предупредил их, что прекращаю заниматься книгой, но, возможно, вернусь к ней позже. В последнем я сильно сомневался. Этьен ответил: «Тебе виднее». Я сразу же принялся писать о самом себе, о своих прежних неудачах на сердечном фронте, о призраке, неотвязно преследовавшем мою семью, и которому я хотел найти место упокоения. Обдумывание книги затянулось до конца беременности Элен. Сказать, что эти месяцы были трудными, значит не сказать ничего. Но почти сразу же после рождения Жанны у меня окончательно сложилось представление о будущей книге, и как-то внезапно свершилось чудо: исчез лис, пожиравший мои внутренности, я был свободен. Весь год я просто наслаждался жизнью и наблюдал, как растет наша дочь. Никаких идей на будущее у меня не было, но это меня совсем не волновало. Фрейд определял психическое здоровье как способность любить и работать. Мне всегда нравился такой подход, даже если суть его казалась мне недостижимой. Я был способен любить, еще больше — принимать чужую любовь, а работа приходила сама по себе. Этой весной почти случайно, без всякой задней мысли, я начал перебирать свои записи о Шри-Ланке, а заодно заглянул в блокноты с заметками об Этьене, Патрисе, Жюльетт и праве потребителей. Я вернулся к работе над этой книгой спустя три года после рождения ее замысла, и закончил спустя три года после того, как отказался от проекта.
На этот раз я решил дать прочитать текст героям книги до ее публикации. Я уже поступал так с Жан-Клодом Романом, предупредив, что «Изверг» закончен, и я не изменю в нем ни строчки. Что касается «Русского романа», то вынести его на одобрение моей матери и Софи было равносильно тому, что бросить книгу в костер: я не мог позволить себе такой роскоши, и потому поставил их перед свершившимся фактом, о чем ни капли не сожалею — это спасло мне жизнь. Но сейчас я так больше не сделаю. Элен стала первым читателем этих страниц. Она разрешила мне взяться за повесть о ее сестре, но чем ближе был финал, тем больше она опасалась того, что же я напишу о Жюльетт. Она никак не могла поверить в ее смерть, даже говорить о ней не хотела и, возможно, упрекала себя в недостаточном общении с сестрой. Когда Элен закончила чтение, мы оба испытали облегчение, и я отправил текст Этьену и Патрису. В отличие от Романа, им я сообщил, что они вправе просить что-то добавить, убрать или изменить в тексте, и я это сделаю. Такое обязательство беспокоило Поля, моего издателя. «Такого не бывает, — напоминал он, — чтобы кто-то заявил, будто доволен тем, как его изобразили в книге: стоит твоим героям внести правки, и в книге ничего твоего не останется». В данном случае он ошибался, и мой последний визит в Лион и Розье стал для меня и, полагаю, для них самым волнующим моментом всей нашей затеи. Я чувствовал себя, как художник-портретист, который показывал свое полотно модели в надежде получить одобрение. Так оно и случилось. Этьен заметил: «Есть кое-что, с чем я не совсем согласен, но уточнять детали не стану из опасения, что ты все поправишь. Я хочу, чтобы это была твоя книга, и в целом мне нравится тот тип, что носит мое имя. Скажу больше — я даже горжусь этим». Он ничего не требовал убрать, только попросил добавить некоторые детали: рассказывая об обращении тройки Жюльетт-Этьен-Флоре в Европейский суд, я не упомянул об эксперте в области права сообщества Бернадетт Ле Бо-Феррарез. Ее помощь была неоценимой, и Этьен считал несправедливым ее отсутствие на «общем фото». Патрис считал, что я преувеличил значение их с Жюльетт политических разногласий. Он без конца возвращался к этой теме, аргументировал, уточнял, поправлял. Его ничуть не беспокоило, что в книге он выглядел наивным леваком, но он ни за что не хотел, чтобы читатель принял Жюльетт за сторонницу правых сил. У меня даже возникло впечатление — и оно просто потрясло меня, — что на страницах моей книги он продолжает страстный спор, не утихавший все тринадцать лет их совместной жизни. После совместной работы над текстом мы отправились в школу за детьми. Несколько девочек из класса Амели окружили меня и спросили: «Это правда, что вы написали книгу про Жюльетт? Ее можно будет почитать?» Но сама Амели и ее сестры никак не отреагировали, когда я заговорил об этом за обедом. «Да, мы знаем», — говорили они, отводили взгляды и переводили разговор на другие темы.
Спустя несколько месяцев после возвращения со Шри-Ланки мы поехали в Сент-Эмильон проведать Филиппа, Дельфину и Жерома. Комната Джульетты выглядела, как мавзолей — средоточие памяти и печали. Филипп написал свою книгу, и мы обменялись несколькими электронными письмами, одновременно сердечными и отдаленными. Камилла родилась годом позже, через десять дней после Жанны, по этому поводу мы тоже письменно поздравили друг друга. Последующие два года мы не общались. Прервав долгую паузу, я связался с Филиппом, отправил ему рукопись и попросил поставить об этом в известность дочь и зятя. Филипп все одобрил, лишь исправил название какой-то местности, однако посчитал, что Дельфине и Жерому не стоит читать мою книгу. Во всяком случае, не сейчас, а может быть, вообще никогда. Всем семейством — Элен, Родриго, Жанна и я — мы отправились к ним на уикенд и провели его просто замечательно. Меньше месяца тому назад у наших друзей появился малыш, его назвали Антуаном. Обе девчонки немедленно нашли общий язык и увлеклись игрой. Родриго обожал Дельфину и, к обоюдной радости, снова увиделся с ней. Я рассказал последние новости о Жане-Батисте и его старшем брате Габриэле: первый учился в университете в Ирландии, а второй устроился работать киномонтажером. Филипп рассказал, как сложилась, а потом распалась его ассоциация помощи рыбакам Медакетии. Он постоянно ездит туда — три-четыре раза в год. Из своего бунгало на пляже он смотрит на океан, размышляет о жизни, а иногда вообще ни о чем. Вечер у Дельфины и Жерома прошел по привычному сценарию: вслепую дегустировали вина, слушали редкие записи «Роллинг Стоунз», покуривали травку и, конечно, смеялись. Комната Джульетты перестала быть мавзолеем, ее заняла Камилла, а чуть позже — когда немного подрастет — к ней присоединится Антуан. Но на камине стояла большая фотография Джульетты, и ее имя произносилось без всякого стеснения. В семье было не два ребенка, а три, просто один из них умер. Когда речь зашла о моей книге, Дельфина сказала, что хотела бы прочитать ее, но Филипп неожиданно резким и дрожащим голосом заявил, что для нее это станет настоящим потрясением, ибо она узнает о том, что всегда от нее скрывали. Я не понимал, на что он намекает, и отвел его в сторонку, чтобы выяснить это. Как оказалось, Филипп имел в виду эпизод, когда Жером, вернувшись из морга в Коломбо, сказал Дельфине, что Джульетта выглядела красавицей, а потом признался Элен в обмане: на самом деле он видел разлагающийся труп дочери. «Ты представляешь, — сказал Филипп, — что будет, если Дельфина узнает, что Жером соврал ей?» Я предложил убрать этот эпизод, если он считает его чересчур болезненным, но Филипп ответил, что об этом не может быть и речи; Дельфина, считал он, усмотрит в нем не столько предательство, сколько еще одно доказательство любви своего мужа. В конце концов, мы договорились, что Филипп передаст текст Жерому, а тот — Дельфине, если сочтет возможным. В таком порядке старшинства я усмотрел своеобразный союз двух мужчин, отца и мужа, объединившихся для ее защиты, но когда я сказал об этом Элен, она покачала головой и ответила: «Это она их защищает, все держится на ней. Именно благодаря ей они продолжают жить вместе, родили других детей, справились с прошлым». Я вспомнил слова Дельфины, сказанные за ужином: ключевым моментом, определившим, жить ей или умереть, стало для нее согласие присмотреть за Родриго во время нашего отсутствия. Сначала она подумала: «Нет, я никогда не смогу заняться чужим ребенком спустя два дня после смерти собственной дочери», но сказала «да», и с того момента, несмотря ни на что, продолжала говорить «да».
Жанна проснулась в семь утра, выбралась из своей кроватки — с некоторых пор она уже самостоятельно перелезала через решетку — и прибежала к нам. Я пошел на кухню подогреть дочке бутылочку с молоком. Напившись, она устроилась между мной и Элен и притихла. Но передышка длилась недолго — пора было вставать, петь и плясать. На тот момент Жанна больше всего любила песенку-считалку «Господин Медведь». Я отворачивался, накрывался с головой одеялом и шумно храпел, исполняя роль косолапого. Элен пела: «Господин Медведь, просыпайся и вставай. На счет три открой глаза: раз, два, три. Господин Медведь, будем спать или вставать?» В первый раз я отвечал замогильным голосом: «Я сплю!» Элен повторяла: «Господин Медведь, будем спать или вставать?» На этот раз я с ворчанием поворачивался: «Я встаю!» Элен и Жанна испуганно кричали, показывая, как им страшно. Дочка была на верху блаженства. «Господина Медведя» хватит до конца года, до него были три котенка, потерявших свои варежки. Когда Жанна случайно открывала музыкальную книжку про котят, нас охватывало ностальгическое настроение: эта песенка звучала, когда наша дочь была совсем маленькой, едва ходила и еще не разговаривала. То чудесное время безвозвратно прошло и больше никогда не вернется. Я думал об обыденных вещах, что очаровывали нас, о том, в какую пытку превратятся игрушки, считалки, детские башмачки, когда случится непоправимое: не станет маленькой девочки, и гроб с ее тельцем скроется под слоем земли. Тем не менее, это очарование вернулось к Дельфине и Жерому вместе с двумя другими детьми. Они ничего не забыли, но не остались на дне пропасти отчаяния, что представляется мне удивительным, непостижимым и загадочным. Да, загадочным: пожалуй, это самое подходящее слово.
Чуть позже я иду готовить завтрак, а Элен одевает Жанну. Вообще, выбирая и покупая ей одежду, Элен получает такое же удовольствие, как если бы делала покупки для самой себя, поэтому наша маленькая дочка — настоящая модница. Вскоре они обе приходят ко мне на кухню. Элен красуется в обтягивающих брюках йога и легком пуловере с глубоким волнующим вырезом; она красива, сексуальна и нежна. Я очарован надежностью и глубиной нашей любви. Мысль о том, что я могу потерять ее, просто невыносима, но впервые в жизни я подумал, что отнять ее у меня может только несчастный случай, болезнь, нечто такое, что обрушивается нам на голову извне, но только не стремление к новизне, усталость или неудовлетворенность. Наверное, опрометчиво говорить это, но я так не считаю. Конечно, если нам дарована долгая жизнь, впереди будут кризисы, разочарования, бури, ослабнет и уйдет страсть, но я верю, что мы выдержим, и один из нас закроет глаза другому. Во всяком случае, ни о чем другом я не мечтаю.
Мы с Жанной одеваемся в прихожей, и дочь подкатывает к дверям свою коляску. Не ту, в которой мы возим ее, и куда она уже не очень-то желает садиться, а свою маленькую колясочку с облысевшей, довольно мерзкого вида пластмассовой куклой, пахнущей клубничной жвачкой. С тех пор, как Элен купила Жанне эту коляску, дочка без нее никуда не выходит. Она во всем хочет походить на взрослых: мы ведем на прогулку нашего ребенка, она ведет своего. Мы выходим на лестничную площадку, Элен целует дочь, и та направляется к лифту, но на полпути останавливается и, повернувшись к матери, машет ей ручкой. Уже в лифте Жанна становится на цыпочки, чтобы нажать нужную кнопку, и пока застекленная кабина не ушла вниз, я вижу улыбку на лице Элен. Мы выходим на улицу. Жанна с важным видом толкает перед собой коляску, я иду рядом, следя за тем, чтобы она ненароком не вышла на проезжую часть. Ребенок с такой гордостью копирует нас, что, чувствуя свою ответственность, даже забывает останавливаться перед воротами, столбами, мотороллерами. До улицы Отвилль мы добираемся довольно быстро, словно коляску вез я, а не дочь. Время от времени Жанна оборачивается, словно призывая меня в свидетели, что она все делает правильно. У подъезда в дом нянечки я поднимаю дочку к домофону и ее пальчиками нажимаю нужные кнопки. В продолжение ритуала входит включение света в подъезде, потом звонок в дверь и ожидание шагов мадам Лауни в прихожей. Жанна никогда не плакала, когда я приводил ее к мадам Лауни, женщине сердечной, ласковой и в то же время строгой; чувствовалось, что у нее всегда все в порядке. Правда, в прошлом году она потеряла мужа. Она позвонила нам утром и, рыдая, сообщила, что ночью от сердечного приступа умер ее муж, и она не сможет принять Жанну. До этого мадам Лауни выглядела счастливой женщиной, нашедшей свое место в жизни. Ее отличали организованность, хорошее настроение, энергичность и приветливость. Такой же она осталась и после смерти супруга. Об их семейной жизни мне ничего не известно, я никогда не встречал ее мужа — он уходил на работу до того, как я приводил Жанну, и приходил домой после того, как я ее забирал, но я уверен, что мадам Лауни любила его: они рука об руку шли по жизни, вместе растили дочерей, и жизнь без него стала пустой, несправедливой, грустной. Но больше всего меня впечатляло то, что ее горе, а она его ни от кого не скрывала, никак не отражалось на детях, за которыми она присматривает. По ее словам, они помогают ей выдержать все невзгоды, и я ей верю. Иногда по утрам, когда она открывает дверь, я замечаю ее покрасневшие глаза: должно быть, она плакала всю ночь и не выспалась, но женщина ласково обнимает Жанну, они обе смеются, и я знаю, что так будет до самого вечера.
По улице Отвилль я выхожу на площадь Ференца Листа, в уютном кафе просматриваю газеты и возвращаюсь домой. Родриго собирается в колледж, а когда он уйдет, Элен ляжет в постель еще немного понежиться. Я присоединюсь к ней, и мы займемся любовью — спокойно, по-супружески, немного привычно, но наша взаимная страсть от этого не угасает и, надеюсь, останется неиссякаемой. Потом я сварю кофе, мы будем пить его на кухне, беседуя о детях, новостях, друзьях, домашних делах. Элен пора на работу, за ней захлопывается дверь в прихожей, и я тоже принимаюсь за дело. На протяжении последних шести месяцев я ежедневно проводил за компьютером по несколько часов и писал о самом страшном: родителях, потерявших маленького ребенка; детях и муже, оставшихся без матери и жены — еще молодой женщины. Так уж вышло, что жизнь сделала меня свидетелем обеих трагедий и, как я понимаю, пощадила, чтобы я рассказал о случившемся. Мне доводилось слышать, что счастье осознается задним числом: мол, раньше я этого не понимал, но, оказывается, я был счастлив. Не могу сказать того же про себя. На протяжении многих лет я был несчастным человеком, и осознавал это, но мне нравится моя судьба, хоть в ней нет больших достижений, и моя философия полностью вписывается в слова, якобы произнесенные мадам Летицией, матерью Наполеона, в день коронации сына: «Только бы ничего не изменилось».
Да, и еще: я предпочитаю то, что сближает меня с другими людьми, а не то, что отличает от них. Для меня это тоже внове.
Дописывая последние строки этой книги, я понимаю, что почти не уделил внимания Диане. Про Амели и Клару я немного рассказал, каждой посвящена какая-то сценка, у каждой есть свое место, но младшая из сестер к моменту смерти матери была еще такой маленькой, что лишь мельком упоминалась в повествовании как молчаливый или горластый — смотря по обстоятельствам — младенец, сидящий на руках у отца. Теперь Диане исполнилось четыре годика, и мне кажется, ей тяжелее без матери, чем сестрам: она самая младшая, рядом с мамой прожила всего год и три месяца, наконец, она ее даже не помнит. Натали, супруга Этьена, рассказала мне об их последнем семейном визите в Розье: Диана все время требовала, чтобы мать брала ее на руки, но та каждый раз передавала дочь Патрису. Жюльетт оставался всего месяц жизни, и она считала, что Диане не следует привыкать к ней, потому что потом ребенок будет сильно скучать по матери. По словам Партиса Диана, едва научившись говорить, спросила: «А где моя мама?» Ее любимым фильмом стал «Бэмби». Она сотню раз пересматривала сцену, где Бэмби понимает, что его мать уже не встанет на ноги. Этот эпизод стал истинным отражением ее собственной жизни. Патрис сказал, что из трех дочерей именно Диана больше других говорит о матери и только она очень часто просит его показать слайд-шоу, посвященное памяти Жюльетт. Они вдвоем спускаются в мастерскую Патриса, усаживаются перед компьютером и запускают программу. Звучит музыка, на экране кадры сменяют друг друга. Патрис смотрит на жену, Диана не сводит глаз с лица матери. По их щекам текут слезы, они еще больше сближают совсем маленькую девочку и ее отца, и он никогда не сможет сказать ей то, что отцы всегда говорят своим детям: «Ничего, это не беда». Я далек от них и пока счастлив, но как никто другой знаю, насколько хрупким является счастье. Я хочу хоть немного облегчить чужое горе и потому посвящаю эту книгу Диане и ее сестрам.
Конец
Примечания
1
Лени Рифеншталь, настоящее имя Хелена Берта Амалия Рифеншталь (1902–2003) — немецкий кинорежиссер и фотограф, а также актриса и танцовщица. Рифеншталь является одним из самых известных кинематографистов периода национал-социалистического господства в Германии. Документальные фильмы «Триумф воли» и «Олимпия» сделали ее активным пропагандистом Третьего рейха. — Прим. пер.
(обратно)2
Николя Бувье (6.03.1929-17.02.1998) — знаменитый швейцарский путешественник, писатель, иконограф и фотограф. — Прим. пер.
(обратно)3
Мон-Сен-Мишель (фр. Mont Saint-Michel) — небольшой скалистый остров, превращенный в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. Два раза в лунные сутки (через 24 часа 50 минут) в бухте наблюдаются приливы и отливы, самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде (после залива Фанди) на всем земном шаре. В период сизигических приливов (в дни осенне-весеннего равноденствия, на второй или третий день после ново- или полнолуния) вода держится 8 часов зимой и 9 часов летом. Вода может отходить от Сен-Мишеля на 18 км, и распространяться до 20 км вглубь побережья. — Прим. пер.
(обратно)4
Да, много людей погибло, очень опасно. Вы остановились в отеле? Каком? «Эва Ланка»? Хорошо, хорошо, «Эва Ланка», возвращайтесь туда, там безопасно. Здесь очень опасно.
(обратно)5
Плот «Медузы» (1819) — картина французского художника Теодора Жерико, одно из самых знаменитых полотен эпохи романтизма, на которой изображены спасшиеся на плоту после крушения фрегата «Медуза». — Прим. пер.
(обратно)6
Cadavre exquis (фр.) — буриме — дословно переводится, как «изысканный, очаровательный труп». Буриме — литературная игра, заключающаяся в сочинении стихов, чаще шуточных, на заданные рифмы, иногда еще и на заданную тему. Иногда к буриме относят и другую игру, называемую также «игрой в чепуху»: записывают несколько строк или даже строф и передают листок партнеру для продолжения, оставив видимыми только последние из них. Можно также начать рисунок какого-либо существа, скажем, с головы, подвернув листок бумаги так, чтобы партнер видел только шею и дорисовал туловище и т. д. — Прим. пер.
(обратно)7
«Альянс франсез» (l'Alliance française) — организация по преподаванию французского языка иностранцам. — Прим. пер.
(обратно)8
Жан-Клод Роман (род. 11.02.1954) — известный французский массовый убийца. Жизнь и преступление Жан-Клода Романа стали объектом исследования в романе Эмманюэля Каррера «Изверг». В 2002 году этот роман лег в основу одноименного фильма Николь Гарсиа, главную роль в котором сыграл Даниэль Отёй. — Прим. пер.
(обратно)9
Во Франции календарь школьных каникул различается в зависимости от зон. Начиная с 1964/1965 учебного года, Франция делится на три зоны: А, В и С, которые формируются таким образом, чтобы количество учащихся в каждой из зон было примерно равным. Такое разделение на зоны позволяет продлить период зимних и весенних каникул до четырех недель, что благоприятствует туристической деятельности, связанной с зимними видами спорта. — Прим. пер.
(обратно)10
«Трудности перевода» — американский художественный фильм-мелодрама режиссера Софии Копполы. Премьера состоялась 29 августа 2003 г. на Международном кинофестивале в Теллуриде, штат Колорадо, США. Награды: премия «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, премия «Золотой глобус» за лучший фильм — комедия или мюзикл и др. — Прим. пер.
(обратно)11
«Даллоз» — французское издательство, основанное Дезире Даллозом в 1845 г, и специализирующееся на публикации правовой литературы и периодики. С 2005 г. фирма входит в состав издательской группы «Лефевр Саррю». — Прим. пер.
(обратно)12
Оригинальное название «L’Adversaire». В 2003 г. повесть опубликована на русском языке под названием «Изверг». — Прим. пер.
(обратно)13
Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз) — онкологическое заболевание лимфатической системы, впервые было описано английским врачом Т. Ходжкиным в 1832 г. — Прим. пер.
(обратно)14
Симона Вейль (1909–1943) — французский философ и религиозный мыслитель. Сестра математика А. Вейля. — Прим. пер.
(обратно)15
Морис Клавель (1920–1979) — французский писатель, журналист и философ. — Прим. пер.
(обратно)16
Мишель Рокар (род. 23.08.1930) — французский политик-социалист, премьер-министр в 1988–1991 гг. Сын известного французского физика Ива Рокара. В 1967–1973 гг. руководил Объединенной социалистической партией, затем в СПФ. — Прим. пер.
(обратно)17
Элдер Пессоа Камара (1909–1999) — бразильский католический епископ, архиепископ Олинды и Ресифи, один из организаторов Национальной конференции епископов Бразилии. Во время диктатуры стал в оппозицию к военному режиму и выступал за соблюдения прав человека, а также проводил прогрессивные реформы в церкви. — Прим. пер.
(обратно)18
Братья Леней: Антуан (ок. 1588–1648), Луи (ок. 1593–1648) и Матье (1607–1677) — французские художники. Братья родились в Лане и работали в Париже, их кисти принадлежат картины из жизни крестьян и мелких буржуа. Работали в близкой манере, подписывались одной фамилией, поэтому их работы с трудом поддаются различению. Более известен Луи, ему приписывают преобладающую часть картин из крестьянской жизни. Автором большинства миниатюр специалисты считают Антуана, портретов — Матье. — Прим. пер.
(обратно)19
Мишель Буке (род. 6 ноября 1925 г. в Париже) — один из ведущих современных актеров театра и кино Франции, дважды удостоен театральной премии Мольера и дважды — кинопремии «Сезар». В 1960–1970 гг. Буке сыграл серию значимых ролей в фильмах режиссеров французской новой волны Франсуа Трюффо и Клода Шаброля. В 2007 г. Буке был удостоен звания командора Ордена Почетного легиона. — Прим. пер.
(обратно)20
Ив Буассе (род. 14 марта 1939 г. в Париже) — французский режиссер и сценарист. — Прим. пер.
(обратно)21
«Шарли-Эбдо» (фр. Charlie Hebdo) — французский сатирический еженедельник, выходит по средам. Публикует карикатуры, репортажи, дискуссии и анекдоты, которые часто имеют непочтительный и нонконформистский тон. Еженедельник появился в 1969 г. и выходил по 1981 г., затем перестал выпускаться, но был возрожден в 1992 г. Журнал известен скандальными публикациями карикатур на ислам и лично пророка Мухаммеда, вызвавшими бурю возмущения среди мусульман. — Прим. пер.
(обратно)22
Эрик Альфан, Рено ван Рюинбек, Ева Жоли — представители судебной власти Франции, известные расследованиями громких коррупционных дел, в которых оказались замешаны высшие должностные лица Франции и крупные промышленные компании. — Прим. пер.
(обратно)23
Альтернативщик (фр. coopérant) — доброволец, работающий за пределами Франции в порядке прохождения военной службы. — Прим. пер.
(обратно)24
Франсуа Рустан (род. 1923 г.) — французский философ и гипнотерапевт. Бывший иезуит, он более двадцати лет занимался психоанализом, затем посвятил себя изучению гипноза. — Прим. пер.
(обратно)25
Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна — французский государственный университет, специализирующийся в экономике, менеджменте, искусстве, социальных науках и юриспруденции. Административный центр расположен в Латинском квартале, имеет примерно 20 филиалов по всему Парижу. Один из 13 университетов, образованных на месте Сорбонны. — Прим. пер.
(обратно)26
Бессознательное или неосознаваемое — совокупность психических процессов, в отношении которых отсутствует субъективный контроль. Бессознательным считается все, что не становится для индивида объектом осознания. Термин «бессознательное» широко употребляется в философии, психологии и психоанализе, а также в психиатрии, психофизиологии, юридических науках, искусствоведении. В психологии бессознательное обычно противопоставляется сознательному, однако в рамках психоанализа бессознательное (Оно) и сознательное рассматриваются как понятия разного уровня: многое из того, что относится к двум другим структурам психики (Я и Сверх-Я), также отсутствует в сознании. — Прим. пер.
(обратно)27
Оно, иногда Ид (лат. id, англ, it, нем. das Es — оно) в психоанализе является одной из структур, описанных Фрейдом. Являет собой бессознательную часть психики, совокупность инстинктивных влечений. Латинское слово Ид было введено как аналог английского Ит, использованного переводчиками Фрейда, чтобы перевести его немецкое «das Es». Равным образом, и русский психоаналитический термин «Оно» является только переводом или своеобразной языковой адаптацией с латыни и немецкого. — Прим. пер.
(обратно)28
Луиза Ламбриш (род. 2 мая 1952 г.) — французская романистка, эссеист и психоаналитик. — Прим. пер.
(обратно)29
Дональд Вудс Винникотт (1896–1971) — британский педиатр и детский психоаналитик. Один из важнейших представителей теории объектных отношений. Автор арт-терапевтической техники «игра в каракули» («Каракули Д. Винникотта»). — Прим. пер.
(обратно)30
Луи-Фердинанд Селин, настоящая фамилия Детуш (1894–1961) — французский писатель, врач по образованию. — Прим. пер.
(обратно)31
Ныне Брюэ-ла-Бюисьер — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн, кантоны Брюэ-ла-Бюисьер и Уден. Коммуна была образована в 1987 г. путем слияния двух коммун — Брюэ-ан-Артуа и Ла-Бюисьер. — Прим. пер.
(обратно)32
Ондинизм — сексуальное наслаждение от мочеиспускания с садистским или мазохистским уклоном. — Прим. пер.
(обратно)33
«Три цвета: Красный» (фр. Trois Couleurs: Rouge) — кинофильм Кшиштофа Кеслевского, третья часть трилогии «Три цвета». Картина является последним фильмом Кеслевского, умершего в 1996 году. — Прим. пер.
(обратно)34
Жак Тестар (род. 1939 г.) — профессор, почетный директор по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований, посвятивший свою научную деятельность репродуктивной медицине и биологии. Профессор Тестар создал научную базу для экстракорпорального оплодотворения, благодаря которой в 1982 г. Во Франции появился на свет первый ребенок из пробирки. Автор двух романов: «Прозрачность яйцеклетки» (1999), «Что будет с наукой?» (2006). — Прим. пер.
(обратно)35
Книга Перемен, И цзин — наиболее ранний из известных истории китайских философских текстов. Принят конфуцианской традицией во II веке до н. э. как один из канонов конфуцианского Пятикнижия. «Книга Перемен» (англ. Book of Changes) — название, закрепившееся на Западе. Более правильный, хоть и не столь благозвучный вариант — «Канон Перемен». — Прим. пер.
(обратно)36
Клод Шаброль (1930–2010) — французский кинорежиссер, один из ведущих представителей французской новой волны, получившей широкое признание в конце 1950-х гг. — Прим. пер.
(обратно)37
Государственное пособие для малоимущих при полном отсутствии у них других доходов (фр. RMI — revenu minimum d’insertion) в период с 1.12.1988 г. по 31.05.2009 г. С 1 июня 2009 г. вместо RMI выплачивается увеличенное социальное пособие — так называемый доход от активной солидарности (фр. RSA — revenu de solidarité active). — Прим. пер.
(обратно)38
Закон Нейерц от 31 декабря 1989 г. — закон, введенный по инициативе министра торговли, ремесел, потребления и социального хозяйства Вероник Нейерц, направленный на предотвращение возникновения сверхзадолженности и оказание помощи ее жертвами. Закон был отменен 14 декабря 2000 г. за исключением большинства статей, определяющих комплекс предупредительных мероприятий, к которым относятся комиссии по сверхзадолженностям. Его заменила процедура индивидуального восстановления, применявшаяся при рассмотрении документов в тех случаях, когда «ситуация представлялась совершенно безнадежной». — Прим. пер.
(обратно)39
Французский закон № 2003-710 от 1 августа 2003 г. «О направлении и планировании городского развития и реконструкции городов», опубликованный в «Журналь Оффисьель» 2 августа 2003 г., известный как «закон Борлоо». Своим названием закон обязан Жану-Луи Борлоо, французскому политическому деятелю, депутату Национального собрания Франции, председателю Радикальной партии. — Прим. пер.
(обратно)40
Жан Адриен Франсуа Леканюэ (1920–1993) — французский христианско-демократический либерально-центристский политик и государственный деятель. Участник антинацистского Сопротивления, Праведник мира. Видный идеолог и организатор правоцентристских сил. Член французского правительства в 1945–1951 и 1974–1977 гг., министр юстиции и министр планирования при президенте Жискар д’Эстене. Депутат Национального собрания (1951–1955), сенатор (1959–1993), депутат Европейского парламента (1979–1988). Мэр Руана в 1968–1993 тт. — Прим. пер.
(обратно)41
Грэм Оллрайт (род. 7.11.1926 в Веллингтоне) — новозеландский певец, аранжировщик и композитор. — Прим. пер.
(обратно)42
Attac или АТТАС (фр. Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne) — Ассоциация за налогообложение финансовых операций и гражданскую активность — антиглобалисткая организация, созданная во Франции в 1998 г., имеет представительства в 38 странах мира. — Прим. пер.
(обратно)43
Джеймс Тобин (1918–2002) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике. Среди широкой публики Тобин стал знаменитым благодаря своему предложению, высказанному в начале 1970-х гг., что введение налога на операции с иностранными валютами в размере хотя бы 0,1–0,25 % могло бы резко ограничить трансграничные валютные спекуляции, сделав большую часть из них невыгодными и уменьшить их вред, особенно для развивающихся стран. По мнению Тобина, этот налог приносил бы ежегодно не менее 150 млрд, долларов, которые он предлагал разделять между МВФ и национальными банками. — Прим. пер.
(обратно)44
Кашан — коммуна в 6,7 км к югу от Парижа, в округе л’Аи-ле-Роз, кантон Кашан. Здесь расположена престижная Высшая нормальная школа Ка-шана. — Прим. пер.
(обратно)45
Ассас, или университет Пантеон-Ассас (также часто упоминается как «Paris II») — государственный французский университет, основной правопреемник факультета права Парижского университета. Ассас является лучшим юридическим университетом Франции. 80 % от общего количества студентов учится на факультетах права, 11 % от общего числа учится на факультетах менеджмента и экономики. — Прим. пер.
(обратно)46
Ланды — департамент на юго-западе Франции, один из департаментов региона Аквитания. Имея длину 106 км, побережье Ландов является самым длинным в Европе пляжем с мелкозернистым песком. — Прим. пер.
(обратно)47
Лао-цзы — древнекитайский философ VI–V веков до и. э., которому приписывается авторство классического даосского философского трактата «Дао Дэ Цзин». В рамках современной исторической науки историчность Лао-цзы подвергается сомнению, тем не менее в научной литературе он часто все равно определяется как основоположник даосизма. В религиозно-философском учении большинства даосских школ Лао-цзы традиционно почитается как божество — один из Трех Чистых. — Прим. пер.
(обратно)48
Суд Европейских сообществ — институт судебной власти, который был основан в 1952 г. и назывался Суд Европейского объединения угля и стали, с 1958 г. — Суд Европейских сообществ, а с вступлением в силу Лиссабонского договора в 2009 г. — Суд Европейского союза. — Прим. пер.
(обратно)49
Ален Минк (род. 15 апреля 1949 г.) — французский экономист, политик, финансовый консультант и писатель. — Прим. пер.
(обратно)50
Сцинтиграфия — метод функциональной визуализации, заключающийся во введении в организм радиоактивных изотопов и получении изображения путем определения испускаемого ими излучения. — Прим. пер.
(обратно)51
Лоран Шварц — (род. 6 октября 1958 г.) — французский онколог и исследователь, дальний родственник знаменитого математика Лорана Шварца. — Прим. пер.
(обратно)52
Сьюзен Зонтаг (1933–2004) — американская писательница, литературный, художественный, театральный кинокритик, режиссер театра и кино, лауреат национальных и международных премий. — Прим. пер.
(обратно)53
Заповеди блаженства — согласно христианскому вероучению, это часть заповедей Иисуса Христа, произнесенная им во время Нагорной проповеди и дополняющая Десять заповедей Моисея. Заповеди блаженства вошли в Евангелие (Мф. 5:3-12 и Лк. 6:20–23). Свое название Заповеди блаженства получили из предположения о том, что следование им при земной жизни ведет к вечному блаженству в последующей вечной жизни. — Прим. пер.
(обратно)54
Порт-система — медицинское устройство, предназначенное для введения препаратов, дренирования, забора крови и т. д. Состоит из катетера, помещенного в сосуд или полость, и соединенного с ним резервуара. Вся система располагается подкожно и обеспечивает постоянный венозный, артериальный, перитонеальный, спинальный или плевральный доступ. Для инъекций используется исключительно игла Губера с особой формой острия, которая не повреждает порт. — Прим. пер.
(обратно)55
Рантанплан — кличка пса, впервые появившегося в комиксе «Счастливчик Люк» в выпуске «По следу Далтонов». Пес невероятно глуп, но зачастую невольно помогает другим персонажам комикса. — Прим. пер.
(обратно)




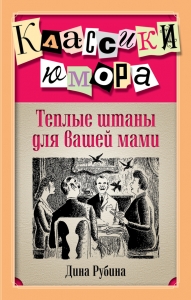
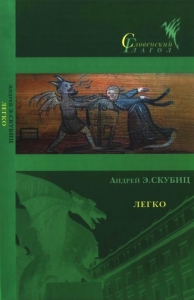




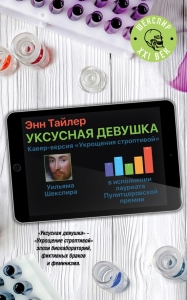

Комментарии к книге «Жизни, не похожие на мою», Эммануэль Каррер
Всего 0 комментариев