Николай Григорьевич Никонов Собрание сочинений в 9 т. Т. 8. Чаша Афродиты
Реалистический роман. Книга третья из серии «Ледниковый период»
Впервые роман опубликован отдельной книжкой в журнале «Урал», 1995 г., № 7.
Напечатан в кн.: Весталка. Чаша Афродиты: Романы. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000 (Б-ка прозы Каменного пояса). Текст печатается по этому изданию.
КНИГА ПЕРВАЯ. УЧЕНИК ЭНГРА
ПРОЛОГ
Хор юношей на подиуме по левую сторону входа в главный храм Афродиты-Киприды пел столь торжественно, что мог соперничать с немым мимическим хором послушниц на правом подиуме. Обнаженные, облаченные, однако, в прозрачные хитоны александрийской ткани, без поясов, с раскрытой грудью и гладко выбритыми генитальными «МЮ» под роскошными круглыми куполами животов, закинув головы с обручами на благородно и пошло открытых лбах, с раскрытыми, как в истошном желании, ртами, девушки раскачивались в такт ритму, всем телом и движениями животов и бедер выражая томление, переполненность ожиданием.
О, Киприда златокудрая! Киприда, рожденная из белой пены И женской пышности! О, Киприда, укрощающая и насыщающая, Властительница жизни, любви и рождения! Сладострастная! Явись нам! Явись нам! Явись нам! Явись нам!Главная жрица храма Афродиты-Киприды, громадная черноволосая гетера, столь совершенных и согласных форм, что тело ее и через хитон глядело притягивающим все взгляды овалом торса, кругами грудей с коричневыми сосками, длиною в перст, стояла в молении, воздев руки к морю, полузакинув голову с золотым обручем-нимбом, приспустив ресницы, всматривалась в неспокойную морскую даль. Там должна была явиться златовласая нежная, белая, как морская пена, чарующая, как Луна, Афродита-Киприда, славная на всю великую и малую Элладу. Каждый год в этот день и час являлась она тысячам ждущих, выходила из пены прибоя у невысокой красной скалы в бухте, перед которой стоял ее храм.
Жрица-гетера была ночной копией Афродиты, и потому на ее смуглое, сквозящее сквозь хитон тело с вожделением взирали глаза мужчин и женщин. Взгляды скользили по могучему телу от волос ее дикой черной гривы, оплетенной золотыми нитями и касающейся ступней с жемчужными ногтями, взгляды впивались в двойное золотое «МЮ» под животом — символ материнства, соединения и рождения.
И вот она опустила руки. По всему телу гетеры прошла крупная дрожь и замерла в расставленных, как дорические колонны, основаниях ног, стянутых золотыми ремнями узорных котурн. Черные ресницы сомкнулись. Жрица казалась спящей, потому что покачивалась.
Музыка стихла.
Только одна большая раковина Тритонис — рог морского бога Тритона продолжала пронзительно-призывно гудеть.
— Глядите! Глядите!! — пронесся крик.
Руки главной гетеры медленно поднялись до высоты плеч и разошлись в стороны с раскрытыми, как для привета и объятия, ладонями. Веки открылись, как крылья бабочки. Исступленный взгляд сапфировых глаз ударил подобно снопу Электры.
И все устремились взглядами в мглисто-седую и синюю даль моря. Там, далеко, показались черно-зеленые тела дельфинов, морских коней, мчавших волшебную ладью, что возникла вдруг в ореоле клубящихся брызг.
— Дельфины! Дельфины! — пронесся вопль по толпе. А веселые морские кони стремительно приближались, неся вал вздымающейся пены.
— Я вижу ЕЕ! — воскликнула жрица, — Я вижу тебя, о богиня!
Как прекрасна ты, розовотелая! Как прекрасна ты, мраморногрудая! Как прекрасна любящая, соединяющая, Дающая нам любовь,— снова грянул хор.
И все уже видели, как, стоя меж дельфинами на своей золотой ладье среди пены волн, сияла розово-белым телом богиня, так женственно и лукаво прикрывающая свою без меры плотскую суть. Казалось, она несла своим телом одну слепящую всех улыбку. Вот она воздела свои прекрасные руки, протрубил рог Тритона. И тотчас ее кони послушно нырнули, скрылись, унося золотую ладью, а богиня стояла в пене прибоя, нарастающего, кипящего, и, казалось, соединялась с ним, была рождена им, была его отражением. Волны отхлынули, повинуясь ей, и она медленно вышла на берег, невероятная в своей женской красоте, не соревнующаяся ни с кем, бело-розового мрамора, запрокинув голову с каскадами бронзово-золотых сияющих волос, льющихся по ее плечам и спине. Она шла, держа в руке только скипетр-лингам, ее вечный символ — и над нею, слетев с портиков храма, кружились, восторженно хлопая, белые голуби.
Жрица-гетера, сойдя со ступеней, опустилась перед богиней на колени, сняв свой золотой обруч-нимб, склонилась, припав к ее ногам. Богиня надела нимб, и тотчас ударил вихрь, загремел гром, крупные капли веским холодом ударили в толпу, гася ее крик.
Киприда пошла к своему храму. И зачарованно следили за ней тысячи жадных глаз. Розовый раскрытый хитон вился по ее спине и бедрам, когда она, величаво ступая, поднималась на центральный подиум. И вот она взошла. И тотчас снова прогремел гром, а воздух наполнился запахом цветущих жасминов. Афродита повернулась к толпе у подножия храма, подняла руку с золотым венцом, и тотчас медленно, как с живой статуи, стал сползать и упал на подиум ее хитон. Черная жрица, как тень следовавшая за богиней, опустилась на колени. А Киприда стояла теперь, воздев руки со своим венцом и скипетром, и все видели ее сияющее божественным светом, белое и розовеющее, как ионийская раковина, исполненное мучительного совершенства тело.
О, великая, ты среди нас! Мы ждали тебя! Мы хотели видеть тебя! Только тобою живем и тебе поклоняемся! И к тебе стремимся! О, богиня любви!Розовыми волнами лежал у ее ног пышный хитон. Цвели груди, будто указующие удлиненными сосками на высшую сущность жизни. Как купол неба, был безмятежен ее живот. Столпами Геи стояли мощные, прекрасные ноги. Как таинство всех тайн, манила взгляды никем из смертных не раздвинутая щель желания и наслаждения, и как обещание вечного счастья было ее лицо, исполненное всепрощающей женской ласки, внимания, мудрости и терпения — всего, что ждали, на что надеялись и чего желали собравшиеся на этом священном берегу у ее главного храма. Она вселяла надежду, она пробуждала любовь, она царила, не пытаясь даже вмешиваться в эту понятную и непонятную ей жизнь.
И на площади уже началось хаотическое необратимое кипение толпы, хор смешался с ней, и послушницы храма — гетеры уже начали свою праздничную службу. И, повинуясь им, бежали друг к другу с криками счастья и лицами, переполненными желанием, все, кто был тут. Женщины падали на колени, опрокидывались на спины, стягивали пояса и распахивали хитоны. Кое-где из-за них вспыхивала драка, но тут же утихала, потому что женщин было много, много больше, чем мужчин. И женщины доставались всем, отдавались каждому пожелавшему. Крики радости, стоны счастливых наполняли воздух, оглашали берег, где ритмично накатывались и, рассыпавшись, отступали бесконечные, неостановимые валы.
Афродита скрылась, окруженная жрицами. За порогом храма, внутри его покоев, недоступных никому, она превратилась в просто большую, диковинно прекрасную величавую женщину. И никто не знал, как устала она от своего служения, эта живая Афродита, воплощение той, с Олимпа, которой истинно подвластна была вся земная жизнь. Маленькой девочкой нашли ее в одном из полисов-городов древней как мир Эллады, тайно увезли сюда, на Кипр, двадцать лет приобщалась она к тайнам и таинствам Афродиты-Киприды, и еще двадцать лет ее тело было неподвластно Хроносу — времени, а душа постигала высшие знания, недоступные людям. Так она перешла грань, отделяющую людей от богов. Боги дали ей как будто невянущую плоть, неземную красоту. Она могла вызывать дождь и вихри, ей сделались послушными любые животные, и даже морская стихия на время усмирялась, когда она входила в ее волны. По любому желанию она могла зажечь на своем скипетре и венце неземной волшебный огонь, по ее желанию мог загреметь гром из клубящихся туч.
Но воля той же великой богини лишила ее главного в жизни женщины — достижения и постижения любви. Под страхом смерти она не могла отдаваться земнорожденным.
Ни один мужчина не мог и не смел коснуться ее. И только по ночам в священные часы билось в неистовых конвульсиях ее тело на ложе, покрытом шкурами леопардов. Так она отдавалась пожелавшим ее богам.
И никто не знал, как страдала ее душа, приближаясь к роковому юбилею служения. Ныне явилась она в последний раз. И этой же ночью она должна будет выпить сладкую отравную чашу, которую поднесет ей в условленный час черная жрица — ее тень. И тогда Афродита живая в последний раз выйдет к морю и рогом Тритона позовет своих морских коней. Она знала, что кони послушны ей, и они принесут ее золотую ладью, чтоб она могла сесть в нее и никогда уже не вернуться сюда, потому что ее скипетр-лингам и золотой обруч-венец уже будут переданы другому воплощению Афродиты-великой. А морские кони по зову Тритониса принесут в храмовую гавань пустую ладью. Все это мысленно представила она, сидя на своем храмовом троне, окруженная маленькими девственными послушницами, готовыми выполнить ее малейшее желание. Кушанья, ничем не отличимые от нектара и амброзии — пищи богов, стояли на серебряном столе. Манило к отдыху и покою ритуальное ложе из шкур леопардов и полосатых африканских лошадей. Знаком Киприда отослала послушниц и легла на ложе. Ей надо сегодня отдохнуть, перед тем как слиться с волей богов. Никто не смел нарушать ее покой, только главная жрица могла войти черной, не знающей запретов тенью.
И когда Киприда разомкнула отдохнувшие веки, чаша черненого мидийского золота стояла на ее столе. А рог Тритониса звал ее послушных коней…
На площади и у подножия храма в свете факелов и горящих плошек кипела оргия. Лилось в кубки вино. Плясали обнаженные зубастые гетеры. Кифары, лютни и лиры оглашали площадь нестройными звуками, били барабаны, и звенели бубны. И все предавались любви, кто хотел, с кем хотел и как мог. Стоны женщин сменялись счастливыми криками. Сквозь них прорывались порой безумный звериный рев и восторженные рыдания. Лилась в лоно и брызгала в песок животворная мужская сила, и сок страстных женщин мускусом ударял в ноздри. Освобожденные и насытившиеся лежали, обняв друг друга. И никто не презирал никого. В этой страсти, отдаче и празднике были все равны — почти еще мальчики и плешивые селадоны, юные девушки с гордыми лицами аристократок, потрясенные только что свершившимся девы, и без меры развратные низшие рабыни-послушницы, и гетеры с ненасытными улыбками ожидающего непреходящего желания. Любили все. И возле всех как бы витала увиденная ими Киприда, опьяненные сотворенным созерцали в ожидании нового прилива сил, лучшего и большего. Чудились им в восторгах обладания, в пламенных вожделенных содроганиях райские сады, бесконечное счастье, исполнение всех желаний, вечная любовь и счастье, счастье БЕЗ КОНЦА… Каждый отталкивал подальше жуткую суть — все останется, как было, и придут за этим кратким праздником когтящие душу желания, пустые мечты, несбывшиеся надежды и тягостные болезни.
И отрешенно, совсем не пристально, смотрел на них НЕКТО, тот, кто считал, что знает на этой EГO планете все.
Глава I. СВОБОДА
Прекрасна ррус-ская ззем-ля От Костромы до Коктебеля, Колхозы, бля, совхозы, бля, При-ро-даа! Сегодня ходим в бороде, А завтра где? В энкаведе! Ссвабода, бля, Свобода, бля, Ссва-бо-да-а!Из блатной песни
Когда вышел за перекрещенные колючкой ворота предзонника, мимо скуластых пристальных лиц наружной охраны, мимо вертухаев в проходной, где, в последний раз сверяясь, выпускали на волю, вдруг замутилось в голове, а за громко хлопнувшей дверью белый свет оказался задернутым мутным пологом, желто-белые светляки кружили в нем медленной плоской метелью. В ушах пищало осиным досадным писком, или вот муха есть такая, когда она бьется, лезет по стеклу, падает и снова ползет и вдруг, найдя форточку, ощупываясь, не веря глазам своим, замирает и — улетает. Свет медленно раздвигался, возвращался. Стало видно. «Оса где?» — за меня сказал чужой голос. Потом голос исчез, и разум вернулся ко мне, и я понял себя, увидел идущим по расплесканной мокрой дороге. И оглянулся. Оглядываться, когда идешь из зоны, не надо,
Примета такая. Отмотал срок, линяй отсюда да молись не попасть. А губы мои (и не мои будто) сами шептали: Свобода..[1] Свобода… Свободный я… Совсем… Свободный..
А все еще было сумрачно и звенело, а поверх тех слов думалось: «Не упасть бы только… На дороге я… Не упасть… Домой ведь надо..»
Свернул на измешанную, заплесканную грязь-грязью обочину. Ноги тут вязли, скользили. И опять было хотел дорогой, но в зону и на объекты, и обратно все время бойко гнали машины, из первой же кабины обматерили: «У-у, ябать, по дороге прешь, падла».
Свобода… Свобода… А в глазах уж не мухи — трехцветный бело-желто-голубой зигзаг, вьющийся, дрожащий, плавающий. Как от лампочки. Закроешь глаза, откроешь — остается. И — знал, так будет, пока глаза не застелет туманом, и в этом тумане идешь, ступаешь. Все нечетко. Но мысль не теряется. Мысль и память говорят: вот-вот должна заболеть голова, и тогда туман начнет сходить, испаряться, и опять обретешь уверенность в себе и будто окончательно проснешься. Пронесло. Ожил… В зоне, в лагерях — их за десять лет срока три, а последний этот каторжный, политический — голова так не мутилась, и зигзаг этот странный не плавал, так было-бывало в моем детстве и в юности, когда еще школьником я сбегал с уроков и никто не мог сравниться со мной по этим побегам: уходил без пальто, спрыгивал со второго этажа на кучу шлака из котельной, открывал гвоздем дрянной замчишко в раздевалке. И тогда с зигзагом этим было ощущение свободы — а она пахнет (так пахла!) озоном, прошедшей грозой, потерянной птичьей трелью и, может быть, девичьей чьей-то косой.
Теперь я ускорил шаги. Шел и шел от лагеря прочь, от зоны, ее вышек, бараков, каменных караульных зданий, и постепенно гадящая небо жидким чадом труба котельной начала уходить в землю, и туда же вросли крыши бараков, заборы, колючка, вышки. Вышки — последними. И когда опять оглянулся, лагеря не было, только труба еще пачкала чистое северное небо. Котельная совмещена с лагерной кухней и была, пожалуй, самым нужным в зоне строением — грела и кормила. К ней единственной не было привычно тоскливой лагерной злобы. Ненависти ко всему. Этой ненавистью и вытравляется вконец душа зэка.
Остановился, чтобы совсем прийти в себя, оглядеться. А была весна. И летом даже припахивало. Сладко и вольно, до боли в груди. Забыто. В зоне так никогда не пахло. Вдоль раскатанной от недавних дождей дороги с рас плесками луж бегали-суетились скворцы. Поля справа и слева взбухли от принятой влаги. Небесный свет как-то странно отражался в них. И будто бы только что включившимся слухом услышал, как поют, звенят, переливаются в предвечной, идущей облаками глубине-вышине невидные жаворонки. Подумалось: «Они ведь и над зоной пели». Бывало, и слышалось. Да там их всегда глушило, давило своим галденьем, а то и бодро-гнусными песнями лагерное радио из КВЧ. Да если б и не было радио, жаворонки над зоной все равно не воспринимались бы заключенным ухом. Потому что в зоне нет свободных, там все заключенные: зэки, охранники «попки» по вышкам, надзиратели, столбы, охранная псарня, и столовая с поварами-зэками, и больничка с докторами, и даже немногие с воли, мастера, нарядчики, прорабы, не говоря уж про опера и начальника, — все там были зэка. Жили без свободы. Смешно, а без свободы были там и члены Политбюро на стене в клубном бараке КВЧ, и сам Сталин, недавно только снятый, отбывал там немереный срок.
Я пошел быстрее, сходя на обочину только от идущих к станции лесовозов. Лесовозы всегда напоминали о самом первом, самом страшном лагере Усть-Ижме, где был еще подростком и доходил на общих, на лесоповале.
Сосна, подпиленная уступом, всегда качалась, как в головокружении, потом клонилась с убыстряющейся дикостью, падала с буревым гулом, вздергивая комель, а я всегда глядел в освобожденное от завесы дерева небо и со слезами часто думал: «Там, вверху, свобода! Та-а-а-ам! И почему. Господи, нет у меня крыльев, нет какой-то поднимающей возможности — взял бы и улетел, как те вон тивкающие, кучкой промчавшиеся птички. Вон скрылись, а мне опять за пилу, опять до задышливой боли в грудине дергать заседающее в живом комле дерева полотно». Моторных на Ижме тогда не было… Лес валили вручную. Вытаскивали на лямках тоже на себе…
Справился с воспоминаниями и вдруг побежал, заторопился к уже виднеющейся станции, к ее строениям на краю дрянного, известного только по лагерям северного городишки, к станции, каких, будто без счета, похожих, раскидано по этой просторной и вечно нищей земле под распахом уж вовсе необъятных небес, осененных, не осененных ли Божьим промыслом, а скорее всего, не осененных, забытых.
Когда добрался до станции прежде всего в глаза ударило:
«Ба-бы! Женщины! Девки! Девчонки! Живые! Настоящие!» И на старух словно бы даже гляделось. Жен-щи-ны! Ба-бы?! — их было удивительно, невыносимо много. Будто ими одними была заселена земля и покрыт этот перрон с беленой полосой по краю платформы и лосные, грязные лавки вдоль здания станции. Хлопающие двери впускали и выталкивали тоже девок, женщин, старух, а больше всего девок с нежными лицами, светловолосых и черненьких, крашеных и простеньких, обыкновенных. Как я по ним стосковался, по одному только их виду! Мужики тут тоже были, но не воспринимались, взгляд мой на них не останавливался, глаза бы на них не глядели! Мужики опаршивели за эти нескончаемые годы, потому что всюду и везде ТАМ были они, их лица, рожи, одежда, табак, вонь, въевшаяся во все и навечно, как вечный мат, лагерный говор, давно привычный уху, и зэковская эта, хуже звериной, злоба.
А баб не видели, годами. О них старались не травить душу. Слово это «баба» как-то отстранялось. Того, кто много о них трепал, быстро остужали. Там никто не называл их женщинами. А если и говорилось, всегда как бы пре-зираючи и в воспоминаниях-рассказах было одно: как там какую-то «Маньку» зажал, засадил ей, «втер». Иных воспоминаний будто не полагалось.
ЖЕНЩИНЫ… Глаз отдыхал, распускался на них, ловил их мягкие, не такие совсем, как у мужиков, движения, вбирал их ноги, платки, волосы, юбки, невыносимо обтягивающие их сладко круглые, выпирающие задницы, где с особой тоской примечались врезавшиеся в тело валики и резинки их штанов. Глядя на них и представляя все их запретное, почувствовал неукротимое поднимающее движение, сопряженное с томливой, ноющей безысходностью, сосущей сердце, вымогающей душу. Чтоб сбить это, я заторопился на станцию, — надо было еще купить билет, убедиться-узнать, когда поезд, хотя расписание знал из лагеря наизусть, а главное, отдохнуть от этой невыносимости, когда жало мошонку, давило внизу живота, будто по нужде, а вовсе не потому…
В вонючем, махорочном помещении станции, с грязноглянцевыми изрезанными лавками было полутемно, и враз захотелось на волю, но я нашел глазами расписание и часы (до поезда получалось недолго), занял очередь в кассу. Встал за широкозадой невысокой бабой, в красном с горошками платье, жакетке-плюшевке и в желтеньком платочке на белесого цвета выбивающихся из-под платка волосах. Волосы были сдвинуты в косую челку а сзади торчали прямыми подрезанными концами. Баба! Женщина! Впервые за столько лет я стоял рядом с женщиной, и опять прихватило, затомило низ живота — обалдел от запаха этой молодки, пахло женской пряностью, подмышечным потом, цветочным каким-то одеколоном и чем-то еще неотразимым, домашним, чем не пахнет и не может пахнуть от людей из зоны. Такого не нюхал, не ощущал не помню с каких пор, да ведь и до лагеря женщины у меня не было. Баба же, косясь, поджимала и так неширокие губы, и в них, особенно в нижней, более красивой, но поджимающей верхнюю, обозначалось презрение: «Молодой, а насиделся, видать, вдосталь, жулик, поди, карманник». Женщины делят, кажется, всех воров на два сорта — карманник, от которого деньги надо прятать подальше, под подол, за резинку чулка или в бюстгальтер, и насильник, которых оценивают соответственно, а боятся, кажется, меньше. Меня она в насильники явно не зачисляла.
Очередь к зарешеченному крашеными проволочными прутьями окошечку кассы двигалась не быстро, народ прибывал, теснился и волей-неволей придвинул меня к женщине в красном сатине и плюшевке. Баба, впрочем, поуспокоилась, наверное, от моего жалкого голодного вида или от чего-то явно ставшего понятным ей, а я, придвинутый вплотную, опять ушел в знобящее обоняние и таяние, в ее запах, запах даже стал сильнее, может, женщина вспотела или чувствовала волей-неволей то горячее, что шло от меня к ней и что никакая женщина уже не может преодолеть. Она притихла, медленно передвигаясь вдоль стенки. А я, уже не сдерживаясь от напирающих сзади и сбоку, протиснулся наконец к тому ее мягко-упругому, круглораздвоенному, что было под шелковистым сатином, и даже не осязал его руками — потому что в одной были деньги, в другой чемодан — разве как-то полуневольно тыльной стороной руки, и сотрясался невидимой внутренней дрожью, стоял и двигался, ощущая в голове и во всем теле словно бы туманный, счастливый и как бы малиновый стон-звон. Розовое мглистое сладостное качание, как утро в дремоте, то усиливающейся, то стихающей, пока ты совсем не проснулся. Женщина передвинулась и на мгновение всколыхнула мое счастье. Я опять вынырнул в полутьме вонючего станционного зала. Но тотчас она снова надавила на меня своей могучей сатиновой округлостью, и я снова погрузился в нарастающий голубой туман, пронизанный будто счастливыми лучами ломящей, колючей сладости.
Зарешеченное окошко кассы огорошило, погасило все. Баба, вытолкнутая давкой, исчезла, а я, как проснувшись и с ясной уже зэковской сноровкой, отпихнул налегающих сзади, нажимающих с боков резким движением плеч, сунул руку с нагретыми деньгами в кассу, назвал город, и там тоже, видать, привычно к этой давежке, невидимая мне кассирша стукнула компостером, сунула в протянутую руку билетную картонку, мятую сдачу и даже ловко закрыла мою ладонь в кулак, с которым я и вылез, а лучше сказать, вылетел из очереди, из растущей у кассы толпы.
В станцию натекло, набилось народу, но я уже (вот она, мужичья сущность) искал в тесноте только ту молодку. Молодку. Понял: уже все, уже попался! Но в станции ее не было, и как потянутый веревкой, толкаясь, попер к выходу.
Влажной майской теплотой завис над станцией явно разгуливающийся кисейный день. Капало из набежавшей откуда-то мелкой тучки. Но редко и пахуче. И с этими каплями, с ожиданием ворчливого первого грома еще больше нанесло, нахлынуло ощущение моей свободы. Гром все-таки бухнул, вслед за краткой молнией, откатил, содрогнув землю, дождь на секунду зашумел, визгнули девки, но тут же и стихло. А я зачарованно, будто впервые, смотрел в шевелящееся, темно-дымное и дождевое нутро тучи, и все казалось, будто оттуда, свыше, из этой клубящейся мглы, пришло мое освобождение, такое безнадежно долгое и все-таки свершившееся. А губы опять сами собой шептали: Свободен… Свободен… Сво-бо… Ден… Ден… Ден.. — стучало в груди, отдавалось в ушах.
Дождь не разогнал перрон, и бабу «мою» я увидел на скамейке у жалкого подобия какой-то станционной клумбы, похожей на кучу истоптанной грязи, обложенной когда-то белеными кирпичами. Баба сидела с невзрачным парнем — мужичонком ли? — в серо-синей кепке и таком же костю-мишке. У ног их стоял бидон с молоком, чемодан. Теперь только по округленному в самую меру животу женщины я понял, что она беременна. И что это за рок (пишу, уже размышляя): самых красивых, мучительных женщин встречал я там, где и знакомиться с ними не было никакой возможности, — на вокзалах, в аэропортах, эскалаторах метро, и всегда был при них настороженный, злой, как пес, мужик-муж, или женщина такая была беременной, а значит, безнадега, точка. Я по-новому оценил теперь ее сердитый косящий глаз и ее от меня чужое отстранение. Теперь ее пухлые ноги в резиновых ботиках-сапожках с раструбом были раздвинуты и, было видно, переходили в еще более полные ляжки, где виднелись края врезавшихся голубых штанов. Кажется, она нарочно задалась целью меня мучить, потому что я просто впился глазами в это ее запретное, опять ощущая, как заныло, задергалось, заломило ТАМ… Но в это время ударил станционный колокол, послышался поезд, и мне осталось видеть, как баба грузновато поднялась, мужик взял бидон, чемодан, и они смешались с загустелой толпой, повалившей к поезду.
Я влез в вагон из последних (бабу эту все-таки искал, не нашел, понял, что она, видимо, была красивая). Но столь же красивой показалась мне и ладная накрашенная проводница с плутоватыми обещающими глазами, и еще какая-то девка, и еще… Ко всем к ним тянуло, только уже по-иному..
А в зоне баб не было. Я не видел их ровно десять лет. Май сорок шестого… — май пятьдесят шестого… Статья пятьдесят восьмая, десять и пятьдесят восьмая, одиннадцать. Отбыл от звонка до звонка. Меня не освободили ни «ворошиловская», ни «хрущевская» амнистии.
Глава II. ДОМОЙ
Поезд уже шел. И мест в нем нигде не было. Все межполочное пространство уставлено чемоданами. На них, горбясь, мужики, бабы, девчонки. И показалось, опять я где-то на пересылке — тот же запах, теснота, койки-вагонки. Голову опять обнесло, сел на чьи-то дернувшиеся из-под меня ноги. «Чего? Кто? Сдурел?» — негодующий бабий голос, бабья нога в шерстяном чулке дернула в бок. Удержался. Смотрел по верхам. И — повезло! Заметил одну свободную третью (багажную) полку. Не раздумывая полез. Да, здесь было как в том моем первом лагере в Усть-Ижме, туда попал я сразу на общие — лесоповал, сперва рубщиком сучьев, потом вальщиком. Там и едва не сдох в первую зиму, а к весне доходил до цинги, потерял верхние зубы, но цинга и спасла, списали в зону как доходягу. А многие и остались там, в лесу, их после освидетельствования даже и не закапывали, клали просто в снег, снегом заваливали, иногда на том месте кучу сучьев. Сучья весной сжигали. На Ижме проводил сорок шестой, седьмой и восьмой. В сорок девятом половину зэков из нашего и других здешних лагерей дернули куда-то за Урал. Говорили — «под крышу», на подземные стройки, говорили, приказ самого усатого батьки или БЕРИИ. Берия даже приезжал, месяц лагерь трясли, чистили, красили, а он прошел, низенький, кругом в охране, толстый еврей в пенсне, а говорил с густым кавказским акцентом. После его приезда и сняли всю верхушку лагеря, и я со второй половиной заключенных оказался на строительстве в совсем непонятном месте, в степи. Строили там какой-то секретный город, и опять три года, и снова в этот последний лагерь на лесоповал, в ту же зэковскую, рыдальческую и без стонов даже печаль. Здесь все одним дерьмом мазаны, на слезу еще и пинка дадут: не трави душу, падла! В первом лагере я не знал этого закона и плакал во сне, просыпался от тычка с рычанием: «Ну ты, сосун, закройся! Спать не даешь! Счас сахару дам!» И в рожу комок изморози. На потолке, на окнах ее густо было. Надышали. Намерзло.
Отрезвление такое действовало лучше уговоров и жалости, у волков по-волчьи. А я часто думал: какие здесь люди и люди ли? А может, правда, волки, клопы? На Усть-Ижме были не одни «политики», много и воров. Воры держали в лагере «масть». Везде, во всем! Считалось, они надежнее «политиков», и сами воры это везде подчеркивали, конечно, «для понта». Воры были на должностях: в столовой, в хлеборезке, в зэковской администрации, сплошь воры старшие по баракам, нарядчики и на теплых местах. Таких, как я, «малолеток», да еще «политиков», сплошь «протыкали», заставляли «играть в девку». Слабых ломали начисто. Сильных, кто умел за себя постоять, когда как. Меня спасла барачная моя юность, привычка не уступать никому, кулак был крепкий, но и меня бы сломали на Ижме, не брякни я как-то, что, мол, художник, и меня взял под свою опеку главвор — здоровенный мужик с лицом белым и круглым, как луна, и похожим на эту луну в полнолуние, с виду совсем не страшный, улыбчивый. Вора в нем выдавал только говор шепелявый, блатной, да еще, пожалуй, взгляд, иногда туманно рассеянный, в себя уходящий. У главвора и клички не было. Звали по имени-отчеству Денис Петрович или по фамилии — Конюков. Сидел уже третью пятерку, конца срока не ждал. Но главвор был единственный, кто не менял «прописки». Других зэков год-два — и перегоняли в иные лагеря. Главвора не трогали, пришел он сюда с Магадана, а то, говорили, и вообще из тех мест, откуда не возвращаются. Шел слух, на севере есть подземные зоны и лагеря, где и охрана живет как зэки, а зэков, тех и на поверхность не выводят, так «крытые» и маются, пока не дойдут и сдохнут. Главвор это все, кажется, знал, был в таком авторитете — и надзиратели обходили, а слово его было закон не только в нашем лагере.
Поезд шел. Тряслась моя койка-полка, что-то брякало непрерывно и нудно. А я, лежа, разглядывал теперь потолок. Вагон был старый, много раз его снова красили. Краска лупилась. И почему-то это меня занимало. А колеса стучали: домой, до-мой, до-мой, до-мой. И все никак не верилось… Вдруг сон? Сколько раз просыпался я так в зоне, свободный и радостный… Лучше не вспоминать. Еще представлялось: еду не в ту сторону, а назад. Обратно… Может быть, бредил наяву. И все вспоминалось недавнее и давнее. Переволновался? Перетрясся? Будто штормило даже.
— Канай сюда, ты, худоз-ник! — главвор манил меня, как мясник барана, со странной своей жутковато-доброй улыбкой. Он почти всегда так улыбался. А я знал, что с такой улыбкой будет он смотреть, как меня или кого другого станут бить долго, беспощадно. Захотят — инвалидом сделают, захотят и «замочат». И с улыбкой, но другой — улыбкой кота, увидевшего забежавшую в угол беспомощную мышь, скалился на меня сидевший поблизости от главвора «Витюха» — правая его рука, а иначе еще «Кырмыр». Кыр-мыр был явным садистом с детства и только ждал, когда ему покажут — кого..
— Худозник ты зна-сит? — переспросил Конюков, — А бабу мне нарисовать мо-зес? Нну, хо-росую Маньку, стоб с зопой была, с цыпками в-во! Стоб поглядел — сразу вставал, как Ванька? А? Мозес?
— Бумаги нет… Карандашей, — помнится, промямлил я.
— Бумаги? Вся дела? — осклабился он щербатой лаской. — Ну, это тебе ссяс будет. Кыр! Сказы там: бумагу стоб ххаросую и это, чернило… Нет… Карандасы стоб. Краски там… Понял? А ты смотри… Стоб баба была вво! На больсой. Толстую рисуй! Тоссие на х… не нузны. Канай до весера — весером показес.
Кричали строиться.
А вечером два зэка принесли из КВЧ лист рисовальной хорошей бумаги и карандаши, простой и черный. Главвор на своей отдельной койке в углу пил чифирь, поглядывал с улыбкой, грозил пальцем. Выхода у меня не было, и решил, после ужина нарисую, как смогу. Художником я себя обозвал, конечно, сдуру — какой художник? — всего полтора года ходил в студию во Дворец пионеров, рисовал, конечно, и сам, сколько помню себя, да ведь ему-то надо необычное, и женщин в детстве я рисовал тайком. Отец не одобрял, а когда находил, молча рвал мои рисунки. Кого я нарисую? Венеру, что ли? Так она не толстая. Помню, в кружке листал какой-то альбом, и там были сплошь толстые розовые женщины-купчихи. Какой художник — забыл. И как рисовать по памяти? Ничего путного не будет. Весь день и за ужином ломал голову. И вот укрепил лист на боку тумбочки, наклонил ее к подоконнику, задумался. Прикидывал контур будущей женщины. Рука тряслась. И вдруг вспомнил! В улице нашей жила несколько похожая на Венеру — но чудовищной полноты женщина. Она к тому же еще и ходила беременная, круглая из-за своего живота, с развратно отставленным крутым в ягодицах задом. Все платья ей были тесны, юбки она носила тоже коротенькие, открывающие полные, отличной стати ноги, над коленями будто перетянутые розовыми резинками. Помнил, как мечталось увидеть ее голую! Хоть бы как-нибудь подсмотреть… А случай всегда идет к жаждущему, пришел он и ко мне, когда в пеклый, жарым-жара, июньский день я плелся улицей мимо усадьбы Хозиновых (такая была у них фамилия) и по мальчишеской привычке везде совать нос заглянул в щель высокого неплотного забора. Что увидел, опешило. За изгородью была картошка, и эта самая Хозинова окучивала ее в одних рейтузах — так называли тогда женские панталоны. Застиранные до блеклой голубизны штаны были на ее огромном заду неудержимо-тянуще-прекрасны, так обтягивали-облегали ее бедра, врезались валиком над припухлой мякотью колен. Вот откуда у нее полоски! Она была босая, на голове белый платок и в перетянувшем нежную спину белом лифчике, который на моих глазах, когда она наклонилась с тяпкой, вдруг лопнул на ней, или отскочила пуговица, раскрылся, и огромная грудь с розовым толстым соском выползла из-под него, повисла, как чудовищный молочно-белый плод. Я видел все это, видел даже сейчас, вспоминая, как баба, досадливо оглядываясь, заталкивала свои словно бы резиновые груди в чашки бюстгальтера, пыталась его застегнуть, соединить, а груди не слушались ее, вылезали обратно. Умаянная, должно быть, борьбой с ними, жарой отвесного солнца, она вдруг еще раз оглянулась и, потянув панталоны с крутого огромного зада, открыв его, весь невероятно белый, круглый, ослепительный, присела прямо в картошку, в недоокученную борозду и посидела так недолго, а казалось, вечность, потом медленно встала, медленно подтянула штаны, прежде зачем-то глянув в них, бросила тяпку и, выпятив живот, перекатывая огромные булки ягодиц, пошла из огорода. Потрясенный, с пересохшим ртом, я глядел на эти ее полушария под рейтузами, на то, как они содрогаются в такт и не в такт ее шагам, на простую белую косынку-платок, повязанную низко на лоб, и будто на самые глаза. Может быть, с того случая и на всю жизнь я влюбился в полных, пышных, круглобедрых женщин, и они мучили меня в отроческих снах и наяву и только в лагере снились-вспоминались не часто.
«Нарисую ему эту бабу!» — подумал и потому, что самому вроде хотелось нарисовать. Как видел, так и нарисую, в штанах и с расстегнутым лифчиком.
Рисовать поначалу было трудно, безотрадно: лезли смотреть, кто-то уже гыкал, ржал, кто-то спрашивал. Я заорал, что так не могу, мешают, и главвор, все чаевничавший на своей койке, рявкнул: «Не месать ему! Ссяс по крыше дам! А ты рисуй! На больсой делай. Пайку двойную полусис..»
И на одеяло мне действительно принесли-сунули двойную хлебную пайку. И может, потому и закончил я рисунок в аккурат до отбоя. Даже не знаю, как мне это удалось. Я рисовал стремительно, тушевал тени, легко находил все изгибы ее тела, когда она досадливо подхватывала выползающую грудь, нашел все, вплоть до мягких складок у оборок резинок ее штанов, — все нашел и все успел к отбою. Может, это и было вдохновение, подтвержденное двумя кусками хлеба на койке-вагонке?
— Нну… Показывай! — главвор манил меня пальцем, улыбался, полулежа на койке. — Пасмотрим, сто ты за ху-дозник!
Я подал лист.
— Ты сто-о? Я зе тебе голую велел! Го-лую! — начал было он со своим прищепетом и тут же осекся. — Стой!.. Стой! А сто? А? Мозет… Слусай суда… Слусай! Так дазе, позалуй, лутсе. Тось-но! Лутсе в станах! А титька-то как вылезла! Мля… Тосьно! Лутсе так! Смотрится. Я этих бабьих станов узе век не нюхал! Ах ты ссука, мля! Вот угодил! На такую дросить хосется! Ну, верно, худозник ты! Слусай сюда… А ты картоську мою, ну, партрет, сто ли, тоже смозес? Стоб в письме на волю послать? Мля будес? Тогда завтра, мля, рисуй! За зону не пойдес. Отмазем. Я сделаю, здесь останесся. А за эту бабу на тебе ессе двойную. Двойняк! Сало вот, бери. Бери-бери. Такую бабу на стену весай! Картоську мою похозе сделаес — тебя здесь пальсиком никто не тронет. Поняли, бля?! Худозник он. А литузы-то! Ли-тузы! А зо-па! Все в поряде! В правиле! Удру-зыл!
Из-за этой «бабы» я и остался сначала без вывода в производственную зону, на лесоповал, остался не битый, не «проткнутый», потом даже был поселен в отдельной «кабине» с еще одним старым совсем художником Самуилом Яковлевичем. О том особый сказ. Строгая и страшная защита главвора распространилась на меня словно бы на весь срок и даже на все мои пересылки-лагеря, почта у зэков работает лучше государственной. Зато карточки и баб приходилось рисовать без счета — был сыт и, можно сказать, почти «в законе». Никто не трогал меня — редкая в лагерях удача, народ потому что дурной, грозный, жученый и отвести душу на слабаках, малолетках, доходягах было всласть. Один Кырмыр только косил на меня зеленым волчьим глазом, но и я потихоньку свирепел, набирался той лагерной отваги, какой и не может быть у свободных и которая копится в тебе и всегда может взорваться — а тогда: «Держите меня!!» В зоне, хочешь не хочешь, научишься совать в морду, дать пинка, извернуться как бес, отмахнуться-доказать, что не лох, умение приходит само собой, как въедается по-тихой блатной жаргон, способ хлестнуть острым словом, держать «масть», пригрозить взглядом.
Вскоре передо мной и бывалые зэки «шестерили» — добывали бумагу, карандаши, краски. Научился делать рисовальный уголь — обмазывал глиной березовые прутики, томил в костре, получался звонкий крепкий уголек. Рисунки стали куда фактурное. Правда, надо было их закреплять. Чем? Где взять в зоне фиксатив? Можно водой с сахарным песком, молоком снятым — а где оно? Выход и тут нашелся, зэки народ талантливый, и только объявил свою маету, средство враз нашлось. Распылитель сперли у парикмахеров в вошебойке, а фиксативом стал березовый сок. Сок этот для всех спасение. Ждали его. Мечтали вслух. К весне все не все, а многие начинали потихоньку доходить — авитаминоз, пухли десны, шатались зубы. Чтоб не оцинговать, самые опытные зэки на лесоповале всегда жевали хвою, парили в жестянках тошную хвойную жидкость. Летом было проще, летом черемша, саранки; летом когда найдешь ягоды, а то и грибы. Сок же пили весной, пытались заготавливать, кипятить. Им я закреплял рисованные углем «карточки» и «баб», брали их нарасхват, с уговором «не закладывать!» если что, и конечно, «заложили».
Как-то перед разводом дневальный по бараку, хромой блатыга, объявил:
— Ке 315! К оперу!
Мой номер. Никогда не забуду. Хотя звали в зоне и Александром, и Сашкой, и по фамилии моей Рассохин. И просто, потом уже, «художник» — так чаще всего.
«Опер», а он же «кум», чернявый, худощекий, и в глазах одна злоба, капитан хохол Бондаренко. В капитанах давно, погоны замусолены, оттого, наверное, и злой. Боялись Бондаренко хуже начальника лагеря, подполковника. Любил, чтоб зэки перед ним тряслись, сучились, стучали и стукачей вербовали ему. А я-то зачем? Шел в штабной барак в великой тревоге. Этот зря не вызовет. Вдруг срок напаяют или ломать будет, чтоб стучал или что… Управы на него нет… И не отпросишься..
В штабном Бондаренко не оказалось. Зэк-дежурный послал меня в КВЧ, культурно-воспитательную часть — она же барак клубный, где показывали по праздникам кино и зэковскую самодеятельность. Бондаренко расхаживал вдоль стены с лозунгами. На приветствие мое что-то буркнул, уставился как бы сверху вниз, хоть я был выше его, заморыша, на целую голову. Позднее видал я фотографии Ежова — на него точь-в-точь был похож опер.
— Ну что, по-ли-тик? Карточки, говорят, там малюешь? Э? Ггэвэри правду! Малюешь?
Молчал я, прикидывал в лихорадке — кто продал? Да толку-то? И отказываться как? Заложили, конечно, сук у нас много, теперь не отпросишься. Влип. Срок, как пить дать, добавят…
А капитан, глядя уже как сквозь винтовочный прицел (учат, что ли, их так глядеть?), втыкая в меня свой странный прищур, гаркнул:
— А кы-то ттебе пазволил? Ты раз-ре-шенье на свое ма-люванье получив? Э? Ты в мене в кондее схнить хочешь? Парнуху малюешь? Жопы? Баб холых?
И вдруг, усмехнувшись волчьей желто-черной улыбкой, сменил тон.
— Тря-сешься? Лад-но. Я все знаю… Видел твое малюва-нье… Художник. Не затем тебя вызвал. Пощажу., пока. Вот что… Два портрета надо сделать в кабинет начальника. Товарища СТАЛИНА и., товарища БЕРИЯ! — Опер поднял палец, как бы грозя. — ПОНЯЛ? МОЖЕШЬ? Намалювать?
Потрясенно молчал.
— Шо мовчишь?! — переспросил Бондаренко, уже суровясь и опять втыкая в меня глаз-прицел.
— Если бы с фотографии.
— Откуда ж! То конечно.
— Тогда смогу. Попробую.
— Тебе «попробую»! Смочь надо, и харно! С повала тебя на неделю снимаю и пайку добавлю.
— За неделю не успеть, гражданин начальник.
— Та шо тебе? Две недели?
— Чтоб хорошо было… Надо.
— Получишь. Тильки шоб в мене было як… Плохо намалюешь, на стильки же суток в бур… Харно — с повала сниму, переведу художником. А то жид этий не тянет, падла… Иструх.
В лагере был художник. Самуил Яковлевич. Сидел, говорили, уже несчетно, третью десятку. Изредка я его видел. На тощих, болтающихся ногах выходил он к утреннему шмону писать номера на зэковских бушлатах или тащился в КВЧ, согнутый, мефистофельный, уставив тощую, клинышком, бороденку, и словно бы совсем не живой, а так — заведенный и двигающийся.
— Идти можешь, — отпустил Бондаренко. — Краски, кисти, ну, все там, шо надо, у начклуба получишь. Ще понадобится — обратишься. Нносмат-рии!
Это было уже что-то вроде радости. Две недели без вывода на лесоповал! Без увязания в мокром болотном лесу! Без комаров! Без вечного страха перед падающими деревьями. Не своими — своих тоже надо беречься. Давило чаще, калечило зэков чужими соснами-березами. Не поберегся — и обязательно тебя накроют. И сколько зэка погибло на повале, никто не счел. Валить дерево — это еще не вся зэковская мука, спилить спилишь, а оно хлоп вершиной в другие дерева и засело. Вот она где начинается, мука — вытащить на пупах засевший в мох, в корни, в кочки, зимой в снег, комель дерева, оттянуть, а потом толкать, чтоб расцепилось, легло, да еще не поддело тебя этим комлем. И то еще не вся любовь. Самая тяжкая на Ижме работа была на бревнотаске, когда спиленное, осучкованное дерево на лямках вытягивали к лежневкам, а там без кранов грузили на покатях, и то же в войну и после сколько, без тракторов, паром пердячим, с надсадой, наживая вечную грыжу и паховую страшную килу. У иных на бревнотаске гужами мясо на плечах проедало до костей, таким путь чаще был за проволоку, в ямы. Вот и поймите мою радость. Неужто две недели не стану я видеть хотя бы сыромятную рожу десятника Семерякова, неужели почти полмесяца без надсады, матюгов, без всей этой губящей душу муки?
На повале одно хорошее время для зэков — осень. Август, сентябрь, да еще если сухо стоит, жара не донимает, гнуса нет. Ягоды, грибы осенью лучше, чем летом. Летом главная беда мошка и комар, весной сырость и вода, зимой мороз — самое лютое время. Короткий день, а рубим и в полутьме. Зимой и пайка голоднее, а та же самая, без прибавки. Обморозился — сам лечись. Мороженый в больничку не рассчитывай. Считается как самовредительство. Однажды я так обморозил ноги, раздуло до синевы, думал, отвалятся пальцы. Бывалые зэки подсказали. Моча. Ей лечись. Лекарство у зэка всегда с собой. Моча и от горла, и от суставов, и руку ссадил — обоссал и дальше. Заживет.
Тогда шел еще второй год моего срока. Срока-то их, в общем, лучше не считать… Не расстраиваться. И бесполезно было: «за политику» захотят — сунут тебе новую десятку— «червонец». Пятьдесят восьмой и амнистий не полагалось. Пятьдесят восьмая, если не повезет, бессрочная, начало есть — конец и сам Бог, наверное, не знает.
А началась пятьдесят восьмая еще в школе сразу после войны. Ребята из девятых (десятого в сорок пятом в мужских школах не было, вместо десятого — фронт) создали партию Демократической России. ПДР! Вдохновителем и организатором партии в школе был беленький, странный лицом, как стеариновая маска Белинского, Коля Хмелевский. Недоступный, недосягаемый, загадочный во всем, даже в своей взрослой любви к старшей крупнотелой студентке Инне. Инну я знал еще по прежней своей школе, до войны, когда учились вместе с девочками. Я был в пятом, она — в девятом. Потом Инна продолжала меня мучить по памяти и при случайных встречах своими могучими, тянущими формами и самодовольным холодом совсем женского белого лица — лица Богини. Но все говорили, что она любила Колю, низенького и некрасивого, и любила «по-настоящему». Родители Инны были, слышно, геологи, где-то все кочевали по северам и вос-токам, а она жила одна в громадной барской квартире, в том же доме, что и Коля, на углу вокзального проспекта. Впрочем, говорили, что с Инной живет еще бабушка, глухая, сутулая старуха.
Коля был идейный вождь партии. Он написал ее программу и устав. Клятву вступающего. Когда читал ее своим глуховатым голосом (собирались для конспирации у нас в бараке, когда отца-матери не было дома), я глядел на его бело-бледное лицо, похожее еще отчасти и на лицо Радищева, и думал — вот прирожденный герой, «декабрист», не чета мне, ничего не знающему, не умеющему так складно, взросло составить хоть какую бумагу, документ. Вспомнил, мне было хорошо и страшно. Страшно — и хорошо. Нас пятеро. Мы члены тайной организации. ПАРТИИ! — которая, может быть, скоро станет огромной, могучей. Мы сделаем Россию счастливой, умной страной, свободной и демократической. Коля намекал, что организации ПДР есть уже по всей стране, во всех школах, даже у суворовцев, у «спецов» — в военной школе будущих летчиков. В нашу пятерку кроме Хмелевского и меня входили Вова Киселев, Вася Клячин и Гена Бурец из девятого «Б». Вовочка Киселев, домашненький мальчик, больной эпилепсией, был у нас «переводчиком» — свободно говорил по-немецки, мог и по-английски — задача будущая — связь партии с зарубежными странами. Гена Бурец — радист, потому что запросто мог смастерить любой приемник, хоть пятиламповый, хоть десятиламповый. Бурец знал «морзянку». Коля определил его, как будущего связного ячеек партии. Коля не доверял никакой другой связи. Вася Клячин был «боевик». Странное и раннее подобие мужика-смерда, худой, косторукий, с рябым лицом простейшего типа, имевшем в себе и верно что-то от крестьянских извозных клячонок. Немногословный, сильный, какой-то терпеливо-портяночный. Коля внушал, что партия сразу должна иметь свои боевые отряды и туда по одному, по два войдут боевики из каждой пятерки. Мне, как ходившему в студию Дворца пионеров и вечному школьному оформителю праздничных газет, и в партии отводилась роль художника и печатника: писать плакаты, оформлять воззвания, множить листовки на гектографе — конструировал и усовершенствовал его сам Коля, но что-то все у него не получалось. Игра? Дети? Да. Господи! Игра. Вместо партбилетов, на случай обыска и для конспирации, жестяные бирки. У меня номер 306! Коля утверждал, что номер не порядковый, а шифровой, порядковых больше.
Летом сорок пятого я кончил седьмой и сдал экзамены в художественное училище. Получил задание от Коли организовать в училище первую пятерку. Начал приглядываться к ребятам. С кем-то поговорил. Кого-то уже видел готовым к вступлению в партию. А в апреле сорок шестого, как раз накануне Первого мая, меня и Киселева арестовали на почтамте, туда мы ходили разбрасывать листовки. Ротозей Вовочка не успел даже предупредить, а продал всех Гена Бурец, продал подло, сознательно, как Павлик Морозов. Сходил в приемную МГБ и сообщил о «готовящейся акции». Нас взяли с поличным. А Коля оказался прав и не прав: рыжего Гену он проморгал. Мне дали десять лет. Вовочке — семь. Васе Клячину — столько же. Хмелевского не взяли. Закрывшись в своей комнате, он расстрелял всю обойму, последнюю пулю себе. Где оказались Клячин и Киселев, я не знал, живы ли — тоже. Гена Бурец спокойно закончил политехнический. А я теперь возвращался. Я не был даже реабилитирован, ведь боролся не против Сталина, против «советской власти», и боролся сознательно, и возвращался после отбытия.
Хитрый ли, ласковый ли (надо, чтоб был ласковый) прищур-прижмур глаз. Добрые усы, казалось, под ними одна только добрая улыбка, а не гнилые, сплошь замененные на пластмассу зубы, и лицо это желто-темное, корявое-сыромятное в прозелени прокуренных, пропитанных, впечатанных прожитыми злодействами лет. Где мне все это было знать?! Доброе лицо великого, именем которого я посажен без всяких скидок на молодость, глупость, простой юношеский этот максимализм, как выразился бы ныне какой-нибудь премудрый защитник. Рисую лицо вождя, пока углем. Закреплю рисунок настоящим фиксативом, потом буду прокладывать красками в полтона. Еще дальше — основная прописка. Иосиф Виссарионович, может быть, самая загадочная личность двадцатого века, явившаяся из века девятнадцатого! Что ты знал обо мне? О миллионах таких же мошек? Ты, великий, величайший, мудрый и мудрейший отец народов, величайший полководец, гениальный зодчий грядущего КОММУНИЗМА — золоченого миража, обозначенного лукавыми слугами Сатаны для сонма легковерных и запуганных, старательных и забитых рабов! А может, так оно и лучше: стройте, муравьи, Вавилонскую кучу, тяните к небу, пока она сама собой не рухнет, погребая вас под своими обломками. Может, так и надо? И легче трудиться, и проще подыхать (отдадим все свои силы, а если понадобится, и жизнь за великое дело Ленина-Сталина — расхожая фраза всех газет), легче подыхать, надорвавшись где-нибудь на бревнотаске, в шахте, в камере, как какой-нибудь бывший «вождь», герой и «рыцарь революции», озаренно думая: «Я внес свою лепту в торжество ЗАРИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — ЭХ ТЫ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО! — и надежда на твою благодарную память. Эх ты, ЗАРЯ, сколько раз волхвы и чародеи зажигали ее перед жаждущими! Ад и рай заповедовали нам, ад и рай устроить пытались на Земле великие вожди, учителя и продолжатели самонадеянных мудрецов, просиживавших штаны в парижских и лондонских библиотеках, проедавших без совести не ими заработанные марки, фунты и рубли.
Великий вождь, обративший меня в рабство за отступничество и желание думать дальше позволенного, давал теперь своему ничтожному рабу неделю отдыха от устроенного им ада. Может быть, эта благодарная мысль и двигала мою руку, и, когда я закончил портрет, Сталин был написан не хуже, чем на цветной вырезке из «ОГОНЬКА», врученной мне капитаном Бондаренко, и высочайше одобрен.
— Художник, оказывается, ты, триста пятнадцатый… Ну ладно… Второй портрет малюй. Фарбы, краски этий, мабудь, надо щче?
Второй портрет лысого злодея-интеллигента в пенсне писал я уже совсем уверенно. Лаврентий Павлович, кажется, вы освобождали меня не только еще на неделю, а может, и совсем от этих «общих» на лесоповале. И хоть тянуло исказить твою подлую рожу, жирную, залихватски-грозно глядевшую с открытки, решил, что надо уж сыграть до конца. Пусть опер порадуется, может, лишний раз не будет вязаться. Точно к сроку, на день даже пораньше, сдал заказ высокому начальству — низенькому плюгавому гаденышу.
— Ну, што ж, считать будем, шо справився. Харно намалював. С повала тебя снимаю, будешь при КВЧ. Малювать шо дадуть. Но споткнешься — подымать не стану, бачишь? Жить будешь, хде этий жид, в кабине при седьмом бараке. Пайку — по первой. Иди! Та смотри в мене!
— Благодарю, гражданин начальник.
— То-то… А жопы больше шоб не малювать!
Итак я стал живописцем, им же, на легком хлебе, коль есть такой в зонах, и кончал свой лагерный срок.
Художник Самуил Яковлевич был в зонах еще с тридцать седьмого. Москвич по рождению, он постоянно вспоминал об этом. Был знаком с многими знаменитыми художниками, учился чуть ли не с Герасимовым, официальным живописцем вождя. Самуил Яковлевич был бессрочник, проходил по той же пятьдесят восьмой, да еще ему добавляли за всякие там «уклоны», за «буржуазный формализм». А он, будто помешанный, прославлял все какого-то Фалька, художника Виральта, говорил, что Сальвадор Дали — гений. Из всех имен, какие он постоянно перечислял мне, я знал-слыхал только Ренуара да еще Пикассо. Знал, что они импрессионисты, «формалисты», никаких работ Пикассо не видал даже в репродукциях. Сам же старик рисовал, на мой взгляд, плохо, ужасно, все с какими-то вывертами, изломами, постоянно нарушая перспективу. Но главное качество, которого у него никак нельзя было от-нить, — он прекрасно знал, наизусть помнил все поучения и заветы великих художников и как-то незаметно сделался моим учителем. Это была какая-то ходячая энциклопедия, «ходячая» в полном смысле. Расхаживая по нашей маленькой комнатушке-кабине — два топчана, две тумбочки и стол — мы привилегированные зэки — от стола до двери, он говорил:
— Слушайте мене, Саша! Техника и медленная, обдуманная работа — это, конечно, не взрыв вдохновения. Взрыв прекрасен, но его можно подготовить только техникой, как говорил Роден, «надо пройти искус».
Самуил Яковлевич почему-то сразу и навсегда звал меня только на «Вы».
— Вы знаете, Саша, что говорил Поленов? А что говорил Поленов? Он говорил: «Нужно предварительно все выяснить: пропорции, цветовые отношения, свет и тени — и только после етого приступать к живописи». А затем, когда (он говорил «када») начнете работать красками, вы все время внушайте себе, что ето уже будет ваша лучая вещь, что вы напишете ее луче, чем ваши товаришчи. Настройтесь так, тогда и начинайте.
Вот вы, Саша, никогда не слыхали такого художника — Вламинк? Вламинк, таки я скажу вам, ето был великий художник, к сожалению, не столь известный, как его товарищи, ранние импрессионисты, и те, что были после них. Так вот, етот Вламинк написал мало картин, но еще более был известен как теоретик, и он уже говорил:
«Каков человек — такова и его живопись. Я в ето верю больше, чем когда-нибудь. Характер человека легче разгадать по его живописи, чем по линиям его руки. Происхождение, среда, влияние, здоровье, болезни, душевное равновесие, пороки, наследственность, благородство, величие духа — все отражается в живописи. Если бы когда-нибудь мне (ето Вламинк!) пришлось быть судьей, я выносил бы приговоры людям на основании их живописных работ. И я никогда не сделал бы ни одной судебной ошибки». Вот так, Саша. И надо всегда стремиться быть не кем-то, а самим собой. Етот же Вламинк говорил, что если я рисую в духе Энгра, я тогда рисую не Вламинков, а копии Энгров, и я не нахожусь в согласии с самим собою, и значит, тогдая не правдив».
Если я не стал живописцем, то живопись все равно меня многому научила.
Самуил Яковлевич считал себя конченым человеком и в самом деле уже доходил от туберкулеза. Кашлял ночами, плевался кровью. На воле его, слышно, никто не ждал. Он не успел обзавестись семьей. И странно, стоически нес свое заключение, поражал способностью ни о чем не волноваться, ничего не ждать.
— Саша! Я пришел к выводу, что жизнь бесполезна. Да. Я живу в етом измерении всего лишь по приговору судьбы, а дальше, после того, как помру, опять будет новая и более интересная жизнь. Здесь я все могу, могу рисовать, могу размышлять, здесь меня все-таки кормят, женшчина-ми я никогда не интересовался. Женшчины вообще обман, блеф, в лучшем случае — машина воспроизводства жизни. Если б я жил на воле, вряд ли бы я что-нибудь добился, мои абстракции при социализме никому не нужны, а уехать за рубеж, как Василий Кандинский, или Гончарова, или Малявин, я бы не смог. Вот почему, Саша, я не грушчу и отказываюсь писать портреты Сталина и Берии. Вы их написали, и правильно сделали, у вас есть теперь возможность рисовать, у вас, Саша, есть будушчее и перспектива. У меня же ничего нет. И лучше я буду писать номера на бушлатах и жить в себе.
Меня он заставлял рисовать ежедневно, ставил всевозможные натюрморты из подручных наших предметов: шапка-зэковка, кружка, ложка, облизанная до голодного блеска, или луковица из посылки, кубик сахара, пайка, прежде чем ее съесть. Сколько я перерисовал этих «паек», а Самуил Яковлевич все ставил мне устные жесткие оценки. «Ну, сегодня вы, Саша, уже на два с плюсом. Не моршчитесь, ну, на три, но с двумя минусами! Таки что это за штрих? Где рука? Где уверенность? Где глаз — я вас спрашиваю! Или вы уже выпили где-то водку? Ето пьяная живопись, тьфу, пьяный рисунок. Мазня! И в тушевке надо показывать руку! Запомните, уверенность, даже самоуверенность, и как бы наглость, есть основа мастерства, и вы, Саша, должны были нарисовать мне здесь не эту хлебную пайку, а голод, Саша, ГО-ЛОД! Вот тогдая поставил бы вам четверку. А на пятерку, Саша, писали и рисовали лишь величайшие! Да, ВЕЛИЧАЙШИЕ, и то НЕ ВСЕ!»
А еще, уже для души, я продолжал рисовать женщин и даже не по памяти, какая там «память», — по воображению! Рисовал их тела, ягодицы, лица и, едва закончив, сжигал, слишком помнил наказ капитана Бондаренко. Самуил
Яковлевич остался в том лагере, когда меня перевели сперва в степную, а потом снова в лесную зону. Но сюда я переходил уже «художником», и в общем, последние мои годы в лагере были куда легче первых, я повзрослел, обтерпелся и вот даже дождался освобождения.
— Знаете, Саша, что главное в жизни? Вот вы скажете, наверное, свобода, любовь, женшчина! Я вижу, как вы пишете ее, и понимаю, вы, видимо, все равно навсегда ее раб. Я тоже был рабом, Саша. Но теперь я етим не болен. А вы ешчо потом мене поймете. А главное в жизни — не искать ее смысла, его просто нет и нечво искать. Главное в жизни — уметь так терпеть и приспособиться, чтоб не было невыносимо. И это величайшая из наук! Вы ее, Саша, постигаете пока интуитивно, потому что вы ешчо молоды и ешчо не философ. А науку ету создали древние, создали китайцы, индийцы, египтяне и греки, особенно стоики и циники. Надеюсь, вы слыхали про Диогена, который жил в бочке-пифосе? Так вот: счастливым можно быть и в бочке, и во дворце, и даже в зоне. Главное, сначала победить себя, свои страсти и желания, которые и приносят страдание, а победив их и приспособившись, вы будете уметь побеждать сильнейшего. Как? Древние индийцы учили: побеждай жадного деньгами, глупого — потворством, гордого — мольбой, умного — правдивостью. И все, Саша, все! Вот вы, по-видимому, интуитивно на-шчупали ето правило и победили дурака Бондаренко. Побеждайте и дальше, всё, любых людей, любые обстоятельства! Сделайте лагерь своей академией. Имени Сталина… У вас таки, кажется, есть талант, и большой — вот и граните его тут, для етого и есть, внушите себе, ваш срок! А выйдете на волю, обязательно собирайте книги — лучшие книги. Например, за любую цену найдите, купите «Нравственные письма к Луцилию» Сенеки-младшего. Там все ето сказано лучше, чем мною.
Самуил Яковлевич остался в том лагере, и мне его постоянно не хватало…
В вагоне зажегся свет. Должно быть, я пролежал весь день в полузабытьи, погруженный в свои воспоминания, пока поезд качал и качал на юг, к дому и прочь от лагеря. Я не хотел ни есть, ни пить, просто впал в какое-то состояние — ощущение болезненной и непонятной полуосвобожденности. Бывалые зэки подтвердят: тюрьма и зона годами медленно выходят из тебя, а выйти напрочь, чтоб забылось, не вспоминалось — такого не бывает.
Кажется, я заснул, а проснулся оттого, что поезд стоял, была какая-то станция, и я увидел, что полка неподалеку, ниже и наискосок не занята. Кто-то сошел. Перебраться туда было мне делом минутным. Но если б я знал, что ждало меня там!
Прямо передо мной или почти напротив, бесстыдно задрав подол своего сатинового платья, до самой задницы обнажив круглотолстые ляжки в голубых линялых резинчатых штанах, спала та самая беременная молодка, за которой я сох в очереди на станции. Сон мой сняло, перебило мгновенно, Господи боже, сколько лет представлял я женщину вот так — протяни руку — дотронешься! Не мог представить, потому что ее просто не было, не было женщины, и все мы, зэки, сходили с ума, свихивались, дрочили до умопомрачения, лезли друг на друга (не все, многие этого просто не могли). Молодое тело требовало, вопило, ныло, а наградой были только сны, когда являлось тебе хоть какое-то это желанное до сосущей дурноты существо — женщина, «баба», «Манька», у каждого своя и на свой манер и каждого до голодной слюны сводившая.
Еще когда сидел в предвариловке, гнусной, прокуренной, огромной камере, то напротив, знали мы, былженский блок. Чтоб увидеть хоть что-то, лезли вверх к зарешеченным, закрашенным окнам, — кое-где недавно выбито или где форточки, вставали на подставленные плечи, спины, орали этим безвестным бабам: «Мань-ка-а! Покажи жо-пу! Жо-пу покажи-и-и!!» И вот диво: иногда на этот отчаянный вой-призыв в окнах-решетках женского блока появлялось что-то неясное желто-белое, бело-желтое, что, может быть, воспаленный разум и голодное воображение принимали за желанную часть женского тела. Тряслись и те, кто стоял на спинах, и те, кто толклись, ожидая подробностей.
— …Фрайера! Показывает! Показывает! Ой, бля… Круглая, белая! Жопа, фрайера! Жо-о-па! Ой, не могу! Ломит! — орал, гнулся счастливчик, брызгал спермой. Его сталкивали. Лезли новые. Те, кто подставлял спины, а крик: «Мань-ка-а!» — и сейчас в моих ушах.
И еще вспомнилось, как главвор в минуты, когда снисходила на него сытая благодать, повествовал-рассказывал, развалясь на своей отдельной койке. «Был я, фрайера, еще на Кусвинской зоне. Меня до войны на больсом деле продали. Ну, те, кто продал… Это ладно… Ххэ… Я тогда в побег усол… Мля… Но серез три месяца меня суки взяли, закрыли и в крытые даже перевели, завод-подземку мы тогда там строили, а зыли прямо в зоне, без вывода. Там и дохли. Ну, а потом меня наверх все-таки выдернули. Друзья помогли, и оказался я в другой зоне, а там рядом, фрайера, бабья зона была, ну и резым другой был, не сравнить. И вот фрайеров у нас кой-кого в ту бабью зону иногда дергали, ремонтников там, плотников, водопроводчиков, чо… Одного особенно сясто, по сантехнике был… Завидовали ему сплос, такое дело… И вот как-то усол он опять и нет его, и нет… Думали мы, в побег оттуда он… Потом, серез неделю узе, узнаем — в больниське он и едва зывой. Сто б вы думали? Бабы его там в сортире, как петуха, поймали. Кусей навалились. В рот ему станы, на голову — станы. Повалили. Потом резинкой ему перетянули и давай все по осереди ездить, мозет, сяса два, пока охрана ихняя не хватилась. Наели его без сознания. В больниське, правда, откасяли. Вот она зверюга какая… Баба… А я ессе и следователей-баб таких сук видал, и сестер в больниськах, надзирательниц лютых, куда музыку, мля, зна-ем, сто такое са-ветская власть! А ессе, знасит, был в той, в бабьей зоне, сортир, так они, суки, не меньсе нас голодные, бывало, не идут туда, а под проволоку сядут, задерутся и ссят, а мы по другую сторону маемся. По осереди в розыгрыс туда бегали. Потом, однако, прикрыли это дело, настусяла какая-то падла».
Все это всплыло, замелькало в моем сознании, пока, уж совсем не пытаясь заснуть, я пялился на женщину, спящую на полке. Зад ее круглым холмом, вот он — протяни руку. Баба спала и во сне, потеряв женский самоконтроль, с которым они обычно следят за своими юбками, вдруг передвинулась в мою сторону, так что подол ее сатинового платья совсем задрался и вместе с ним задралась шелковая линялая сорочка. Почти весь зад женщины в этих бледной голубизны тугих штанах открылся передо мной, так что я теперь, забыв обо всем, глядел на него, глотал слюну. Глядел в него… пытаясь хоть как-то унять нетерпеливую, ломящую боль в междуножье, которая уже сводила в ком мою мошонку и, разливаясь дальше, ломила промежность, устремлялась к копчику, ползла по ногам и по ногам же возвращалась обратно, вверх, к животу, как бы леденя его и наполняя дурной пустотой, а потом, теплея, начинала разливаться, перекрываться этой теплотой, но не такой, как бывает от солнца или огня, а внутренней, возбужденно воспаленной, тянуще-зовущей к немедленному извержению. Может, понимал я теперь насильников, мужиков и парней, кто сидел со мной в первой общей зоне по статье, забыл какой, и кого воры в законе числили почему-то ниже дерьма, постоянно били, «ставили», награждали кличками одна другой позорней. Но теперь, кажется, я понимал насильников.
Баба на полке легла на спину, согнула ноги в коленях, и текучий шелковистый сатин сполз под большой, уже заметный живот, оттененный беловатым кружевом рубашки. Теперь мне открывался весь соблазн ее круглоневыносимых бедер-ягодиц, как-то особенно сладострастно соединенных с цилиндрическими расширяющимися конусами ляжек. Что такое в этих женских ногах? В этих голубых панталонах, которые их обтягивали с вынимающей душу развратностью и вгоняли в одно сосущее желание снять их, снять, с-ня-а-а-ть, стянуть, спустить, опустить до этих нижних резинок, так круто врезавшихся в пухлую, белую, ненасытно манящую женскую плоть?
Сказать, что я по-жи-рал взглядом эту женщину, ее застиранные рейтузы, ее резинки, ее так не согласующееся с животной мощностью выставленного зада, колен и бедер кружевце рубашки — ничего не сказать. Страдал хуже, наверное, чем тот самый Тантал, и, страдая, все-таки впитывал, всасывал, вбирал в себя ее сущность взглядом зэка, изголодавшегося по женщине, исстрадавшегося по ее плоти, запаху, мягкости, круглоте, да еще не просто зэка, а зэка-художника, бредившего этой плотью и десятилетие лишенного хоть какого-то приближения к ней. Попробуйте не есть, не пить, ну хотя бы один день, и может, поймете, какой зной стоял в моей суховейной пустыне.
Да. Попробуйте, вы, кто каждую ночь привычно спит с теплой, насытившей вас своими руками и телом, своими губами, грудями, задом и животом женщиной-женой, попробуйте хоть представить себя без нее, не дома, не в теплой, тихой постели, а далеко, в чужой тайге, в зоне, на твердой, скрипучей вагонке, в промозглом барачном вонючем холоде и еще обреченно знающего, что это не на одну ночь, а неведомо-непонятно на сколько таких ночей… Всем служившим, сидевшим только известна тоска эта, изжога по женщине, ее не заслоняла никакая каторга, мученье на лесоповале, на бревнотаске, погрузке кругляшей-баланов, даже давленные бревнами, снедаемые болезнью и болью доходяги в последние минуты хрипели, уходили с мыслью о ней.
Художнику эти муки в зоне удесятерялись.
А баба на полке, должно быть, видела сон, и сон сладкий. Потому что ее раздвинутые, согнутые в коленях ляжки сладостно раскрывались, клонились в стороны, открывая порыжелое пятно промежности, будто слегка мокроватое и темнеющее, то снова сводились и, подержавшись так, опять начинали свое сладостное расширение.
Я смотрел на все это с возрастающей мукой, ощущая теперь толчки крови в промежности, в набрякшем остолбенелом, в подтянувшейся мошонке… Я был на пределе… На вылете… На изнеможении едва сдерживаемого крика, и вдруг женщина издала пустой, ровно-округлый и освобождающий живот звук, от которого — от него, конечно, все во мне дернулось, затряслось, заныло, засверкало безумным, пульсирующим блеском, который я видел с закрытыми глазами, вцепившись зубами в собственную руку и так удерживая и крик, и стон…
Наверное, на мгновения я потерял сознание от свершающегося, от освобождающей мое тело и толчками утихающей сладости, муки, боли… Лежал так не знаю сколько, чувствовал, все во мне успокаивалось, входило в норму.
А когда открыл глаза, женщина уже спала на боку или притворялась. Подол ее сатинового платья — стыдный занавес моего театра — опущен, и только раздвоенно-округлый холм напоминал о только что пронесшемся грозовом мучении. Холм скрывал от меня ее лицо и его сонное, желанное мне выражение. Раздвоенный холм легонько покачивался. А колеса вторили его качанию. Домой-домой… Домой-домой… Домой-домой..
Глава III. ГОРОД
Город такой долгожданный и будто не тот, не родной. Состарился? Помолодел? Не понять… Тот же вроде вокзал и прежняя сутолока в грязных тоннелях, но будто бы гуще раскоряченная вокзальная жизнь. И на площади уже нет трамвайного кольца, скамеек в мусорных, проплеванных кустах акаций, и самих кустов этих, стриженых, ошка-мелками, где всегда будто копошились шалые вокзальные воробьи, тоже нет. Площадь заасфальтирована. Высокие дома вдоль улицы Свердлова незнакомы. Когда уходил, их не было. Только здание мельзавода, высокое, несуразное, из беленого кирпича, то же. Тревожит память. И подумал: «После «десятки» приходишь, как с того света, не то заново родившийся, не то будто давно умер, а вот воскрес, однако, каким-то чудом опять тут!» С мыслью этой и пошагал пехом, хотелось посмотреть город. До моего дома, барака в улице-одинарке у стадиона «Динамо», кварталов пять.
Можно и трамваем. Быстрее. Да уж такое тепло, солнышко, утро, везде народ, и хочется побыть в нем. Свободным. Все мне пока дико, на все таращусь. Вон мороженое продают! МОРОЖЕНОЕ! Забыл, что оно есть, было… И на меня вроде бы поглядывают с презрением. А сам бы, наверное, довелись, сроду не поглядел. Черный лосненый ватник, сапоги-кирзовики, шапка «зэковка» не по сезону. Еще чемоданишко фанерный, хуже некуда, брякает по боку ненужным замком. И походка моя, наверное, лагерная, воровская, и взгляд прицельный, опасливый никуда не денешь. У всех лагерников в лицах что-то такое, будто печать, еще когда сгладит время, а не сгладит — носи! Вот иду мимо старого, но тогда бывшего новым здания клуба «имени Андреева». Клуб железнодорожников. И школа наша мужская недалеко от него, а здесь, перед маем, когда нас всех взяли, был вечер с девочками из женской железнодорожной школы. Девочки в передничках с белыми крылышками. Вы были как стрекозы-поденки. «Тогда я видел Вас в последний раз!» Как стихи… Все те девочки, кто знал меня, конечно, забыли, давно замужем — да что толку, если бы и помнили? Я никогда уже не смогу на вечере танцевать со школьницей, и рука моя тогда, наверное, из самых робких, не коснется пуговичек на застежках ее передничка или коричневого форменного платья. Почему пуговички на чьей-то девичьей спине остались даже в моем осязании? Иду, как во сне… И боюсь проснуться. ТАМ. Сколько раз так просыпался я, не веря и глуша рыдания. Где я? Почему не дома, а в гнусном этом, пропахшем куревом и вонью сарае? Вздрогнулось. Слава Богу, не сон, на свободе я. Божье веянье ее еще только коснулось меня, а вон уж прицельный взгляд мента, идущего навстречу. «Иди-иди, гад! Свободный я. Справка в кармане». А душу тиснуло.
Домой, что выпустят, не писал. Еще неясно было: вдруг ссылка? Или «до особого распоряжения»… А при усатом и новый срок могли напаять. Про смерть усатого узнали мы не сразу. Узнали только — режим усилился, а думали, опять война. Когда узнали точно — зря радовались, и по «ворошиловской» амнистии ушли только многие урки, воры и «законники». «Пятьдесят восьмой» амнистия почти не коснулась. И теперь вот, идя по городу с гулко стукающим сердцем, я вспоминал рассказы бывалых зэков. «Свободу», ее еще надо выдержать, бывало, смерть настигала и дома, через месяц-другой. «Свобода — она трудная».
Народу в городе прибыло, машин, трамваев-троллейбусов тоже. И женщин! ЖЕНЩИН! В глазах рябило от их плащей, платьев, юбок! Опять засосало голодное нутро, голодные глаза метались от одной к другой. Бабы! И сплошь будто красивые! Спасу нет. Идет вот и прямо крутит задницей: «Тырц-тырц!» Эх ты… И на мужиков будто не глядит. На встречных же мужского пола я не глядел вовсе. Годы потом прошли, а не мог освободиться от отвращения к мужику. И не то что, скажем, к водочно-псовому, табачно-ртовому дыханию, а вообще. В трамваях даже рядом стоять не мог, искал место, чтоб встать с женщиной. И всю жизнь избегал потом разных мужских сборищ, стадионов, курилок и уборных, где сосредоточенно льют, словно пивную пену, держась как-то по-особому, наизворот, за свои тошные обрубки. Знал по лагерю — большинство мужиков болели и сами из-за себя, меньше бы лезли друг другу в задницы.
Еще после зоны ненавижу радио. Им нас воспитывали.
Вот и здание начальной школы, где я учился. Тихий, послушный мальчик, в которых черти водятся. А вот тут жила Салангина, девочка, у которой я подсматривал на лестнице белые и розовые штаны. Школьная лестница — и эти ИХ тайны, голубые, желтые — девочек и учительниц.
А особенно мучила учительница истории — матрона с пышным узлом волос и носом, ближе к Венере. Спокойствие и власть. Походка богини. И черная магия ее ягодиц, волнообразно-равномерно двигающихся под юбкой. О, это движение! Ягодицами она утверждала свою безраздельную власть надо мной, и, как на невидимом шнуре, я волочился за ней целыми переменами. А на уроках не сводил глаз с ее выпуклого, отягчающего черную юбку живота, тяжелых грудей под пушистой кофтой, невыносимых, капризных губ и рук с крупными пальцами, с ногтями, залитыми в красный эмалевый лак. Очень грешно мне мечталось, если бы такой рукой, руками, она только коснулась меня, а если бы (и это грешнейшее из мечтаний!) взяла меня, как может взять женщина, я вряд ли выжил бы от невыносимого счастья. Дело в том, что я «имел» эту учительницу и это она сделала меня мужчиной, первый раз с пробудившейся молочно-медовой болью, пульсирующим изнеможением. Во сне. Я видел ее там снимающей юбку, так же, как делала это моя мать, но видел не мать, а ЕЕ. Мне было десять лет. Рано развившийся мальчик. А художник еще раньше заворочался во мне. Помню, как мать мыла меня в корыте шестилетнего и как удивилась, заметив пробивающиеся волосы там, где они растут у тринадцатилетних. И ни я, ни она не знали, что художник, наверное, и может быть, вложенный в меня миллионами генетических сочетаний (это я пишу и думаю сейчас, а не тогда!), скопленных за миллиарда лет всем животным (растительным тоже?) миром, а может быть, даже и миром кристаллов, и звезд, и туманностей, вспыхнет во мне просто с рождения и тайна жизни, всегда уходящая в любовь, будет мучить меня уже у материнского соска. Сосок этот, однако, оказался без молока, и козы, выкормившие меня, быть может, еще органичнее связали меня со всем живым миром. К нему я чувствовал с детства сладостную, влекущую страсть. Цветок, кошка, ветка черемухи, луна, отверстая щель, а женщина была и казалась всем этим одновременно. В школе и кроме моей дорической богини было еще много, бесконечно много женских воплощений, в каких я постоянно влюблялся, бесконечно влюблялся, желал, хотел, алкал, томился — и как там еще? «Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим…» Это все открыл я без Пушкина, а Пушкин, наверное, открыл, подобно мне. А может, я и Пушкиным тоже когда-то был? И у него была своя, повешенная, как верига, 58-я статья?
Сосны на лесоповале падали в снег с замедленной обреченностью. В падении дерева больше действия, чем в падении человека. Видел, как автоматчики конвоя положили выскочившего из колонны. Зэк просто спятил или решился так закончить срок. Стой!! Автоматы рявкнули. Раз-два… Зэк заорал, закинулся, пробежал так шага три, в снегу дергался, над ним клубились собаки. Дерево падает, как падает небо, опрокидывается Земля. Я часто думал об этом конце Земли… Когда-то же остановится, замедлится она. Опрокинется, как потерявшая равновесие чаша. Выплеснутся куда-то или замерзнут океаны. Льды закроют, раздавят сушу, и она останется вечным спутником Солнца с ямами мертвого женского лица. Опять женского? Да она же этого пола, как и Луна. Ты-ы! Маньяк! Ничего не маньяк! Луну все мы, зэки, разглядывали, все находили желанное, бабье. «На обритую бабу похожа!» — сказал бригадир Кудимов — тогда бригаду за невыполненный план не сняли с задания, ночь тряслись у костра, а луна глядела на нас с потаенной улыбкой Моны Лизы.
О чем думаю?! Домой ведь иду, а мысли не там. Дома меня не ждут и не знают… И хорошо, что не знают… Что я свободный… А Кудимов ведь там и остался, давно, на Ижме… А вот и моя улица, вернее, ведущая к стадиону. Как тополя-то выросли! И даже все стоит так же деревянный высокий, глухой дом. Вверху мезонин без окна на улицу. Странный дом. Здесь жил крепкий, статный, седой старик. Я видел его редко. У старика жил дурачок-водонос и еще красивая молодая деревенская девка. Девка ходила в магазин и никогда ни с кем не разговаривала, как глухонемая. А была полная, статная, с длинной светлой косой. Осенью здесь было много птиц, летали стаями. Дрозды. Зяблики. Щеглы. Зимой снегири и чечетки. Я любил эту улицу. Была лучше нашей Ключевской, мрачной от динамовского забора. Вот она и моя! Моя ли? Она… Только забор стадиона кое-где наклонило. Дальше улица выходила одним краем в заброшенные сады, еще дальше в милое, зеленое луговое болото. Там пасли коров и коз. Стояли редкие обломанные березы. По дальнему краю к мельничным баракам высокие гравюрные тополя. Тут прошло мое детство. Розовые вечера. Над болотом толклись комарики. По озеринкам, затянутым водяными травами, булькали лягушки, плескали караси, бегали водяные пауки. И за нашим бараком был тоже разгороженный заброшенный сад с обломанной сиренью и крапивными зарослями. Забор стадиона будто отгораживал нас от всякой нормальной жизни — там вечно орало радио из рупоров на мачтах и слышался хаосный рев толпы, когда футбол был по субботам. Мы и жили в стадионовском бараке. Вот вижу его крышу. Отец мой на стадионе работал завхозом, а мать техничкой, потом гардеробщицей. Крыша барака ничем не изменилась, только прогнулась вроде да посерела. А еще торчат над ней кое-где антенны. Их не было. Не доходя несколько, остановился. Собраться с духом. Как там дома? Сосало что-то душу и сердце. Достал горький, говенный этот «Прибой» — зэковскую радость, закурил. В три хватка затянулся жадно. Не полегчало. Давнул окурок носком сапога. Пошел.
Отец стоял на крылечке барака. И тоже курил. Маленький, ссохшийся, совсем седой. Белый. Это я его таким сделал. Старое, желтое, нежилое лицо. И все-таки сразу его узнал. Он же мельком взглянул на меня, идущего к крыльцу по усыпанной трамбованным шлаком дорожке, полуотвернулся для последней затяжки. Кинул, хотел идти в полурастворенную черноту барака, но удержался и снова, как спросонья, глянул на меня приблизившегося, стал валиться с хриплым стоном: «С-са-аш-к-а-а?! A-а? А-а?»
Схватил за руки, припал на грудь, стукал сухими кулачками, давясь странными, хныкающими рыданиями: «Сашк-аа… A-а… А-а-а…»
А матери уж давно не было. Годы. Он мне об этом ничего не писал.
Глава IV. УЧЕНИК ЭНГРА
Снова на первом курсе художественного училища. Раньше оно еще называлось совсем пышно: «ваяния и зодчества»! Отсюда меня «взяли», сюда снова прибыл. Зачем-то мне стало нужным вернуться, хотя думал, лагерная школа рисунка и живописи уже заменяла мне целую академию. И какие были «учителя»: главвор Канюков, «кум» Бондаренко, Самуил Яковлевич! «Академия имени Сталина». И все-таки я собрался учиться всерьез. «Художником без школы вы, Саша, можете быть только подмастерьем! Ничво серьезного в таком случае уже не получится! Даже великий Рубенс долго был учеником, учился у итальянцев, Ренуара напрасно считают самоучкой, он держал экзамен в академию, а учился, пусть недолго, у Глейра. А етот Глейр таки ешчо третировал его! Но гению и не нужна длительная работа в чужой мастерской. Ето для бездарей. Гению нужны основы школы, а дальше он учится сам, всю жизнь. Великий Энгр за недолго до смерти копировал картины старых мастеров. Когда же его спросили: «Зачем ВАМ ето?» — таки он ответил: «Чтобы учиться!» Вот так, Саша. Основы художественной грамоты непременны, вы не пытайтесь ето отрицать!» И я не пытался отрицать. Сколь ни схожими с оригиналами были мои «карточки» зэков, сколь ни соблазнительны ягодицы моих воображаемых моделей и грозны лики членов Политбюро, я чувствовал необходимость какой-то ясной теории и практики рисунка, а живописи особенно — такую могло дать лишь серьезное училище, мастер, УЧИТЕЛЬ.
Художественное училище было теперь на новом месте. Из старого, еще дореволюционного здания его без пощады вытеснил сельхозинститут с кукурузой — шла всеобщая хрущевская мания с делением обкомов, совнархозами, ветвистой пшеницей, целиной, развесистой клюквой, интернатами для всех детей и обещанием коммунизма через двадцать лет. Училище «живописи и ваяния» ютилось теперь на верхних складских этажах филармонии, пыльных, темных, век не ремонтированных.
В тесных классах с мелкими антресольными окнами потолки оскаливали желтую, иссохшую дрань. В коридорах с тусклыми лампочками висели не менее тусклые картины выпускников. «Доярки на отдыхе», «Портрет знатного сталевара Королева». Портрет токаря-карусельщика, Героя труда. Это слово «карусельщик» вязло в памяти. Какой он? На чем крутится? И дальше до самых торцовых окон: трактористы, самосвалы, тепловозы, домны. Запах дешевых малярных красок, серые от пыли гипсовые бюсты на постаментах, алебастровые маски. И совсем не верилось, что великое искусство социалистического реализма зарождается здесь и отсюда оно начинает свой путь к «сияющим вершинам». Зато яснее ясного ощущалось (может, только мне?), что здесь та же зона, пусть без колючки, и готовят здесь рабов живописи, послушных холуев и приспособленцев и никак уж не героев, не титанов, тем более не богов. Все набегала, мучила глупая мысль: где и как учился «бог живописи» — Тициан. У кого?
Преподаватели оказались все новые. Кроме одного. Раньше он преподавал перспективу и тогда уже был старичок, сзади похожий на тощенького подростка. Желтые в стороны уши, перевернутая трапеция головенки на тощей с ложбинкой шее, серый в крапинку подростковый пиджачок, черные брючки с манжетами, манжеты уже выходили из моды, и брючки из-за них топорщились, были коротковаты и выше подростковых полуботинок. Но когда «подросток» (и чаще внезапно!) оборачивался, в вас вонзались горящие, с ядом, хоть где-то в глубинах, может, и добрые, глаза фанатика, не признающего ничего, кроме собственных устоявшихся мнений и неоспоримого превосходства над всеми. Вы встречали людей, считающих себя главными на земле? Это как раз один из них. К тому же теперь старичок был еще и директором училища.
К нему меня и направил завуч, молодой художник — типичный кагебешник и стукач, — на них у меня нюх, никогда не промахнусь.
Директор принял меня сидя в огромном кресле, под портретом явно позирующего, уставленного в газету Ильича. Долго мял, листал, разглядывал мои справки. Узнать меня он, конечно, не узнал. Зачем? А вдруг и правда не помнил?
— Шты ж ты тэк? Пратив саветскый власти пыпер? Мы-ладой, штоль, был? Глупый?
Осталось принять вид покорного власти громовержца. Весь вид мой подтверждал: молодой, глупый. «Побеждай гордого мольбой». Так в свое время победил я и страшного опера Бондаренко. Все в жизни годится.
— Я вам и экзамен по перспективе сдавал тогда. Пятерку получил.
— Ты? Питерку? — старичок вроде теплел. — Ну, што с тыбой сделаешь… Пыступай. Рыз так пылучилось… Ды смы-три… Штабы ничего такого! Скыжи там… ПРИКАЗЫВАЮ принять!
И снова вошел я в тоскливую муку тушевания гипсов, разбивки орнаментов, «лепки» форм и фигур. Цилиндр. Куб. Шар. Детали гипсовых капителей. Тени. Полутени. Блики, вынимаемые хлебным мякишем. Антиной с развратными губами удовлетворенного гомосека. Давид, прекрасный член которого любая женщина впивала, наверное, как мечту. Непроницаемо-гетерное лицо Венеры, и торс ее с какой-то женской слабостью в ягодицах. Женоподобные Аполлоны, мужланистые Зевсы и Гераклы. И налитое всеми соками бессмысленное лицо Помоны. Кто там еще? Мы (я) тушевал и тушевал эти античные головы и бюсты. Кто лучше? Кто хуже? Хуже, кажется, было у способных, лучше у старательных, трудолюбивых бездарей. Это кто-то из них создал теорию: терпение — и есть талант! В мире художников — позднее я это хорошо усвоил — есть особый сорт, трудолюбивый трутень. Трутни-художники вовсе не бездельники. Трутни вдохновенны и элегантны. Трутни и в улье крупнее обычных рабочих пчел. Трутни всегда полны замыслов и спермы. Они любят позировать в мастерских для журналов, давать интервью и оплодотворять деревенских девушек-моделей. Трутни загодя пишут полотна к зональным выставкам. И всегда эпохальные: «Ходоки у Ленина», «Ленин-вождь», «Рабочая династия», «Честь труду», «Слава Октябрю», «Праздник Первомая на Красной площади». Сколько еще радостной, старательной ярко-политурной мазни создали трутни. Мазни? Не скажите! У трутня все сработано по канонам. Он мастеровит. К нему не прикопаешься. Ни шагу от законов рисунка и перспективы. И какие краски!
Будущие трутни выделялись уже на первом курсе. Владя, высоко носивший свою гордую, с залысинами и уже заранее тщеславную голову. Отнюдь не мальчишка, мнящий себя гением. Готовый гений, знающий все высшие истины. Мелочь глядела ему в рот, изрекающий медленные неоспоримые истины этого странного дела — ЖИВОПИСИ. Семенов был «западником», опирался на парнасцев, и, как сейчас, слышу его медленный гордый голос: «Гоген говорил: живопись проста, и нечего придумывать: видишь синее — пиши синим, видишь желтое — пиши желтым!» Другой трутень, Лебединский, являл собой погруженное в дремучую бороду лицо Фавна. Из бороды, как облизанные леденцы, торчали яркие, неприличные губы. Этот был русофилом, народником, слышно было, собирал иконы, кресты и складни, а в спорах всякий раз козырял Репиным, Васнецовым, Саврасовым. До училища еще он писал картины: «Седой Урал», «Ермак на Иртыше», «Гора Думная» (по сказам Бажова), считался уже готовым художником и кандидатом на преподавательскую вакансию. И еще был Замошкин — хилое с виду, но ужас пронырливое создание с ежиным профилем, клейкие волосики назад, въедливое, нюхающее и нахальное. Если первые трутни были всяк по-своему величавы, медлительны, Замошкин поражал невероятной подвижностью — всюду лез, юлил, хамил, лебезил, где сойдет, наглел, протискивался — и результат — везде был в фаворе, в известности, чуть ли не в славе. Его картины: «Воскресный день» (с Лениным!), «Свердлов на трибуне» — висели в вестибюле филармонии. Были куплены! — невероятный случай для студента-первокурсника!
Троица трутней с первых дней моего появления противостояла мне. Они были тут законодатели, а я, хоть и немногим взрослее (каждый из трутней где-то уже поработал в художниках), был для них «лагерник», примитив-недоучка, вообще неуч, особенно для Семенова, потому что не прочел бездну книг, и для Лебединского, что знал акафисты всех отцов-академиков Серовых и Репиных, Поленовых и Айвазовских. А для идейного Замошкина я просто был «зэк», пария, неприкасаемый. Замошкин смотрел на меня как на временно выпущенного. И точно так же сторонились не только вожди курса, а пожалуй, и все однокурсники — вчерашняя зелень, школьники. Я был среди них как волк в стае дворняжек. А особенно опасливо глядели на меня немногие наши девочки-художницы, внимания которых я не то чтобы жаждал, но все-таки желал и хотел.
Девочек на курсе всего четверо, и все художницы, так сказать, по наследству: у одной художник папа, у другой дед, у третьей — оба родителя. Четвертая, рыже-гнедая, долговолосая и по-лошадиному могучая самка, в училище явно искала мужа, богатого мальчика, — таких на курсе вроде не было, и скоро она исчезла так же непонятно, как появилась, оставив по себе рыже-гнедое, кобылозадое (извините) воспоминание. Лошадь ведь сексуальна в мужском восприятии. Что стоит одна ее грива! Корова — нет. Хотя корова, быть может, воплощенное женское терпение. Все потомственные художницы были с комплексами — так они сами культурно изъяснялись, — все курили, каждая прошла школу довольно хорошую: раннее развитие-созревание, располагающая среда, лобзания с подругами, ранние генитальные радости, первый мальчик в тринадцать-четырнадцать, первая нечаянная беременность, аборт, слезы, искушение зрелой лесбиянкой, мечты о прочном замужестве и плохие надежды на него, и мастерские, мастерские, мастерские художников и художниц, свои пачковитые опыты — восхищение седовласых импотентов.
Теперь я пишу воспоминания и могу назвать нечто тем языком, каким не владел, конечно, когда учился, точно так, как волосы мои, теперь с проседью, но в общем, нормальные, тогда никак не могли дорасти до длины, чтоб зэковское прошлое перестало явно обозначаться, а с лица не сходило выражение той замкнутости в себе, какая наглухо отгораживала меня и от заносчивых трутней, и от сокурсниц-малолеток, от девочек, по которым ныла моя иссохшая без женщины душа. Едва я, стараясь изобразить самое дружеское внимание, подходил к их мольбертам, хуже, чем испуганно, ложились на меня взгляды, губки приоткрывались опасливо, потом дева овладевала собой, но глухая отчужденность все равно разделяла нас, как морозное стекло. Меньше всех дичилась та гнедая лошадь, что искала в училище удачного замужества, но она была ясная, откровенная хамка и сука, которая никого, никогда не стеснялась, а меня просто не брала в свой ясный расчет. Девочки-художницы! Как ни слабо разбирался я в теории живописи, оснащенный лишь лагерными библиотечными книгами и философствованиями Самуила Яковлевича, я все-таки понимал, что цветистые ваши старания говорят о полной всеобщей бездарности. Женщина-живописец? Художник? Великий? Кто? Где? Когда? Остроумова-Лебедева? Или Мухина? Кстати уж, замечательная фамилия! Но вот напишу крамолу, что, если женщина — художник, она, видимо, не женщина. Если уж художница, то не художник. Это я объяснил себе после потом и затем, а тогда только чувствовал. Кстати, я не хочу женщину унизить. Просто мне кажется, либидо ее и ее экзистенция (это я пишу теперь!) сотворены и направлены не туда, куда гонит одержимый художник-мужчина. Ева предложила Адаму яблоко с дьявольского древа познания. Но яблоком Ева была и сама. И ах, либидо женщины, его втягивающие, бесконечные, ненасытные густеющие глубины! Женщина недаром состоит из ангельской призывной тишины. Омут на рассветной реке — нырни — и затянут в его невидные вращающие вихри. Они подобны и аналогичны той странной СУЩНОСТИ, куда падают и где пропадают бесследно НЕВЕДОМЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ. Инь всегда поглощает Янь. Вода гасит огонь. Что же сильнее?
Просыпаюсь от воспоминаний. Я стою у мольберта, где трудится, стараясь не обращать на меня внимания, прилежная девочка-костянка с лицом, еще хранящим в угловатых скулах и раскосых (немного) глазах полурастворенную уже невинность, полупотерянный газелий страх. Она еще лучше других, у нее я еще иногда читаю в глазах подобие зеленого сострадания, чего уж никак не нахожу у другой художницы, пыхтящей за своим картоном бесформенной клумбы, всегда в чем-то ярко-бездарно вязаном — огромный берет, кофта, платья. Такие девушки без конца сами вяжут. Полумужское лицо, намек прежнего иного существования. Сальные волосы. Виски в малиновых прыщах. Щеки кухарки. А губы, вывернутые рыбьи, присосные, великой и тайной сладострастницы! В перерывах она курит у лестницы, уставя в стену и мимо взгляд мутно-синей болотной голубики. Ягоду эту дикую и странную я знал по Ижме. Даже латинское ее название какой-то ученый зэк называл — гонобобель. Противное название, латынь на русский слух часто омерзительна. А зэки звали дурника, пьяника. От съеденной на голодное кружило голову, ломило в висках.
И третья дева с личиком, если не вглядеться пристально, как бы красивенькая, тонкая, ровненькая. Та, у которой папа и мама художники. Во всем обличье поколениями отстоянная культурность. Но, приглядевшись к этой культуре, замечаешь мелкую, пустенькую душу, замешанную на амбициях домашней спеси. Опять вспоминаю: их звали как будто Маша, Оля и, кажется, Люда, Людмила. Я встречал ее даже чаще других, кормилась художницей, оформителем при издательствах, часто выходила замуж и так же часто разводилась.
О девочках сказал-вспомнил потому, что не только сам, прошедший искус лагерным голодом и по-прежнему, а то и мучительнее снедаемый им от каждой юбки-резинки, смотрел, и все однокурсники, молодые полумужики, юнцы и парни, тоже смотрели на девочек, как смотрят на хлеб вечно недоедающие, вечно лишенные его в сытом избытке. И вообще, сомневаюсь я, есть ли сытые этим в избытке ХУДОЖНИКИ. Кто там: Герасимов? Юон? Иогансон? Кто написал: «Ленин на III съезде»? Или еще на каком? Если вы сыты женщиной и славой — помните: вы не художники! Главное свойство художника — вечный, неутолимый голод по НЕЙ. Слышите, Герасимовы, Серовы, Иогансоны? ГОЛОД!
Не надо лозунгов, молодой человек! Если вы сексуальный маньяк, так отнесите это к себе и не мешайте жить и работать нормальным людям! Суньте свою морду туда, куда хотите, и сидите там. Больше вам ничего не надо? Врете. Вам надо еще хлеба, сначала его, хлеба, а хлеб зарабатывают трудом. И «Утро нашей Родины» написано для хлеба. У Герасимова же, между прочим, есть отличная работа «Женская баня». Какие там толстые, здоровенные бабы моются, обливаются из шаек, зажмурив глаза! Невидимый критик все время влезал в мои раздумья. А я думал о женщине и женщинах постоянно, подчас пугаясь этого своего состояния, страдая от него и не желая избавляться. Да и не избавишься никак, если это в тебе и ЭТО есть ТЫ.
Склоняясь к мольбертам, прилежно рисовали, смахивали уголь тряпкой, снимали хлебным мякишем. Подходили смотреть. Как и у кого? И без зазрения совести судили. И я сравнивал. У всех вроде, особенно у трутней, было лучше. Рисовал я, должно быть, отчаянно плохо, нехотя, мне хотелось-мечталось дорваться до красок, и однажды я даже пожаловался на это.
Рисунок вел художник Болотников. Размеренный, спокойный, опрятный, иной раз даже в бархатном пиджаке. Доброе, немецкого склада лицо потомственного интеллигента, еще не старый, но опять же потомственно лысый — точнее, лысина его была вся покрыта нежным светловатым пушком, и, может быть, именно она, эта лысина, вместе с головой красивой, правильной, культурной формы, хорошим взглядом чуть опущенных в углах глаз и умными нервными руками давали Болотникову выгодное отличие от прочих наших наставников с их винными, дурной выпечки лицами и манерами записных бубновых гуляк, трепачей и компанейщиков. Художники — народ веселый. Были среди наставников и двое-трое уж совсем откровенных пьяниц-«политурщиков», лихо надирающихся в своих мастерских вдали от гневливых жен и диктаторши-тещи.
Болотников казался аристократом, а лучше сказать, им был. Позднее я думал: всем нам, и может быть, мне особенно, повезло, что преподавал именно он и вел не только рисунок, но и живопись.
Испытывая к нему доверие, пожаловался: рисунок не терплю, надоело, — к живописи стремлюсь.
— Это все равно что строить дом с крыши, — ответил он, усмехаясь чуть-чуть глазами, но как-то приятно, не обижающе. Вот так и доктор может лечить, не заставляя страдать. — Рисунок надо делать точно, сразу, без всяких этих резинок-подтирок. Простите… Рисунком воспитывайте свою руку. Смелость! Твердость! Взмах! Четкость! Красота! Ритмика! Этого пока у вас нет. Вы, чувствуется, много рисовали, но неграмотно. В вас есть умелец, а живописи нужен рисовальщик-профессионал. И в живописи нужна четкость. Живопись, если угодно, мозаика! Мозаика четких тонов. Будете зализывать — получите мыло. Грязь. Когда рисунок не твердый, вы его боитесь! А надо рисунком по-ве-ле-вать! Запомните: рисунок — это три четверти живописи! Так учил Энгр. А Энгра в рисунке и в живописи никто не перерос! Не Тициан, Энгр был богом живописи! Руку набивайте все время. Чертите, гоните линии, круги, дуги. Рука должна быть смелой до дерзости! И особенно в дугах и окружностях. Ничего нет прямого. Даже пространство искривлено, а параллельные прямые пересекаются. Дуги! Дуги! Окружность есть самое совершенное выражение дуги. Посмотрите на женщину. Она совершенство природы и вся состоит из окружностей и дуг!
Болотникова было приятно слушать, уча, он не снисходил, но открывал истины. Других преподавателей мы, если честно, сплошь числили в бездарях, кустарях, мазилах.
Так минул год моего возвращения в училище, в течение которого я вырастал сам из себя, из шкуры зэка, которая снималась медленно, по мере того, как отрастали волосы, сходил неизбывный вроде и будто копченый, масляный загар, лагерная, тюремная чернота, накипь, что въелась как будто во все мои поры, проникла в дыхание, во взгляд, в походку, и теперь я ее выкашливал, отхаркивал (простите), смывал в банях, пытался смыть с души. Сходило тяжело, помогали учеба, свобода, старание и книги. Их жадно накупал на все свободные деньги, таскал пачками из библиотек. К рисунку с легкой руки Болотникова и поучений Энгра стал относиться куда серьезнее. Книгу Энгра откопал у букинистов — жадно схватил. Теперь было с кем советоваться. Энгр был со мной. Энгр прав всегда. Читал:
«Когда хорошо знаешь свое дело, когда действительно научишься подражать природе, самое главное для хорошего живописца — продумать свою картину в целом, полностью иметь ее, если можно так выразиться, в голове, чтобы затем выполнять ее с жаром и как бы одним взмахом. Тогда, я думаю, все будет проникнуто единством. Вот каково свойство мастера, вот чего, думая день и ночь о своем искусстве, нужно достичь, если ты родился художником. Огромное количество творений прежних времен, выполненных одним человеком, доказывает, что приходит момент, когда гениальный художник чувствует себя как бы подхваченным своими собственными силами и создает то, что ранее он не считал возможным сделать».
Казалось, что это написал я. Я просто боготворил Энгра. Завел тетрадь и потихоньку списывал его изречения, всякий раз поражаясь их созвучию моим мыслям:
«Изучайте прекрасное только стоя на коленях!»
«Только плача можно прийти к совершенству!»
«Кто не страдает, тот не верит».
«Все переносить стойко, работать для того, чтобы нравиться сначала себе, а затем лишь немногим — вот задача художника, искусство не только профессия, но и служение. Все стойкие усилия рано или поздно вознаграждаются. Я тоже буду вознагражден: после многих мрачных дней придет свет».
«Рисунок содержит в себе все, кроме цвета».
Здесь я не соглашался с Энгром, мне казалось или начинало так казаться, что рисунок содержит даже и цвет. Лучший рисунок!
«Надо рисовать беспрестанно, рисовать глазами, когда нет возможности рисовать карандашом!»
Не с Энгровой ли подачи я постепенно полюбил рисунок. Сначала понял, потом проникся. А может, отбили меня от рисунка те «карточки». И все вернул Болотников, заставив поверить в рисунок.
Все смелее крутил карандаш и уголь, все решительнее, отчаяннее старался подчинить себе натуру. И она начала поддаваться. Шли месяцы, и уже не с ненавистью, как бывало, не с ленивой небрежностью, нерадивой старательностью выполнял я задания, делал наброски и зарисовки. Иногда, будто снайпер по мишени, я кидал стремительную очередь линий. Не всегда получалось, но когда попадал, чувствовал будто прилив иной и высшей силы. Ощущение невесомости. Болотников по-прежнему мне радел. Пожалуй, его внимание и заставляло меня стараться. И все-таки рутина училищной жизни, нафталинных правил, сточертелых натюрмортов, которые я давно перерос, выводили из себя. Яблоки. Луковицы. Консервные банки. Медный до кислоты во рту самовар, тряпки-драпировки, пережившие десяток поколений, вылинявшие от наших пристальных взглядов. Господи, что еще? Я стал, кажется, ненавидеть этот жанр. Натюрморт. Природу мертвую. И даже вроде бы радостные сирени, черемухи, подснежники, винограды-арбузы уже удручали своим затасканным однообразием. Я никогда не соблазнялся писать, даже ради рублей, натюрморты для столовых, как сплошь писали их наши великие трутни. Да вы видели их творения, непременно с разрезанным арбузом, с дыней, синим кишмишем, ну еще стаканом чая с лимоном. И лимон тут же, долька его, и ножик. Видели? Это кто-то из них написал.
Глава V. БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ НАТЮРМОРТ
По натюрморту надо было зачетную работу, и это загодя расстраивало меня. Домашнее творческое задание. Конечно, скомпоновать несложный натюрморт я мог без натуги. Чего там? Корзинку с грибами… Селедку с пивком… Безыдейно, однако, наверное, прошло бы. А натюрморт еще желательно было «идейный». Не просто чайник на синей скатерти. Ну и сирени, букеты. Это как бы резерв для творчества девочек. Куда букеты потом? Худшие за шкафы, лучшие в училищные запасники-кладовые, где и века пролежат изгрызенные крысами картонки. Что думать-то? Катай!
А хотелось неслыханного-невиданного. Женщину хотелось втолкнуть в натюрморт. А как? Нарушение жанра? Мертвая природа! Лопух какой-то изобрел сей термин. В мертвецкой, что ли, женщину писать, да и такое уж было. Писали какие-то некрофилы, и Рембрандт даже писал. Нет, не хотел я таких натюрмортов. Мучился, не начинал, мысли бродили, как брага в бутыли, пока не пришло, может, все от той же тоски. От женщины… Вспомнил, как дикими северными ночами на Ижме — в полдни уже синело, светало не знай когда, — ночами после отбоя или еще в пургу бараки лежали сутками закрытые от побегов и в столовую без вывода, одна хлебная пайка по раздаче, как в кондее, травили душу сказками о воле, и что зэку хотелось, лезло на язык. «Ссяс бы, фраера, вин-са сладкого буты-лоську… Дда бабу бы-ы. Пил бы и не слезал с ие всю нось. Хоть бы с шалавы какой, не то что с мягкой…» — «Шалавы еще лучше жарятся! Уммелые..» — «Ой мля-а-а-а..» — «Когда же будет-то? Не дожить..» — «А ты дрыхни, ссука, вот тебе и будет ссяс-пожалуста… Д-дяя, знаем, сто такое сса-вет-ская власть!» — «Фрайера, не травите душу, падлы! Лежи, шу-руйся!» — не унимались. «Бутылку. Бабу бы. Штаны с нее стянуть. Штаны… Бабьи! Сожрал бы, ссуки, вот! У-у-у…»
Решился. Натюрморт напишу, каких никто не рискнет. Вот она, зэковская радость и мечта! Да зэковская ли только? В казармах, экспедициях, на судах и в ссылках сколько одиноких, обездоленных парней, мужиков, да и девок-баб, которые ТАК живут. Голодные. О том же мечтают. Мало, что на воле. Вот и я ведь теперь вольный. Напишу натюрморт. Освещение — свеча, столик, а можно и табуретка, женские эти грешные и сладкие штаны, бутылка на них початая, недопитая. Что еще? Конфеты, что ли, рассыпанные? Нет. Яблоко надо, не просто яблоко, а надкушенное. Яблоком Ева соблазнила Адама. И все. А название? «Мечта зэка»? Грубо, пошло. «Мечта»? Нет. А назову просто: «Радость». Вот пришли в комнату, в его, в ее. Обнялись. Выпили. Разделись. И кто там кого соблазнил? Он ее? Она его? Не все равно..
Будет натюрморт! Так заело этой находкой. Места не знал. А начал с того: обнаружилось — для натюрморта ничего такого не было. Вина я не пил, и отец им не баловался. Ни бутылки. Ни яблок, конечно. Ни этих самых женских, голубых, с резинками — тогда такие только и носили, были в моде. Один подсвечник старый бронзовый, знал, есть, стоит на полке в чулане. Он так и стоял там все эти годы, будто ждал. Вот точно: продержи ненужную вещь семь лет, она тебе обязательно пригодится! Отмыть-вычистить, и вполне в дело пойдет. Свечу же надо оплавить до половины. До половины…
Да, натюрморт получится отменный. Штаны надо только найти шелковые, мерцающие, переливающиеся как бы. И яблоко — не просто яблоко, а подогнать по тону, контрасту, не красное, красное с голубым не сочетается — желтое надо такое, спелое, но с зеленцой чуть-чуть и с белой вверху, беловатой, точнее, нежной и круглой вдавлинкой словно. На живот женский, пупок намекающей… В-в! А с вином — бутылку. Не изысканную, конечно, портвейн там… Сладкое чтобы, темное и не самое, конечно, дерьмо.
Писать придется тайно от отца. Увидит — осудит. Отец был всегда человек правильный, не приверженный ни к какому искусству, тем более вольнодумству. Бывала у меня смешная мысль: «Как я от него родился? От него ли?» Не презирал, удивлялся. От матери, что ли, это у меня? Но мать уже как-то слабо помнил. Только по фотографиям. Забирали — она была еще не старая. И никакой художницей она… Работала она на стадионе техничкой и кастеляншей.
Штаны для натюрморта искал терпеливо и настойчиво, заходя во все отделы женского белья. Отделы были приятны мне и стыдны одновременно. Мужчин в них почти не было или было не густо. И продавщицы, опытные, умудренные половой жизнью бабы, облизывая крашеные отверстия губ, складывали их развратной трубочкой, следя и прикидывая, что ты за мужик, какой силы, каких денег (это уж потом, позднее много пришло — женщина всегда оценивает мужчину в рублях, мужчина женщину гораздо реже, разве лишь потаскуху) и кому выбираешь этот нежный, резиночный тайно-розовый, белый, голубой товар. Жене? Любовнице? Матери? Конечно же, чаще они сходились на мысли о любовнице. ЛЮ-БОВ-НИ-ЦЕ! И какая она у тебя — тайная жена, и что любит, и велика ли в бедрах, объемах, красивая или так себе (и это по тебе определяют), ладно, если не дурнушка, да еще хапуга и дерьмо в придачу. Женщины женщин не щадят. Оценивают неправедно. Все было в чуть насмешливых глазах продавщиц таких отделов, даже плохо спрятанная мысль: есть, мол, среди вас, мужчин, и такие, совсем сдвинутые, у кого и женщины никакой нет, а штаны покупают, кладут в свою одинокую постель, или сами, бывает, балуясь, носите. Словом, любя заходить в «Женское белье», я всегда преодолевал мающее душу чувство стесненности. А впрочем, во взглядах тех же продавщиц ловил, бывало, и нечто вроде зависти — вот, мол, мужик, значит, любит свою женщину, раз ходит, выбирает подарки.
Наконец я нашел то, что искал в самом прозаическом, пошлом месте, магазине железнодорожников у вокзала. Под стеклом витрины лежали замечательные, плотного вискозного шелка с перламутровым даже переливом нежно-голубые панталоны. Хотел купить двои, разных размеров, — оказались одни, те, что в витрине, и безобразно разленившаяся продавщица не без сожаления, кажется, отдала их мне, сунув покупку и не завернув.
Теперь надо было найти яблоко, и тем же ходом я отправился на базар, спустя полчаса, уже окунулся в его галдящую, пахучую сутолоку с пирамидами желто-красных плодов и присваивающими взглядами черноусых масленых продавцов.
— Яблук! Яблук! Ха-рощий! Сы-вежий! Бэри! Пы-робуй!
Подобрал несколько крупных яблок и все время мучительно прикидывал: каким все-таки Ева соблазнила Адама? Желтым? Нет. Красным? Вряд ли. Не желтым и не красным а каким-то ИНЫМ. Я искал, видимо, не только цвет-форму, — еще что-то такое, что-то тайно-жене кое, сладко-запретное, скрытое в этих плодах. Что-то от женского живота, запаха, влияния, терпения, очарования, плодоношения. Дьявол или Бог не зря создали-создавали эти плоды: яблоки, персики, абрикосы, лимоны — и недаром их так любят женщины… И, обойдя весь павильон раза на три, я НАШЕЛ! Розовато-желтое с нежным румяным переливом, стыдливое и опасное своими овалами, то самое, самое то. Оно глядело на меня девственной девичьей щекой-ланитой, ожидающе-манящим животом с втянутой в глубину совершеннейшей ямкой-пупком.
Я так испугался, что яблоко куда-то вдруг денется, что сам взял его и положил на весы.
— Чэво адын яблук берешь? Бэри болше! Свэшать эшчо? — презрительно цокал челавэк.
Но я взял одно. Только это! Торопливо отдал деньги и ушел под презрительное причмокивание. Знал бы ты, дурак, какое яблоко я у тебя унес.
Дома разложил яблоки на столе. Да. Первые были обыкновенные яблоки, — съел, сгрыз до основания, огрызок выбросил. То же, что купил напоследок, и тут гляделось райским запретным плодом.
И не захотелось ждать. Решил немедленно писать натюрморт. Все расстановки и размещения его предметов не составляли труда. Я давно сложил их в своем жадном сознании. Вот. Панталоны брошены на столик. Они свешиваются с него и придавлены недопитой бутылкой. На них яблоко. А в отдалении свеча. Свеча? Свеча? Зачем? Не надо никакой свечи. И никакого подсвечника не надо! Потому что — заданность! Тошность. Красивая картинность. Не надо ничего. И драпировок тоже. Надо просто такое освещение, как от Луны. Или поздний вечер. А драпировка нужна натюрморту учебному, избитому. Здесь в картине драпировка тоже пошлость, ненужность, искусственность. И — женщина невидимая здесь во всем!
Теперь надкусить яблоко. Я взял его, прохладное и тяжелое, предварительно вымытое, вытертое и благоухающее, и представил руку, которая мне его протянула. Белую, исполненную блаженства и благородства, полную и чувственную руку Евы. И я в самом деле откусил его так, будто подала самая совершенная на Земле. Я видел эту женщину: круглобедрую, ласковую, белотелую, полногрудую, с распущенными по плечам волосами, с зовущей глубиной пупка на выдающемся вперед плотском и млеющем животе, с негустым и, скорее, девичьим мыском волос на приподнятой и двоящейся междуножной ложбине.
Женщина. Ева. Стояла передо мной в темноте. Она протянула мне это яблоко. От нее я вкусил запретного плода, вкусил, чтобы написать это на моей картине.
Рисовал натюрморт, делал подмалевок совсем не так, как учили. УЧИЛИ! А это все словно и осталось ТАМ, нигде не понадобилось: самовары, чашки, луковицы, селедки, ломти хлеба и кринки, солоницы и полотенца. Все там — старанья раба, подмастерья, постоянно сознающего свою зависимость от учителя. До времени я и быт таким учеником-рабом: пиши только так и думать не моги писать иначе! Якобы законы и якобы непреложные. И будто бы Богом данные законы рисунка и живописи. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА. Их вдалбливали все преподаватели, исключая разве лишь Болотникова, и мы знали их на зуб. Писать жизнь в ее «революционном развитии», воспевать самый передовой рабочий класс. Можно еще домны, тепловозы, тракторы. Можно героев великих строек и пятилеток, сталеваров, ткачих, председателей колхозов и больших начальников (кроме членов Политбюро и Владимира Ильича). Их писать нам запрещалось. Х-о! В зоне было можно. И сколько я их там написал. Женщину в зоне, в общем, тоже было можно. Писал копии для майора в первом лагере, для дубины-подполковника во втором. И в третьем получал заказы от начальства на такой. Рисовал «баб» для зэков и для себя. Там женщина, пожалуй, кормила, платили хлебом. В училище живописи и ваяния можно было писать не женщину, а только стахановку, передовую доярку, свинарку, врачиху, или медсестру с пробирками, или старую учительницу с орденом — деревянелую святошу. Спортсменок еще можно было. Ставили в пример ДЕЙНЕКУ! С его красочными плакатными муляжами.
Не знаю, как смотрели наши преподаватели на Венеру Милосскую. Но если нам, учащимся, все-таки и полагалось тушевать ее уравновешенные, не слишком выпуклые прелести, учителя как бы следили, чтоб и Венера на учебных рисунках гляделась как можно гипсовее.
Словом, я писал свой зачетный натюрморт как одержимый, нашедший наконец никем не реализованную идею.
Был пленен, потрясен, обрадован. Я решил для себя, кажется, главную задачу художника: писать истину в любом ее приближении и одновременно с тем, как я решал все в рисунке, раскладывал-намечал тени, уравновешивал и продумывал тона подмалевка, во мне, как в каком-то кипящем сосуде, поднималась злость на училище, на моих горе-наставников, на то, сколько без нужды и толка изведено красок, истерто кистей, испорчено картонов, покрыто этими тошнотворными сиренями, которые, как ни писали их прилежно, не становились ни пахучими, ни прекрасными в своих зануделых вазах, как не станут открытием и радостным откровением колосья с васильками, прилавки и подносы с виноградными гроздьями. Наверное, этого не убереглись и величайшие, раз не ушли от традиций. Пора поклонения пище, когда господствовали над миром ее певцы Йордане и Снайдере, когда окорока, битые гуси, индюки, рыбы, вино в бокалах и все другие земные плоды ломились из рам, пленяя гурманов и просто плотских обжор, прошла через столетия и в наших социалистических условиях, выродилась в тусклое изобилие колхозных рынков, совхозных свадеб. Натюрморт облинял, потерял свою радость. Его писали уже не Снайдерсы, а прилежные мастеровые, наподобие наших гениев Семенова и Замош-кина, им украшали теперь не стены гостиных, а панели харчевен и бань. Социалистическому натюрморту будто и не полагалось разжигать аппетиты, ласкать и лелеять вкусовые нервы. Он просто должен был славить подразумеваемое изобилие.
Мой натюрморт во всех отношениях был безнравственным и безыдейным. К какому наслаждению он звал? Какие должен был рождать мысли и образы? Грешные? Грешнейшие? Или даже непристойные?
Зато как писался! Рисунок я подготовил с железной убежденностью: только так может быть построена композиция! Все вещи-предметы организованы в высшем порядке. Закрепил отрисованное настоящим фиксативом. Теперь за кисти! И вот я впервые любовался своим рисунком! Мой рисунок нравился МНЕ! Он поразил меня своей свободной откровенностью. Обычно мне нравились рисунки других. И мысли, унижающие мысли о собственной бездарности, жгли-грызли душу. А тут я поспорил бы и с лучшим рисовальщиком мира. С самим Энгром! А когда закончил раскладку тонов, теней и полутеней, нашел колорит и фон и все опять закрепил жидким впротирку подмалевком — не стал вспугивать торжества. Меня бил озноб будущей удачи.
Я вытер кисти, снял палитру и пошел прогуляться на улицу набережной. Эта набережная и в детстве звала-манила меня и успокаивала почему-то. Здесь я катался когда-то на самодельном подшипниковом самокате, здесь любовался тайком на девочек, здесь подростком бродил вечерами, с угрюмым голодом поглядывая на попки взрослых девушек и ягодицы женщин в ярких крепдешинах. И свои первые акварельные попытки начал здесь, все пытаясь схватить широкие закаты над набережными и далями.
Весенний вечер вершил над кроткой, едва колеблемой водой свое спокойное торжество. Запоздалые чайки, мерно взмахивая, летели от заката к ночи, и чистым кобальтом синел вдали трамвайный мост. Крохотные беззвучные трамвайчики пробегали там, скрываясь за громаду замка-элеватора, громоздившего свои круглые высокие бастионы на правом берегу. Вечер был в тон моему настроению спокойного торжества. Так впервые было со мной, наверное, после гнетущей и до сих пор лагерной скованности, ощущения своей неустроенности и беспомощности. Несвобода еще давила мне спину каменными глыбами, еще лагерной проволокой стояла вблизи, и вот сейчас я наконец почувствовал счастливую, спасительную для души свободу и словно ее самый вкус с запахом спокойной реки и, быть может, близких летних дождей. Веяло с севера или с заката, отраженного в воде вместе с первыми дрожащими огоньками.
Вдоль набережной по гранитным столбикам, меж чугунными решетками стояли опять же памятные по детским дням гипсовые статуи: спортсмен-атлет в неприлично обтянутых плавках, летчик в комбинезоне, еще дальше, у спуска к воде, громадный шахтер с лицом Стаханова и всех стахановцев, с отбойным молотком, упертым в пьедестал, и в пару ему, на другом пьедестале, гигантская колхозница с бараном, которого она держала за рога. Великанша и шахтер были даже очень неплохо сработаны и как-то сочетались в своем грубом монументализме, не вызывая никаких других мыслей, чего нельзя было сказать еще об одной скульптуре, всегда занимавшей мое отроческое воображение: еще на одном столбе-постаменте девушка откинулась назад в броске с мячом. Здесь неизвестный скульптор явно пытался прорвать навязанный ему канон благопристойности и, несмотря на всю спортивность сюжета, создал такую обнаженную, что не один я, мальчишка, страдал тайной влюбленностью, проходя мимо, замедляя шаг, чтоб погладить взглядом ее круглости и закинутые, вздыбленные груди. Скульптура и теперь стояла на прежнем постаменте неподалеку. За годы моего заключения дожди и ветры испортили непрочный бетон (или гипс?). Бедра девушки покрыло трещинами, статуя почернела, стала грязно-серой. Но сейчас в сгущающемся сумраке я снова вспоминал детство, влюбленно смотрел на нее. Она дополняла мое освобождение.
Вернусь к натюрморту. Сказать, что я рисовал его, ничего не сказать, писал, в общем, тоже. Я лелеял его кистью, я жаждал его воплощения, я хотел увидеть его таким совершенным, как, может быть, хотят увидеть в юности (в детстве?) прекрасную, раздевшуюся в соседней комнате женщину, которая никогда не будет твоей (моей?) и так запретна, недоступна, немыслима, как горькая горь. Я и вправду страдал по той неведомой Еве, которая сначала, м-м, сняла свои прекрасные панталоны, а потом дала мне вкусить своего запретного плода. Тайного, невыносимого. Что из того, что ее не было на картине, — незримо она присутствовала, и яблоко дразнило своим свежим откусом, и каждый зритель — я тоже! — должен был чувствовать эту женщину и представлять, что было там. ТАМ! Иначе картина моя так и осталась бы натюрмортом.
Как я старался оживить его! Как искал краски фона, тени, рефлексы, переливы, небрежно и, может быть, второпях, а может быть, со знанием дела снятого, сброшенного, стянутого с тугого, обнажившегося торса вискозного шелка! Как искал отражение розово-желтого яблока, как передал удивленную боль бокового откуса, как сверхъестественным усилием кисти сумел передать-сохранить свежесть и теплоту нежных женских покровов, только что туго заполнявших этот податливый трикотажный шелк и его скрытые розовые резинки.
Я впервые ощутил, наверное, известное только творцам и, может, еще альпинистам состояние-холод — пройти по краешку, где внизу лед и синева. По краешку, выщупывая готовый обломиться зыбкий камень. По краешку… По краешку… Балансируя кистью, замирая на мгновение, вглядываясь в холст до рези в глазах. Один неверный шаг, неверный блик, ложный мазок, не тот удар кистью — и вниз головой, в пропасть, в лед, в камни. О камни..
Постижение. Откровение. Свершение. Немота собственного несовершенства. Постижение… Откровение… За-вер-ше-ни-е!!
И я закончил свой натюрморт. Надо было представить его. Показать? А кому? Худсовету? Комиссии? Павлу Петровичу?
Да я уже видел, как бы вздыбился-взвился — плечи выше головы — седой мужичок-с-ноготок. Как впился бы в меня хорьковыми глазами:
— Ыт што-о-о? Ытже глупость! Ытже би-зо-бра-зия!! Бабьи штаны! Аяблык? Яблык зачем тут?! Кчиму? Што за дичь! Дурь! Выльнодумство! Закрасить! Счистить! Убрать!
Нет, Павлу Петровичу незачем показывать. И получалось, только Болотникову. Болотникову, пожалуй… А и ему страшновато.
Когда краски просохли, я сделал картине раму. Простую. Белого цвета. В раме натюрморт приобрел новую завершенность. «Рама — подарок художнику». Я не сомневался ни в ее фактуре, ни в цвете. Рама должна быть белой.
Упаковал картину, чтоб никто не лез смотреть, принес в училище. И все не знал, как буду показывать. Дождался конца занятий, побродил по коридорам, весь в сомнениях. Показывать? Нет? И все-таки пошел искать Болотникова, знал, что он где-то здесь, в классах. Нашел его в одной из мастерских, где он вдумчиво, неторопливо поправлял чей-то бездарный картон. Тоже натюрморт и, наверное, зачетный. Болотников, говорили, был добр и часто вытягивал бесталанные творения, чтобы автор их, какой-нибудь вихрастый мазила, не засыпался на комиссии у Павла Петровича.
— Что тебе? — спросил он, откладывая кисть, но не снимая палитру с пальца и слегка надвинув нижнюю губу на верхнюю, — знак досады и некоторого высокомерия, изредка появлявшийся на его медальном профиле.
— Хотел… Показать… ВАМ, — возвысил его. — Натюрморт… Зачет..
— Что не в комиссию сразу?
— Хотел вам сперва..
— Ну, показывай.
— Он… Не… Ну, необычный..
— Тем лучше, чудак.
Распаковал картину. Поставил так, чтоб не блестела. Вечернее солнце как раз заглянуло в пыльные окна, и натюрморт засветился так, как не было этого дома. Дома я писал его при недостаточном освещении и добавил силу тонов в расчете на иной свет. И не ошибся.
Болотников снял палитру с пальца, со щелканьем отложил. Лицо его приняло неведомое выражение. Раньше всегда было неколебимое, хроническое как бы спокойствие. Самоуверенности? Нет? Пренебрежительности? Нет. Но весомой, непогрешимой доброжелательности. Доброжелательности Учителя. Теперь губы его вытянулись, глаза обострились, и, глядя на меня, как на совсем незнакомого, он спросил:
— Это ты написал? Сам? Ты??
— Да. Я..
— Не могу поверить!
— Это я написал.
— Да ты же… Господи… Ты же ХУ-ДОЖ-НИК! — сказал он, воздев руки и потрясая ими над пуховой лысиной. — Ты сам не понял, какой ты сделал рывок. Это же! Господи! Это работа мастера! Большого! Настоящего! Понимаешь ты? Нет? Не верю… Впрочем… Такого не бывало за всю мою практику. А замысел-то! Тут и Библия, и эротика, и чья-то судьба… Искушение — все такое… Если сам — поздравляю. И тогда… Тогда учить тебя мне больше нечему. Такой натюрморт! И будто лефрановскими красками написал! Цвет какой! Нигде не замучил. Энгр! Энгр! Теперь, надеюсь, ты понимаешь, что такое Энгр? За всю историю училища невиданная работа. Ее бы в галерею… В галерею бы..
И вдруг потух.
— Не поймут. Не захотят. Зарубят. И ржать ведь еще станут, прохвосты. Ханжи кругом! Хан-жи-и! Паровозы подавай! Ну, ладно. Еще кому ее показывал? Нет? Отлично. И не показывай. Жди часа. И помни: это картина! Ей в Русском, в Эрмитаже место. А здесь обгадят. Проклятые. Лихо бы им, этому худ-совету! Штаны-то как написал?! Шелк льется. Эх ты, любитель. Любишь женщину? Ну, иначе не должно быть. Это, брат, главное, настоящее в художнике. Через женщину художник смотрит в мир! Понял? Да это ты сам открыл. «Если нет у поэта свиданий, значит, нет у поэта стихов!» Для того и женщина. Бог сотворил, хотя и Дьявол, несомненно, участвовал. А что мы теперь сделали с женщиной? В телогрейки одели, в робы. Автомат в руки дали! Тут один выдрючивающийся дурак написал женщину в виде Мадонны со снарядом в руках. А другой с поросенком! А? Скоты. А впрочем, женщина и в рубище должна быть хороша. В молодости я, подобно тебе, фрондером был. И вот написал красавицу в рогоже. Так никому и не показал. А-ах! — вздохнул он, качая пуховой головой и сурово выпятив нижнюю губу. — Ладно, иди. Я бы тебе хоть сейчас диплом подписал и в Суриковку отправил. Отправишь тут! Меня недавно к директору вызывали… На ковер… Предупредили… Ладно, иди. Заворачивай картину. Береги! Придет время, ей не будет цены.
Шел домой. Не шел — летел. Кто сказал, что художнику нужно для жизни только три вещи: похвала, похвала и еще раз похвала?
Знал, Болотников щедр на похвалу, но и чувствовал, удивил его по-настоящему. Так редко может хвалить художник художника. Потому что если уж правду, все художники вечные рыцари на пожизненном турнире. Копье поднято, а щит уже перед тобой, и чужое копье летит в твою грудь. Никто не завидует так чужому успеху, так ревниво не топчет, никто так свято не любит, щедро не хвалит, как художники. И никто так самозабвенно не зовет к свержению, если струсишь кистью, склонишь колени перед маммоной. Что-то такое подобное говорил нам Болотников.
Через женщину художник смотрит в мир! Как здорово он сказал! А я вот не мог найти обоснования всей этой муки. ЧЕРЕЗ ЖЕНЩИНУ — вот ведь каждую-каждую женщину я рассматриваю, когда иду. Я смотрю во все глаза на робких и бойких, на матрон и на девочек, на их сочность или голенастость, их пугливость и их тишину, их золотящиеся на бликах волосы, их юбки и юбочки, платьица и словно бы хитоны, нескладно-трогательные туфельки на палкоподобных ногах и солидные котурны. Я смотрю на худых и толстеньких, одетых, как говорили у нас в лагерях, «в цвет» и кое-как, и бездарно, и безвкусно. Я вбираю в себя уверенную поступь счастливых, сытность мужних жен, гнусоватое самодовольство красивеньких, ухоженность заласканных и наглость в глазах задаренных и пресыщенных. Я замечаю все: и больной блеск глаз, и дурноту опустошившего душу разврата, и тишину еще не видной беременности, и зыбкую боль, что подчас и нередко плещется в их глазах, боль и ненависть пережитых измен. Я ловлю круглоту их животов, вытягивающее душу движение ягодиц под платьями, резинки их плавок, трусов, бюстгальтеров и панталон, выступающих пристежек, натянутость чулок и модную высоту каблуков. Все это зачем-то надо мне, зачем-то просит моя душа, ненасытно ловит мой взгляд. «Через женщину художник смотрит в мир». Видит мир? Господи, в лагерях, что ли, накопил я этот вечный и все более невыносимый голод? В лагерях я не часто вспоминал твое имя, Господи! Мой отец был безбожником, мать не молилась никогда, а я, слыхал, каким-то чудом крещен был стараниями богомольной тетки, но никогда не молился, не знал, не умел никаких молитв. И все-таки словно бы вечно молился, чтоб Бог или КТО-ТО послал мне свободу или хоть бы женщину. Как-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь. Маюсь и теперь, выйдя на свободу, — и что вроде бы еще просить у Бога? А опять прошу послать мне женщину и, наверное, любовь — высоко сказано, а так, ведь и теперь я один, ничего, никакой не могу найти и уж исстрадался, пожалуй, хуже чем в лагере, там-то женщин, «баб» мы просто не видели, а здесь я купаюсь в их море и бедствую, как Тантал.
Как-то давно уже, копаясь, в чулане, разыскивая тюбики окаменелых красок, старые кисти и покоробленные картонки, я нашел в углу чернокопченую доску. Тускло проглядывал на ней золоченый венчик, едва различим был лик Богородицы. Местами осыпалась краска до белого мелового левкаса. Бережно принес икону в дом, осторожно промыл, снял копоть, протер растворителем. Икона расцвела золотом и красками. Лик дивной нежной женщины ясно выступил из тьмы. И, водрузив икону в спокойный угол, я впервые помолился, попросил прощения за все свои грехи, попросил помощи и удачи в делах. Мне было у НЕЕ как-то легко и не стыдно просить. А в лагерях я ничего и никогда не просил. Даже не отпрашивался, когда получал карцер. В лагере не попросишь особенно. Попрошаек там били, совали в морду, ставили ниже шестерок. Попрошайка, значит, придурок, доходяга, фитиль. В лагере надо было брать самому либо уж что дают.
Помолился Богородице и забыл. Мы ведь ждем всегда немедленной помощи. А теперь опять пришла мысль просить Ее, ведь успех мой в училище начался уже год назад и как это до меня не дошло?
Шел, спускаясь в сторону пруда и нашей улицы. Закат золотился в тополях Динамовского парка, и тихие облачка перово, недвижно слоились, залегали в нежную даль. Закат играл на них, подсвечивал, накалял снова. Гамма красок менялась медленно, осязаемо, остывая, холодел румянец неба, и там, и в нем было нечто женское, неосознанное до конкретности, до словесного обозначения, но женское, женское и пугающе мучившее душу наступающей мглой.
Вот подумал о небе и понял опять, что везде, и в нем, и в этой цветной надежной земле, обочинной травке, и даже в окурочной словно пыли виднелась, представлялась, была, предстояла, грезилась какая-то словно бы просквоженная невидимая ОНА.
Тем-то, наверное, и отличался от всех идущих навстречу, и впереди, и позади мужчин-нехудожников, мужиков и парней. Лиц мужского и, в общем, ненавистного мне пола.
Глава VI. ДВА УЧИТЕЛЯ
Занятия у Болотникова были по теории серьезнее живописи, которую он нам преподавал. Расхаживая и протискиваясь мимо мольбертов, он говорил:
— Живопись нельзя рассматривать только как умение писать красками. Умение есть ремесло. Строить дома, делать табуретки, класть кирпичи может всякий. Писать картины — редкий Божий дар, гораздо более единичный, чем общее понятие художник-живописец. Боги скупее людей, и, если уж Бог расщедрился — берите этот дар, храните его, лелейте его. Все это лучше нас понимали древние. У них художник ценился как огромное достояние. Талант ведь недаром обозначение огромной весовой доли золота. Я убежден, что еще и пещерный художник был окружен уважением и почетом. Он был и слыл колдуном, шаманом. А живопись и воспринималась как колдовство. Так вот: колдуйте! Колдуйте! Сколько хватит ваших сил! Ежедневно, ежечасно думайте над тем, что вы творите и, главное, беспрестанно наблюдайте, хватайте жизнь. Мастерская живописца не комната с окном во всю стену. Мастерская живописца — это его жизнь. Живите. Страдайте. Дерзайте, учась. Так поступал Дега. Вот здесь мы вбиваем вам в головы правила и каноны. Их надо знать, но, может быть, только для того, чтоб было что разрушить. И если вы не способны подчас идти дальше канонов, плюнуть на них, разнести вдребезги — вы ничего не достигнете нового! Без этой силы и смелости вы останетесь копиистами. Да. Копировщиками старья и унылыми ремесленниками. Идти к опасности и к полету в неведомое, прорываться в иные измерения — таков должен быть путь ХУДОЖНИКА! И опять посмотрим это на примере Энгра или Дега. Живопись тела, в общем-то, была опошлена всеми этими академиями. Ведь даже Энгр придерживался правил академизма, если не считать его «Одалиску» и «Турецкую баню», лучшие работы, где он просто плюнул на канон. Дега смелее стал ломать академизм. Его женщины не позируют: они просто моются, надевают чулки, расчесывают волосы, стирают, гладят, одеваются, совершают туалет, подобно тому, как кошка вылизывается. Так говорил он сам. Он глядел на женщин — словно бы в щель забора, в приотворенную дверь, в замочную скважину. Художнику можно все! Можно все! Он не подвластен закону, правилам для всех. Не подвластен обычаям и даже приличиям! Это понимал даже Гитлер, по его приказу художников возвращали с фронта. Это понимала Екатерина Вторая, по ее указам художникам и врачам разрешалось мыться в банях вместе с женщинами! (Чей-то восхищенный вздох, чье-то «хо-хо».) То, что разного рода ханжи воздвигли, как вериги для человека, рано или поздно будет разрушено Художником! Во главе идущих на штурм всегда были и будут художники!
Теперь Болотников и не глядел на нас. Вдохновленный своим красноречием, величавый, как Цицерон, задрав голову, он вещал, будто читал скрижали высших истин, ведомых ему одному:
— Социалистический реализм — это не реализм, а мифология или блеф. (Как это он не боится? Не сидел в зоне? Ведь настучат! — метались у меня трусливые мысли. А стукачей у нас на курсе чуть не все «трутни» и даже из девочек кто-то!) Соцреализм предписывает нам изображать жизнь такой, какой ее надо кому-то изобразить. А мы должны писать такую, какая она есть! И женщину сегодня надо писать как существо в высшей степени одаренное способностью любить и украшать жизнь мужчины, а не пахать, как трактор, не носить винтовку и не стоять у мазутного станка. Сегодня, изображая женщину, надо шагать дальше Энгра и Дега, Ренуара и Модильяни, а тем более Тицианов и Веронезе. Надо создавать нечто в высшей степени сексуальное и близкое к природе и в то же время становиться над природой. Вспомните, что опять же пещерные мастера ваяли-изображали своих «Венер» с невероятными формами. В этом смысле примитивное искусство стоит выше многих прославленных современных образцов.
Вот вам здесь вдалбливают: «Копируйте больше старых мастеров! Копируйте, копируйте, копируйте, а уж потом пишите свою натуру». Этот путь верен лишь отчасти. Старые мастера остались в своей эпохе. Там они были мастерами, а подчас заменяли фотографов. Вспомните Франса Гальса или даже Рембрандта! Громадные станковые ФОТО! Их канон надо знать, но не надо переносить в новое время, как делают сейчас некоторые художники. Вот пишут в иконописной манере героев гражданской войны. Да, они мученики идеи, но разве заставишь на них молиться? (Нет, не знает он, что такое «зона» и что такое «саветская власть». Опять с опаской провожала его моя пуганая мысль. И, словно опомнившись, поняв мой взгляд, — за него, за него! — Николай Семенович менял интонацию, хотя и продолжал говорить без перерывов.) Старые мастера писали по цеховым уставам, например Дега велик уже тем, что мог начинать свои картины акварелью, продолжить гуашью, а закончить маслом. Никто до сих пор не разгадал подлинного секрета его цветущих, не подверженных времени пастелей! Они сияли и сияют, будто написаны вчера! Он многоцветен в пастелях, как жар-птица, но у него же есть масса картин, где он фотографичен и локален, и ему, Дега, принадлежит знаменитое заявление, что если бы он следовал собственному вкусу, то ограничился бы только черным и белым! «Но все требуют цвета!»
Искушение писать локальными тонами всегда стоит перед художником. Краска, в сущности, настолько беспомощна, так трудно найти единственное решение цвета, что работаешь практически вслепую. Это как игра в шахматы: дебюты более-менее известны, а дальше — темный лес, дальше и вступает в силу основной закон творчества — закон интуиции, но ни один король живописи не знал всех или хотя бы половины ее возможностей! Наверное, для начала художнику необходимо все время пробовать краски, изучать смеси и все время записывать, обязательно записывать, а потом заучивать наизусть. Вот пример: вам надо найти цвет нежнейшей, но яркой майской зелени, очень веселый цвет. Майский! — Болотников потряс пальцем над лысиной. — Никакие локальные краски не в силах дать этот цвет. Но! Смешайте виноградную черную с лимонным кадмием — и вы получите этот цвет в любых оттенках. Рисунок же в живописи все равно будет на первом месте. Вот что сказал Ренуар о рисунке Дега: «У меня до сих пор стоит перед глазами «Обнаженная» Дега, сделанная углем, — она затмевала все вокруг. Это похоже на осколок Парфенона!»
И снова потряс пальцем.
— Ренуар всегда завидовал Дега. А Дега не завидовал никому. У них было одно стремление, но разные методы и почерки. Они стояли на разных вкусовых полюсах. Дега любил худых, утонченных женщин. Ренуар плотных, полных и даже толстых. Кто-то сказал, что, если бы одеть обнаженных Ренуара в платье — они гляделись бы толстухами. Но для обоих женщины были тайным божеством. (Господи, как его слова совпадали с моим пониманием и желанием женщины!) Но Дега пытался скрыть свое желание под маской цинизма, а Ренуар под маской любви к телу, которое он повсюду подчеркивал. Вообще же, наверное, написать женщину во всем величии ее тела, а главное, ее страстной и дикой сущности возможно лишь локальным тоном. Цвет глушит и часто поглощает идею. Нужен страстный волшебник, колдун, существо надземное, то есть великий и еще не являвшийся миру ХУДОЖНИК, чтоб написать ЖЕНЩИНУ ЦВЕТОМ!
— И все это ложь, — продолжал Болотников, — что Дега «изучал движения танцовщиц» или «позы моющихся». Он просто на всю жизнь был заворожен женщиной как высшим проявлением и объектом чувственности, созданным природой. И как художник, он пытался воплотить это чудо чувственности, отыскивая его во всех женщинах, какие попадали в поле его зрения. К сожалению, чаще всего это были потаскушки, продажные женщины (тихий ужас на лицах наших девочек-художниц!) и оттого легкодоступные, как натура, но, вероятно, мечтал он о красавицах, о их неземной или более, чем земной, красоте, ЕЕ красоте, какую носил, лелеял в душе и жаждал, как исстрадавшийся в пустыне. Из-за этой невыносимой жажды он остался один, со сломанной судьбой, без жены, без семьи, жил с какой-то жалкой экономкой, которая вряд ли боготворила и понимала его. Так из-за женщины он потерял судьбу.
Я поймал взгляд Болотникова, ясно говоривший, что, может быть, какая-то часть сказанного адресована мне и косвенно, через мое восприятие, самому ему, Болотникову, — ходили слухи, что живет он один, без жены, без детей, и даже никто никогда не был в его квартире или мастерской. Никто не знал, и была ли вообще у него мастерская.
— Природа сама родит свои зеркала. И эти зеркала высшего порядка — художники. Одним она дает отразить свою чувственность и красоту в пейзаже, другим в изображении животных, третьим — в изображении человека и особенно женщины, женщины, женщины! Таких крайние единицы, и знает их весь мир, хотя женщину писали едва ли не все художники. Однако не всем она далась. Запомните, Женщина опасна! (Опять кривые ухмылочки наших художниц.) — Да Болотников даже не смотрит на них, для него художницы, видимо, не женщины. — Женщина заколдовала многих, многих и многих! Многих она просто утопила в своем лоне, поглотила, свела с ума, заставила потерять талант и даже просто лопнуть от страдания и внутреннего перенапряжения. Так показал это Золя в своем «Творчестве». Одни погибли в момент наивысшего сладострастия, других она погубила потворством, третьих— красотой, четвертых — ядом и пороками, и только немногие, обделенные ею, всю жизнь страдавшие от голода и несбывшихся желаний, отразили ее сущность на холстах, хоть так пытаясь удовлетворить гложущее душу и тело чувство несбывшегося.
И опять это были те самые имена! Итак, пишите женщину и — бойтесь ее, как бездны. Ваши потери будут адекватны вашему чувству!
Трезвонил звонок. И Болотников, подняв свою голову триумфатора, где так и чудились, наверное, и ему самому листья античного венка, выходил из мастерской ни на кого не глядя, и мы кто молчали, кто ухмылялся, кто ядовито покручивал пальцем у виска. А кто-то из трутней, презрительно кривясь, щурился, как следователь, на тощую спину вещателя, спину в бархатном пиджачке, — брал на прицел.
Совсем не так преподавал живопись Павел Петрович. Являлся в мастерскую в опрятном — прямые плечики — подростковом костюмчике, стоял, молча глядя на всех и каждого впалыми, въедливыми, горящими глазами (хорек? кошка? неясыть? вампир?), потом шествовал мимо мольбертов, останавливался у каждого, помолчав, частил:
— Ыт што у тебе такое? Што такое? Пыдмалевка? Тык пыдмалевка дылжна прыкладываться широко, общими тынами. А ты што тут нычастил? — Павел Петрович везде вместо «a-о» говорил «ы». — Эт тибе ситец, штоль, ныбив-ной? Этже ЫТЮ-УД! ЫТЮД! Ытюд пишется, штоб общее впичатленье схватить. Мгновенье остановить. Аты што делаешь? Ытюд — запомни, продолжение нашлепка — и все!
Шел дальше, опять слышалось:
— Задник у тебя куда лезет? Задний план надыть легко, в протирку. А ты намесил, нарубил этый пастозности. Кто ты? Ван Гог? Эт, друг, мазня называется. Потом она почернеет — сажа будет. А не ытюд.
Еще дальше:
— Эт вы мне бросьте: гинеальное сразу лепить! Гине-альное без знаний никому не давалось. И гениям. А мы не гении… Мы мастеровые. (Вот уж правда! — зло думал я.) Мыстерство, между прочим, выше этый вашей гинеальности. Выснецов, Шишкин, Саврасов, Репин — мыстеровые были! А вы мне Коровина этого, Мылявина суете… Ах, красно! Ах, краска! Да краску в ытюде биречь надо. Цветом в живописи ничего не возьмешь. Надо правильные отношения строго выдерживать, а не мазать из тюбика! Ин-прессионисты!
Молчание, но недолгое:
— Тут што у тебе? Эт «мыло» называется. Мы-ло! Размы-лил все. Цвет потерялся. Мылом картины мазать невелика честь. Ты живопись подавай. А мыло у Кустодиева пысмо-три. Там у него Винера есть такая. В бане. Ну, невелика выдумка. Баба и баба… Без натуры писал. У Ренуара, видать, содрал… А мыла там кусок здорыво… Написано мыло… А ты мылом-то пишешь!
Обойдя мольберты, повторял:
— В живописи порядок нужен. Пырядок! Апрятность вы всем. К апрятности привыкать надо. Палитра чтоб чистая была. Штыб на ней красочки одна к одной. Взглянуть любо! Инпрессионизьмом этим штыб не пахло. Инпрессионисты ваши все неучи были, мазилы — неумехи. Ни школы… Ничего. Тарелку толком рисовать не могли. Линию без трясучки провести. А лезли, чтыб о них в газетах только кричали. Аблают их в газетах — они рады. Ызвестность! Ылкаголики были, сифилитики рыспущенные. Гаген этыт… Латрек… В публичным доме жил. Проституток писал! А художник-то свитой должен быть. Сви-то-о-ой!
И Болотников нас учил, что художник должен быть святой, молиться, поститься перед картиной как перед искусом. Но, как видно, у него и у Павла Петровича были разные представления о святости живописца. В остальных указаниях учителя наши расходились диаметрально.
— Да развязывать! Развязывать себя надо, как мешок! — потрясал кулаками Болотников. — Как мешок! В живописи, в литературе, вообще всюду-везде скованы мы, связаны, замучены, измордованы. Худсоветы! Цензоры! Завотделами! Так путной живописи никогда не создать! Художник должен быть свободен! Бросьте все к чертовой матери, пишите, как Бог на душу кладет. Только так и можно добиться чего-то в искусстве. Где это сказано: «Всякий из нас обладает собственным чувством красок, которое следует в себе развивать самому. Никакие советы (И советская власть!) не помогут сделать художника колористом, если он сам с любовью и настойчивостью не будет изощрять упомянутое чувство краски! Те, кто жили задолго до нашей эры, гораздо глубже греков! Индийцы, например, считали, что для того, чтобы заниматься живописью, — тут Болотников потрясал руками, — надо не только знать каноны-шастры, но сперва быть знатоком танца, музыки, пения! И это так верно! Разве не в жесте выражена в чувственном образе мысль? Идея? А индийцы создавали потрясающие примеры, особенно в пластике. Живопись ведь могла и не сохраниться. Посмотрите на их танцующих упсар! Так изобразить танец ног, живота, грудей, ягодиц могли только великие художники! И — обратите внимание — везде разрушен реалистический момент восприятия. Это сверхреализм, и задолго до Пикассо. Живая женщина никогда не сможет так вывернуться, так одновременно смотреть на зрителя всеми своими прелестями. Это вам не купальщица с веслом!
И, тонко улыбаясь уголками губ, он завершал:
— Искусство социалистического реализма в своих основах рекомендует придерживаться только природы. Ну что ж… Кто-то сказал, что искусство должно быть съедобным… А природа всегда прекрасна. Дерзайте… Но помните: искусство должно быть выше самой совершенной природы!
Неудивительно, что среди всех наших наставников эти двое запоминались более всего. Взлысистый, с просвещенным профилем патриция Болотников и маленький нетопырь с квадратными плечиками и огромными старческими, просвечивающими, как витражи, ушами.
Оба они вещали, казалось, взаимоисключающие истины. И обоих тянуло слушать, брать в память их поучения.
Болотников мне, лагернику со стажем, нравился больше. В свободе суждений его просвечивала страшноватая искренность. Говорил, что думал. Павел Петрович плел несложную старческую паутину. Все понимали, что поневоле он «партиен», понимали и то, что партийными поневоле были все тогда. Это не в зоне, там эту партийность несли вплоть до главного, но и здесь партийность вроде тоже начала шататься, — страной правил лысый бородавчатый боровок, смесь вздорного хохла с мужичком себе на уме, — и большого почтения к нему уже как-то не было. Не то что к усатому батьке! Фрондер же Болотников, как понимаю теперь, почему-то пользовался почтением Павла Петровича. А в Павле Петровиче, куда ни кинь, сидел крепкий, самоуверенный художник-реалист, потомок тех, кто всемирно прославил в свое время русскую классическую живопись. При всей категоричности суждений Павел Петрович мог детально посоветовать и подсказать, — стань только маленьким перед ним, меньше, клони голову. А мы все были выше. Были у наставников и еще загадки: Болотников, например, не только жил замкнуто-глухо, он не участвовал ни в одной художественной выставке, и картин его никто никогда не видел. Прирабатывал он, оформляя детские книжки, сказки. Никто никогда не видел его с женщиной. Слыл убежденным холостяком, не то разочаровавшимся, и чувствовалось, что в глубь себя он никого не пускал, такое даже как-то не представлялось.
У Павла Петровича, напротив, работ на выставках всегда было много, критики его хвалили, в славе он любил купаться и имел молодую, раза в три его моложе, красивую жену, большую властную женщину кажется, из бывших натурщиц.
Но девушек-натурщиц оба любили до самозабвения, и, едва появлялась новая, да еще хорошенькая, оба закрывали двери натурного класса и там долго детально усаживали, «устанавливали» модель — искали эффект. Павел Петрович всегда выходил после таких постановок походкой сурового триумфатора, ни на кого не глядя, шествовал по коридору. А уши полыхали зарей.
Болотников оставался в классе, но не рисовал никогда, а лишь глядел на женщину и не так совсем, не оценивающе и не восторженно, с голодом, как иные наши преподаватели мужчины, всегда прибегавшие поглядеть на новенькую. Болотников смотрел на женщину, как бы проверяя какие-то свои пропорции, переходя с ног на бедра, пройдясь взглядом по склону спины, не задерживаясь на груди, и обратно. И не понять было, восхищался он, не доверял чему-то или был разочарован, но последнее вернее. Насмотревшись так, он уходил.
Я же, как ни странно, никогда натурщицами не обольщался. Раздетая. Принужденная. Терпящая над собой платное насилие десятков мужских глаз, натурщица была неинтересна мне, как вещь, мне не принадлежащая. К тому же это были сплошь тощеватые, битые жизнью и прошлым «девушки» и женщины с кислым, тертым многими телом.
Глава VII. ЭТЮДЫ ИЗ ПРОШЛОГО
Ах, натура моя! Натура! Наступала теплая, предлетняя уже погода, и целые дни я маялся. Женщины в легких платьях, тонких юбках, трикотажных синих штанах, в широких юбочках-кринолинах — только входили в моду — в кофточках с просвечивающими бретельками бюстгальтеров, с обозначающимися на тугих задочках резинками, девочки с косами, роскошно ласкающими поясницы. Девушки, женщины, девочки. Я не мог на них (на вас!) наглядеться, надышаться, насытиться вашим видом никогда. В жарких парных трамваях, стиснутый вами со всех сторон, сдавливаемый вашими животами, грудями, бедрами и коленями, я так часто вспоминал лагерь, где стонут без вас и теперь обездоленные безвестные мужики и где пригрезиться даже не могло, что можно вот так задыхаться, захлебываться в океане женского тела, потного, пахучего, податливо мягкого и словно бы упруго-резинового, но сравнение страдает — резина ведь не излучает ничего, а здесь кругом живое, теплое, томящее своими токами, никем не познанное излучение, передающееся неведомо как.
Я ловил себя уже на том, что одиночество мое невыносимо, и чем я не в зоне, если никто меня не ждет, не любит, не ищет и не пытается даже со мной заговорить? Разглядывая себя в зеркало, видел худощавого парня, плечи ладные, крепкие, лицо несколько злобновато — все еще лагерь, — но уже не темное, сошел этот «тюремный», зэковский загар, нормальное лицо. Глаза у меня темно-серые, нос не большой и не маленький, рост сто восемьдесят — чего еще? И волосы не изрежены, под затылком только слева белая полоса. Это Ижма. Осталась. И два шрама — один у брови, другой у левой губы, тоже с Ижмы в драке, и на бревнотаске ударило сучком. Но женщины, тем более девушки, как поглядишь, избегают. И сам не умею знакомиться, если нравится — и вовсе. Дурак дураком и как немой. Из-за зубов, может.
Все каникулы летом провел я в городе и к тому же остался совсем один. Весной отец умер. И вроде бы крепкий еще, сухонький. Смерть родителей всегда внезапна. Ее не ждешь, не представляешь. Пришел из училища, а он у порога. Ничком. Кровь. И эта смерть надолго вывела меня из нормального состояния. Все казнил себя, что даже не приветил отца как следует с возвращения, не пригрел и не обрадовал ничем. Отец будто этого и не ждал, рад был, что я все-таки вернулся, а вот все мы, дети, наверное, жестоки к старшим и редко любим тепло, всех считаем бессмертными. Лагерь, конечно, наверное, испортил меня, очерствил, затемнил душу, много сору за десять лет, не вытряхивалось, не выветривалось скоро. Лагерь, может, обратное почти превращение человека в вечного зэка?
Днем, в каникулы, да еще без отца, я не мог сидеть в нашей барачной комнате с окнами в стадионный забор. Я уходил в город и целыми днями неприкаянно слонялся по улицам, площадям, столовым, пивнушкам. Питаться мне, привыкшему к черной невдосыта пайке, было куда просто. Укладывался в рублевку-две, свои деньги на исходе, отцовских не было, да благо и долгов за ним не числилось.
Жизнь — бродяга не бродяга, а около того — устраивала меня, хотя и томила непредсказуемой ненужностью. Конечно, я даже не думал о женитьбе. Когда? На ком? И кто пойдет за меня, как только узнает мое зэковское прошлое? И не в том даже дело. Училище мотать еще год. Атам? Там и тоже неведомо… Выбиться в настоящие художники, иметь мастерскую, зарабатывать на жизнь картинами? Хо-хо! Испарялась потихоньку дурная моя самонадеянность. Понимал теперь: отец-то, может, прав был, покашливал, когда я опять поступал в художественное. Нищий нелегкий хлеб. Хлеб ли еще? Что такое художник «в условиях развитого социализма»? Утешался. Не я один. Для чего-то существует такое училище. И художники бывают разные, и в великие выходят из малых… Бывало… Знал еще, что не буду писать праздники, шествия, великих вождей и продолжателей. Знал, не буду копиистом. Знал, вроде — у меня свой путь… А сомнение точило, глодало душу. Кончатся жалкие мои надежды вместе с жалкими деньжонками, и придется тогда и училище побоку, и плевать на мечту. От всего этого спасал город. Давал будто какую-то надежду.
Однажды я сидел на скамейке недалеко от троллейбусной остановки. Был знойный, гнетуще жаркий день, и все кругом и сплошь ели мороженое — я не исключение. В своем рублевом бюджете я мог позволить такую роскошь, когда лишь набредал на самое дешевое фруктовое мороженое по семь копеек стаканчик. Фруктовым я и наслаждался. Внезапно рядом со мной опустился на гнутую скамью легкий взлысистый мужичонка, в дрянной рубашке с короткими рукавами, брючках бумажного тика «дешевле-некуда», «три с полтиной километр», и стоптанных пластиковых босоножках. Мужские босоножки и лучшего вида — паршивая, несолидная обувка, и, глядя на них сперва, по привычке все замечать, я перевел взгляд на соседа. Он нервно, еще более жадно, чем я, глотал розовое, льдистое мороженое, блаженно давился им, замирая, очевидно, от ноющей боли во лбу, отдыхал на мгновение и снова глотал, жадно-быстро орудуя палочкой. Оштукатурив стаканчик, тотчас принялся за другой. «В лагере ты не бывал, — привычно подумал я, — раз так торопишься-жрешь». Но, приглядываясь к нему искоса, я понял, что передо мной, а точнее, рядом, сидит очень давний знакомый. Давний… Сколько же лет мы не виделись? Мужичок же, полуповернув ко мне лихорадочное впалое лицо с зелено-дымными нездорового тона глазами, медленно усмехнулся. Я узнал. Юрка! Мой детский товарищ по бараку, по школе. Он был старше меня года на три по возрасту, но, вечный прогульщик-двоечник и лодырь, учился со мной в одном классе. Это был «Юрка-бабник», ненасытный тогда уже девочник-маньяк, который все лето проводил по пустырям и садам, выслеживая парочки, или не вылезал из нашего барачного сортира, где им были прорезаны многочисленные дыры в заветную женскую половину. И если уж быть до конца честным, он куда превосходил меня во всем таком: крал с веревок у барака женские штаны, лазал под подолы к девчонкам в давеже раздевалки, водил меня вечерами подсматривать в окна, и это с ним вместе караулили мы у лестниц поднимающихся учительниц и старшеклассниц.
Остановив на полпути руку с палочкой, на которой мрел тающий розовый кусочек, приятель мой давний, как сквозь мглу времени, смотрел на меня, как бы превращаясь в того костистого худыря-мальчишку с большой не по телу головой, то возвращаясь в этот словно уже старческий возраст. Он выглядел в самом деле удивительно состарившимся, лет на двадцать старше меня. На боках полулысой головы сплошь седина, от прежнего вертячего Юрки лишь обтянутые тонкой кожей скулы и глаза с тревожным жаром неуемного фанатика. Мы не виделись с ним лет пятнадцать, ну, может быть, и поменьше, потому что еще задолго до моего ареста он уехал с отцом (жили они без матери) из нашего барака на дальние загородные улицы, и я не видал его, хотя, бывало, словно и тосковал. С Юркой было удобнее, проще, увереннее и словно бы безопаснее искать и видеть то, что оба мы ненасытно, неизвестно, кто больше, искали и жаждали.
— Ты, что ли, Сашка? — не удивляясь особо, протянул он и, сунув тающее мороженое в рот, улыбнулся сквозящей, беззубой улыбкой.
Я улыбнулся в ответ.
— А! И ты беззубый?! — грешно обрадовался он.
— И я.
— Где потерял? Там?
Видимо, все-таки знал о моем аресте.
— В академии… Имени Сталина..
— Я думал, тебя нету!
— Обрадовал.
— Да я просто так.
Он сказал это скороговоркой и шепелявя «просотак».
— Кто ты сейчас? — напрямик спросил я, намекая отчасти на его нищий наряд.
— A-а… Никто… Безработный пока… Аты?
— Да вроде тебя. Художник… Учусь.
— У-учишься? Ху-дожник? — кривя тонкие губы, пробормотал он. — Ну, тогда ты точно как я. Художники все такие. Нищета. Пьянь.
— Ты пробовал, что ли? — пробормотал я, чувствуя за его словами какую-то правоту.
— Да где я только не пробовал. И в художественное ваше поступал. Рисовать могу. Да только у меня одни голые бабы получались. Вот беру бумагу, карандаш, а он уж будто сам задницу ихнюю рисует. Стихи сочинял, и тоже на Баркова только тянет. «Как тут не вспомнишь без улыбки те годы детства своего, когда все члены были гибки, за исключеньем одного!» Х-хе..
— Живешь как?
— Да как придется. Мне много не надо. И не хочу работать. He-а… Не хочу.
— Как же?
— А так. При са-ци-а-лиз-ме можно жить и не работать. Понял? Этот «строй» — хочешь знать — идеальный для старательных дураков и для умных лодырей. Вкалывать во имя светлого будущего? Хо-хо… Пусть вкалывает трактор, он железный. А я не дурак, напрягаться не намерен. Мне и здесь, сейчас хорошо. Я лучше на двугривенный в день проживу. Зато свободен!
«Оказывается, есть люди и беднее меня», — подумал я, сбоку глядя на Юру, сладострастно орудующего палочкой, торопливо выскребая по стенкам текучие остатки.
И как бы отвечая на мои мысли, он продолжил:
— На хлеб я себе всегда нашкуляю, делов-то! Видишь, и на мороженку-пироженку есть. Вон по скверу не поленись, пройди… Бутылка, другая… И сколько хочешь можно найти. Деньги везде — нагнись, подбери… Другим лень. Ая нагибаюсь… Вся дела. И в трамвае передачу можно зажать, если припрет! Не обеднеют. Пускай пешком ходят для здоровья. А мне — хлеб..
— Ну, а все-таки, делаешь что? — уже в упор спросил я, доев свое мороженое и видя, как Юра откуда-то, чуть ли не из кармана, достает третью фруктовую.
— Я наслаждаюсь жизнью! Жизнь-ю! Ищу счастье… И… Нахожу… В., материи… Как там, у Ленина? В осязании… В ощущении… Вот. А еще я люблю праздность… Свободу… И — БАБ! — у да ты это знаешь, — он с той же жадностью и быстротой опустошал новую мороженку.
— Ты киренаик, что ли? — спросил я, демонстрируя свои философские познания, полученные от размышлений Болотникова.
— А кто это? Кто такие?
— Да были философы в Древней Греции. Школа. Считали, мир человека полон счастья, только складывается оно из мелких крупинок. А целого не бывает…
— Я так и живу, — не раздумывая, ответил он, торопливо облизывая лопаточку.
— Нет, киренаик съел бы свою мороженку не торопясь. С расстановкой.
— Как ты, что ли? У меня обед! Понял? Ну, ладно, пока..
— В троллейбус! Народу подвалило… Пока..
Кинув стаканчик за скамейку, побежал неловкой побежкой человека явно неспособного к бегу, но успел, втиснулся в переполнений осевший троллейбус, двери которого с натужным воем захлопнулись.
«Был дикарь и остался», — проводил я взглядом спину трудяги-троллейбуса. Я не собирался трогаться с места. Солнце клонилось, сыпало с крыш рыжей оскольчатой пылью. Зной потихоньку стихал, и тени в сквере стали плотнее и глубже.
Я сидел в продолжение часа или больше, пропуская через себя всех, кто шел мимо, но главным образом женщин — обычное и любимое мое занятие. На женщин я могу смотреть бесконечно, без усталости, всякий раз наслаждаясь их новым видом и предожиданием новых форм, походок и граций. Вот идет девочка, совсем юная, наверное, школьница, но уже упрятавшая под летний короткий ситец кругленькие милые ягодицы, несет на пряменькой девственной шее трогательно и кротко выточенную головку с косой-плетенкой. Девочка. Но просвечивающая женственность видна во всем и странно сочетается с детскостью ее худых ног, красных туфелек и палочковых изломов в локтях и лопатках. Что в девочке? Красавица? Нет. И вряд ли когда-нибудь будет. Пожалуй, никогда. Не те пропорции. Не ощутимо высшего замысла природы. Но что мучительно ведет мой взгляд, что заставляет провожать плетенку-косу и нежную шею, где столько чего-то, чего-то… Нежность? Чистота? Девственность? Нет. Что-то выше, выше. Ее отрочество? Опять не так. Де-ви-чест-ность?! Словами этого и себе не объяснишь. Но я, кажется, мог бы объяснить это кистью. Картиной. Просто одна такая девочка идет по улице. Просто: «Девочка». И все… Картина. Попробуй-ка напиши..
Вот женщина «за сорок». Уверенная походка. Скошены каблуки. Вес. Ноги хорошие, полноваты. Все в ней понятно, определенно. Платье с фестонами. Любит оборки. Знает вкус мужчин. Цвет материи выбирает сразу. Шаг враскачку. Многовато лишнего, но — приятная полнота… Выражение приомоложенного кремами и пристаренно-го ими же лица не хранит желаемой молодости (свежести?). Это тщетно гонящаяся за молодостью женщина, по инерции. И уже испытала все: неудачи на службе, измены мужа, изменяла ему и сама, рожала детей, делала аборты, пила с приятельницами, такими же, как она, и неумело, закашливаясь, курила. Оборачивалась из кулька в рогожку, чтобы приодеться, жаловалась подругам на холод мужа в постели, ревновала, лечила эти тягостные «женские», надеялась, как на свет и счастье, на какую-то вдруг встречу. А встречала лгунов, дурных приставал, краснобаев-обещал и просто бледных «озабоченных», и озабоченных-то своей тоскливой плотью, и никому уж не верила, держала в уголках губ стойкое презрение, даже когда красилась или надевала что-то новое, браня портних, — сшили не так, не нравится…
А в общем, жила и живет и опять ждет отпуска, отлучки, чтоб туда, в Сочи, в Анапу, в единственное счастье и бегство от самой себя, грубых выросших детей, тошной свекрови, лгущего супруга, которому без раздумий и угрызений будет там, на курорте, наставлять рога (все равно квиты!), прокрутит бурный «роман» с таким же, как и сама, и муж, свободным на месяц, чтоб в последние дни, охладев и как бы угрызаясь, покупать на сэкономленные за счет «временного» подарки и ехать в пыльном, усталом поезде со скучными соседями, раздраженно припоминая в себе весь этот отдых, замыкаясь на мысли: «Скорей бы домой..»
Женщина скрылась, помахивая подолом с продуманной оборкой, повиливая плоско-толстым, несовершенным задом. А глаз мой уже останавливался на новой, идущей мимо, чтобы задать мозгу порцию стремительной работы, отсчета и пересчета, прикидок и решений, которыми я наслаждался, как следопыт, эпикуреец или следователь, дразнил какое-то дальнее сознание: не написать ли вот и такую картину-портрет? «Женщина». Чтоб все, что я подумал и придумал, было там ясно, и все увидели и поняли, а не я один. И чтоб история этой женщины, глядящая из рамы, была глубока, реальна и поучительна. Смогу я так написать? Конечно, смогу. Наверное, смогу. А знал, что не стану. Как зря тратиться, если б даже получилось. Удача невелика. Я же как будто ждал только красавицу, необыкновенную, необычную. Ее, наверное, все художники хотят, алкают, выдумывают, мучаются…
Что такое в самом деле женская красота? Что? Да — бездна! И никто кистью не объяснил. А пытались все. Читал же я разное: что она — красота — бесцельна, что, наоборот, высшая целесообразность, что, мол, красота — это мера (хорошо хоть не «высшая»!). Кто-то сводил все к запретному «ли-би-до». А я и Фрейда благодаря Болотникову почитал — надоело, много там было вроде верного и чепухи всякой вдоволь. Какой-то неудобоваримой чепухи. А пришел к своему решению: красота многолика и как раз не подвержена стандарту. Потому что красоту определяет вкус, он же разный у всех. И тем более, нет у красоты никакой той классовой подкладки, как долбили нам на занятиях по эстетике. Есть, мол, была — дворянская или крестьянская! Чушь. Чуяли, дурь толкают. Никаких истин никто не открыл, ни Чернышевский, ни Добролюбов. Потому что истина многолика, так же, как красота. Вам нравятся скаковые лошади? А мне — ломовые, тяжеловозы. И, ценя абстрактно утонченные черты ангелоподобной красотки, я красотку эту все равно не променяю на тяжелую, задастую, цветущую и лицом своим, и статью, и плотью, и косой девушку-крестьянку. Я буду упиваться ею (была б у меня такая!). Лицом, я бы мордой всей под подол, под юбку к ней влез и целовал, целовал, на коленях стоял бы.
Вспомнил, как минувшей зимой был у меня случай: шел мимо театра, увидел сквозь широкие окна цоколя лестницу. Был конец спектакля, и на лестнице ждали, видимо, свои шубы и шапки. И стояли на лестнице перед окном, обратив ко мне свои тыловые прелести, две молодые женщины. Брюнетка и блондинка. Как нарочно, они были разные. Брюнетка, с могучим выпуклым задом, стояла, крепкоуверенно расставив ноги, навалясь животом на перила, демонстрировала прекрасные ляжки, туго охваченные голубыми штанами, блондинка, в юбочке-кринолине, парила повыше и так же прелестно обнажив тонкие ножки в кружевцах и резинках. Картина была готовая. И дома по памяти я тотчас набросал рисунок. Назвал «Лестница». Немало любовался им — редкое для меня дело, — пока убрал в папку. Но и там иногда тревожил набросок. Хотелось даже написать картину или акварель. Лучше бы, наверное, акварелью. И не по памяти бы… С натурой! Но где было взять такую натуру? И такую постановку? А особо клял себя, что не дождался, ушел, упустил ту, которая была в голубых штанах, мне она была будто позарез нужна. Нет чтоб дождаться у входа… Господи, сколько так, по-глупому, упускаем! Может бы, познакомился, может, нашел бы как раз то, что всю жизнь искал. В поисках этой (или хоть приблизительно такой!) я потом таскался по универмагам, вообще везде, где были лестницы и женщины, и такая уже не встречалась мне… Настоящие мужчины поймут, художники особенно… С натурой на Руси вообще мучение. Увидел еще попробуй познакомься, познакомился — попробуй уговори. На колени становись — не станет позировать. Волей-неволей я пристрастился заглядывать под подол, и, думаю, многие женщины сознательно демонстрировали мне свои тайные прелести, как были, конечно, и угрюмые, злобные даже, безвкусные, без мужского желания одетые. Тощеньких моделей попадалось порядком, той же, подобной юной слонихе, не встретилось ни разу. И картина пропала. К тому же и в тех же универмагах, на вокзалах наметанный глаз мой засек немалое число ненавистных ментов-тихарей, переодетых, шляющихся будто, но уже следивших за мной, принимавших, как видно, за извращенца, секс-маньяка. У них, ментов, у всех своя одинаковая мерка. А мужичков этих, несчастных, болталось в таких местах много. Их гасили, куда-то уводили, и я плюнул на безрадостное занятие. Картину же «Лестница» писать не стал. Черт с ней! А рисунок остался.
И, будто подтверждая все мои мысли на эту тему, на скамейку, где я сидел уже, наверное, часа три, откуда ни возьмись, опять приземлился Юра. На сей раз был без мороженого, но все с тем же выражением неутолимого, ненасытного голода.
— Все сидишь?
— А ты чего?
— Да я… По трамваям я… Понимаешь? — просто объявил Юра. И, поняв мой взгляд, пояснил — Да нет, не то… Не ворую… Так, разве найду что… Я., счастье получаю. Баб жму. Лето. Бабы в разгаре… Ну вот и… Юбки… Задницы… А что я? Кому? Голодный я. Понял? Вечно… А утолиться не могу… Только этим… Без этого — башку под поезд… Пропаду… Меня, знаешь, из-за этого в психушку таскали, гады… Заметали… А я никакой не псих. Я — голодный! Поседел там! — ткнул в остатки волос за ушами. — Потом отпустили. Мол, посадим… А за что? Что я с детства такой? Я вот был, — показал рукой, — а уже к женщинам меня тянуло. С тетей — материнской сестрой младшей в одной постели спал и уже ее хотел, щупал. Дождусь еле, как она засопит, и рукой, тихонько по боку, по животу, до сосков доберусь… А хочется ниже, в штаны — она в штанах спала… И вот туда я стал залезать, сначала поверху гладил, по резинкам. Помню — трясет меня всего. А остановиться не могу. Или подниму одеяло — и смотрю. Тетка долго меня не трогала. Наверное, ей самой любопытно было. Потом все-таки меня отшлепала, когда совсем уж осмелел. За ЭТО ее стал… И спать не стала брать… — Юра вздохнул, виновато усмехаясь. — А матери, видно, все-таки не сказала. Мать не лупила. Да и тетка-то была молодая, дура. Больно я мал для нее показался. Наверное… Вот… Ну, а что толку, если б и драли? Мы в поселке под городом жили. Вроде деревня… Только сносили там все дома. Другие строили… Конюшни, помню, старые там оставались. Без крыш даже, и бабы со стройки туда ходили. А я маленький, — Юра опять показал, — как баба туда — бегу! Противно? Х-хе… Женщина потому что… Потом я за ними уж на стройке, в сортире подглядывал. Там кабинки были. Я залезу. Дыру прорезал. И сижу. О-ох, зубы ноют. Трясусь весь. Мужики, проклятые, мешали. Стучат. А так — красота. Придет, бывало, белая, сдобная. Подол задерет, штаны до колен спустит. И прямо у меня вот… Как на ладошке. В нос брызжет. А я трясусь. Зуб на зуб не сходится. Каких только там задниц не навидался, каких чудес! Воронок этих, ихних… И все разные… О-о-ой. Счас вспомню, мороз дерет — сладко. А были прямо невероятные. Вот, знаешь, какую у бабы у одной видел? Пришла такая, нетолстая вроде, села, а у нее вот такой вот, — показал мизинец, — из губ торчит. Сделала она, а потом смотрю, пальчиками двумя берет его — и там трогает, трогает, сгибает. У меня глаза на лоб, вот брызну, а она трет, крутит, стонет тихонько. Я сижу — просто млею. Баба пристанывает. Задница ходуном ходит. Голодная, видать. Потом как заорет: О-о-ой! Спустила. Натянула штаны. Подол поправила и ушла. А я весь облился. Случай этот всю жизнь помнить буду. Другого такого не было…
Вид Юры был задумчивый, усталый, несчастный. Помолчав, продолжал:
— Потом мы в город, в барак к вам переехали. Отец-то на стройке: стадион строили… Ну, ты там уж все знаешь, да и то не все. Я ведь каждую барачную бабу сто раз видел. — Юра усмехнулся: — Сумасшедший я, правда, может? Не-а… А как хочешь суди! Тону, а всплывать не буду. На стадионе я еще подглядывал. Доску там прямо оторвал и… Тебе не говорил. Чтоб ты не мешал… Да другие все портили. Таких, как я, много. Считай, каждый пацан так начинал. Если он не дерьмо какое… И мужики тоже. Менты за мной сколько увязывались. В аэропорту ловили, на вокзале. А живу пока… Кому мешаю? Что я — обездолил кого? Может, бабам самим показаться охота?
— Женат ты? — спросил я зачем-то.
— Да так… Ну… Был… В общем, считай, что женат и не женат.
— Жены не хватало?
Посмотрел с сожалением, как на дурного, безнадежного — не поумнеть…
— При чем тут жена? Я ее в первый же год наелся — во! У меня если бы и гарем был, я бы и то от него бегал, искал. Я всех, понял, всех баб хочу! — глаза блеснули безумием. — Всех! Всяких! Толстых, худых, тонких, жопастых, молодых и старше — одних старух только не терплю. Медузы проклятые и моралистки они самые. А так — всех!
Это было почти за пределами моего понимания. Но в чем-то и понятно очень.
— Так и живешь? Как?
— А вот встану утречком. Кашку себе заварю. Чаем побалуюсь. И — айда. Как волк в лес. Весь день мой, все дороги мои, автобусы, троллейбусы, и все бабы почти мои. Иду себе — светлые ручейки в душе бегут. Ты даже представить не сможешь, удовольствие какое — новую, свежую, незнакомую по попке гладить. Да летом еще вот. Платьице тонкое. Трусы ихние.
— И как? Не орут? Переносят?
— Х-хо-о? Ты что-о-о? За милую душу подставляются. Они же тоже го-лод-ные! Они, бедные, такие голодные бывают — хуже мужиков. Иную век никто не погладит. Мне за это «спасибо» тихонечко говорили. Ну, бывают, конечно, всякие суки, и злобные. Да я на них чхал! Отстраняешься, и черт с тобой. Таких и не трогаю. Зато другая просто сладостью тебя обливает. Стоишь — ног под собой не чуешь. Бывает, целый час там едешь. Ей владеешь. И думаю вот: были бы люди не дураки, не ханжи — сколько бы счастья у них было. Не детей ведь крестить? Эх вы, дурачье. Своей пользы не знаете. Трогались бы, ласкались, кто хочет и с кем хочет. Что тут плохого-то? А жизнь-то какая короткая? Иная баба и двух мужиков не видит. А тут бы и все довольны были. Поймут когда-нибудь. Вот хочешь, так поехали. Прокатишься со мной. Попробуешь — не отстанешь.
— Домой мне пора.
— Ну, как знаешь. Бывай! — И Юра снова исчез в подошедшем троллейбусе.
«Да, женщина, пожалуй, уже съела тебя», — подумал я, когда троллейбус замкнул свои сине-зеленые створки.
Я, может быть, лучше, чем кто-либо, понимал Юру и даже без всякого осуждения. Я, бывший зэк и вечно голодный, и до сих пор без женщины. Но понимал и то, что сексомания съест его или уже не оставила ему ничего, кроме… Для него уже нет природы, леса, рек, дома, архитектуры городов, ничего нет, только ОНА. Я мог бы все это сколько угодно подтвердить ему, и он бы с этим согласился. Ведь был почти нормальным, ловили птичек в бурьянах, спорили, боролись, и нас обоих трясло от азарта с каждой пойманной чечеткой. Но теперь жизнь его и все-все затмила женщина, и он погружался в ЭТО, как в трясину.
Когда я знакомился с женщинами, я даже сам себе удивлялся, до чего же робок и глуп. Вот вижу подходящую, и тянет к ней, а язык приморожен, и слов будто подходящих никак не находится. Да что сказать ей? «Здравствуйте. Хочу с вами познакомиться?» Посмотрит, как на хама, скота, и дальше. Такое уже было. Или: «На улицах не знакомлюсь». А где? Когда? И потеряется, плетешься потом, как оплеванный. Ну, хоть бы поговорила, посмеялась. А то и вообще — глянет так презрительно — и дальше. Или… Страшно мешали мне мои изреженные цингой зубы. И в самом передке. Идти вставлять, дергать? Боялся. Хоть убейте. К вышке бы приговорили — не дернулся. А тут приду в эту пахнущую болью и йодом поликлинику, постою в толпе страдальцев, увижу сквозь раскрытую дверь пыточные эти кресла, людей в них с закинутыми головами — и все, вгоняет в дрожь — ухожу счастливый, на волю! Провались все, проживу без зубов, лишь бы не эти иглы, шприцы, щипцы. Кто их только придумал? Чтоб не показывать свои зубы, старался не улыбаться и все-таки один раз переборол страх, пригласил какую-то красивую девчонку в кино. Был у меня лишний билет для приманки. И она пошла, но после сеанса, приглядываясь ко мне, едва спросив, сколько мне лет, тут же брякнула: «До свидания».
С другой, довольно фигуристой, молодой, познакомился на пляже. Она была белесо-бела, и даже на спине, в ложбинке у основания ягодиц, закручивался поблескивающий на солнце «хвостик». Разговорились — будто век знакомы. Она — сразу на «ты». А едва вышла из ворот водной станции, сама пригласила поехать в лес. «Зачем?» — глупее глупого, наверное, спросил я. «За ромашками», не удивляясь, однако, моей глупости, ответила она. И мы даже поехали, на одиннадцатом маршруте, ходившем до самой окраины. «За ромашками». Но пока ехали, набежала туча, полил обломный дождь, сделалась гроза, и мы, не вылезая из трамвая, вернулись. Белесая девка все-таки сильно понравилась своей полной статью, и я договорился встретиться, где никогда и не думал — в ресторане! Она так захотела. Для такого похода собрал все деньги, намеченные на месяц, надел все самое лучшее, что у меня было. А было: костюм еще сносный, ботинки новые, рубашка не очень. Галстук не в счет. Остались от отца, я их и не носил никогда. В ресторане всего робел, не знал, как заказывать, что, зато она держалась уверенно, выбирала закуски, какие-то страшно дорогие котлеты «по-киевски». «Ну, а пить что будем?» — «Вино, наверное», — пробормотал я (не водку же?). «Вино? — поморщилась она. — Я коньяк люблю». Коньяк этот я никогда не пробовал, слыхал только, будто он пахнет клопами. Что тут же и высказал ей. «Кло-па-ми? Да ты, видно, мужик, блажной какой-то?» И то, как она сморщилась. И это ее развязное «мужик»… Все-таки взяли вина. Но теперь она глядела на меня как-то сбоку, по-новому, переоценивала. Вино было хорошее, вкусное. Я пил меньше, оставляя ей. Она не стеснялась. Впервые видел так хорошо пьющую девушку. Да, впрочем, какая там девушка. Так… За стол к нам подсел какой-то грузин. За ним еще двое. Они налетали, как вороны. С вороньим этим своим галканьем. Официант к ним прямо подбежал. Принес откуда-то целое блюдо резаных огурцов, помидор, зелени. Заиграла музыка. Я пригласил свою знакомую (звали Нина) потанцевать. А когда вернулись за стол — места нам почти не было, подставив стулья, сидели все эти черные, носатые, усатые, наглые. Оттеснив нас, пили уже и наше вино. Правда, и их тут же стояло. Но как было наливать ихнее? Не знал, что и делать. Послать их? Не миновать драки. И что я — один, а их уже шестеро… Правда, грузины начали угощать, но все больше не меня, ее, «мою девушку». Она пила охотно, хохотала и уже подмигивала им, пошла танцевать с одним из подсевших, и я видел, как он ее откровенно уговаривает, что-то, видать, обещает, кобель проклятый. И она, похоже, соглашалась. «Ну, влип», — думалось мне. Да она-то вроде обыкновенная таскучая блядь — как это раньше мне в голову не пришло? Правда, когда я расплатился, она пошла со мной, но, пройдя квартала три, вдруг сказала, что живет «здесь близко» и «очень хочет в туалет» и «провожать не надо». Скрылась в ближнем переулке. А я даже с облегчением расстался с ней. Подумал потом, что, наверное, она рванула в гостиницу (там ресторан) к тем грузинам или забежала за подругами. Тошно мне как-то было и стыдно за себя, за все это смешное, пошлое, дурацкое знакомство, когда меня просто по-мелкому обвели, обобрали. Молодку эту я даже ведь и обнять толком не успел. Правда, и на мои редкие зубы она не обратила никакого внимания.
Глава VIII. ПОРАЖЕНИЯ И ТРИУМФЫ
Писали новую красивую натурщицу Она была как-то отдаленно похожа на Венеру Милосскую или Книдскую — прямой, без переносицы, чуть большеватый нос, такие же опушенные в углах глазницы, капризные губы, презрительнее, чем у Венеры. Но тело было плоховато, уже с кислинкой, с той степенью женской бывалости, какую не скроешь, как, впрочем, и лицо, — все не ушло от моего, наверное, чересчур жадного взгляда. И хоть натурщица «не женщина», не обнаженная, тем более не голая, я смотрел. Мой взгляд переходил от презрительных губ натурщицы к ее бедрам и мыску, который она прикрывала, как та и тоже весьма совершенной рукой, останавливался на животе, чуть более полноватом, на грудях, явно знавших многие мужские руки, и все-таки я старался вытащить из этой гулявшей и видавшей богиню. Мне почему-то не терпелось поделиться открытием.
— Похожа на Венеру? — ткнул локтем старательно рисовавшего трутня Замошкина.
— Ты! Тише! — окрысился он. — Венера! Не Венера, а венерическое что-то есть…
— Дурак! — ответил ему, а сам подумал: трутень Замошкин просто грубее выразил мое сомнение. И мне вдруг расхотелось писать ее так, как стояла она в учебной этой постановке. Еще одна «обнаженная», которую потом кинешь за шкаф.
Наскоро закончил набросок. Снял, открепил картон. Поставил на его место новый, чистый. Я всегда брал с собой два-три картона и, бывало, успевал сделать по три наброска, пока все копались с одним. Об этом даже никто, кажется, не знал, и случалось, учителя мои обвиняли меня в медлительности. Не оправдывался…
А теперь решил писать с этой натурщицы Венеру, выходящую из морской пены. Что бы помешало мне? Да ничего! Натура — вот она! Постановку учебную я отброшу. Фон — море, пену, камни — создаст мое воображение. А дальше — что заглядывать. И вдруг я никогда больше не увижу такую натуру?
Лицо ее, очень порочное, все-таки сквозило каким-то именно божественным сиянием, что-то такое словно вспыхивало и пряталось, заслоняясь обычностью.
И я принялся за работу, пожалуй, даже лихорадочно, совсем как тогда, когда писал натюрморт с панталонами и яблоком. Уголь так и мелькал. Я даже не хватался за тряпку, смахивать было не нужно — все сразу точно, четко, фигура Богини, выходящей из моря, рождалась стремительно. Будто по невидимой кальке, я переносил на картон давно построенное и крепко сработанное кем-то до меня. Я улучшал формы этой натурщицы, я придавал благородство невзрачным, в общем-то, чертам ее лица. Я все нашел, даже красочную гамму ее утреннего (так было надо!), светящегося зарей тела. Я мог писать ее без всяких «нашлепков» и «подмалевков» и ТАК начал писать! Вместо истасканной натурщицы, с терпеливой скукой сносящей весь наш коллективный глум, я писал Венеру. АФРОДИТУ. Мне больше нравится ее греческое, неиспорченное, арфозвучное и пригожее к богине: АФРОДИТА! Писал, как видел ее внутренним взглядом, выходящую из прибойной пены, величественную, пышногрудую, круглобедрую, такую, какую хотел видеть сам и какую хотели бы видеть, наверное, многие, если б смогли… Писал и сам уже любовался беломраморным и розовеющим женским телом! Обыкновенную просинь озябшей на своем помосте-подиуме натурщицы я перекладывал кистью в мрамор божественных оттенков, в сверканье пены под морским ветром, и море, родившее это чудо, уже грезилось мне в красках и даже дышало, — другое, античное, древнее и мифическое, не то бездушное море Айвазовских, какое всегда живет в нас: рамное, картинное, великое, без души. Не знаю, кто может любить Айвазовского. Я — никогда. Так же, как Куинджи с его жуткой до скуки «Березовой рощей». И уже захваченный замыслом, прикидывая, как опустить-поднять горизонт, как должна будет играть заря — ведь рождение должно сотворяться на заре (и на очень ранней заре!) и с таинственной голубой звездой — ЕЕ символом, и еще надо было в картину вложить: это я единственный свидетель творения совершеннейшей женщины — не женщины — богини, принявшей женский лик! Это я, художник. Господи!
— Штой-то вы тут пишети, молодой человек! — Павел Петрович стоял рядом, маленький, встопорщенный, зловопрошающий. Несмотря на то, что он был мал и ничтожен, он все-таки как бы нависал надо мной, над моей работой и моим замыслом. Нависал всеми своими догмами, заповедями, поучениями, умом-умишком, заранее сметая всю мою работу. Это был злой дух.
— Что вы пишете?! — повторил он ненужный вопрос, где теперь содержалось, кроме гнева и негодования, еще и грядущее как бы исключение меня из училища, и старческое его негодование на собственную ненужность, которую он сам от себя скрывал, а она все просачивалась, просачивалась и теперь просочилась окончательно.
— Я пишу Венеру, — ответил я, чтобы уж совсем его разозлить.
— Вы пишете чушь! — взорвался старичок. — Чушь! Дичь! Какая может быть Ве-не-ра! На учебной постановке?! Вы еще ученик! Вы даже не подмастерье! Тем более не художник. Вы просто еще НЕУЧ! И вы смеете… Нет… Вы посмотрите! Какая отсебятина? Ужас! Сейчас же извольте снять эту мазню и писать то, что должно! Я последний раз предупреждаю вас! Иначе вы… Будете освобождены от учебы… Нам не нужно самозваных гениев! Нам нужны прилежные ученики. У-че-ни-ки!
Он так трясся, дергался, стал фиолетовым, точно отведал чего-то жгучего и горячего одновременно. Лицо сделалось просто купоросным.
Но я не хотел убирать свой набросок. И, подумав мгновение, вытер кисти, бросил их в этюдник, закрыл его, подогнул алюминиевые ножки, забрал картон и пошел к выходу.
Профессор, должно быть, немо глядел мне вслед. И, так же немо обернувшись, глядели все.
На другой день меня сразу вызвали к директору. Теперь это был молодой лысоватый кагебешник с прицельным взглядом и непроницаемым лицом, лишь глаза его, глаза ястреба, словно пронизывали, откуда клюнуть добычу. Говорили, что он неплохой художник. Участник зональных и республиканских выставок. Но говорили это наши лидеры — «трутни», и их восхищение лишний раз подтверждало мое о нем мнение. Кажется, он сменил Павла Петровича на посту просто потому, что профессор, оказывается, был беспартийным. А Игорь Олегович был.
Оглядев так и сяк, ястреб клюнул.
— Вчера вы учинили безобразный поступок! Рассохин! — Лучше бы уж назвал Ке-315!
Я молчал.
— Вы действием, — он приналег на это слово, — оскорбили старого заслуженного человека, который всю жизнь воспитывал и учил таких, как вы! Кстати, ведь вот и Я учился у Павла Петровича! Да. Да… Надеюсь, вы поняли, что учитесь не для того, чтобы заниматься формалистскими ломаниями. Станете художником — ваше дело: пишите хоть Венеру, хоть Химеру. Но… Поверьте мне, если вы думаете, что живопись — это лишь полет фантазии, вы горько ошибаетесь. Живопись — это служение.
— Простите… Кому?
— Ах, вы не хотите понять? Служение народу, обществу, социализму. А вы что? Хотите разделить судьбу разного рода отщепенцев? Я не советую вам. Вам особенно. Я смотрел ваше дело, Рассохин. Вас, извините, не реабилитировали. И не стоит вам снова идти тем же путем. Извольте учиться. Я вам желаю добра. К тому же вы принесете извинения. Так делают все порядочные люди.
И я принес извинения. Пробормотал что-то такое. Павел Петрович — странная птица-мышь — казался удовлетворенным. Победил! А я продолжал учиться. Афродита не родилась из пены, я лишь забросил подальше невысохший картон. Мой замысел сжался в точку. И я знал лишь, что точка эта подобна будет той, про которую пишут теперь полоумные физики, объясняя таким методом свои «точки» и «черные дыры», куда впитывается, вбирается, всасывается эта «материя», пока не пресытится, не сверхуплотнится и не грянет Вселенский взрыв и не родит звезды и планеты. Афродита не родилась, и может быть, прав оказался Павел Петрович, остановив мое все равно ненабранное и несовершенное, а я действительно уподобился этой полумифической втягивающей бездне без цели даже построить высшее и лучшее. Я просто знал, что Звезда и я живем тем же единым законом. А Афродита, наверное, подождет с рождением. Подождет с рождением.
И еще это странным образом вспомнилось, как в лагере, в том, на Ижме, главвору пришло в голову сделать из меня «чистого битого фрайера». Чистый фрайер — это как вор в законе, но еще не прошедший посвящение, и желательно «не колотый», без наколок, без всей этой пошлой тюремной «прописки» на руках, на пальцах, плечах, на груди и спине, которую потом мой не мой, а на всю жизнь наш! Носи! И редкие воры-фрайера оставались битыми и чистыми. Такие обычно и входили со временем «в закон». Да как мало было! Когда главвор узнал, что на мне нет наколок и что я, конечно, никого никогда не закладывал, не сучился, не бегал в шестерках и в козлах, он велел Кырмыру учить меня «махаться». Тут я, конечно, был «не в правиле», и обучение началось! Со щепки, которая изображала нож. Кырмыр, похоже, веселился, получив приказ главвора. Учить любил. «Бери щепку, бери, бери! Ну вот! Это у тебя — перо. Теперь сади в меня, бей в натуре! Не бзди!» Я бил. Щепка тотчас вылетала из моей руки, кисть, бывало, ныла неделями. Кырмыр ухмылялся, отвода свои рыжие уши. Был страшен — ловок как бес, силен чертовской, жилистой силой. Ее трудно было даже представить в тощеватом, ничем не выдающем этой силы, обыкновенном мужике. Бил он жестоко, на ногу был легок, никакого страха в котовых рыжих глазах. Справиться с Кырмыром казалось никому невозможным. И никто не справлялся. Он был с какой-то удивительной, врожденной, что ли, сноровкой, если бывает такая… Главвор понимал мою неприязнь к Кырмыру и все-таки заставлял нас «махаться». Меня — учиться, его «учить». Наука Кырмыра давалась через боль и синяки, и все-таки чего-то я нахватался. Исчезла, главным образом, моя инстинктивная боязнь драки. В конце концов и от меня Кырмыр начал хватать синяки. Тогда вор сказал, что теперь хватит, и я готовый «битый» фрайер. Прекратил «ученье». Кырмыр после фингалов стал меньше щериться. Ненавидя воровскую «науку», я все-таки понимал: в жизни может и это сгодиться — кто знает, как там и что? И на воле ведь надо уметь постоять за себя. С другой стороны, воры иногда восхищали какой-то своей дикой, диковинной умелостью, неведомой нормальным людям. Карты делали из клочков с ноготь. Домино из спичечных коробков, спички, чтоб хватило «надолыпе», кололи на четыре вдоль, курили, когда нечего, изо рта в рот, в камерах через стены кричали в кружки и так же слушали «отзыв», записки на волю шли — писать стыдно, на шмоне иные проносили, что хочешь, — умели отвести глаз, воры знали точное время без часов, косили под любых «больных». Натирали подмышки солью — «гнать температуру», всему этому за свой «червонец» я научился — хотел не хотел. Все годилось здесь, в зоне, кроме разве науки лазать по карманам и «стопорить», где приемы были уже откровенно подлы, а жертвы выбирались по законам хищного мира, заведомо доходяги или «молодняк».
Все это не то чтобы въелось в мою жизнь намертво. Как раз наоборот. На воле я старался избавить душу и тело от лагерных пятен, но они никогда не сходили до конца, как дурная болезнь, лишь слабели, прятались на время, а где-то вдали все равно чернили душу. А хищно-котовую рожу Кырмыра я, наверное, буду помнить вечно, как и ласковую, совиную, текучую улыбку главвора.
Зачем, почему все это вспомнил? Да, видно, потому, что несколько дней подряд вместо натурщиц писали обнаженного старика пропойцу. Он был знаком мне. Фамилия его была Скурыгин. Жил по соседству. В одинарке у пруда. Однажды он принес матери, продал большого желтого леща в корзине под свежей крапивой. Божился — поймал только что, продал дешево. Рыба оказалась тухлой. Не иначе краденая или снулая. Мать ругалась. Тогда этот «рыбак» был просто пьющим черноликим мужиком, — теперь совсем старик с белой на фиолетовом в синеву щетиной, костлявый тюремный волк, таким в зонах одна оценка: фитиль, доходяга. В бараках такие были дневальными, парашниками, подметали на кухне, лизали миски, болели черт знает чем, вот и на теле этого, везде знаки его долгой и мерзкой жизни. Старик был вором всегда, сидел несчетно.
На нас, рисующих, он будто бы и не глядел. Тусклые, водочного стекла глаза уставлены в сторону с пустым равнодушием. Всех нас он по привычке ненавидеть неясное ненавидел, по привычке терпел — куда денешься, — как терпел всю жизнь эти «кэпэзэ», «сизо», «пересылки», зоны и прочее, что придумало человечество для своих отбросов. Он и родился, наверное, вором, как рожденные готовыми инженерами, врачами, учителями, философами, актерами, проститутками, пьянчугами — всеми. Но вором плохим, неталантливым. Старик меня вроде бы даже узнал. Понял я по короткому обезьяньему взгляду. Сперва не хотелось его рисовать, рука закисала, не мог заставить набросать даже контур. Но потом я задумался, вгляделся попристальней в его волчью, неделю не бритую седину, впалость щек, прорезанных черными морщинами, пустой провальный рот без губ, в его неуловимые глазки со странным обезьянье-волчьим взглядом и вдруг почувствовал в этом человеке что-то отдаленно-родственное. Что? Что?? Кто он? «Вскормленный в неволе» — нет, не орел, куда… Но, вглядываясь, я стал улавливать главную суть его жизни и понял, это была та самая «с в о — б о — д а», которую ищут все зэки и которую теряют подчас с истерическим воем, пластая тюремные рубахи. Да та же самая СВОБОДА вела его, как и меня, только другой дорогой — иным путем. Я понял наконец топазную искорку из-под опущенной, пересеченной шрамом брови. Один я мог написать его так, чтобы передать всю лагерную его жизнь и вечное это ожидание воли, как в клетке у затравленного, а все-таки ждущего какой-нибудь промашки сторожей волка. Это вечное ожидание воли, во имя которой он и воровал, и бродяжил, привычно лгал друзьям и следователям, пил разведенный денатурат, валялся в мусорной лебеде под заборами, лез на любую шваль и пьянь — лишь бы в юбке, — «хватал» от нее и опять сидел «в больничках», чтобы тут же, выйдя малость подблагороженным, задирать другую грязную юбку, лезть в сутолоке-давке в карманы, в чью-то чужую, манящую сладостным опьянением свободы комнату-квартиру. Он был рабом этой СВОБОДЫ, она родит и орлов, и стервятников.
Все это бежало, летело в голове, пока я хватко «лепил» кистью куски его тела и здесь, на картоне, оживала его сущность, творилось второе рождение. За два постановочных часа я сделал то, что полагалось сделать за двадцать. Даже без окончательной отделки с картона моего глядел старый тюремный шакал со всей своей сущностью, которую он всегда словно прятал, а открыл, сделал доступною всем и ему самому я.
Я очнулся, когда мимо прошествовал было Павел Петрович, но не ушел, вернулся и встал на шаг позади. В мастерской воцарилось молчание. Побросали кисти. Павел Петрович стоял минуту, другую, потом он обернулся ко всем и жестом Наполеона пригласил сюда. Обступили. Все так же, молча.
— Глядите! — сказал Наполеон. — Вот так надо писать! Так!
Здесь была высшая похвала художнику. А Павел Петрович не тратил время на объяснения. Удалился тем же торжественным шагом.
С тех пор до самого выпуска я сделался знаменитостью курса. Со мной почтительно советовались, по мне сверяли свои работы. Моими оценками дорожили, как преподавательскими. Я словно занял наконец принадлежащий мне когда-то пьедестал. Я убедился, что истинный художник никогда не задерет голову. Он знает этот свой пьедестал до сантиметра в высоту. С него он просто лучше видит вокруг. Но как редко это при жизни, и как часто пьедестал занимают недостойные и задиристые головы, им всегда надо лезть выше, на чужой подиум. И они ЛЕЗУТ.
Глава IX. НАДИЯ-НАДЕЖДА
Близилось время исхода из училища, превращения в художника. Художника? Да, Господи! Какого еще ХУДОЖНИКА? В учи-те-ля ри-со-ва-ния и чер-че-ния. Где вы, Маковский, Федотов, Тропинин? На всю жизнь во мне ваш «Отставной учитель рисования». Бедный, жалкий старик в проволочных круглых очках. Да. Был когда-то в старой, навсегда ушедшей, умершей ли России? А была она? Россия-то? Русская страна? Там все-таки гимназический учитель рисования, черчения и каллиграфии жил, бывало, в собственном доме, при жене, семье, дворнике, кухарке.
В художники же у нас попасть, впрочем, почти не мечтали. Ну, отдаленно, в будущем. А в реальности — кто? Ближе всех, пожалуй, великолепный трутень Семенов. Этот уже выращивал право писать диплом на тему: «Товарищ Хрущев на встрече с колхозными маяками». Заявку направили в идеологический отдел обкома, и там, слышно, отклонили. Величина была слишком. Вообще, Ленина, Хрущева, вождей студентам писать не рекомендовалось — не тот калибр. Испортить образы величайших классиков и гениальных продолжателей не могли только, оказывается, художники-зэки. Я ведь вот и Сталина, и Берию, и еще кого-кого только не писал. Но Семенову было главное — о нем говорили. Нельзя вождей — можно ударников пятилетки, героя, токаря-карусельщика с Уралмаша, заслуженную учительницу. Наш бородатый славянофил творил «Поход Ермака», Замошкин — «Домны на рассвете».
Подходило время диплома. А я маялся. Не станешь ведь: «Венеру, рожденную из пены». Хотелось же написать только женщину: гетеру, вакханку, куртизанку, сельскую красавицу, на худой конец. Но знал: никто не утвердит такую тему. Опять сочтут за издевательство. Дипломная работа требовала утверждения руководителя, и хоть был им у меня не Павел Петрович, а Николай Семенович Болотников, и ему вольности студентов не прощали. Я ломал голову. Ни к чему другому не лежала душа. Ни к майскому, ни к октябрьскому ни к военному. Может, портрет Васи Теркина? Этакого солдата «Вани-дурачка». Теснили мысли: «А если лагерное? Ну портрет того же Бондаренко? Или начальника режима на Ижме, майора, лысого, с озверелыми бешеными глазами — кусками мартовского льда? Я бы и написал этого лагерного дьявола именно с кусками льда из выпученных орбит. Или главвора Канюкова? Или Кырмыра?»
Срок подачи заявки истекал, а я ничего еще не заявил, ничего не выбрал из списка тем, предложенных дирекцией. Рука отказывалась их «воплощать».
Однажды шел вдоль набережной к дому. День стоял прохладный, несолнечный. Какая-то дымка лежала на далях, в улицах за прудом, и ответное состояние прохлады и дымчатости, грустноватого тумана было в душе. Душа же моя, понимал, как всегда, тосковала по женщине, по той невстреченной, какую я все лщал и искал, и потому, идя неспешно, я привычно вглядывался в каждую встречную, будто отмечал: Она? Неона… Неона… Неона… Эта?! Может быть… Нет… Неона… Не такая… ЕЕ все не было, не было, не было.
Вот штука! Оказывается, «на воле», купаясь в безбрежном женском море, можно быть и быть, как в пустыне, одному-одному со своими напрасными ожиданиями, мучительным голодом, телесным просто, от которого ломило промежность, и лишь постылая лагерная привычка да сны, когда они приходили, спасали кое-как.
Да в снах ведь ОНА и в лагере приходила, разрешала голодную и стыдную вроде мужскую нужду.
Смешно было в этом признаваться себе самому. Мне шел тридцатый год, а еще даже не знал женщины, не пробовал такого, если не считать тех опытов с медсестрой Мариной, когда ходил к ней на процедуры от глистов, и она, эта самая Марина, большая толстая молодая тетка, производя стыдные мне процедуры, делала своей властной, белой мягкой рукой что-то хотя и грешно сладкое, но все-таки не так нужное моему телу, а тем более душе.
Женщина-извращенка, помешанная на соблазнении мальчиков и подростков, делая мне это, она заставляла рукой гладить ее ТАМ, закатывала глаза, страшновато тихо стонала, подвывая сквозь оскаленные зубы, а рука моя потом долго пахла ее теплой резкой мочой. Вот и весь был мой опыт с женщиной, но и то, как вспомнишь, приводивший в дрожь, как-никак, тогдая касался женщины и ее самого запретного. И запретное еще на пятнадцать лет осталось таким же запретным и невыносимо уже желанным.
Набережная кончилась. Начиналась железная ограда стадиона «Динамо», и тут, как бы навстречу мне и наискосок, из ворот его вышли две — женщины-малярки в белых толстых косынках, завязанных, как всегда носят их только женщины этих профессий, в изляпанных мелом и краской комбинезонах и в широких, тоже изгаженных мелом штанах, надетых с некой лихой небрежностью. Одна женщина мне показалась пожилой и худой, изъезженная кляча, совершенно некрасивая, баба-мужик, зато другая, что мягко-валко шла рядом и чуть отставая, поразила сочной свежестью ярко-розового, чернобрового и моложавого бабьего лица, на котором и румянцу было тесно. Комбинезон едва не лопался, особенно штаны, на ее ловкой выпуклой, сдобной фигуре.
Что я так загляделся? Нет, не на обеих, только на ту, вторую. Увидел мимолетно, в полупрофиль курносое, простецкое, однако, милое и доступное как-то лицо с чем-то едва татарским, лишь чуть намекающим на эту совсем не противную мне национальность, не отторгающимся, когда, бывает, видишь уж вовсе раскосую, не скрещивающуюся с твоей душой красоту. Чем эта измаранная мелом женщина-толстуха задела меня, запала в душу? Была, вероятно, лет на десять старше, была к тому же и той профессии, какую художники — и только ли они — цинично презирают, — что таить грех, если, бывает, профессия при всей нужности приравнивается к тем низовым, как техничка-поломойка? И как ни крути, не возвысишь. Все-таки я долго провожал глазами матерую малярку, пока женщины не скрылись за углом. У вас не было такого, когда ноги сами порываются идти (или бежать?) за какой-нибудь девушкой, женщиной и вы даже догоняете ее и никогда почти не можете ей ничего сказать?
Домой же мне просто не шлось. Дома все время вспоминался отец, его последние дни, когда он уже не вставал, совсем высох, деревенел, и я знал — так ложились, чтоб уже не подняться в выводной час лагерные инвалиды. Все знали — путь им один: в «больничку», оттуда за проволоку, в ямы без креста. Не помню, чтобы из больнички той возвращались, разве что в инвалидный барак, но там была только отсрочка, из инвалидного тот же путь. Жалел отца — а что было делать? В больницу его не клали, да он и сам не хотел. Все вспоминал мать. Если б, мол, хоть была… Ая и ее не видал. Помнил только, до заключения мать была не то чтобы молодой, но здоровой и крепкой женщиной. Носила воду на коромысле, колола дрова, смеялась над медлительным, неспособным к спорой работе отцом. Мать съела тоска. По мне, единственному сыну, которого не чаяла увидеть. Политические в те годы не возвращались. Теперь об этом писали открыто, осуждая «культ личности». Реабилитировали погибших, невинно замученных, невинно расстрелянных. Я уж говорил, что остался по-прежнему судимым, получалось — боролся не против культа, а против советской власти. Да и на черта она была нужна реабилитация, раз сидел «до звонка». Я еще никак не мог забыть лагеря, зоны, колючку, вышки и прожектора и лай конвойных собак, как не мог забыть голос и гром радио в Ижме, и бешеное лицо майора с кусками льда из глазниц, и автоматы вертухаев, баню-вошебойку, пайки, обрезанные в хлеборезке, круглое лицо главвора и кошачью беспощадность Кырмыра. Ничего не исчезало из памяти, как не исчезла, не изглаживалась горевшая последним жаром, исходившая кашлевыми судорогами отцова тень. «Культ личности». Вся семья наша была раздавлена этим культом: Сталина, Берию осуждали, а кто творил ЕГО, ИХ — избирал, ликовал и одобрял, орал «ура» на демонстрациях, бил связанных в подвалах, гноил их в «бурах» — и сейчас были вроде ни при чем. Один он виновен был, УСАТЫЙ, но скоро и о нем как-то перестали говорить. А мне вторично пришла казенная почтовая бумага. «В связи с наличием и доказанностью состава преступления по статье 58 пар. 4 и II УК РСФСР в просьбе о реабилитации и снятии судимости отказать».
В начале июня опять вызвали к директору училища.
— Вот что, Рассохин, — с места начал Игорь Олегович. — Где твоя дипломная работа? Николай Семенович (это Болотников) говорит, что ты отказался от предварительного обсуждения. Пишешь сам. Так? Ценю. Но… Удивляюсь! Диплом же! Самонадеянные и до тебя бывали. Бы-ва-ли. И… — он помедлил, помолчал, как бы доставая языком засевшую в зубах крошку, — проваливались! Получали справку. Вместо диплома. Со справочкой же тебя ни в какую школу не возьмут. Ма-ло! И путь будет один — писать стенды, вывески. А о Союзе (имел в виду Союз художников), о Союзе, Рассохин, не мечтайте. И в академию без диплома… Говорить не приходится. Итак, где же ваша работа? В каком состоянии?
— Ее еще нет.
— Что-о-о-о?!
— Нет замысла. Не создал.
— Мм? Ну… Тогда… Пусть з р е е т. Я вас предупредил. Без представленной дипломной картины остальные экзамены вы сдавать не будете.
Я не сказал этому хорошему человеку, что мне хотелось ему сказать. Ведь он все-таки прав — и какое дело до моих забот? Но в душе было погано, и, чтобы успокоиться, я опять брел домой пешком, повторяя маршрут, какой мог бы пройти с закрытыми глазами. Филармония, сельхозинститут, памятник комсомолу — гнусная компиляция скульптуры Мухиной, Дворец пионеров — бывшие хоромы купца Расторгуева, улица какой-то никому ненужной пламенной революционерки Клары Цеткин, где когда-то из подвала вытаскивали убитых: царя, царицу, наследника и девочек-принцесс — и тошный какой-то, жутко тоскливый, вросший в землю дом Ипатьева, а дальше уже более вольный спуск к пруду, к набережной и этот динамовский стадион, где вечно, напоминая о лагере, галдит радио.
Я зачем-то вошел в раскрытые стадионные ворота. Асфальтовая дорожка привела меня к пустому футбольному полю, но там опять были решетки, проходные турникеты. И я повернул назад, успев заметить, по привычке художника все видеть, две малярные люльки у здания спортзала, только что спущенные лебедками на траву. В одной люльке стояла та толстая выпуклая малярка, на которую пялился я так долго в прошлый раз.
И сейчас уставился. Круглое, широкое, простейшего вида лицо. Нос картофелинкой привздернут, и что-то в нем как бы поросячье, но такое, что сразу за душу, глаза-вишни со смешливым блеском, край коричневой челки из-под платка и одна прядка сбоку — «завлекалка». Баба-«скифка». Русская и татарка в одном. Свежа. Хороша. Кожа белого тона, без этой ненужной смуглости. Губы лучше малины. Брови накрашены, но так — не поймешь сразу, может, и свои такие.
Ловкой медведицей вылезла из люльки. «Завлекалку» под платок. Взгляд из-под полной руки:
— Ай? Что так смотришь? Понравилась, что ли?
Опять язык будто ватный. Да, слава Богу, она сама окликнула. Тут нашему брату легче.
— Скажите… Вы… Вы… Не согласились бы мне… Ну, это… (Что со мной. Господи? Заморожен?) Ну, это… Попозируйте для картины?
— Для чо?
— Для картины. Студент я. Художник… Дипломник.
— Кто-о?
— В училище. В художественном… Картину надо писать… Дипломную… Напишите… Тьфу… Попозируйте. Мне..
— Что я тебе? — улыбалась, перевязывая косынку.
— Ну, нарисовать вас… Хочу.
— Захотел. А как это… Пазировать?
— Ну, постойте хоть так… Или с мастерком? Или с кистью. А я нарисую.
— Так руки затекут, — уже мягче, согласилась, улыбнулась она.
— Я вас очень прошу..
— Ишь доняло. Понравилась, однако… Какая с меня картина?
— Не без того..
— Картину куда потом? В музей?
— Как получится..
— Ладно, — сказала она. — Раз приспичило, давай рисуй. Только мне пообедать надо. А то атощаю, аднако, — губы раздвинулись в пригожую улыбку. — В столовую схожу и приду. С полчаса время будит — рисуй. (Все-таки татарское в ней есть — «будит».) Здесь, што ли? Пряма?
— Можно здесь. А лучше бы у меня дома. Недалеко тут?
— Ага! Дуру нашел. Так я к тибе и пошла сразу. Может, ты насильник какой? Нинармальный?
— Что вы?
— Здесь рисуй. Приду.
— Как вас зовут? — промямлил я, все-таки удивленный, обрадованный ее сговорчивостью.
— Надя зовут. Вообще-то, Надия. Татарка я, однако..
— Не похожа.
— А мы все такие. У меня сестры еще русее. В Казани живут.
Она пошла своей валкой, тучной, тугой походкой. Глядел на ее платок. Ягодицы. В воротах обернулась. Махнула.
Побежал за этюдником. Я именно за ним по-бе-жал! Придет!! Она действительно явилась ровно через полчаса, сытая, довольная и словно бы еще более толстая и розовая.
— Ну что? Дай волосы приберу.
Ловко сняла, перевязала косынку, задирая полные руки за голову, по-женски, по-своему — не сделать никому. И все улыбалась своим круглым, светлым лицом, пленяла ямочками на щеках и чуть поигрывая (может, тоже от стеснения?) черной крашеной бровью. Прядку-«завлекадку» тоже не убрала, лишь сдвинула к мочке нежного белого ушка, едва выставленного из-под платка. Лицо было теперь совсем русским, «расейским» даже, исконным.
О, совершенство женщины! Ты можешь быть неожиданным, даже в такой измазанной мелом и красками робе! Лицо Нади гляделось из спецовки, как дивный бутон, брошенный по случаю в малярное ведро. Она улыбалась во все свои белослитные зубы, непогрешимые, ровные, один и второй ряд, меж которыми просвечивала едва плоть ее языка, надо думать, такого же совершенного.
И произошло чудо, — вглядываясь в ее лицо, я как будто околдовывался им, оно погружало меня в тайну ее обаяния, словно захватывало и притягивало властным, неодолимым дыханием. Это была будто бы не женщина, что-то иное, вызывающее трепетное и жадное желание все время видеть и запечатлевать ее красоту.
Торопливо чертил углем, он ломался — рука словно не слушалась меня — преодоление совершенного материала, мысль о том, что я ДОЛЖЕН, обязан написать КРАСОТУ, обязан, а то улетит, трясла душу так перепуганно, что женщина заметила это и сказала:
— Да ты не торопись… Художник. Торопко-то плохо будит. Ты, чай, меня не за один раз нарисуешь? Приходи… Хоть каждый день. Мы на объекте этом («итом» — сказала по-татарски) ище долга будим. Недели три. Успеешь. А, однако, кончай. Перерыв все… Машка моя вон идет. Завтра апять рисуй. Досвидание… — она улыбнулась как-то особенно душевно своей ласковой снежностью и снисходительно посмотрела — так смотрят только очень красивые женщины, безошибочно знающие свою страшную силу, смотрят на безнадежно втюрившегося, которого они вот и не хотели, а поймали. Сам попался. Что теперь с ним делать?
Я же закрыл этюдник, чувствуя, что пропал, — женщина эта меня околдовала. Подошла подруга или напарница ее, тошная, крашенная в черно-тусклую синеву-дрянь. Тасканное злое лицо, рука с наколкой, как у мужика, и что-то мужичье в движениях, подозрительное в угрюмом взгляде не бабьих глаз. Покосилась ревниво. Принял за зависть к подруге. А Надия будто боялась ее и, уже совершенно забыв обо мне, потащила куда-то ведро с известковым желтым разбелом.
Я не стал мешаться, торчать, зашагал прочь, однако очень довольный. Душа пела. Натуру нашел! Еще какую! И картина — вот она! Социалистический реализм! «Ма-лярка Надя». Ну или там Валя. Переназову, если она захочет. Конечно, тематически ох не открытие! Сколько, наверное, ткачих, поварих, доярок, малярок давали диплом молодым художникам! И за шкафами в мастерских таких работ навалом, и в нашем училищном «музее», галерее лучших работ. Помню, там была даже какая-то бойкая деваха-милиционерка. «Тося». Звали еще: «Венера милицейская»! Но верилось празднично — я напишу так, как никто еще не писал! Никому за мной не угнаться!
Весь оставшийся день черкал бумагу, рисовал портрет этой Нади по памяти. Искал лучшую постановку, освещение, колорит. Под руку лезла расхожая позитура-плакат «устремленность», я же хотел, чтоб женщина гляделась ЖЕНЩИНОЙ. Пусть бы лучше вот так и поправляла свою косынку, локти за голову, улыбалась зазывно и смущенно. Ах, эта ужасная ИХ улыбка. Мучительное счастье в сознании своей силы и совершенства в сладостно покривленных губах. В первый сеанс никак не мог найти окончательное, я решил так: напишу две картины — одну там, на пленэре, с натуры, другую здесь, дома, и как найду. С тем и лег спать, и во сне даже видел ее. Эту женщину. Понял — влюбился тягостно, отравно, как влюбляются подчас на улицах, в трамваях, на вокзалах, на остановках, когда вдруг ниоткуда, откуда невесть, появляется девушка или женщина, и ты попадаешь под гибельное, почти отравное ее тяготение, чарование, созерцание ее лица, ног, бедер, платья, каких-то желанных твоей душе и едва обозначающихся, но тотчас угадываемых тобой резинок, перетяжек бюстгальтера, грудей, живота, колен, волос и щек, губ, ресниц, глаз. Ты осматриваешь ее всю, жадно, с упоением, находя все новое и новое наслаждение, удерживая себя и словно не в состоянии удержать, и уж глаз не можешь оторвать, разве через силу, приказывая, хоть и стьщно вроде так смотреть, крепишься, делая вид: «Не интересна ты мне вовсе!». И вот подходит трамвай, и все кончается. Она уезжает, даже не взглянув в твою сторону. А если и взглянет — ЧТО. Тянущее мучение потери, безнадежной, внезапно возникшей, мучает долго, рассасывается медленно, иногда — годами, иногда и вовсе не проходит, рубец в душе остается и саднит горечью потери. Одно утешенье, слабое, крохотное: «Может, еще встречу!»
Что эта Надия теперь моя мука — хорошо понял. Но, слава Богу, я мог ее найти, мог поговорить с ней, писать, любоваться ее красотой.
Я начал ходить на стадион каждый день. Нашел постановку, писал неделю подряд, но в завершение увидел, что женщина как-то тускнеет, «надоело» — про себя ужаснулся и внутренне заметался, не знал, как быть. Спрашивать все-таки не решился. Надия принужденно улыбалась, казалась рассеянной.
— Может… Вы… Все-таки придете., ко мне?.. — пугаясь себя, спросил.
— Ты близко живешь?
— Вот, рядом, в бараке.
— Один?
— Да!
— Как это?
— Так получилось.
— Говори куда? Номер комнаты… Приду я. Вроде ты ничего… Вечером приду… Завтра. В шесть? Ничего?
Радостно кивнул.
— А сюда больше ни нада! Ни ходи… — огорошила она. — Тут мине уже из-за тебя проходу нет. Машка ревнует… Мастер… Прораб… Все узнали, что ты с меня картину. Сбесились как… Или завидно? Не приходи. Понил? Не хочу здесь..
Я «понил». Когда Надия волновалась или злилась, переходила на неправильный язык. Но получалось все равно хорошо. Славно. Даже лучше, чем если б она говорила правильно.
— Приходите! Буду ждать! — сиял, а сам трясся: «Ну, как не придет!»
И всю ночь думал о ней. Мечтал. Ко мне — женщина! Ко мне!
Наконец-то!
Встал, едва занялось утро. И чай не пил. Сразу к подрамнику. Был давно загрунтован. Рисунок только перенести. Все боялся, — казалось, рано. И весь день, будто уходя от погони, гнал и гнал картину. Рисунок. Подмалевок. Краски сразу на новую палитру! И, Господи, благослови! Портрет свершил за полдня! К вечеру бросил кисти, отошел сколько можно. Комната наискось была освещена. И вдруг написанное — понравилось мне. С подрамника глядела не просто малярка Надя — глядела богиня живописи и красок
Надия! Глядела ласково, испытующе, любовно, призывно и, может быть, томно на того, кто нравился ей ответно. Я боялся даже подумать, представить, сказать словами: «Кого она любила!» А в душе все вспыхивало: втюрился! Позарез? В сорокалетнюю? Неужели ее большая, женская и чем-то будто даже материнская полнота так люба мне, и я даже глаз не могу отвести от собственного (и незаконченного) творенья?
Вы помните Энгра? «Турецкую баню»? Женщина на переднем плане слегка напоминала эту «мою»! Надю. Но только едва, в общих чертах и чуть в полноте. Потому что Надя была куда красивее, а писал я, как Энгр, лефранов-скими красками. Коробку их подарил мне (для диплома!) щедрый Николай Семенович Болотников. И он же дал читать книги Вентури о мастерах новейшей живописи.
Она явилась ровно в шесть, как пообещала. И я ее едва узнал. Была, конечно, без косынки, в зеленоватом, льющемся как бы, шелковом платье. В туфлях на каблуках. Накрашенная. И удивила. Да, и сейчас она была красивой, но потеряла что-то в этом, хоть и торжественном, женском наряде. Там, на «объекте», в простом белом платке, в комбинезонных штанах, белой майке и со своей ореховой челкой, без лишней краски на губах и ресницах, была моложе, милее, доступнее, лукавее, желаннее и проще одновременно. Мужчины любят в женщине простоту. А женщинам это невдомек. Здесь она была передо мной уже баба, женщина «в возрасте», который может и отпугнуть, — толстая, румяная, утратившая какую-то важную частицу своего прежнего и будто бы девственного (именно так!). Все это кольнуло меня ступенью разочарования — не разочарования, а просто отрезвленности — потери мечты?
«Ей ведь за сорок будет!» — подумал я, а Надя, зацепив мой взгляд и очень тонко оценивая, сказала:
— Ми-не знаешь ведь сколько? Уж сорок три скора будит. Что скрывать-то! А ты думал — девочка? — От нее пахнуло вином. Опять поняла.
— Получка севодни. Я для храбрости. К низнакомому видь мужику в гости пошла. Машка-пьянь принесла бутылку. Вот и выпили. Потом домой съездила, потом к тибе. А правда, ты художник. Вон красок сколько. Бедно живешь, аднако. Что без жены-то? Ущишься? Для ущиника ты, пожалуй, взрослый. Ну, показывай, как ты мине нарисовал?
Я к тибе сегодня в гости пришла. Рисовать в другой рас будишь. Когда в спицовке. Показывай!
Снял тряпку с мольберта. Отошел от окна. Надия встала рядом. Смотрела. А с подрамника глядела на нее другая Надия. Молодая, веселая, смешливая. Глаза, щеки, губы вот-вот прыснут, взорвутся хохотом. И тут только, стоя рядом со своей моделью, с женщиной, от которой пряно пахло ее женской полнотой, едва уловимым, но ясным запахом живой плоти, дешевых духов и выпитого вина, я понял, что опять попал! Состоялась моя картина! Еще не завершенную, не законченную ее можно было повесить хоть куда: в Третьяковку, в Русский, в Эрмитаж, в Лувр! Смелость? Самонадеянность? Но я же опять по-пал! Господи! Ты, что ли, дал мне эту победу? Дал ощущение моего совершенства?! Крыльев?! Это знают, наверное, одни художники! Блаженство ни с чем несравнимого попадания. Художники, охотники, снайперы, открыватели новых материков? Или…
— Молодец ты, однако… Здорово молодец, — сказала Надия. Она повернулась ко мне и стояла, покусывая полную розовую губу. — Как это здорово миня нарисовал. Такая я тут молодая, хорошая. Красивая. Я правда, что ли, такая? А? Правда?
И вдруг, охватив меня полными мягкими руками, притиснув к шелковому бюсту, к горячим щекам, стала целовать, обнимая все крепче, неотрывнее, судорожнее.
— Что ты?! Тебе понравилось? — бормотал я, упираясь носом ей в нежное ухо, в волосы, дурманно пахнущие, ощущая до дрожи уже покорное сопротивление ее грудей, а она все сильнее стискивала меня, вжималась в меня своим большим упруго-жмущим животом. «Неужели сейчас? Неужели будет?!» — путано думал я, весь в горячем, неожиданно стыдном, сладком бреду, закрыв глаза и не ощущая иного, как волнение притиснутого ко мне незнакомонужного тела, в которое я уже упирал, давил внизу. «Счас, будет это… Это? ЭТО? Ведь у меня этого с женщиной… По-настоящему… Никогда… Не было… Не было… С женщиной… настоящей! Не было…» (А вдруг все это я бормотал вслух?)
И она же двинула меня к кровати. Сильная, тяжелая. Никогда и никак не мог предположить, что женщина такая сильная. Мы повалились на кровать. Или это она повалила меня, что-то бормоча на этот раз по-татарски, тянула, раздергивала брючный ремень, продолжая при этом говорить, целовать, даже слегка кусая мое лицо лижущими укусами-поцелуями. А потом я почувствовал ее властную, теплую, нетерпеливую руку, ее жадное, умелое, доящее движение (все женщины, может, прирожденные доярки?).
И что со мной сделалось? Что было? Невыносимый голод, голод десятилетий, голод от рождения всех моих двадцати восьми, которые я как-то нереально ощущал, вдруг прорвался в мягкой, горячей, властной руке этой женщины и облил ее той же, такой же горячей мучительной судорогой.
— Тычто? Ты УЖЕ, штоли? Готов? — шептала-бормотала она, склоняясь надо мной. — Уже?! Ты слабый, што ли? А? Што? Или голодный? А? Говори? — она ослабила свое давление, распустила руку. Легла рядом. Еле умещались теперь на моей полуторной койке. Молчали.
— Ну, што ты? — спросила она снова, поворачивая ко мне свое круглое, луноликое лицо (вот где понятие лу-но-ли-ка-я). Серо-зелено-коричневые ее глаза с проникающей вопросительной тревогой смотрели на меня. — Может, болеешь? Донести не можешь? Я слыхала про таких мужиков..
— Да нет… Не знаю, — бормотал я, прижимаясь к ней и опять погружаясь в ее запахи платья, подмышек, живота. Она была вся особо по-женски пахучая.
— Што-о?
— Нет. Не то, — бормотал я.
— Долго хотел?
— Долго… Очень..
— Сколько?
— Десять лет… Больше.
— Што? Што врешь?
— Правда… У меня вообще еще не было. Ни одной..
— Ври больше..
— Да не было! Не было! Не было! — закричал я и вдруг, сам не знаю как, разрыдался. Залился слезами, прижимаясь к ней, как к матери. Мне казалось, что слезы мои даже брызгали из глаз. Горячо было щекам. Что такое со мной? Припадок… Нервы? Просто расхлестнулась стянутая еще тогда, в сорок шестом, безнадежно скрученная пружина. Пружина, как цепь. Я чувствовал ее все эти тысячи дней ТАМ и тысячи ночей. Весь срок..
— Врешь, што ли? Или правда? Где ты был? Сидел, что ли? Воровал? Зачем наговариваешь на себя? Зачем?
— Да все правда! Все. За политику я… В лагере был. 58-я статья! Поняла? И женщин не было! Поняла? — немного успокоился.
— Правда — не было? Я первая?! — она вдруг как-то особенно вздохнула, приподнимаясь и снова прижимаясь ко мне. — Не было?
— О..
— О-ай, — по-татарски слегка вздохнула она. — Ты мальчик, значит? О-ай! А я старая дура… Подумала..
И опять притиснулась, опять умелая пухлая рука нашла то, что только, едва, со стыдом не хотел ей давать, как бы осознавая свою вину. Но рука была добрая, ласковая, женская.
— Счас я тебя научу… Все научу. Делай, как велю… Ты, мой мальчик! О-ай… Маленький… Делай сюда… Сюда..
Это было похоже на невыносимое безумие. Я никак, никогда представить не мог столь умелую, ловкую, сладострастную женщину. Второй раз, когда лежал на ней, был долог и мучителен, если мучением можно назвать страдание от ее ног, живота, губ, которые то впивались в мои больным, горячим, влажным поцелуем, то лизали их, в то время как другой ее рот — иначе не могу назвать — жил синхронной с первым неукротимой жизнью и сосал, сосал меня до тех пор, пока я словно бы не потерял сознание в голубом, зелено-желтом, фиолетово-красном, разверзающемся и толчками опадающем, как фейерверк, забытье.
— О-о… — стонала женщина, теми же толчками объединенная со мной. На какое-то время мы погрузились в темноту, а когда я открыл веки, в комнате было уже совсем сумеречно, и глаза лежащей рядом широколицей, родной мне женщины светились кошачьим довольным блеском.
Моя жизнь теперь сделалась какой-то совсем новой и удивительной. Я закончил училище. Получил диплом. И свободное распределение, потому что учителем рисования в ШКОЛУ с моим прошлым, очевидно, не принимали, а иных распределений у нас просто не было. Сбылась мечта. Я был свободным художником. Таким я, в общем, и мечтал стать. Но как? Если я хотел бы писать только женщину, в крайнем случае, еще пейзаж (хоть пейзажист из меня, думаю, был бы далеко не Левитан), чуял, чувствовал, что у настоящих пейзажистов было какое-то неведомое мне главное умение: изобразить, передать… Грозовой вечер, скажем, нетрудно написать мрачными, серыми, лиловыми красками. Можно даже огонь этот, просвечивающий тучи изнутри, спрятанный до поры, найти и все-таки не вложиться в пейзаж, чтоб запахло и ветром, и дождем, и тучей, и молнией той, и вечным, предвечным, восходящим, что есть всегда в выси, в вышине, за грозою. Писать же индустриальные пейзажи: вышки, домны, сталеваров — ехать за картиной на великие стройки коммунизма не собирался, не думал, не то чтобы не хотел. НЕ МОГ.
И решился, пока были совсем тощие деньги, гроши, скопленные отцом и доставшиеся мне, наследнику, — век бы их не получать, — пожить действительно свободным живописцем в поисках будущей натуры для картин и картинных сюжетов, что должна была подарить мне эта заманчивая свободная жизнь. Зато теперь я был не один. Была Надя. Надежда. Надия.
Она приходила ко мне через день-два, иногда прямо с работы. И была ненасытна! Я представить себе не мог, что женщина ее возраста, а главное, полноты, может быть так сладка, чувственна, невыносимо тянуща. Так активна.
— Ну? Ждал? — с порога спрашивала она, всегда освещаясь улыбкой. — Ждешь? Сейчас я. Ой ты, маленький мой! Мамку нада! Дай-ка кувшин. Помоюсь. Эх, плоха вы тут живете. Барак. Тут у тибе и помыться негде. Мучаишься мне с табой… Ладна. Атвернись..
Мылась над тазом. Что-то там делала, ловко и умело приседая. А я уже дрожал. Еще не глядя, не оглядываясь, я уже видел ее.
— Все… Руки еще сполосну., (плеск воды). Ай, намочила я тут. — Поворачивается… — Иди ко мне!
Была уже без платья. Без бюстгальтера. Полные груди с темными запаленными пятнами, с длинными толстыми сосками-сосцами глядели вызывающе. Из-за своей тяжести они слегка свисали, но это не были полно-дряблые груди кормившей и рожавшей женщины. Я знал, у Нади не было детей, и груди были, скорее, девичьи, хоть и большие. А вот панталоны на ней были бабьи, приятные мне, такие, как я помнил на женщинах в детстве. Какие любил. Заметив это, она часто и ловко оправляла их резинки, щелкала ими. «Ага? Любишь бабьи штаны? Я без них не могу. Ни могу в коротких… Летом особенно. Ляжки стираю. Толстые у миня». И прижималась толстым крутым животом, грудями. Находила мои губы. Целовалась всегда взасос, втягивая мой язык в свой рот, как-то особенно захватывая его, трепетно касаясь, как жалом, и, едва это происходило, неукротимый жаркий ток пронизывал меня, заставлял немедленно реагировать мою не столь уж крупную, как мне хотелось и думалось, «игрушку». «Мальчиковый он у тибя еще… Видишь, тонкий… Ни раздоенный… Мне такой уй как ладно! Мальчик мой, пойдем… Ни магу… Ха-чу». Не отпуская, сама вела к постели и начинала так размеренно, спокойно-сладостно требовать своей дани, что я едва удерживался от крика. Ложились, и я тонул, как в хмельном медовом сне, от ее объятий, неотрывных опустошающих поцелуев и ласк, какими она непрерывно гладила, наслаждала мое тело — пальцы ее не знали в нем тайн. Дрожал от хотения, готов был словно взорваться, но она зорко следила за мной, всякий раз ослабляя свой натиск и не позволяя снимать с нее панталоны.
— Гладь меня, гладь, гладь, милый. Штаны снять успеешь… Нет! Не дам! Гладь! Разогрейся! Щупай резинки! Хорошо это! На вот грудь пососи… Соси! Соси! И маленький мой! Милый… О-ай… О-ай… по очереди втискивала свои круглые, длинные, твердые, как литая резина, соски, и я сосал, изнывая от щекотного дикого хотения, желания разрядки, в то время как руки ее, предвкушая доведенное до предела, переставали касаться того, что давало женщине наивысшую радость. Руки ее умело переходили на мой живот, гладили чудным расслабляюще-дарящим движением, иногда задерживаясь под нижней частью пупка. Неожиданно (всегда неожиданно, хотя и жданно!) палец вдавливался в какую-то одной ей ведомую точку — я вскрикивал, как ударенный током. А женщина смеялась:
— Ага! Попала? Еще!! Вот тибе! Еще! Еще! Еще сделать? Нет. Больше не буду… Выстрелишь..
Эта сладкая мука продолжалась с какой-то потерей времени. Я погружался в неведомое мне наслаждение женщиной — в океан, я плавал в его глубинах, то приближаясь к поверхности, то погружаясь в плотные, охватывающие, невыносимые слои. И это были руки Нади, ее губы, язык, теплота ее мягкого большого тела, ощущение властного непрерывного движения, круглоты крутых нежных ягодиц, теплого живота и тяжелых грудей. Пробуждался от жаркого шепота:
— Делай, давай! Делай мне теперь!
Она опускалась-становилась всегда в самую соблазнительную позу, в какой может стоять только женщина, и медленным, соскальзывающим движением спускала-стягивала панталоны. Ее обнажившийся зад казался огромным, невыносимо белым и круглым, с розовой вороночкой-звездочкой в мелких лучиках меж пухлыми ягодицами — отверстием, которым я мог, любуясь, наслаждаться, и мощной двойной розовой складкой под ним, которую она сама — всегда сама — разводила пальцами.
Я погружался в теплое, нежное, властно ждущее и властно принимающее меня лоно, встречающее невыносимо чмокающим звуком, и больше уже не владел собой. На первых порах не мог выдержать и минуты.
А Надия смеялась странным довольным смехом удовлетворенной волшебницы.
— Теперь перерыв, — говорила она, ласково укладывая, целуя меня, дрожащего, тяжело дышащего. — Лежи, отдохни. Наберись силы. Ничего. Это ты молодой. Это у тибе — избыток. Лежи. Я тоже отдохну. Я скажу, когда будит нада..
Часто я засыпал. Отключался. Но всегда просыпаясь от властного сладкопробуждающего меня движения. И второй прилив был медленнее, прекраснее и даже ужаснее, потому что женщина, казалось, только входила в свою женскую силу. Ее ягодицы были ненасытны, они двигались, как хорошо отлаженная, натренированная машина. Они словно на глазах укрупнялись и округлялись, талия суживалась, волосы струились по спине, напоминая разметанный конский хвост. И вообще, в этом положении Надия напоминала лошадь, в ней было что-то чудовищно женское и кобылье одновременно. Она наслаждалась с глухими гортанными стонами, вздыхала, взвизгивала все сильнее, сильней присасываясь ко мне, охватывала, втягивала, держала, и, наконец, я чувствовал: в горячей глубине ее тела что-то уверенное, самостоятельное, необъяснимое начинало с невыносимой сладостью ритмично сжиматься, а ягодицы прекращали движение, только тряслись, дрожали волнистой, морочащей разум дрожью. Мой крик сливало с ее полустоном-полурыданием. Это было вечное торжество женщины над мужчиной.
Иногда так было и в третий, в четвертый и даже в пятый раз. Пока мы не забывались в провальном, обморочном сне.
Собираясь утром на работу, Надия пристегивала, оправляла свои резинки, смеялась: «Умаял миня всею… Му-жик! О-ай! Какой ты у мине мужик! Маль-чик саладкий! Я таких дажи пи-редставить не могла..»
Опускала юбку.
— Ладна. Дай поцелую! Мужик мой! Ой, саладкий! Дай еще! О-ай! Еще… Вот опять тибе хочу. Ладно… Биту. Апаз-дываю. Милай ты мой! Приду..
Мой свободный диплом не давал хлеба, и надо было думать, как жить «свободным художником». Мечта эта в абстракции весьма прелестна — на деле, я хорошо это понимал, была донельзя неосуществима. Социалистический реализм полностью и глумливо вычеркивал определение, с исчезновением которого как-то само собой словно растворялось и определяемое: художник. Этот реализм требовал от живописца заказных добродетелей, казарменной службы, холуйского нахватанного радения. Рабы его сплошь писали портреты «знатных людей», «героев семилетки», «маяков», увенчанных звездами, сталеваров, доярок, свинарок и колхозниц-ударниц. В моде был Пластов «Ужин трактористов», в чести разного сорта Жуковы-Серовы: «Ленин-вождь», «Ленин и Свердлов на трибуне», «Ходоки у Ленина». Сколько красочной, ликующей дребедени было развешено в стенах нашего училища, лезло в глаза на выставках, в клубах, фойе театров, неслось на демонстрациях. Разве и я избежал? Написал вот портрет Нади «Малярка» и тоже, значит, творю «заказ», иду, куда толкают. Иду в строю. Торгую кистью. Ну, пусть, наверное, я написал картину-портрет лучше многих. Ее не только засчитали в — рекомендовали на городскую осеннюю выставку! Но, забегая вперед, скажу — на выставку она, конечно, не попала (не сразу догадался отчего!), картину же все-таки вызволил из запасников, нашел и унес домой. Я словно не совсем еще, не до отравной ясности понял: 58-я статья никогда, пожизненно не отменяется, она вроде будет следовать за мной, как тихое, неявное, а все-таки заметное дыхание в затылок этих проклятых невидимых, неслышных органов, которые и после расстрела Берии все равно остались, и живут, и следят за тобой. Только за мной? А так казалось… Наш директор, Игорь Олегович, вручавший диплом, жал мне руку с усмешливой проницательностью искусствоведа «в штатском». Было даже не по себе. Он вручал мне будто бы некий другой диплом. И я будто бы стал другой, получил его и расписался в книге, под торжественным взором и при-парадненным ликом Павла Петровича. Игорь Олегович всем говорил одни и те же торжественные слова. Стоял он в учебной аудитории, где за спиной его висела огромная политическая карта СССР, и, получив диплом, для которого я принес в жертву социалистическому реализму свою Надю, я почему-то думал, глядя на полотнище карты: отчего ложь окрашена в красный цвет, и разлилась по миру таким широким разливом, и вот, кажется, уже затопит и все остальные, закрашенные другим цветом пространства?
А еще я часто вспоминал, какое у меня было желание — уже потом — топором, ножом распластать, исхряпать этот диплом — Женщину, вымазанную мелом и краской, а вместо него написать, написать бы Надю во всей цветущей, бабьей, несказанно бесстыдной, неслыханно бесстыжей красоте-наготе, с какой она открывалась и отдавалась мне.
О, если б можно было написать ее в косынке, как часто она почему-то не снимала ее, даже ложась со мной («Так лутше!»), с обнаженно-пухлой грудью, зовущей нацеленными в меня сосками на бесконечное наслаждение, в голубых или в белых трикотажных штанах и с улыбкой всезнания на губах мучительной сладострастницы, уверенной в своем неотразимом совершенстве!
Глядя на нее — мою властительницу, я часто тайно прикидывал, что если б действительно написать ее так, стоящей у постели и не обнаженную, еще только готовящуюся и предвкушающую, и назвать картину: «Женщина» или «Женщина в голубых панталонах» (рейтузах — тогда их называли так.)? Белая, глубоко надетая косынка необыкновенно красила, молодила ее лицо, придавала какое-то неотразимо женское, девичье выражение и в то же время что-то тянуще-развратное, что было всегда сопряжено с ее нарядом, содержалось в этих туго натянутых голубых, белых или розовых бесстыжих штанах.
Да. Картина бы получилась из ряда вон! Попадали бы все преподаватели, исключая разве Болотникова, а Павел Петрович, наверное, бился бы в истерике. Я часто представлял его таким, он не умел скрывать свои чувства.
В моей еще не слишком долгой жизни я успел научиться бояться людей маленького роста. Малорослым был следователь, засадивший мне «червонец», малорослым — главвор, малорослым — «кум Бондаренко», Левка Горелин, дравший зэкам пальцами цинготные зубы, малорослым надзиратель «Мышонок» — не было его привязчивее, никто больше его не таскал в «бур», не паял новые срока. Старые лагерники говорили: Мышонок, когда был простым конвойным, бывало, посылал зэка за зону принести доску, бревно и тут же стрелял, а добивал лежачего. С виду Мышонок был словно добренький, курносый, лицо белое и с веснушками, а из-под шапки кудрявились желтые волосики… И Игорь Олегович, вручивший мне диплом вольного живописца, был невысок ростом, улыбчив, мелкозуб, только глаза его отливали зеленым, стеклянистым блеском.
Иногда, раздумывая о своих будущих работах, — у меня все-таки было теперь хоть время подумать, — я прикидывал, что, если б написать всех этих «маленьких» в стиле Гойи, его «Капричос». И останавливало только — не хотелось повторения. Помнил заповеди Болотникова: «Писать только то, что нельзя не писать».
В нашей училищной галерее, да всюду, куда ни кинь, ни плюнь, без конца было — этой «трудовой романтики», чванных ветеранов, благостных героев — жизнь мнимая и парадная затопляла стены зала. И намека даже ни на что явное и выстраданное. Будто бы и не было на Руси этой тяжелого, надрывного труда, разорения и одичания, лени, лагерей, надзирателей и «начкаров», Канюковых и Кырмы-ров, Ижмыи Лозьвы, взорванных обезглавленных церквей, изб «кулацких», обращенных в правления колхозов, самих этих «кулаков», расстрелянных вместе с изнасилованными женами, не было сломанных пытками бунтарей, — ничего такого не было, что составило бы жуткую историю этой несчастной Земли, на которой Дьявол творил руками своих дьяволов-«революционеров» гнусную оргию обмана, растления, вымораживания и вымаривания столь недавно еще великого, державного, благостного и беспечного народа.
А пока я слонялся по городу, упиваясь радостным предожиданием: «Вечером придет Надя, и опять будет продолжаться наш праздник опустошающей, ненасытной любви». Любовь ведь всегда кажется вечной. Кажется вечной…
Надя жила в общежитии на скучной, пропыленной улице, какие всегда ведут к складам и базам, улице рядом с мельзаводом и чудовищным бетоннопузым элеватором, загородившим своими бастионами словно весь белый свет.
— Почему ты в общаге? — удивлялся в самом начале нашего знакомства.
— А што? Не нравитса? — вела вверх блестящие, напомаженные брови.
— Замужем, что ли, не была?
— Я и счас замужем… — огорошила наивного.
— Как так? Ушла, что ли?
— Ушла. Потому что его «ушли»..
— Где твой муж?
— Там же, где и ты был!
— Тоже зэк? За что? Статья какая?
— Хулиганка статья… Он нихароший был. Мучалась я с ним, и вышла нихарашо. Снасиловал он миня. Я, правда сказать, ни девушка была, ну, там другой случай. Ни хочу говорить… Ну, а этот вот миня после вечера в клубе, на улице прямо. В кустах, в сквере. Ни хотела я с ним. Дурной. Злой. Крутой. Потом он уговорил. Пошла. Девкам все, знаешь, замуж надо. Пошла. А жизнь (она мягко, раздумчиво произносила «жизень») никак не задавалась. Пьет. Дирется. Пьет. Ривнует к каждому столбу. И так пошло. Рибенка ат его побоев скинула. Больше не беременела. А он попал на три года. Год просидел, вышел по амнистии. А еще хужее стал… Опять жили, а он миня все бил и бил. Пока опять не посадили. Тогда четыре года сидел, а я в семье его жила. Я-то сама сирота, родителей у нас не было, сестры еще есть. Одна в Казани, одна в Сибири. Я-то здесь ФЗО кончила, вот и считаюсь вроде русской — по паспорту татарка, а можит, и нет. Муж тоже вовсе не понять кто. Семья у них очень плохая. Все пьяницы. Атец, мать, братья., сестры шальные, нихарошие… Это бы еще ничо, а брат евоный приставать стал, и отец ихний то хапнет, то лапнет. Брат, тот вообще абнаглел. Прихожу с работы, начну пириодеваться — подглядывает. В сенках прижмет, щупает. Под подол лезет. Терпела, терпела — в обшагу ушла. А мужик, когда вышел, давай меня обратно. И бить, и бить. Мол, гуляла. А я што делать должна? Я молодая была — горячая. Мне биз этого жить? Хоть на стену лезь. Если б помогло. Ночи не сплю. Просипаюсь от этого. Штаны мокрые. Тело замучило. Вон какая я… Что я, годы его ждать должна? Да, если б любила — ждала бы. Апротивел он мине. Ездила, конечна, к ниму. Пока недалеко был. Да ему свиданку редко разрешали. Он и в лагере дрался. Срок ему еще добавляли: последний раз шесть отсидел. Думала, научили. Научат там! Пришел, пьет, гуляет. Воровать еще стал. А синяков я сколько от него вынесла..
Надия замолчала, потом, усмехаясь, добавила:
— И это делать с ним противно стало. Как палач, все груди исщиплет. Вот так, с заверткой. А я красивая была, лучше, чем сейчас, понятно. От мужиков проходу не было. Он из-за этого меня и бил. Глаз подобьет нарочно, чтоб синяк на виду. И — ходи. Убегала. И вот опять посадили три года назад. В строгие лагеря теперь. А я опять в общаге живу — ни жена, ни вдова. Вся жизень моя такая… Хм… — Впервые увидел, как улыбчиво, неуловимо Надия плачет. Солнце сквозь дождь. — Иди суда. Иди, мальчишка мой! Утешение. Хоть ты, слава Богу, есть. Я тибе ни с кем не изменю. Никакому мужику… Ни бойся. Давай, я тебя, миленький, поучу. Хочешь? Сверьху сяду? Хочешь? (Все тише и будто боясь: услышат!) Ложись вот так. Дай-ка мне… Я тебя счас..
И, стоя на коленях, горячим нежным языком начинала едва прикасаться к моему блаженству, медленно усиливая его, доводя до невыносимости (сейчас лопну!), останавливаясь, и снова усиливая, целуя какими-то протяжными лижущими поцелуями и, наконец, втягивая в рот осторожным покатым движением, какого я и представить не мог у такой крупной женщины. Ни с чем несравнимая, мучительнейшая из пыток, каким она подвергала меня и, насладив так, доведя, казалось, до взрыва, сжимала, не давала свершиться неизбежному и продолжала снова. Наступал миг, который я буду помнить всегда, потому что здесь ЖЕНЩИНА представлялась мне уже во всей колдовской, звериной невыносимой, всеобщей, с понятием ЖИЗНЬ сопрягаемой сущности.
Она медленно снимала панталоны и, держа их в руке, садилась надо мной, огромная, белая, сладко-солено пахнущая, и жаждуще раскрывались сами собой ее створки-губы будто большой перламутровой раковины, розовой и влажной, из которой, еще более странным торчал венчик прекрасного цветка, похожий на чашечку нарцисса. Я никогда не мог даже представить и предположить такой странной поглощающей красоты, потому что за цветком открывалась темная щелевидная глубь, как бы ждущая всеми своими влажно-овальными краями моего исчезновения в ней. «Сюда смотри! — приказывала женщина, опуская красивый палец к венчику нарцисса. — Видишь? Как тут хорошо? Как чисто… Сейчас ты у миня сдессь будешь… Весь сдесь… Вессь… Видишь, какой миня хочет? Давай… Как дрожит? Давай. Тепло ему сделаем..» И я погружался в нее. Она медленно, осторожно садилась на меня. Я входил в горячее, пышно-пухлое, ласковое тело. Словно бы и вправду — ВЕСЬ. Женщина — жизнь втягивала, всасывала меня, слегка отпуская и вбирая обратно. Это было удивительно нереально и в то же время совсем ясно и потрясающе. В нее — и обратно, в нее и обратно, в нее… Я стонал, хотелось кричать и «противиться», а она запрещала мне, грозила, продолжая свое, и когда я не слушался, ее теплые штаны затыкали мой рот. Как кляпом. И тогда начиналось то, что уже невозможно спокойно описывать, описать словами вообще, потому что женщина словно включала какой-то неудержимый жадный насос, сосущий и всхлипывающий, и под его движением я был без власти, без воли, без всего того, что составляло мою сущность, — весь уходил в процесс моего растворения и опустошения и уже не хотел ничего иного, как раствориться в женщине, в ее теплой, властно владеющей мной глубине.
Еще… Еще… — само считалось, отдавалось во мне. — Еще… Еще… Я закрывал глаза, но словно и так видел белое пышное тело, вздрагивающие груди, ее отчаянно запрокинутую голову. Еще… Еще… Еще..
Все завершалось и впрямь каким-то невероятным, долгим освобождением, которое она покрывала сама надсадным животным криком, облив меня словно горячим июльским ливнем.
Никогда не мог представить женщину столь искусной, страстной, сладострастно-опытной одновременно.
Я приходил в себя от ее мягкой, пухлой тяжести. Надия лежала на мне, придерживаясь локтями. Ее губы водили по моему лицу, прикасаясь бесчисленными легкими поцелуями, в то время как те, другие губы еще делали, продолжали делать свое дело не желающей отпускать, полувтягивающей лаской.
Может быть, только так стало мне ясно-понятно это стыдное будто слово со-во-куп-ле-ни-е. Объединение в одно, в единое и, может быть, по единому, высшему плану.
Иногда, отдохнув, она повторяла все снова, и, когда оставалась до утра, я знал, так будет еще и еще.
Надия казалась такой ненасытной, что однажды я ей шутливо это высказал.
— О-ай, — ответила, улыбаясь. — Это ты миня такой сделал! С моим мужиком ничиво я ни могла, ни хотела. Он как пустой был. А ты — молодой, да еще без бабы столько. Вот мы и сошлись, я, считай, без мужика все годы голодная жила… Счас вот… Распустилась с табой… Себе ни верю. Ай? А ты, может, ни хочешь? Так? А? Хочешь? Хочешь! Потому что я хочу! Я табой насытиться ни магу!
— И я тоже… Все женщины такие?
— А ты их пробуй!
— Вот еще! Я тебя хочу. Только не сейчас, может..
— Что-о? Ни сейчас? — она гладила мой живот, нащупывая в нем что-то. — Ни сейчас?! А вот тут, — мягким умелым пальцем надавила чуть ниже пупка. — Вот тут нажать и — захочешь! О? О-о! О-ай! Видишь? Я тибе дам «ни хачу»! Посмотри теперь, — она поворачивалась, — какая у миня саладкая по-па! Какая круглая! Ай? Как лошадь! Ставь, миленький, ставь, мой родной! О-ай, мамочка, как хорошо! Ой? О-о… Де-лай!..
Когда совсем обессиленные, расслабленные истомой лежали рядом, я опять спрашивал Надю, где она так здорово этому научилась.
— Так ни спрашивают. Ги-де? Обидеть-ся магу! Я так сама к тибе приспосабливаюсь. Чувствую — так надо… Ты ни думай. Я мужиков, можно сказать, совсем не знала. Муж ни в счет. Да он и не мужик — дермо. Мужиков я из-за него не любила, нет… Тибя только… Потому что ты мальшик. Как мальшик… Был бы мужик — и не надо..
— Как же ты любишь? Кого?
Молчала, мерцала крашеным глазом.
— Кого?
Вздох. Молчание. Глаз отражает какую-то муку. Невы-сказанность. Почти отчаяние. Что с ней?
— Кого?
— Да тибя! Тибя первого так люблю… Я же… Да ладно… Ни паймешь ты. Маленький еще.
— Как это «не пойму»? Что «не пойму»?
— Ладно. Давай отдохнем. Утро вон уже, зарится. Сви-тает… Мине ведь на работу. Рано надо. Поспать, хоть немного… И ты выспись. Завтра вот опять приду вечиром, а доить будит нечи-ва. А? Ай, ты мой са-ладкий! Поспи. Ат-дахни. Жадная я. Всего тибя выкрутила. Ничиво ни оставила. Что, чтоб ты на баб ни сматрел. На чужих, на других. Спи..
Я засыпал на ее руке, большой, мягкой, томно-цветочно пахнущей ее подмышкой. У нее был очень приятный нетерпкий запах, как у пряных полевых цветов, пижмы, что ли. И во сне я видел поля, жаворонков, небо, свободу.
Иногда она уходила неслышно. Я спал до полудня. Пропускал утро. Ну и пусть. Жизнь, если задуматься, кажется, вовсе не имеет никакого значения и смысла. Смысл просто нечего искать… Или он весь в женщине.
Глава X. ЗАВОДСКОЙ ЖИВОПИСЕЦ
Не заметил — подошла осень… Подкатили ближе мои не столь отдаленные заботы. Кем быть? Учителем рисования можно было только в область, в глушь, в те же лагерные места. И куда я? У меня здесь все-таки есть где жить. Комнатушка двенадцать метров. Решетчатое окно. Динамовский забор перед ним. И густая барачная жизнь с песнями, гулянками, драками, разводами. Хочешь не хочешь, живи, нюхай картофельно-керосинный смрад, слушай вой баб, визг детей, пьяный хрип отцов. Сделать тут мастерскую? Для художника было здесь очень плохо. Темно даже в ясный день. Забор этот, чем не лагерный? — заслонял белый свет. Дальше еще роща высоченных тополей. Под забором дорога-грунтовка с глубокими, промятыми колеями — в дожди полна кофейной гущи, в сухмень пыль застилает окно — протирай не протрешь. Целый день горит лампочка — а толку?
Нет мастерской. Но не это главное — главное, в таком городище никакой работы живописцу. В клубах, дворцах все занято-перезанято. Везде обсели прочно, не выгонишь, бывшие трутни, в студиях же, при дворцах маститые художники, члены Союза, иные — наши преподаватели, в салоны (таких не было еще!) с твоей живописью не пробиться. Заказы? Мне? Кто я? И от кого возьму заказ? На заказы нужно ИМЯ. Да и с именем не очень-то почитают. На базар? Добрую живопись туда никто не несет. «Лунные ночи»? «Свиданье у фонтана»? — обложат налогом, как частника-кустаря, взвоешь.
Сказать, что я метался, — ничего не сказать. Просто с тупым упорством целыми днями бродил по конторам и отделам кадров. Художники нигде не требовались. Газеты и объявления пестрели списками: каменщики, сварщики, штукатуры, токари, фрезеровщики, бухгалтера — все требуются, и нигде намека даже, ничего для художника. И осталось последнее: на завод. Заводы, сказать честно, никогда не любил, еще честнее — ненавидел. После лагеря их заборы и проходные, вышки с прожекторами до оскомины вспоминали зону. Мое страдальческое десятилетие, то ли вынутое из жизни, то ли, скорее, вложенное в нее, всаженное навечно, как рубец. Заводов в городе сплошь. Я истратил на их обход весь август. И все напрасно. Тогда добрался до заводов-гигантов на военной городской окраине. Я-то хотел работу поближе. Эх, окраина! Что смертнее твоей тоски? Глины, бараков, пустырей, брошенного, ржавеющего лома и хлама, стен, кладенных наспех из шлакоблоков, может быть, тоже зэками. И колючка натянута на железных глаголях. «Не влезай — убьет». Скалится трафаретный череп, хохочет над моими хождениями по мукам. Сдуру, пока не уяснил, что всякие спецотделы не на территории, совался в проходные, натыкался на совсем лагерные вертушки, только вместо надзирателей-вертухаев стояли ледащие старики-фитили в каких-то охранных формах да бабы, на вид пустоголовые, но злобные, с наганами на толстых животах. В первом отделе кадров большого завода милицейского вида женщина, быстро полистав мои справки, куда-то позвонила, что-то там вякнула невразумительное в трубку, услышала ответ. И, не глядя даже на меня, как потустороннему, протянула документы обратно:
— Не подходите. Нельзя..
— Почему?
— Сам должен знать. Завод особый. А ты отбывал по 58-й!
— Но я же все от-был!
— Ничего не знаю. Нельзя. Все..
Лицо как при вынесении приговора. Женщины на этих должностях много хуже мужчин.
И опять августовское солнышко. Опять шелестят подсохшие листья саженых, стриженых, тоскливых топольков. Предосеннее лагерное солнышко над этим забором. Ноги сами влекут дальше, к еще белее унылой громадине и тоже за колючкой. Один завод здесь смыкался с другим заводом, и такими же были ворота, и здание управления, и табличка отдела кадров. Зашел, постучал прямо к начальнику. Вместо женщины примерно в такой же комнате с решетками на окнах и за таким же столом широкоскулый, молодой еще мужчина с чем-то знакомым в лице. Это просто тип такой. Рыжий. Широкое лицо цвета недоваренной свеклы все засеяно, как из решета, оранжевыми веснушками, и на губах веснушки, и в глазах. Есть такие рыжие, похожие во всех странах и во всем мире. Но мужчина глядел на меня все-таки с любопытством. Как бы и узнавал. Я копался в памяти. Кто? Кто? И вспомнил: «Это же Гаренко! Учился я с ним в начальной школе. И он был классом-двумя старше».
— Кем хочешь работать?
— Художник я… Училище закончил.
— Давай документы!
Опять изучающая тишина… И опять было то же движение. Обратно.
— Нет мест?
— Да как сказать тебе? Статья у тебя. Да… Место-то, может быть… Помолчал, разглядывая.
— В восемнадцатой, случаем, не учился?
— Учился, — промямлил я. — И тебя… Вас… Помню. Гаренко твоя., ваша фамилия.
— Ишь ты! Верно. Помнишь?
— Вы у Софьюшки учились?!
— А ты у Марьюшки?
— У нее.
— Ты смотри-и… Как же ты успел столько дров наломать? Ну, ладно. Счас время другое… Вот что… Художников у нас по штату не положено. Вернее, положен, да не справляется. Я тебя возьму нормировщиком как бы… А работать будешь художником. Зарплата невелика, конечно. Ну, тут уж я… — Гаренко развел руками, ухмыляясь своей подсолнуховой рожей. — А если подходит, бутылку с тебя!
— Когда выходить?
— Хоть завтра.
Так я стал заводским живописцем. Кончился горькосладкий период моей свободы. Теперь по утрам я ехал на работу, через все эти на километры разбитые тягучие окраины. Ехал вдавленный в чьи-то спины, спецовки, в мазутные запахи и просто простую вонь, шел через проходную, вспоминая лагерный шмон, — туда, на завод, не шмоняли, обратно только придурков. И вот я уже на территории, иду мимо длинных цехов, пока не предстает передо мною, когда я сворачиваю за угол сборочного, нечто двухэтажное, кладенное из тех же серых шлакоблоков строение, с кривым дверным проемом и такой же косой дверью на пружине. Она хлопает за мной, будто капкан, и повторяет еще: «Попался-попался!» Пристройка, похоже, была подсобкой, оставлена прежними строителями с военных лет. Нижний зал, заваленный, заставленный плакатами, планшетами, транспарантами, служит кладовой, тут хранится материал для праздничных шествий, оформления колонн. Вверху уже довольно просторная мастерская с отгороженной каморкой для спанья. В мастерской, всегда раньше меня приходит, находится «старший» художник — так он себя сам именовал — Сергей Прокопьич, пропитый, прокуренный мужчина с лихими в проседи кудрями, желтым во впалую складочку лицом былого кутилы-импотента, а может, даже тайного содомщика. Особо в тон его облику глаза зеленорыжие, табачные, с оттенком давнего блуда, постоянной трусости, мелкой наглости и, что, в общем, тоже никуда не денешь, беспомощности и доброты. Мужчины такие будто родятся специально затем, чтобы курить, пить, щедро тратиться в молодости на женский пол и, отвергнутые затем этим полом, уже привычно находить отравную усладу только в двух первых занятиях: табаке и водке.
— Ну, будешь у меня подсобником! — сразу определил место Сергей Прокопьевич, разгоняя курительный дым (было — топор не упадет). — Работы у нас — во! — показал на кадыкастую шею. — Заваливают. Партком. Завком. Комсомол… Каждый день: плакаты давай! Витрины (говорил: «ветрины»), героев там, оформляй. Тут съезд опять же… Стенды ударников (говорил: «стЕнды»), Давай, вот с ходу берись — новых членов Политбюро надо. Шелеста., и эн-того… Подгорного. Шелепина..
«Опять как в зоне! Опять Политбюро!»
— Слышишь? Это тебе от меня экзамен будет… Можешь? (Говорил: «эгзамен»!)
«Дурак ты старый, дурак!» — думал, а ответил кратко:
— Могу.
— Давай, — обрадовался Сергей Прокопьевич. — Подрамники к ним — стандарт… Внизу есть. Холст дам. Карточки энтих в парткоме возьмешь. Да гляди! В аккурате чтоб было: а то съедят и меня с тобой. Потом еще самого Никиту надо. Большой портрет на фасад. Как Ленин чтоб… Ну, эн-тот погодим. Погляжу, как справишься!
Искурив до ногтей сигаретный окурок, тут же запаливал новый от старого, внимчиво, углубленно вздымая кустистые брови. И сигареты курил по себе. «Турист». «Нищий с палкой».
Вот опять пишу почти знакомое. Плеши. Лысины. Орлиную строгость. ЧЛЕНЫ. ПОЛИТБЮРО. Вроде как боги. ОЛИМП. Выше которого не прыгнешь. Выше которого представить невозможно. Как судьба вздымала маленьких и чаще всего заурядных людишек — не объяснить никому. А мне тогда и мысль такая не приходила в голову. Вспоминаю вот, как писал Шелеста. Кто таков? Да типичный такой деревенский хохляка. Прижмуренные в углах житейские глаза. Плешь-лысина, нос бульбой. Тебе бы колхозом каким командовать, либо у плетня с подсолнушками, у хаты своей беленой, с таким же дядьком в шароварах мешочных, «люльку» покуривая, балакать, в хате с мальвовыми рушниками, с таким же «Шелестом» горилку пить, жинку по толстой, кормленной салом заднице хлопать. А ты вон где! Политбюро! А рисуй тебя — не ошибись. Благородство чтоб и солидность, строгость и власть — все было.
Рисовал по-своему. Как всегда, без клеток, чем тотчас привел в изумление «старшего» художника.
— Сашка? Ты это как? Без клеток? Без сетки?
— И так не ошибусь..
— Што ты?! Што ты-ы? А не похож получится? Голову снимут! Делай сетку давай…
— Незачем..
— Н-ну, пас-мот-рим! — качал кудлатой сединой, запаливая очередную сигаретку, и уходил в свою каморку-конуру.
Что-что, а начальственные эти лысины рисовать-писать мог с закрытыми глазами, сколько их написал еще в лагере. Ленин. Ленин. Ленин. Берия. Берия. Берия. Теперь вот Хрущев и этот Ше-ле-ст.
К вечеру он был готов. Кажется, я даже не очень старался. Хитроватый, толстомордый — глядел он с портрета с дурной властительной возвышенностью. Их всех следовало изображать властителями. А в детстве моем они еще назывались «вожди».
— Од-на-ко и маладец ты, — признал Сергей Прокопьевич мою работу. — Смотри ты! Как взял! Без клеток! Гла-аз! Ну, убедил… Можешь… Художник… Теперь следующего валяй. Вот энтого. Подгорного. — И вдруг, развеселившись, ударил по коленям, пошел как бы с приплясом: — А тты под-горна, ты под-горна, ты под-горна., ули-са, а по ття-бе не-кто не ходит — не петух — не ку-ри-са!
Я понял очень скоро радость Сергея Прокопьевича и то, отчего у него было много работы. Портрет такой, какой я делал за день, он писал месяц. Рабски, по клеточкам, линейкой-лекалом, вымеривая каждый штрих. Портреты его получались вовсе уж неживые и до того схожие с фотографией, что можно было увидеть и оборотную сторону всякого снимка — его плоскую, контурную бездушность. Дотошно перерисованная фотография всегда кажется ужасной. Но Сергей Прокопьевич как раз этим-то и гордился. Отходя от холста с видом Жреца и посвященного, кривил табачный глаз и рот, окутывался стервенелым дымком. Явно ждал похвалы. Очень скоро он все-таки понял, что учить меня нечему и учиться у него я не намерен. Я шутя делал то, на что уходили у него дни, полные бесконечных перекуров, прикидок и размышлений вслух. И еще обнаружил — никакой он не художник, ничего не кончал, просто «клубник», самоучка-мазила. Оказалось, и на фронте он даже был и там умудрился спастись своим ремеслом от пуль-осколков. На месте своем он держался благодаря другу — директору этого завода, с которым вместе с лужи ли — воевали.
Если были деньги, Сергей Прокопьевич «запузыривал». Пил литрами. И меня всегда потрясала эта его выносливость. Влить столько водки в столь тщедушное тело! И что за жидкость тогда заполняла его вены-артерии? Напившись — плакал, кричал: загубил талант! Женщин ненавижу! Баб! Из-за них все зло! Все тоска-печаль. «Ты их, сук, еще не знаешь! Они тебя еще не обжигали! Погоди-и… Узнаешь! Еще вспомнишь Сергея Прокопьевича. Ссуки они все! Суки продажные! Суки!» — на этом речь обыкновенно кончалась, и, погрозив вздетым пальцем над кудлатой головой, заплетая нога за ногу, он удалялся в свое логово. Кажется, он тут почти жил. Не то был изгнан этим самым ненавистным ему полом из дому, не то просто боялся в состоянии подшофе не найти дорогу к дому. Жена у него все-таки, видимо, была. Изредка после первой-второй рюмки он ее вспоминал и всегда одинаково: «А жена у меня., зме-я… Да! Коб-ра! Очковая. Кобра! Ты, Сашка, их бойся. Все змеи, суки, ведьмы! — И, опрокинув еще рюмку, жмурясь, отдуваясь, делал рубящий жест: — Все!»
Пожалуй, мы сработались. Я был просто выгоден ему. Не пил. Не курил (теперь!). Не травил время зря. Рисовал скоро. Писал плакаты еще быстрее — лагерь научил такому всему. Руки не тряслись. Головане болела. Но мое присутствие было и вредным. Пить «старший художник» стал больше, курить вообще не затыкался, даже и спал с сигаретой, много раз прожигая свой сальный, мазанный красками халат и даже клетчатую рубашку-ковбойку, в которую всегда был обряжен, и она странным образом шла к его вдохновенным всклокоченным патлам-кудрям и желтовато-иссохшему обличью. Рубах таких, кажется, было всего две — «одна с перемывахой», — и обе одинаковые и одинаково жженные.
Однажды, совсем нечаянно, нас посетил САМ. Директор. Почему это директора больших заводов всегда словно или малы ростом, или уж выше всякой меры тучность и представительность? Наш был из второго рода. Тучен, щекаст, краснолиц, с атмосферой нездорового властного мужчины, которая словно распространялась вокруг и на всех.
— Прокопьич где? — не здороваясь, а только вдавив подбородок в шею, осведомился он на мое нижайшее. Я, наверное, так и выглядел: мелкая тварь, подмастерье, подпасок.
Не успел ответить.
— А-а-а! — густо дохнул директор, углядев в проеме входа в каморку торчавшие нежилые полуботинки. — Ххэ… Хуум! Набрался!
— На работе? Хм. Ттээк… Уволить, что ли? — полуповернулся к выскочившему из-за его туши угодливому черноглазому человечку. — Завком? Ты как? Не возражаешь?
«Завком» пожевал со значением, какое можно было истолковать и так, мол, можно и так, мол, может, не стоит?
— Ладно… Пускай дрыхнет. Устал… Пить… Жизнь тяжелая пошла… А ты кто? Помощник? Что кончил? Училище? Ну, ладно. Смотри сюда. Картину мне надо в приемную. Вот… Такую, — достал из кармана открытку. Айвазовский. «Девятый вал». Сможете сделать? Чтобы честь по комедии! А? Оплата отдельная. Как?
— Смогу.
— Ты? Сам?
— Конечно, сам. (Было даже смешно, хотя ничем я себя не выдал.)
— Не напортачишь?
— Справлюсь. Краски получше надо. Наши — малярные.
— Э? Звать как? Александр? Македонский? Хм. Ну, лады… Картину оставляю. Краски будут. Багет — тоже. Срок… Две недели хватит? Ну, чтоб ровно. Все. Посмотрим. Ы — ых вы, хху-дож-ни-ки… Привет от меня передай. Ему! ОТ МЕНЯ! — директор со свитой вытеснялся из дверей.
Взбуженный Сергей Прокопьевич униженно кряхтел. Скреб затылок..
— Што не разбудил? Незадача… По шее наладить могут. От его — сбудется. Он у нас на фронте на передовую знаешь как загонял? Только не угоди… Начальник тыла был. Армии!
А я у него вроде как по худчасти. И доставалось. Даром что в одном классе учились. Грозен. А копия-то важная… Айвазовский! Море писать ему, конечно, не нам… В Крыму, слышно, жил. Маренист… А я? Море-то на картинках только да в кино видал. Выручай, что ли, Александр.
Я выручил. За четыре дня написал это вдохновенное дерьмо. Скучен Айвазовский. Скорее — фамилия одна. И морем его никто, наверное, кроме собирателей, не вдохновился. Мертвое, сделанное, придуманное море, хоть пахнет старой и вечной голландской классикой. Но в багетах для гостиных-приемных, наверное, годится. Не в подлинниках, конечно. Но и копия должна быть лучше всего бы авторской, а дальше, с каждой новой убывает сила картины, разменивается, растранжиривается, и вот уж совсем пошлость, хоть на стену не вешай. Искусство погибает в копиях. Но что делать, когда этого не понимают? И когда заказывают? А писать копию мало удовольствия, — нет находок, нет озарений, не дышит счастье тебе в затылок. Все найдено, сделано до тебя, не тобой: рисунок, колорит, краски. Знай старайся, прилежный раб, хоть и копировать в точности тоже нелегко.
И опять поверг в изумление «старшего» художника без клеток, на глаз повторил картину. Что там: плот, обломки, буревое солнце и штормистый этот ВАЛ.
— Ну-у-у! Гла-зо-меер! А? — уже не хвалил — пел Сергей Прокопьевич. — А краски-то? Да ты сильнее этого Айвазовского написал! Отдавать неохота! Краски-то! Краски!!
Краски были действительно — благородные, яркие, чистые, импорт, фирма «Ле фран». Дурной, крашенный в золото багет я отверг. Принесли другой, дороже и благороднее. Две недели картина сохла. Отлакировали. Вставили в раму. Гляделась теперь как сокровище. «Старший» цвел, потирал руки. Чтоб не обижался, я и ему дал место — прописать второстепенные детали, а едва он смотался в свою каморку, тут же и выправил.
Наконец, обернув раму суровым холстом, понесли торжественно в покои директора.
— Сам-то чо! Бернардине его понравилось бы! — мудро заметил Прокопьич.
Бернардина Августовна — секретарша — по объемам соответствовала директору. Все до того фигуристо-плотно. «Не укулупнешь!» — прошептал Сергей Прокопьич, моргая на ее зад (ушла доложить директору в дверь-шкаф). Так же достойно воздвиглась обратно. Пухлые ноги в белых чулках чудом вколочены в туфли-лакировки. Бюст — подушкой. Прическа — «башня». Все затянуто-обтянуто. Что там, внутри? Лучше не отгадывать. Люблю полных, но не таких ватных кукол. И взгляд! Вечно обиженно-брезгливый. Художники. Нищие… Мужики… Пьянь. Фу…
Картину, освобожденную от холста, директор обозревал, как Наполеон работу Давида «Коронация Жозефины». Где-то я читал, что Наполеон стоял перед «Коронацией» чуть не час. Час не час, но после глубокомысленного, с прищуром, молчания, директор в конце концов вдохновенно развел лапы-ручищи:
— Ммолодцы! Молодцы!! И даже на подлинник дюже похоже. (А видал ты подлинник-то?) Молодцы. Справились с задачей. Я доволен. Все-таки… Мастера. Ну, давайте счас прямо… Спрыснем. По рюмочке… Ди-на!
В кабинете директора над диваном уже висела картина, и тоже копия. Шишкин. «Лес». Но «Лес» этот был тускл, замучен, видно, долго над ним трудились, с многочисленными доделками и переписками, а в живописи, чтоб цвела, надо в один мах, «алла прима», — краски в переписанных местах зажухли, почернели, тональности спутаны. К тому же родимые земляные эти краски: охры, сиены. Тусклый кобальт… Ясно стало, кто и писал этот «Лес». Директор понял мой взгляд, может быть. Совсем невольно, чересчур изучающе оглядел я полотно над диваном.
— Картины поменяю. Эту в приемную, а эту — сюда, — широким жестом.
Сергей Прокопьевич принял жест безропотно. Однако я понял, что теперь мой начальник, получив слишком бесцеремонное доказательство, не станет сильно восхищаться способностями подчиненного.
Выплыла Диночка.
Поднос с фужерами как бы в дождевых каплях. Минералка «Боржоми». Хлеб на тарелочке, тоненько, культурно. Сыр. Колбаска. Зачем-то лимон, нарезан дольками, обсыпан сахаром. «Для чаю, что ли?» — сообразил. На картину покосилась. Не понять. «Да Бог с тобой, подушка».
Директор тем временем достал из встроенного шкафа с сочинениями Ленина бутылку коньяка.
— Ну-ка, хлестнем, испробуем. Марочный! — возгласил он. На шее Сергея Прокопьича вверх-вниз прокатился кадык.
Сели в мягкие кресла. Самолично налил. Не скупо. Чуть не по фужеру.
— Ну-с? Ху-дожники. От лица руководства. Премию выпишем. И, как говорит партия: «Так держать!» — Повел глазом на два портрета: Ленин. Хрущев. Теперь вот здесь будет еще мой «Девятый вал».
Коньяк был горячий. Душистый. Пахнул чем-то вроде крепкого чая. Никогда я не пил коньяк. И закусывать его, видать, полагалось лимоном.
Директор смаковал, посасывал этот лимон. Сергей Прокопьевич хлопнул залпом. И весь залучился, точно это коньячное солнышко обогрело-прижгло снаружи и внутри.
— Как, Прокопьич?
— Хар… Харро-шо-о-о… Такого не пивал!
— Марочный. «КВ».
— Как танк, вроде. Помните. Был такой. ТАМ.
— Как не помнить! Как слоны танки были. «Клим Ворошилов». «КВ». Давайте-ка еще! То-то. Ху-дожники. Искусство… Как там? Требует… Требует жертв… Так? А что, друзья, мне бы вот картину хорошую домой? А? Чтоб не хуже… Лучше даже. А? Закажу?
— Сделаем! — тотчас подтвердил старший.
— Напишете?
— Сделаем! — еще суровее подтвердил, глядя на остатки вожделенной влаги.
Директор разлил.
— Так считаю — договор в силе… Но! — поднял короткий сарделечный палец. — Надо — женщину. Ну, там, в постели, или как… И чтоб пристойно было, и чтоб посмотреть, конечно… Копию бы с не очень известной. А? Как подлинник… Смотрелась чтоб…
— Ренуар подойдет? — вместо меня сказал я. Язык мой сказал так.
— Кто? Как? А… Да… Наверно..
— Тогда я… Принесу альбом… Выберете. А может, вам с Кустодиева?
— Это кто?
— Купчих писал, — вставил Сергей Прокопьевич. (Тоже не лыком шит!)
— Купчих? Голых? Падойдет. Мне надо чтоб женщина. Вот как Дина! С такими вот! Такая… И там чтобы! — показал, какие должны быть у женщины и к а к а я. И «здесь», и «там».
А я сладостно подумал: «Видел бы ты мою Надю! МОЮ Надю. Надию». Тогда я не знал, что такое женщина. Еще не знал. И как опасно применять к ней это простенькое, собственническое и сладкое: «МОЯ».
Когда вышли из кабинета, откланялись Бернардине Августовне — снисходительно повела бровью, была чуть теплее, но все-таки высоко, недоступно: «А, знаю вас всех, вам только бы нажраться», — Сергей Прокопьевич сказал, заплетая косный язык:
— Ты тут ме-ня, то-во… Уволь… Уволь… Это… Я… Не поволоку… Сам давай… Напросил-ся? Ри-нуар… С тебя он счас… Не слезет… Я зна-а… Я… Его со школы зна… Скар-пи-он… Да… А коньяк ххо-рош… Ты ему только… Ска-жи. Шоб не наваливал… За-ка-зов… Хоть так… Отыграться. По-ал?
О, Ренуар! Жан Пьер-Огюст… Или как там тебя еще? Я благодарен тебе и твоей прекрасной натурщице. Директор выбрал «Девушку на обрыве». Обнаженная толстушка-блондинка на обрывистом берегу у моря. Молочное тело. Желтые косы. Восковая спелость… Картина эта понравилась и мне, но, главное, я освободился от диаграмм неуклонного подъема и других-прочих успехов торжествующего социализма, от всякого рода «призывов» и «транспарантов». А главное — обзавелся опять лефрановскими красками и кистями «Рембрандт»! Художники? Слышите меня? Такие краски светили только мастерам живописи, членам Союза художников и то по строгому отбору (не каждому!), а я завладел сокровищем — тубами в нарядных цинковых упаковках, в коробках под целлофаном. Тюбики были с удобными широкими ребристыми крышечками. Пиши, художник! Чистота красочных тонов поражала. И конечно, краски эти я тотчас же начал жадно копить, неучтенно беречь для своих будущих работ и, простите мне, не все расходовал на директорский заказ. Половину просто «взял» — пишите в деле — украл! Картину сделал за день. Еще день ушел на раму. Неделя на сушку. Неделя, чтоб просох лак. Но сделал, видимо, все-таки быстро и так, что тотчас за директором, расхвалившим мой труд, — похвастал и перед своими, явился с заказом главный инженер, за ним — заместители директора, главный механик, секретарь парткома — охотник. Этому понадобился, конечно, не безыдейный Ренуар, а старый русский художник Степанов — «Лоси на болоте», — ну, помните вы, наверное: лес, рассвет, полянка, стог сена и семья лосей около. Лоси — так себе. Написаны без знания.
Рассвет хорош. Степанова я писал с такой скоростью — удивился. Часа через четыре холст был готов. Прокопьич ахал. Я негодовал — без всякого моего желания превратился в заказного копииста. В конце концов про мои живописные подвиги узнал будто весь завод, а ко мне (к нам) явился САМ главный бухгалтер — недоступный мужчина, считавший, что на заводе нет большей величины, и даже на директора взиравший как бы снисходительно. Главбуху понравилась кустодиевская «Венера в бане». И чтоб непременно «как живая». Венера эта была все-таки не находка. Писана явно без натуры, «по представлению». Луновидная крупная баба с веником, в клубах сизого пара. Лицо — явная компиляция с Ренуара, писал явно больной, вкладывал последнюю тягостную тоску по НЕЙ, белой, толстой, розовой… Поставлена фигура грамотно, а все — позитура. Нет движения. Невольная статика. Без модели нет живописи. Нет души. И будь хоть трижды Кустодиев — не добьешься. Картина не оживет. Сама женщина нравилась мне круглой цилиндро-конической схваченной полнотой, а вот загадка — и отталкивала одновременно. Писал ее неохотно, может быть, все время мысленно сопоставлял с могучим совершенством моей Нади, Надии, Наденьки (такзвал про себя), потому что теперь влюбился в нее, как говорят, «по уши». Надя была живая. «Русская Венера» — вся выдуманная, воспетая лишь лихорадочным жаром догоревшего художника. Последнее понял я много лет спустя. МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ.
Копией же я в первый раз остался недоволен, хотел переписывать.
Зато главбух был в восторге. Любовался Венерой, поотставив спесь, и даже щедро отвалил мне сто рублей. Сумма не то чтоб значительная, а все же..
Деньги я взял. В конце концов, это ведь работа, пусть холст, рама, краски — все не мое. Другие ведь и ничего не платили. Считалось — я на работе и, значит, обязан.
Глава XI. КОГДА ЖЕНЩИНА ХОДИТ К ТЕТКЕ
На бухгалтерскую сотню купил Наде серый, жемчужного тона, крепдешин на праздничное платье. Предпочел бы купить готовое, но таких платьев, а главное, таких размеров, в магазинах не было. И я решил, вручив подарок: пойду с Надей вместе в мастерскую выбирать фасон. Странно-счастливые мысли приходят иногда нам в нашу детскую голову. В том, что мужчины — дети, убедитесь сами, подумав.
— О-ай! — удивилась она подарку. — Мине? Ты первый такое даришь! Ай, какой матерьял! — поцеловала она покупку. — Спасибо тибе. Дорого? Да? Уй ты, мой мальчик! Художник мой! Сошью! Для тебя носить буду! Ты у миня герой! Талант. Ты у миня золотой! Дай поцелую! Иди суда. Хочу..
И опять было безумство этой невыносимой, опьяняющесладкой женщины. Не знаю, не объясню, что такое таилось в ней, было в ее лице, улыбке, глазах, ямочках на щеках, в тянущей душу походке, овалах бедер. От нее шел непрерывный возбуждающий ток, тепло, притяжение, заставлявшее меня все время и без устали ее желать, хотеть ее тяжелого и в то же время нежно-пухлого тела, ее губ, грудей с мощными твердыми сосками, ее резинок, панталон, ее запаха — особого, невыразимо приятного, которым упивался, как можно упиваться, сунув лицо в букет сирени, черемухи, пряных полевых цветов. Последнее сравнение вернее, но была в ее запахе и сирень, и черемуха, и даже, вот странно, не портящая общего дурманная пряность калины.
— Што ты миня все нюхоешь? Нюхоешь? — смеялась она. — Миня никто никогда не абнюхивал. Только ты. Облизать готов..
— Готов! Хоть где.
— Какой..
— Да я даже запах твоих штанов люблю!
— …Тогда на! Нюхай! — снимала всегда свежие, чистые, мягкие панталоны (меняла их, должно быть, всякий день), сама прижимала к моему лицу.
— Хорошо? Глупый! — смеялась она, в то время как рука уже охватывала, гладила мою буйно восставшую плоть. Умелая, теплая, нежная, властная женская рука.
— О-о! Хорошо! — стонал я и знал, сейчас опять будет невыносимое, блаженное, бесподобное, разрешающееся таким выжимающим душу всеобщим расслаблением, стоном и дрожью, после которого тело, казалось, теряло вес, становилось воздушным и растворенным.
Но она могла и словно бы кормить своей необузданной энергией. Иногда, может быть, почувствовав или ощутив, что уже достаточно обессилила меня, Надия вдруг начинала меня насыщать. Она делала это всегда лежа на спине, положив меня на себя, и я, утопая в ее грудях и губах, весь во власти ее полного резинового — не то сравнение! — упруго-теплого живота, размещенный меж ее пухлых ног, получал вдруг такую ритмичную накачку, что, даже освободившись (часто Надия не доводила до этого!), чувствовал себя сильным, свежим, отдохнувшим, будто проспал целую ночь беспечным детским сном.
А она улыбалась:
— Я все могу! Видишь? И не устал! Все могу… Может, ты еще и узнаешь, что я могу… Ни все сразу… Все сразу узнаешь — разлюбишь. Миленький мой!
Я еще не знал, что, когда женщина обладает тобой или ты обладаешь ею, она может давать тебе любые клятвы, может кричать, что ты единственный, самый сильный, самый прекрасный, замечательный, любимый… Женщина может, и ты веришь, как верят в счастье и в то, что оно бывает… И в то, что все это одна сплошная ложь.
Сейчас я думаю, что Надия была особенная женщина, потому что непрерывно создавала тот праздник, который делал меня ждущим радости, какой я даже представить себе не мог раньше. От нее шло непрерывное, сильное сексуальное или еще какое-то такое эротическое, да просто женское возбуждение.
В чем оно было?
Было буквально во всем. В ее походке — она ходила с грацией слонихи, но слонихи молодой, игривой, смеющейся (если слонихи умеют смеяться, а наверное, умеют!). Когда она надевала платок, повязывая его так, как обычно носят-перевязывают малярки, я не мог отвести глаз от курносоватого нежно-бабьего профиля, любовался ее овальной щекой, всегда в пунцовом румянце, ее губами, крупными, но не резкими, которые могут и обиженно плакать, и добрыми, простодушными, щедрыми, розовыми, без всякой помады, любовался ее подкрашенной бровью, которой она умела томно играть, и коричневой челкой, наискось из-под косынки. Я особенно любил ее, когда она желанно раскрывала губы и кончик нежно-розового языка дразнил меня, просовываясь меж двумя подковками зубов. Зубы Нади были выше всяких похвал и, наверное, вполне заслуживали всех этих эпитетов: белоснежные, ослепительные, у нее никогда не пахло изо рта, а вернее, запах был чистый и приятный, сходный с травой. Однажды я сказал ей об этом. «А я ромашкой рот всегда полощу, — ответила она, — вот обычной, на дворе растет. Хорошая травка!» И так же, уж признаться, пахла ее вагина, необыкновенно прекрасная, узкая, с двумя розовыми, кругло удлиненными валами и розовым же цветком меж ними. Волос тут у Нади, как у всякой чистоплотной настоящей татарки, не было, и это мне особенно нравилось. Она казалась так моложе и чище, просто крупная тяжелая девочка. Девочка в сорок лет!
Я любовался Надей, когда она одевалась или раздевалась, неторопливо двигаясь по комнате. Уже говорил, что носила она только длинные панталоны и никогда трусики, тем более не плавки.
— А… Нивкусные они, — объяснила, — ниженские. Женщина должна быть в таких штанах — так она желается лучше. А на резинку вот так надо. Вот так! — и, хохотнув, показывала язык. — Ага! Уже попался? Штаны для женщины — первое дело. И для мужчины понимающего — тоже. Цвет… И все такое, и ризинки. Я дак мимо никаких ритузов пройти не могу. Где продают. Увижу хорошие — сразу беру. У меня их штук сто будит. На всю жизень хватит.
Или укладывала полновесные груди в чашки бюстгальтера, жаловалась:
— Ай, тижолые. А перед ЭТИМ болячие. Ненароком заденешь — ойкнешь. И бегать мешают, и работать. Такие пративные… Хм.
Потом она надевала короткую широкую сорочку с кружевом и трикотажное платье.
Красилась недолго. Чернила только ресницы, особенно в углах век, приобретая после этого взгляд, который кто-то назвал у женщин неотразимым.
— Ну, пошла я, — говорила она.
И я провожал ее всегда на крылечко барака, дальше она не позволяла провожать: «Что люди про миня подумают?» Но, уходя, всегда оглядывалась — нет никого? Улыбалась плутовски и шла дальше, нарочно извилисто вертя ягодицами, — они двигались у нее будто сами собой, были одушевленными.
Но бывала она и другая. Вдруг и всегда почти внезапно исчезала дня на два-три. Я ждал, изводился. Работала она уже где-то на другой стройке. И я не знал — где. Спрашивал. «Зачем тибе? Что люди подумают? Я ведь замужняя все-таки». А на мою ревность, когда являлась, всегда очень радостная и словно побитая и приниженная, ответ был один:
— К тетке ездила.
— Что за тетка? Какая? Сама говорила — нет родни.
— Есть… Дальняя… Да что ты миня ривнуешь? Муж ривновал, да ты типерь? Пришла вот. Никуда ни делась. И мужика у миня нет. Все к тибе хожу.
Но однажды, истерзанный этими ее уклончивыми ответами, за которыми чуялась какая-то ложь, я решил выследить Надю. И, как хищник, притаился близ ее общежития в ожидании, когда Надя придет с работы. Был уже конец октября, но стояло тепло. Низкое солнце золотило к вечеру пожелтелые, полуопавшие тополя, и на душе у меня, в тон вечереющему дню, так же вроде было солнечно и грустно… Надю увидел издалека. Шла торопливо, нагруженная сумкой и кошелкой со снедью. Так же, торопясь, зашла во двор, где стоял двухэтажный барак общежития. Забор кругом обходил порядочный пустой двор, там всегда сушилось на веревках белье, а посередине две гнутые железные стойки с натянутой рваной волейбольной сеткой. За разломанным забором я и ждал, бывало, Надю, если ходили вечером в кино, и смотрел, как играли в волейбол, неумело топыря руки, девки-строительницы и парни с мельничного завода. Теперь я остался ждать. По торопливой походке Нади понял, что она скоро выйдет и, наверное, пойдет ко мне. А вдруг не ко мне? Забор был хорошим прикрытием, и я бродил вдоль него, поглядывая, как бы только не пропустить Надю, там был и еще один выход в другую сторону (ко мне!) через широкий давний пролом.
Надя действительно скоро вышла. И с теми же сумками-кошелками. «Значит, верно, к тетке!» — рассеянно подумал я. И хотел уже выйти из «засады», догнать, помочь нести. Но Надя из ворот направилась в сторону, противоположную моему расчету. Я отпустил ее довольно далеко и опять, как хищник, последовал за ней, постепенно понимая, что идет она к улице, где трамвай. К трамвайной остановке. Мне пришлось даже подбежать, чтоб успеть с ней вместе. Шла она быстро и не оглядывалась. Была она в плаще, видимо, еще в кофте, в сумках угадывалась снедь, хлеб и как будто даже бутылки. «Значит, точно к тетке», — с облегчением подумалось мне. И тут же охладило: «А вдруг к мужику? Что же я за дурак? Какой это резон сорокалетней женщине ездить регулярно к какой-то старухе? Ведь «тетке», наверное, не меньше шестидесяти — семидесяти? И так торопиться? Нет, идет она явно… Или к тетке? И все-таки проверю».
На остановке ждала густая толпа. Это помогло мне совсем незаметно сесть в тот же вагон, не упуская из виду Нади. Пока в трамвае было тесно, я даже не очень заботился о конспирации. Надина тетка жила, видимо, где-то на окраине, далеко за Визом, потому что моя женщина (МОЯ ЖЕНЩИНА!) — учтите это, мужчины, любящие притяжательные местоимения, — спокойно уселась на освободившееся место и будто не собиралась подниматься до конечной остановки. Вагон пустел, и мне пришлось выскочить, перебежать в прицепку. Уже хотелось теперь разыграть роль сыщика, и я подумал, стоя на передней площадке второго вагона и рассматривая через два стекла неясно видимую подругу, что работа эта, сыщиком, интересная и даже, найду такое слово, — увлекающая.
Но вот трамвай заскрежетал на поворотном круге, оставшиеся пассажиры поднялись, а я увидел, как встала Надя, поправляя свободной от сумок рукой подол помявшегося плаща. Теперь мне надо было как можно незаметнее выйти, пропустить Надю вперед и в то же время не потерять из виду. Помогло то, что трамвай стоял на повороте и один вагон как бы заслонял другой. Надю я увидел уже порядком удалившейся по ветхозаветной окраинной улице, широкой, обсаженной кленами и тополями, с домишками на два-три окна по обе стороны и сухими колеями, заваленными бурым и желтым листом. «Впрямь зря слежу, — думалось, — к тетке она, конечно. Какое свидание здесь, на этой окраине..» Но я шел следом, пока Надя не остановилась у ворот, не то стучала, не то звонила. Я шел по противоположной стороне, где тоже были тополя, не раз спиленные и окруженные снизу буйной порослью. Меня не было видно, хотя сам я, приблизившись, видел, что калитку открыла какая-то женщина (вроде бы женщина?), так показалось, но могучая фигура Нади заслонила ее, еще раз мелькнул овал ее зада. Калитка захлопнулась.
«Ну? Убедился? Сы-щик! Раз женщина открыла, зачем я тут?» Уже заметно свечерело, и село солнце. Стоял обычный октябрьский вечер, тихий и быстро темнеющий. А я все топтался, как дурак, не то собираясь уйти, не то ожидая, что, может быть, Надя, недолго побыв у тетки, пойдет обратно, а я как-нибудь ухитрюсь, встречу ее на дороге, в трамвае… Даже «прокрутил» все эти сцены, слова, жесты удивления Нади и свою «нечаянную» радость. Что Надя обрадуется встрече, я не сомневался. Так, в ожидании проторчал около домика часа два, медленно ходил взад и вперед, все не решаясь уйти, и уж совсем темно стало. Зажглись огоньки. А я не уходил, теперь твердо решился ждать Надю, чтобы проводить домой. Такое есть мужское беспокойство. Теперь я уже перешел на сторону, где жила «тетка», и приблизился к домику на два окна с низкой завалиной. На окнах были белые занавески-задергушки, а сами окна еще завешены тюлевыми шторами. Стоя у ворот, я грешно подумал, что едва услышу, как Надя выходит во двор, стригану по улице до ближнего угла, а там она меня не заметит, и я разыграю в трамвае нечаянную встречу. Вот и все. А время шло. Стоя у домика, я надеялся услышать хотя бы Надин голос, но ничего не слышал, кроме отрывочных глухих звуков и чего-то похожего на щелчки. Слух мой не мог все это соединить в понятную мне речь. Может, там они по-татарски? Звуки все-таки долетали, но походили скорее на выкрики или стоны.
«Да что они там? Дерутся? Хохочут? Плачут?» — подумал уже с тревогой и подошел к домику вплотную.
— О-о… О-ай! Аи! (Это было точно ее «О-ай!».)
Что там такое? И, уже не думая об осторожности, я встал на завалинку, держась за наличник, заглянул поверх задергушек в освещенную комнату. Тюль не очень мешал смотреть, был прозрачный, и то, что я увидел, потрясло. Я оцепенел.
Надя… Моя Надя стояла на коленях, лежа животом на широкой расстеленной кровати, вытянув вперед связанные чем-то в запястьях руки. Розовые панталоны были спущены до колен, а рядом и тоже в штанах стояла тощая голая женщина, похожая на мужика, и хлестала Надю узким ремнем по ягодицам, по бедрам, оставляя полосы-следы на ее пухлом заду и ногах.
Обе женщины кричали, стонали. Вздрагивал и толстый Надин зад. Она виляла им, дергалась, заламывала за голову связанные руки, а тощая, словно зверея, порола и порола ее все сильней, потом, бросив ремень, повалилась на кровать, и обе женщины, обнявшись, корчились, извивались, взвизгивали, припадали друг к другу и, похоже, даже кусались. Потом тощая, содрав штаны, швырнула их под кровать, оседлала Надю, как лошадь, и, кривляясь, закидываясь, дергалась, как наездница, жутко оскалив зубы, зажмуривая глаза. Я узнал лицо наездницы. Это была та черная Машка, Надина подруга и напарница по работе, нелюдимого вида баба, похожая на мужика и в возрасте, который не хочется определять, — не все равно, сорок ей, пятьдесят или даже больше…
А женщины сплелись опять в какой-то узел, по-прежнему гортанно вскрикивая, и я видел, как Надя, уже с развязанными руками, обнимает, целует свою подругу.
С чем-то похожим на лед в голове я осторожно слез с завалины, стоял как бы оглушенный и пронизанный этим льдом-морозом. Куча парней, светя сигаретами, прошла мимо, и один послал меня матюгом.
Я не шевелился. Мне было как будто дурно, и, если б поблизости была вода, я кинулся бы туда напиться. И тут мне пришла мысль, что иногда я видел на заду моей возлюбленной какие-то розоватые полосы и словно бы синяки.
— Ай! Да на стройке, в ящике посадила! Комбинезон жмет. Толстая я. Видишь, какая. Растет и растет, — хохотала Надя, отворачиваясь от меня. И я верил.
Когда я снова поднялся на завалинку, женщины лежали в постели. Надя внизу, а тощая на ней, присасываясь к ее грудям, попеременно прижимая их к лицу. Всасывалась и дергалась. Потом она повернулась, легла наоборот, и я видел, как длинный высунутый язык лижет вход в Надино лоно. Надя подняла согнутые в коленях ноги, раздвинула их, и мне не стало видно голову этой чернушки, только ее противный зад со впадинами по бокам, вихлявый и мерно бьющийся, и тощие ноги по сторонам Надиной головы.
Больше я не мог смотреть. Спрыгнул с завалины, и видимо, шумно, неловко, потому что в доме почти тотчас погас свет. Все затихло. Но теперь мне уже было не до того. Оглушенный, внезапно оглохший, я шел улицей к трамвайному кольцу. Шел, не зная, что мне делать теперь. Сказать Наде, что я видел все это? Молчать, не подавать вида? Оставить все, как было? В конце концов, она живет со мной, и мне хорошо, и она не так уж часто ездит «к тетке»? Теперь только я понял тайный и даже порочный смысл ее слов и странный смех, которым она сопровождала это: «Я все могу! Может, ты еще и узнаешь, что могу! Ни все сразу!» Понял. Однако странно, что, воспылав к Наде трясучей ненавистью, я почему-то не разбил окно, не залепил камнем? Не нашел? «Сверну шею этой тощей чертовке! Сверну шею!» — кажется, бормотал, идя. Как ясны стали Машки этой ненавидящие взгляды, прицельная злоба ко мне! Да это же была самая настоящая ревность! Постепенно как бы успокаивался. Женщину к женщине ревновать, видимо, проще, легче. Пришла мысль: «Вот если б Надя все это с мужиком? Тогда я не знаю, что бы сделал!» Слабое утешение. Душа ныла навылет. И когда я пришел к трамвайному кольцу, вид у меня был (поглядеть бы со стороны!) как у открывшего загадку Сфинкса.
Страшно говорить, но лагерь и здесь пришел мне на помощь. Пока ждал трамвай, в голову лезли все эти рассказы про женские колонии, про голодных баб, беснующихся там, про их «коблов» и «жен». И вдруг пришло: «А если Машка эта похожа на зэковку? Похожа? Похожа! И даже очень! Тюремная неизбывная чернота во взгляде, неженская развинченная походка, сухие узловатые руки и вроде бы даже наколка на одной. И стрижка «под мужика»! Конечно же, она «мужик», «кобель». А Надия? Уж не была ли и она в колонии? Мотала срок? И она?» Эта мысль заставила меня пропустить еще один трамвай, и еще… А может, я ждал — подойдет Надия, и я ее то ли излуплю, отхлещу то ли кинусь с объяснениями и обвинениями. Что я знаю про Надю? То, что детдомовка, муж в тюрьме. А остальное? Она чуть не вдвое старше меня, и неизвестно, когда и почему сошлась с этой Машкой. Но ясно, что до меня. Да не все ли равно? Пей чашу! Пей чашу, дурак! И знай, что такое женщина! Вот эта у тебя первая? Почти что первая. Первая, может быть, все-таки медсестра Марина, к которой ходил на процедуры — избавляться от глистов и которая обучала тебя, тринадцатилетнего, трясясь до лужи под собой, глотая вытянутое из тебя с утробными стонами. Она ведь тоже была женщина и шла на большой риск — «развращение малолетних»!
На следующем пустом трамвае я уехал.
Я ехал, глядел в окно и ничего словно бы не видел там — мелькали какие-то строения, дома с редкими огоньками, трамвай качало, люди входили и выходили, а я слепо таращился в окно, в себе же и внутри себя видел обнаженный, вздрагивающий Надин зад, хлещущую бабу, ее мужские, с провалами на боках, ягодицы. Так доехал до поворота, где трамвай уже шел по короткой улице Дзержинского, и тогда только очнулся, вышел, побрел к своему бараку.
Если сказать, что я спал в ту ночь, это будет неверно. Я как будто бредил в забытьи. Всю ночь видения одно другого дичей не оставляли меня. Я все время видел Надю, каким-то чудом она превращалась словно в лошадь, в животное, подобное бегемоту, но которого я никогда не видел. Эту Надю-лошадь я хлестал кнутом, она скалилась на меня и дико кричала. Я просыпался от собственного крика, в поту, вскакивал, ходил к ведру пить воду, ложился и снова погружался в кошмары, пока за окном не стало светлеть, и я уснул уже более спокойным сном.
Потом я припомнил, что после поездок к тете Надия обычно пропускала дня два-три, и я ее очень нервно ждал. Но я знал, что она придет, обязательно придет, а теперь все было ясно: она дожидалась, пока хоть как-то пройдут-сгладятся следы ремня на ее прекрасных бело-розовых ягодицах с небольшой желтизной к бедрам ближе к коленям.
Колени Нади, идеально круглые, полные, белые, с нежными подколенными валиками, как у младенца, сводили меня с ума. Я готов был глядеть на них часами, сколько угодно, а Надия, усмехаясь улыбкой, в которой сквозило что-то будто материнское и в то же время соблазняющее, сдвигала юбку выше: «На… Смотри, раз хочется. Смотри..» Иногда еще нарочно выставляла из-под сдвинутого подола резинку-закраинку своих панталон, и тогда ноги ее превращались в неописуемое манящее нечто, и я готов был целовать эти колени, гладить их, наслаждаться их нежной полнотой и горячим красноватым рубцом — следом сдвинутых резинок. Кажется, Надия сама понимала невыносимость такого соблазна, потому что, оправляя подол, шутя отталкивала меня и хохотала: «Ну, ладна… Хватит! Сглазишь!»
Почему-то я не шел искать Надю. Не хотел? Не то и не так. Я будто боялся себя сам. Боялся сорваться, боялся оступиться, боялся все сломать и в то же время в душе кричал на нее самым диким голосом, обзывал самыми грязными словами и в то же время знал: приди она вот сейчас, промолчу или приму ее любую ложь в оправдание поездки к тете. Но при этом я еще мечтал, как, наверное, всякий мужик, увидеть женщину кающейся, смущенной, какой-то особенно грешной и молящей о прощении. Тициан не зря написал свою «Кающуюся Магдалину».
Ничего подобного. Она пришла ко мне таким же золотистым и холодеющим октябрьским вечером, веселая, оживленная, и я с трудом пытался понять, как она совмещает в себе эти странные качества, очевидную все-таки любовь ко мне (так думалось и представлялось!) с оголтелым «Лесбосом» со своей подругой?
Наверное, я никак не мог скрыть разницу между собой прежним и нынешним и то, как воспринял теперь эту мою, МОЮ Надию и ту, которую знал еще три дня назад.
Она тотчас заметила мою скованную пасмурность и спросила:
— Чиво ты такой? Какой-то… Што с табой? Ни болен?
— Нет.
— А што тогда? Другую полюбил?
— Што, што с табой? Ты, наверное, все-таки болен?
«Сказать или промолчать? Сказать или молчать?»
металась из стороны в сторону загнанной мышью дурная мысль. Я мог бы, наверное, промолчать. Мог пересилить себя. Но тогда, чувствовал, я бы сломался. И все равно бы теперь уже не было так, как раньше. Я не хотел этого, поймите. Поймите! И не понимается: не хотел и не мог промолчать. Выяснять? Выяснять все? А зачем? Зачем выяснять-то? Но язык мой уже начал:
— Ты… Ты… Ты изменяешь мне, — наконец выдавил я, глядя на нее в упор..
Она даже не повела бровью.
— Из-миняю? Ты што? С кем? Ты в сваем уме? Когда? Да я и одного мужика к себе не подпускаю близко. Ты с ума сошел? А?
О, женщины! Пей чашу, дурак, ревнивое сердце успокоил бы этот взгляд, этот убеждающе-правдивый голос. Неподдельное возмущение и изумление.
Я узнавал женщину.
— С кем изминяю? Говори!
— Со своей подругой! — решительно ляпнул я.
Она остановилась и, полуповернувшись ко мне, вдруг посмотрела загоревшимися глазами лесной кошки. Глаза Надии имели странную способность менять цвет, то быть совсем темными, то светло-карими, то вдруг зеленеть и превращаться в яркий холодный кобальт, это когда она вся уходила в наслаждение. Но теперь они стали золотистокошачьи, лесного оттенка.
— Ты следил… Да? Следил за мной?
— Следил! Я не верил тебе, и вот все оказалось правдой!
Она повернулась и пошла к двери.
— Надя! Куда ты? Надя!
Дверь захлопнулась. Надия ушла. И я ее не догонял.
Я не знал, как поступить. Бежать за ней? Искать ее завтра? Я вдруг почувствовал — за ней есть какая-то непонятная, не переваренная мной правота. Я не побежал за ней. Но лучше бы побежал, лучше бы вернул. Потому что провел еще одну дикую, грызучую, больную ночь, когда все во мне ныло, тосковало, не утихало. Рассвет застал меня одетым, и чуть не бегом я бросился на мельничную улицу, к ее общежитию, мне надо было встретить Надю до работы и хоть как-то объясниться. Мне нужно было ее очень, очень, без меры нужно. Я страдал даже непреднамеренно, непредсказанно и только теперь понял это вроде бы пошлое выражение «рана в душе».
Я прибежал к разломанному забору вовремя. Барак-общага просыпался. Надия вышла из него ровно в семь, подошла к воротам, шагнула, отвернулась.
— Ты? Зачем ты здесь?
— Я пришел… Я хочу… — бормотал я неподготовленную чушь.
— Что? — нетерпеливо-зло бросила она.
— Хочу сказать, что ты, что я..
— Ты меня прощаешь, — протянула, усмехаясь, она.
— Как хочешь понимай, но и меня прости, пойми… Я хочу быть с тобой… Хочу взять тебя замуж..
— О-о! Вот это новость. А что ты раньше молчал? А мне не надо твоего прощения. Я не изменяла тебе, скорее наоборот, потому что Машка — мой «муж» еще с колонии. Понил?
— С какой колонии?
— С такой! Милый! Да я же заключенная была! Понил? Я тожа парашу нюхала. У нас ее толька «свитланкой» называли. Эх, ты-ы… Ты думал: один такой? Таких миллион! Я еще девчонкой туда загремела. Работала швией, на швейной фабрике. И получилась у нас недостача по матерьялам. Ну, сперли… И все на нас, на малолеток, тогда свалили. Вы, мол, молодые, вам много не влепят. Я и подставилась. Глупая была. На сибя взяла, и мине питерку дали! Ага?! Отбывала в колонии, в Тагиле, на «Красном камне». Перворазница. Там опытные бабы-коблы по рукам сразу нас таких разбирали. А я и тогда в теле была. И жопа, и все такое. Сто килограмм была. Вот там миня и «откупорили», узнали, что я… Ложкой мине все порвали. Бабы там были — звирье. Развратные. Голодные. Ну, вот Машка там и отбила миня ата всех. Она ух какая! Ей и нож нипочем!
— И ты все время с ней?
— Нет. Я потом вышла досрочно. Она осталась. А я замуж как раз… Потом опять Машку встретила… Потом она уезжала на пять лет на вербовку. Вернулась — опять меня нашла. Да что рассказывать. Ни хочу… Хватит. Маляркой-то я потом стала. И Машка — тоже. Швеей не могу. Все мине лагерь напоминает. А Машку оставить тоже никак. Она мине не просто «муж» — друг. К этому, милый, если женщина привыкает: «розовой» быть — ни отвыкнуть. Правда… Машка у миня, конечно, законная лесбиянка. Мужиков ни-ни… А я до тебя мучилась только с мужиком. Вот к женщине и привыкла… С Машкой ни то чтобы любовь… Атак., привычка… А Машка хужее миня, без миня не может. Она убьет, если брошу. Правда, убьет. Она за убийство сидела. Ты бы миня не ревновал к ней. Я ведь ни часто. Только когда уж пристанет. Да и правду сказать, когда, бывает, и сама хочу этого. Кто жизни ни хлебал, осуждает нас, лесбиянок. А в женщине вообще этого много. Женщина лаской живет, вниманием, а мужики этого не понимают. Грубые… Нахалы… Многие бабы оттого страдают. И почти каждая пробовала или хочет. В каждой женщине лесбиянка спрятана. А у какой если муж дурак? У какой ни может ничиво? Вот подруга и бываит нужна. Простишь теперь… А?
Что я мог сказать? Про таких женщин я знал с детства. В соседнем доме, подальше от нашего барака, жили две квартирантки-парикмахерши. И даже похожие друг на друга, светленькие, в одинаковых завивках, в цветных крепдешинах и в белых туфлях. Одна была только толще, круглее, другая прогонистей и как-то мужчинистее. У обеих были одинаково некрасивые примелькавшиеся личики, пустота, косметика, ничего больше. Этих парикмахерш мы, я и Юрка, видели еще мальчишками, когда лазали в одичалый, заброшенный сад — остаток барской богатой усадьбы на краю болота, где с другой стороны стоял наш барак и начинались улицы, выходившие к набережной. В сад летом ходили загорать кому не лень, забредали кучками пьяницы, воры делили там краденое, под кустами спали бродяга и оборванцы, и сюда же все время забредали парочки, кому позарез требовалось укрытие и уединение. Мы же бегали в сад всегда в надежде увидеть ЭТО! И сколько раз, бывало, видели: мужик с бабой, парень с девкой, согласно оглядываясь, скрывались в кустах дичалой, обломанной сирени, стараясь забраться поглубже, где сирень эта прорастала крапивой. А дальше было почти одинаково. Баба всегда немножко ломалась, мужик или парень приставал, уговаривал, обнимал ее, лез под подол, потом они ложились, или женщина становилась на колени, мужик задирал ей юбку, и начиналось то, что было стыдно, сладко и страшно смотреть. Противен был только мужик, его тощая задница, рубаха, потное лицо, какие-то особо гадкого вида тощие ноги, но все перекрывалось стыдной сладостью всегда хуже видной женщины. Ее стоны, голос, иногда плач, иногда дурной хохот потрясали. Ради этого мы и бегали «в крапиву», часами ждали, волчата-звереныши, подстерегали желанное. Хотя приходившие в кусты были однообразны в своих действиях, смотреть это никогда не надоедало. Юрка же сидел в крапиве и осенью, пропускал школу, вечерами до позднего часа бегал по улицам, подглядывал, где удавалось, по окнам. Он был неутомим в поиске. Он же и рассказал про парикмахерш и показал мне урок их странной женской любви.
Парикмахерши часто приходили загорать на поляне и в саду почти каждый теплый выходной день, и, помню, Юрка с загоревшимися глазами как-то прямо за руку потащил меня прятаться, едва парикмахерши появились, неторопливо идущие сюда в светлых ситцевых платьях.
— Счас… Будут… Точно будут! — дышал в ухо Юрка, когда мы устроились поудобнее в крапиве, не упуская из виду поляну.
А парикмахерши, оглядываясь, — никого на поляне, — задрали платья и через голову сняли их, как-то странно-усмешливо оглядывая друг друга. Обе были в беленьких бюстгальтерах и в голубых длинных, до колен почти панталонах, трикотажных и красивых, как ходили тогда почти все женщины. Но парикмахерши словно боялись, что их увидят в таких штанах, и подвернули их, сделав как трусы. Потом они улеглись на какую-то подстилку, не то покрывало, и легли загорать. Сидеть в крапиве мне надоело, я не один раз сжалился, тут было душно, жарко, пахло прелой землей, но Юрка все удерживал меня. «Погоди. Пойдут они! Точно! Ссать захотят и… У баб это скоро… Все время ходят… Жди..» И мы дождались. Парикмахерши вдруг согласно встали, что-то тихо говоря меж собой и странно улыбаясь, а та, что была толще, даже высунула язычок, будто дразнясь. Они неторопливо пошли к кустам, и Юрка схватил меня за руку. «Счас!» Парикмахерши же, зайдя в тень, сначала согласно присели, а когда поднялись, их трусы опять были панталонами и обе они оглядывались вокруг. Никого не заметив, они стали расстегивать друг другу лифчики и, когда расстегнули, встали лицом к лицу и обе высунули языки, напомнив мне странных человекоподобных змей. Языками они соприкасались, соединялись, облизывали друг друга, издавая короткие стоны, и, приподнявшись, мы с Юркой увидели, что штаны у девушек полуопущены и они обе гладят и ласкают друг друга. Потом они стали сосать груди. У толстой груди были большие и длинные, у другой короткие и торчащие, как груши. А дальше та, что была тоньше, опустилась на колени, и было видно лишь ее кудрявую, в шестимесячной завивке, голову, припавшую к животу подруги, а та стояла, запрокинувшись, страдальчески корчилось ее некрасивое лицо, она жмурилась и стонала. Юрка трясся. Меня тоже колотил озноб. А женщины легли, и стало плохо видно, как они извиваются и приникают друг к другу и опять напомнили змей или кошек. Вот одна из них коротко, глухо вскрикнула, и тотчас почти закричала другая гортанным, ноющим стоном. Они затихли. Потом опять так же согласно встали, застегнули бюстгальтеры, опять превратили панталоны в трусы и пошли на поляну. Но загорать не стали, оделись и скрылись. Юрка с восторгом, блестя глазами, рассказывал — видел парикмахерш не один раз, ходит вечерами, где они живут, подсматривать в окна. Обещал позвать меня. Но так я и не собрался.
Все это проносилось в моем сознании яркими летними картинами, мелькало, пока мы шли.
— Ну? Што? Про-щаешь? — усмехнулась Надя, когда мы приблизились к трамвайной остановке.
— Приходи. Кажется… Я все понял..
— Ладно, — снова усмехнулась она всезнающей и словно презрительной улыбкой. На розовой полной щеке родилась ее прелестная ямочка, которую я так любил, даже ждал ее, ямочки этой, ее появления. — Ладно. Поживем еще, может… Тут вот… Задача… На другой объект собираются нас перибро-сить. Дали-ко. Реже видаться будим… И мужик у миня к весне должен… А то, может, кончим? А? Любов, она, знаишь, как чашка, — разбил, склеил, а все равно ни целая. Ни звенит… А? — Глаза были уже холодные, пустые и темные.
— Приходи.
— Ладно. Подумаю. Может, приду… Завтра… Однако, трамвай мой идет… — Она уехала.
Назавтра она не появилась. Я почему-то знал это. Словно бы чувствовал. Я прождал ее весь вечер. Выходил на дорогу. Болтался зачем-то у закрытых ворот стадиона. Было холодно, и дул уже совсем зимний ветер. Холодно плескала вода в пруду. Зябла под ветром запрокинутая с мячом гипсовая спортсменка. Зачем-то я подошел к ее постаменту — и увидел, что он весь в трещинах, в трещинах были и ноги статуи, в трещинах-кракелюрах небеленый, хоть все еще прекрасных форм зад, в трещинах грудь с потеками птичьего помета. А вместо мяча над ней торчала ржавая проволока-арматура.
Я вернулся домой и, скрепя сердце, принялся что-то такое рисовать, писать, надо было заняться. Ожидание — Надя все-таки вернется — придет, соскучится — слабо грело меня, и так с этим ожиданием, а лучше сказать, мучением прожил десять дней. Мука моя, однако, не утихала, и как-то под вечер я не выдержал, быстро оделся, — стояли уже холода, выпал снег, — пошел к ее общежитию. Во всех окнах там горел свет, зато в подъезде было темно, и я, спотыкаясь, поднялся по темной, вонючей лестнице. Толком я не знал, где комната Нади, — знал, что на втором. И потому постучал в первую попавшую дверь.
В ответ был незнакомый женский голос:
— Зайдите!
Толкнул дверь. Женщина в лифчике, в расстегнутом халате, не краснея, запахнулась.
— Ой, кто вы?
— Найденова здесь..
— Надька? К ней вы?
— Да.
— Она вчера уехала… Куда? Не сказала. Не знаю я. Я сама тут новенькая. По-моему, в другой город куда-то. Не знаю. Вот ее койка.
Я действительно увидел общежитскую койку с пустым матрацем, подушкой без наволочки.
— Совсем уехала? — глупо переспросил я, совершенно остолбенелый.
— А как еще? Не насовсем? — усмехнулась женщина, глядя уже понимающе. — Чего ей ворочаться в этот клоповник? Комендантша, может, знает. Спросите завтра у комендантши.
Я медленно спустился по той же темной лестнице, вышел во двор, на крыльце обнявшись стояла парочка. Мужик был пьяненький, пожилой, девчонка относительно молодая, истасканная. Он щупал ее. Она стояла, как столб, развесив белесые крашеные патлы.
За воротами я остановился, еще раз взглянул на густо светившее чужими окнами прибежище моей первой любви и — заплакал. Что такое было со мной? Я не плакал, даже когда хоронил отца. Не плакал в зоне, по крайней мере, все последние годы. Не плакал. Глаза мои просто отвыкли от слез. А тут, за разломанным забором, я рыдал всласть, я трясся, стонал, всхлипывал, кажется, выплакивал всю свою тоску, обиду, боль за все эти годы, когда приходилось крепиться, держать, каменеть в злобе и в отпоре всему. Я плакал долго, никак не мог успокоиться — хорошо, что было темно и никто не видел меня… И не спрашивал, что со мной. Может, парочка на крыльце слышала. Да им было не до меня. Справился наконец, вытирая слезы рукавом, шмыгая, как обиженный школьник, пошел к дому. И глупо все еще надеялся, что она вернется, что переехала куда-то и ей пока не до меня. Что я сам разыщу ее и что, может, еще напишет. От мыслей этих кое-как утешился, они помогли. Я еще не знал, что такое ЖЕНЩИНА. Я только начал узнавать это дивное, страстное и страшное существо, столь желанное, ласковое, влюбленно покорное, и всегда как бы подчиненное, и никогда никому не подвластное, как не подвластна никому природа и ее главные и столь необходимые: солнце, луна, вода, ветер, океан, россыпь звезд или хоть звуки гудка далекого паровоза. А вдруг он увозит Надю, мою Надю? Надию! И я уже никогда и нигде ее больше не встречу? НИКОГДА и НИГДЕ? Эта мысль облила меня таким холодом, что я снова зарыдал в три ручья и так, рыдая, побежал по темной улице, будто мог нагнать свою любовь, будто мог… Я остановился лишь у набережной, где было пронзающе-холодно, фонари зыбились в угрюмой предзимней воде. И уже пролетали не то снежинки, не то листья. Голая купальщица уже терялась во мгле, в черном небе над нею, печально вспыхивая, бежали звезды. И опять я услышал паровозный гудок, садкой, саднящей болью отозвавшийся. Ветер был с севера, от вокзала.
А Надию я больше не встречал никогда.
Я все-таки был уволен с завода. Не знаю, как вышло. Скорей, потому — отказался писать копии. Отказал раз секретарю парткома, еще бухгалтеру и еще… То ли просто поступил кадровикам очередной циркуляр. Вызывали в кадры, и другой, незнакомый человек, не Гаренко, того, кажется, сняли за пьянство (много лет спустя я встретил его на улицах синего, опухшего, едва живого), другой человек скучно попросил меня объяснить состав преступления, за который я отбывал срок.
— Антисоветская агитация, — зло ляпнул я.
Неодушевленный этот предмет некоторое время глядел на меня подозрительными, ждущими еще чего-то очками. Глядел он именно очками.
— Но у вас еще и создание антисоветской организации! — дополнил человек-манекен.
— Раз вы знаете, зачем ваш вопрос?
— А вы не горячитесь, — с тихой угрозой, с теми же интонациями, с какими говорят привычные следователи, облеченные той властью, которую даже нельзя назвать абсолютной, потому что она больше, объемнее и ей словно подвластны (так ИМ кажется) не только твоя душа, тело, твоя свобода, настоящее, прошлое и будущее, но и самые скрытые твои мысли. Насладившись этой властью и еще несколько секунд безмолвно всасываясь в меня, очки подали мою новую трудовую книжку.
— Вы уволены по сокращению штата. Занимали свою должность незаконно. Вашей такой профессии не предусмотрено по штатному расписанию.
Мне показалось — я даже обрадовался. «Вот спасибо!» Сам бы еще долго собирался уйти от заваленной плакатами и лозунгами комнаты, от этих «членов Политбюро», остобрыдевших своими властно-вдохновенными ликами. Подгорные, Вороновы, Сусловы, Микояны. Мне и в лагере-то казалось, что они бесчисленны или как-то могут переходить друг в друга. Было как будто три Микояна, не один Берия, куча Ворошиловых, а раньше еще куча сереньких козлобородых старикашек с фамилией Калинин.
«Почему не предупредили даже», — мелькнула мыслишка, но я не высказал ее, а просто забрал трудовую, черкнул роспись в какой-то амбарной книге и молча вышел, чуть крепче нужного брякнув дверью.
«Ладно еще по сокращению. Могли бы и хуже придумать». Прощаться со «старшим художником» не хотелось, но мысль, что у меня там еще куча неистраченных, сэкономленных лефрановских красок и кистей «Рембрандт», заставила вернуться. «Нет, что-что, а краски я вам не подарю!» — подумал почти вслух. Я зашел в мастерскую, растолкал тюбики в плоскую большую сумку, надел ее на шею — сумка на спине, под «телагой», кисти в подкладку, в рукава и, поглядев на ноги мирно дрыхнувшего Сергея Прокопьевича, вышел.
Шмона в проходной я никогда не боялся. Спину они никогда не смотрят. Да если б и смотрели, я, бывший зэк-лагерник, провел бы любых этих шмонявших, куда им было до лагерных вертухаев, чьи руки я десять лет чувствовал на своих боках.
Так без сожаления расстался с безотрадной (кому как!) чудовищной машиной с названием «завод», будто опять вышел из зоны. Всякий раз, выходя через пропахшую табаком и мазанными ватниками проходную, с наслаждением, иначе не скажешь, вдыхал воздух свободы, шел к трамваю с чувством освободившегося. Чувство портила только мысль: «Завтра опять сюда!»
А теперь я был снова — СВОБОДЕН. Так свободен, как, может быть, черная какая-то птица, голубь не голубь, ворона не ворона, летящая в зимнем холодном поднебесье… Что-то такое… Совсем свободное.
КНИГА ВТОРАЯ. МАСТЕРСКАЯ ЖИВОПИСЦА
Все еще на Земле было чисто, свободно и светло. Дули ветры. Катились волны. Вставали и гасли радуги. И олени, много оленей, паслись в дикой пустыне мхов. Еще рыбы не всплывали из глубин, пронизанных ЧЕМ-ТО, и в заповеднике-кратере Нгоро, как миллионы и миллионы, дышала прошлая древняя суть этой Планеты. Но уже все взворошенней шевелились кипящие муравейники. И послушные голосу оттуда вставали в глухих пустынях опадающие грибы ужаса. И копилась адова сила в черных шахтах-жерлах подземелий — где рабы самого НЕКТО пытались сдержать эту силу в графитовых и стальных оболочках. Держали и тряслись от ужаса перед ней. И уже художник клал и бросал кисть, брал в руки шпатель и мастихин и горстями, ладонями растирал по холстам краски, скульптор сменил резец и бучарду на фрезу и автоген, и писатель задумывался, как явной ложью сказать правду, а композитор кромсал мелодию на паровозный вой и грохот. Крутился, вращался, покачивался волчок. Мари танцевала с Хуаном. Китайский бог еще звал к нищете. Круглолицый бородавочник обещал всеобщее счастье. Но уже стояла за ним и над ним сухонькая и моложавая тень Кощея от культуры. И бровастый новый бог — подобие непроницаемого Будды — готовился сесть в золоченый паланкин.
Глава I. СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК
Кто только и как ни глумился над этими святыми словами. Свободный художник — а значит, тунеядец, лодырь, со сдвинутой крышей. Впрочем, что это я? Впереди меня ждало лето. Было немного денег, которые я отложил от «заказных» картин, были кисти и краски, запасенные или сворованные. Факт, что были! Был картон, бумага, холсты, и была еще тяжелая тоска по утраченной не знаю даже: любви не любви, но, наверное, все-таки любви, раз так долго, мучительно-нежданно терзала мое наивное сердце. Любви к сорокалетней странной и в то же время обыкновенной женщине, бабе, явившейся мне в столь прозаическом, измазанном краской обличье.
Опять одиночество наглухо сомкнулось надо мной, и жизнь вроде бы вольная, а на деле тоскливая и холодная, стала моей явью. Как привычная заведенная еще лагерем машина, я вставал с рассветом — подъем в зоне был в пять! — умывался, брился, разминал затекшие за ночь руки и ноги, всякую там гимнастику, зарядку ненавидел с детства, и шел прогуляться, пока не захочу есть. Чистый и едва пробуженный город всегда был для меня чем-то вроде такой зарядки, только не физической, а нужной моей душе. Я шел обратно вдоль еще сонной набережной, набирающей утренний ласковый свет, любовался туманом над спокойной водой и все глядел, как вольно-изящно летят в небе чайки на легких изогнутых крыльях, как зеленеют промытой зеленью майские тополя. И все вроде было хорошо (а кто-то там сейчас в зонах, лагерях!). Здоров (лагерь не сильно подорвал меня, целы — не отбиты почки, не барахлит печень, здоров даже и желудок, чего-чего не переварил он вплоть до рубленой крапивы, что было горевать!), вот зубы только никуда — изредила их цинга и этот проклятый Левка Горелин, дравший их пальцами без разбора. Теперь мои зубы — не улыбнешься женщине, и лечить-вставлять невмоготу. Да, вот ведь Надя и не обращала на них внимания. Не главное вроде зубы в мужике. Зубы ладно… Как-нибудь… А как насчет этой холостой муки? Надия разбудила во мне мужчину. Разбудила так, что я теперь грезил по женщине, метался ночами, все время видал эти сладкие дрожкие сны, от которых просыпался и не мог удержаться от рыданий. Все теперь было опять во сне. Только сильней, предметней, не так, как в зоне. Надю я видел (хотел видеть!) в каждой женщине, словно примеривал ее к каждой, и все будто были хуже, ну, не то чтобы все, а какие-то были НЕ ТЕ. Здесь, стыд сказать, — к девушкам я подходить боялся, женщин, какие попадали в поле зрения, если разобраться, не хотел. Да сколько их видел я и на заводе — и все какие-то не мои, хамские, грубые, тупые, защупанные, еще и матюгающиеся по-мужицки. Может быть… Наверное. Мне нужна была красавица. САМА КРАСОТА. И только сейчас я понимал, что Надя и была такой красавицей, лишь спрятанной в свой комбинезон. Красота. Красавица. Наверное, самая в жизни любого мужчины тяжкая боль. Мечтают все — получают немногие и чаще гнусы, дураки, пошлые, липкие, поганые, наглые… Вот в детстве, еще в пионерском лагере — был такой летний лагерь на окраине города, в школе — и жила-была-цвела там красавица девочка Лида Прилукова. Помню ее всю: с ног до головы. Ноги, невыносимой, казалось, стройности и полноты, в самых изысканных мерах сочетались выше с тем, что круглилось под красным, в горошек, сатиновым платьем с ума сводящими формой своей полушариями. И то, что было выше (вид спереди), очень емко подчеркивало неожиданную прелесть личика тринадцатилетней нежной девочки со светлыми, натурального тона косами. И все это юное, ласковое богатство уже тогда настойчиво, никого не подпуская, преследовал пошлый, назойливый мальчик, державшийся форменным мужем и обладателем. И Лида, как-то особенно безнадежно для всех нас, подчеркнуто принадлежала ему. Его звали Дима. У него был длинный, дебильный затылок и лицо веснушчатого болвана.
Это была моя третья красавица, отравное счастье которой и до сих пор, как вспомню, бередило душу. А первая была, стыд сказать, девочка из младшей группы садика — кукла-женщина с льняными волосиками, толстыми, младенческими еще ножками и в голубых штанишках, пусть маленьких, но совсем как у взрослой женщины. Вторая, уж говорил, была беременная учительница географии со вздернутым удивленным носом и алым румянцем по нежнейшему полю каких-то постоянно девичьих щек. Да, наверное, были и другие женщины и девочки, в которых влюблялся я на мгновение и не сильно. Конечно, были. И сколько жадного горя они принесли-доставили, не думая даже, что это так.
Набродившись по улицам, шел домой! Варить даже немудрую снедь было мне всегда пошлой проблемой. Но что было делать? Ненавидя, варил кашу. Жарил яичницу. Заваривал чай. И пил с какими-нибудь, дешевле некуда, «подушечками»-карамельками. И опять горько не хватало мне женщины за столом. Опять грезилась. Душа просила какого-то иного бытия, другого стола и дома, не этого проклятого барака, никак не был он мне родным, чем дальше — становился тошнее.
И, закончив наскоро этот завтрак, стараясь не думать больше ни о чем тягостном, я зажигал свет — было всегда темно, — становился к мольберту и начинал писать. Первую крупную свою картину назвал «Надя». Нет. Теперь это была не малярка, не та, что ушла в диплом, написал ту, что осталась в моем сердце, и такой, какой я ее хотел. По памяти, по зарисовкам, по давнему своему опыту написал. «Женщину в голубых панталонах». Так называл картину про себя. И написал Надю как живую. Может быть, я даже переборщил с графичностью и, когда понял, усвоил это внутри себя. Написал другое полотно: «Женщина в белых панталонах». Это было для себя. И снова не удовлетворился. Сделал еще: «Женщина в розовых». Самая удачная. Я прорвал свою проклятую ученическую рабскость. Написал действительно «женщину в розовом», улыбающуюся, сладкую, манящую, такую, какой была Надия во всем лучшем. Я вложил в картину свою тоску по утраченной любви. Женщина на моем холсте не позировала, как позировали, допустим, девушки-провинциалки с вытаращенными глазами на картинах Лебедева. Девушки были тоже в трусах: голубых, розовых и желтых. Но, понимая Лебедева и его вполне сходную с моей (или мою с его!) любовь к пышным деревенским формам (кто не любил? «Девушка с фермы», «Молочница», «Доярка», «Спящая Венера». Кто? Где? Когда? Все писали. Но у Лебедева были все-таки как бы «спортсменки»), я смел надеяться, что написал женщину с воплощением этой ее сути: НАДЕЖДА. Своей «Надеждой» я долго грезил, гордился, носился с ней, дописывал — все стараясь подняться выше, взлететь! И в конце концов понял: порчу! Остановись! Художнику всегда надо уметь остановиться. Только ли художнику? «Да, мля, ззадность фраера сгубила!» — вспоминал слова главвора. Кто-то из молодых, неученых воров начал таскать у старых «заначенные» пайки. «Фраера» этого из новых застукали. Ночью был бит кучей, утром уволокли в больничку, оттуда — за проволоку. Жадность спугнула мою мечту, мою любовь, и вот я теперь горюю перед испорченным полотном, где женщина в косынке, приспустив штаны, уставилась на меня своей нежной, божественной вдавлинкой живота, своими пышными совершенствами. Смотрит, и манит, и обещает. И ее нет со мной. Только Надежда? Нет, опять «Надя». Картины я отворачивал к стене и больше к ним не возвращался. А душа горевала.
После «Надежды» кисть снова словно стала фальшивить. Я писал по памяти и представлению каких-то других женщин, я придумывал формы, изощрялся в рисунках, менял постановки воображаемых натур — все было плохо. Я хотел, чтобы женщины (мои женщины!) были радостными. Женщина должна быть радостной, у нее должно быть радостным все: глаза, улыбка, губы, тело, каждая окружность, платье, характер. К ней должно тянуть неудержимо, тянуть гладить, целовать, ласкать, обнюхивать и даже кусать. У нее должен быть приятный запах, вроде запаха малины, яблок или сирени. Такие женщины есть, но их очень мало. Они носят гладкие шелковые платья или платья простые, ситцевые. Они могут быть не очень красивы в классическом примере, но тело их всегда божественное, а торсы тяжелы, гладки и прохладны. Одну такую молодую, в синем шелковом платье, я видел. Стоял за ней в очереди в рыбном магазине. И, вспомнив Юру, не устоял, коснулся — рука моя задела-нашла классические панталоны, а женщина и не подумала отодвинуться. Она была явно из провинции, а сложена настолько совершенно, что трудно было нечто лучшее представить. И еще одну такую провинциалку в сером обтянутом трикотаже я тоже запомнил на всю жизнь. Она была уже в годах, настоящая провинциальная гетера, и надо было видеть, как струился блестящий трикотин с ее овальных нерукотворных форм.
Все лето я провел в каком-то неосознанном тоскливом и радостном поиске. Я искал выдающуюся натуру, а может быть, просто новую женщину, замену бросившей меня с такой жестокой безжалостностью. Всем женщинам приписывают качества: сострадание, покорность, самоотверженность, бескорыстную любовь. И я искал все эти качества, мне хотелось воплотить их в картинах, кистью. Я хотел писать Мадонн и женщин, исполненных перечисленными выше добродетелями, и просто блудниц. Писали же импрессионисты пьяниц и проституток? А мне нужны были женщины в самых невероятных формах, худые и толстые, бесформенные и утонченные, занятые всеми их возможными делами: моющиеся, подмывающиеся, справляющие нужду, кормящие, стирающие белье, готовые отдаться, нападающие на мужа, изменщицы, нахалки, суки, торговки, ведьмы и чертовки и даже, представьте, в значении ангелов, где крылья видны изощренному взгляду.
Лето стояло знойное, и я был прикован к пляжу. Каждое погожее утро, как на работу, я шел на пляж: смотреть, искать, выбирать. Но вот горе — все здесь не запоминалось. Горы и целые площади голого, кое-как прикрытого тела не возбуждали и не вдохновляли меня. Здесь словно растворялась любая красота, в глаза же лезло безобразное: невероятные животы, синие жилы, склеротические вены старух, неизбежные перетяжки на месте чулок, кривые ноги, стертые пятки, кислая плоть, лезущая, как тесто, в проемы купальников. Женщина, как ты проигрывала здесь! Мой ищущий красоты и совершенства инстинкт гонял меня вдоль этих пляжей: еще и еще! И лучшее, что находилось: какой-нибудь более совершенный живот, колонны бедер, соблазнительной формы зад, а целого ничего здесь не было. Ноги сами собой несли меня по раскаленному сыпучему песку вперед и вперед, и уже совсем обессиленный я возвращался домой, разочарованный и усталый, едва поужинав, валился спать, чтобы утром начать этот новый бессмысленный вроде поиск. Может быть, не осознавая, я искал Надю — такую, как она. Такую, какой она была. Такую. Или еще лучше.
А осенью опять встретил Юру, еще более подсохшего, только что не оборванного, в жалкой рубашке и брючках бумажного тика.
— Как жизнь? — спросил я его, чтоб что-нибудь спросить.
— Да так же, как и у тебя… Безлюбье, безбабье…
— Откуда ты знаешь?
— Вижу. Если б ты с бабой был, у тебя бы лицо другое было. А ты кислый.
— Что ж, все лето опять проездил?
— А я не жалею. Время мне ни к чему. Его ведь вроде даже и нет. Это люди его придумали. А все остальные живут без… На черта оно березе или вон собаке? — он усмехнулся с обычным своим сознанием и видом превосходства. Циник, знающий все. — Я счас другую красоту нашел. Август.
Осень уже. Ночи темные. А вон в банях окна не везде закрашены и — видно. Во! Хочешь, пойдем вечером баб смотреть? Не оторвешься! Я знаю места! Благодать. Мужики только мешают, а так — красота..
И увел-таки меня. Посмотреть, не скрою, хотелось. Поздним вечером мы бродили под окнами приземистого строения где-то за вокзалом. Юра лепился на подставленные ящики, шептал мне: «Лезь! Не дрейфь!»
В мутном воздухе бани тускло горели лампочки. Ходили женщины, голые, толстые, худые, всякие, орали младенцы, мылись отвратные старухи. Женщин было также густо, как на пляже, и ничего такого, чтоб брало за душу, тут тоже не было.
В конце концов я ушел, Юра остался. Его было, наверное, не оттащить до закрытия.
Так за лето и осень я ничего путного не написал. Зато хорошо понял: красота единична. Она редкость, и искать ее надо годами, может быть, всю жизнь. Искать, чтоб найти.
Осенью опять напомнили о себе мои денежные хлопоты. Деньги исчезали с совсем непредсказуемой быстротой. То, что рассчитывал на год, оказалось всего на три месяца. Жить по-Юриному? Конечно, проживешь. Можно искать бутылки по скверам, ездить за ними по электричкам, копать в полях и просто собирать колхозную картошку и морковь (раз-другой и я ездил!), но плюнул и решил опять поступать на работу, только теперь не художником, а куда-нибудь на денежную, где вкалываешь и платят.
Так оказался зимой в подручных сталевара на старом металлургическом заводе. Не помню даже, кто и посоветовал туда идти. Работа тяжелая, а деньги все-таки платят. Приличные деньги. ДЕНЬГИ.
Мечту же о картинах пришлось отложить. Какие картины, если в смену в горячем цехе, казалось, потом плавится душа, а возвращаясь домой, мечтаешь только попить чайку и завалиться на койку. Картины я решил отложить до поры, когда подкоплю денег. И денег серьезных, не на год. А пока надо было подгребать шихту, помогать сталеварам, носить горячие шабалы с металлом в лабораторию, совать в печи присадки и беречься, чтоб не сняло голову гудящим корпусом завалочной машины.
Но сталеварский свой летний отпуск и все выходные я опять проводил на пляже. Я решил про себя: буду писать женщину. Только женщину! Для кого? Пусть пока для себя. Напишу галерею. Разных. Необыкновенных, обычных и удивительных. Женщина ведь может быть и ужасной, и омерзительной. Не хватит и десяти жизней, чтоб выполнить эту задачу, написать вселенскую женскую галерею. Ее и с древности пытались создать — и не создали. Вот бы каких женщин я изобразил: Женщина первобытная. Кроманьонская Венера. Женщина простейшая. Женщина «в голубых рейтузах». Крестьянка. Девушка-крестьянка. Продавщица из мясного отдела. Молочница. Девушка со станции. Девушка из провинциального городка. Ах, этих я больше всего люблю: простушек, простячек! Доярка. Ткачиха. Медсестра. Вокзальная шлюха. Официантка. Стюардесса. Девочка-газель. Студентка. Боярыня. Искусствоведка. Соблазнительница. Восточная женщина. Женщина в танце! Танец живота. Украинка. Цыганка. Индийская гетера. Гетера (греческая). Скромница. Лесовичка. Партдама. Партдура. Тренерша. Шоферка. Лесбиянка. Буфетчица. Женщина в бане. Повариха. Толстушка. Венера (современная). Слониха. Проститутка. Рабыня. Монахиня. Служанка. Экономка. Купчиха. Кого еще забыл? Ах, если б все это написать! Всех! И талантливо — какое бессмертие я бы себе обеспечил!
Чтоб не терять времени даром, я начал снова ходить на пляж. Лето было знойное, сухое. Пахло пряно-горелым торфом. На улицах плавился асфальт, и очереди у газировки вытягивались ждущими тряпичными змеями. Жара навечно. И все как сбесились: отдыхают, отдыхают, отдыхают. И слишком хорошая погода! Хорошая погода! Ох, подольше бы! Ах, подольше! Поддавался и я этой всеобщей мечте-маете. Загорел. Обгорел, заветрел, волосы уже отдавали какой-то дикой мочалкой. Из зеркала на меня смотрел пошлый дичалый бродяга. Хорошая погода опять с утра. И я еду, иду на пляж. Смотреть, искать, выбирать. Смешно. Вы-би-рать! На меня никто вроде и не смотрит, хоть я сух телом, мускулист, ростом не обижен. Но… Не могу улыбаться. Не раскрыть рта, вечный отщепенец, вечный бродяга. Не засиживаюсь на месте и все время куда-то иду, иду, иду. Иду как бы бесцельно, песок горячий жжет подошвы, забивается между пальцев — и там жжет. У фанерных ларьков я стою в очередь за водой, прикасаюсь к холодным мокрым телам искупавшихся, и мне тошно от своего одиночества. Я со всеми — и я один. Один, как затерянный в океане. В океане женщин! Но вот диво: не запоминается, линяет как-то здесь их красота, уже почти нет тайн, и облепленные купальниками тела так часто вызывают у меня досаду. Рыхлые бедра. Невероятные животы. Склерные вены. Перетяжки на месте чулок и резины панталон, стертые ноги, окисшие бока выпирают за пределы купальников. На пляже женщины проигрывают. Запоминаются только красавицы. Они редки. О них я запинаюсь. Застываю, наверное, в собачьей стойке: какие торсы! зады, бедра! Сколько сладости, сладострастия в изгибах и крутизне, в нежных полушариях ягодиц, в овале животов, в плетении кос, из которых вот так невинно торчит, бывает, белое невинное ушко. Их шеи, пропорции плеч, груди — такие разные и манящие — все томит мой взгляд и разум и гонит дальше вдоль пляжа. Еще! Еще! Еще! Дальше! И нет ли там большей красоты? Высшего совершенства? Вдоль пляжа. Еще и еще! Где ты, богиня совершенства? Где ты, Богиня? Вот вроде бы мелькнула, и даже оторопь пробила меня! Какие толстые цилиндрические ляжки, ноги, зад, живот! Но… Не та голова, не так посажена. Лицо и вовсе не оттуда. Не то. Красивая, в общем, женщина, а мне надо
— Богиню! Богинь на пляже, словно назло, не было. Не попадалось. Можно посмеяться, а богинь этих я встречал в других, самых прозаических местах. Вот торговала у «Пассажа» девичьими заколками женщина, по одежде цыганка, лицом — полячка. Нежная, прекрасная, беременная и — девственная розовым юным лицом. Ах, какая! В красной с фестонами на рукавах шелковой, обтянувшей талию кофте, в шелковой юбке, вздутой на животе, обтянувшей сладкий кобылий зад! Не мог оторваться и все смотрел, как двигаются, подрагивая, круглятся и замирают под шелком ее непокорные мне шары-полушария. Вот она! Богиня. И если б такую увидеть на пляже! На вздутом животе кокетливый, с кружевцем, передник. Заметила, КАК я смотрю, усмехнулась кривовато и опять до чего мило! Только женщина может так посмотреть — усмехнуться, и только богиня! Как собрать рассеянную всюду красоту? Как объединить в совершенном эти руки, груди, животы, улыбки, зады, прически? Я пытался здесь же, на пляже, рисовать украдкой. Куда! Замечают. Косятся. Лезут смотреть. От любопытства до вражды. И грозить даже могут. Я-то, впрочем, не боюсь. «Волк я, — не раз ловил себя на этой мысли. — Волк и словно бы стреляный». Один раз все-таки сунулись: пьяные наглые полумужики-полупарни. Окружили, грозя ухмылками, хотели вырвать блокнот. Бросил его. Где ты, Кырмырова наука! Мигом — в волка! С рычанием. Снес одного и второго, сунул третьему, четвертого, бегущего, достал в прыжке. A-а, ссуки! Меня! Битого фрае-ра!! Первому с кровавой рожей двинул еще… Подобрал блокнот. Только тогда понял: кругом смотрят. Восхищенно. Отбился от четверых! Один… Пошел, сутулясь. Никто не преследовал меня. Ныл только кулак, болела резко сдвинутая в паху нога. «A-а, ссуки! Я — волк! Волк!!» И рычалось даже по-дикому, по-блатному. И все-таки тошно было. Чего они? Отобрал у кого-то что-то? Я чувствовал здесь, на пляже, себя работником, а их праздными и сытыми. Я здесь работал — они отдыхали. Я искал — они прятались от меня. Я открывал, а они таращились — и… И не-на-ви-де-ли! Ненавидели меня! Я чувствовал это: меня запоминают, осмеивают, презирают, дают мне прозвища, глумятся меж собой. Они запомнили меня, как белую ворону — одинокого мужика в синем выгорелом берете, широкоплечего, долгоногого. У него и на лбу будто бы высечено: Художник! Художник! Ху-дож-ник!
Играли в волейбол. Дулись в карты. Вкушали холодное пивко. Наливались принесенной домашней брагой. Лежали, как жареные сосиски. И загорали, загорали, загорали. А я искал богиню. Где брали их Тициан и Веронезе? Неужели тоже бродили по пляжам? И почему с такой легкостью раздевались перед великими пышные средневековые горожанки, а мне даже тут готовы набить морду?
На пляже валялись бутылки. Синерожие, медленные в движениях алкаши подбирали их, шли сдавать и снова пить это самое пиво. А я знал: у меня уже через месяц не будет денег, и вот поднял бы бутылку, набрал их тоже, но не могу — тогда уж вовсе стану себя презирать.
Картины свои с Надей-Надеждой я отворачивал к стене. Душа горевала. Но после еще одной «Надежды» я бросил кисти, понял, что порчу, сбиваюсь, зарисовался. Рука устала или ДУША? И знал, что, если остановлюсь, ничто уже не поможет.
Глава II. НАТУРА И НАТУРЩИЦЫ
Душа моя жаждала натуры. Но обнаженных, полностью обнаженных, я нигде не мог найти, увидеть. Глухо. И однажды опять столкнулся на главной улице с Юрой, все таким же тощим, высохшим, с безуминкой в сине-серых глазах — обозначилась она теперь явно вместе с чем-то еще, уже страшноватым, собачье-наглым. Юра вроде бы даже обрадовался, спросил, как живу, но спросил так, как спрашивают, когда явно нет до тебя никакого дела. Я посетовал: стоят картины, нет обнаженной натуры, нет вдохновения и еще чего-то такого…
— Голых надо? — Юра усмехнулся со своим обычным скептическим превосходством. — Надо — айда! Вместе даже лучше получится!
— Куда?
— На стриптиз, «социалистический»! В баню, куда… Понял? Только там и можно… Знаю еще место! Класс! Счас осень как раз… Хорошо. Темно..
Уговорились встретиться вечером и пошли, поехали куда-то на окраину. Там была эта заштатная одноэтажная баня. Шли оттуда навстречу главным образом старухи, женщины со свекольными лицами, обдавая запахом намытого распаренного тела.
— Там закрашивают… Все время… — бормотал Юра. — Ая выбиваю. Пока вставят-закрасят… To-се… Вот… Пришли… С той стороны давай. Палку на, возьми. Пригодится. Ребята тут, суки, бегают. Нападают. Не любят мужиков. Меня уж… Ну, ничего… Не дрейфь, главное. А больше негде… Натуры этой..
С задней стороны баня еще больше напоминала барак или пакгауз. В окнах тускло светило. Какие-то тени отпрянули-смылись. Чтоб достать до окон, надо было что-нибудь подмостить, и такие «подмостки»-мостки тут уже были: кирпичи, доски, железо. Юра лепился умело. Махнул. Я поднялся к окну. Заглянул. Стекло было закрашено наполовину, в другую видно. Раздевалка. Шкафы. Огромная женщина, стоя спиной, натягивала плохо налезающие голубые штаны на розовый, распаренный зад. Переступала, оправляла резинки. Господи! Как давно я такого не видел! В промежности дергалось, ломило. Другая баба в розовых подобных штанах, выпучив живот, стояла перед зеркалом, расчесывала влажные длинные волосы. В бабах этих, уже немолодых, было что-то уютное, домашнее, и я с болью подумал, почему у меня НЕТ вот такой обыкновенной, обычнейшей людской судьбы, женщины, с которой бы я жил-был и которую бы видел, как хотел, всегда, днем, ночью, вечером… Рядом лепился, сопел Юра, кирпичи под ногами у него сыпались. «Ух! Смотри! Смотри! Девка пришла. Ух, какая. У-у… Смотри!» Действительно, появилась из мыльной стройная долгоногая девка лет двадцати. Груди торчали грушами, живот с вдавлинкой, под ним, как у соболя по хребту, темненькая полоса. Но такая красота почему-то меня не трогала, и я, даже спокойно, смотрел, как девка вытирает, раздвинув ноги, как трет снизу полотенцем, кривит яркие губы.
— А вы че-во тут! Глядите. Бесстыжие! Вот я вас! — заорала с дороги какая-то старая дура. Послали ее матом. Но настроения никакого. Это ведь просто, если и вовсе без совести. Со сдвигом… В конце концов я ушел. Юра остался. Его было не оттащить. Да, в бане, конечно, хорошо. Наконец-то я увидел заветное и желанное. И все-таки это не выход. Не выход с натурой. Как тут нарисуешь?
Ради, наверное, этой «натуры» я ненадолго поступил вести кружок рисования в Дом пионеров. Только здесь понял — преподавание не мое… Скучное дело. Совсем не мое. Всех этих детей, которых я принял, я не то чтобы не любил, а просто не хотел их учить. Так не хотелось… И я халтурил совсем откровенно. Ленился. Объясняя этим «моим ученикам» пустопорожнюю элементарщину. Опять это: гипсы, маски, капители, геометрические орнаменты — вызывали у меня зевотную скуку, и боюсь, что такую же скуку наводили на моих подопечных. С первых получек я стал приглашать в мастерскую-класс натурщиц-профессионалок из училища — благо все было рядом. Они соглашались. Приходили. Помню, первая была истасканная с садика и порченная с детства тощенькая бабешка (без пальто и платья казалась еще хуже, чем я предположил!). Уже под сорок или, скорее, поменьше, но истаскана. И хоть тело ее было более-менее пропорционально, даже мне, голодному, ничего не внушала ее нагота, кроме мелкого пошлого интереса. Жидкое, при всей несклонности к полноте, оно висело с той противной слабой консистенцией, которая не может соблазнить, вдохновить художника. Позировала она: «Как хотите». Но не было радости от созерцания и самых ее интимных мест, где не ощущалось никакой зовущей сущности, а была одна тертая, противная взгляду синеватая чернота. Другая натурщица была молодая, цыганистого вида, нимфоманка, дикая и необузданная, после каждого сеанса клонившая меня к такому же необузданному совокуплению с ней, тут же, на заляпанном краской полу класса-мастерской. Дикий темперамент был во всем ее теле, смуглом, мужского склада, грубых пропорций. В жесткой волосатости курчавого лобка тоже было нечто мужичье. От нее пахло противным мужским потом. Объятия были хваткими, даже больными. Висла на шее и не отпускала до конца, а потом была готова к новому и новому. Денег она не брала, но что за радость была от ее позирования, где чувствовалось только желание отвязаться, скорее перейти к делу. Из-за этой натурщицы, ее необузданной неугомонности, имевшей еще обыкновение кричать, будто ее насилуют ротой солдат, я скоро потерял работу в Доме пионеров. Заслышав крики, меня (нас) в замочную скважину подглядела старуха вахтерша, бегом (наверное, бегом!) бросившаяся к директору, к завучу, ко всем властям. И меня не то чтобы застали, «засветили», но, дождавшись, когда я открою дверь, чтоб выпустить нимфоманку, изволили войти в класс, как входят судьи и присяжные в зал суда. Девка выскочила, оттолкнув техничку, я же попросту не стал объясняться. Да, наверное, я был виноват, что голодный, что поддался искушению. Но ведь ничего тут не докажешь. Потерял место. Работу. Мастерскую. Но я — не поверите — был рад! Рад, что больше не надо мне ходить в эту пионерскую скуку. Видеть при входе крашенную белилами гипсовую фигурку в виде ангелочка — Володю Ульянова. Слушать «методические» указания какой-то фригиды в огромных очках, в самовязаном (конечно) трикотажном платье, где выступали чересчур явно для моего наметанного глаза угловые тазобедренные кости. Я даже не взял у моих судей и гонителей трудовую книжку. В конце концов, посадить они меня не могли.
Итак — опять свободный художник. Без семьи, без средств к существованию, вообще без всего и БЕЗ… Но со мной моя свобода, со мной небо, в которое я привык еще в лагере смотреть, со мной город, который я люблю больше других городов на свете, и рядом плещется женский океан, в котором я буду искать моих потрясающих воображение див.
Хорошо, что я ушел опять из этой стесняющей меня казармы. Смешно, но студия живописи, «кружок» никак не совмещается с понятием «живопись», ведь живопись истинная — сверхчувственная гармония должна существовать как бы от всего отдельно. Она должна быть либо в совершеннейших земных пропорциях, либо уж в абстракциях, но как это сложно! Лишь все время, уже десятилетия почти вдумываясь в смысл искусства, я приходил к выводу, что абстракция, в общем, не высшая, а низшая и первоначальная форма. Все равно это почти хаос, приблизительная груда, не организованная трудом и гением художника. Просто набросать на картон, на холст голубых, сиреневых, розовых и светлых пятен, назвать ахинею «Рождение Афродиты» — куда как легко. И как же сложно, сохранив ту же символику, создать образ этой рождающейся, цветущей, властной, вечно юной, могущественной, всепобеждающей ЛЮБВИ — любви, однако, в виде ЖЕНЩИНЫ?
Теперь у меня было опять сколько угодно времени думать, мечтать, созерцать и бродить по городу. И этим я занимался ежедневно. Был апрель, опять весна, отовсюду с небес, с лиц, с окон, тротуаров, каждой юбки, каждого воробья веяло весной, город сочился грязными и все-таки радостными ручьями.
Я имел мучительное, голодное наслаждение искать воплощение Афродиты. Мне пришло как-то в голову, что все мужчины, наверное, ищут ее всю жизнь. И кто ее нашел? Сколько таких? Кому она далась — не говорю уж отдалась., отдалась… Где они — счастливчики? Хоть бы поглядеть. Но все напрасно. Никто ее не нашел. И даже древние, искавшие, только портили ее образ. Красота женщины, вероятно, есть космос, а в космосе пока никто не нашел границ.
Глава III. МОЯ МАСТЕРСКАЯ
И опять прошли годы. Но теперь я живу не в бараке, а в жилом районе с названием Коммунистический. Какая это тупая тварь придумала бодрое название для этой пустой, скученной, бетонной, одномерной жизни? Коммунистический! Здесь все застроено длинными бетонными кирпичами и башнями. Здесь человек живет друг на друге, семья на семье. Дурак над умным, умный над дураком, и дурак на дураке. Так чаще всего, потому что умных — где они? — а дурак вот он. Он деятелен, он многолик, он наделен с рождения дурной энергией, он размножается со скоростью амебы и заселяет все эти башни и прямоугольники. Он меньше прочих томится этой коммунистической, коммунальной жизнью, вроде бы коллективной, а на деле наглухо закрытой, захлопнутой, замочной, отделенной от всех — одно-двух-трехкомнатной жизнью. Серые тюремные ямы домов, квадраты окон, тоскливые лоджии, балконы, заваленные хламом, заставленные бабушкиным добром, — кладовки нет, а выбросить — жалко. Засранные, заблеванные подъезды, с выбитыми стеклами, загаженными лестницами, вонь от мусорок и мусоропроводов, которые чистят-нет — не поймешь, такие же помойные бабы и мужики, персонажи из «Капричос» полусумасшедшего Гойи. Мазаные, больные голуби на помойках и орущее где-то, обязательно орущее в летний день, чье-то радио с балкона, магнитофонный дебильный стук — занятие такого же стриженного под нулевку имбецила. Жилой район! Только издали ты красив, вблизи же противен тоскливой, муравьиной, кишащей жизнью.
И все-таки мне удивительно повезло. Определили к сносу наш прогнивший, стоявший на болоте барак. Радовались все, и, наверное, больше всех я — неужели у меня будет наконец мастерская? Меня вызвали в исполком. В «жилищную комиссию». Я столкнулся за ее столом с женщиной, внимательно посмотревшей на меня. И я узнал ее. Когда-то это была девочка, с которой мы учились с первого до третьего класса. Тогда у нее были белые тонкие косички уздечкой. А фамилия? Вспомнил и фамилию: Салангина? Странная фамилия. Есть такие стрижи или ласточки на востоке «саланганы».
— А я знаю вас, — предваряя мой вопрос, сказала она. Вы Саша Рассохин. Вы даже как-то мало изменились! Возмужали, конечно…
— А вы — Салангина!
— Была… Да… Ну, что? Переселяем вас? У вас комната? Вы ведь один? Комнату вам и положено. Благоустроенную..
— В коммуналку?
— Да.
— Но как же я опять? Я же — художник! Мне мастерская нужна, — почти с отчаянием заговорил я.
— Художник? А вы член Союза?
— Нет. Меня и не примут никогда.
— Почему?
— Да я отсидел десятку..
— Да, тут у вас в документах указано. И не реабилитирован?
— Нет. Антисоветская агитация.
Салангина бледно усмехнулась.
— Не знаю, что и посоветовать вам. И помочь хочется. Я вас понимаю. Как со здоровьем у вас? Вы не туберкулезник? На учете не состоите в диспансере?
— Нет. Нервы вот подводят. Но в психушке не был. (Один год я, правда, мотался по невропатологам. Лагерь не забывался.)
— Можете справку принести, что вы у них на учете?
— Не знаю!
— Идите и несите такую справку, — сказала она без апелляций, — Идите!
Уже направляясь в сторону поликлиники, я вспомнил, что когда становился на военный учет, невропатолог — добрая дряхлая старушка — долго щупала меня, раздела догола, колола иголками, стукала своим холодным молотком, и в конце концов я получил определение: «Негоден в мирное время, ограниченно годен в военное». И вот диво — справку дали, и я принес ее Салангиной.
— Ну, вот! — улыбаясь, сказала она. — Теперь будет легче. Только однокомнатных сейчас нет. И придется вам, Саша, подождать. Или как? Может, комнату все-таки возьмете? Я вам хорошую дам, с лоджией.
— Нет, — твердо сказал я. — Буду ждать журавля. Синицу не возьму.
— Ладно, будет вам журавль! — пообещала она.
И Салангина сдержала свое слово. Через три месяца, когда барак уже начали ломать, я снова стоял в ее комнате.
— Что я говорила? — улыбнулась она. — Вот, выбирайте. Вы — первый. Дом еще не распределялся. Любую однокомнатную. В торцах все такие!
— Любую?
— Какую хотите. Одинаковые же. Хотите — третий, хотите — четвертый!
— Нет. Мне бы самый верх. Двенадцатый.
— Двенад-ца-тый??
— Да. Я же художник. А художникам лучше на чердаке.
— На двенадцатом насидитесь без воды… Может течь крыша!
— Нет. Только двенадцатый..
— Тогда… Пожалуйста… Странные вы… Художники. Странные…
Я получил ордер.
И теперь объясню, почему мне повезло. Моя квартира была над крышами всех девятиэтажек! Из комнаты и кухни я видел лес, дали и даже серую гладь пригородного озера. Передо мной не было теперь не только ненавистного забора — не было вообще ничего: только небо, солнце, закаты, рассветы, звезды и луна. Что еще можно художнику желать?
Стоя у окна, глядя на крыши внизу, на то, как по ним перелетают голуби и бродят кошки, в пустой и просторной, от этого кажущейся гулкой новой квартире с поскрипывающим желтым паркетом под ногами, я думал: «Неужели судьба повернулась ко мне? Неужели кончился еще один какой-то период и начнется улучшение моей жизни? Как бы готовясь к нему, я скопил каторжным трудом на заводе, в сталеплавильном цехе, четыре тысячи рублей. В этот сталеплавильный, мартеновский меня загнала окончательная нужда, и наткнулся я на работу подручного совсем случайно, шел с пляжа и увидел объявление: «Требуются в сталеплавильный». Зарплата. Она показалась удивительно большой.
Завод я не любил никогда. И не мог бы полюбить, как нельзя полюбить лагерь, каторгу, ссылку, еще что-то такое же. Я его просто терпел, потому что он помог мне выбраться из нужды. Да, пожалуй, не я один — все терпели там, вкалывали с привычной безнадежностью, с чем-то еще более горьким.
Мы все тут были рабами машины, рабами техники, огня, металла, того, чем не адского, процесса плавки, бесконечной, неостановимой и порой, казалось, бессмысленной. В самом деле? Куда шел этот металл, синими тяжелыми поленницами сложенный на литейном дворе возле подъездных путей? Отсюда — его грузили в вагоны, увозили, чтоб сделать станки, машины, трубы, кровати, и теми же путями (но с другой стороны!) он возвращался обратно ржавыми, ломаными остовами тех же станков, машин, труб, кроватей — шихтой, которую опять надлежало закладывать в клокочущие, как мыльной водой, адские топки печей.
Будь я хоть сколько-нибудь жаден до модернизма, уж обязательно написал бы этот цех — подобие преисподней с красными дьяволами в заревах печей, и самые печи — котлы, кипящие будто смолой и серой, и наши лица в дурацких касках, поверх шапок зимой, особенно после смен, высосанные жаром и на пределе всех человеческих сил. Деньги здесь зря не платили. А я был третьим подручным, говоря проще, подметалом: подгребал шихту, был на подаче, таскал пробы… Одним словом, «художник», и тут меня так звали, как в лагере, только тут с насмешкой.
«Художником» я назвался явно сдуру, когда поступил в цех.
— Кем был-то? — спросил меня мастер, черный, копченый мужичонка.
— Художником.
— А-а-а, — протянул он разочарованно. — Не стоило тебе сюда.
— Почему же?
— Да работа у нас тяжелая. Пыль. Газ. Жара.
— Вытерплю. Работал на тяжелых.
— На каких-таких? — прищурился он.
— В зоне. На общих..
— Где же?
— На лесоповале..
— И долго?
— Долго.
Дальше было молчание. Собеседник мой, видимо, прикидывал, где я был, когда и сколько. Но отвязался.
К художникам, однако, отношение здесь было презрительное. Один тут ходил, писал сталеваров. Картину огромную «Плавка выдана». Узнал, что это наш выпускник из «трутней». Картина та долго гремела. Репродуцировал «Огонек». Все в ней было сплошь ложью. Плавили. Дышали железно-каменным серым смогом. Летом обливались потом — чем не ад, когда на улице за тридцать, тут — все пятьдесят. Рубаха уже не мокнет, иссыхает. Не помогает и соленая бесплатная газировка — пей от пуза, наживай язву. Пей и иди к печке. Печка ненасытная, она горгочет, она варит, в ней, как вода, плещет-кипит металл. И никто не пялится туда. И не стоит, подняв очки, когда металл хлынет в изложницы. Заслонись рукавицей, отойди, палит лица атомный жар, брызжет, летит фонтаном искра. Берегись, дядя!
На первых порах я чуть не испортил глаза. «Поджег». Глаза болели, и ночью, шла, лила слеза.
— А вот — не пялься! Печка — не баба, а ты все ей, как бабе под подол, — говорил мой учитель и начальник сталевар Шаповаленко. — Ишь какой! Да и к бабе, скажу тебе, под подол глядеть много вредно.
— Что будет? — усмехался я.
— Затягивает! Садись покурим, — говорил сталевар. Сидели. Возле его кнопок с управлением заслонкой. — Баба — она как прорва. Ей не насытишься! Вы вот, художники, все на ее молитесь. Рисуете. To-се… А она, если разобраться, не стоит того. Гадина она и стерва, хуже мужика. Да. Ты, я вижу, не веришь. Ты еще ей не еденный. Поддашься слопает и не моргнет. Вот, хочешь, про бабу случай? Был у нас тут сталевар один. Колька Конос. Его фамилия другая была, а звали почто-то Конос. Ну, Конос и Конос. От сам на кличку эту отзывался. И вот, значит, был он ба-а-альшу-щий любитель баб. Да все таких, поядренее искал, чтоб жопа-то во-о-о! — разводил руки в вачегах. — Искал, искал и нашел. Правду говорят: кто ищет — находит. Молодую такую бабу нашел — медсестрой у нас работала, Валей звали. Валя и Валя. Он в нее прямо как волк впился. Никого не подпускал. Ни на кого смотреть не стал. Женился. Живет год, другой и все только: «Ну, Валя у меня, у меня Валя!» Ну, правда, поглядеть есть было на что: жопа, как у кобылы, на кобыле коса, сама из себя видная, грудастая, сиськастая, губы даже навыворот, глаза с зеленью. Ой, блядь! От таких мужики слюни пускают. И Конос ходит, нос задрал, на седьмом небе. На работу ее провожает. С работы встречает. Днем, в перерыв, к ей бежит… Исхудал. Крепко, видать, она его доила, высасывала весь сок. Мы уж ржали: «Высосет она тебя, Колька, как комара». А он только ухмыляется: «Валя у меня золото! Валя у меня! Валя у МЕНЯ!..» Чтой-то… Плавка идет медленно… — нажал кнопку форсунки, — Газу добавить надо… Шихта плохая, что ли? Ну, вот. Валя, там. Валя! Чем, думаешь, кончилось? Пришел он как-то домой. Не в черед, руку обжег и побежал. К Вале. Лечиться. А она в то время в отпуске была. Ну вот, прибежал. А на Вале-то мужик! Вот так вот. Почернел этот Конос, сник, обуглился. И запил. Валя его живенько бросила. Кончил совсем плохо: задавился. Вот так бывает: «Трали-Вали..» Баба, заметь, она, как печка. Ты ее кормишь — она греет; чуть перестал кормить — и потухла. И на сторону. Знаем такое дело. Особенно — красивая если. Красивая, говорят, всегда чужая. Смекай. Суки они подлые. Все… И некрасивые не лучше.
В этом цехе женщин не было, если не считать двух страшноватых костлявых старух техничек, на которых, наверное, никто и не глядел по-мужски. Заводских женщин я почти не знал. Потому что, сняв робу, отмывшись, тут же уходил с завода. И жизнь на нем (в нем) считал той черной необходимостью, которая мерилась от получки до получки. А получал я все-таки солидненькую сумму, если сравнить с моим прежним заработком. И добрых две трети этих добытых денег клал на сберкнижку, на другие жил скромно, памятуя: одна голова не бедна, а бедна — так одна. Деньги на книжке копились нескоро, но все-таки, наверное, быстрей, чем у моих напарников, почти сплошь семейных и урывавших от этих семей и жен всякие там «подкожные» и «заначки», на которые сплошь «надирались» или клали в круговой «пропой»… От них я сразу отказался наотрез. Объяснил, что хочу скопить деньжонок на холсты и краски. Поняли не поняли, но отступились: «Художник он, ребята! Художник». Но и не презирали.
Через три года этой каторги на моей новенькой книжке было четыре тысячи рублей! Сумма! Если рассчитать по двугривенному — до конца дней. По рублевке — на десятилетие. А по трешке — так чтоб с сыром и с маслом — на три года. Житуха! — думал я, без сожаления подав заявление об уходе.
Закончилась моя сталеварная эпопея. Друзьям по смене выставил пять бутылок водки. Выпили. Закусили. Распрощались. И когда опять я, вольный, вышел за ворота (третий мой ход!), понял, что никогда уже не вернусь на завод. Буду бродягой, подметалом, может, даже подамся в воры (где что плохо лежит — не грех? Не грех.). Конечно, какой я буду вор, но и, лагерь пройдя, не поверишь сам, что не вор. Воровал ТАМ? Бывало. Там все воруют. Вор у вора и даже надзиратель у надзирателя.
А теперь вот я стоял в пустой квартире у окна. И вспоминал. И знал еще, что теперь я почти богатый. Четыре тысячи на книжке! Не жук чихал.
Сперва я думал, не буду покупать ничего: стол, стул, кровать, лампочка без абажура — все есть. Так прожил почти двадцать лет. И так жил раньше. В той барачной комнатушке само складывалось не покупать ничего лишнего: мебели, одежды, ничего, что требовало места, — да и куда было? Не имелось и лишних денег. Покупал только книги, книги по искусству, жизнеописания великих художников, и то с отбором. Но теперь все было по-иному. Квартира вот она — зияет пустотой и ждет-просит наполнения. Здесь я уже не мог видеть мою койку с продавленной, подтянутой проволокой сеткой, стол обшарпанный, изрезанный, измаранный красками, и стулья в масляных красочных пятнах, драные выгорелые шторы. Квартира просто требовала мебели и обстановки. И у меня были сталеварские деньги: четыре тысячи! Две из них я «не имел права трогать». Итак, две тысячи! Вроде бы много — и что я решил на них купить? Во-первых, холодильник — вещь нужнейшая, особенно летом, в жару, когда все портится и киснет. На холодильник нельзя жмотиться. Надо хороший, рублей за триста — триста пятьдесят. Затем — на чем спать? Лучше бы не койку, а софу, раздвижную, хорошую, слыхал, что на них записываются в очередь, стоят годами. И стоит — рублей двести триста. Пусть так… Потом нужны два стола — письменный и кухонный. Значит, надо рублей сто, а кухонный стоит дешевле. Надо шторы на окна — еще сто рублей. И еще кресло. Кресло-то тебе зачем? Затем, что ХОЧУ! Хочу сидеть в мягком кресле, барином, и смотреть телевизор. Стоп! Телевизора у меня, можно считать, не было. Не числить же за него постоянно ломающийся старый и дрянной, который отец покупал в комиссионном? Надо телевизор, а это еще четыреста. К телевизору, креслу (и к софе тоже!) надо бы ковер на стену и палас на пол. Да ты с ума сошел! Сашка? Откуда у тебя, друг, такие аристократические потребности? Ковер, телевизор и палас — это и будет еще тысяча, и не хватит ее, пожалуй. А, еще забыл, надо зеркало, большое, хорошее, надо шкафы на кухню, надо посуду, чайный сервиз и так далее, так далее. Но… Когда в кармане есть четыре тысячи, я всегда мог отколоть от них еще кусочек. Чего там!
И я принялся за обарахление. За обстановку квартиры. Теперь с раннего утра, едва попив чаю, я мчался в город (квартира была на окраине, в микрорайоне на болоте, где когда-то в насмешку был лагерь для зэков-краткосрочников. Лагерь снесли, болото осушили и здесь строили район с пышным названием «Коммунистический» — какой твари пришло в голову его так назвать? Но жители уже давно построенного поселка, при железобетонном заводе, по привычке переносили название ЖБИ на новый «Коммунистический» и всех селившихся тут звали «жебуевцами»). Итак, я ехал в город, в тесном автобусе, по расхлюстанной панелевозами дороге, для того, чтобы найти все необходимое для моей квартиры. А потом я стоял в очередях, мне писали чернильным карандашом синие номера на ладонях, я питался бабьими слухами: тогда-то что-то привезут, там-то «выбросят». Старухи смотрели на меня как на вора. Я топтался у мебельных меж клубящимися тут цыганками, разной изношенной пьянью и мелкими ханыгами. Кажется, узнал все мебельные и хозяйственные магазины и отделы во всем городе и окрестностях — но и покупал!
Холодильник я приобрел первым. Он назывался «Полюс», был большой, вместительный и напоминал прямоугольный брус снега. Когда поставил его на кухню — долго любовался. По случаю купил также и два кухонных шкафа, стол и белые табуретки. И кухня преобразилась. Дорогие мои!.. Я обнаружил у себя странное свойство — мне нравились только новые, нетроганые, не бывшие в чужих квартирах вещи. Новые, они не несли на себе атмосферу чужих дыханий, прикосновений-излучений. Вещи перенимают ведь от хозяев все-все их качества-свойства и даже здоровье и болезни. Ведь, допустим, кровать блудницы может быть только кроватью блудницы. Зато новая и свежая постель имеет совсем иное свойство: к этой постели — простите за грубость! — нужна, просто требуется, робкая девственница, которая, как знать, в умелых и любящих объятиях со временем станет опытной обольстительницей и властной женой. Вы понимаете, что речь шла о софе, широкой, удобной, раздвижной, и эту софу мне надо было позарез — ведь продавленную койку выбросил по привозе, а теперь уже третий месяц спал на полу на матраце, который, если честно, мне тоже хотелось выбросить, как прошлое, к которому нет возврата. И все-таки я обарахлился.
После долгих хождений по мебельным я купил софу, такую, какую хотел. Плуты-грузчики пытались ее подменить, всучить другую, сколоченную наспех, та была дешевле. Понятия грузчик и вор на Руси, кажется, одинаковые. Софа с раздвижными подушками, хочешь не хочешь, превращалась в то широкое ложе, где и при слабом воображении грезилась красавица в вольном сладком сне или женщина в порыве крутого сладострастия. Софа и женщина — понятия, видимо, родственные. Можете не соглашаться. Пусть буду для вас «сексуальный маньяк». Но мания, по-моему, просто высшее проявление горькой необходимости. А «порок» придумали импотенты и фригиды. Задумайтесь, что такое порок, если только не убийство, не насилие.
Но софа тотчас же и напомнила о моей холостой, голодной и уже, кажется, потерянной (в семейном смысле) жизни. Да. Я остался холостяком, многие годы. После Нади не мог найти ничего хоть сколько-нибудь напоминавшее. Не мог увидеть даже приблизительно визуального тождества. Уже спрашивал себя: неужели я однолюб и так и останусь без женщины, состарившийся и никому не нужный? Вообще, женщины при знакомстве (редком) не отворачивались от меня и даже, узнав о том, что я художник, обретали заинтересованную искорку во взгляде, но едва выяснялось, что художник беден, живет в бараке, не имеет постоянной работы, — все тут же скоренько обрывалось, взгляд холодел, расставания были кратки. Жизнь, лагерь, одиночество, общение с художниками и редкими женщинами давно дали мне беспощадное понимание-обоснование бытия: все, абсолютно ВСЕ построено на эгоизме, разумном, неразумном, интуитивном, подсознательном, скрытом, явном, холодном, участливом, болезненном — все равно. Я научился видеть всюду — эгоизм скупости, эгоизм глухоты души, эгоизм желания, эгоизм стремления, эгоизм даже в помощи кому-то! Всюду, везде, во всем он неотделим, неумолим, и все пороки: ложь, лесть, зависть, злословие, донос и воровство — все оттуда. Задумайтесь и проверьте. Даже дерево, тянущее к солнцу свои ветви, не тот же ли пример, ведь без пощады оно затеняет все живое, что мешает ему расти. Страшно, если раздумаешься, и справедливо, если поймешь. На том и стоит жизнь. Кто сказал, что жизнь есть уничтожение другой жизни? В лагере эгоизм этот доводился до особой жестокости: сдохни сперва ты, потом я. И потому воровали пайки, «закладывали» оперу, глумились над обобранными, забивали слабеющего. В лагере, куда ни плюнь: волки, шакалы, клопы — так много зверья, что и теряется в этом слово: человек. Зверь вылезает там из человека. Но ведь женщина-то, наверное, единственное существо, которое должно быть противопоставлено всему: существо рождающее, кормящее, жертвующее во имя будущей жизни своим телом? В женщине-то как раз и не должно содержаться эгоизма, должно быть в минимуме. Мать, жена, подруга, любовница — та, что любит, любит, а значит, жертвует и отдает? А рассудок подчас подсказывал иное: женщина биологичнее, значит, и эгоистичнее! А биология-то эта ей зачем? Для себя? Не только… Гнездышко свить, деток вывести, иметь защиту, ну и чтоб самой было тепло, сытно, безопасно. Что в этом худого? За что же ее упрекать, если ты сам такого для себя сделать не мог? Да. Но я вот всю жизнь молюсь на женщину, ищу ее красоту, пишу, как могу, и стараюсь писать как можно лучше, а меня они (она) избегают, как прокаженного, и бросают (бросила) без всякой жалости и участия.
Ничего я тут не могу понять, а получается вроде бы опять тот же самый эгоизм, который, кстати, всюду отрицается, презирается и будто даже исключается. Фрейд искал истины жизни в «либидо», а не додумался до того, что и «либидо» лишь форма проявления того же самого — эгоизма. Ах, философ! Что я открыл? Но разве виноват, что родился художником, что «либидо» мое заставляет меня писать только ЖЕНЩИНУ, искать ЕЕ и страдать от НЕЕ? Разве я повинен, что родился в стране, где будто все поставлено вопреки разуму и вверх ногами, вопреки логике и тому же грешному вроде эгоизму, против которого кричат плакаты и лозунги, и я сам за деньги их малевал и писал их творцов, обалдуев и хапуг, с властными, беспощадными рожами. Зачем, скажем, создан в стране этот «строй», который простейший разум отказывается понимать. «Вперед! К коммунизму!» — кричат и светятся буквы. Куда? Зачем? Где он? Когда будет? И что это такое? Вперед, куда, ничем не рискуя, звал заросший власами, палец о палец не ударивший, чтоб хотя бы себя кормить, якобы мудрец, и второй, называвший себя его другом и продолжателем, и третий, на практике воплотивший, пролив море крови, и четвертый, казалось уже завершивший строительство храма на костях и крови, и пятый, совавшийся во все стороны, обнаружив, что башня колеблется, и шестой, кому, кажется, и думать было лень, чтоб башня стояла, лишь бы еще одну звезду повесить под воздетые от счастья густые брови. Кто там придет следующий? Опровергатель страшной сущности эгоизма?
Так вот раздумывал, сидя на разложенной, раздвинутой софе, в позе «мыслителя», иногда отрываясь от этого ухода в созерцание и глядя на свои повернутые к стене картины, никому словно бы и не нужные в этой стране. Картины, с которыми меня на выставки не подпускали «худсоветы» и комиссии, даже к обычной городской выставке. Опять женщина? Что вы?! Что за купечество? Потакать сексуальной развращенности? Растленному Западу? Ведь на выставки ходят с детьми! Да, согласны, — написано профессионально, ярко! Но ведь при первой же приемке снимут и еще шею намылят, нам и вам. Вы-то меньше всех рискуете. Нет. Нет!
Впрочем, говорить я ведь начал о софе и девственнице, которую ждали и она, и я — я больше, чем софа. Где ты, девственница, если мне уже стукнуло сорок пять и в волосах седины сколько хочешь, и в бороде еще больше! Как-то, погнавшись за плагиатным в общем «образом» живописца, я вздумал отрастить бороду и довольно легко справился с задачей. Борода выросла — куда с добром! Густая и крепкая, но была седа через волосок, отчего казалась рыжевато-серой. Сам я не рыжий, темно-русые волосы тоже давно прихватила седина, а вот борода оказалась с какой-то ржавчатой рыжиной. И бороду я сбрил. С ней на меня совсем перестали смотреть женщины, нет, не женщины, а те удивительные существа, по которым я сохнул, чем был старше. Мой взгляд теперь все чаще останавливался на девушках, даже, скорее, девчонках в самой ранней поре цветения! Да уймитесь вы, ревнители морали! Не хотел и не жаждал несовершеннолетних. Просто любовался ими, ловил их нежную, сродни ангельской, красоту-чистоту. И пытался воплотить в своих картинах. И сам вроде был таким. И душа просто слезами исходила: не было у меня такой юной, несовершенной, безоглядной, трепещущей любви, и никакой секс, никакая изощренность ее бы не заменили. И еще странность: старилось и, конечно, вяло, изнашивалось как будто мое тело — морщины, худоба, седина… Адуша словно бы молодела, становилась открытой и ранимей и болела, саднила уже невыносимо. Это вечное мое одиночество и сушило, и растравляло ее.
Новая квартира, как ни странно, не утолила, а лишь обострила мою вечную боль. Без женщины она была как мельница без воды. И вот, радуясь своей белой кухне, сияющим новым кастрюлям, новой люстре-плафону с какими-то детскими сказочными орнаментами: елки, избушки, Красная Шапочка и зубастый волк — я просто уже болел одиночеством. Комнату же я разделил на «мастерскую» и «гостиную». В «мастерской» стоял мольберт, картины, для которых собирался сделать шкаф-хранилище. В «гостиной» — софа, кресло-кровать, огромный палас под цветистый восточный ковер и ковер на стене — настоящий, дорогой. В итоге всех трат у меня осталось на житье семьсот рублей. Зато была чудная и не снившаяся даже мне квартира. Как у художника Нилуса (о нем я читал!) — чердак, но роскошный, устеленный коврами!
Ковры! Вот везде уже писано-переписано: надо жить скромно. И Ленин их будто бы «не любил». А мне так нравилась эта моя непривычная «роскошь», она грела душу, рождала настроение, и только в одном, повторно уже, омрачалась моя жизнь. Натуры, женщины, ФЕМИНЫ у меня не было, и годы безжалостно, неуклонно наслаиваясь, говорили: «И не будет!»
Ночами, просыпаясь на своей одинокой постели, я часто плакал, рыдал и трясся, как маленький, а проплакавшись, лежал и часами смотрел сквозь окна, как неуловимо движутся звезды. Вокруг меня привычной, обыкновенной, нор-маль-ной жизнью жил гигантский микрорайон. Люди спали, любили, совокуплялись, рожали и нянчили детей, влюблялись, расходились — и не были одинокими. Они были как все. И часто из окна кухни я волей-неволей видел, как они пьют чай, обедают, нянчат, гладят, о чем-то спорят, танцуют и даже пляшут, пьянствуют, дерутся (изредка), что-то пишут, читают, ложатся спать, накрашиваются и одеваются. Но никто из них не рисовал, не писал красками, не стукался головой о стену, похоже, не плакал и ничего такого не искал. Там была обыкновенная, нормальная жизнь. Здесь, у меня, какое-то вечное и с годами ожесточившееся, едва переносимое уже голодание.
Неутоленный голод, от которого, уже бывало, тяжко ломило сердце. Я подчас ловил себя на дикой мысли: там, в лагере, у меня была тягостная жизнь, не жизнь, а терпение с ожиданием свободы, здесь, в квартире при коврах, была свобода без каких бы то уже надежд на счастье, разумную жизнь, любовь, успех, признание, и мало помогали от этих раздумий мечты и самоутешения, а работа, которой я пытался глушить и давить свое одиночество, подчас только обостряла его. Ведь я писал, рисовал, искал в природе только женщину и вот уподоблялся повару, который готовил изысканные яства, а сам не имел даже возможности коснуться их. Тантал был прообразом художника. Сизиф — быть может, его мифическим воплощением.
Иногда я поражался сам себе: ведь все есть, все есть, о чем вечно плакался — картон и кисти, краски, холст! Всего накопил вдоволь! Есть шикарная квартира-мастерская. Из окон — небо, вдали леса. Хоть вот отсюда пиши пейзажи. Правда, пейзажистом, наверное, надо родиться, как родились ими Левитан, Шишкин, Коровин. И портретистами, наверное, рождаются. И теми, кто славен в натюрмортах. И маринистами, пусть как непочитаемый мной Айвазовский. А я уже в условиях какого-то бесполого словно «развитого социализма» с этим его пеленочным названием оказался, ну, как себя обозначить? Фе-ми-нис-том? Почему бы и нет? Если были ими Роден, Модильяни, Ренуар, Дега и Кустодиев? Феминист Рассохин, опоздавший родиться на столетие назад, или бы уж на столетие вперед, если к тому времени совсем не исчезнет живопись или женщина.
Что говорить напрасно, если и приличной, красивой НАТУРЩИЦЫ, вдохновительницы кисти, какой была, скажем, Габриэль у Ренуара, у меня не имелось. И не предвиделось такую найти. Что толку, если б и предвиделось, но вот они, мои картины. Их никто, по сути дела, не видел. И вряд ли вообще кто увидит.
Ночами меня часто охватывало отчаяние. А утром, ободренный ранним солнцем, золотившим мою мастерскую, я опять поднимался с надеждой объять необъятное, часы простаивал у мольберта, пытаясь воспроизвести какую-нибудь очередную мечту из моего бесконечного цикла «ЖЕНЩИНА». И если не удавалось, мыл кисти, одевался и шел в город. Шел в город чего-то искать.
Однажды я встретил возле магазина у площади Болотникова. Мы не виделись, наверное, уже целое пятилетие. Учитель мой выглядел старовато, ссутулились плечи, голова была уж не пуховой, а гладкой, глаза повыцвели, но все-таки глядели с заинтересованностью, чуждой старости. Разговорились. Похвастал мастерской. Посетовал: «Нет денег». Все ухлопал на эту квартиру. Работать на завод не пойду. И с натурой ничего не получается. Глухо.
— Нет денег — вы не оригинальны, — сказал Болотников. — Деньги есть лишь у продажных бездарей или супергениев. Ваше время в этом смысле не пришло. Сейчас оно просто невозможно. Однако… Вы, Саша, видели, как растет трава под доской? Ну, кем-нибудь в газон брошена доска или камень. Отвалите эту доску, и вы увидите — трава растет и там, бледная, белая, едва зеленеет, но растет. Надеюсь, доски и камни свалят, когда придет ваше время. Дай Бог, чтоб это случилось не через сто лет. Ограничьте потребности. Я живал и на бутылки. Да. Да! Не поверите? Шел на вокзал, садился в электрички и — набирал. Не зову вас на этот путь, он лишь на крайний случай. И возможно, вскоре я помогу вам найти заработок… Имейте небольшое терпение. И дайте мне ваш адрес. А вот с натурой помогу только советом. Женщин-натурщиц всегда можно получать, но красавиц, — он сделал ударение, — писали в свое время только Тицианы и Рафаэли. Художники тогда были в славе, и женщины-красавицы не только им позировали — женщина тщеславна! — они им отдавались. Так вот: красавицы натурщицы вы не найдете, такую, какая глаз радует и какую душа требует, купить невозможно или нужны сумасшедшие деньги. Деньги! За деньги, говорят, можно КУПИТЬ и фею. Да, Саша! Индийская мудрость утверждает: «Нет места, нет времени, нет пожелавшего — потому и чиста женщина. А сущность ее — измена». За эти великие истины я в свое время горестно расплатился. Я слишком доверял женщинам и потому живу один. — Болотников грустно усмехнулся одними глазами. — Так вот, — продолжил он. — Раз идеальную натуру вы не будете иметь, значит, ее надо ловить. Как энтомолог бабочку. Как фотограф. Щелк — готово! Ваша память и должна быть фо-то-гра-фи-чес-кой! Вы меня поняли? Глаз — объектив, память — пленка, зоркость глаза — резкость изображения. Вы знаете, что фотопленка фиксирует даже недоступное зрению, то есть обычному глазу. И отсюда банальный вывод: все время рисуйте, фо-то-гра-фируйте глазами. Рисуйте глазами! Так завещали все великие. Энгр! Вот идет женщина. У нее прекрасные бедра. Будете ее останавливать, предлагать встретиться, она вас может оскорбить, наплевать вам в душу. Может быть, она мегера, черт в юбке. Но бедра ее вас взволновали. Рисуйте их немедленно. Носите с собой планшет. Ах, вы! Чему я вас учил? Фиксируйте! И постоянно внушайте себе: Я гений! Я суперхудожник! Звезда мира! Мне все подвластно!
И он усмехнулся. Глаза стали глядящие в солнечный сентябрь.
— Итак, все у вас под ногами! А деньги будут. Вот мой телефон. Давайте адрес. Спешу! Если бедность будет невтерпеж — звоните. Или когда напишете шедевр. Я обязательно приду!
Он ушел. Я стоял в задумчивости, глядя в его спину, сутулую, как у старика. А ведь он прав! Что же я расписываюсь в бессилии, вместо того чтобы действовать?
Дома изготовил планшетик. Он был прост и удобен, умещался в кармане куртки! Блокнот для этого был громоздок. Но первый же воскресный день, когда я отправился на поиски красавиц, не дал ничего. Красавицы, когда их ищешь, не встречаются. Их видишь чаще неожиданно. В неподходящем месте: вокзал, трамвай, какая-нибудь очередь, автобусная остановка. И словно редкие бабочки, они имеют свойство внезапно и быстро исчезать. Может быть, так прошло несколько дней, пока я не встретил действительно уникальную женщину.
В скитаниях своих я оказался вблизи вокзала — тут была столовая, где можно хорошо пообедать на рублевку, и тут, на выходе, я заметил группу парней и с ними девчонку в синем трикотажном костюме и таких потрясающих форм, что она невольно заставляла оглядываться и молодых, и стариков. Дева явно бравировала формами. Помона или Цецера! Она шла неторопливо, и громадные ее ягодицы подрагивали в такт тяжелому полувращательному движению. «Прекрасная, как слон, Мохини шла по дорожке», — вспомнилось что-то из индийских сутр. Да. «Мохини» эта была явно близка к миру животных. Может быть, она воплощала этот мир! Но и облагораживала его той мощью и округлостью, какой нет у животных и какая возникла у женщин за тысячелетия неистовой жажды и похоти ваятеля мужчины.
Думать о зарисовке на ходу не было и речи. И я просто шел за пышной красавицей, стараясь запомнить всякое движение чудо-девушки. Сравнительно худой там, где была ее голова, шея, спина, талия и чудовищно контрастной, где талия кончалась и могучими овалами переходила в роскошные, чтоб не сказать чудовищные, бедра матроны. Голова у девушки была небольшая, непропорциональная бедрам, гладко причесанная, однако с крепким густым и блестящим «хвостиком». Он развратно торчал и подрагивал, как-то все-таки согласуясь с тяжелыми переливами ее величавого тела.
О, это была уже уникальная находка! Женщина-девушка, которая превосходила мою незабываемую Надю, превосходила и напоминала ее, хотя в остальном во всем была далекая мне, недоступно-чужая. Но, как с досадой понимал я своим голодным мужским сердцем, вполне доступная кому-то из этих парней.
Я дошел с этой компанией до вокзала и машинально, как влекомый, взял билет на ту же самую электричку. Я не мог освободиться от тянущего движения этой богини плодородия. Когда компания погрузилась в подошедшую электричку, умудрился сесть столь близко, что водянистые глаза девушки, они были зеленовато-светлые, как лягушачьи икринки, не раз понимающе-вопросительно останавливались на мне — мой взгляд, конечно, гладил ее обтянутые трико бедра и колени. Компания тут же начала играть в карты, а я продолжал и продолжал рисовать глазами контуры Помоны, запоминая малейшую щербинку на ее лице — след давней оспы-ветрянки. (Все остальное у нее было идеально плавно-округло, особенно колени, словно бы и без чашечек (круглые колени — женщина добрая, — заметьте! С худыми коленями — чертовка! Чья-то расхожая мудрость.) Запомнил врезавшийся в полушария след — резинку трусов, плавно облегавших хорошо обозначенное близкое мне бедро, — запомнил все так, что компания уже начала поглядывать искоса и с неудовольствием. На полустанке, где дорога расходилась в три стороны, я вышел, напоследок еще глянул на Флору-Помону-Цецеру. Я «забирал» ее с собой — теперь она никуда не могла от меня деться.
На полустанке я сел в обратную электричку, полупустую, свободную. Теперь можно было по свежей памяти зарисовать в планшет все, что я держал в памяти. Получалось плохо. Вагон качался, трясло. Бумага планшета была явно мала для таких контуров, и я с досадой сунул ее в карман.
Лишь дома, усевшись за стол и приколов на свою большую рисовальную доску лист стандартной рисовальной бумаги, я вдруг, не прицеливаясь и не примериваясь, начал рисунок. И — Господи! Не твоя ли рука водила моим угольным рисовальным карандашом! Я в точности воспроизвел это чудо женского мира, не только контуры, бедра, фигуру, выражение лица, икриночных глаз, гладко зачесанные волосы, но даже сексуальное торжество ее хвостика, поднятое над затылком! Если бы девушка эта увидела свой портрет, я думаю, была бы потрясена не меньше автора.
Закончив изображать ее сидящую, я тут же набросал идущую, сидящую в ином повороте, склоненную над картами, мне удалось даже насмешливое предожидание-блеск ее девочковых глаз, когда на руках были главные козыри.
«Эврика! Ну, что же? Теперь я независим от согласия натуры! Я могу быть чем-то вроде фотокамеры. Да здравствует Болотников!» Мой учитель, которого я хотя и явно превзошел, но преклоняюсь перед ним. Открыл он мне ведь явно очевидное — но почему же я сам об этом не догадывался? Учитель — он в этом и УЧИТЕЛЬ. Он просто меня разбудил! И еще, наверное, несомненно «помог» мне лагерь, где годы и годы я тушевал «карточки» зэков.
И теперь моя коллекция зарисовок любых понравившихся мне женщин, их «типов», типажей стала стремительно расти. Рисунок ведь — «три четверти живописи», и это были сладостные заготовки. Почти всякий день я возвращался с уловом в сетях памяти и рисовал, рисовал, рисовал. Вот подписи к моим находкам: «Блудница», «Старая гетера». Вот: «Купчиха», «Слониха-щеголиха». Это: «Кармен». Это: «Мясной отдел». Тут вот: «Порок»! Тут же: «Вампир». Еще: «Дура», «Антилопа».
Рисовал и рисовал, словно утоляя свою изголодавшуюся утробу. Пока я делал рисунки и наброски, но в уме уже сладостно держал картины, большие, в багетах, и даже уже подбирал названия, циклы. Допустим, на античные сюжеты: «Мессалина», «Клеопатра», «Вакханки», «Венера и амур». Было, но я-то ведь сделаю-напишу по-своему, «так, как, может быть, никто еще не писал!». Сколько всего «Похищений Европы», а я могу совсем по-иному. Или вот: «Ева» или «Гера-Юнона»! «Рождение Афродиты». Понимаете, написать «РОЖДЕНИЕ АФРОДИТЫ»!
А кроме того, мне хотелось писать женщин на пляжах, в банях, в муках рождения, и даже — вот ужас! Разврат! — может быть, в гинекологическом кресле! Я хотел писать в том белье, которое французы называют «интимным». Во всех этих резинках, подвязках, пристежках, трусах, панталонах, корсетах, в бикини и в мини. К этому стремились художники и до меня. Тот же Лебедев написал множество розовых мордастеньких работниц в разноцветных трусиках. И что мне Лебедев? Хуже я его, что ли? (А теперь самое тайное.) Я хотел писать женщину отдающейся, наслаждающейся, бесстыдной, развращающей и развращающейся, писать нимфоманок, лесбиек, женщин с комплексом Пасифаи — жены царя Миноса, родившей Минотавра! От быка!
Пухли папки моих рисунков, эскизов, набросков. Удачные и не очень. Иные — похожие на шедевры. Шла тренировка моей руки, глаза и памяти, и она говорила: еще немного и пора приступать к картинам, к великим полотнам, которые я, без сомнения, напишу.
Хорошо мечтать. Хорошо развешивать уши от похвал. Хорошо влюбляться юным красивым мальчиком с тугой, комковатой мошонкой. Мальчиком, мающимся по ночам от мучений царя Приапа, что разрешались, чаще под утро, сладостными, освобождающими тело содроганиями. В старое время в состоятельных семьях мудрые родители нанимали мальчику пухленькую чистенькую горничную. Я был не мальчик, и горничной у меня, конечно, не было. Но женщина и во сне теперь не давала мне жить спокойно. Теперь я не был в лагере и все равно не знал, куда деться от уже саднящего душу давления в промежности, тут мало помогала и тусклая лагерная привычка — спасенье всех обездоленных отсутствием женщины.
Зимой и летом было еще так-сяк. Зимой инстинкты дремали. Женщины были закутаны в шубы, дохи, шали. Летом на пляжах и в платьях были доступней для обозрения, и голод мало-помалу стихал, откатывался. Зато как яростно наваливался этот голод, едва мартовские небеса начинали цвести, играть переливами синего, сиреневого, палевого и розового. А в мае бухала, содрогала землю и небо краткая слезно-счастливая гроза! В мае женщины переходили в атаку, снимали пальто и плащики. И тут действительно дурила душу и тело самая невыносимая маета. Не потому ли месяц назван так.
Юбки, кофточки, сквозящие тайнами крепдешины и шифоны! Женщины манили, их глаза, изгибы бровей, губы, улыбки, объемы талий, содрогания бедер — все излучало неведомые, никем не объясненные излучения. И я уже совсем не мог сидеть дома, корпеть в мастерской, неясная сила, глухое томление толкали меня на волю, на улицы, на простор, к НИМ, и целыми сутками, бывало, как одержимый, я бродил, шатался, таскался по городу. С моей дурацкой робостью знакомство с женщинами превращалось в неразрешимую проблему. Я всегда робел женщин, девушек, девочек с детства. Они казались такими холодными, насмешливыми, недоступными. Теперь же моя робость усугублялась еще тремя самыми существенными причинами: первая и главная, главнейшая — мои изреженные цингой, наполовину выбитые, не ставшие с возрастом лучше и красивее зубы. «Эка беда! — хохотнет кто-то. — Пошел да вставил. Все дела!» Не все. Потому что я органически не переносил даже запаха этих клиник, стоматологических кабинетов. Меня сразу клонило в обморок от вида всех этих «новокаинов», щипцов, шприцев, жуткого вида пыточной бор-машины, ее сверлящего нервы, хрустящего ноя.
Зубы драли мне коновалы, садисты в лагерной больничке. Там, на Ижме. ТАМ. «Зуботехники» Левка Горелин и Левка Кучин рвали зубы с каким-то остервенением, часто пальцами, вцепляясь, как злобные обезьяны. Один драл, другой держал, чтоб не дергался. Оба жили они почти без режима, имели «жен», никогда не гнулись на общих. Оба не были никакими врачами и «техниками». Просто такие Левки в лагерях, как заметил, устраивались лучше, потому что и лагерные начальники и оперы режимов были чаще из таких же и садили своих, где полегче, в КВЧ, в плановики, бухгалтерами, нарядчиками — вообще везде, где можно было не пахать, угреться, иметь хорошую пайку. Простите уж, но так было.
Второй причиной робости становился мой возраст, подкатывало уже к пятидесяти. А пятьдесят — скажи молодой и пригожей — только фыркнет.
Третья причина пока еще не донимала меня, но обозначалась все весомее и беспощаднее — опять кончались деньги. Ах, деньги! За краткий период моего относительного богатства я все-таки успел развратиться. Ну, черный хлеб — это была потребность, но я теперь уже не мыслил завтрака без колбаски, без ломтика-другого сыру и ветчины, без хорошей яичницы — коронного блюда холостяков, которую научился делать отменную со всякими специями-вытребеньками. Я привык и к рюмочке марочного красного винца за обедом. Какое гусарство! И вообще, я отвык от волчьей, студенческой, полузэковской жизни там, в бараке. Квартира требовала и самоуважения, а кухня, блистающая белизной, и лучшей человеческой пищи.
Деньги дали не только обстановку моего чердака, не только возможность спокойно думать над картинами, рисовать, писать, гулять по утрам и днями в поисках сюжета и натуры — они давали независимость и еще тот, невостребованный пока потенциал — найду женщину, а ее ведь надо еще и накормить, одеть, дарить ей подарки. «Женщина все простит мужчине, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЕДНОСТИ» — французская пословица. И еще мудрость: «Невесту деньги приводят». И еще: «За деньги и фею можно купить». И еще: «Хочешь быть молодым, не будь скупым». А деньги мои, столь щедро истраченные на мебель, ковры и удобства, деньги, имею в виду оставшиеся, таяли, как снег под мартовским солнцем. И никакая экономия, экономика не помогала.
Как жил художник в доброе старое время? Как жили Дега, Ренуары, Мане, Матиссы, Ван Гоги и Гогены?
Да также почти все бедствовали, искали заработки, заказчиков, продавали картины за гроши нехотя берущим торговцам живописью. Ну, Рубенсам и тем, кто писал коронованных особ, платили золотом. Да когда это было? А так художники жили все-таки продажей своих картин, копий, повторений. Я в условиях развитого социализма не мог сделать даже этого. Не «член союза», не признан, ни на одну выставку не принят, пишу «порнографию», «голых женщин», мне нельзя выставлять мою картину в салоне, продать на базаре, на вернисаже. Мне ничего нельзя, не позволено, не разрешается. Я могу найти только частного любителя, толстосума, мецената. А где он? Она? Оно? Они?
Женщин я писал по памяти и фрагментами. Например, их губы. Что такое губы? А вот бывают у них такие, что диву даешься, как могла природа сотворить такое, пухлое, нежное, прекрасное, ждущее, жаждущее, соблазняющее, выворачивающееся от желания? Я не раз рисовал такие губы, некрашеные, жадные, способные довести до сосущей истомы, до безумия, до изнеможения, губы, по которым можно тосковать целыми ночами. Такие бывают чаще у женщин с юности опытных, крупных, полных, противно однолюбых, от этого всегда голодных, но не хотящих «другого» и так зачастую уходящих с невостребованной жаждой. У девочек-девушек очень редко бывают губы — сама жадность и сухость, трещинки, как от зноя, неотрывная присасывающая сладость, неуемное, неостановимое желание, — такими губами не целуют, а вынимают душу. И есть просто красивые, бездушные, косметические губы.
Холодное украшение обычно такого же красивенького пустого холодного лица. Такие губы недостойны внимания художников. А мне приходила не раз дурная почти мысль написать картину «Губы». Только они. И я пробовал. Не получалось. Чего-то не дотягивал. Или вот — руки! Их руки! Два-три раза за всю жизнь я видел совершенно необыкновенные руки. Раз на трамвайной остановке, у молодой женщины, каждый палец ее руки плавно утолщался к середине, переходил в некую жутковатого соблазна окружность и опять сходил к нежному утонченному удлиненному овалу, чтобы перейти в вообще уже невозможную по соблазну пухлую красоту кисти.
В другой раз и тоже в трамвае, зимой, ехала яркая, накрашенная, лет тридцати. Было холодно, а она сидела сняв перчатки, и руки ее, на диво полные, с толстыми, да, толстыми, круглыми и недлинными пальцами, каждый из которых украшал крохотный рубиново-лаковый ноготок, были чудом сексуального возбуждения. Мануальная терапия! Женщина явно наслаждалась. Все мужчины глядели. Каждый представлял свое.
И еще раз совсем крупная женщина. Порода явная. Венецианское лицо. И руки тоже венецианки. Таких умел писать только Веронезе или Тициан. Еще Энгр. «Мадам Ле-камье». Или Жозефина. Из таких (от таких!) рук не уйти. О них будешь вечно мечтать, вспоминать, тосковать, думать, ЧТО они могут… Женские руки с ногтями, залитыми в темный, густо-бордовый лак!
Теперь перейду и к женским грудям. Здесь и вовсе неисчерпаемо. Если б все, все их увидеть? Все оттенки форм, все краски сосков от бледно-розовых до буро-кирпичных, до каких-то почти черных и торчащих как молодые козьи рожки. Юра рассказывал, что видел женщин с сосками, торчащими, как пальцы. «Сантиметров семь будут. Во-о!» — безумно оживляясь, жестикулировал. И сам я видел соски странные, толстые, со вдавлинкой, как бутылочные горлышки. О форме же этих груш, яблок, плодов «авокадо», репок, каких-то умопомрачительных совершенных клизм, свисающих плодов тропического дынного дерева, неспелых арбузов, кабачков и вовсе ни на что не похожих, но таких сексуальных «подойников», меж которыми готовы замереть в содроганиях охотники до такого секса. А как эти груди умеют шевелиться, наполняться, вздрагивать, выскакивать из кофточек на бегу, как могут обольщать и мучить своей малой малостью или молочной полнотой, когда глаз щупает, а рука не может, не имеет права… Это об их грудях, но ведь еще есть и живот. То, что вместе с грудью входит в тебя с детства и уже не отпускает всю жизнь. Живот. Живой. Жизнь. Я никак не могу представить красоты животов плоских, часто еще с «недорезанной», кукишем торчащей пуповиной или просто, как мелкий след пальца в тесте — ткнули и отдернули, — осталось жалкое, незавершенное. Но живот женский, настоящий, потрясающий тоже видел, может быть, всего два-три раза. И о двух случаях расскажу.
Один раз я видел такой живот у женщины на пляже. В кругу, стоя, играли волейбольным мячом, и неловко отбивала его женщина чуть выше среднего роста и средней привлекательности. В ней не было ничего такого, чтоб можно было обратить внимание. Но ее розовые, мокрые после купанья шелковые трусы были чересчур смело, чтоб не сказать, бесстыже, опущены до того места под животом, где скрывается уже никогда не загорающая полоса, и на виду был весь ее нежный, совершеннейшей круглой формы — представьте яблоко «белый налив» (но не то, неточное сравнение), словом, это был живот, как бы смотревшийся сам в себя уходящей воронкой идеально глубокого пупка. На живот смотрели. И я не представлю счастливчика, кому доводилось гладить, ласкать этот (такой) живот.
В другой раз, обойдя целый пляж, я увидел живот полной, плотской женщины. Живот этот был куда объемнее описанного, но еще более был сладостен, налит сексуальной силой, от него невозможно было отвести глаз. Но, отведя их на мгновение, я увидел, что перед женщиной стоит и смотрит на ее живот, совсем как на откровенное чудо, невысокий и улыбающийся дебил-дурак.
В какой-то из дней я записал в своем дневнике — вел его от случая к случаю, непостоянно и редко:
«Я очень хочу писать только женщину, женщину, женщину и, может быть, еще пейзаж. Я полностью убежден в том, что женщину до сих пор, до меня, лишь только пытались изображать. Ее суть не выразил никто или выразил жалко, приближенно, приблизительно, ханжески. Уверен, что и женщина отдающаяся может быть (и будет!) объектом величественной живописи. Мы просто еще не доросли до этого. Великий и счастливейший по переживаниям акт творения мы спрятали и скрыли, как нечто якобы постыдное, а красоту женского тела затоптали, опошлили, изгадили заляпанными мелом комбинезонами и пошлыми спецовками. Ах, женщина-строитель! Ах! Ах! А хочется воскликнуть: чушь! Жуть! Ужас! Надругательство! Все равно что прекрасную розу вымазать купоросом или известкой и объявить шедевром.
Я поставил себе задачу — вернуть живописи женское и женщину! Насколько хватит сил и умения! Всю мою прошлую жизнь я готовился к этому. Пусть считают меня маньяком, ненасыщающимся эротоманом — на самом деле я только художник, пытающийся схватить неуловимое. Прелесть женщины — загадка биологическая, но в ней все подчинено эстетике высшей красоты и смысла. Если бы ее (женщины) грудь была предназначена только кормить, живот — рожать, а зад — производить отбросы, они были бы омерзительны. Природа же заключила их в такие божественные окружности, линии и формы, какие неизвестны животному миру, — сравните хотя бы с гориллой, но в то же время все совершенство животного мира по-своему отражено в женщине — от нежности медуз, изящества змей до запредельных граций лебедей, антилоп, кобылиц и даже слоних. На мой взгляд (и мой ли только), женщина отразила все самое совершенное в природе, ведь свет звезд, формы луны, окраски зорь и небес, птичьи голоса также свойственны ей, как дожди, грозы, ночи и туманы. В своем искусстве «социалистического реализма» мы приземлили, опошлили, обокрали, оболгали женщину. Додумались даже ей сунуть в руки винтовку! Мы лишили ее главной, истинной сути и заменили серой «правдой» заскорузлой повседневности. Что дали мы женщине вместе с равноправием? Оглобли, ясли, ненужную кладь. Мне давно хотелось написать аллегорию женщины с головой лошади или коровы. Да ведь и древние до этого додумывались.
Природа не зря «спроектировала» полную женщину как символ крепости, жизнестойкости, всевыносящей силы и не зря создала женщину хрупкую, как хрустальная веточка. Я сознательно буду писать женщин, таких женщин. И никакая нужда меня не остановит!»
Это был почти мой манифест, и потому я решил его огласить. Да, никакая нужда меня не останавливала. Я продолжал работать, но уже считал каждый грош, экономил на всем. Чтобы меньше расходовался чай, я пил его в день только по утрам, в обед и ужин обходился кипятком. Масло заменил маргарином. Конфеты — сахарным песком.
Щедрую яичницу — «кусочницей», где на хлеб, пусть все-таки поджаренный, я расходовал не более одного яйца. Осенью предполагалось заготовить картошки, моркови, капусты — все на необозримых и едва убираемых колхозных полях. Помнил, как еще в мое барачное время я натаскивал картошки-моркови сколько хочешь. И я не воровал. На кое-как убранных полях она оставалась заезженной и затоптанной целыми рядами. Жесткий режим позволил отдалить, может быть, до новой весны мой финансовый крах. Я успокоился. И тотчас пришло решение: пора делать настоящие картины. Например, напишу «Еву». Она ведь была прародительницей всех женщин и, значит, должна была хранить и нести всю их будущую красоту. Теперь надо было только найти прообраз этой будущей Евы. Ее натуру!
Глава IV. ЕВА
К картине я готовился долго. Все ждал будто какого-то толчка. А в сущности, наверное, художник пишет только те картины, какие заповедал ему написать задолго до рождения САМ ГОСПОДЬ БОГ! Уверен я, что Шишкин не был бы Шишкиным, не написал бы свой «Лес», «Рожь», «Сосны», если б заранее не был включен в Божий Промысел. И точно так же не стал бы Левитаном Левитан, Энгром Энгр, Ренуаром Ренуар. Почему я так думал — не знаю. Знаю только, что весь мой путь, моя судьба и мой обостренный поиск женщины и женской красоты были вложены в меня КЕМ-ТО. Этот КТО-ТО вел через все мои испытания, сомнения, искушения к одной цели: написать только те картины, которые ОН мне поручил. Их было много по сюжетам, они томились в моей памяти, толпились, как толпятся просители в приемной важного лица, ждут решения своей судьбы. Я хотел бы написать все типы женщин: всех этих красавиц, блудниц, соблазнительниц, ведьм, толстушек, продавщиц и официанток, юных девственниц и девушек с панели, написать, как писал Дега, — в ванне, в постели, за стиркой, прилавком магазина, улыбающихся, плачущих, лишенных невинности, яростно нападающих на своего мужа, любовника, моющих пол, присевших на корточки за нуждой, да мало ли где, когда, в каком немыслимом месте и повороте желала и жаждала их изобразить моя томящаяся кисть.
Карандашом, по памяти, всякий день добавлял я новые и новые наброски. Папки пухли. Но я никак не мог выбрать сюжета, найти то захватывающее и единственное, что как озарение ждал.
Может быть, в своей работоспособности я превзошел всех художников, рисовавших женщину, всех Дега, Модильяни, Кустодиевых и Мессии. Периодами я просто уже смеялся над собой. Захотел объять — необъятное!
Странно при этом, что любил и хотел написать я всегда только полных, толстых и очень полных женщин. Ренуар, наверное, предвосхищал меня, а его предвосхитил Рубенс. А продолжил Энгр. Мне же хотелось идти еще дальше: писать каких-то невероятных женщин, таких, чья скрытая и страшная, по-видимому, сексуальная сила вмещалась в могучие, сверхмощные тела. Расхожая глупость: все «толстые— фригидны, им ничего не надо, их нервы заплыли жиром» — есть выдумка тоскливых, бездарных слабаков, импотентов, способных на двухминутное горение, сексуальных лодырей, что храпят уже, едва справив свою нуждишку. Знал по Наде, что полная и зрелая сто очков дает вперед любой худощавой нимфоманке, дайте только полной женщине могучего и любящего ее полноту самца. Такого, чтоб мог без устали, яростно, диким жеребцом, наслаждать, щипать, шлепать, в экстазе пороть ремнем ее ненасытные бедра, сосать ее мощную раковину-вагину, накручивать на руку ее длинные волосы и — обладать, обладать, обладать, меняя вдруг натиск оголтелого, ненасытного насильника на нежное, плавное, до кончиков спинного мозга доходящее скольжение, движение, когда эта с виду неповоротливая, розовая, белая и сладостно раздвоенная округлость будет сама плавиться и таять, рыдая и пристанывая, истекая слюной обоих своих ртов, присасываясь с нежностью пуховой молочницы и насыщая неиссякаемой энергией громадного, пышного тела.
Все это я знал, а если не знал, то чувствовал, догадывался, когда смотрел на этих неразбуженных и даже не знающих своей страшной необыкновенной силы женщин, погруженных в привычно-тоскующее бытие, полуотверженность, озлобленность и следующую за озлоблением холодность, холод, безразличие отупевших чувств.
Полные лишь немногие сами знают и ощущают свою силу и счастье. Все здесь зависит от мужа, любителя, — МУЖИКА, которые еще более редки, чем сами полные женщины. Но когда такое встречается — счастье огромной женщины и ее обладателя безгранично. Это самые счастливые пары на свете, но как мало их!
Размышление это постоянно ломило мне голову, когда я вспоминал эпизоды своей ненасыщенной, голодной жизни. Но голод ведь как раз и обостряет чувственность, и заставляет думать, и заставляет искать.
Должно быть, такое и было заповедано мне: вечный, непреходящий голод, который я очень странно пытался утолить — искал женщин, женские типы и даже не пытался знакомиться, не делал никаких шагов к сближению. Словно бы я откладывал это знакомство на будущее, словно бы забыл едкую зэковскую мудрость: «Не оставляй пайку на завтра, а… на старость!»
Часто грубая эта пошлость приходила мне в голову, когда я вспоминал эпизоды своей жизни и то, что доводилось видеть и знать. Как-то, собирая книги для своей рабочей библиотеки, — тогда я работал и деньги более-менее водились, а покупал-искал самое-самое! — я познакомился с женщиной-«книжницей». Странный сорт таких женщин встречается среди нимфоманок, девочек-«нимфеток», лесбиянок-«мужиков», поэтесс, женщин «с приветом», «с пунктиком», синих чулков, а также просто краснорожих дур, ищущих Агату Кристи и «Анжелику» и собирающих все это дерьмо в одинаковых (по цвету) переплетах. Женщина, с которой я познакомился, была недурного вида, но явно озабоченная поисками надежного мужа-книголюба, и я при знакомстве оказался просто пробным шаром: «А вдруг?» Никакого «вдруг» в таких случаях обычно не происходит. Закоренелые в своем одиночестве, в поисках тех единственных, кого давно отпустили и даже не находили никогда, мы сразу поняли ненужность нашего знакомства, однако, по инерции, оно еще продолжалось. И тут как-то, во время очередного похода за книгами на «яму», так называлась книжная толкучка за городом, у насыпи железной дороги, моя компаньонка — назову ее так — познакомила меня со своей подругой, также возымевшей желание покупать книги. Если компаньонка была фигуриста и по-женски привлекательна, то подруга ее оказалась совершенно бесформенной толстухой — круглый шар белейшего и нежнейшего женского мяса, в свою очередь весь состоявший из полушарий, окружностей и пухлых, молочного цвета, валиков. Подруга эта была одета в легкое темного цвета крепдешиновое платье. Жоржеты и крепдешины, кстати, удивительно идут сверхполным женщинам, и я это не один раз замечал. Вот ярко помню — шла-двигалась куда-то, явно в гости, молодая пара (может быть, и впрямь молодожены) — тощий парень-мужик и рядом с ним, собственно так держась за его руку, женщина пропорциональных, но совсем чудовищных по объемам форм, вся сотрясалась и колыхалась при каждом шаге, переливаясь бесстыжим медузным движением бедер и ягодиц под черным, развевающимся на ветру, просторным жоржетом. Сверхсамка. Сверхъестественность женской плоти. Но если эта, которую я тотчас вспомнил, была пропорциональна, то подруга моей «книжницы» была абсолютно бесформенна, просто толстенная девочка-пампушка с девичьим личиком и еще не потерявшим прелести невинным взглядом.
Трамваи тогда, как на грех, не ходили, и мы решили идти на «яму» пешком (кварталов семь, если не более!). День был знойный, июльский, постепенно накалялся, и если мне жара нипочем, и ее стойко переносила упомянутая знакомая, то подруга-толстушка совершенно раскисла, изнемогла, и в конце концов нам пришлось присесть на отдых в тени наклоненного провинциального забора. Сели на траву. Толстушка стонала, задыхалась, на невинном личике мрело страдание. Но она мне была приятна даже этой своей немощностью. И я завидовал мужу «лягушки». На пухлом пальце сияло широкое, яркое, втиснутое в плоть кольцо, которое явно было никому никогда не снять. А спустя какое-то время моя недолгая знакомая рассказала про подругу, что та, несмотря на полноту, очень любима, муж в ней не чает души, заботится, как о маленькой, едва на руках не носит (если б было возможно — носил бы!), и все время они ненасытно совокупляются. Днем, ночью, утром, вечером, чуть не по десять раз в сутки. Дама сказала об этом деликатно, усмехаясь, но так, чтобы я все понял. «Вот вам и толстая, и формы, никаких, можно сказать, а как любят!» — посетовала она, явно страдая, что опять, видимо, все рушится, знакомство тает, а я подумал: будь на ее месте эта, к сожалению, накрепко замужняя толстушка, я бы, наверное, делал то же самое, что и тот неведомый счастливый муж. Обладающие толстыми не ведают часто своего явного счастья. А те, кто смотрят со стороны, не знают его сами.
Я искал полную и молодую для задуманной первой картины «Ева». Мне надо было какую-то удивительную и особенную. Сочетание чего-то такого, что я не находил никак. Я даже не знал точно к а к у ю, но художественное мое чутье (чем не собачье?) отвергало все, что я видел, — все было не то, не та, не те. Есть в карточной ворожбе такая — пустые хлопоты…
В поисках этой неведомой женщины-натуры я слонялся все лето по пляжам, заходил в магазины, торчал в учебное время у подъездов институтов и техникумов, зимой и осенью мок и мерз на транспортных остановках — ничего, нигде. Еще хуже было бездомно бродить по улицам, впустую, потому что нет хуже места для знакомств — улица, хоть именно на улицах и встречаются красивые. Еще чаще есть они на вокзалах и в аэропортах, но там так все озабочены, все в отъезде, в отлете, в будущей судьбе, что знакомства тоже несбыточны.
И все-таки, снедаемый тоской по натуре, по женщине моей задуманной мечты, скажем так театрально-высоко, я забрел как-то на автовокзал, где кишела обычная пригородная жизнь. Автобусы фырчали, подкатывали и трогались, обдавая толпящихся под бетонными навесами синим тошно-масленым выхлопом, люди прели на лавках, курили, жевали, стайками болтали девчонки — тупые, пустенькие личики будущих продавщиц, поварих, ткачих и просто замужних дур. Мужчины были редки, больше парни, жующие жвачку, да пригородные пропитые мужичонки, истасканные, как шелудивые собаки. И такой же пропитый, веселый, положив кепку на асфальт, пел, подыгрывая на трезвучном баяне:
3-запо-ля-а-ми, ле-са-ми, за пасекой Н-не уй-ти ат задум-чи-вых гла-аз! Тем… кто дер-жит свой ка-а-мень з-за па-зухой, Ох, и тру-уд-но в дя-рев-не у на-а-ас!В кепку кидали медяки-рублевки.
Мужик снова и снова повторял припев.
Я прошел под навесом вокзала, мимо лавок, мимо скучающего мента, явно с удовольствием прислушивающегося к ладному пению мужичонки и явно боровшемуся со служебным желанием прогнать певца, и уже хотел повернуть обратно, как вдруг просто обмер от неожиданности. Передо мной на краешке лавки, приспустив явно не вмещавшееся на край бедро, сидела юная и прекрасная Ева! Именно это имя-определение сразу пришло мне на ум, ибо девушка, даже, пожалуй, девочка была прекрасна в своих женских формах, кругло обозначившихся под простеньким прямого покроя розовым одноцветным ситцевым платьем. Толстые ноги девушки-девочки были совершеннейших форм, бедра округло-мощно поднимались и плавными дугами натягивали подол короткого платья, высоко открытого над прекрасными круглыми коленями. Но самое замечательное у девочки — было лицо! Полускрытое челкой и как будто ничем не классической формы, оно было воплощением совершенно ошеломляющей женской нежности, чистоты и ласки. Такой красоты — не макияжной, не накрашенной, простой-простейшей, мило-нежной, будуще-бабьей, очаровательно-мягкой, улыбчивой — я никогда не видел. Прямые, слегка золотящиеся волосы покрывали девочке всю спину, спадая до мощных бедер.
Господи! Боже! Это было, кажется, первое явление мне совершенной и пленяющей будуще-женской красоты.
Девочка доедала яблоко. Ела тоже по-женски, спокойно, умело, со вкусом.
— Господи! Боже! — кажется, теперь прошептал я, глядя на нее, не решаясь стронуться с места. Это же готовая натура для моей Евы! А волосы! И распущены так просто-первобытно! Ева! И такое прекрасное лицо! Е-ВА!
Я так глупо-нагло, наверное, уставился на девчонку, что она заалела, но все же неторопливо (очевидно, она вообще не умела торопиться!) доела яблоко, бросила грызок в недальную урну и, достав из кармана кукольный, с кружевцем, платочек, по-женски, умело вытерла губы и пальцы. Господи! Пальцы! Какие совершенные пухло-белые, нежные, толстовато-прелестные пальцы! Каждый был произведением искусства! Каждый ее пальчик!
Как подойти к ней?! Как?! Кто она? Я не имею права ее упустить! Пусть я старше на тридцать лет. Я не имею права ее… Сесть рядом? Но как? Все места заняты, а я как пень стою и смотрю на нее в упор (как тот дурак на пляже на тот женский живот!). Может быть, я даже молился кому-то, чтоб освободилось место. Женский голос в официальной форме объявил посадку в какой-то автобус, и, к неописанной радости! — дядька, сидевший рядом с моей Евой, МОЕЙ богиней, что-то по-кроличьи жевавший, торопясь, сунул еду в карман, встал и пошел на посадочную площадку, и я ястребом спикировал на его место, сел и тотчас ощутил тот блаженный, расслабляющий ток явно родного мне женского тела, какой испытывают далеко не все и весьма редко, лишь когда встречаются женщины с идеально совпадающей аурой, и такое бывает раз-два за жизнь. — совсем не встречается. Кто знал и чувствовал это внезапное, сладостно-томящее, приручающее без обмана теплоизлучение? Бывает, оно узнается даже на расстоянии. У кого так было?
Обычно застенчивый, неумелый и робкий, я вдруг превратился в свободного, отвратительного ловеласа и тут же спросил у девочки о чем-то незначительном и как-то просто поинтересовался, куда она едет.
— В Сысерть! — охотно отозвалась девочка-девушка. Мы с мамой едем. К бабушке.
— А мама? (В смысле — где она?)
— Мама здесь, ушла еще яблок купить.
— Вы, наверное, поступать ездили? Или на подготовительные? — подкатывался я.
— Нет. Я еще учусь. В школе.
— В школе? — притворное изумление. — А в каком классе?
— В седьмой перешла.
«В седь-мом! — про себя удивился. — Вот это девушка! Я, по крайней мере, думал…»
— Я думал, вы в девятом-десятом!
Господи! Что за чушь-дичь я ей плел! Я болтал первое, что приходило в голову. Я пел соловьем, разливался дураком-приставалой. Но она слушала меня терпеливо, и я весь ушел в любование ее неясным лицом, волосами, струящимися до колен, когда она улыбалась, поворачиваясь ко мне. Спрашивал, как она учится, что любит, рассказывал зачем-то о своем детстве, про школу, которую всегда ненавидел. Сравняться я, что ли, с ней хотел? А девочка тихонько поддакивала, глядела улыбчиво. И все радостнее убеждался — родная, близкая мне душа! Господи! С разницей в тридцать пять. Может, и больше. Осторожно спросил, откуда она.
— Из Бреста! — ответила-огорошила.
— Из Брес-та?! Но… Как же вы… Вы здесь?
— Я на лето к бабушке в Сысерть приезжаю. Мы с мамой. Мама у меня из Сысерти.
— И… И когда же вы., обратно..
— А вот, наверное, двадцатого или двадцать третьего. Поезд так..
В это время подошла не слишком красивая, совсем не похожая на дочь, чернявая женщина. Покосилась подозрительно. Но все-таки, видимо, не захотела отозвать дочь от приставалы-мужика (а скорее, не сочла возможным такое. Согласитесь: пятьдесят и тринадцать?). Еще раз оглядев, не найдя криминального и беспокоящего, мама уселась на лавку поодаль.
Мы продолжили разговор. «Хоть бы дольше не приходил автобус! Хоть бы дольше! — думал лихорадочно. — Уедет — и все тут». Правда, есть маленькая зацепка: уедет-то поездом на Брест. И я могу ее еще встретить (глупая, безнадежная мысль). Никогда так не поступайте. Не надейтесь на чудо!
— А вы кто? — поняв мое молчание как потерю, вдруг чутко спросила она.
— Я? Я — художник! — ляпнул напрямик.
— Я почему-то так и подумала.
«Подумала», — нежно пронеслось во мне.
— И еще у вас руки в краске.
— Правда?
— Немного.
— Не отмываются… Уже…
— А вы? Что собираетесь после школы? Замуж?
— Ну… — заалела.
— Хочу поступить в здешний институт иностранных языков.
— Правда?! — глупо обрадовался.
— Да. Здесь. У нас, в Бресте, нет.
— Как бы хорошо!
— Почему?
— Я бы вас встречал и рисовал. Ваш портрет.
— Разве я., красивая?
— Очень! Удивительно красивая!
— Ну… Вы скажете! — она повела челкой. Откинула струящееся тяжелое покрывало волос. — Я такая полная… Толстая даже..
— Это ваше великое счастье!
— Скажете..
— Да! Счастье! И вы никогда не стесняйтесь своей полноты. С ней вы — красавица!
Я, кажется, попал в точку. Девочка, конечно, понимала и ценила свою необычную красоту. Но кто говорил ей об этом? Скорее всего, ее упрекали за полноту, а может, и смеялись, дразнили.
«Как бы узнать хоть ее адрес. Писал бы… Ждал… Как бы».
Но автобус теперь уже неумолимо фырчал на площадке для пассажиров. Люди выстраивались в очередь на посадку. Девочка встала и оказалась еще прекраснее.
— Как вас зовут? — с отчаяньем спросил я.
— Ксана, — пробормотала она очень тихо.
— Как?
— Оксана! — погромче повторила она.
— Вы точно уедете?
— Скорее двадцать третьего.
— Оксана! — позвала мать, уже стоящая в очереди. И все кончилось. Моя Ева пошла, поправляя платье-рубашку, переливаясь тяжелым золотом волос по спине.
— До свидания? — нежная улыбка на прощание. МНЕ.
И последний раз я видел ее невыносимый торс, ее полные ноги, ягодицы, округлившие платье, когда она ступила на подножку автобуса. Волосы-волны закрыли всю спину.
Оксана-Ева уехала. И больше я никогда ее не видал, хоть приходил на вокзал и двадцать третьего к поезду на Брест. Как одержимый бегал вдоль вагонов. Еде там! Или не видел? Или не встретил? Было даже дурно. Потерял Еву! Но где-то же есть она и сейчас? И все коплю надежду ее встретить. И даже думаю — вдруг когда-нибудь найдет-прочитает это! И меня найдет! Оксана! Напиши художнику, который говорил с тобой в ожидании автобуса на Сысерть!
А тогда, чуть не бегом, вернулся в мастерскую и по свежей памяти (чем свежее память, тем лучше! Заметьте, художники!) нарисовал, написал свою юную Еву, Еву до встречи с Адамом. Не верю я в Адамово ребро! Она родилась как-нибудь иначе. И сразу все мне удалось! Оксана-Ева сидела вот так же: волосы до бедра, густая челка, милое женски-девичье нежное личико. И то, еще не съеденное и не предложенное Адаму яблоко. Как хорошо, что она съела яблоко сама! Картину «Ева» я написал за три дня и оставил у себя. Я никому, никогда, ни за какие деньги ее бы не продал. Художники знают такое. И еще: я не сделал бы с нее ни одной копии, не позволил бы снимать никаких репродукций! Ева была первая моя женщина, первая картина этого цикла. Как первая мучительная и незабываемая никогда любовь. И подпись. Название поставил: «Ева», на обороте «Оксана», Оксана из Бреста! Не скрою, и годы спустя я приходил на эту остановку, сидел на скамье и даже говорил с воображаемой Евой. Я надеялся на чудо. Но чудеса редки и чаще вообще не случаются. Если бывают вообще… Если бывают вообще..
Не было у меня Оксаны. Но теперь еще больше я страдал от нового поиска натуры. Новая картина зрела, копилась во мне, ждала толчка, новой ошеломляющей находки.
Пока такой не было, я снова писал наброски. Например, беременных женщин. Удивительно или нет, что нравились женщины «брюхатые», «пузатые», «обремененные», в том положении, которое кто-то не зря назвал «интересным», а кто-то глумливо «декретным».
Такую очень молодую женщину я встретил в универмаге, стояла в очередь, терпеливо держа-снося свой живот. Милая, добрая, явно сельская или поселковая. И я чувствовал ненависть к ее мужику, пустившему маяться по очередям, давиться по магазинам такую красоту, что будь у меня, не отпустил бы ни на шаг, ласкал, целовал ее круглый, вздутый живот, дрожал бы над каждым шагом! Она тоже была склонна к полноте, но беременность лишь дополняла это, придавала несказанное очарование.
Другую беременную и совсем уже иную, носатую, греческую, с обликом изощренной гетеры с какого-нибудь античного фриза, я встретил на рынке. Она продавала с машины поросят. Типичная картина для рынка, где продают коз, свиней, петухов, голубей, птичек и рыбок. Тертый, битый «жигуль», открытый багажник, где возятся белесые поросята. Молодой мужик-охломон: крепкое лицо, крепкий крытый полушубок, крепкая шапка, собачьи унты, и эта баба под стать ему, поселковая деловая Афродита (если бывают такие? А бывают!). Стояла, отставив крутой зад, выставив мощный живот. Как часто мне попадались отменные красавицы, и сплошь беременные. Баба стояла с улыбкой всезнания, с выражением глаз какой-то хищной птицы, вообще «птицы». Вам не встречались женщины с ястребиным, куриным, вообще неподвижно-птичьим взглядом? Так она и стояла, все время сознавая свою плотскую, тянущую мужиков красоту, ибо ни один, даже ледащий пропойца-доходяга, не шел мимо, чтоб не покоситься, не обвести хотячим глазом, не кинуть вслед слюнявую шутку (самые смелые). Обладатель гетеры не то уже привык к вниманию, не то все-таки злился, потому что время от времени садился в машину, пытался запустить капризный, сношенный мотор и наконец все-таки завел. Тогда он со злобой хлопнул багажник с непроданными поросятами, баба едва втиснула на заднее сиденье все свои округлости. Дверки захлопнулись, и мне осталось лишь дома набросать всю эту сцену, испытывая какое-то злое, отравное удовольствие в изображении великолепной и, должно быть, все-таки грешно распутной бабы.
Жизнь продолжалась. Но как ни тянул я свои убывающие капиталы, пришел день, когда мне снова было нечего есть. В смысле: не на что купить. Снова на завод, к печам? Да ни за что на свете! Опять куда-то «ишачить», грузить бревна, уголь, гвозди, ящики с мылом или писать плакаты и лозунги? Властные лики почти небожителей? Кажется, я мог бы рисовать их с закрытыми глазами — все эти галстуки, подбородки, «орлиные» взгляды, сплошная уверенность, непоколебимое бессмертие! Так это, наверное, им самим даже казалось.
О, безденежье! Эти горькие и сладкие деньги! ДЕНЬГИ. Вы спасали меня и давали возможность быть самим собой, и вы же доставались мне таким путем, от которого я бежал, который клял, и даже зарекался уходя: никогда не пойду в эту тоску и скуку! Главное было даже не в запахе металла, мазута, не в шуме машин. Будь я один и подчинен только самому себе — работал бы и даже неплохо, наверное, справлялся. Главное было — неподобные мне люди, эти приказы, всякая подчиненная зависимость, режим «от» и «до», проходные, заборы с колючкой, и опять будто зона, лагерь, лагерь, лагерь… От него я никак, уже двадцать с лишним прошло, не мог освободиться, забыть, не держать в памяти. Лагерь… Лагерь. Гу-лаг!
В отчаянии от этих метаний я как-то собрался с духом и решил найти Болотникова. Может быть, посоветует. Я нашел телефон, позвонил. Глухой, показавшийся не слишком бодрым голос ответил. И мы договорились сразу встретиться, хотя я даже был не готов к такой встрече, — тащил в мастерскую найденный на дороге сосновый брус — хорошая штука для подрамников, если распилить его вдоль. Брус, должно быть, потеряли, когда везли на лесную базу, а Болотников жил тут недалеко, может вполне так быть, что потому я и вспомнил. Нужда не знает приличий. А к Болотникову я бросался всегда, как к спасательному кругу. Так уж мы погано устроены.
Он пришел ко мне, когда я сидел на этом брусе, и усмехнулся, здороваясь:
— Ты похож на Сизифа, влекущего камень! Да, пожалуй, это типично. Каждый стоящий художник — Сизиф и Прометей. И крестный путь на Голгофу — тоже наш путь.
Он сел со мной рядом на бревно. Мы походили на потерпевших кораблекрушение.
— Как жизнь? Знаю. Не говори. Нет женщины. Нет денег. Нет заказов. И скоро не на что будет покупать хлеб?
Читаю на челе. Не обижайся. Сам я так жил какое-то время. Вкалывать не хотел. Мест нигде не находилось. Жил на собранные по паркам бутылки. Да, собирал… А попутно смотрел на любовь в кустах. — Он усмехнулся. — Тебе могу сказать. Грешен. Да грех ли это еще? Надо спросить. А у кого? Кто не грешен-то?
— На вас, Николай Семенович, вроде не похоже.
— Не похоже… Я ведь тоже был молодой, алчущий. Что ты? Пропустить сцену соития? Какой грех! Да с детства ими грезил. И ты тоже! Знаю. И все мы! Особенно художники. Ты знаешь, какую сексуальную женщину я однажды видел, даже не столько ее, а ее орудие! Подвинься, сяду как следует, расскажу.
Он устроился рядом поудобнее. И теперь для прохожих мы были просто два усталых мужика, присевших отдохнуть на свою ношу.
— Так вот… Самое совершенное женское орудие я видел в самом, понимаешь, неподходящем месте. Впрочем, почему не подходящем? Туда все ходят. А мы — мальчишки, подростки, голодные до женщин, даже разыгрывали — кому. Строение, позволявшее утолять наш голод, было, понятно, на два отделения. И вот заберешься, бывало, ждешь, трясешься, а приходят одни старухи с геморройными задницами. Но зато когда придет девчонка! Или зрелая баба — это уже пир! Потом рассказываем друг другу. Вот так, помню, и пришла однажды литая, мощная, молодая баба. Наверное, тридцать не будет. Зад — выше всякой меры! Формы! Совершенство! Белизна! Розовость! Все это я, друг, увидел. Но дальше! Дальше, друг мой, я обозрел такую великолепную присоску, такой инструмент с цветком-нарциссом, такую раскрытую розовую устрицу, что не забуду вовек! Никогда! Знаешь, еще приходило в голову даже такое написать! Да. Написать женскую раздвинутую вагину такой вот красавицы! Господь? Это грех или нет? Ведь я хотел, чтоб была поражающая всех кар-ти-на! Может быть, главная суть женщины?! Ах как я хотел написать эту картину. Но картину ведь — должны видеть. Ее должны видеть как можно больше. Иначе — ее нет! Понимаешь? Нету-у! Картина — это ведь отраженный зритель. Искусство не может жить для искусства. Все эти утверждения — ложь, немощь, глупистика! Их выдумали творческие импотенты и жалкие извращенцы! Те, что жили впроголодь и пытались эпатажем завоевать публику и покупателя. А в общем, никого не виню. Что мы за жалкий народ? Художники. Когда мы жили по-человечески? И я — тоже? Ведь художнику надо бы жить совсем по-иному. В добротном доме, с розовой экономкой, которая удовлетворяла бы тебя каждую ночь. Ладно. Это я так: поплакался тебе, как близкому. Сказал бы, «как родному». Одесса. Ну, что ж? Без денег ты. Это неоригинально. Но есть путь, место. Там нужно делать официальные портреты. Владимира Ильича. Ну, те самые, которые в каждом кабинете. Над креслом шефа. Противно? Ничего… Деньги не пахнут. К тому же ты можешь неплохо заработать. Хотя платят скупо, рублей сорок или шестьдесят, но сделай трафарет. Количество. Пусть и без качества. Вот, слушай, я знал одну милую женщину. Дочь профессора. Умница. Красивая. Единственная. А вышла за жлоба, подонка. Он — якобы писатель. Он и писал. Но лодырь, нахал — феноменальный. Нигде не служил. Бабенка высохла, избилась вся. Но оптимизма не потеряла. И вот такой разговор. Он у них уж и столовое серебро пропил, и так, что под руку, из дома тащил. Вот разговор: стоит она, бедненькая, перед ним и говорит: «Ну нет денег! Что делать? Хоть на панель иди». А он покуривает, развалясь, нахал, и говорит, хам: «Да кто за тебя больше трешки даст?» — «А три, да три, да три?!» — усмехаясь сквозь слезинки, она. Сам слышал. И вот ты: делаешь трафарет. Глаза, брови, нос, усы, бороденка. Абрис плеши, галстук в крапинку. Пиши! Канон нарушать нельзя. Стандарт! И все! Иди. Вот адрес! — достал бумажку, — Дерзай. Может, еще Никиту подбросят писать или бровастого этого. Чего тебе? Живые деньги. С них можешь не только кормиться. Конечно. Не творчество. Но что делать?
— А как хоть вы живете, Николай Семенович?
— Как? Хм. Все глуше, все тише мое бытие… Стихи бы с этого начать… Был бы поэтом. Писал. Бод-лер! Знаешь, недавно купил этого Бодлера. Чушь! Великая! Или вот — Хлебников. Ве-ли-мир! Покупаю: «Творения»! Листаю: Дичь! Дурь! Немощь! Амбистика и Глупистика! Хлебникова этого один сноб, знакомый, порекомендовал. Потом я его, сноба этого, спрашиваю: «Ты что за чушь мне нахвалил?» — «Какую?» — «Да Хлебникова этого!» — «А я, — говорит, — его не читал!» Ххо-хо! Вот так… Благословляю, Саша. Иди путем Ильича. Не угрызайся. Великие писали и пишут! И скольким он дает хлеб! Ты знаешь — я болтлив. Я все больше становлюсь похожим на старика Дега. Дега этот был жутко одинок. Жил десятилетия в одной квартире. Правда, была у него экономка с каким-то зоологическим именем: Зоэ? Мезозойская эра! Так вот. Потом дом, где он жил, не то снесли, не то стали перестраивать. И он вынужден был уехать. Но на другой квартире не мог прижиться и все бродил по Парижу, приезжал на то место, где жил, и смотрел сквозь забор. Я всегда помню об этом. А наш дом тоже собираются перетрясать. Не знаю, как это я вынесу. Жить в другом месте? А еще Дега ездил на тогдашних подобиях трамваев, на самых тесных площадках из конца в конец. Что это? Да. Все мы — Дега. И жизнь наша такая. Ну, ладно. Прощай. «Будем идти, пока не свалимся! Но идем, идем!» Бунин это. Прощай.
Он предложил мне помочь тащить бревно, но этого я сам бы никогда не позволил: что вы? Донесу. Не тяжело. А сам видел, ему бы и не помочь мне. Выглядел он плохо.
Я потащил брус в мастерскую. А Владимир Ильич Ленин вскоре начал исправно снабжать меня деньгами. В художественных мастерских я получал заказ на месяц, делал его за три-четыре дня. В остальные был свободен, и теперь у меня пока было на что купить хлеб. Я снова начал писать сюжет большой картины.
Глава V. ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ
Непонятным образом мифология и Библия одинаково влекли меня. И если я написал «Еву», почему не попробовать картину на уже известный сюжет — ну, допустим: «Похищение Европы»? Я уже говорил, что написал бы, наверное, и картину «Пасифая». Женщина, отдающаяся быку. Кажется, такой не было ни в одном музее-галерее. Видения древних чудовищных храмов, где женщины, обнажая свою исконную животную суть, отдавались быкам, львам, жеребцам, ослам и чуть ли не слонам, посещали меня иногда, когда я был абсолютно свободен и поиски денег не уводили меня от главной моей стези. Чудовищные грезы моих несбыточных картин мучили меня настолько, что, не в силах им противиться, я хватался за карандаш, и жизнь дикая, подчиненная одним лишь законам мира, а не пошлому обустроенному разуму со всеми его табу, двигала его. О, это были страшные фантасмагории, и в конце концов я захлопывал папку, боясь словно, что они овладеют мной настолько, что я не выдержу их тяжести и соблазнов.
Но почему мне не написать «Похищение Европы»? Их писали, вероятно, сколько угодно. Хоть тот же Серов. Великий? Может быть. Но «Европа» ему явно не удалась. Бык еще так-сяк. И то надо было искать. А сидящая на нем тощенькая еврейка Ида Рубинштейн? Разве находка? Здесь все не так, набросочно и театрально. Серов был явно болен или торопился. Он не нашел. Не сдвинулся дальше первого решения. Но Бог с ним. Он сделал, что мог. Я даже не буду на него равняться, создам несравнимое «Похищение Европы».
Я пустился в поиски картины в рисунках, набросках, красочных «нашлепках», как учил Павел Петрович. Что-то вроде получалось: и море, и бык, и женщина. Однако, едва приступил к первому варианту-этюду, я понял дикую тяжесть задачи. Картина на мифическую тему? Какая тут разверзалась бездна! Во-первых, море. Ведь это не просто море, которого я, кстати, никогда не видал. И это, Бог с ним, это не обязательно. Айвазовский тоже писал море в мастерской… Но море моей будущей картины ничем не должно было напоминать море, допустим, старых голландцев или буйных, помешанных на цвете импрессио. Это должно быть, и прежде всего, то древнее, Нептуново, Посейдоново, Нереево, Протеево, Эгеево море, полное чудес и тайн, и колыбель ВСЕГО, качающая мир колыбель! Как найти его особый цвет? Чтобы было широким, бездонным и как бы клонящим в сон и синеву. В вечность! Как написать такое море, с лазурью, и зеленью, и сединами первобытной дали?
Ну, допустим, я справился с морем. А дальше, в степени последовательности идет БЫК. Бык? Морда коровы здесь, конечно, никак не годится. Нужен бык. И для этого я, не раздумывая, еду в пригородный совхоз. Еще стоит чахлое бабье лето, и пасут на выгонах черно-белый, какой-то безрадостно одинаковый скот. За стадом я долго наблюдал, пока ко мне не подошли пастух с подпаском. Два придурка, старый и малый. Поинтересоваться. Но скоро отошли, отстали. Рисует коров! Гы-ы-ы! Там, в стаде, был и бык… Большой. Черный. Злобный. Грозно взревывающий на своих покорных, женственных, терпеливых бесчисленных жен. Время от времени он громоздился на одну из них, униженно стоящую или тихо бредущую, так что ему приходилось тоже идти — переступать на своих дьяволовых копытах. Бык довольно скоро прекращал свое занятие. Был явно пресыщен. Но это был обыкновенный бык, пусть красивый, гороподобный и грозный, но просто бык, корова мужского рода. А мне нужен был воплощенный в быка Юпитер. К тому же, по преданиям, белый, священный, а если уж черный, то Апис с волшебной звездой во лбу. И еще? Какие у него должны быть рога? Лироносные, как изобразил Серов и как встречаются у древних изваяний? Или? С наплывами, как у кафрских буйволов? Или раскинутые, как серпы? Рога — это еще поддела, их можно «поискать», найти в рисунке, а вот морда, она ведь еще должна быть и лицом, ликом грозным, могучим, античным, повелительным, Зевсовым, каким-то еще Геракло-Гераклитовым? Титаническим. В нем должна быть несметная сила, жгучая любовь, власть и предвкушаемое наслаждение. Как решить и найти такое?
В поисках «лица» моего Быка-Юпитера я бродил теперь по улицам, вглядываясь даже в мужские лица. Н-о! Как это бесполезно! Легче все-таки искать быка. «Что можно Юпитеру, то нельзя быку». В поисках забрел даже в зоопарк. Старый, тесный, паршивый зверинец, который, однако, я помнил каким-то цветущим ковчегом. Тогда, в детстве, я очень любил сюда ходить. И помнил, там стоял в зимнем стойле чудовищно могучий черный бык — гаял! Теперь зоопарк захирел. В вонючих, тесных клетках маялись медведи, с печалью обреченных глядели на толпу львы, и бегали облезлые, дрянные лисы. Быка-гаяла, конечно, не было. Хотя я даже представить себе не могу, как могло погибнуть такое огромное великолепное животное. Он подошел бы мне для натуры. Я вспомнил, как безбоязненно трогал его желтые рога в тесном загоне-стойле и как бык однажды качнул головой, отбрасывая мои глупые ласки. В зоопарке были, правда, зубро-бизоны: что-то древнее фавновое и даже с бородкой. Но у них были невпечатляющие короткие рожки, и при всей скульптурной античности лика бизоны, я чувствовал, не годились для Юпитера.
Меня выручил цирк! Рассеянные по городу щиты рекламы вещали: приехали дрессировщики с группой тибетских яков. Я кинулся в цирк. И был вознагражден. Среди диких и вдохновенных обличий этих странных горных быков я почти нашел Юпитера! Грозные морды этих животных были вдохновенны, дики и величавы. Юпитер, Юпитер прятался в них.
Теперь дело было за женщиной. И это самое трудное — найти Европу! По мифам-то смех ведь! Европа — дочь эфиопского царя! И следовательно, эфиопка, почти негритянка?? Европа — негритянка? Такое соединение не примет никакой зритель. Тут налицо расслоение образа. А я-то хотел написать ее светловолосой, голубоглазой, дебелой — этакой скандинавкой, пусть миф из античности. Но ведь читал же я, что истинные древние греки были светловолосыми и голубоглазыми? Нет уж! Миф мифом, а Европа должна быть Европой. В ней, этой женщине, или девушке, я должен был передать всю чувственную прелесть континента, так связанную прямо с ее пышным, прекрасным именем. Ев-ро-па! Найдись! Найдись! Я уже, кажется, готов был творить заклинания. Художники, кстати, часто их творят, когда пишут. Они все тогда (мы все!) колдуны и волхвы. Опасные люди. Безопасные дураки. Пьяницы. Горюны. Озабоченные бездельники. Самоприкованные страдальцы. Европу вот ему подавай! Ев-ро-пу?!
Я вспомнил случай, уже давний, когда я встретил на трамвайной остановке удивившую меня девушку. Был июль. Душный теплый вечер. Надвигалась гроза. И за крышами уже поблескивало. Девушка явно ждала трамвай. А я глядел и восторгался. Это было живое подобие леонардовской Моны Лизы. Но, скорее, не она, а лишь подобная ей и где-то еще запечатленная в картинах самого Леонардо и каких-то еще близких ему возрожденцев. Да. Она была много лучше Джоконды. Много лучше… И более правильным лицом, и прекрасными густыми волосами, скажем, стилем девятнадцатого, обрамлявшими ее величественное лицо. Трамвай наконец подошел, девушка шагнула на площадку, а меня словно втянуло за ней в ту же глубь сумрачного, еще не освещенного вагона. И, представьте, я поборол, сломал свою дикую робость, я совершил подвиг! Я познакомился с ней, и настолько, что предложил ее проводить. Оказалось: студентка, с заочного, приехала на сессию, ходила в театр, остановилась у родственников. Все это я выяснил, стоя у какого-то подъезда, освещаемый уже только вспышками молний и под рокот и грохот близкого грома. Дождя, однако, почему-то не было. Был ветер, мрак клубящейся тучи. И это странное венецианское лицо. Девушке, похоже, я нравился. И я пригласил ее встретиться. Завтра или послезавтра. Условились. Договорились. Душа пела. Джоконда скрылась в подъезде. А я под начавшимся уже дождем, грозою, громом пешком пошел к трамвайной остановке. Я почему-то даже не торопился. Я был счастлив. Познакомился с такой необычной девушкой. Венецианкой. Она сказала, что приехала из очень прозаического городка. Асбест? И все равно я простил ей это дурное название, никак не соответствующее ее облику женщины из Вероны, Неаполя, Генуи — откуда еще? Венецию я назвал первой. Мы встретились. Она пришла. Мы даже распили с ней бутылку шампанского на открытой веранде у пруда. И во время этой встречи я замечал, как тухнет и гаснет ее оживленное было лицо, лукавый взгляд обретает будничное значение, и вся наша встреча закончилась ничем. На следующее свидание она попросту не явилась. Я думаю, виною были мои изреженные цингой зубы. Я слишком много говорил и слишком радостно улыбался. И еще забыл, что заранее радоваться всегда плохо.
Теперь я вспомнил эту Джоконду и даже подумал: она подошла бы натурой для Европы. Быть может, подошла. Однако… Может быть, я и ошибаюсь… Садите Мону Лизу на быка, и вы поймете, какая будет пошлость. Я все-таки попробовал этот вариант в набросках. И женщина у меня «пошла». Так здорово, что мне бы, наверное, позавидовал сам
Энгр. Моя венецианка из Асбеста была просто прелестна. Как у Энгра! Льстил себе и себя же отвергал. Слабо. Плохо. Надо, как у МЕНЯ! Энгр должен был чудиться.
Эту женщину на быке я вертел во всех немыслимых и мыслимых вариантах. Верхом. Наклонившуюся. Обнявшую быка за сверхмощную шею. И сладостно приникшую к нему. И перепуганно-счастливую. Европа ведь сама хотела, чтоб ее похитили! Она ведь влюбилась в Юпитера-быка! Она ведь ждала чего-то немыслимого в своем ближайшем. И может быть, жена царя Миноса Пасифая, родившая Минотавра, была вовсе не единственной в том древнем мире чудовищной соблазнительницей, буффило-манкой? Европу я пробовал изобразить и так. Но это было бы уже «обольщение Европой». Не находя облика и натуры, я делал Европу то современной косметической девой, то негроидной шлюхой, то античной элладной богиней, и все не то, все без какой-то сути ЕЯ.
И уже кончалось еще одно считанно-несчетное лето. Подходили к концу мои заработки. Какой-то блатной хваткий художник незримо теснил меня в мастерских, и вот мне уже перестали давать заказы на Ильича. Представьте, что я даже не огорчился. Скорее обрадовался. Деньжонки все-таки были за счет моей вечной экономии и бережливости. Одна голова не бедна. Есть хлеб, хороший, вкусный. Есть яйца. Доступная цена. Молоко! Я его никогда не пил и не нуждался в нем. Ну, сыр, колбаска. Картошка. Рисовая каша. И пшенная. Из гречи только у меня не получалось ни черта. Жить было можно. И главное, не пьянствовать, не курить, а одеваться я научился в одном магазине «Рабочая одежда». Там были вполне приличные недорогие брюки, костюмы и крепкие, ноские ботинки. Ботинки главное. Как волку ноги. Хорошие я брал в запас по две-три пары.
Зимой и осенью ходил я не в теплом, однако опрятном демисезонном пальто. Носил новую кроличью шапку. В ботинках, с носком! Мне был и не страшен мороз. Хвала тебе, лагерь! На всю оставшуюся жизнь ты был мне опорой и сравнением! В одежке, в морозце, гуляющем по лопаткам, в рубахе, которую не менял на свитер до лютых морозов, в чернухе, которую продолжал любить, ел досыта — ТАМ она была ведь ух какой вкусной! И в том даже, что вот десятилетия жил, по сути, без женщины, без бабы, без той, о которой так голодно мечтал, когда был закрыт ТАМ. Без «бабы»!
А жил по принципу: лучше уж БЕЗ, чем с какой-нибудь. Я чурался, боялся всяких этих «случайных связей», липких бабешек, вокзальных и уличных шлюх, их было тогда не так-то уж много. Проституток ловили, куда-то ссылали, а если такая и попадалась, без ошибки можно было понять-определить ее грешную, подлую, пьяную и больную жизнь.
Такие женщины привлекали меня лишь как экземпляры каких-то страшноватых насекомых изощренного энтомолога. Я всматривался в их лики, почти всегда дебильные, примитивные, схожие с помойками, вслушивался в их речь, густо насыщенную изворотливым лагерным матом, — таким не выматеришься, не побывав ТАМ и не общаясь с ТЕМИ. Наверное, заметив и во мне что-то неизбывно-лагерное, они, бывало, подходили, предлагали. И словно расстраивались-удивлялись, что я отказывался и уходил от проявленного внимания.
Мое обыкновение торчать на остановках и перекрестках, у магазинов и кафе, у входов в кинотеатры и кино, и даже у вокзалов, сбивало с толку предприимчивых женщин.
Вот так, прогуливаясь однажды взад-вперед неподалеку от винного магазина, я обратил внимание на старуху, которая хитро-прицельно глядела на меня, а потом даже подошла.
— Мужчина? Можно спросить?
— Пожалуйста.
— Я вот подумала, вам, наверное, женщина нужна?
— Как это вы определили?
— Да вид у вас такой. Голодный. Голодный вы, видно. Без женщины.
— …
— Я дак вам хорошую женщину могла бы предложить. Одна живет. Чистая. Полная. Тут. Недалеко. Я бы вас познакомила. Вы ей понравитесь. Медсестрой работает. Правда. Красивая, говорю. Полная. Ну, такая, с фигурой. И без мужчины. Страдает. Вы бы ей очень подошли. Недалеко тут. Ну, а мне только бутылочку, за труд.
«Полная?» — подумалось мне, а спросилось:
— И молодая?
— Молодая! Молодая! Тридцати нет. Не девушка, конечно. Молодая. Она вам понравится! А я вижу — вы полных любите.
«Все видит!» — подумалось мне.
— Не сомневайтесь, мужчина. Она хорошая, чисто себя содержит. В поликлинике работает… Так что… Как не уметь все… Что женщине положено… Поедемте..
И я поехал. Это было действительно недалеко. По дороге на вокзал. На третьей остановке мы вышли, зашли в магазин, где я купил три бутылки вина. (Одну тут же отдал старухе.) И в этом же доме — лишь ход со двора — оказалось жилище Цирцеи. Когда поднимался по лестнице, я внутренне усмехался не то своей смелости, не то наглости. Ведут, как бычка-производителя, и что там окажется еще за «телка». Название входило в моду среди молодежи, и, честно говоря, мне нравилось. «Телки» у меня никогда не было. А хотелось ее иметь.
На особый звонок старухи послышались грузные, шлепающие шаги — так ходят женщины в квартирах, «в домашнем». Дверь открыла молодая женщина, при виде которой с порога я остолбенел. Это была та, которую я искал как натуру для своей картины! Европа.
— Ну? Заходите? Чего стоите? — не слишком-то приветливо позвала она.
И я шагнул через порог, обоняя прежде всего запах незнакомой квартиры, женского жилья. Здесь пахло едой, одеколоном, стиркой, словно бы женской одеждой и немного туалетом. Он, видимо, был рядом.
Женщина передо мной стояла большая, но достаточно стройная для такой толщины. Чувственные правильные губы — это бросилось в глаза. Хорошая грудь, полноватый живот. Волосы были светлые, длинные, почти натуральной окраски, брови накрашенные, и странные были глаза: цвета густой, холодной малахитовой зелени, и, когда она чуть повернула голову, один глаз вспыхнул голубоватым огоньком. Норовом.
«Ого! — подумал я. — Дикая лошадка!»
— Проходите, — помедлив, позвала она, видимо тоже не разочарованная моим видом и оглядом.
Старуха же, победно дернув губой, подморгнув глазом, ушла куда-то по коридору. Квартира эта была явная коммуналка.
В комнате продолжили обозрение друг друга. Было все-таки непривычно, конфузно, по крайней мере мне. Комната женщины не понравилась — все в ней было какое-то не новое, захватанное, как из комиссионного магазина. Стол, большая кровать под бархатным одеялом-покрывалом, ковер на стене тоже комиссионный, клоповый, с выгорелым, вытертым ли рисунком, где некий персидский шах с неясным ликом ласкал припавшую к нему рабыню-невольницу в выцветших шароварах. У «шаха» видны были яснее всего дырочки глаз и полоска зубов. У невольницы — обведенные цыганские глаза. Еще в комнате у окна был фикус в битой эмалированной кастрюле. Все в этот момент попало в поле моего зрения, и вряд ли это понравилось хозяйке.
Но теперь я разглядел ее лучше. Да. Молодая, крупная, толстоногая женщина. Волосы ее все-таки были крашеные, но краска не лезла в глаза, не мешала их натуральному восприятию. Лицо же было с той явной «бесстыжинкой», которая одинаково и привлекает, и отпугивает мужчин. На улице я с такой бы не познакомился. И женщина, сразу и ясно поняв и оценив все мои мысли, презрительно дернула пухлой жадной губой. Странные малахитово-зеленые глаза похолодели. Все-таки в ней было много, чересчур много от больничной медсестры, чересчур много, чтобы это уже не отпугивало. Профессиональное, уверенное, знающее. Что-то, похожее на что-то… Я рылся в памяти, может быть, даже лихорадочно, и сразу нашел. То занавешенное белым окно. Медсестра Марина. Она была лишь много старше этой. И ее уверенные, жадные руки, которые творили со мной, казалось, невозможное..
— Меня Валей зовут, — сказала она, слегка усмехаясь — Да вы садитесь. Чаю хотите?
— Нет… Чаю не хочу… А… А может быть, мы пойдем погуляем? (С чего это я взял? Само сказалось. Какой-то инстинкт безошибочный выручал меня!) Погода хорошая. Если у вас… Если вы… Если есть время и желание. — Язык мой все-таки спотыкался. Верный признак, что женщина мне нравилась. Все-таки нравилась.
И она опять тотчас это поняла и оценила.
— Ну что ж! До трех я свободна. Пойдемте. Подождете меня на улице? Я ведь так не могу… — Она вдруг распахнула халат, и я увидел, что под ним она совершенно голая, толстая, розовая, с большими свисающими грудями и выбритым гладким лобком, вписанным между ляжек четкой перевернутой буквой «М». Бесстыжий пуп, как черный глаз, прицельно смотрел на меня.
Секунду она наслаждалась моим остолбенением и замешательством, потом, криво усмехнувшись, запахнула халат.
— Ладно. Идите. Ждите меня внизу. Приду.
Я вышел в коридорчик, где опять наткнулся на старуху, глядевшую теперь уж совсем победно. Зачем-то я отдал ей и вторую бутылку. Видимо, этого было сверхдостаточно, потому что, понимающе и благодарно глянув-кивнув, она тотчас же ушла.
Я спустился по лестнице, этаж был третий, вышел на людную улицу под нежаркое солнце и стал прогуливаться по тротуару, усмехаясь и как бы в такт своей странной ситуации. Такого со мной никогда еще не случалось. Познакомился с женщиной. И женщина-то вполне. И понравилась мне весьма. И натура — вот она! И знал — останься я сейчас у нее — ничего бы не вышло, не получилось. И пусть красивая, полная. Но — чужая какая-то, страшноватая. И явно много прошлого… И медсестра еще. Да я-то что… Кто? Девственник? А веду себя примерно так. Гулять позвал! Хо-хо… Вот дурак. Она все еще стояла перед моим внутренним взглядом. Груди, живот, пуп. Пухлое, выбритое «М». Ноги, сомкнутые в ляжках, розовые, круглые. И эти странные малахитовые глаза. Профессионалки и блудницы. И задница, наверное, тоже загляденье. А губы какие присосные, жадные. Вот только глаза… Что в них такое? Ну, ладно, посмотрим. Не съест же она меня… Не съест..
Она вышла в легком болоневом плащике, с цветной косынкой на шее. На ней было вискозное, скользяще-бесстыжее платье. Такое как раз, как я люблю.
— Ну, что? Хм? Куда пойдем? Поведете куда?
— А пойдемте на набережную, — предложил я, досадуя, во-первых, что не обдумал, куда мне вести эту «телку», а во-вторых, опять поняв собственную глупость. Она-то, «телка», предполагала, очевидно, что я предложу поехать ко мне или куда-то, где и можно будет без помех приступить к тому, зачем я сюда, к ней, явился.
— Ну, хм, ладно… — согласилась она, дернув губой.
— Там посидим в павильоне. Мороженое, наверное, есть… Жарко! — пробормотал я.
— А вы кто? — спросила она, пристраиваясь к моему шагу.
— Свободный художник! — ответил я, наверное, несколько игривее, чем было надо.
— А если серьезно?
— И серьезно — художник..
— Шутите?
— Нет. Живописец я. Настоящий..
— Хм… — неопределенно отозвалась она. И в этом «хм» я понял все: художник — значит, бедняк. Бедолага, дерьмо. Или так себе… Шалопай. Солидный мужчина не станет таким заниматься. Правда, все-таки, может, профессия… А это профессия? Нет, конечно. Так. Блажь. Юродивый какой-то. Но все-таки интересно. И безденежный, конечно. По одежде видать.
— А вы — я знаю — медсестра?
— Бабулька сказала? Вот дерьмо… Все выболтала. Пьянь… Она вообще-то — ничего. Душевная старуха. Она мужиками до сих пор бредит. Не поверишь? Молодыми причем мужиками. Хм. Она мне ассистенткой иногда работает… Ну, а вы что рисуете? Вы работаете где? Хм.
— Я же сказал, что свободный художник.
— Значит, нигде? А как живете? Картины продаете?
— Иногда. Или устраиваюсь на время.
— Ну, это не заработок! — дернула опять своей красивой губой. — И вас это устраивает?
— Что?
— Без денег?
— У меня есть деньги. Пока. А дальше видно будет.
Она посмотрела с нескрываемым сомнением, и глаза еще больше похолодели, сделались каменными, яшмовыми.
— Видно, все вы, художники, одинаковые. Вот у моей подружки — в больнице тоже работает вместе со мной— художник был. Такой пьянь… И импотент почти. Уж она чего с ним не делала. А баба — ух! Все умеет. И любила его… Несмотря… Мне, говорит, интересно. Она кого хошь заставит… А тот художник все равно от нее смылся. Хочешь познакомлю? От нее, пожалуй, и ты сбежишь. Ха-ха… Хм.
— Я еще с вами не познакомился, а вы уже меня хотите другой сдать, — усмехнулся я.
— Да это я так. К слову. Вот мы пришли.
— Я вас приглашаю. В кафе. Мороженое..
— Мороженое? Это хорошо. А выпить там есть?
— Наверное… Шампанское..
— Вот и дело. Деньги правда есть? У тебя?
— Садитесь вон там к окну. Закажу.
— Ну, ладушки… И сигарет мне купи. Пачку. «Стюардессу». Смотри!
В павильоне было почти пусто. Я заказал по две порции мороженого и бутылку шампанского, которое буфетчица тут же, нехотя словно, открыла.
Сели за столик.
— О! Люблю этот морс! Шампунь! — сказала Валя. — Ну, за твое! За знакомство! Пей!
«Угощает!» — про себя усмехнулся я.
Бутылку мы быстро выпили. И Валя вдруг сразу рассолодела. Смотрела на меня уже не малахитовыми глазами, а какой-то странной водянистой зелени. Мутноватые, бесстыжие глаза все знающей женщины. Лицо ее приобрело тот неприятный оттенок крепко пьющей, еще розовое, но уже с той, едва уличимой, но явной фиолетинкой, какая появляется под глазами и на щеках, а окраску губ делает какой-то химической.
— У тебя ведь в сумке еще бутылка есть? — спросила она, глядя на меня сквозь дымку.
— Есть.
— А бабке сколько отдал? Вот сволочь — две взяла. Да еще продала меня.
— Как?
— Ну, что я в больнице работаю.
— А что такого?
— Хм. Давай бутылку, открывай! Ничего, выпьем тут… А то, что я в такой больнице работаю, что ты счас сбежишь, как узнаешь. По-нял?
Признание не обрадовало меня. И я только еще раз поразился своему провидческому нежеланию быть у нее в комнате.
— Но ты… Не бойся… Я чистая… Слежу. Я и вылечить могу. Если чо..
— Спасибо. Не требуется.
— Наливай!
И еще я понял, что она алкоголичка.
Бутылку мы допили. Причем я — треть, она — остальное.
— Как же вы! На работу?
— A-а! Не выйду — и все. Подменят. К нам не очень-то идут. Медики… Таких дур мало… Как я. Ну ладно. Все… Счас пойдем ко мне? — с треском отодвигая стул, сказала она. — Нет? Пойдем… Отдохнешь на моем пупе. За все ведь надо платить. И рас-пла-чи-ваться… Пошли.
— Я домой пойду. В мастерскую.
— Что? Уже не понравилась? Это ты зря… А может, у тебя того? Не стоит, не гнется? Все вы, художники, импо-о… Нинка рассказывала. Клизму сделает, и он сразу заработает. Пойдем. Я тоже все умею. Я тебе, как тряпочку, выкручу…
Мне уже стыдно было с ней сидеть. Вышли на ветерок. На мою родную, залитую солнцем набережную. Красивая бесстыжая женщина, свесив густые беловатые волосы, покачиваясь, стояла передо мной.
Мне хотелось скорее расстаться, и она, через хмель, поняла это.
— Нну, ладно… До следующего? А? Бы-вай… Ху-дожник… А захочешь — заходи… Выкручу… Х-ха..
Она ушла, нехотя повиливая бедрами. Еще раз пьяно полуобернулась, помахала кистью.
Еще одна женщина, которая от меня ушла. И слава Богу, что ушла, я понял это через горькую горечь несбывшегося желания.
Впрочем… Почему несбывшегося? За два дня я написал с нее Европу. Моей памяти достаточно было одного прицельного выстрела.
Европа, жаждущая, хотящая, ненасытная, влюбленная, умелая, плыла верхом на своем грозном быке. И бык бешено таращил страдальческий глаз на эту, уже слившуюся с ним, приникшую в ласке, неостановимую наездницу.
Глава VI. ПЕЙЗАЖИ ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ
Одна стена большой комнаты Николая Семеновича была задрапирована холстом от потолка до пола. Ее обрамляли снизу не то какие-то деревянные галтели, не то гардины, опущенные на пол. На холщовой этой стене ничего не было. И, поймав мой любопытствующий взгляд, Болотников усмехнулся:
— Тут, на холсте, Саша, надо бы написать очаг и котелок с бараньей похлебкой. Как в «Золотом ключике», у папы Карло. Кстати, чудесная сказка! Я ее всегда читаю, если тяжело. Помогает. Ну, что же привело тебя ко мне помимо моего приглашения? — он усмехнулся и задрал свою голову триумфатора. — В училище говорили, что в профиль я похож на Цицерона, а злые языки — слыхал сам! — на Муссолини. Так и дразнили: Дуче! А, черт с ними! Люди, Саша, несовершенны, и судить их — тяжкий труд. Может быть, грех. «Не судите, да не судимы будете». Великая истина.
Он помолчал, прислушиваясь словно к кипению чайника. Все его хозяйство размещалось в одной, хотя и большой комнате. Видимо, здесь, на столике, где стояли плитка и чайник, он и готовил. Теперь — вот странно — я жил лучше его. У меня была однокомнатная, изолированная. А он — в коммуналке!
— Пей чай! Хороший! Цейлонский! Чай я боготворю. Дает мне вторую жизнь. О, если бы не чай… Я бы отчаялся!
Он налил мне и себе в большие чашки с голубыми мельницами. Положил на стол клеклое печенье. Придвинул сахар и конфеты-«подушечки». Дешевле некуда — рубль килограмм! К таким и я был приучен с детства. А Болотников усмехнулся:
— Ты думал, аристократ Болотников живет, как Крез? Но, знаешь, я сейчас сознательно живу лишь на тощенькую пенсию. И — все… Я ничего не делаю. Ничего не продаю. Ничего не пишу! Я, Саша, отдыхаю от жизни. И готовлюсь к финишной прямой. Да… — он сделал запрещающий жест. — Я даже отказался недавно от выгодной работы — иллюстрации к сказкам Гофмана. Итак, сейчас я не гонюсь за рублем. Он меня просто не интересует… Сыт. Одет. Одна голова не бедна… Семьи у меня нет и, конечно, уже не будет. Я прошел это добровольное рабство весьма рано. Влюблялся с детсада. Первый раз обрел женщину в шестом. Обучила одна шустрая второгодница. Женился в девятнадцать. На красавице. Разошелся в двадцать три. Снова женился — и опять развод. И так еще два раза. Все на красавицах! Случайные не в счет. Зачем это я тебе говорю? Затем, чтобы ты знал: женщина — это трясина. Она засасывает и губит. Не успел выскочить — готов! А я искал-находил только красавиц! Они, Саша, еще страшнее. Черная бездна! Падение с обрыва. И я падал. Сократ сказал на вопрос юноши: жениться ли ему на красавице? «В обоих случаях ты будешь сожалеть». Не повтори моих ошибок. Если б я нашел скромную, простую, добрую женщину, я, возможно, и сейчас жил бы с семьей. Но я искал исключительное. Я художник, и красота — мой БОГ! А красота обитель муки, ревности, ссор, измен, уходов — измен больше всего. Красивая женщина обязательно тебе изменит, она беспощаднее тигра. Красавица, Саша, не дает счастья, она его сама хочет получать! И в этой погоне она ненасытна. Не верь, если она тебе будет клясться, не верь, что будет говорить — любит, не верь, что останется с тобой. Не верь, не верь, не верь! Ее задача, как у вампира, насосаться твоей крови и бросить. И все это я перенес. Сначала меня просто обводили вокруг пальца, как олуха, потом мне смеялись в лицо, потом втаптывали туфелькой в грязь. Уходили, не оглядываясь. А я любил и мучился, пока не понял: «Стоп! Все! Дальше — лопнет сердце!» И я приказал себе никогда не влюбляться и никакой женщине не верить. Не искать с ними встреч. Не мучить душу. Ах, как это было тяжело! Особенно вначале. Но я нашел выход в изображении женщины. Я стал писать картины, изображал женщину такой, какой она является на самом деле. Вампиром. Демоном. Убийцей! Нечистой силой! Я научился находить в этом даже эротическое удовлетворение. От всей этой сублимации женщины. И постепенно отошел от мечты, которая мучила меня день и ночь. Найти любовь! Найти красавицу, которая меня поймет и станет моей второй натурой, второй моей душой, а лучше сказать — единосущной. Вот ты не веришь мне. Ты все еще идеалист. И я не стану тебя разубеждать. Убедишься сам. Сейчас я уже хладен. В конце концов я видел красавиц. Я их имел! Они у меня БЫЛИ! С одной, кстати, последней, невозможно было ходить по улице. Грузины, армяне останавливали машины. Приглашая внаглую, ехали рядом! В ресторанах ей посылали шампанское. А на пляже я один раз всерьез отбивался от кучи пивных мужиков. Я обувал и одевал ее, как королеву, а она изменила мне с каким-то подонком-писателем, туберкулезником, скотом. Вот так. Детей у меня не было. Алименты не плачу. Я чувствую, ты не веришь мне — хотя ты повторяешь мой путь, уже, возможно, повторил. А теперь давай свою нужду. Опять без работы и без денег?
Я кивнул.
Болотников задумался, отхлебывая чай и левой рукой поглаживая лысину.
— Работать ты хотел бы только художником? В сталевары не тянет?
— Выход есть. Сейчас после ремонта открывают большую гостиницу. — Он назвал адрес. — Ее шеф, Евсей Демьянович, заказывал мне когда-то картины. Конфиденциально! Он эротоман, каких поискать. И у него немалые деньги. Так вот. Я написал ему копию своей «Мессалины». Ты ее не видел. И пока — не надо. Можешь сбиться на мой путь. Да… Так вот: после ремонта в гостинице меняют интерьер в холлах и лучших номерах. Я порекомендую тебя, ибо картины он заказывал мне, Евсей Демьянович. Но я сейчас болен и написать их не смогу. А ты прекрасно справишься с задачей. Я знаю. Заказ солидный. Картин на двадцать! Ты поедешь куда-нибудь на природу, привезешь этюды и за зиму напишешь. Дадут аванс. Деньги приличные. Хватит лет на пять. Как тратить… Ну? Устраивает? Тогда я звоню сейчас. Сейчас же!
И пока я допивал чай, Болотников уже договорился с этим Евсеем Демьяновичем.
— Вот и все! Вот адрес, телефон. Он мужик обязательный. Но может стрясти с тебя картину. Не жмись. Напиши копию. В дар! Подари ему копию той, с панталонами. Он будет без ума! Ты никуда ее не дел? Храни! Шедевр!
И мы еще долго сидели. Болотников курил сигарету за сигаретой. Пил крепкий чай. Лицо его было больным и бледным. Со лба и висков катился пот. И проступало то выражение лица, о котором лучше не думать.
— Вам нездоровится? — ляпнул я так противно-заботливо, что устыдился сам.
Болотников лишь усмехнулся за меня, прощая мою бестактность, учитывая мой конфуз, качнул головой.
— Спина, Саша! Спина что-то… И почки. Радикулит? Не похоже. Да. Ничего. Перебьюся. Кстати, Саша… И место тебе посоветую. Поезжай на электричке к маленькому полустанку. Есть такой, километров тридцать отсюда. Называется Слань. Туда я раньше сам езжал на этюды. Место замечательное. Найдешь все: река хорошая, левитановская. Лес прекрасный. Поля. Луга. Гора есть лесистая, с обрывами. Места — пейзажнее не найти. За лето напишешь этюды. Зимой заработаешь. А дальше — вольному воля. Вольному — воля! — Он даже как будто с завистью повторил эти слова.
Он проводил меня до порога. Странный человек. Мой добрый гений. Постоянный спаситель. Мне было даже совестно так эксплуатировать его доброту. Все ли мы, художники, щедры на это? И не художники, вообще — люди. Спросите себя: вы щедры на доброту? И редкий сознается. А не щедры — сплошь. И я такой. И может быть, хуже других. Одиночество загоняло меня в скорлупу безлюбой, мелко-практичной и, наверное, пошлой жизни. Я барахтался в ней, как мошка в паутине, — и ничего не мог сделать. Одиночество теперь уже поедало меня.
В гостинице меня как будто не восприняли всерьез.
Наглые администраторши даже не ответили, как найти директора. Отъевшийся швейцар предварительно смерил взглядом: «Кто ты такой, шушера, к директору?» Все-таки указал, куда идти.
Гостиница после ремонта еще благоухала лаком и краской. А директор, должно быть, действительно был любителем живописи. В приемной висели грамотные работы, правда, и сделанные гадостными прожухлыми красками московского завода. Что-что, а краски я знал, казалось, на вкус, краски боготворил и только окончательный вариант картины да лессировки делал лефрановскими. Подписи тоже были профессионалов: Волков, Васильев, Власов. Кого-то из них я знал. Художники. Старые. Настоящие. Крепкие.
Рыхлая расползня за столом, с крашеной желтой сединой по пробору, не хотела пропускать.
— Да хотя бы доложите!
— Занят он. Некогда ему!
— Я же вас прошу доложить. Что пришел художник. По рекомендации Николая Семеновича.
— Какого еще Николая Семеновича?
— Болотникова! Директор знает.
И меня приняли.
Евсей Демьянович оказался каким-то подобием финансиста прошлого века, а не то ростовщика. Круглые, в золотой оправе очки. И все к тем очкам было: лысина, костюм-тройка, бородка от жирных щек, булавка с рубинчиком в галстуке. Улыбка с золотом. Старый, достойный, хорошо устроенный сластолюбец.
Смотрел он на меня ласково, избоченя голову и как бы сразу давая понять: вы, дорогой, тут нижестоящий… Много нижестоящий…
Евсей Демьянович указал на кресло. Разговор начал с ходу:
— Нужны картины. Да. Нужны. Да… Но… Роскошные… Талантливые! Разумеется, только подлинники. В номера люкс. Ну, и в фоэ (так говорил!). В фоэ тоже… Сюда бы взял… Одну-другую… Видите? — указал на стену кабинета, напоминающую музейную: пейзажи, пейзажи, пейзажи. Все достойно. Профессионально. Вкус на уровне. — Моя, так сказать, страсть… Собираю. Это так… Малая часть… Моей коллекции (сказал «колекции»),
И, насладившись моим восторгом (о, восторг профессионала, хоть чаще всего и деланный! Но я не переигрывал!), перешел к сути.
— Итак. Двадцать пять картин. Плачу за все… Пятьдесят тысяч. Если жить не широко. Это вам… На десять лет хватит… Да… Но… Но! Картины, повторяю, должны быть КЛАСС! Николай Семенович поручился… Я ему доверяю… Вот… Сделайте для начала… Парочку. Предъявите… Одобрю… Договор… Это все… А картины — к весне… Ну, этюды покажете. Все честно. Устроит? Дерзайте..
Без лишних слов я откланялся.
— Хорошо. Ждем, — напутствовал директор. — Аванс дам. Как предъявите. Да… Картины. Две… Пока только две.
Из фойе я позвонил Николаю Семеновичу. Попросил денег. Ненавистная мне просьба.
— Пожалуйста. Тысячу дам. Вернешь, когда обогатишься, — послышалось в трубке.
Человек этот, видимо, вправду был моим спасителем.
В деревню Тушновку я приехал в самом начале июля. Походил по избам, просился на постой. Нигде не пускали. Везде жили дачники. Дома многие тоже были ими раскуплены. Время — сезон. Я прошел деревню из конца в конец — невелика, хоть и разбросана вольготно, — дворов сорок, не больше. И вышел за околицу.
Могучая задастая баба косила там примыкающую к последней избе суховатую луговину. Было жарко. Оводно. Жгучие эти мухи и меня донимали порядочно. А баба вся взопрела, белая кофта темно взмокла, лицо в медном загаре было повязано белой косынкой. Косынка ли эта простецкая остановила меня (и Надя ведь, и та моя первая женщина — медсестра в косынках!), или просто округлая бабья стать, ее одинокость — не знаю. Что-то словно в женщине было знакомое, давно забытое.
Женщина бросила косить. Неожиданно сняла косынку, вытерла ею мокрое лицо, стала поправлять рассыпавшиеся по плечам светлые волосы. Что-то знакомое было в ее обличье. Что? Не понять. Но знакомое. И пока я обдумывал это «знакомое», искал в памяти, не находя, баба сказала с досадой:
— Ну? Чего уставился? Не видал? Помог бы лучше. Запарилась я. Жара какая..
— Помог бы… Да я никогда не косил.
— Эка! — вздохнула она пухлой грудью. — Берись за литовку. Само пойдет. Не получится! Научу. — И усмехнулась полными, недоверчивыми губами.
Поставил чемоданчик. Сбросил этюдник с плеча. Рюкзак снял. Даже с удовольствием. Пошевелил плечами. Подошел к бабе. Поднял косу из травы. Освобожденные плечи и руки были легкими, приятными.
Баба смотрела холодно-насмешливо. Определенно знакомое было лицо! Или — много таких? Расейское, с курносинкой, глаза с холодком, но такие и оттаять могут. Толста, а с фигурой. Крутой и широкий зад — все это отметил за один взгляд.
Примерился к траве. Припомнил, как, видел, косят. И трава с шелестным хрустом стала ложиться полукружьями. Кузнечики сыпались врассыпную. Косил.
А баба неторопливо шла следом. Опять повязывала свою косынку.
— Ничо! Однако, проворный ты… Нормально косишь. Ай приходилось? Хорошо-о… Может, в работники возьму. Пятку у косы… Пятку ниже ставь. Гляди, в кочку носок не воткни! Враз обломишь. Коса-то у меня одна отбита-налажена.
Я молча косил. Хотелось похвастаться перед бабой. Казалось забавным. Вот так просто попал в кабалу. К женщине.
— Отколь ты здесь?
— Квартиру на лето ищу.
— Дашник, чо ли?
— Художник.
— A-а… Ресовать чо? Чо будешь?
— Собирался. Да никто не сдает..
— А ты вот чо-о. Ты мне сена корове наставить поможешь? Я тя тогда пущу, хоть до зимы живи.
— Помогу, если научите..
— Жить не в горнице только будешь, а там комнатка есть, невыделанная, однако… Без печки. Но жить летом можно. Я и денег с тя взять не возьму. Только помоги ладом. Одна я. Мужик сидит.
«Господи! Да что это? Вся Россия, что ли, по лагерям? В отсидке?» Она поняла мое безвопросное молчание.
— Да тракторист он у меня. Ну, и пьяниса. Человека по пьянке задавил. Анкаша тоже, однако. А все одно шесть лет дали. Три уж отсидел. А я как? Одна. Хоть и здоровая вон, как лошадь. А чо я могу? Накошусь — живот тянет. Бабья сила не та. Не в том… А я тя и пирогами кормить стану, — хохотнула баба.
— Ладно! — сказал я. Сам себе удивляясь, как обстоятельства идут мне навстречу. Коса, правда, становилась все тяжелее. И руки уже ныли в предплечьях. Непривычно.
— Давай тогда, однако, снесем твои вещи-то. Да я еще косу вторую возьму и..
Она хозяйственно подняла мой рюкзак, я взял чемодан и этюдник. Удивляясь попутно: «Вот и устроился. Надо же!»
К вечеру вдвоем со своей новой хозяйкой мы выкосили («выпластали», как сказала она удовлетворенно) всю луговину до самых кустов, где уже начинались неподалеку пеньки и лес.
— Ну, здорово! Хорош ты мужик! Крепкий. Однако, лет под пиисят тебе? А моложавый, крепкий.
Играла глазом. Оценивала. А я все никак не мог вспомнить, где видел это моложавое бабье лицо, конечно уже так же измененное временем, но еще неплохое, без намеков на старость. Глаза у женщины оттеплели. Лукавели.
— А зубы чо не вставишь? Щербатый ходишь… Да ладно. Мужик у меня тоже щербатый ходил. В драке зубы вынесли. Монтировкой. А он и не драчун у меня. Атак, по пьянке по этой. Все по ей, окаянной, получается.
Идя к дому, рассуждала:
— Людям, чтоб не болтали, скажу — на постой взяла. Жить-то мне на чо? Да и срать я на их не хотела. Все одно — оболтают. Мужик придет — разбираться не будет. Он у меня во — где. Не боюсь. Я и любого мужика не боюсь. Подвернись под руку — отпотчую.
Она и впрямь была хоть не сильно широка в плечах, но с могучими, полными руками. Тяжелые мясные ягодицы под ситцевой юбкой двигались, властно содрогаясь. «ЖЕНЩИНА», — уже восхищенно думал я, шагая следом. Но где же, Господи, где я ее совершенно точно видел? Где? Она мне явно нравилась. Была постарше, но почему-то я чувствовал себя перед ней маленьким. Верный признак, что женщина уже овладела тобой.
Мы вернулись на подворье, которое я поначалу и не рассмотрел. Куры шарахнулись от незнакомца. Петух побежал за ними бойкой побежкой, тряся сваленным набок гребнем, не переставая, однако, косить строгим, мужичьим, ревнивым глазом.
— Заходите, не испугайтесь, — почему-то на «вы» сказала она. — Не богато живу. Корысти нет. Ну, а что есть, то есть. Счас обед сделаю. Ужин ли… Есть охота… Заходи. Тут вот горница, тут — моя спальня, — приотворила небольшую комнатушку, однако с широкой «панцирной» кроватью и горой подушек.
— А тебе, если подойдет, вон комната будет. — Указала через горницу комнатку с окном, бревенчатую, не оклеенную и пустую, где стояла голая железная койка, низкий столик, покрытый бумагой, и ничего более. Да. Была еще табуретка, много раз крашенная и, кажется, сломанная.
— Ну, неказисто. А жить можно. Зато и денег мне с тебя не брать. Я ее счас, после обеда, вымою, обихожу. Ну? Как?
— Мне подойдет. Рисовать тут можно. Светло.
— Да рисуй, хоть зарисуйся. Это уж твое дело. Помоги только сена наставить. А так… Пожалуйста. Ты из дальних, однако?
— Из города.
— А вроде как не городской.
«Неужели она «прочитала»-почуяла мое прошлое?»
— А давай-ка я сперва все-таки вымою, а там, пока располагаешься, еду приготовлю. Мясо у меня отварное есть. Лук. Яйца. Огурцы. Помидорки даже вон недоспелые, а есть можно. Хлеб не черствый. Седни брала. Счас я.
Она вышла и скоро вернулась с ведром и тряпкой.
— Ты, однако, выйди, сядь там. На меня не гляди: Я мою — юбку задираю. Лопнет. Ха… Большая я… — она прикрыла дверь. Слышно было, как плещет-растекается вода, как женщина выжимает тряпку, как шлепает водой по полу, слегка пристанывая от своей полноты. Моет. А душа моя трепетала, как у охотника, почуявшего большую добычу. Я, кажется, уже влюбился в эту толстую, круглую, светловолосую женщину, и к тому же она тягостно кого-то мне напоминала. Не мог вспомнить. Сидя в горнице, я внимательнее разглядел ее. Все как бывает в деревенских избах среднего достатка. Тюлевые шторы. Строченые белые задергушки. Стол под вязаной скатертью. Три стула вокруг. Сундук старых времен, покрыт чем-то шерстяным и тоже старым. Шелковая старомодная люстра-абажур, швейная машина «Подольск» в углу. Радиола «Урал» на тумбочке — в другом. На полу половики. Опрятная бедность. И цветы на окнах в крашеных консервных банках. Герани. «Ванька-мокрый». Лук кринум в зеленой отслужившей кастрюле. Бедность? Или достаток по сельским меркам? А? Вот что это? Фотография. В рамке, увеличенная, как будто с маленьких карточек. Сердитого вида девушка с толстой светлой косой и парень в рубахе-косоворотке, неказистый, дурноватый. Его и глядеть-разглядывать не хотелось. Но… Ведь и его, этого парня или мужичонку, я где-то вроде бы тоже встречал. Или — полно таких? А она — ну, точно знакома.
Дверь приоткрылась, и хозяйка высунула мне ведро, обтирая потное с падающими прядями лицо тыльной стороной полной руки.
— По воду сходи-ка! Эту выплесни. А свежей налей… Из бочки… Под потоком стоит. Сходи. Некогда мне. Неудобно.
Покорно понес ведро.
В небольшом дворике, загороженном сараем, пахло навозом, жужжали мухи. Нашел бочку. Прозеленелая, старая. С водой до краев. Ковшик висел на щербленом краю. Комары-головастики прянули в глубину. Начерпал. Принес.
Хозяйка, нагнувшись-присев, в голубых панталонах, юбка задрана на пояс, что-то еще затирала под кроватью. Ойкнула, прихлопнула дверь. Высунулась, улыбаясь, однако.
— Чтой-то ты скоро как? — приняла ведро.
«Приманивает она меня, что ли?» — подумалось смущенно, а в глазах все стоял ее зад в простецких этих бабьих штанах. И я ощутил прилив такого давнего голода, голода по женщине, что проглотил слюну. И вздохнул, как лошадь после тяжелой ноши.
Мытье она закончила скоро. Вошла уже в юбке. А через полчаса мы сидели в горнице за самоваром. Ели яичницу и колбасу, прихваченную мной из города. Пили чай. Конфеты пригодились и батон.
— Ну, чо? Комната подходит? Теперь чисто. Умыто, поигрывала она светлой бровью.
— Как раз. Лучше не надо.
— Неразговорчивый ты. Как не надо? Мужикам все надо. Да слаще сахару чтоб… Конфеты вкусные привез. Счас сразу ложись, отдыхай. А завтра мы с утра на дальний покос пойдем. Это, однако, километров восемь будет. Шибко далеко. А близь — не дают. Только возле усадьбы. Да и то… Я сама дояркой работаю. Счас вон у меня отпуск. На покос взяла. Да еще за Любку Замараеву в две смены ломила. Есть у меня отгулы. Ох, погода бы только не подвела. Дожжа бы не натянуло. Поставить бы дало сено-то. Тебя мне как Бог послал. Я и то вчера горевала. Как буду? Нанимать дорого. И кого? А сама, хоть здоровая… А выдыхаюсь скоро. Не могу долго косить, голову в жар обносит. Толстая я. Раньше потоньше была. Когда не здесь жили.
— Откуда вы?
— Да из Красноуральска.
Вздрогнул. И чашка даже всплеснулась.
— Чего ты?
— Да так… Вы ТАМ жили?
— Жили. Я там и родилась. А сюда переехали уж тоже давно. Избу эту купили. Деревню там у нас выселили. Лагеря расширяли.
«Это ведь та самая женщина, что была в сатиновом платье, когда я возвращался! — наконец пришла догадка. — Она самая! Господи? Неужели — она?! Она!»
— А ты-то Красноуральск вспомнил?
— Я и вас знаю! — брякнул я.
— Ми-ня-я? Как это, однако? — простецки вытаращилась она, подняв выгоревшие брови. Приоткрыла малиново-свежий рот. — Ми-ня?
— Да на вокзале. Двадцать пять лег назад. Вы еще беременная были. Тогда… Так?
— Ой, как это? Верно ведь. Я тогда на сносях почти была. Правду говоришь! Мне счас сорок семь… Тогда двадцать два было. Ты там жил, чо ли?
— В лагере я сидел. Как раз в тот день освободился. В поезде ехали вместе.
Помрачнела заметно.
— Ты чо? Из зэков? Непохоже вроде…
— Из них. Только не бойтесь. Не вор я. Не хулиган.
— Так все, поди-ко, говорят.
— Правду я… По 58-й за «политику» сидел. Десять лет.
— Да ты, чай, молодой ведь должен был быть тогда? Когда успел-то, за политику?
— Закрыли — шестнадцать было, а вышел — двадцать семь!
— О-ой? И все отсидел?
— Все.
— Однако, и верно, на вора ты не похожий. А что сидел, все ж таки вроде видно стало. Битый ты какой-то. И правда — художник?
— Перекреститься могу.
— А ты крещеный?
— Крещеный.
— Крестись тогда!
— Перекрестился.
— Ну, слава Богу! Теперь верю. Я, однако, тоже крещеная. Не молюсь, конечно, а так, бабушка крестила. И ты меня столь времени помнишь? — улыбнулась уже.
— Как видите..
— Знать, понравилась я тебе тогда?
— Понравилась. А кто родился?
— Родилась дочь. Она у меня теперь городская. Учиться уехала и замужем там давно живет. Рано выскочила. А к матери редко бывает. Летом вот прошлым жили. А нынче писала: не приедут. Своя у них жизнь. Вот ведь как судьба людей сводит, однако. Знакомые оказались…
Спохватился, что и себя до сих пор не назвал. Поправился.
— Ну, теперь и вовсе познакомились, — улыбнулась моя хозяйка Нина. — Хоть родней становись… Давай-ка спать пойдем. А то вставать на свету. Я тебя разбужу. Мне еще корову подоить. Пришла вон. Ложись иди.
Я расположился в не тесной даже комнате. С постеленной кроватью и вымытым полом она приобрела вполне жилой вид. Рука женщины нужна везде. Поставил этюдник к окну. Примерился, как буду писать. Все выходило сносно. Окно в огород. Мешать не будет никто. И на душе теплело. Устроился! Жилье есть. И женщина. Ведь надо же — та самая, какую видел четверть века назад. Она, конечно. Время изменило. Но не сильно. Раздалась только еще! Да мне-то как раз бы. Ее бы! Поймал на мысли: хочу эту хозяйку, невыносимо уже хочу. Почти как тогда, в вагоне. Когда в штанах увидел — обомлел. Была она, пожалуй, самой толстой из всех моих. «Моих!» А было-то? Если не считать совсем уж случайных, от которых кроме оскомины, разочарование вперемежку с каким-то вроде стыдом. Жил как монах. И удовлетворялся черт знает как, чем. Спасала лагерная выдержка, лагерные эти привычки. И вот… Неужели у меня опять будет приятная, добрая женщина?
И с этой мыслью я заснул. Умаялся за тягостный, неопределенный день.
И сразу будто проснулся от стука.
— Это чо! Разоспался! Вставай! На покос пора! — у нее был молодой, властный и звучный голос. — Иди вон, умойся в кухне. — Хозяйка в цветной с оборками кофте, такой же юбке стояла в дверях.
Ямочки на щеках. Волосы прибраны по-иному. Свежа. Не заспана. Хороша.
— Есть-то не хочешь еще? И я не хочу. А пойдем сразу? Там и поедим. Я все взяла. Квасу бидон. Бери вот. Неси.
И вот мы уже за околицей. И хоть светло, по-июльски светло кругом, а все еще спит. Даже птицы не пели. В полях, в редколесье, в лесу пустое, прохладное оцепенение. Небо горит неяркой зарей. Ветерок оттуда. И зябко. И легко дышится. Припахивает туманом. Даже я так рано никогда не вставал.
Несу грабли, косу и бидон с квасом. Хозяйка — то же самое, вместо бидона кузовок с едой.
— Вот как я тебя сразу в работу взяла, — усмехается красивыми, ровными зубами. Сегодня она моложе, пригожее, косынка даже повязана как-то по-другому. Идет ей, идет к алеющим щекам. Когда и выспалась успела?
А я всегда рано встаю. Работа моя такая. И вообще. Не разоспишься. Корова. Куры. Поросята. И все одна кручусь. Тебе помочь бабе не грех. Комары не заели? А меня накусали. Прямо чешется все… Откуда они налезли. Любят меня. Толстая.
И опять «глаза-глаза», ну, явно играет женщина. Хорошо-то как! Как я изголодался по женщине, по женскому всему!
Покос был и правда далеко. Часа два почти мы шли лесной дорогой, потом тропинками, пока вышли на большую широкую елань у какой-то мелкой речонки. Вид был, однако же, здесь прекрасный: лес, гора, одинокие березы, речонка в осоке и привольное теплое небушко над всем.
— Ну, пришли. Здесь вот мой покос. Отвернись-ка. Я кофту сниму. В бюстгальтере пока буду косить. А ты не смотри. Позагораем. Солнце вот какое! Счас поедим для заправки. И айда. Погода пока стоит. Ладная погода.
Косили. Сначала я взял слишком резвый темп и быстро выдохся, так что Нина было меня уже опережала и посмеивалась. Но я не очень стушевался. «Не знаешь ты меня!» Подправил, подточил косу, пригляделся-примерился. И вот она — зэковская закалка! — пошел чесать косой ровно, мерно, сваливая траву полукруг за полукругом, и так, почти не останавливаясь — только дернуть оселком косу по жалу, — махал до обеда. Солнце калило нещадно. Комары лезли из травы, серые оводы, узорные мухи жгли-садились на руки и спину. Каких смахивал, каких сбивал, а коса продолжала вроде уж привычное дело. И потеть перестал, просохло, выгулялось, вложилось в работу мое тело.
Вот пить только хотелось жадно, западливо. Язык будто еле ворочался в сухом рту. Но я терпел. Хозяйка моя отстала далеко. И уж не смеялась. Выдохлась. Полнота ее долила. Я же «с честью оправдал оказанное доверие».
— Ну, мужик ты хоть куда! — посмеиваясь глазами, хвалила она. Усевшись в тенечке под кустами, пили квас, заедали крутыми подавиховатыми яйцами, черствым хлебом и терпким салом. — Ты что же? Один так, чо ли, живешь? Без жены?
— Так живу..
— Тяжело ведь это. Кто готовит? Стирает?
— Сам.
— Эко… — она как-то странно посмотрела, и я понял, чего она не высказала. Переместила только могучие ягодицы.
Сидела в траве, большая, грузноватая блондинка, платок сдвинут, волосы лезут челкой, ситцевая кофта (опять накинута), но пахнет ее потом пряно, зовуще. Серые, с прозеленью глаза готовы что-то сказать и спросить. Грудь под кофтой равномерно дышит. Видно лифчик. «Большие у нее груди», — подумал, а сказал:
— Жарко как…
— И еще жарчее бывает…
— …
— Квасу еще хочешь?
— Хочу… Хмельной он, что ли?
— Есть маленько… Сахару добавила..
— …
— Жарко… Подол вон смок. Раздеться бы… Да, в…
А дальше было: руки. Губы. Горячие. Суховатые. Чужое дыхание. Мое дыхание. Опять руки, уже властно держащие мое… Восставшее, ненасыщенное. Теплый нежный живот. Шепот: «Рейтузы… Погоди, спущу..» Погружение, погружение. Объятие… Долгий общий стон. Ее крик. Сжатие, какого я еще не испытывал. Сжатие. Сжатие. Сжатие…
Потом, большая, раскинутая, она лежала на спине. Не женщина — сплошная развернутая плоть. Женский запах. Штаны на одной голой, толстой без меры, белой зовущей ноге.
И новое бешеное хотение.
— Чо ты… Чо ты-ы? Самошедший… Ай, ты… Хочу-хочу… Еще… Еще… Еще! Еще-о! Милый… Ой, господи… Ещ… Мм. Еще… Ну, давай. Ой, мама… Еще-о… 0-о-о… Ой… Ма-мама..
Еще… Милый… Ой. Ра-зохотилась… Давно… Давно, ой… Какой., глу-боко-о… Ой, какой… У тебя… Ой, как здорово… Еще-еще..
И опять сжала, как рукой. Сжимала. Сжимала..
— Ой, ой… С ума мы сошли с тобой. Однако… Голодные… Оба. Да? Хочешь меня? Еще хочу… Давай… Еще… Еще хочу. Только теперь вот так. Так меня бери. Давай. Ой… Ой-ой. Давай!
Громадный белый зад. Розовая приоткрытая звездочка. Розовые уходящие складки. Чистая. Красивая. И — погружение, погружение. С каждым разом она издавала звук, невыносимый женский звук, в котором я таял, растворялся, плавился…
Обратно не шли. Еле волочили ноги. Оба. Но было спокойно. И весело даже.
— Настрадо-ва-а-лись, — хохотала она, кося на меня лукавый взгляд. — О-ох, по мне ты мужик, ой, по мне-е. Как ты меня! Я такого сроду не испытывала. Ей-богу! Сытая иду. Голова даже кружится. Обносит. До краишков налил. Ох, мужик!
И еще неделю мы так «ставили сено». Погода была сухая. И даже гроз не накатывало. С юга дул, сушил землю ровный степной ветер. Сено сохло, как на печи. А я похудел, наверное, килограммов на десять. Она — хоть бы что.
Здесь же, на луговине-елани, я написал первую картину. Этюд «Копны». За ней вторую — «Летний вечер».
Писал, как всегда, быстро. «А-ла прима!» Хозяйка Нина смотрела, дивилась. Дышала в затылок.
— Как это ты? Похоже как! Вот здорово. Так бы научиться. Да где мне..
Жил я теперь не в той комнате, где должен был жить. Нина радушно уступила мне треть постели с панцирной сеткой, все остальное приходилось на ее долю.
Это был странный, непредсказанный, непредугаданный, сумасшедший медовый месяц.
Женщина эта казалась ненасытной. Каждый вечер, едва темнело и мы кончали ужинать, она говорила: «Ты ложись, отдыхай. Я с коровой управлюсь — приду. Жди меня смотри! Да все одно — разбужу… Не уснешь. Не бойсь… На-ко на попу мою посмотри… Чтоб не спал». — И, задрав подол, бесстыдно-смешливо спустив штаны, уходила, нарочито виляя огромными белыми ягодицами.
Приходила всегда в одних панталонах, голубых или розовых. С распущенной гривой и жаждущими грудями… И всегда с кружкой молока, накрытой куском ржаного хлеба.
— Выпей молочка? — улыбалась она. — И твоего прибудет! Хорошее молочко. Парное. Жирное. Я его охладила маленько.
Покорно пил, приподнявшись на кровати, а она гладила меня по голове, как маленького.
— А теперь вот на, это пососи! — и ее большой твердый сосок настойчиво вставлялся мне в губы.
— Пососи, милый… Ой, хорошо! Пососи меня, мамку. Ой, сладкий. Покормлю тебя. И мальчик свой давай… А то он соскучился… Без мамки. — А дальше с невероятной для ее веса и полноты ловкостью она опрокидывала меня на спину, зажимала мне рот, и вот я уже был в ней, горячей, влажной, сосущей, а она сидела на мне, раздвинув казавшиеся необъятными колени и бедра и даже словно не шевелилась. Только стонала, тяжело придавливая, а внутри меня все плавилось, истязалось от непрерывного настойчивого движения.
— Я ведь — до-ярка! Во-от. До-ярка-а. Я тебя так… Так… Так разо-хо-чу… Все время… Бу-дешь… Будешь. Будешь… Ой, мамочка… Будешь… Будешь — Освобождала меня и, не давая опомниться, беспощадно повторяла все снова. Пока, облив меня сладкой горячей влагой, она не валилась рядом со стоном. — О-ой… Греш-ница. Чо это я? Само-шедшая стала. С ума баба спятила. Лежишь? Еще хочу! С заду давай!
Она ничем не напоминала мою давнюю и первую любовь. Надию… Была совсем не такая. Светлая. Белесая… Вполне некрасивая. С другим запахом. Но с каждым днем, а лучше сказать — ночью я все больше подчинялся ей. Тонул в ней. Хотел ее… И хотел-то как странно. Словно не любя. Но — хотел ее ласк, ее умелой руки, ее ненасытности, и сам вдруг словно стал таким же ненасытным. Откуда что бралось. Не предполагал в себе никаких таких возможностей. Мне шел уже шестой десяток… А я стрелял, как тринадцатилетний мальчишка.
Умаявшись, засыпали на робкой предутренней заре. А пробуждался я всегда один. Хозяйка где-то во дворе брякала подойником. Крутила на кухне сепаратор. Откуда у нее бралось столько силы? Но, бывало, днем, разморившись, она спала каменным скифским сном, и я тоже, одолевая зевоту, уходил в свою комнату, спал до вечера.
А ночью все было снова и также горячо, ненасытно.
Через две недели я повез первые четыре картины в город на показ Евсею Демьяновичу.
Принял он меня очень радушно. Картины расхвалил. Тотчас же выписал аванс. Пять тысяч! И я, едва заглянув в свою квартиру, покрытую печальной пылью — без хозяина дом сирота! — опять отправился в деревню, нагруженный, как лошадь, холстами, подрамниками, картоном и громадным рюкзаком со всякой снедью, которой хотел угощать свою хозяйку. Моя хозяйка. Звучит? А я привык уже в душе звать ее так — хо-зяй-ка.
Она встретила меня, как родного, и все ахала, ахала:
— Как это ты столько дотащил! Батюшки! И колбаса, и сыр, и вино, и водка. Печенье! Шоколаду столько! Конфет? Ты с ума сошел, Александр! Столь денег убухал! Чо, много получил?
— Получил. Вот. Подарки.
— Какие еще?!
Но возмущалась притворно. Нет женщины, чтоб не любила подарки. Нет.
Привез ей платок, отрез шелку на платье, немецкие чулки с резинками (спросил самый большой размер, вызвал презрительные улыбки продавщиц) и, конечно же, на мой вкус, панталоны. Голубые, белые, желтые.
— Ну, ты прямо жениться на мне собрался? Штаны-то ведь только женам покупают, — смеялась она. — И что б тогда меня разбудил? Когда в поезде-то. Из зоны-то ехал? Да не-ет. Я тогда б с тобой не поехала. Не получилось бы… А судьба вишь как чудит. Как нас свела!
Ночью, насыщенный ее ласками, ее ртом, ее запахом, ее объятиями, я не раз повторял, рассказывал, как встретил ее и как потом случилось со мной то, о чем вроде мужчине и упоминать стыдно. Но она любила этот рассказ и заставляла повторять, после чего всегда необычно возбуждалась, надевала голубые панталоны и отдавалась мне с такой ненасытностью, что я словно терял рассудок.
Мы повторили все это и в новых, только что привезенных «голубых».
Да, она была ненасытна, и я стал чем-то подобным ей.
Пришел август. Лето клонилось. Теперь, когда сенокос был закончен, а Нина вышла на работу, на ферму, я жадно писал пейзажи. Писал закаты. Реку. Вечера в тумане. Лунные глухие ночи. Писал их, конечно, днем. Но смотреть ходил ночью, и моя подруга всегда с беспокойством и неохотой отпускала меня. На дорогу крестила: «Палку бы хоть, чо ли, взял. Возьми палку! Вдруг чо?» Я покорно брал. Уходил по росной траве, в черный лес. Дорогой к реке. На реке, ночной, клубящейся, вспоминал Ван Гога. Одержимый, больной живописью, он писал и ночью, заткнув горящие свечи за тулью шляпы. Повторять Ван Гога я не хотел. Но со мной была моя изощренная память, мои чувства, зрение, слух, обоняние — все это, слагаясь, давало мне точные образы, и я знал: завтра будет этюд! Вот с этими дивными лиловыми ночными тучами, бледной нетухнущей зарей-досветкой на севере, с рекой, вобравшей проглядные кое-где волшебные звезды. С глухим лесом, опрокинутым в легкую зыбь спящей волны. И с этой луной, которую надо писать так осторожно, едва, и волшебно, чтоб на картине лежало ее таинство и чтоб не было этой «куинджевской», уже оскоминной и дурновкусной «лунной ночи». Теперь «ночи» надо было — я точно знал! — писать куда как по-иному. Ночные этюды влекли меня больше дневных. Все тайны природы, погруженные во тьму и мрак, высвечиваемые только звездами да сполохами дальних безгласных зарниц, были в этюдах острее, значительнее. Ночь — «Инь» внушала мне волшебный какой-то трепет. И я наслаждался ею, вбирал ее сырые свежие краски и запахи, и плеск рыб, и смутное веянье пролетающих ее птиц. Сова как-то даже кольнула меня, налетев огненным потусторонним взглядом, и вой волков — однажды слышал и содрогнулся от его сладости, так был знаком мне, и необычен, и прекрасен этот отдаленный от всего и вознесенный к небу, где-то там, далеко и высоко, моление-плач-стон.
А однажды я наблюдал ночную грозу. Она пришла из каких-то дальних полей. И сперва только светила, освещала бледно-палевыми молчаливыми сполохами леса и даль. Я старался запомнить этот горьний, божий свет. Его молчание и дрожащее угасание. И упоенно потрясался, любуясь и впитывая в себя все это таинство. Даже и не надеясь его хоть когда-то воплотить. Как? Чем? Немощна здесь кисть перед властью (а хотелось бы: в л а с т и ю) природы. И голос Бога, сперва едва внятный, а ближе — влажнее и возвышеннее, какой-то болью отдавался во мне и в каждой моей клеточке. Клеточке души.
Домой я уже бежал подхлестываемый ливнем, под шумящим, мотающим по мгле вершинами лесом, под яркие высветы и дарящие дрожащий гул удары. Влетел на крыльцо и сразу попал в объятия взволнованной, пробужденной женщины. В ее шепот, причитания:
— Где ты? Весь мокрый! Мальчишка! Иди сюда! Слава Богу, цел! Иди. Раздену. Снимай все. Мокрое. Ой, господи…
А дальше поймете, что было. Стучащее сердце. Ненасытные губы. Руки. Тело. И сполохи, громы, шум ливня. Такое не забывается…
И все-таки… Этюды. Пейзажи. Пусть даже не заказные. Это была не моя стихия. Писал. Делал. Чувствовал. А в осадке, на глубине души, была сосущая пустота. Ощущение: не то пишу. Однажды сказал об этом хозяйке. Зарделась.
— Меня хочешь? Голую? Что-то я… Нет. Хоть в бане если… Или в рейтузах… Только лицо не надо. Или — не надо… Боюсь. Смотреть будут… Нет. Нет, Саша… Или — в бане, может…
Она явно не хотела меня огорчать. Про баню я еще не сказал. Баня была вершиной ее деятельности.
Обычно в пятницу или в субботу Нина всегда приходила с фермы пораньше и, если меня не было дома, заранее топила баню. Лукаво поглядывала на меня, вернувшегося, объявляла:
— А я баню истопила! Мыться пойдем… Вы, мужики, мыться не любите… Ну, ничо. Уж я тебя попарю, помучаю. Соскучился? — И если сказать правду, я словно скучал по банному ее действу и заранее предвкушал, что и как будет.
А было всегда почти одинаково, как по уставу. Густо заросшим огородом мы шли в баню. В темном прохладном предбаннике она раздевалась, но никогда не догола. Оставалась в панталонах и раздевала меня. Как маленького. Ей так нравилось. И мне — тоже. Раздев меня, она пропускала впереди себя в жаркую мыльную и говорила заботливо-нараспев:
— Чтой-то ты, мальчик, меня седни мало хочешь? Ну-ка, я тебя сейчас заставлю. Ну-ка, встань ко мне, попку поверни. — Стояла передо мной, бесстыдно усмехаясь. Широкая, с большими, свисающими от тяжести грудями, с прекрасным выпуклым животом и бедрами вразворот и что-то пряча за спиной. — Давай-давай становись, вот я тебя сейчас. Будешь знать, как не хотеть!
За спиной в руке у нее были намоченные вербовые прутья, и она вдруг сладостно-больно стегала меня. И хотя я знал заранее всю эту сцену — мое желание было всегда будто новым, невиданным, неслыханным, и это небольшое, в общем, придуманное ею наказание действительно дико возбуждало меня.
Потом уже, войдя в ее плотную вздрагивающую, умело и ловко доящую меня глубину, я еле удерживался от подступающей разрядки. И, чувствуя это, она замедлялась, стонала, но все-таки заканчивала быстрее меня и спрыгивала с лавки.
В любом случае это было только начало.
Дальше мы начинали мыться. И опять, как заботливая мать младенца, она мыла меня, окатывала водой из ковшика, промывала щиплющие мылом глаза. Целовала и причитала, как это делают, когда моют младенцев. А мне было сладко, смешно и стыдно. Почему я чувствовал себя так, как мог представить себя только в самом раннем детстве, когда моя настоящая мать водила меня в женскую баню, и там, среди ора младенцев, голых огромных женщин, звона тазов и шума льющейся воды, я сидел в тесном тазике, и мать тоже мыла мою голову и глаза, больно стукая мылом по голове.
Особенно нежно она мыла мне все, чем только что я наслаждал ее. А вымыв, посмеиваясь, становилась коленями на пол и начинала меня сосать. Сначала она просто облизывала горячим, шершавым и будто не женским языком, потом, когда я твердел, рукой втыкала в округленные губы и вдруг присасывалась до тянущей боли, вбирала и словно глотала меня. Я не мог удержаться от крика. Но и сама она, как безумная, глухонемая, урчала, стонала, высасывала и, доведя до предела, спускала измокшие панталоны и опять соединялась со мной.
Я выходил из бани вымытый и опустошенный, будто без тела, со звоном в ушах и полный истомой.
Пили чай и валились в кровать с одним чувством: спать, спать, спа-а-ать… Спа…
Такая была ее баня.
Впрочем, и не всегда такая. Иногда она заставляла меня сперва хлестать ее веником, а потом ивовой розгой и, вдохновляясь, кричала:
— Да пори же! Крепче! Больней! О-о! Еще! Да по всей жопе! Чтоб больно было! Так! Так! Ой, маль-чик! Еще! Еще!
Огромные ягодицы вздрагивали, накалялись. И можно было поражаться ее силе и выдумкам. Она была ненасытна.
Вымывшись, она некоторое время сидела на полке. Не то отдыхала, не то раздумывала, не решалась, как сказать, но, решившись, говорила странным низким голосом:
— Хороший ты мужик. А все-таки тише бабы. Баба — зверь. Хоть бы и я. Ну-ка, сделай мне… Это.
«Это» — я знал и делал, надо сказать, без большой охоты. Все время торчал у меня перед глазами как бы ее прошлый, пусть давний и далекий, муж. Ведь он все-таки у нее был. И делал ей ЭТО. Я преодолевал.
Она ложилась полной спиной на полок. Большая. Вымытая. Раздвигала ноги, согнутые в коленях. И сама разводила руками створки своей раковины. Эта раковина, однако, прелестной и близкой к перламутру сущности, содержала еще небольшие, странно маленькие даже, створочки, меж которыми, возглавляя их, был крохотный «носик», мысок, или просто возвышение, а вниз, в глубину к темнеющему колодцу, спускалась влажная скользящая гладкость.
— Делай мне! — приказывала она властным, напряженным голосом.
И я «делал».
Ее мокрые терпко-горячие бедра тяжело стискивали, охватывали с боков мою голову. Ее пальчик-мысок бился и прыгал, кружил под моим языком. А женщина гортанно вскрикивала, дергалась, билась, когда я сильно сжимал его губами. Постепенно и я входил в азарт, в ненасытность. Лизал, целовал, всасывал, вгонял язык в ее горячую, пахучую, шершавую, влажно-терпкую глубь, пока она не обливала меня, едва не лишая жизни своим сжатием-биением бедер. Раз, другой, третий… И наконец отпускала. Ноги размыкались, она тяжело, без движения лежала, поглаживая живот сытой рукой. Удовлетворенная, напоенная, вспаханная, влажная, насыщенная лаской природа.
Потом природа эта еще мыла, умывала, окатывала меня. И часто, бывало, ее умывание кончалось новой немилосердной дойкой.
Но как спалось после такой бани! На утопающей мягкой сетке, на пышной перине и согреваемый еще живым теплом этой горячей женщины в обломной тишине деревенской ночи, я спал и видел какие-то райские цветные сны, радостные, майские, так что трепетала душа, и спокойная до медитации, до упоенного расслабления, такого сильного, что, когда я просыпался, будто не чувствовал тела, а ноги и руки были совсем как чужие, немые и, потихоньку движимые лишь одним моим сознанием, возвращались к жизни. Лишь теперь я понимал, что такое отдых, когда оставалась, плавала, жила отдельно, без тела, почти не соединенная с ним душа.
Таких пробуждений у меня даже с Надей не было. Там часто была усталость, недосып. Беспокойство. Здесь ничего такого не было.
И часто, лежа так подле похрапывающей теплой, горячей даже, гладкой и мягкой женщины, я думал, как же обездолил себя сам, прожив четверть века без жены, без женщины, без всего этого, столь простого и нужного, оказывается. Прожил «без»…
В чем смысл и в чем счастье жизни? Нам втолковывали «в труде на благо Родины», и разные-всякие другие были лозунги и слова. И были словно люди, которые так и жили: «маяки», стахановцы, какая-то там Гаганова. А жить, наверное, надо было просто вот так: где-то работать, ну, хоть трактористом, иметь такую вот, или даже лучше, моложе, пышную, розовую, покладистую жену, избу, где никто не будет беспокоить тебя плясками по ночам, включать за полночь маг, не заорет дурноматом под окном. Да. Всего-то: Работу. Жену. Избу. И еще, конечно, здоровье.
Пахать поля. Возвращаться домой, зная, что тебя встретит ОНА. Хозяйка, добрая, добрейшая, улыбчивая, ждущая. Ужинать в теплой, натопленной кухне, зная, что ее хорошие руки поставят перед тобой тарелку, нальют тебе чай. А потом на такой вот мягкой раздольной кровати она насытит тебя своим родным домохозяйским телом, теплом, а ты насытишь ее. И будет мирный сон под постукивание ходиков. И так бы всю жизнь. Всю жизнь. Долго. Спокойно. Счастливо. И без всяких забот. Без раздумий о деньгах, которые где-то надо найти. Без холстов, подрамников, угля, красок, кистей. Поганых натурщиц. «Творческих поисков». И без этого странного звания Художник, которое заменяло имя, фамилию, должность и даже судьбу. Со званием этим я как будто начался, со званием этим и кончусь. Отмахано уже полстолетия. Впереди ни просвета. Непризнанный «гений», написавший уже столько картин, которые не видел никто и, может быть, никто вообще не увидит, — разве вот эти, написанные по заказу, контракту с директором гостиницы. Кому нужна так, понадобилась позарез хорошая живопись? В гостинице? Ну, будут смотреть, может, даже кто-то восторгается, а чаще картины мои попадут там под чей-нибудь пустой, равнодушный глаз, кто-то плеснет в них вином, они будут нюхать пьяную вонь, табачный дым, слушать наглый хохот постельных шлюх и будут портиться так же, как портятся люди, работающие там или вечно мотающиеся по гостиницам.
После таких раздумий было так жаль свои картины (я писал их сразу с полевых и лесных этюдов, сразу и «набело», и они цвели свежими красками, не замученные в мастерской, ясные, свежие — все эти луга с копнами, ельники в тумане по утрам, ночные поляны, вечера на реке, глухие опушки перед ночью, широкие августовские закаты, предгрозья, избы на заре и на тлеющем закате и молчаливые, спящие тополя. Место было здесь пейзажное, куда левитановскому плесу. Работал я без устали, сытый, довольный, вдохновленный, — но, я сказал, было жаль картины со ждущей их гостиничной судьбой — и тогда я стал писать сразу на двух подрамниках, как делали это некогда и Гоген, и Ван Гог. Писал сразу, а закончив такой дубль, выбирал лучшую для себя, а другую — гостинице. Так было, и стало легче. На душе легче.
Но часто уже, бросив кисти, и особенно перед возвращением «домой» (Хм. «Домой»!), я засиживался, бывало, до поздней зари где-нибудь у воды, к ночи принимавшей в свою поверхность все оттенки плавленых и остывающих небес, и думал: «Скоро ведь, скоро все это кончится. Кто я тут? Просто оказавшийся в выигрышной ситуации… Не то нахлебник, не то почти альфонс — этого еще не хватало! Деньги она не брала, но с каждой поездкой в город я заваливал ее подарками, снедью, чулками. Деньги были, и мне доставляло удовольствие все покупать. И все-таки я чувствовал какую-то гадостную свою неправоту. Тот мужичонка, зэк, мыкал сейчас мою судьбу, а я жил будто за его счет, за счет его радостей и его, как ни крути там, не мной нажитой жены.
Когда я приходил затемно, она ворчала:
— Где ты хоть? Чо так-то маяться? Я уж всякое думала. Ушел в лес с утра — и нету! Леший ты, однако, какой-то. Лесной. Не настоящие вы, мужики-художники. Все чо-то вам надо! НАДО. Выше головы. И заработок ваш — не поймешь. Был бы лучше вон на лесозаводе, в цеху. И все бы ясно. Иди мой руки! Садись ужинать. Обедать, чо ли? ХУДОЖНИК.
И ясно было: не одобряет… Странный. Нелегкий, а все будто пустой хлеб. Баловство вроде.
Предложил ей как-то опять написать ее. Вроде бы шутя предложил. Но она восприняла всерьез, насторожилась:
— Это как? Портрет, чо ли? Да нет… Не станешь ты портрет. Тебе голую меня надо? На голую я не согласна. Нет уж, нет, художник. Нет, Саша. Голую ты еще в гостиницу сдашь или… На выставку. И все будут смотреть… Нет.
Но в конце концов сдалась:
— В ритузах вот, если хочешь, для себя, напиши. И лицо — не надо. А так… В ритузах — ладно.
И я понял ясно впервые мне сказанное: «Для себя». Я написал ее, мощную, с распущенными волосами, в белых панталонах, стоящую перед своей раскрытой кроватью. Женщина обещала тому, кто ляжет с ней, бездну здоровых ненасытных наслаждений.
Позировала она ревниво. Строптиво. Оглядев этюд, заалела. «Похоже. Смешной ты… Все тебе чо-то надо… В гостиницу, смотри, не продавай. Не хочу».
Была она все-таки странная женщина. Горячая и холодная одновременно. Покорная и властная. Щедрая и скупая. И вредновата оказывалась. Могла как ледяной водой окатить. Чем дальше — тем больше не мог я к ней приспособиться.
Осень подошла незаметно, и я все еще писал этюды. Бродил по полям. Сделал «Золотую осень». Свою. Не левитановскую. Свои краски нашел, сюжет, реку и лес в других берегах. Написал и еще одну, последнюю, видно, ночную грозу. Господи! Как я расписался! Будто прирожденный пейзажист. И все, видимо, оттого, что меня провожал и встречал все-таки ласковый женский голос и взгляд, а к вечеру вполне определенное и настойчивое желание этой ненасытной зрелой женщины. Теперь это желание стало и моим, постоянным — не пропускалось ни одной ночи — и я только поражался, как мог так долго жить один, на «сухом» пайке, не представлял даже всей прелести этой регулярной «половой» жизни. Вспоминались мои детские размышления над этим, в общем-то, искусственно врачебным, выдуманным как бы словосочетанием. Что это еще за «жизнь» такая, особенная? Особая? И как это ей (ею?) живут? Ни отец мой, ни мать, похоже, вовсе и никогда ею (ей?) не жили и не хотели ее. Я же (словно с детства) хотел, но не жил и не мог жить. А вот теперь только, на шестом десятке своего бытия, жил уже третий месяц, втянулся, вошел в эти мужские и женские обязанности, а исполнял, кажется, все лучше.
«Раздоился!» — по-своему воспринимала, хохотала моя «доярка», в постели неистовствовала так, что панцирная кровать, кажется, уже стонала от напряжения.
Насытив меня и отъевшись сама, Нина, однако, никогда долго не ласкалась. Вообще, на ласку стала скупее. Очень скоро она засыпала, отвернув толстую покатую спину, и добудиться ее было невозможно, да, пожалуй, и незачем. Спала она всегда с легким храпом, к которому я с трудом притерпелся. Я прощал ей все, ведь утром она раньше меня была на ногах, свежая, веселая и даже готовая к новым подвигам в кровати. Частенько, обиходив корову, отправив ее в стадо, она еще приваливалась ко мне, вздремнуть, но рука ее уже явно и сразу требовала, а отказаться от прелестей роскошного, теплого, хотящего тела не было никакой возможности.
— Ох, здоров мужик! Уцелал меня всю! — хвалила бесстыдно, при мне моясь из ковшика над эмалированным тазом, который специально ставила для таких дел. — Налил мне опять полную… Я до тебя так не живала. Мужик слабее тебя был. Да и сытый, конечно… А ты дак все как голодный…
Натягивала, оправляла панталоны. Ходила теперь «в моих», новых. Глаза ярко блестели. Я же знал, что после этой утренней «дойки» теперь буду до вечера сонной мухой. Художнику ведь показан, прописан будто голод. Всякий. И как он мне за всю жизнь надоел! Но этюды после этого точно писались плохо. Долила зевота. Я даже пожаловался как-то со смехом.
— А ты чо сам не регулируешь? — бойко ответила она. Меня удовлетвори, а сам сдержись! Вот и все. Еще мать мне так говорила. Мужик пореже тратиться на бабе должен, а женщина — наоборот. Ишь зажаловался! Загоняла!!
И с той разборки стала как-то холодней — или казалось мне так?
А время летело. Моя работа была вся закончена. Я даже получил все деньги. Обеспечение лет на пять! И как всякий скот — не все ли мы скоты? — даже не позвонил Болотникову, чтоб сказать «спасибо», узнать хоть, как он живет.
Накупив снеди и подарков, опять мчался к Нине, в деревню.
Но с каждым разом, возвращаясь, я понимал — пора и уезжать. Деревня, если честно, уже надоела мне. Из золотой осень превращалась в мокрую, тоскливую и гнилую. А все откладывал отъезд. Я будто ждал от хозяйки каких-то намеков, решений и словно бы прояснений. И в самом деле, как было быть? Оставаться тут, сделаться «родственником» этой теплой, широкой, выпуклой женщины и «жить» на птичьих правах? Жениться на ней? Но она и намеков не делала на подобное обстоятельство и, может быть, еще трезвее меня представляла эту невозможную картину. Все-таки при живом муже. Тем более с близким к «размотке» сроком? Оставалось еще год-полтора. А кем буду тут я, в колхозе? Хо-хо! Художником? И потом в роли Отелло или еще какой подобной или дуэльной? На топорах? Как-то уж повелось на Руси, что соперник должен бегать за соперником с топором. Да что говорить… Смешно — и грустно. И вовсе даже — не смешно. Погано как-то становилось, если раздуматься.
Конечно, и хозяйка чувствовала эту обострившуюся двойственность нашего бытия. Помалкивала, но изредка ловиля на себе ее спрятанный, стесняюще-размышляющий взгляд. «А чо делать-то? Не уезжает сам. И гнать — неохота. Привыкла. Ну, а какой он мне все одно здесь помощник? Картинки рисует? Подарки дарит? А ведь не муж..»
Так, приблизительно, переводил я тайные мысли женщины, далеко не растерявшейся и не обескураженной, но как будто все-таки тоже укрепившейся в мысли, что надо как-то расстаться: «Пора и честь знать!» Пора..
Ах ты, проклятая интуиция художника! Ведь внутренне я уже тоже стал «собирать чемоданы, складывать манатки». Благо — было немного. Картонки. Рулончик чистого холста. Кисти-краски — все помещалось в двух этюдниках, походном, изляпанном, и поновее, скажем негожим словом, «стационарном», — он служил мольбертом, когда я писал картины уже не на природе — «пленэре», а тут, в комнате, у окна, «дома».
Всякая женщина, даже самая глупая, простейшая, ох как владеет чутьем, не хотел бы сказать животной, собачьей тем более, интуицией. Собаки ведь воют при этом, а женщины плачут, но плач этот, как понял я много спустя, не больше чем защита и способ валить вину ухода на «него». Ведь никакая женщина не говорит обычно: «Я его…», а всегда: «ОН МЕНЯ!»
Вечера два-три прошло в каком-то скрываемом оцепенении, полураздраженности. Хотя после ужина все опять было вроде по-заведенному. Раскрытая постель. Взбитые подушки. Распущенные волосы. Деловито оправленные, продемонстрированные панталоны. Жаркая рука, делавшая привычное и умелое. Белый жаждущий зад, который долго спокойно-настойчиво побеждал, подводил к финалу под ускоренные, ускоряющиеся стоны и вскрики и разрешался привычным горячим всплеском, когда оба, изогнутые и дрожащие, судорожно кончали, валились на бок, тяжело дыша, оба во власти еще неразрывного как бы родства, преисполненной освобожденности, переходящей в маетную отдохновенную истому, горячий шепот: «Ой, какой ты мужик! Ой, как хорошо… Все., еще… Все еще… О-о-й. О-о..» А потом сквозь неубранные с лица волосы тот же спрашивающий, беспощадный глаз.
Все-таки я дурак. Тянул чего-то. Ждал, зная, что все без толку, — и дождался.
— Знаешь?! — с порога встретила меня Нина. — Известие-то какое! Мужик у меня выходит. Амнистия будто обязательно будет перед Октябрьскими. Напарник его пишет… Что оба выходят… Вот соседка пересказывала.
— Значит… Уезжаю… — пробормотал, краснея, стыдясь за себя. «Дурак! Дурак! Дура-чи-на! Расквасился тут, гад».
— Да как это мы расстанемся-то-о! Как это теперь-то я жить без тебя стану?
Плач. Переходящий в рыдание. Не верьте, не верьте, братья. Все такие же дураки, кто верит в постельную любовь. Плач. Но быстро высыхают слезы. И вину-то — если это вина! — надо хоть как-то свалить с себя.
— Тебе-то, видно, хоть бы чо-о-о… Погостевал — и айда! В городе, чай, не одна баба ждет… О-о-ох… О-о-о..
Не верьте, братья.
Никто не ждал меня в городе. Опять тоска одинокой проклятой жизни. Опять бесконечный поиск кого-то и чего-то. Опять одинокие ночи, когда душу мою, всем уже пуганную, когтит страх и давит дикое ощущение неприслоненности ни к кому, ни с кем. Теперь оно станет лишь еще горше, обреченнее… Ни к кому. Ни с кем… Ни с кем!
Даже в лагере, знал, такое не накатывало. Не испытывал. Там другая была маета, другое ждалось, другим гасилось.
И последняя ночь. Вся. До рассвета. И уже без придирок, без того, сквозь волосы, глаза-взгляда. Я входил в эту ночь неохотно. Но руки этой опытной, всезнающей женщины вершили невозможное, тело было так пышно, горячо и зовуще. Губы, язык ненасытны, ласки готовы вынуть душу. И я сдался. Я был в эту ночь рабом какой-то дикой провинциальной Мессалины, и она доказывала мне, что Мессалины бывают всюду, есть всегда, везде…
Едва я кончил под ее привычные вскрикивания, как уже снова она притиснулась ко мне, и я не мог отвести ее руки, обнимавшие, ласкавшие меня, ее живот ходил по мне тяжелой, пульсирующей ненасытностью, она, одновременно впиваясь в меня губами, наседая, массируя меня этим страстным животом, чувствуя, что я снова с дрожью хочу, шептала: «Погоди, я другие надену… Панталоны… Я в них новая буду… Вот! Гляди!» Надевала. Спускала… И опять, будто впрямь другая, отдавалась мне, а голос сменялся на все более низкий и стонущий.
К утру на стуле, где висело ее платье, на полу, на кровати валялось пять снятых мятых панталон: белые, голубые, розовые, черные, желтые.
Вечером я ушел на станцию. И она не провожала меня. Только расцеловала, пообнимала, пообещала приезжать. «Ну, хоть раз в месяц буду…» Условились, что напишет. Никаких писем я не получил. Не написал и сам. И она, конечно, ни разу не приехала…
Глава VII. ХУДОЖНИК БОЛОТНИКОВ
Моей новой мечтой… Да новой ли? Конечно, нет. Вечной… В подсознании… Было написать «Рождение Венеры». Афродиты. Уж сколько раз и сколько художников брались за это «рождение» и как только ее, Афродиту, не писали! А все — мимо. Никто не достиг. Везде она была не Афродита и не богиня, а женщина, даже баба, как у Кустодиева. Литая плоть и мыльная пена. И лучше бы уж не Венерой назвал… А «Баба в бане». Или «Русская баня»! Все было бы проще, яснее. Я мог бы тоже такую «Венеру» написать. Не хуже, по памяти. Как мылся с Ниной в бане и она предавалась парному разгулу с усердием голодной сельской блудницы. Какая там Венера! Ближе всех к решению был, пожалуй, Боттичелли с Венерой на раковине. Божественное лицо его Афродиты пленяло меня. В нем было уже возвышенное. Взгляд. Кротость лица. Ясность тонов. Но Боттичелли дико повезло с натурщицей. То была его возлюбленная, и, может быть, века надо искать такую, да еще чтоб согласилась позировать, да еще чтобы ангельская эта кротость — красота! Вот он-то нашел, хоть пороху и у него не хватило создать картину! Ушел в аллегорию. Однако, найдя лицо, он явно уже не нашел тело. Вглядитесь в его Венеру — нет тела, нет величайшей его красоты, есть только лицо, голова, взгляд. Я же хотел написать «рождение» именно в самых прекрасных формах. И опять искал, искал, искал! Лицо — его, видимо, проще, — оно находилось. Такую Афродиту я видел в какой-то девушке, явно из провинции, — с подружкой подбирала себе платье в магазине, и подступиться к ним не было никакой возможности. Пока я жадно вглядывался, стараясь точнее уловить лицо, его выражение, пока терся возле, девчонки, принимая меня явно за карманника, засуетились, заспешили, бросили мне злобные взгляды. Куда тут знакомиться?
Еще одну «Афродиту» увидел в девчонке-подростке, что ехала в трамвае. И она, совсем юная Афродита, даже уставилась на мой зовущий, всасывающий, вбирающий ли взгляд, приоткрыла детский влажный розовый ротик. Но при этой бутонной Афродите была гневливая с виду старуха, бабушка скорее, похожая на злую колдунью, и бабушка дернула Афродиту за руку, как бы призывая внучку одуматься, не смотреть в сторону похабного этого мужика. Еще чего! Счас столько насильников! Постыдился бы! ТАК смотреть! У самого внучка, поди! НАХАЛ! О, бабушка, бабушка, старая дура, ты, наверное, очень была права.
А я просто искал Афродиту. Я действительно искал ее всю мою жизнь, а она, Афродита, лишь смеялась надо мной, принимая облики совсем не ангельские и не божественные, являясь более чем в плотском обличье. Надя… Валя… Нина… Тамара… Вера… Кто там еще? Я испортил немало альбомов, картонов, просто бумаги, пытаясь интуитивно ЕЕ найти, будто вычислить. И ничего не удавалось. Чувствовал — не то! Разве что ЛИЦО той девчонки Афродиты все-таки поймал, украл! У старухи ведьмы! И радовался, что удалось сохранить, не расплескав. Но телом ни та девчонка, ни какие бы то ни было другие женщины не подходили для образа. Я хотел создать завораживающее чудо в сочетании лица и тела БОГИНИ. И тело ее должно было быть феноменальным! Сочетанием плоти и надземности, а таким вряд ли обладала женщина вообще. Но почему-то, я думал, обладала. О, сколько я сделал набросков этого ТЕЛА БОГИНИ, его изгибов, округлых форм, его сладкой магнитной мощи, его манящего сладострастия в каждом овале, и все равно чего-то недоставало. А я понимал, не хватало все-таки живой натуры — способной на немыслимое. Я бросал картон, принимался задругой, за следующий — и так до изнеможения, до ватного, пустого отупения, до состояния, когда бы лучше уж застрелиться — было бы из чего, — легкая смерть и художнику открытое освобождение.
Да, Афродита мучила меня не только наяву. Мучила в моих странных цветных снах и в муках моего неудовлетворенного, теперь еще более остро голодающего мужского тела. Сколько этих голодных мук выпало на мою по-лустолетнюю жизнь? Вся без женщины, лишь с краткими вспышками, как бесконечная затяжная гроза, когда за блеснувшей радостной молнией неизбежен отрезвляющий гром, а за ним холодный, леденящий душу ливень тоски и страдания, и тогда одно спасенье — нарыдаться, наплакаться втихомолку от всех и ждать, пока гроза в тебе и в душе утихнет, уйдет на дальние горизонты памяти и там будет уже поблескивать не столь мучительным, что ли, беззвучным дрожанием сполохов и зарниц.
Каждая прожитая мной женщина была такой. И мука невоплощенности наслаивалась и уже сгибала меня. Мне шел пятьдесят четвертый год. Пора художнику уже складывать кисти и жить, коль уже не достигнутой славой — хотя бы каким-то подобием удовлетворенности. Да. Жил-был. Писал. В галереях остался. Где-то еще картины, разбежались по частным собраниям…
Но мои картины не украшали галерей. Их не печатали на цветных вклейках в больших журналах. Знатоки и ценители не удостаивали их своим просвещенным вниманием. На них не строчили хвалебно-восторженные оценки-рецензии вдохновенные критики от искусства. Мои картины сохли, повернутые к стене, и я не знал, когда кончится срок их заключения или грянет расстрельный залп.
В ту зиму после деревни я поседел, как волк-перестарок на втором склоне своего волчьего бытия. Женщиной снова отравился тяжело, долго; но жил по-прежнему и все с мечтой теперь найти девушку, много моложе меня и такую, чтоб была вдохновляющей натурой и чтоб можно было рискнуть на ней жениться. Теперь я уже мечтал об этом, как о несбыточном. Мечтал — красивая молодая жена будет хозяйничать на моей кухне, поить меня чаем, стряпать пирожки, а потом она будет читать или смотреть телевизор, а я буду писать ее прелести, всякий раз наслаждаясь ее присутствием и ее отраженной красотой. Жизнь в целом складывалась вроде бы сносно, есть деньги, не надо метаться в поисках заработка. Но по-прежнему оставался изгоем. Не было и речи о приеме меня в Союз художников, на выставки не то что зональные — на областные и городские — не брали мои картины, и я уже сделал из одной стены моей квартиры хранилище-отсек, куда ставил картоны и холсты — благо еще было их немного. И хотя картину я писал по-прежнему стремительно, обдумывал и готовился дольше некуда. В год получалось два, много три овеществленных замысла. Не главных, второстепенных. Этюды не считал и многие попросту счищал. Зачем плодить количество?
Но квартира моя, устеленная коврами, выглядела солидно. Сам тоже, как говаривали в зонах, «прибарахлился», сменил облик забубённого живописца на более цивилизованный облик «картинщика»-станковиста. И еще, самое-самое-самое главное! Господи! Самое-самое! Я ВСТАВИЛ ЗУБЫ. И опять помог Болотников, с ним мы встретились случаем у поликлиники. И впервые я не обрадовался, а испугался. Болотников брел, как мертвец, исхудалый, пергаментный. Даже веки ввалились, глаза же видели словно уже неизбежное.
— Николай Семенович! Что с вами? — не удержался, бросился.
— Что? Ах? Это ты, Саша? Что… Старость.
— Да какая такая ВАША старость? Вы разболелись?
— А старость, Саша, это и есть болезнь. Души. Сначала всегда души. Потом — тела. Душой я болен давно. И вот — хожу… Лечусь… — он слабо усмехнулся. — Я — лечусь… Ты — лечишься… Он-она-оно — лечится… Мы — лечимся. Вы лечитесь… А они, Саша, — ЛЕЧАТ. Спина болит. Спина. Я теперь, наверное, уже не Болотников, а Спиноза.
Он все пытался шутить.
— А ты?
— А я… Я без зубов.
— Как же это? Боишься?
Помотал головой.
— Ты-ы? Смеш-но..
— Боюсь — и все. Так живу.
— Да ведь это растрата! Из-за этого ты потерял половину своих женщин!
— Если бы половину… Всех!
— Тогда вот что… Немедленно… То есть с завтра (он так сказал: «с завтра!») ты пойдешь к знакомому моему врачу. Это Луговец Владимир Михайлович! Он работает здесь. И ты передашь ему мой привет. А он тебе за неделю сделает зубы. Понял? За неделю. И не вздумай уклоняться, потому что ты подведешь меня, а я Луговцу уже позвонил. Считай, что так.
На мертвенном лице Болотникова родилась та братская улыбка, которую я так любил. Улыбка сильного, мудрого, многознающего, которого и хочешь, да не поставишь рядом с собой. Но в улыбке той не было надменности. Она была словно детская. Так улыбаются только очень умные и очень уверенные в себе дети.
— Ты все понял? Кстати, Луговец — великий любитель женщин. О них он может говорить без конца! Вы найдете общую тему. Ты даже можешь ему что-нибудь подарить. Какое-нибудь «Ню», но — хорошее, гениальное! Денег он не берет. Человек честнейший! И он сделает тебе зубы. И ты пригласишь меня в гости. Я ни разу у тебя не был! Тоже мне друг, ученик! Хочу наконец посмотреть, что ты там напахал. Да. И тебе, может быть, что-то я покажу… В общем, иди к Луговцу. Иди к Луговцу! Узнай, когда принимает и… Без разговоров!
На следующий день меня принял ухмыльчивый, весь какой-то настоянный на улыбках, улыбках снисхождения, как все эскулапы, врач. Он был мал ростом, худ, лыс, но кучерявая шевелюра все-таки обрамляла его желтую лысину. Большой насмешливый нос и крупные губы изобличали в нем сластолюбца. Но я сразу полюбил этого человека. У него были мягкие, добрые, совсем не больно трогавшие меня руки. И врачебные инструменты в этих руках были нестрашные. В кресло я сел под его шуточки-ухмылки спокойно. Даже чтобы я открыл рот, он говорил до смешного просто:
— Окройте! Пошире! Ну, что там? Корни? Ничего. Прекрасно. Удалять не надо. Не беспокоят и не надо. Пусть живут. Я сделаю вам такие зубки. Девчонки бегать будут. Ну-ка, еще окройте! Таки белы зубки — закачаетесь. Самую толстую красавицу захватим.
— Вы любите полных?
— Обо-жаю!
— И я тоже. Даже толстых!
— А что же такое, по-вашему, худая жинка? Таки — суповой набор. Без навара. Ну, я понимаю. На их тоже глаз есть… Но я предпочитаю, чтоб попка была мясная.
— Как же вы с ними обходитесь?
— А что?
— Удается?
— А что женщине нужно? К женщине нужно таки только: ласка и смелость. Смелость вперед. Потом ласка. И все. Это ничего для… Вот я. Вот смотрите. Что? Красавец? Нет. А вы думаете, они меня не любят? Ешчо как любят! Потому что я смелый. Я када лысел — переживал. А потом сказал себе: тьфу! Чего я переживаю? Дурной волос умну голову покинул. И все. Меня любят. И вот вам я зубки сделаю. Отбою не будет. Николай Семенович сказал, что вы в основном женщин пишете?
— Стараюсь.
— И полных?
— Именно их.
— А мне бы показали?
— Я вам подарю один этюд. Толстушку в бане. Если пожелаете.
— Ну, что вы? Вот я напросился…
— Да я вам от души! Вы же меня спасаете! И работаете со мной сверхурочно.
— Ну, толстушку посмотрю! Обожаю. Окройте! Так. Закройте. Еще окройте! Сделаю зубки — никто не догадается, что не ваши!
И, говоря все это, он совал мне в рот вату, какие-то железки, гипс, а я только подчинялся его умелым приказам.
— Все! Закройте. Откройте. Все! Через три дня будут зубки. Примерим. Приходите в ето же время.
Я ушел от Луговца как освещенный солнышком. И дорогой все клял себя: сколько времени потерял, страдал из-за этой своей ужасной беззубости. Да, в общем, при чем тут она? Смелости, смелости у меня не было. Прав Луговец! «Окрыл?» Истину?
Через три дня, и опять без всякой почти боли, мороки, сверлильных пыток, он поднес мне зеркало ко рту.
— Ну? Окройте? Улыбнитесь. Так. Скажите: Мама! Х-хе-хе… Хе… То-то! А боялись. Вы теперь же неотразимы. Нет слов.
Этюд же мой принял как великий дар и так расхвалил, что мне стало не по себе. Я отдал ему один из картонов, где написал по памяти Нину. Мо-ю. Ни-ну. «Мо-ю». Вот так… И вот такие теперь у меня зубы. Я словно стал с ними выше ростом и на десять лет моложе. Какие там пятьдесят с гаком? И сорока теперь никто не даст. Разве что волчья эта, на память о зоне, крутая соль-седина. Седину, говорят, женщины не бракуют. Ничего, проживем. А главное, я могу теперь улыбаться!
И я улыбался! Я был на коне! Улыбался продавщицам в магазине, раздатчицам в кафе, официанткам в столовой. Улыбался по нужде и без нужды. Я просто вновь расцвел душой. Какие там «аморфоны-телергоны» лезли теперь из меня. И заметил, на меня все чаще заглядывали женщины. Я решил играть ва-банк и купил себе норковую шапку, шотландское демисезонное пальто и голландские ботинки. Знай наших! Ведь если красота десять, то девять десятых ее составляет одежда.
Готовясь к приему Болотникова, я накупил полный холодильник снеди, колбас, дорогих консервов, вин, шоколаду, водок-коньяков и даже шампанское, которое отродясь не пил, но и не то что не мог купить, а просто не было повода. Я обнаружил незнакомое мне свойство. Оказывается, я любил покупать и щедро транжирить деньги — тратить весомо, достойно, не оглядываясь. Попробуйте — в этом есть сладость. Улыбаясь, модно одетому, класть на прилавок небрежно крупные, достойные бумажки.
Надо было теперь ехать к Николаю Семеновичу. Хвастать так хвастать! Отправился не раздумывая. Хвастуны всегда думают только о себе. Любят себя.
В знакомом подъезде, с запахом давнего, будто века тут прошли, обустроенного жилья, позвонил у обитой дерматином двери. Никого. Позвонил еще и еще. Досадовал на себя. Нет чтоб предупредить по телефону! Дикая, охламон-ская привычка лезть вот так. А его, видно, и дома… Нет? Из глубины квартиры, однако, голос:
— Сейчас… Сейчас… Подождите!
А еще минут через пять совсем больной голос:
— Кто там? А… Заходи.
Медленно отворилась дверь. Я увидел Болотникова таким, каким не видал никогда: выпитое, ссохлое, желтое лицо, замученный взгляд, ночная рубашка с подвернутыми рукавами, брюки застегнуты кое-как. Тапочки-шлепанцы на ногах.
— Заходи. Разболелся я… Спина.
Он провел меня в уже знакомую то ли гостиную, то ли мастерскую. Ушел ставить чай. Согбенный. Немощный. Как страшно было, было видеть-думать это о не столь давно бодром, медальном, казалось, никому-ничему не подвластном человеке, который был словно бы выше судьбы.
Оставшись один, я окинул комнату снова. Все на месте. И та же пустая, задрапированная ровным холстом стена. Зачем она ему такая? Картину, что ли, собирался — во всю стену, как Рубенс?
Болотников появился с тем же чайником, теми же конфетами и сухим хлебом, нарезанным, однако, аккуратными, культурными ломтиками. Дома я хлеб кроил всегда крупными кусками, отрезая от булки краюхами-«пайкой». Так было вроде привычней, сытей. Болотников достал к чаю засохший сыр и сам усмехнулся.
— Завтрак аристократов..
Да я, Николай Семенович! Не чаи же гонять. Я спасибо сказать, за зубки. Во какие! — улыбнулся во всю пасть. Хорошо-то как! Помолодел… (И стыдно даже стало за свою хвастню.) Я картины еще показать… Собирались… Ко мне?
— Показать… Да.. — со стоном опустился в кресло. — Подыхаю, кажется… Выработан ресурс, и пора в переплавку. Переплавки, Саша, не боюсь. Опять ведь жизнь будет. Ну, другая, иная, а снова маета… Только бы не в России, не при этой власти хотя бы воскреснуть. Родиться.
— Что вы, Николай Семенович, — мямлил я, — не..
— А ничего… Врут эскулапы. И ложь-то ведь даже не во спасение. Никакой это не радикулит, не хондроз! Рачок, Саша, рачок… «Что, доктор, рак у меня? Да?» — «Рачок, — говорит, — ра-чо-ок, дорогой». — «Доктор. А я помру?» — «Обязательно, дорогой, обя-за-тельно». Вот и вся она, медицина. Да и хрен с ней! Боль, Саша, мучает и ноги. И ноги особенно. Слабость такая, будто я пуды ворочаю. Я спать не могу — боль. Знаешь что? Раз чаю не хочешь — выставку мою посмотри. А потом — к тебе. Идет?
— Как же… Вы?? — растерялся я.
— Такси вызовем. Вот телефон — и поедем. Дела?
Про себя я подумал, что олух я и охламон. Но ведь я никогда и не жил на квартире с телефоном? Не привык пользоваться благами цивилизации.
— Ну, ладно. Чаю мы все-таки хлебнем. А ты вот пойди, — указал на укрытую холстом стену, — сбоку там шнуры, видишь? Это блоки — потяни вниз! Иди-иди! — заметив мое недоумение. — Иди!
Я послушно повиновался. Нашел шнуры, потянул. Холст начал накручиваться на палку-гардину, лежавшую на полу. Гардина эта поползла вверх. Холст оказался просто огромной шторой. И когда я вытянул его под потолок, Болотников велел привязать шнур к трубе отопления.
А я запоздало ахнул.
На стене был цикл картин на одну тему: «Женщина». И точнее бы: «Женщина во плоти».
О, какие женщины были тут написаны! Красавицы и блудницы. Монстры и вампирки. Обнявшиеся лесбиянки. Лесбиянки соединяющиеся. Изогнутые и запрокинувшиеся. Женщины в бане с розовыми лосными задами. Женщины на приеме у врача. Женщины над тазом. (Что там Дега!) Женщины в постели. И везде, всюду без мужчин. Мужчин в картинах Болотникова не было.
— Мужчины — это будут зрители моих картин, — уловив мысль, хрипло сказал Николай Семенович.
В центре же этого собрания висело действительно прекрасное полотно.
Девушка совершеннейших форм на богатом, сверкающем атласом ложе предавалась мастурбации. Окруженная рабынями или служанками, каждая из которых была соблазнительна по-своему. Она лежала на спине и рабыни, склонясь, кормили ее грудями, лизали раскинутое лоно и даже мочились в ладони.
— Моя гордость… Это — Мессалина! — пробормотал Болотников. Ошеломленный, я лишь отступил шага на два от этого сонма картин.
То была живопись без меры чувственная, цветущая, запредельная, полыхающая свежими тонами. Живопись во имя Живописи. Краски были свежи и чисты, словно положены вчера. Линии рисунков исполнены виртуозного мастерства. Девять картин, одна другой лучше, свежее, необычнее, — таких не увидишь в музеях-галереях. Нигде. Никогда. НИГДЕ.
Я смотрел. Но радостное ощущение собственной независтливости не покидало меня. Да. Болотников оказался моим предтечей, моим истинным учителем, но все-таки теперь я знал, что превзошел учителя. Мои «женщины» от Нади до «Евы» и Нины были еще выше, еще совершеннее.
— Как? — Болотников словно ожил. Лицо порозовело. Глаза сияли. Обмануться в моем впечатлении было нельзя.
— Могу только поздравить! Картины потрясают. Такую бы выставку — и народ валил валом!
— Да. А меня бы отправили в психушку. И все это объявили порнографией. Так? Так! Я знаю, в Лувре и в других музеях мира немало стоит в запасниках полотен, которые не открыты даже специалистам! О, Саша! Есть еще неведомый никому Тициан, и Веронез, и Босх, и другие, особенно фламандцы-голландцы. Они писали неистовые вакханалии, а мы знаем (да знаем ли?) только классику. Ну, Рубенс, ну, кто там еще, Йордане, может быть, Лотрек. И вот представь я сейчас вакхическое действо, хоть «а-ля Рубенс». Что было бы? Ее к сожжению, и меня — на Соловки! Вот так, дорогой мой! Так. Теперь же выбери себе любую. Да-да! Я тебе дарю любую из них! И подпишу, пока жив. Хочешь — бери «Мессалину». Кстати, с нее, единственной, есть копия, повторение. У директора гостиницы. Когда-то я очень нуждался, а он заплатил щедро. Бери, выбирай. Я обижусь, Саша… Если не возьмешь. Дни мои сочтены. А картины — проданы. Оптом. И я оговорил, что оставлю себе одну. На мой выбор. Бери. Не завтра-послезавтра меня вынесут отсюда. Следом уйдут и картины. Я, Саша, кстати, богатый сегодня. Сто тысяч! Это деньги! Еще какие, небывалые. Истратить уже поздно… Вот так бывает в жизни.
Я слушал его потрясенно. Теперь он распоряжал-ся, как делают это знающие неизбежное.
— Бери «Мессалину»! Чего там? И копия есть у гостинодворца. Или вот этих «розовых». Баня. Какие, Саша, у меня натуры тогда были! Какие натуры! И «Мессалина» тоже! Она же с натуры написана.
— Почему вы написали ее такой молодой? — вырвалось у меня.
— А потому, мой милый, что ты, видимо, представляешь ее старухой! Ей же было, когда Клавдий казнил ее за распутство, всего 24 года!
— Трудно поверить!
— И тем не менее так.
Я взял себе все-таки «розовых». Болотников усмехался. Он словно бы пришел в себя. Пил чай. Мы ждали заказанное такси. А через полчаса уже неслись по вечереющему городу.
— О, Господи! Что это ты, Саша, устроил?! — журил и ругал меня Болотников. — Зачем это? Такой стол! И даже шампанское! Коньяк? Икры не приготовил? И она есть? Ну, Саша. А кстати, ты знаешь, что сказал Гитлер, отведав икры? Он сказал, что продукт этот вкусный, но стоит «греховно дорого»!
Он расхвалил мою квартиру. Ему все понравилось. Но я понимал, откуда идет его щедрость. Эта щедрость хвалы уже была без присущей всем людям зависти. Болотников был просто ВЫШЕ. «И думы мои и дела мои выше дум и дел ваших».
Но когда я стал доставать из шкафов картины, Николай Семенович нашел снова свое верное отношение. Сидя в кресле, он молчал. Я же расставлял картины у стен, на софе, на стульях, на… Слава Господу, картин все-таки было немного. Хотя и больше того, что показал он мне.
Я поставил на обозрение: «Надю», «Красавицу», «Еву», «Лесбиянку», «Мону Лизу-Джоконду», «Блудницу», «Европу» и, подумав, добавил «Женщину в голубых панталонах». Это было все… Картоны и наброски я не расставлял.
Болотников примолк. Он просто вдумчиво смотрел на мои творения. Даже самому предубежденному бросилось бы в глаза, насколько сильно они превосходили только что виденные его полотна — моего учителя. Они тоже сияли, светились, переливались красками, они жили, и женщины на них были живые, соблазняющие, бесстыжие, нежные и плотские.
Я молчал. Молчал и мой учитель. Вот он с трудом встал, подошел к картинам ближе, отступая на шаг-два, обошел их все.
Я следил за его лицом. Оно менялось. Сначала оно выразило почти тяжелую враждебность. (Он тоже был человек, и зависть художника к художнику не могла обойти его, как не обошла бы, уверен, и меня. Зависть художника к художнику.) Но постепенно темно-пасмурное лицо учителя посветлело и, вне моего участия, обрело радостную тональность — насколько ее могло выразить изможденное, истерзанное болезнью лицо.
И наконец, обернувшись ко мне, разжав тонкие бескровные губы, Болотников сказал:
— Ты победил, Саша! Я потрясен тем, что увидел. Да… Ты победил учителя. И еще с каким счетом! И я… Я, Саша, рад этой твоей победе. Было бы гораздо хуже, если б я остался победителем. Это значит — я прожил жизнь зря. Ты знаешь — это меня терзало. Не то, что мои картины не удостоились выставок, ушли в частные руки, что я не пожал славы, что их не видели «массы».. А то, что своей жизнью я не выразил идею, красоту! Не смог, не хватило сил и даже, конечно, таланта. Жизнь в этом удушливом, аммиачном слое, конечно, лишила меня многого. Я бился, как бабочка в морилке, и ничего не мог пробить… А ты — сумел… Твои картины достойны лучших галерей мира! Это я тебе говорю всерьез! Любую из них можно в Третьяковку, в Русский, в Лувр, в «Метрополитен»! И не возьмут только из-за идеологии. Какой союз! Тебе бы мантию академика! О, как я рад! Я поздравляю тебя! И преклоняюсь перед твоим мастерством! Картины твои все равно прошибут стены! Пиши дальше так же! И лучше, если сможешь! Плюй на все запреты! На все каноны! На эту проклятую тюрьму — идеологию. И — давай выпьем! За тебя! За твою жизнь! И за то, чтобы ты пробился! Выпьем! Я, кажется, в последний раз счастлив!
Но сидели мы недолго. Болотников чувствовал себя плохо. Крепился. Я видел боль, стоявшую в его глазах. Воспринимал ее как свою вину. И потому побежал на улицу. Почти тотчас нашел такси (как раз заехало во двор) и так увез учителя домой. Условились, что буду заходить, звонить, проведывать часто.
И я позвонил ему через день.
Незнакомый женский голос спросил, кто я.
— Ученик, — ответил я, почуяв неладное.
— Николая Семеновича уже нет. Вчера вечером он скончался. Похороны послезавтра. Из Союза…
Бытует мнение — одинокого художника некому хоронить. Не так. Толпа у подъезда была, на удивление, велика. Художники — народ согласованный. Их было много. И многие ведь учились у Болотникова. Почти все мне были знакомы и незнакомы одновременно. Не будучи «членом Союза», я не принимал участия во всех их собраниях-заседаниях. А если встречался на «персоналках», на вернисажах и выставках, я был для них просто зритель и, в лучшем случае, какой-то «любитель», умелец.
Я был здесь — художник-невидимка. Ведь я не показывал своих работ. Не пил. Не кумился. Не подвизгивал авторитетам. В число их уже прочно вошли все наши «трутни». Семенов, Лебединский, Борщевский, потерялся только Замошкин. Слышно было, уехал в столицу. Но там засох. Знал меня еще председатель Союза — вот кивнул небрежно. Он видел мою живопись, — это когда я пытался вступить в Союз, — и это было глубокомысленное замечание: «Безнравственно, хотя и мастеровито! Но я не пойму вашей живописи. К чему она зовет?»
Помнится, мы коротко поспорили:
— Но разве живопись, картина вообще обязательно должна куда-то звать?
— Вы задаете школьный вопрос, — важно ответил он. — Живопись без идей — аморальна. Что возбудят в зрителе ваши «НЮ»?
— А что возбуждает, допустим, Ренуар? Модильяни?
— Вы забываете, что они не были мастерами социалистического реализма…
Сейчас этот седой величавый господин в черной бархатной куртке, с крепом на рукаве, руководивший церемонией проводов, лишь едва взглянул.
Я был для него никто. Чудак. Сексуальный маньяк, человек с темным прошлым и почти нахал, который зачем-то лез (пытался влезть!) в руководимую им организацию и в образцово-идейный, показательный мир изобразительного искусства.
И я уходил с кладбища, где осталась свежая могила, тоже один. Все прочие шумно и даже не слишком скорбно грузились в стоявшие два автобуса. Никто не думал приглашать ехать меня. И мне самому не хотелось их общества, водочных поминок и всей этой нужной, ненужной ли дури, которую напридумывал когда-то и кто-то.
Автобусы уехали разжульканной весенней дорогой. Голубой день был опрокинут над березами кладбища. На кладбище пели щеглы.
Я вышел на тракт, где шли потоком в сторону города заплесканные грязью машины, добрался до автобусной остановки и, поглядев в последний раз на уже словно бы едва зеленеющий лес — кладбище сливалось с ним, — подумал, что жизнь художника, как всякого, наверное, одинокого человека, бессмысленна и бесцельна, если работы его не подняты на щит, не растиражированы в олеографиях и на конфетных обложках. Но в том ли опять смысл жизни художника? Подошедший автобус не позволил мне решить этот тяжелый вопрос.
Глава VIII. ИЩИТЕ…
Что значит искать женщину? Почти прожив жизнь, я понял, что все это делают, все ищут, холостые и женатые, молодые и старые, ищут, не сознаваясь подчас в этом бесконечном поиске даже собственной душе. Ну, кто не ищет? Сознайтесь… И — кто нашел? Тоже сознайтесь… А находят лишь нечто приблизительно-нужное и так живут, любя или не любя, привыкая или нет, но чаще тянут незримую лямку, терпят, мечтают, льют видимые и невидимые слезы, влекут, влачат, поддерживают эту долгую семейную жизнь, где чередой идут ученье, работа, заботы, квартиры, дети, внуки, свадьбы, юбилеи, похороны и новые свадьбы, дети, внуки — так вроде бы без конца. БЕЗ КОНЦА. Редкие, удачливые, наглые находят-хватают лучшее, неудачники — черствый хлеб, счастливчики — купанье в найденном счастье. Да много ли их? Вот они: дураки, пошлые самодовольные хамы, маменькины выкормыши-«везунчики», «прушники», кому само лезет в рот. Я и таких видывал. Ищут все и находят все. И художники — тоже, да лишь те, кому не отмечен, видать, свыше ПОИСК ВЕЧНЫЙ И ВЕЧНАЯ ГОРЕЧЬ ненайденного, несбывшегося, недоступного. Счастливый ХУДОЖНИК — владелец прекрасной жены — немыслимое почти сочетание. Выигрыш в какой-нибудь лживой разрекламированной лотерее, где сразу миллион, а к нему машина и квартира с мебелью. В столице. Но только надо сначала выиграть. Тогда красавица найдется обязательно. Она прилагается к счастливому билету.
И я искал. Когда мне было тридцать. И в сорок. И в сорок пять. И в пятьдесят даже… Я перестал искать, когда мне уже грозилось пятьдесят пять. Вроде бы уже перестал…
Этим летом я зашел в большой спортивный магазин «Динамо». Он был всегда у меня на ходу, когда я возвращался из центра в свою мастерскую, и я не пропускал случая поглазеть на товары и на продавщиц (без всякой, впрочем, реальной цели — продавщиц я как-то никогда не брал в расчет, — лживое, пустоголовое, примитивно сексуальное племя для таких же пошлых мужиков). Я шел вдоль прилавков, где продавали разную спортивную разность, товары для фото — давно минувшее мое увлечение и, наконец, уж совсем ту пошлую дребедень, пионерские знамена с призывами: «Будь готов! Всегда готов!» Кчему? Зачем? Никто не знал. Но вспоминались эти ужасные сборы дружины с дурными, неумелыми звуками горнов, с бренчавшими барабанами, в которые всегда пусто, не в лад, блямкали-стучали стриженые огурцовоголовые двоечники, второгодники. «К борьбе за дело Ленина-Сталина..» А тут еще продавались клетчатые шахматные доски, вымпелы «Ударник коммунистического труда», знамена с плешивым профилем и звездочки «октябрят», где неженкой-херувимчиком выглядывал кудрявый мальчик, похожий на девочку.
И вот в этом-то отделе я и увидел то, что заставило меня даже запнуться. За прилавком, налегая на него солидным круглым животиком, стояла полная светловолосая девушка (или женщина?) с привздернутым поросюшным носиком (а я такой ужас как люблю) и бюстом, распиравшим сиреневое в мелких цветочках платьице, у всех продавщиц в этом магазине были такие платья, тонкие, полусквозящие, с рюшами-оборками, и все девушки выглядели в них по-разному. Одним платья вовсе не шли, другие выглядели в них дурнушками, и лишь на этой, туго утянутое в талии, платье сидело чудно. Наверное, она сразу поймала мой восторженный взгляд и не то чтобы ответила, а все-таки посмотрела внимательней, чем к другим, взглядом каре-зеленых, отсвечивающих спрятанными тайнами и маслянинкой приглашающих глаз, какие бывают не то чтобы у развратных, но все-таки хорошо повидавших жизнь девушек, и кажется, уже с рождения девочки с такими глазами бывают без меры чувственны и так же без меры скрытны — все это сказали мне мой тяжкий жизненный опыт и моя интуиция, которой я столь доверял уже, что редко мог поступиться ее выводами. Поступишь против интуиции — ошибешься. Я это знал. Но я подошел к прилавку и стал изучать чушь, разложенную под стеклом. Эти звездочки, компасы, микрошахматы на микродосках и мерзкое пятнистое домино (о, воспоминания лагеря, где в него, самодельное, черт знает из чего, играли сплошь, а я никогда не хотел и не мог даже научиться).
А продавщица бойко торговала, подавала товар, при этом часто и ловко поворачивалась, наклонялась, приседала, отходила и возвращалась к прилавку, и я с удовольствием неотрывно смотрел на ее полные, широкие, хоть и не самой лучшей формы, бедра и ноги, несколько тонковатые для таких бедер, но все же приятные и высокие. Сквозь тонкое сиреневое платье мой изощренный глаз видел белый трикотаж ее трусов. Это были не панталоны, любимые мной, но и не те узкие противные (мне) летние плавки, которые девушки и женщины теперь сплошь носят и которые уродуют их нежные попки, разделяя дурными четвертинами. Зад девушки, провинциально тяжелый, обтянутый платьем, ритмично подрагивал.
Был август. Склон жаркого дня. Последнее тепло. И я подумал, что если сейчас, вот прямо сейчас же, не познакомлюсь с этой продавщицей, я потеряю, может быть, последнюю надежду на встречу с молодостью. Мне было пятьдесят четыре (пятый еще не исполнился!), ей лет двадцать с небольшим.
Я попросил показать коробочку дорожных шахмат, и она подала их мне. Я успел заметить, что руки у нее некрасивые, с широкими ладонями, мальчишескими пальцами и крохотными, едва прорезанными ноготками — опять свидетельство бурного, неудержимого темперамента. Да, такие девушки не родятся в городах. Это провинциалки. Но почему меня всегда тянуло к этим прельстительным, провинциальным существам со следами дальнего пытливого ума и близкой к поверхности милой глупости, которую и глупостью-то не назовешь, а просто она всегда где-то у поверхности и остается до конца, хотя женщина может быть потом кем угодно и даже слыть умницей, «глупость» останется неистребима, дана ей по рождению самой сутью глубинки и той России, что состоит из полей, перелесков, сухого неба, пыльных проселков, станций, поселковых улиц, «соцгородков», паровозного дыма, шлаковых откосов у насыпей, бараков с вонью беленых желтых помоек и огородов с картошкой, с крапивой под плетнем, где роются куры и кричит петух и редко мелькнет в проулке чья-то в жалких косичках выгорелая девичность.
Петух прокричал и во мне. Я отдал коробочку, взглянул на продавщицу и промолол какую-то чепуху. И девушка, понимая, конечно, и мои взгляды, и то, что я спросил, так же ответно чепухово улыбнулась. Тогда я посмотрел на бирку, какие носили на платьях все эти продавщицы, и прочел ее имя: Светлова Тамара Ивановна.
— Вас зовут Тамара? Или это не ваша бирка?
— Моя.
— И вы давно здесь?
— Третий день.
— То-то я вас еще не видел..
— Вы, что ли, всех девушек тут знаете?
— Нет. Но вас бы я заметил.
— Зачем? (Притворство.)
— Да просто… Так… Вы — отличаетесь. (Лесть.)
Она отвернулась к другому покупателю.
Я пробормотал еще какую-то чушь и ушел. Ушел же с осознанием, что, кажется, нашел то, что искал всю жизнь. У вас было такое? Выше логики. Разума. От одной лишь, одной интуиции. Или чего-то заменяющего ее? Эта продавщица удивительным образом напомнила мне всех моих бывших женщин. Надю все-таки слегка чем-то татарским, без раскосины, кругловатым взглядом, Еву нежной девичьей розовостью щек и цветом глаз (только те были девочкины, без присалинки), Нину светлыми волосами, уверенными движениями и чрезмерной для девушки пышностью зада. Зад был явно женский, прельстительный, и она им ловко управляла, взмахивая подолом легкого платья и подставляясь под мой взгляд столь же пышным, поднятым от лифчика кругло-нежным бюстом. И она, конечно, хорошо понимала все эти движения, и мой скрытый (так мне казалось) восторг, и то, что я влип, попался, любая чуткая женщина это знает, а эта, я понимал, сверхчуткая — так здорово отличалась она от прочих дур-продавщиц.
«Нет… Ей, пожалуй, лет двадцать пять будет! — подумал я. — И конечно, она не девушка. Сейчас девственность к таким годам дело редкого случая. Будто и школьницы уже класса с шестого, седьмого..»
«А тебе еще и девственницу подавай? Нет — такого лучше не надо. За девственницу ведь будет чудиться какой-то тяжкий моральный гнет. А я его вовсе не хочу. Еще чего..»
Я решил, что зайду в магазин завтра или вытерплю еще день (именно вы терплю) и опять попытаюсь поговорить с соблазнившей меня продавщицей. Она взволновала меня. В ней было то, чего, словно земля ливня, ждала моя пересохлая без любви и ласки душа. Любви… Я не влюбился еще. Я, кажется, с Евы (Оксаны) еще не влюблялся, потому что с той женщиной в деревне был просто Эрос, дикий, голодный, болезненный при расставании. И — только. А здесь было совсем другое. Я чувствовал это. Здесь было словно давно забытое, школьное и даже, как знать, дошкольное, нежное и ломящее, вдруг затомившее душу.
У всякого, наверное, мужчины существует внутри его абсолютно точный и полный (вот она, легенда об Адамовом ребре!) идеал женщины, иногда и не один (и ребер не одно), ведь мужчина полигамен! Может быть и наверное, с идеалом внутри родятся, он втиснут, впечатан в гены и оттого выше рассудка, разума, самых логичных доводов, канонов и конкурсов красоты. Меня, например, могла бы увлечь блондинка, похожая на куклу, с кукольным лицом, светлыми льняными волосами, косой или короткими, завязанными черной аптечной резинкой хвостиками, обязательно круглая, толстобедрая и с полными, хоть даже безобразно толстыми ногами, и могла бы заставить так же затосковать брюнетка с этим вздернутым носом и тоже толстая, жгучая, еще более мощная своим станом. Да где же они? Когда я встречал подобных, они обязательно были с мужчиной, парнем, мужем (и даже слово это МУЖ, в смысле чужой и обладающий, я всегда ненавидел). Других подобных женщин я дико робел и словно все ждал, что они сами найдут меня — нередкое, наверное, и всегда почти дурное мужское заблуждение. И мои щербатые зубы, конечно, были главной причиной моей робости. Никогда не был я хорошо, с уверенностью в себе одет. Не был богат. Не таскался по ресторанам. Как чумы сторонился проституток. И все-таки жил ожиданием какой-то нечаянной чудесной встречи, и встречи не с женщиной — с девушкой! И вот дождался, когда все уже вроде бы позади, и одиночество уже привычка, и не хочу я никакой этой семейной жизни. Даже представить себе ее не могу. Какая, судите сами, семейная жизнь? Старую, даже пусть и не очень, но сорокалетнюю бабу, с ее сложившимся взглядом на мир, пропустившую через себя десяток-другой мужиков, я просто не хочу. И какая с ней семья? Дети?! Молодую? Чтоб была и любовницей, и женой, и натурщицей? Мечта, конечно, однако и к мечтателям такого рода я не принадлежал.
В девушке ж, которую я обнаружил — открыл? нашел? сходилось почти все: фигура, лицо, попка, светлые волосы, пускай и крашеные! Оставались не очень приемлемыми два обстоятельства: ноги и взгляд. Ноги, уж бог с ними, все в точку не подберешь, но взгляд озадачивал, — все-таки было там, пряталось и напоминало нечто рано познавшее, скрыто развратное, как бы собачье или кошачье и опять как-то не то и не так… Все-таки что-то отсвечивающее и потаенное. Так может просвечивать неуемный бесстыжий блуд, все время пугающий самого себя, все время прячущийся за маску скромного, доброго и приятного лица. Мягкого лица — не поймешь, если — девочка, скромница, яблочко, голубочек… И я чуял уже — неудержимым магнитом тянет меня к этой продавщице. К про-дав-щи-це! А я уже сказал — не терплю этот сорт девушек, постоянно обозреваемый и главный товар на прилавке, постоянный объект бесконечного похотливого течения легальной и нелегальной (коль замужем!) «любви», а проще похоти, справляемой по квартирам, садам, дачам, «саунам», гостиницам, притонам, «общагам» и даже подъездам и подворотням. Да неужто и эта девчонка такая? Похожа вроде… И она? Нет. Она — исключение. Такой диалог, монолог ли самого с собой. А ноги шагают к спортмагазину (промаялся в сомнениях-размышлениях всего один день, и сейчас долит мысль — вдруг ее нет? Не увижу. Что тогда?). Тут она. Ходит-крутит подолом, подрагивают полные ягодицы, и белые штанишки просвечивают вполне даже явно для моего искушенного голодного взгляда. Стою.
Смотрю. Косой взгляд подведенных ТЕХ глаз. Конечно, узнала. Но вид независимый. Подает товар. Что-то такое там объясняет. «Когда же схлынут эти проклятые покупатели?» Вот вроде поменьше стало, а стою столбом. Язык не ворочается. Что сказать? Как? И вроде бы заранее приготовился. Предложу встретиться. Да и улыбнуться можно. Слава тебе, Луговец! У меня ведь прекрасная молодая улыбка, такая, как в школьные годы. Я помню ведь мои зубы до лагеря. Я улыбаюсь. О, собачья улыбка виляющего хвостом старого холостяка!
— Девушка, здравствуйте! Тамара Ивановна! Я опять к вам… Хочу купить шахматы. Только не маленькие, а такие., нормальные… Посоветуйте… (Да на черта они мне сдались., я в них и играть-то не умею. А она, думаете, не понимает? Хо-хо. Тут они умные.)
— Возьмите турнирные. Вот. Стандарт… Если вы серьезно..
— Да какое «серьезно».. Так… Я вообще-то художник… По профессии. А шахматы — играть сам с собой… А у вас такое интересное лицо..
— Мне уже это говорили… И не раз… (Вот тебе на, получи!)
— Зато я могу написать вас… За один сеанс..
— И это говорили, предлагали.
— А что вам не говорили?
— Да, кажется, уже все..
— А «что вы делаете завтра вечером?» — говорили?
— Этого СЕГОДНЯ еще не говорили.
— Тогда ответьте.
— Ничего не делаю. Завтра у меня свободный вечер. Я вообще-то учусь в институте. На экономическом. Вечером. Сейчас пока хожу на подготовительные. Завтра лекций нет.
— Тогда подарите этот вечер мне. Я вас хотел пригласить куда-нибудь..
— Так сразу?
— Ну, пойдемте погуляем.
— Не знаю..
— Это синоним чего? Да или нет?
— Не знаю..
— Хорошо. Если вы «не знаете», я просто приду завтра к… К театру музкомедии. У входа буду ждать вас в семь вечера. Не поздно? Придете?
— Не знаю..
— Да вы не бойтесь меня. Подумайте и приходите… Я буду ждать вас. Очень..
— Придете?
— Может быть… Не знаю..
— Ну, до свидания… В семь часов..
Ушел. И даже с чувством исполненного… Даже радостный… (А не придет? Вот тебе и будет «радость»! Не придет — приглашу снова! — так решил. Не отстану! Сегодня она мне еще больше понравилась.)
О, мужчина «в возрасте», идущий на почти безнадежное свидание! О, мужчина «за пятьдесят!» Вытоптал ты свою гнусную робость одной лишь надеждой. И с холодом в груди: «А вдруг все-таки придет?!» — «Или нет?!» И если нет — еще один лишний мороз в душу. Еще одна лишняя седина в ночь. Еще одним горем больше. Меньше ли? Горем ли? Жизнь научила: всякая связь — обуза. Всякая встреча — разлука. Разлука в конце концов. Об этом не думают, идя на свидания. Не думают молодые, не битые… Хотят вечного. Вечного счастья. Хм. Счастья., вечного..
Иду с трамвая. И вот музкомедия. Комедия муз. И мое ожидание у входа еще, возможно, лишь лучшая прелюдия к этому грядущему «счастью». На свидания надо приходить пораньше… Чтоб… Ну, в общем, чтоб вы поняли, как приятно ждать, когда стрелка часов еще на пути. Вот она, музыкальная комедия моей жизни, и ладно бы, если б комедия… Подъезд с хлопающими дверями. Пока сюда стекаются немногие и еще, видимо, за билетами. Здесь удобно встречаться. И никто не мешает ждать. И все вроде бы пристойно. Не я один торчу. Нея один читаю пошлые «комедийные» афиши. «Марица», «Сильва», «Веселая вдова». Черт бы ее побрал. Вдова, да еще веселая… «Елена Прекрасная» и — нет моей прекрасной продавщицы! Утешаюсь. Гляжу на часы. Женщины ведь никогда не приходят вовремя… Не придет — и опять тоска. Опять, как уже бывало. Хоть и не часто. Уже десять минут восьмого. «Мужчину ждут пятнадцать минут, женщину полчаса». Старый донжуанский закон. Да не придет она! С чего бы? И не обещала даже толком, а они и толком обещают — не приходят. Мм… Пятнадцать минут. Ладно. Не пришла, и черт с ней, подумаешь, невидаль. Гризетка. Дрянь. Уйти, что ли? Не мучить душу? Ой! Да вон же она!! Идет. И-де-е-от! (не сходно с криком «Идиот»?) И как она, правда, похожа на Надю, на Нину и на мою мечту в душе! Идет.
— Здравствуйте..
— А я уж думал — не придете..
— Да я… Я и сама не знаю… Но собралась.
— «Не знаю» — у вас любимое слово. Как прикажете только его понимать: не знаю — «да» или не знаю «нет»?
— Как придется.
— Ха-ха… А пойдемте посидим «на крыше»?
— На какой крыше?
— Да так «Космос» — ресторан называют. На открытом воздухе, наверху.
— В ресторан? Так сразу?
— Да там как бы — ну, кафе..
— А мороженое есть?
— Мороженое — не знаю. А шампанское должно быть.
— Вот и вы говорите: «Не знаю».
— От вас научился. Пойдемте..
И мы пошли. «Мы» — это слово сегодня просто вписывалось в меня. В нас?
— Вы правда художник?
— Разве не похож? Правда!
— А ваши картины есть в галереях?
— Сколько угодно. В Лувре, в Эрмитаже, в Третьяковке, в Манхеттен. Где еще? В общем, во всех «Парижах».
— Вы смеетесь?
— Нет. Я серьезно. Мои картины могли бы быть там!
— А-а-а..
— А вам трудно учиться? Ведь после работы. И зачем вам эта скука?
— Я экономикой интересуюсь. И потом, кончила торговое училище.
— Торгово-кулинарное?
— Нет, торговое. Я после десятилетки в университет поступала. Не добрала один балл. И вот кончила училище. Красный диплом. И поступила без экзаменов. А на подготовительные лекции езжу, чтоб время не терять. Подготовиться. И в общаге вечера не подарок.
— Как вы все основательно..
— А я — такая.
— Это хорошо, наверное.
Она посмотрела на меня сбоку:
— А сколько вам лет?
Самый страшный для меня вопрос. Отшутиться «сколько дадите»?
— В индийской мудрости (вот ты где мне пригодилась!) сказано: «Возраст, состояние, щель в стене, заклинание, лекарство, позор, дар, любовную связь и оказанную тебе почесть — все это надо скрывать». В общем, много мне лет. Семьдесят пять.
— A-а! Я думала — больше!
— А вам?
— А мне — восемнадцать.
— Во… Во-семнадцать??
— Не похоже?
— Думал… Я думал., чуть поменьше..
— Вот видите, оба не угадали. Но я правду сказала.
«Восемнадцать?» — уже совсем с холодом в душе повторил я. «Восемнадцать и пятьдесят четыре». Это насколько? На… На… На тридцать шесть лет! Такая вот арифметика. Ужасно. Но ведь пришла же..
— Ну, вот мы и здесь. По этой лестнице надо вверх.
— Идите вперед.
— Хм… Конечно.
Усмехнулась и она. На ней была широкая шелковая бежевая юбка. Такая же кофточка с оборками на груди. Светло-серые чулки приятно полнили ее ноги. На ногах босоножки-«колотушки». В общем, она прибрана и вполне красива. Но неужели ей правда восемнадцать? Я думал — лет двадцать пять. Было бы тогда хоть примерно вдвое. А так ровнехонько почти в три раза. Ттэ-экс! Да, впрочем, что я уж так-то? Посмотрим… Все это перемалывалось как-то в моей душе. А на крыше было чудесно. Теплый и тихий вроде августовский вечер. Город на ладони. Пруд. Набережная. Дали. Плетеная получаша цирка, шпили монастыря. Совсем по-иному видишь город, где живешь, сверху и — понимаешь: он красивый, даже чудесный. И настроение у меня хорошее. Я с девушкой. Можно сказать, «с девочкой». Я могу улыбаться. У меня есть деньги. И я сейчас спокойно закажу шампанское, вино, что-нибудь вкусное, хоть готовят здесь (знаю, бывал) пошло, скверно.
А моя спутница явно чувствовала себя здесь не в своей тарелке. Да и понять ее можно. Разница в возрасте, конечно, пугала. Девушка, по-видимому, волновалась или злилась уже. «Пошла вот со «стариком». Что подумают!» Сев на предложенный стул, она как-то ерзала.
— Да вы успокойтесь. Будьте как дома, — не слишком умно сказал я. — Редко в ресторане бываете?
— Совсем не бываю..
— А это и не ресторан. Забегаловка. Только на крыше — вот и все… Будьте любезны (это я подошедшей официантке), меню и винную карту (знай наших!).
— Карты никакой нет. Вино: портвейн, шампанское.
— Что ж? Шампанское? — посмотрел на спутницу.
— Лучше бы уж вина. Я вообще-то не пью.
— Закажем и то и другое.
Еще я заказал какую-то дорогую закусь «уральское изобилие» — хрен знает что это такое.
Оркестр заиграл неожиданно, оглушительно бойко.
Принесли шампанское. Откупорил без грохота. Налил. Чокнулись. Выпили.
— Вкусное.
— А мне как-то не очень. Венгерское. Красное. Бурда.
— Ну уж вы то-же! Хорошее.
— А вина не хотите? Попробуйте — вино лучше.
— Налейте… Попробую.
Но пила она хорошо. Спокойно. Не морщилась.
— А живете вы?
— В общежитии. Я уже два года, как из дому уехала. Не поступила в институт. Работала секретаршей. А потом в ПТУ и продавщицей полгода. В булочной. Теперь вот здесь.
— Когда же вы школу кончили?
— В шестнадцать.
«Да, девочка, ты уже повидала жизни», — подумал я и еще спросил:
— У вас много друзей?
— Друзей нет и подруг — тоже. Я с людьми плохо схожусь.
И этим она меня сразу купила.
— А что так?
— Да я какая-то… Неконтактная..
— Это же так хорошо.
— Мне кажется, наоборот.
— Потанцевать не хотите?
— Нет. Я плохо танцую..
«Врешь ты все, — подумал я. — Возраст мой тебя коробит. Как бы чего не подумали… А так — я просто ужинаю с родственником. Дрянь. Ну да ладно, стерпим пока. Выклянчивать не собираюсь. Хотя с парнем-однолетком ты бы сейчас вовсю задницей крутила». Кажется, мне и не очень удалось скрыть мои мысли.
Вечер холодел. Туча надвигалась с запада. И закат погас. Стало угрюмо и сыро. «Август, август, — подумал, повторил про себя я с каким-то переносом на свою жизнь. — Вот только что было уютно и мило, и весело даже. И все похолодело. Туча. И эта дрянь не пошла со мной танцевать». Мне хотелось даже и вовсе не танцевать, а просто обнять ее и впервые почувствовать новую женскую спину, талию, может быть, овал-начало ее крутого сладко-нежного бедра. Август, август… И мне стало совсем грустно. Где ты, спасительное вино?
Мы выпили еще, и она достала из сумки теплую вязаную кофту.
— А вы предусмотрительны! (Я подумал об ее уме.)
— Да. К вечеру же холодно бывает. А я мерзну.
— Какая хорошая кофта.
— Я сама вязала.
— Да что вы?!
— Я люблю вязать.
— Видимо, из вас будет хорошая домохозяйка.
— Не думаю. Я вспыльчивая и жадная.
— Хоть откровенно, и то хорошо.
Внезапно туча, которая как-то незаметно приблизилась, подернулась розовым с зеленью слабым огнем, и, помедлив, зарокотал, покатился и двинул по далям гром.
— Как здорово! Гроза! Может быть, и последняя, — пробормотал я. — Это к счастью?
— Я боюсь грозы.
— Нас здесь не тронет.
Стол, где мы сидели, был под крышей, хотя добрая половина других была под открытым небом, и люди, не густо сидевшие там, начали уходить, передвигаться под кровлю.
Оркестр смолк. А гром снова ударил, теперь сильно, буйно. И пошел дождь, с припуском и словно бы градом, хотя, присмотревшись, можно было понять — все-таки это дождь, крупный, холодный, августовский.
— Это к счастью — когда гроза, — неуверенно повторил я, потому что хотел, чтоб она со мной согласилась, и посмотрел в ее странные нежно-упрямые глаза, далеко таящие много несказанного..
— Глаза у вас..
— Что..
— Необычные… Они с зеленым оттенком, хотя и карие.
— Я не замечала.
— Но я ведь художник и лучше других вижу — понимаю цвет.
— А вы правда хороший художник?
— Себя не хвалят.
— А где можно посмотреть ваши картины?
— Надо прийти ко мне домой, в мастерскую.
— Н-ну-у..
— Испугались?
— Так сразу не ходят.
— Что ж — подождем..
Она посмотрела.
И опять удивила смешанной умудренностью жизнью и некой детскостью, которая проглядывала сквозь эту зелень.
Мы так и не потанцевали. Шел дождь. Оркестр играл. Парочки толкались теперь у столиков под крышей, и это было противно. Сильно пахло дождем и близким небом. Приблизившимся словно… Гром бухал редко, и брызги дождя слегка доносило до нас. А я чувствовал себя гадко и неуютно. Чего связался с какой-то дурочкой-малолеткой? На черта она мне? И ей, наверное, было так же.
Гроза прошла. Вечер посвежел. Вдали проглянуло бледно-сиреневое небо. Пустое и холодное. Еще было не поздно, и мы сошли с крыши на мокрую набережную. Пошли к главному проспекту, где на пути был знакомый павильон «Мороженое».
— Вы ведь хотели мороженого? Зайдем?
— Как хотите..
— А вы-то?
— Ну, если недолго… Мне ведь еще ехать..
Она жила в ближнем городишке, километров пятнадцать, скорее, пригороде.
И зашли. И поели мороженого. Невкусного. Льдистого. Она ела все-таки охотно, по-детски. А я вспоминал ту наглую пьянь медсестру, что откровенно предлагала мне здесь выкрутить меня, как тряпочку. Да, какие разные вы, женщины, разные — и одинаковые в чем-то. Вот та хоть откровенно предложила отдохнуть «на ее пупе», а эта, поди-ка, и спасибо не скажет. И такое бывает.
А потом я проводил ее до автобусной остановки, мы распрощались. Оба, кажется, с облегчением. Она — слава Богу, отделалась от этого странного «дядечки», врал, наверное, что художник, с деньгами, судя по одежде, не очень-то, хоть и показушничает, правда, и не предлагал ничего такого, да и не может еще, поди-ка. Художник. Я, слава Богу, расстался с этой малолеткой. По закону ее и в ресторан-то не положено водить. С девятнадцати, кажется… И чего от нее ждать? Натурщицей она не будет, не согласится. Да и пошло как-то предлагать… Ну, фигура есть, лицо — не классика, конечно, попка большая… Но… Предложить еще встретиться? А зачем? Танцевать даже не пошла. Устал… Не хочу… Хватит..
Я не стал назначать нового свидания. Не назначалось как-то… Зыбко… И она уже явно старалась поскорее отделаться.
Подошел автобус, и она уехала.
«Пусть… Так оно, пожалуй, даже лучше», — раздраженно подумал я.
А меня ждала моя одинокая квартира. Мастерская осточертелая и все-таки родная. Куда денешься от нее, вечный нелюдим? Художник! Ей-богу, впервые я почувствовал, что жизнь моя сломана этой мукой — «быть художником». Здесь все тебе — и Крест, и Голгофа, и пытка, и петля, и тоска, и реальность — чего больше, попробуй разберись.
В ту пору я писал новое «Похищение Европы». Старое решение картины уже не удовлетворяло меня. Чем дальше — больше… Когда, весь в сомнениях, я вытаскивал картину, ставил перед собой и вглядывался оценочным взглядом, она почти не нравилась. Сидя в позе озадаченного мыслителя, я уже почти сокрушался. Не тот все-таки бык — не Юпитер, хоть и грозный, и тем более не та женщина. Оба главных объекта слишком близки к реальности, а должно быть, выше, мифичнее, волшебнее.
Отрываясь от картины и вовсе уж застывая в роденов-ской тоске, я ломал голову в поисках ненайденного решения. Знал точно: раз уж гложет эта привязчивая тоска значит, не попал, не сумел, не выразился, не выплеснул образ на холст. НЕ НАШЕЛ!
И опять кромсал альбомы мордами быков, крутил постановку и композицию. И в женщине теперь уж усомнился. Не та должна быть женщина по мифу — дочь эфиопского царя. Но — ЕВРОПА? Написать ее эфиопкой или даже негритянкой? (И негритянку пробовал набросать — получалась совсем чушь, дичь.) Белый бык и черная женщина. Да нет же! Не складывается. А эфиопы, какие они были? И какой был у них царь? Одного царя эфиопов я видел, он приезжал в наш город, его величество Хайле Селассие, только первый или второй, не помню, — ехал маленький, черный, весь в бороде, генерал в большой раззолоченной фуражке. «Эфиопы видом черные и как углие глаза». Кто написал? И еще я читал, что эфиопы вроде относятся к белой расе. А греки древние будто были светловолосые, и рыжие, и голубоглазые? И все-таки чудилось, что Европа должна была быть девушка белая, может быть, даже «как снег», и такая пышная, что «груди как чаши», а бедра «как горы песка» — так описывались в арабских сказках чудо-красавицы. Чтоб понравиться быку и вдохновить на похищение, наверное, и нельзя было иначе. Плоть женщины должна быть вершиной чувственности, вобравшей всю звериную прелесть мира, его жуткие в сексуальной воплощенности части, и так ведь объединяются в отдельных фантастически реальных женщинах черты пантер и львиц, змей, слоних, кобылиц, антилоп, устриц, раскрытых раковин, газельих глаз и граций и осминожьих щупалец. Но женщина может быть еще и медузой («Иногда море выкидывало на песок медузу, и она лежала там, голая и бесстыжая»), может быть вороной, гиеной, блестящей падальной мухой и бородавчаточувственной жабой. А плоды, овощи, фрукты — разве не женщина? И мир кристаллов-минералов не чужд ей. Египтяне делали статуи с бериллами и сапфирами вместо глаз, и так эти их изваяния глядели в вечность. Но разве я не видел у женщин и глаз, абсолютно подобных лазури, или изумрудам, или вообще неведомым мне, хотя бы по названиям, дорогим или пошлым камням?
И Европа не решалась. Хотя картонки портил успешно. И все не то, не то, не такая… Может быть, у нее, у Европы этой, должен быть какой-нибудь необыкновенный зад, как две соединенные луны? И ноги от голеней сатиро-коровьей стати или с копытами чуть ли не? Как у ведьм (а женщины ведь не зря носят как бы копыта!), иначе бы не соблазнился той Европой великий Юпитер.
Не решалась картина.
И прошло, наверное, больше месяца, пока я словно вспомнил (не то и не так, конечно), что в магазине «Динамо», наверное, все еще торгует эта Тамара Светлова. Я не ждал ее. И кажется, даже не очень хотел видеть. Ну, девка и девка, молодая, приятная, чем-то отличающаяся от прочих, но, пожалуй, и все тут. Станционная вертихвостка и, может быть, даже очень запрятавшая свою суть, шлюха. Я знал, что к тому же она Козерог по знаку (и как мне везет!), Нина — тоже была Козерог, а Козероги эти — сплошь тайные развратницы и меркантилистки, шагу не ступят без выгоды, одержимы страстью менять мужиков, и многие из них — настоящие ведьмы. Если трезво вдуматься — зачем мне она? Восемнадцать на пятьдесят четыре! Ведь даже если мы «подружимся», она вряд ли сможет достойно, не роняя себя, не унижая меня, переступить эту пошлую общелюдскую мораль. «О, о! Со старым мужиком спуталась!» И она будет стесняться быть с «дяденькой», стыдиться подруг — таких же и еще больших дур-продавщиц. Везде будет стараться показать, что я «родственник», какой-нибудь «дядя». Кто-то вроде. А мне-то станет каково? Нет! Не пойду! И день ото дня я откладывал эту в любой момент возможную встречу.
Я пришел в магазин и нашел ее уже совсем в другом отделе — «Уцененные товары», где не толпились покупатели и где она явно скучала и ждала, когда кто-то будет «приклеиваться» — постоянная и портящая всех этих девушек мечта, переходящая у иных в манию, которая не кончается и с замужеством и разрушает жизнь им всем, наверное, правило без исключения — ведь продавщица сама все равно «товар», выставленный на прилавок, а «на базаре с товаром и душа продается» — такая восточная пословица. И потому я никогда не хотел знакомиться с продавщицами. Что претило мне? Что как бы предупреждало?
И вот я нарушал этот запрет, и снова в магазине, и снова необычный, приятно некрасивый (или все-таки красивый?) вид этой девушки, а она, конечно, не девушка, все время странно напоминавшей всех моих прежних сладкогорестных женщин, заставил меня подойти к ней. Она как будто этому даже обрадовалась:
— Что так долго вас не было?
— Дела… Да уезжал еще. (Врал, а что делать?)
— А-а, — понимающе протянула она (никуда ты не уезжал. Все ясно.)
— Но вы ведь не скучали без меня, наверное?
Она была в новом, горошком, трикотажном костюме, и он полнил ее и очень красиво (на мой взгляд) обрисовывал нежный кругло-выпуклый животик.
Я опять загляделся. Но она, кажется, не смущалась. Только отвернулась подать товар какой-то старухе и продемонстрировала обтянутый трикотажем еще более соблазнительный, явно не девичий зад.
— Может быть, встретимся сегодня, поговорим? Не хочу торчать тут. Когда вы кончаете?
— Кончаю в семь.
— Прийти?
— Как хотите..
— Господи! Что это все у вас: «Не знаю» и «Как хотите»!
— Не знаю, — усмехнулась она, играя зелено-карими глазами.
Я встретил ее и проводил до автобуса в этот пригород, не то городишко, прежний завод, и еще, кажется, с незапамятных времен там были шахты, копали золото или еще что-то… Мы шли. Болтали разную чепуху. Сегодня девушка была как-то разговорчивей. Меж слов я выяснил, что у нее «есть знакомый», но она с ним «поссорилась», и теперь вот что-то его не видно. Долго.
— А если не придет?
— И пусть. Я не переживаю.
«Да. «Не переживаю!» Все вы, что ли, такие? Не переживаете… Когда бросаете. И не очень, как видно, когда бросают вас».
Я даже зло покосился на эту странную спутницу-малолетку. «Малолеткой», впрочем, она сегодня не казалась. В туфлях, в плаще — была уже осень, — шла рядом приятная молодая женщина. И не верилось, что ей всего восемнадцать. С другой стороны, когда ты намного старше, никак не воспринимаешь обратной разницы возраста и, только поправляя себя, думаешь, какой ты был сам в восемнадцать и как смотрел «на стариков» в тридцать и в сорок. А мне было… Да наплевать мне, в конце концов! В восемнадцать я был в лагере, а там возрасты вроде как-то стираются, и там ты отнюдь не по возрасту можешь быть и «шестеркой-парашником», и фрайером в законе, и доходягой-«фитилем», и даже «авторитетом», вроде Канюкова, — не в возрасте там дело. Может быть, из-за возраста, из-за лагеря я смещал возрастные оценки. Там ведь и женщины как-то нивелировались: «Манька» — и все! Есть еще, правда, весьма лестная мудрость, что спутником Гения всегда почти или очень часто была несоизмеримо младшая девушка. Кто там? Гете! Тютчев! Хемингуэй! Данте! Леонардо! Боттичелли! Достоевский! Но есть ведь еще и дурная картина этого паршивого Пукирева с его воистину «неравным». Ничего этого я не говорил своей спутнице, но если уж примериваться к названной картине, я был вовсе не старец вельможа, а она не девственная евреечка лет пятнадцати.
К автобусной остановке подошли — уже темнело. Сентябрь рано зажег окна в домах. И чтоб продлить вечер с ней, я предложил проводить ее до общежития. «Как хотите», — по-моему, без восторга согласилась она. И мы поехали в медленном, дребезжащем, воняющем масленым выхлопом автобусе. Я держал ее под руку, иногда меня прислоняло к тугому теплому бедру, она не отстранялась, но и не чувствовал я того ответного тока-тепла, какой бывает меж любящими мужчиной и женщиной. Потом мы шли безлюдными, плохо освещенными улицами. Редко попадалась какая-то встречная пьянь, да еще бродили парни кучами и порознь — опасные, похожие на воров.
— Не боитесь вы так? Еще ведь позднее ездите?
— Позднее лучше. Совсем никого. Боюсь. Но что делать? Мне скоро место в другом общежитии дадут. В городе. А мы уже пришли. Вон мой балкон. Где белье сушится.
— А штанишки там есть? — ляпнул я.
— Какой вы! — вспыхнула, порываясь уйти.
— Ну, не сердитесь! До свидания?
Не отвечая, она хлопнула дверью.
«На тебе… Как взвилась! Экая девственница! Хо-хо!» — сказал я. Я не знал еще, что убегать, не прощаясь, даже словно пытаясь отделаться, — ее привычка. И еще не знал — так уходят от тех, кого стесняются, кто не слишком нужен, кого терпят, как запасной вариант, и еще КОМУ БЕЗ КОНЦА ИЗМЕНЯЮТ.
Ничего такого я, оказывается, не знал. Я прожил уже больше полувека, а остался наивным мальчиком, дурачком, как и очень многие мужчины, кого этот самый СЛАБЫЙ пол только и делает, что водит за нос и вокруг пальца. Без жалости. Без конца. А все мы, дураки, только и думаем: случайность! Они же такие добрые, милые, беззащитные! Они лучше нас! Они, конечно, сплошь благородные и «красивые душой». Они… ОНИ!
Все это я с иронией, что ли, прокручивал, бормотал на ходу. Шагал теперь обратно, представляя, как она с какой-нибудь там подругой по комнате пьет сейчас чай и, наверное, рассказывает, как «дядька этот» или «художник этот» поехал провожать и — «дурак такой!» — про штаны спросил! Ха-ха… Ха-ха. Атак ничего он даже вроде. Старый только, видать, по годам. Ну, выглядит не очень старо. В ресторан водил. Втрескался, что ли? А черт его знает. Похоже. Они, художники, все такие, с приветом. От крыши. И вряд ли ей думалось, что в этой осенней тьме, незнакомом городишке кто-то может меня пристопорить, на кого-то можно напороться. Ночами ходить было не привыкать, и не трусливый я вроде. Но незнакомые улицы заставляют сторожиться, идешь по ним ночью не так, как дома. Поглядывал и я, припоминая дорогу, автобусная станция была где-то дальше и левее. А вон и двое, явно прут навстречу, сошли с тротуара, а я иду серединой улицы. Инстинкт мой здесь безошибочный. Загораживают дорогу, здоровые, «под газом», уверены. Это когда в карманах у них «есть». «Когда стопорят, главное, не бзди, не жди, когда перо достанут, а трясись для понта: «Не надо, не надо!» — растут! И тут суй!» — вот она, заповедь Кырмыра.
Загородили дорогу, рассматривают, ухмыляются. И струна во мне уже натянулась. «Закурить дашь!» — и первый, что наглее, уже руку к моему карману. Вот тут ты, сопля, и просчитался, волка за дворнягу принял! Нна! — удар этот стремительный, лагерем отточенный, я не забывал. На! — другого ногой. На! — с добавкой в морду. И — свободна дорога. Да я не тороплюсь.
— Не вставать!! Сидеть, суки!! — добавил первому.
— Чо ты! Чо ты! Не надо!
— Еще?!
— Чо ты… Чо ты!
Второй рванул со всех ног. Догнать бы, да ладно…
— Вот так, суки… Таких я в параше мочил! — ожил жаргон. Пошел дальше, не глядя, как первый еще разбирает сопли. Стало жарко. На остановке автобус будто ждал меня.
И опять прошел не то месяц, не то — два. Временами я думал — о ней, но чаще она словно бы забывалась. Я писал новую «Европу», потому что БЫК у меня НАШЕЛСЯ!
Я нашел его словно бы во сне. Ночью. Проснулся среди глухой тьмы. Стукающей тишины. И явно понял: БЫК должен быть ЧЕРНЫЙ! Черный, как Апис! Как был когда-то в зоопарке тот гаял, громадный бычина в тесном, не повернуться, стойле, страшно громадный. Надпись: «Дикий бык. Леса Зондского архипелага». Я помнил, как меня тянуло к этому быку, как я тянулся гладить его по крутому рогу и как бык однажды невольно реванул коротким и страшным сипом. Баял. Апис. Анубис… Пирамиды… Древнее малахитовое море в антрацитовых бликах тьмы. Месяц. И рога этого плывущего быка, чуда, Юпитера-Аписа, что светились во тьме отраженным лунным сиянием, но еще более ярким, углубленно-огненным должны были светиться его глаза, всесильным и удовлетворенным огнем Юпитера, несущего свою ношу — нагую-голую и под стать быку могучую, сладострастно седлающую его Европу..
Я нашел образ быка и теперь писал его без всякой натуры — она мешала бы мне и во мне было набрано ее уже сверх меры, — все лики быков будто каменными изваяниями окружали меня и тянули морды к воплощаемому пока в угле и общем тоне. БЫК ВЫШЕЛ уже и в подмалевке! Я смотрел на него с морозом восторга по предплечьям. Бык светил глазами, плыл в бурном ночном море неподвластной, всесильной, устремленной скалой. Плыл к своей плотской, любовной, животной ли цели? Но не эта ли цель движет-управляет всем сущим?
Не она ли простая истина жизни, одухотворенной, плотской человеческой, животной, вселенской, неостановимой, как вечное движение-тяготение к запредельному, неостановимо-желаемому? И вот, изваяв этого быка, родив его своей рукой, углем и кистью, я подумал: а вдруг это и не бык? А вот тот ХУДОЖНИК — не я, не я, где мне! Но тот, кто взял у судьбы свою страстную ношу, взял, вырвал, унес, и впереди ждет его бездна наслаждений и разочарований, и он жаждет этой бездны и ждет ее. Любовь БЫКА, которая даже непонятна людям и всем приматам! Любовь, когда отчаянные копыта на спину и рев животного сладострастия сливается с утробно-животным женским мычанием, невероятным звуком, где есть вершина и аллегория любви, ее вечное, высшее и неоспоримое выражение. МИФ — миф о Юпитере, Пасифае и Минотавре… Миф ли?
Быка я нашел! И написал! Оставалась ЖЕНЩИНА Опять эта женщина! Да хоть бы и часть ее. Нет, я уже не искал, как в первой картине, натуру и представление. Мне надо было здесь выше, куда выше! Много выше! И словно бы выше МИФА. «Господи! Просвети! Дай силу написать ее!» ЕЕ! Как? Да уж вовсе не так, как страдалец Серов. Я должен был слить ее плоть с этой буйной бычиной силой и выразить так же, как выразил силу любви и страсти одним быком!
И я повернул Европу так, как только можно развернуть женщину в самом немыслимом развороте, когда ясно представляешь и ее лицо, отвернутое от зрителя, но выражающее то, что выражают и только и могут выразить ее волосы, груди, ее торс и зад — главная сущность женщины, как там ни мудрите, ни ханжите! Я нахватал тело женщины с грешной мальчиковой одержимостью, с тем запретным давним ломящим, не поддающимся слову состоянием, какое томило меня, обращало в робкого раба и ненасыщающегося мучительного обладателя. Обладателя? Да только, может, твоя вечная голодная страсть, ненасыщенная жажда и дали это решение. Я воплотил его в совершеннейшей женской части, которая одна могла отразить все. Женский девичий зад! Никто тебя, кроме древних, в живописи, скульптуре не воспел. Не воспел и в слове. Пели женские очи и ланиты, губы и перси, волосы и ресницы, и даже живот вроде воспет и отражен в танце, но только художники робко, подавленно пытались отобразить красоту лунножемчужного, грешно раздвоенного, божественно круглого и как бы вечно всасывающего мужской взгляд, ревниво хранящего еще большие тайны зада. Его-то я и написал наконец, кажется, так, что кисть стыла в руке и помрачающая ум жажда, с переходом в тоску по такой действительности, ломила душу. Она ведь есть, эта действительность, но только недоступна мне! Есть, была, будет. И кто-то — не я — ею наслаждается и даже не ценит, не боготворит, не боготворит и не ценит.
Так я написал ЕВРОПУ.
Я бросил картину. Валился с ног. Не стал и обрамлять, хоть рама была давно найдена. Черная, под эбеновое дерево. Я давно научился делать, тонировать в любой цвет простую древесину и даже сделал несколько умопомрачительных, с резьбой и лепкой, вызолоченных «венецианских» рам, рам в стиле ренессанс и даже Людовикового рококо. Я делал их, любовался ими и, усмехаясь, думал, что вот и жизнь моя какая-то сложная рама, для неовеществленной и, может быть, очень простой картины… А эбеновая рама, даже в приближенном рассмотрении, была точно в тон той мифической мрачной ночи, плывущему быку и похищенной им любви.
Теперь надо было накинуть влажный холст на сырое полотно. И еще я понял, что не могу больше находиться в мастерской. Весь дрожа, как бывало со мной иногда в дурном сне или после необыкновенной удачи, я запер дверь и вышел из квартиры в ночь. Знал, что, пока не наброжусь, не успокоюсь. Знал я и то, что сделал еще один шедевр, недоступный никакому художнику. Я знал это всей кожей, каждым волоском, каждой клеткой своего измученного тела. И я знал, что больше не в состоянии сделать ни одного мазка — буду уже портить. Знал это точно.
И в то же время с меня свалилась гора. Было ощущение легкости и пустоты. Звона в ушах. Пели, звучали, благовестили колокола. Наверное, со стороны я был похож на пьяного или на помешанного, вдруг отпущенного на свободу.
Не помню, как я оказался в центре. Было еще не так поздно. Магазины торговали. Я зашел в гастроном, купил бутылку армянского, бутылку марочного вина, конфет, шоколаду, сыру, консервов. Все было. А когда набил благодатью этой свою сумку, вдруг подумал, что я буду делать с этой снедью один. Сплошной болью заломило сердце, и так захотелось какого-то разделенного участия, и не какого-то, а участия и присутствия ЕЕ, женщины, девушки, что подумалось: «Пойду куда угодно, хоть на панель, к гостиницам, лишь бы найти, взять с собой, привезти, усадить за стол, и пить с ней, и радоваться, и говорить, и может быть, даже плакать и плакаться ЕЙ, и больше ничего не надо..»
Но женщин (и девушек) я никогда не снимал, не брал, а только слышал и знал, как и где это делается. Братья-художники рассказывали, ибо в тех же местах вербовали и натурщиц. Но нет… Не переступишь через себя, ведь такого сорта женщин я всю жизнь чурался, при всем своем голоде старался обходиться без их «услуг», и мне сейчас вовсе даже не «услуги» нужны были — просто нужна была ОНА, кто разделил бы мою радость и просто участливо побыл со мной. Толкаясь взад-вперед у гастрономовских витрин, я машинально посмотрел на часы. Было еще половина десятого. И тут вспомнил: «Что, если… Она ведь, наверное, учится сегодня? Сейчас? И если я поеду к этому ее институту, я как раз найду и, может быть, встречу ее. ЕЕ! Найду, встречу и..»
Я бегом кинулся к трамваю — шел как раз четырнадцатый. И я успел, вскочил на подножку, когда двери уже начали закрываться.
Я рассчитал правильно. Когда вышел на остановке, институт еще не открыл двери, выпускающие вечерников. Потоптался у крыльца. Тут дежурили, поджидая своих красоток, пошлые парни со злобными рожами, молодые мужики и просто подонки, каких теперь навалом стало везде. Я ощутил привычный мне неуют места и неподобных людей. Я был здесь совсем не к месту. Был самый старший средь них, чтоб не сказать старый, но вот штука, стариком я себя никогда не чувствовал, я был по-прежнему тренированно силен, по-лагерному смел, и никто из этих вот соплей не внушал мне и тени страха — просто я был здесь «не тот», и это уже злило и бесило меня. А я боялся только одного: вот выйдет она в сопровождении какого-нибудь скота, уже «занятая», совместная и объединенная с ним. И это будет мне как плевок. Не воевать же за нее тут? Хотя чувствовал — пожертвовать авоськой с коньяком и консервами я мог бы запросто. Был бы толк во всем этом. И все-таки я ждал. Где-то в недрах бетонной этой коробочки прозудел звонок, и тотчас будто широкий подъезд начал выталкивать из дверей сперва редкие, а чем дальше — густеющие женские группы. Здесь учились, как видно, одни женщины, девки, молодые, оживленные, торопящиеся, даже словно сплошь счастливые, судя по говору, смеху, щебетанию.
Я ждал. Душа моя дрожала. Не боялся уже ничего, а просто от нежелания в такой вечер испытать что-то горькое, саднящее. Слупись это я и впрямь хлестнул бы о кого-то или об асфальт этот коньяк и вино, шоколад и консервы и не знаю куда бы, но только не в дом, мастерскую, где стояла на мольберте, закрытая мокрым холстом, моя новая и, может быть, последняя уж победа.
И все-таки, видно, радость не бывает одна. Я увидел ЕЕ, выходящую из подъезда, и никто ее не сопровождал. Я решительно шагнул навстречу.
— Это вы? — словно бы и не удивилась она. — Вы, что ли, меня встречаете?
— Встречаю.
— Забавно… Вам, что ли, больше делать нечего?
— Сегодня — да.
— А вы на праздник, что ли, собрались? — указала на торчащие бутылки.
— Если вы его со мной разделите.
— Что вы! Уже поздно. Мне же вон куда!
— А поедем ко мне. Посидим. Выпьем. Поедим чего..
— Что вы?!
— Я вас провожу.
— Как?
— Закажу такси, отвезу до подъезда.
— Честно?
— Честнее не может быть… Вот сейчас и поедем. Такси идет.
— Забавно.
Я остановил мотор. Назвал адрес. И мы поехали.
— Только часа через два я попрошу..
— Я же сказал. Только лучше через три..
— Хорошо… Но такси?
— Они ходят всю ночь… Шеф, — развязно обратился, совсем как блатной и бывалый, к пожилому шоферу, — вы не сможете подъехать по этому же адресу через три часа?
— Почему нет? — охотно откликнулся он. — А куда везти?
— Да вот девушку в… (я назвал городишко), а меня потом обратно. Четвертак сверху за труды! (Знай наших! Сегодня гуляю!)
— Заметано. Буду как штык! — сказал таксист.
И я совсем повеселел. Как славно все складывалось. И я будто бы не я, а кто-то другой, ловкий, смелый, находчивый. Настоящий «крутой» мужик. И — богатый! Что мне лишняя четвертная!
Сегодня девушка смотрела на меня вроде бы как с восторгом. И еще понял: умна, крепка, корыстолюбива и не овечка, ни в каком случае. Прошлое, хоть и невелико, но с тайнами, и вряд ли когда расколется — всплыло-подвернулось лагерное словцо.
Мы подъехали к самому дому. Щедро-небрежно я рассчитался. Дал на чай. Едешь с женщиной — не скупись. Да и никогда ничего не дает скупость, коль не от нужды. Хочешь быть молодым — не будь скупым, вспомнилась пословица.
Под завистливый прищур таксиста мы высадились. Я первый. Она за мной.
Лифт не работал. И я привычно пошел к лестнице.
— Ой, как же… Без лифта? — пробормотала она.
— Да я им никогда не пользуюсь… Идем!
Думал, она скажет «боюсь» или еще что. Но она молча последовала за мной. Мы поднялись на двенадцатый этаж. И два раза я останавливался и ждал ее. В исчерканном, гнусном подъезде было холодно, избито, загажено. Лампочки, еще ладно, горели через этаж-два.
Но в коридоре свет был.
— Не испугайтесь моего беспорядка, — сказал я дежурную фразу. Она и тут промолчала.
Мы зашли. После темноты и обшарпанного подъезда квартира моя, устеленная коврами, мне и самому показалась роскошной. И это же обстоятельство, видимо, успокоило ее. Она вздохнула. Ждала, наверное, увидеть загаженную холостяцкую нору, заставленную холстами, заляпанную красками. Ничего такого не было. Я любил порядок и чистоту. А кухня моя и вовсе блестела белизной, наверное, для женщины это самое прекрасное.
— Как чисто у вас! — вырвалось у нее полувосхищенно.
— Стараюсь.
— У вас в самом деле нет женщины? (В смысле «не бывает здесь» — понял я.)
— Есть. Вот! — указал на нее.
— Какой вы… А что мы будем делать?
— Мы будем есть и пить. Вот стол. Вот здесь, в шкафу, посуда. А вот всякая снедь, — стал выкладывать из сумки сыр, колбасу, шпроты, вино, шоколад, коньяк. — Хозяйничайте, пожалуйста.
— О-о! Вот это да-а! Вы так здорово живете?
— Стараюсь, — гордо солгал я.
Что врать — жил всегда скромно. И вином особо не баловался. Но теперь мне хотелось быть халифом, богатым, щедрым, гусарствовать (а наверное, я и в самом деле был таким всегда). Просто гусарствовать не было особого случая.
— Где у вас полотенце?
И она без всяких предисловий вписалась в отведенную ей роль. Она, должно быть, была прирожденно хорошая актриса. И вот уже вытирала стол, мыла тарелки, чашки, накрывала и расставляла, а я с восторгом обозревал ее снова, с ног до головы. О, какие были формы! В тесной трикотажной юбке зад ее был просто великолепен, широкий, выпуклый, с мерно двигающимися ягодицами, волосы, хотя и завитые, были просты по-девичьи. От нее неуловимо пряно пахло приятным женским потом вместе с какими-то слабенькими духами.
«Господи! Как хорошо!» — подумал я, как бы молясь Всевышнему за то, что на кухне моей впервые за столько лет хозяйничает женщина, даже девушка, и это у меня, пятидесятичетырехлетнего, по ее понятиям, наверное, пожилого, если не старого уже мужика. Нет, не старого, ибо говорил уже, что никакой старости даже в намеках я не чувствовал, не ощущал, наоборот и напротив, во всем теле моем был, стоял, ощущался здоровый, молодой, ненасыщенный голод, любовный, сексуальный, мужской, творческий — и просто ГОЛОД!
Откупорил вино, коньяк, консервы. Она резала, раскладывала по тарелкам сыр, колбасу, хлеб, высыпала на стол конфеты. И сели за стол совсем не так, как в том ресторане, на крыше, а гораздо теплее и объединеннее.
— Есть хочу! — сказал она.
— Я — тоже..
Я налил ей вина (от коньяка отказалась), себе коньяку.
— Ну, давайте. За продолжение…
Она пила вино, а я смотрел на ее ресницы. Они были опущены, не очень длинные, но какие-то густые и приятные — ресницы девочки-школьницы. И это было так здорово. Школьница! Сегодня она казалась такой. Была моложе и милее… И в душе я хотел, чтоб она была именно школьницей, и даже мысленно одел ее в ту школьную, с белым передничком, коричневую и милую мне форму, которую теперь уже начали заменять на какую-то противную сине-зеленую, тошную выдумку некой педагогической бездари.
— У тебя… можно на ты?
— Конечно.
— У тебя есть твоя школьная форма?
— Есть… То есть — не знаю… Может быть, мама ее уже отдала.
— Да разве можно так!
— Можно… Мама у меня такая… Она не спрашивает. От нее чего хочешь ждать можно..
Мы снова выпили, с каким-то странным значением коснувшись рюмкой рюмки.
— У тебя все-таки есть кто-то? Тот парень?
— Зачем вам? Не знаю.
— А все-таки? Как это понимать?
— Да не знаю. Я с ним опять поссорилась.
— Значит., есть. А что ты все время ссоришься?
— Характер плохой… Я вспыльчивая.
— Характер надо обуздывать..
— Какой шоколад вкусный… Давно такого не пробовала.
— Еще выпьем?
— Наливайте… Ой, я уже пьяная. Голова так кружится. Хорошо..
— Только не думай, пожалуйста, что я тебя собираюсь споить. И ничего не бойся.
— Я и не думаю… И не боюсь… Вы не страшный. Вы вообще какой-то… Не такой…
— Какой?
— Не знаю… Ну, не такой, как все..
Теперь она была розовая, даже пунцовая по щекам. Глаза потеряли неприятный мне маслянистый блеск. Со мной сидела юная жаркая девочка. Девочка. Девочка. Девочка!
— Почему ты не вырастила косы?
— У меня были в школе, да плохие, жиденькие.
— Что за глупость! Волосы у тебя хорошие. Я бы не дал их стричь. Их можно вырастить.
— Ну, вырастите..
— Надо время. Могу..
— Ой, уже полвторого! Скоро шофер приедет.
— Торопитесь..
— Не знаю..
— А еще приедешь?
— Не… Ой, приеду, наверное.
— Ну, давай выпьем за это!
— Наливайте… Какие конфеты вкусные! Я как раз такие люблю. Ой, я совсем… Как я тогда… Теперь… А такси?
— Можешь остаться.
— Что вы?
— Вон есть два кресла-кровати. Они раскладываются. Займи любое..
— Не знаю… Нет. Мне же завтра на работу.
— Ну, хорошо. Давай пить чай.
А дальше мы пили чай. И она наливала мне. А я любовался ею. Девочка, наливающая чай! Сейчас мне она уже казалась «моей». Моя девочка! Как часто в душе мужчины и женщины, наверное, тоже используют это странное и собственническое притяжательное местоимение: моя! мой! Как часто — и как ошибочно!
Мы допили чай. И с улицы послышался гудок такси. «Приехал. Молодец!» — брякнул я, а про себя пожалел. Лучше бы она осталась, хотя знал, что вряд ли меж нами сегодня что-нибудь будет, но если по правде, я уже так хотел ее, но все равно бы не тронул, не заставил, не стал лезть с приставаниями. Нет. Я будто бы точно знал, что здесь отношения наши будут другими, неясными, может быть, очень тяжелыми. Но еще, сверх того, словно чувствовал, что она будет со мной и от меня не уйдет.
И опять спустились по темной лестнице-шахте. Кто-то погасил свет — выключатель был внизу, мы шли в полной темноте. Она держалась за меня. И на выходе я обнял ее и неловко поцеловал в щеку. Она не отдернулась, но и не ответила.
Мы вышли из подъезда. Светила полная луна. И такси доверчиво ждало нас у крыльца.
— Я уж думал — зря… — усмехнулся таксист.
— Давай поехали, — суровее, чем хотел бы, пробормотал я, усаживая свою гостью.
Машина помчалась, раздвигая огнями лунную мглу. Я нашел руку девушки, жестковатую, детскую, и сжал ее. Она не сразу, но все-таки ответила. И так об руку, касаясь ее полного бедра, я ехал (мы ехали) до того самого паршивого городишки, где она все еще жила, и подкатили к самому крыльцу знакомой мне пятиэтажки. Здесь она («моя» девушка) козой выскочила из машины и, ни о чем не условливаясь, не прощаясь даже, исчезла в подъезде.
«Вот тебе на! Проводил! — горько и зло подумал я, захлопывая дверку. — Убежала, как дура! Что с ней такое? Ведь все было хорошо. Что?»
— Не поладили, видно? — философски заметил таксист. Закурил сигарету, щелчком послал спичку на крыльцо. — Расстроился, что ли, хозяин? Плю-у-у-нь… — и двинул вперед рычаг скорости.
Зачем-то я не оборвал его, слушал. Лицо таксиста было старое, жестко-злобноватое и, как ни странно, мудрое, даже располагающее — лицо пожившего, повидавшего жизнь мужчины, имеющего об этой жизни свое, твердое, непоколебимое мнение. Приняв мое молчание, как форму для совета, таксист продолжал:
— Вот она от тебя удула. А ты — растерялся. Думал, обнимет… To-се… Вроде у вас все путем было, когда в машину садились. Ехали об ручку. И у меня так бывало. И — объяснимо… Парень у нее тут наверняка есть. Понял? Он, может, ждет! Понял? Может, вложит ей сейчас. Не бегай, сука, по ночам, не езди по таксям! А? Такое не может быть? Еще как может. Вот она и смаскировалась. Может, он еще в окошко смотрел? А счас она врет ему: «Автобусов не было». To-се… Было у меня так. Было, хозяин. Телка молодая была, из медичек. Привезу к общаге — и ходу от меня! Атак было все вась-вась… Бросил я иё. Их, таких, с ходу надо бросать. Заметь! Заметь, хозяин. Ты меня еще вспомнишь… Не каркаю… Но — общага… Они, общежитские, заметь, почти все порченые. Портит их, заметь, эта вольная жизнь. Женщину… А девочку если., ух, в строгости надо держать! Заметь… Когда баба волю имеет — как пить дать, скурвится. А если красивая, да на передок слабая, — по рукам пойдет. Не остановишь. Знато. Видал я их, сук, всяких… И ни с одной красивой статьи не вышло. Все в кусты смотрят. Домашнюю надо б тебе. А домашнюю мама к тебе не подпустит. Домашнюю дома держат. Стерегут. Потом замуж с рук в руки. И так и надо, заметь… Воли им только дай… Ох, ослепил, блядь. С дальними гонит… Да. Ты только не сердись, хозяин. Я от добра. Вижу, в душе у тебя погано… Бы-вает. От них, зараз, всего ждать можно. А кто им верит — дурак небитый… Сам вот вроде все знаю. Я… А — тоже дурак. Нам, видишь, все лю-бовь вечную подавай. Любовь надо, чтоб в кино как… И в книгах читаешь Лю-бовь! В чужих руках-то всегда хер толще. Лю-бовь! Хошь, дак помни мой совет: не верь бабе никакой. И с имя волком, понял, волком быть надо. Чтоб любили. Заметь! Волком! Чтоб она тряслась перед тобой! Тряслась. А как демократию эту разведешь — и пропал. Кранты тебе. От красивой — особенно. Да от молоденькой. Душа сгорит. A-а… И еще заметь: молодая лошадка любит лягаться. Самой-то ей хоть бы что. А ты — душу жгешь. Суки они… Пытано. Ну, вот и приехали. Ты, однако, мне понравился, хозяин. Кто будешь? Не художник, случаем?
— У меня, что ли, написано? — с трудом усмехнулся я.
— А я людей насквозь вижу. Тридцатый год на тачке. А это, заметь, — шко-о-ла. Кого только не возил. Знаю. Алексей меня зовут. Алексей Фролович, в общем. Хошь, дак телефон мой запиши, квартирный дам. Мало ли куда, когда надо будет. Только не думай, что из-за рубля. Рубль я всегда с дерьма сдерну. А с хорошего человека мне, бывает, и по счетчику не надо. Ваг так, хозяин. А она, помяни мое слово, никуда от тебя не денется. Не ищи — сама найдется. Для мужика главное — слюни перед имя не распустить. Пошла? Катись. Придешь — еще по морде дам! Чтоб не бегала. Так надо. Давай бывай. Позвонит, никуда не денется… Бывай. — Он уехал.
А я еще стоял на крыльце. Луна уже ушла за угол дома. Выглядывала из-за него одним глазом. И глаз был бесстыжий, бабий. И будто смеялся надо мной.
Глава IX. «И ОБРЯЩЕТЕ…»
Дня три прошло. Все эти дни, растерянный и одинокий, я писал какие-то этюды, строгал брусья на рамы, сколачивал подрамники, варил грунтовку — вообще занимал себя. И старался не думать об этой продавщице. Продавщица — она и есть продавщица: дрянь, дерьмо, сволочь, товар. Со зла я так, конечно. И про художников ведь то же можно сказать. И что я еще только ей не навешивал. Хотя душа моя вроде бы уже отмякла, и я начинал думать, пойти или не пойти к ней в магазин и хоть выяснить причину того «убега» от меня. И, размышляя об этом, приходил к выводу: а ведь, пожалуй, в точку прав этот Алексей Фролович, таксист, и врала мне она, что «поссорилась» там с кем-то. И не парень у нее есть, а просто мужик, кобёл, как говорили в зонах, и запросто она с ним, а ты — запасной вариант и даже не вариант, а так, «дяденька», которого можно обделывать, а потом в душе (или даже вместе со своим хахалем) потешаться, как над дураком. Погано мне было, и всея уже перебрал — и оправдывал ее, становясь на ее сторону, ведь в конце концов, может, она и права, и может быть, у нее там «любовь» и еще что-то, что было, сформировалось до меня, а я лезу со своими встречами-провожаньями… Оправдывал и снова обвинял: если есть «любовь», так и не ходи, не езди, трахайся-кувыркайся со своим подонком. А если и был у нее кто, я почему-то убежден, был, то — подонок, наглый, развязный, приставучий лодырь, каких сейчас пруд пруди, и я даже представлял его сытую, безмозглую и, наверное, нахально-красивую рожу. И опять, взвинтив себя, никуда не шел. Старался забыться, уйти от самого себя.
Но все вспоминались, не давали спокойно жить ее короткие ресницы, ее пунцовые щеки, приятные девичьи губы, полнота круглых ягодиц и вся она, рослая, полногрудая, так хорошо «упакованная» и со своими понимающими и дарящими глазками, в которых понимание и прошлое я видеть не хотел, а обещание желал и словно ждал его исполнения.
Телефон зазвонил, заставив меня вздрогнуть.
Подошел, поднял трубку.
Ее голос сказал:
— Александр Васильевич! Ну, как вы поживаете?
— А разве это важно? — сухо ответилось само.
— Конечно…
— Когда от меня убегают, я думаю, уже не так важно. Почему вы так удрали?
— Не знаю…
— Вот и я не знаю! — опустил трубку. Вот тебе, дрянь. Прав был таксист.
Может быть, она обыкновенная вертихвостка. Да еще и шлюха в придачу..
Но спал я плохо. Она не оставляла меня. И я уже жалел, что не поговорил. Утешался тем, что всегда могу найти и встретить ее, и пусть поугрызается. Нечего меня разыгрывать.
На другой день звонок был снова. И слова: «Александр Васильевич, простите меня» — легко сгладили все.
Договорились, что она придет ко мне в воскресенье. И все сразу стало на свои места. Душа успокоилась. Мне стало весело, легко. И с легкой этой душой я отправился по магазинам. Покупать книги, снедь, разного рода еду, о которой я так мало всегда заботился, а теперь мне надо было ЕЕ угостить, порадовать. И опять покупал шоколад, конфеты, купил шампанское и вино и вообще с наслаждением, раньше неведомым, тратил и тратил деньги. Обнаружил, что моя месячная норма уже исчерпана. Да что мне за дело? Книжка еще была полным-полна. Пошел в сберкассу, снял целую тысячу. Подумаешь! Еще много осталось… Да проценты набегут… Да заработаю… Ой, как хорошо, как приятно ходить по городу, по магазинам с деньгами в кармане. Я подумал, что, может быть, купить что-то ей в подарок. Ведь женщины любят подарки, ждут их, и мужчина как будто природой обязан их дарить, наверное, еще с тех времен, когда приносил в пещеру шкуру медведя или льва и героем клал ее к ногам своей женщины. Как она любила его за это ПОСЛЕ! Ночью. Я купил ей чулки, подумав, купил еще колготки, которые я терпеть не могу, но раз они их носят, пусть… На вопрос продавщицы, какой размер, сказал: «Самый большой!» И вызвал улыбку у нее и у себя. Откуда я знаю, какой, но попа у нее очень даже приличная, а колготки эти такие маленькие — как она ее туда втиснет?! Еще купил какую-то в квадратной упаковке дорогую помаду. И уж совсем тайно, однако, разнежась и словно бы стыдясь себя, зашел в отдел, где продавалось женское белье, и, попримерившись, прикинув так и этак, с предвкушаемым наслаждением купил шелковые розовые панталоны. «Цвет — чайная роза», сказала мне, ухмыляясь, пожилая продавщица и посмотрела сладким взглядом. Что думает женщина о мужике, покупающем женские штаны?
Решил, подарки вручу как-нибудь… Если все пойдет хорошо. А панталоны? Они пусть пока лежат.
Она приехала ровно в срок. Я ждал ее на трамвайной остановке. И совсем она не выглядела смущенной. А я не стал напоминать о странном нашем прощании. Мы пили чай, смотрели телевизор, болтали, она просила меня показать картины. Но я уклонился, сказал, что это долго, новая еще не закончена, а все другие скрывал мой шкаф-стена, подобие той, что была у Болотникова, хотя вместо холста я сделал створки из фанеры, крашенной под ореховое дерево. В этом шкафу и стояли все мои лучшие работы. Вся моя галерея. Там был и мой первый шедевр, натюрморт с яблоком, и «Надя», и «Ева», и «Молочница», «Мясной отдел» — три «грации» — толстенные продавщицы из этого отдела, обнаженные и прекрасно улыбающиеся, мясистые, в белых чепчиках с отворотами. Там была «Медсестра» — блудница с клизмой в руке, была еще «Ева с яблоком», «Джоконда из Серова». Была «Мессалина», написанная с до ужаса развратной бабы, встреченной на пляже, и «Женщина в белых панталонах», и совсем скоро добавилась бы туда «Европа».
Снова я любовался «своей» девочкой и снова увез ее в общагу на такси. Правда, не так поздно. И опять она удрала от меня на крыльце, опять был неприятный осадок, и ничего я ни с ней, ни с собой не мог сделать.
Кажется, я начал влюбляться в эту девчонку, и мне было страшно.
А еще через неделю мы стали встречаться регулярно. Она приезжала и уезжала, и ничего ТАКОГО у нас не было. Она «не», а я не настаивал.
— Почему вы всегда меня так? (Гладил ее по бедру.) Вам словно чего-то не хватает? — улыбалась она, когда мы снова сидели рядом на кухне за чайным столом, и косила подкрашенным глазом.
— Мне действительно «не хватает»!
— Чего?
— Резинок вот здесь, — провел я пальцами выше колена.
— Какой… Девушки сейчас такие не носят.
— А кто носит?
— Ну, вот женщины. Мама моя, например, всегда.
— А я хочу, чтоб и у тебя было..
— Нет.
— Почему?
— Не знаю. Я их с детства не люблю. В детстве носила. Мама заставила. Помню, мы пришли в баню. Помылись. И мама подает мне эти, такие панталоны… Теплые, голубые, с начесом… Ой! А я: «Да не буду я носить эти бабские штаны!» Но она заставила. И я носила. В школу даже в таких. Пока одна девчонка не сказала мне: «Думаешь, я не знаю, какие ты штаны носишь!» Х-ха… А зачем это вам?
— Я так люблю.
— А я — нет..
— Мама у тебя умная женщина.
— Она не умная, а… Да ладно. Нашли тему.
— И так не будешь такие носить?
— Не знаю..
На следующую встречу, когда мы смотрели телевизор, — я на софе, а она, как обычно, сидя в кресле, я заметил, что она все время сдвигает ноги вместе. Но женщина не может все время сидеть со сдвинутыми коленями, особенно полная, — это ей тяжело, и вот, когда колени сами собой разошлись, раздвинулись, я заметил в глубине ее тесной юбки резинки белых «бабских» штанов. Что за наслаждение было потом, сидя за столом рядом с ней, ощущать их под пальцами на ее теплом, круто выгнутом бедре!
— Вы совсем не умеете целоваться? — лукаво спросила она меня, сидя уже рядом со мной на софе в прошлый раз.
— А как надо?
— Не умеете… Надо бы вам найти учительницу..
— Ну, что ж… Я готов..
— Наклонитесь ко мне… А теперь вот так! — ее губы прижались к моим, раздвинули их, горячий нежный язык девушки настойчиво пробрался мне в рот, столкнулся с моим, ткнул его и вдруг присосался с такой неожиданной силой и сладостью, что я содрогнулся, а губы ее довершали это вторжение, они словно впитывали, всасывали меня. Так длилось непонятно долго, пока вся, розовая и смущенная (как бы смущенная), она не оторвалась от меня. Челка ее растрепалась, глаза блестели.
— Кто это научил тебя так целоваться? — спросил я ревниво и вдруг почувствовал укол этой самой ревности к ее прошлому, ее неизвестной мне жизни, такой, в сущности, короткой, но уже, видимо, довольно полной событий, каких я не пережил и за полстолетия.
— Да я тоже не умела… В школе, в девятом… Один мальчик… А до девятого меня никто не целовал. Кого я любила, тот не обращал на меня внимания. Сама себя считала некрасивой, даже дурнушкой.
— Как откровенно..
— А я красивая?
— Говорят, что женщинам этого лучше не сообщать. Зазнаются.
— А все-таки?
— Красивая… Для меня..
— Ну, вот… Всегда так..
Мы пили вино, я касался губами ее уха, шеи, ее приятно пахнущих волос. В окно был виден поздний огнистый закат. Моя рука лежала на ее теплом женском колене, а передвинув ее выше, я опять с наслаждением вздрогнул.
— Панталоны..
— Вы же хотели..
— Какая ты милая.
— Я всегда буду их носить, если вам так надо…
— Надо…
И опять слились, как писалось когда-то, в еще более страстном, кружащем голову поцелуе, с жадным сжиманием языка, закрыванием глаз, и руки мои уже обнимали ее мягкую женскую талию, гладили выпуклый живот, тяжелые груди, резинки и опускались к коленям.
«Господи! — мысленно произнеся. — Неужели все это правда? Не могу поверить. Что со мной? Неужели это у МЕНЯ есть такая красивая, юная девушка и пройдет какое-то время, она, возможно, будет моя, совсем моя?!»
Закат за окном густел, как теплое розовое вино в наших стаканах.
— Тебе хорошо со мной?
— Очень… — не задумываясь, ответила она. «О, мудрец — вспомнились мне слова Хайяма, — коль Аллах тебе дал напрокат музыкантшу вино, ручеек и закат, не испытывай больше безумных желаний! Если все это есть, ты без меры богат».
— Правда?! — переспросил я с недоверием в сердце.
— Правда! — и она потянулась ко мне сама. Сама поцеловала тем долгим, приникающим поцелуем, от которого было горячо и кружило голову.
— Ой, я уже совсем пьяная…
И снова я взял такси и отвез ее в эту проклятую общагу, и ничего у нас не было. Каким-то особым чувством я понимал, что она не хочет того, что было у меня с другими женщинами, и это у меня с ней, может быть, даже не получится. Сейчас не получится. Что-то удерживало…
Прощаясь — на этот раз мы все-таки хоть попрощались, — она странно-внимательно посмотрела на меня, как бы оценивая мой рост, возраст, мои морщины, и вдруг сказала, что отношения наши ее не устраивают..
— Почему?! — глупо переспросил я.
— Потому что… Потому что мне нужно выходить замуж. И потому, что муж будет у меня под каблуком!
Вот тебе и «хорошо» с тобой! — растерялся я и разозлился:
— Знаешь что… Давай-ка ты иди., и больше не звони мне!
Она молча хлопнула дверью. Опять удрала.
А я остался, вышел на дорогу, где мчались редкие, раздвигающие тьму машины. Был уже, кажется, третий час ночи. Пожалел, что отпустил такси. Как глупо, смешно… Я, такой, в общем, нищий, бедный художник, играю в богатого, в обеспеченного буржуя, разъезжаю на такси, все время покупаю пирожное, шоколад, шампанское, сорю деньгами. И это Я? Хорошо быть богатым… «Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным», — пришла глупая присказка. Да… Лучше… Однако эта девка уже начинает меня окручивать. Да черт с тобой, живи ты и не лезь мне в душу! В мою богатую душу, где все красавицы и все красоты мира, все его потрясающие сокровища и — нет никого, темно, как вот сейчас на этой дороге. Я, всю жизнь искавший какую-то необычайную любовь, прекрасную женщину, чуть не саму Венеру и даже лучше ее… Ведь Венеру-Афродиту все мы представляем по изваяниям древних или картинам воз-рожденцев… А кто современный написал истинную Венеру, всеобщую богиню, ту, что вместила бы в себе всю женскую, потрясающую мир красоту? Кто? Может, ты возьмешься, художник Александр Рассохин? Ке-315? Ты, гонимый с выставок, из Союза художников, никому не известный, чьи картины, как приговоренные и ждущие расстрела. И будь у них руки, стояли бы так, положа их на затылок. Кто видел их? Кто восхитился? Один только Болотников, такой же бунтарь-одиночка, предтеча. И если б кто-то обозрел картины Болотникова, ему бы, самое малое, заключенье в дурдом… Мне — и того больше. Мои картины: «Ну, знаете!!! Это же… Ну-у… неприлично… Женщина в., нижнем белье… Ведь вы претендуете на городскую выставку… А там женщины… Дети… Могут быть…» И это всего лишь на городскую! Где там областная, тем более зональная, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ!! Туда не пробиться, если не торговать кистью. А на СОЮЗНУЮ?? Только если «море знамен», ликования, праздники или плешивый этот «мыслитель», создавший все это разливанное море лжи, лакейства титанической силы и холуйского усердия. Слышно было, все наши «трутни» уже пробились в известные: Семенов писал ВОЖДЯ, преуспел в прославлении самого передового класса, уже «заслуженный», вот-вот «народный», Лебединский на подходе к тому, Замошкин мелькает везде, представлен на всех выставках, но пока не в чести, не определился, а Игорь Олегович уже командует Союзом художников, и вот я — волк у дороги… А может, и мне плюнуть на весь этот поиск, вот хоть бы и только что бросившей меня женщины, ЖЕНЩИНЫ! И написать картину: «Вожди»! И тут бы уж рядом, рядышком место и Гитлеру, и Усатому, и лучащемуся плешивому, и Мао, и Бяо, и всем, всем, может, от Хеопса и каких-то совсем уж диких Чингизов и Мамаев — и проволокой-колючкой картину обмотать! Лагерь тогда точный будет и по той же самой.
Так думал я, стоя на ночном ветру, на пустом шоссе, пока не показалось вдали такси… с раздумьем притормозил. Ночь. А кто бродит по ночам? «Когда-нибудь обязательно встретит черта!» Вспомнилось. Но посадил.
Поехали. И укачанный мягким сиденьем, пригревшись, уже не грустил я о свершившемся расставанье, а думал: «Действительно, не посягнуть ли? Не написать ли рожденную из пены? Старая и страстная, неутихающая моя мечта. И это была бы моя последняя попытка прорваться. Написать так, чтоб шапки валились, чтоб затыкалась любая хула, немели языки… И тогда — НА БЕЛОМ КОНЕ! — в этот самый «союз», да и на х… он нужен был мне! Себе просто еще раз доказать, себя оценить хотелось.
И картину назвать: «Афродита бесценная..» Идея? А что? Хватит ли пороху только? Хватит! Пусть и пятьдесят пять мне уже… Хватит! Лагерная закалка поможет. Где только взять натуру… Тут натура вообще даже не встретится. Надо бы лишь «закваску», толчок, приблизительное, намекающее… А строить все равно фрагментарно… Обобщить накопленное, нахватанное — зря, что ли, я всю жизнь гляжусь в женщину, мучаюсь от нее? Только надо ведь мне не женщину, надо, чтоб было и живое и божественное… ЖИВОЕ и БОЖЕСТВЕННОЕ одновременно.
— Приехали, — буркнул таксист.
Сунул ему пятерку вместо двух с мелочью. И он даже не сказал «спасибо», угнал. Как не люблю я тех, кто не умеет говорить «спасибо»! Кстати, девчонка эта, продавщица, не умеет тоже… А я даже как-то забыл о ней. Удрала — объявила цель — и долой. Нечего больше ее искать. Обычная поселковая дура. Хотя в чем-то и необычная. И не стану больше ее искать. Хоть есть в ней что-то… И недаром она остановила меня. Теперь позвонит — кладу трубку.
И опять занят был своей новой идеей. Идеей? Новой? Да она словно жила во мне вечно: НАПИСАТЬ АФРОДИТУ!
Сколько я представлял эту картину мысленно и столько же не решался к ней подступиться. Кроме того смешного случая, давно, в училище, когда с натурщицы, чем-то напоминающей истасканную Венеру Милосскую, начал сразу катать… Спасибо Павлу Петровичу, остановил, не дал свершить-опошлить мечту. Итак, написать богиню любви. ЖЕНЩИНУ? Или БОГИ НЮ? Или — Женщину в БОБИНЕ? Богиню в Женщине? Написать красоту поражающую. Красоту всеобщую. Красоту неотразимую… А ведь у каждого свое понятие женской красоты. В том-то и главное препятствие. Нет эталона. Никакие конкурсы за границей его не выявят. Разве долгоногие худощавые дылды годятся для восприятия богини? Ну, напиши-уговори я самую распрекрасную манекенщицу во всем ее одеянии, макияже или хоть танцовщицу, гетеру? И будет просто красивая, соблазнительная женщина — и больше ничего… Не Афродита. Древние знали это. ЭТО. И они приближались к пониманию сущности Афродиты. И больше всего, должно быть, тот, кто ваял Венеру Милосскую, да еще тот, кого я считаю своим незримым учителем, кто писал «Турецкую баню» и «Венеру Анадиомену». Зачем у Венеры Милосской нет рук? Да потому, что у этого скульптора не хватило таланта их изваять, но хватило этого же таланта, чтобы обобщить, ибо он не хотел, чтоб Богиня превратилась в Женщину с руками. Это все я давно понял, как тщательнейшим образом пересмотрел и кой-где скопировал сотни изображений Венер и Афродит. Копировать я мог словно бы и с закрытыми глазами. Какое это творчество?! И даже кустодиевскую «в бане» накатал как бы шутя за один сеанс. Эта, кстати, напомнила мне мою исчезнувшую продавщицу, которую теперь я даже и не искал и просто словно бы исключил из своей памяти. «Знай, дрянь, что я в тебе не нуждаюсь». Но что-то заныло, заболело, когда яснее вспомнил ее и уже будто ставшие моими резинки, тепло и прохладу ее лица, запах волос, все-таки еще школьный, но во мне был и тот отстраняющий меня, отталкивающий жест, с каким она рванула от меня на крыльце, и ее голос: «А муж у меня будет под каблуком».
Муж! Черта с два тебе будет, бодливая дрянь. Я тебе не сопливый хлюп, чтоб еще бегать за твоей юбкой. Ах! ты мо-ло-дая! А потому я должен, значит, валяться у тебя в ногах, за твою молодую дурь? — это я разговаривал сам с собой, и рука уже тянулась включить этот желтенький аппарат в коридоре, в надежде, что… Да, если честно, я ждал звонка, и ее голоса в трубке, и ее прихода на мою кухню. Ждал.
В воскресенье — самый подлый день для ждущих — я включил неделю молчавший телефон. И почти тут же услышал звонок.
— Слушаю, — жестко сказал я.
— Это я..
— Зачем?
— Ну, так… Не знаю..
— Вот и я — «не знаю», — обрезал я и положил трубку.
О, дурак! Дурак! Что наделал. Теперь же она и не подумает звонить. Правда, я могу встретить… Но… Нет, не пойду… НЕ ПОЙДУ! Но выключать телефон я не стал.
Я продолжал искать Афродиту. Конечно, натуру даже во сне не найти такую. Но хоть что-то приблизительное, коль не лицо, лицо к тому же я как-то представлял. Но тело? Тело Богини должно было быть одновременно и могучим, и нежным, и сладострастным. Попробуй найди его, даже годами рыская по пляжам, даже годами… Тело богини любви должно было быть необыкновенное, превосходящее, фантастическое. Например, какие у нее должны быть груди? Соски? Какой живот? Я почти машинально уже рисовал все это, но мне все равно было нужно словно бы на что-то опереться.
Звонок на другой день был для меня неожиданностью.
— Александр Васильевич… Простите меня — это я..
И как я мог не простить?
И вот мы снова пьем вино и чай, жуем пирожное и шоколад. И я снова обнимаю ее за нежную сильную талию и целую шею, щеки, волосы, а рука моя трогает ее колени, гладит выпуклый живот, ощущает эти таящиеся под юбкой пристежки и туалеты. И наконец, я сдвигаю подол.
Она не сопротивляется, я двигаю подол выше и вижу прекрасные женские розовые штаны, такие запретные и такие любимые мной.
— Господи, сколько еще ты меня будешь мучить?
— Я не мучаю..
— Покажи мне твои груди?..
— А как?
— Сними кофту. Здесь тепло.
— Ну, ладно… — просто соглашается она.
На нашем двенадцатом этаже можно не задергивать окно. Все крыши и окна ниже.
И вот она сидит рядом со мной, полная, прекрасная в этой полноте девушка в панталонах и бюстгальтере, из которого так и лезет ее пышный, нежный бюст.
— Какие у тебя груди!
— Да. У меня они классные! Хотите посмотреть?
— Даже поцеловать..
— Вот, — она ловко расстегивает, движением плеч спускает бюстгальтер, и полные белые с розовым и чуть с желтизной шары, словно выпущенные на свободу, нежнейшей тяжестью клонятся передо мной.
Я припадаю к ним, целую, нежно поддерживаю и чувствую их густой и нежный аромат. Соски их становятся грубо и ярко малиновыми.
— О, какие у тебя груди! Какие соски! — я нежно глажу их.
Она явно гордится своей грудью и вдруг жадно целует меня… Я обнимаю ее, притискиваю и не могу отпустить… Какое волшебство сочной юной женщины-девушки сообщив со мной! Здесь что-то совсем другое, не то, что было у меня раньше с Надией, с другими женщинами, с Ниной. И я понимаю, что там был только секс, желание, утоление. Здесь был праздник, от которого кружилась голова. Припав лицом к пахучей ложбинке меж грудей, я замер, не в силах оторваться.
— Что вы так держите меня?
— Погоди. Не шевелись… Я… Оттаиваю… Оттаиваю… С тобой, — бормотали.
И она понимающе целовала и гладила мою голову.
— Я оттаиваю..
Потом она снова застегнулась. И, как бы смущаясь, надела кофту, оправила юбку. Пунцовые щеки горячили мои губы, и такие же губы я ощущал на всем моем лице.
Снова я вез ее в теплом, качающем такси и, прижавшись к ней, был счастлив, потому что она уже сказала, что никуда не побежит, и мы заранее условились встретиться. ВСТРЕТИТЬСЯ.
А все-таки удрала. Едва махнула. Что это у нее за привычка? Ну, бог с ней, я не отпустил такси и поехал назад, разнеженно вспоминая этот вечер, ее груди и какой она вся была, когда сидела со мной со сдвинутой юбкой и в этих нежных розовых штанах. Доступная, близкая, горячая и будто моя собственность… И как я хотел ее теперь уже совершенно определенно.
Хо-тел. Но мне хотелось и продлить неторопливо-мучительное счастье этого нашего совместного общего узнавания. Я совсем не понимал тогда или, точнее, отбрасывал в сторону это трудное понятие время, которое сверху вниз кажется коротким и не удивляющим, но снизу вверх оно наверняка кажется ужасным, и редкие ОН ОНА могут без раздумья и угрызения его переступить… Я забыл страшную, роковую суть времени, как забываем мы все счастливые, которые часов не замечают, не замечают! Не замечают, дураки..
Глава X. ПРОСИТЕ — И ДАСТСЯ ВАМ!
— А знаете… Если я останусь у вас? Не хочу в общагу сегодня. А? Нет, правда. Давайте, я останусь? Я останусь, но только без ЭТОГО? Хорошо.
— Хорошо. Так будет, наверное, даже лучше. Без ЭТОГО… А ты ляжешь со мной?
— Да.
Мы сидели на софе. Смотрели телевизор. Какую-то муру. Точнее будет, она смотрела, ая любовался ее совсем словно детской щекой и приоткрытыми губами.
Меня как-то сразу стало знобить. Трясло. Неужели сейчас я, уже пятидесятипятилетний мужик, буду спать, обнимая пышную девятнадцатилетнюю девочку? Неужели такое возможно? И кому? Мне? Который теперь только мечтал о молодой и тем более юной? Да. Я знал, что можно такое купить. Купить любовь и девятнадцатилетнюю. Да только ни в какую не стал бы. И что это такое: купленная любовь? Что это за мерзость — ку-плен-на-я?! любовь?
Да никогда не поверю я в этакое счастье. Да не поверю, что это за радость, да не верю, если там за радостью красная бумажка, одна, другая, третья — сколько там ИМ платят? Сколько…
Как пылающий мальчик, стараясь не выдавать своей трясучки, я принес свою постель, раздвинул софу. Сам я редко спал на раздвинутой софе, потому что лень было и незачем, но у меня были и две подушки, и большое двойное одеяло, и все прочее. А раздвинутая софа показалась мне огромной, как футбольное поле. Я боялся. Боялся спугнуть свое счастье. Боялся, вдруг она со своим взбалмошным характером сейчас передумает? И мы опять пойдем по темной лестнице, как ходили уже не раз (я не переношу лифт, темное, глухое пространство его давит, к тому же вечное это опасение остановки, неоткрывающихся дверей), опять окажемся на промозглой улице, где была поздняя зима и все время таяло и хлюпало, скользило под ногами. Опять будем искать-высматривать фосфорический глазок такси и опять ехать, чтоб расстаться по-дурному, у тоскливо-противной пятиэтажки, «общаги», где она жила. И она опять убежит от меня..
Я думал об этом, медленно разворачивая постель. ОНА же стояла у окна, отвернувшись, и, может быть, думала о том же…
— Знаете, — сказала она. — Дайте я расстелю. Это женское дело. А вы… Вы пойдите пока на кухню или помойтесь.
«Как верно она сказала», — подумал я и отошел от софы. А она, девушка, зыркнув на меня и словно злясь, начала быстро и ловко, по-женски особенно стелить простыни, взбивать подушки, быстро и ловко постелила одеяло, оправила, отвернула, еще что-то такое делала. А я смотрел.
Лицо ее было нежно и властно одновременно, губы закушены, брови то сходились, то расходились, прекрасно-выпуклый зад как-то особо соблазнительно двигался.
— Ну, что вы стоите? Идите мыться!
Она снова отошла к окну.
Я послушался. Разделся до трусов. Пошел в ванную. Помылся. Почистил зубы — все это делал как всегда и в то же время не так, потому что словно ошалел. Что такое со мной? С теми женщинами было все просто. Обыкновенно. Разве что с Надией? Но Надия была женщина, и женщина куда более опытная. А здесь все-таки девушка, хотя как-то, между строк, я спросил ее об этом. «Ачто?» — «Ничего».. «Нет, не девушка. Так получилось… А что?» — «Ничего. Просто хотел знать». Промолчала. И я промолчал.
Когда я вышел из ванной, она стояла так, как была. У окна. И даже не повернулась, когда я лег.
— Теперь мне командовать?
— Нет, я сама.
Она тоже сходила в ванную, пошумела там водой. Вернулась, пахнущая мятной пастой.
Я лежал под одеялом, выставив поверх руки, как школьник в пионерском лагере. Она посмотрела.
— Отвернитесь..
— Нет.
— Ну, хотя бы не подсматривайте..
— Буду… Все равно..
— А-а! — притворно-досадливо сказала она и потянула кофточку через голову. И, оставшись в бюстгальтере, вся малиновая и с потемневшим лицом, так же ловко и по-женски расстегнула-спустила юбку. На ней были белые простые панталоны, и она была в них прекрасна, мощная, плотная девочка. Шагнула к постели. Я подвинулся. И она легла рядом со мной. Влажная, холодная, горячая и тяжелая, неуклюжая и нежная одновременно, пахнущая мятной пастой и внезапно пряным подмышечным потом.
— Что с тобой? Ты боишься?!
Вместо ответа она прижалась ко мне, и я почти обморочно ощутил крепко целующие меня губы, холод ее щеки и обнял ее за мощную и нежную талию, двинув ладонь по ее спине под резинку, где ощутил пухло-нежный мысок, от которого начинались ее круглые, пышные ягодицы..
Так мы затихли, словно сливаясь в одно, присоединяясь друг к другу одним всеобщим тяготением и объединенным желанием.
Это была странная дивная ночь, в продолжение которой мы только прижимались, не отрывая губ, гладили и ласкали, целовались, притягиваясь друг к другу. Для меня и ее уже не было тайн, я трогал, гладил, сжимал ее полные ягодицы, сдвинув резинку, обнажил живот, прекрасно выпуклый и округленно вдавленный, я гладил его, наслаждался найденной нежностью пупка, опускался дальше, к роскошному двойному валику, и пальцы нашли наконец ее лоно, странно и, может быть, по-девичьи не сильно опушенное, гладкое по краям кругловытянутых губ и нежно пахнущее каким-то сырым и как бы тюльпанным. Так пахнет чашечка тюльпана в глубине. Может быть, ее чашечка была только немного более пряной.
Она не сопротивлялась мне и ни разу не оттолкнула меня. Ее руки делали то же самое, они гладили, искали, исследовали, знакомились с моими особенностями и, иссякнув желанием, опять обращались в губы, поцелуи, объятья. Мы засыпали, словно пресыщенные, и так же внезапно просыпались и словно не было конца этой медленно текущей мартовской ночи.
А утром был снег. Я проснулся первым и осторожно обнял ее, спящую тяжелым, обморочным сном, но с такой ясностью, хотелось бы написать, не лица, а чела, с такой девичестью в опущенных веках и полуоткрытых припухших губах, что подумал: «Нет. Это не явь. Сон или что еще? Что еще?.. Разве такое может быть явью?»
Я коснулся ее живота. Нет, это явь. Нащупал резинки опущенных к коленям панталон и, робея сам себя, положил руку на теплое, неизъяснимо прекрасное возвышенное углубление ее лона. Она спала и слегка улыбнулась, ощутив мою ласку.
А потом открыла глаза и сразу потянулась ко мне.
А я был готов зарыдать от счастья.
В тот раз мы встали уже сближенными. И я проводил ее на трамвай, с неудовольствием заметил, что она на людях словно стыдится и дичится меня. Счастье с ней было, видно, ух какое трудное, и я опять неприятно это понял, когда, совсем холодно от меня отвернувшись, она втиснулась в трамвай. Уехала, даже не глянув на прощанье.
Я вернулся в мастерскую и хоть был обескуражен, однако начал что-то кропать. Набрасывать контуры. И вдруг осенило! Да я же и напишу с НЕЕ Афродиту! Блеск тела этой девушки, его великолепная нестандартность, незавершенность как бы чего-то воистину великого захватили меня. Я мог найти в ней главное — Женщину в Богине. Богиню же в женщине я мог воссоздать сам, своим воображением и всем тем, что уже полвека искала-алкала моя жадная до женской красоты и сути душа. И я твердо решил просить у своей подруги позволения писать ее обнаженную. Картину я, кажется, нашел. Это был (должен был быть!) рассвет — и такой синий, волшебный (не то, не такое слово!), такой, когда возможно все, что желает и ищет душа, и когда еще торжествует над Землей, лишь собирается скрыться все то, что исчезает с первым криком петуха. Как с первым явлением какой-то реальности, которая вспугивает и видения, и самую ночь и начинает наполнять реальностью еще грядущий, но уже нарождающийся день. На этом ТАКОМ рассвете и должна была родиться, явиться из пены непробуженного моря БОГИНЯ АФРОДИТА и с первым проблеском уже земной и розовой зари должна была выйти-ступить на грешный берег, на горе или счастье всем земнородным людям, животным и растениям. Ибо любовью ее всемогущей отрицалась и побеждалась даже исходная, переходная ли реальность.
Все это мне надо было сделать кистью и моим обостренным до взрывного предела чутьем, когда уже холодно щекам, как перед обмороком, и волосы шевелятся над зат ылком и, кажется, дыбом встают на темени, и ты в это мгновение начинаешь чувствовать себя рукой творца, и этой рукой словно водит НЕКТО, а ты лишь исполняешь его волю, лишь исполняешь. Состояние сие посещало меня в периоды редких сумасшедших удач, когда я, словно Робин Гуд, пускал по цели стрелу и знал, знал точно: она попадет в центр яблока и задрожит, может быть, и сама, ощущая восторг своей точности. И еще я знал, что моим вдохновением будет счастливое дыхание этой девушки, впервые спавшей со мной в одной постели. Точно Антей от Земли, я насытился от нее отвагой поиска и жаждой изображения. Все это я, может быть, лишь голодно чувствовал, а не обращал в слово. Но понимал ясно, какой-то странный «фермент» родился во мне, фермент победы, и я знал, что достигну победы, — картина будет. И не просто новая картина. Это будет моя вечная и воплощенная любовь — тоска и песня о Женщине.
А между тем, пока я вдохновлялся, жизнь шла своим чередом. Меня снова отвергли к показу на городской выставке. На «Европу», которую я представил худсовету, воззрились, как на диво. Охали. Ахали. Судили. Рядили. И — никто не рискнул. Зачем? За риском стоял, как грозовая туча, ОБКОМ! ОТДЕЛ! ЦЕНЗУРА НЕЗРИМАЯ… Кому надо было из-за меня портить отношения, становиться на тот незримый учет, что преследовал уже навечно всякого подозрительного, не дай бог, фрондирующего. Да и не смог бы никто ничего поделать — все было как головой в стену.
И председатель Союза — теперь уже не Игорь Олегович, тот, слышно, пошел выше в какие-то столичные идеологические отделы, — председатель Союза, величавый седой художник в бархатном пиджаке, отечески меня успокоил:
— Александр Васильевич! Ну, поймите нас, ВЫ написали действительно выдающуюся вещь. МЫ — понимаем. Я понимаю. НО… Обком никогда не согласится на публичный показ ВАШИХ творений. Их время не пришло… ЖДИТЕ!! Ничем не могу помочь, а в СОЮЗ с этим даже не пытайтесь — я честно говорю. Сожалею… — Он показывал воздетой дланью куда-то выше потолка, наверх. — Инстанции. Они выше нас. Потерпите, может быть, что-то изменится. А вы разве не можете написать нечто современное?
— Могу… Но… — не хочу. «Современное» никогда не привлекало меня, к сожалению.
— Ну, что ж! — он картинно развел руки с длинными плоскими ладонями. — Что ж..
Даже, показалось, действительно сожалел.
На том расстались.
Вы когда-нибудь испытывали состояние жука, упавшего в бетонную яму? Кажется, выбраться можно, и даже есть крылья, и небо — вон оно! — можно улететь, а не получается, крылья не поднимают, и жук ползет, ползет по стене, ползет и сваливается, и опять на спину, и снова попытка взлететь, и снова падение, и еще, и еще, и еще! Нет… Стена отвесна! И силы кончаются, и уже сломаны-стерты коготки. И никто не спасет, и чуда никакого не случится.
Чудо — оно и есть чудо. То, чего не бывает… Нет, бывает, только очень редко..
И чудо было. Оно приходило ко мне. Ждало меня. Звонило мне. И я все больше привыкал к этому чуду и ждал его. У него был (у нее!), особенно по телефону, необыкновенно нежный голосок. Садиковый, даже не школьный. Мягкий, детский и очень робкий — будто! (И это вначале!)
Теперь моя жизнь словно осветилась. Я ждал. Встречал. Торчал на трамвайных остановках. Волновался. И злился, когда она опаздывала. И радовался, увидев, и все было какое-то беспокойство и как бы ощущение ненадежности и предпотери. Я с удовольствием покупал разную снедь, которую она любила и на какую раньше не приходило в голову тратиться. Но деньги пока были. И я подсчитал, что даже если буду тратить их с той же расточительностью, мне все-таки хватит их года на два-три. А там? Там что Бог даст. В крайнем случае, пойду в сталевары, не привыкать и опыт есть. Хлеб добуду. Лишь бы эта девочка оставалась со мной. Странно, в моих руках она словно бы помолодела. Я часто спрашивал ее о школе, подругах, «мальчиках», и она охотно рассказывала, временами как-то странно взглядывая на меня, точно пытаясь понять, вправду ли мне интересны ее рассказы или я это так.
А мне было интересно ее слушать. Потому что я словно добирал сам те школьные годы, которые унес лагерь и вся моя тошная послелагерная жизнь. У меня ведь никогда не было, как это было почти у многих ныне, подруги, девочки-школьницы в коричневом платье и в белом передничке. Такими девочками я только бредил в детских и лагерных снах да еще с тоской вспоминал мужскую школу-бурсу, где девочек не было и где мы их видели лишь на редких предпраздничных вечерах, когда приглашалась на них женская школа.
Теперь я не раз говорил ей, как хотел бы увидеть ее в школьной форме, на что она всегда как-то странно хмыкала и замолкала, а иногда тянулась ко мне и целовала меня в щеку. Встречаясь, мы часто пили легкое вино, иногда шампанское, она любила, до странности любила все сладкое: конфеты, мороженое, шоколад, и я старался угодить этой странной девочке во всем. Мне хотелось ее одевать, дарить ей чулки, колготки, всякие эти раскраски и помады и особенно женские, всегда волновавшие меня панталоны, которые я выискивал самые лучшие и красивые по всему городу, покупал и дарил, наслаждаясь ее смущением, яркой розовостью щек и какой-то особой, сладостной тайной опущенных коротких ресниц — девочка и девочка, как глядишь сбоку, и невыносимо тянет прильнуть к нежному месту у нее под ухом, целовать его долго, страстно, ненасытно.
Она всегда, не задерживаясь, примеряла подарки. И дальше мы уже оба теряли голову, стискивали друг друга в объятиях, руки сами находили то, что искали, губы становились общими, софа, мерзавка, скрипела, но наши стоны, стоны, поцелуи, объятья заглушали все, пока обессиленные, мы не валились рядом, не переставая целовать, обонять и ощущать друг друга, и снова был, как бешеный, взрыв. Еще! И еще! Еще… Она казалась ненасытной, а я с ума сходил от ее пышного тела, раздвинутого с такой страстностью, что, казалось, она готова меня поглотить и поглощала, насыщала, безумствовала, стонала, издавала такие звуки, какие может издавать только женщина, и так мы засыпали лишь на рассвете, а проснувшись, я уже держал руку на ее лоне, целовал упругие, вставшие дыбом соски, и утро заставало нас в том же отчаянном, как вечер и ночь… Это было невероятное, молодое и казавшееся бесконечным сумасшествие, наваждение, то, о чем я всю жизнь мечтал и чего с выворачивающей душу тоской ждал десятилетиями. Эта девочка превосходила всех моих прошлых женщин и, странно объединяясь в них, была похожа и заменяла мне их всех, исцеляя мою многолетнюю тоску.
Любое мое желание она могла, кажется, выполнить, а я боялся желать.
Но была она и донельзя странной. Вдруг ни с того ни с сего кипятилась, начинала хмуриться, замолкала. И это было так тягостно. Страшно. Она могла огорошить внезапно. И вот так, например, однажды за столом сказала мне:
— А я уволилась. И., в общем, в общем., я уезжаю.
Я знал, что она родилась здесь, в городе, и даже где-то здесь жил ее отец. Родной. С которым она даже не поддерживала никаких отношений. Ее вырастили отчим и мать, довольно безучастная и, похоже, без царя в голове женщина, которая в любой момент могла кого хочешь бросить, уйти, уехать. И я с ужасом подумал: «Неужели и дочь такая?».
— Что ты еще придумала? — глупо спросил я.
— А так… Здесь мне не нравится. Никому я тут не нужна. Дома поступлю на работу… Есть комната. Моя… Учиться перейду на заочный.
«А как же я? Я-то?» — подумал и ничего не сказал. Ведь я был на тридцать шесть лет ее старше. На тридцать ШЕСТЬ. И разве я мог, имел право удерживать ее, или предложить ей что-то реальное, или… Все-таки я выдавил:
— Я-то… Как..
— Да я вам не нужна. Я же все чувствую..
— Не понимаю..
— Ну… Я для вас игрушка. На время… А мне надо жить-быть.
— Не уезжай…
— Нет. Уеду. Ну…Я… Я, наверное, буду приезжать..
— Что ж. Не могу удерживать.
И она уехала. Внезапно. Как обухом по голове.
И сразу вся жизнь моя потускнела, потеряла все краски. И целыми днями я бродил по улицам, не зная, что придумать, что делать..
Где-то, кажется, написано: «Терпение — ключ к счастью», а счастье, странная или лучше сказать, быть может, страшная субстанция, приходит тогда, когда его не ждут.
Звонок. Опять садиковый голос девочки пяти — семи лет:
— Это я..
— Ну?
— Как вы поживаете?
— Плохо..
— Что так?
— Да я тут замучился… Без тебя..
Счастливый смешок. Там. Далеко.
— Я, наверное, приеду… Снова… Совсем..
А был уже конец лета. Август, предвещая, шумел по ночам в жестких жестяных тополях, и листья, обрываясь, стукали, шурша, скребли по асфальту.
Вот она! Возникла на пороге. Немного изменилась и, пожалуй, похорошела. Не девушка даже. Девочка. Наивные каре-зеленые глазки. Сейчас они просто были зеленые. И куда-то убралась, спряталась эта маслянистая умудренность, иногда возникавшая в них. Куда-то делась…
— А я уж хотела вам писать..
— И написала бы..
— Я тогда всю ночь проплакала… Когда уехала..
— «Уехала!» Думаешь, я не переживал?
— Да у меня еще десять дней не было., этого… Я думала — забеременела…
— Вот уж зря-то… Ничего не могло быть..
Она как-то странно посмотрела, словно припоминала что-то или прикидывала.
— Ладно… Вернулась. Раздевайся.
— А снимите с меня пальто — будет сюрприз..
— Что?
— А снимите..
Я не очень-то ловко снял с нее пальто.
Передо мной стояла полная улыбчивая школьница в коротком коричневом платье, белом передничке, она сняла платок, и я увидел, что волосы ее завязаны белыми бантами в два хвоста. Она была так хороша, невинно-прекрасна в этом одеянии, так косила испуганным, робеющим взглядом, что я замер, не зная, что сказать, как быть…
— О, какая ты! — вырвалось у меня.
— Хорошо?
— Выше всяких похвал… Нет слов… Я бы тебе шестнадцать даже не дал!
— Да не дурите… Правда, хорошо?
— Правда. Идем за стол. Я словно ждал тебя.
— Снять форму?
— Зачем же? Так и будем сидеть!
И мы снова сидели за полным столом. Ели и пили. Пили и шампанское. Оно у меня было всегда, для такого случая словно. Я целовал ее заалевшие щеки, ее девичьи волоски на висках и на шее. И она отвечала мне тем же, горячо, страстно. Так что теперь я даже представить-подумать не мог, что эта девочка может бросить меня, опять куда-то уйти, исчезнуть, потеряться… В школьной этой форме, в передничке, кружевном воротничке, она была-стала так близка мне, что, казалось, теперь будет со мной навсегда, и, целуя ее, я молился: «Господи?! Да за что ты мне дал такую благость? Такое счастье? Как я благодарен тебе, Господи!» Я молился внутренне, про себя, а сам не мог отвести глаз от этой девочки, так целующей меня и даже пытавшейся целовать мои руки, так приникающей, как может приникать только родная и родственная душа, так доверчиво пьющей со мной колючее вино, и хмелеющей, и понимающей, что все самое главное еще впереди… Я чувствовал это по ее взгляду, по опусканию ресниц, по сильнее колышущейся груди под невинным передничком ее коричневого платья, простого и такого милого своей школьной простотой.
— А у меня есть еще сюрприз для тебя… — сказала она вдруг, впервые называя меня на «ты».
— Какой??
— А вот… Посмотри сюда., и медленно потянула подол платья, обнажая полные невыносимые колени в светлых чулках, на которые были с опрятностью оправлены голубые нежные панталоны с начесом, в каких ходят только совсем юные девочки и лишь без меры опытные женщины-блудницы.
— О-О-О!
— Хорошо? Это я специально для тебя надела.
Сказать, что мы целовались, — ничего не сказать. Мы ели, пожирали, съедали друг друга, тянулись, наслаждаясь, и не могли насытиться. И снова, и снова это было как умопомрачение, как одновременная потеря разума, как что-то, чего я словно бы ждал и представлял это, как невозможное, едва ли возможное, всю свою голодную, страдальческую, в общем, жизнь. А тут все было наяву, со мной и с ней. И когда, отдыхая, шалая и растрепанная, сытая без всякой меры и словно только что пришедшая в себя от потери рассудка, она, приоткрыв рот, поправляла съехавший бант в короткой косичке, я слышал вместе с ее дыханием:
— О-о… Я такая — такая… Иногда… Представляла… Ф-ф… X.. Да… И представить не., могла..
— Ты сейчас была как девственница..
— Я… И правда., была сейчас… Ей и была… Потому что… Хочешь, расскажу? Как я ЕЕ потеряла… Хочешь?
— Говори.
— …Ну, в общем, это… В общем… У двоюродной на свадьбе… Ее… Я была, и это… И все напились… И я тоже… Выпила… И охмелела… Много ли надо. И легла в комнате… В какой-то… На кровать. А проснулась — мужик мне рот рукой… И я уже без трусов… И он так щупает меня. И я не могу… А хочу… И он сделал. Я потом убежала во двор. Там вымылась… Колодец был… Чуть не бросилась… О-ой! — она заплакала.
— Чего ты? Милая моя, родная..
— Ничего… Это я сейчас так… Девочкой тебе отдалась… Сама… Так хотела… От любви… Ты понял?
Когда мы спали, я не раз просыпался, смотрел на ее спокойное, углубившееся словно в свое девичество лицо и плакал, слезы текли у меня, и я их не смахивал, а когда попадали на губы, было даже вроде не солоно. Так было счастливо и так хорошо… И так было тяжело… Я знал будто, что вряд ли все надолго… И знал, что такое счастье, и особенно счастье с ней..
Прошли месяцы. Я помолодел. Как начиненный новой энергией, работал над картиной, искал варианты, писал этюды, делал все новые эскизы.
Однажды утром в дверь сильно, раздраженно постучали. Открыл. На пороге стояла почтальонка.
— Письмо вам, с доставкой. Лифт не работает… Ходи к вам. На двенадцатый-то..
— От кого письмо?!
— Я почем знаю? Расписывайтесь здесь… Некогда мне… И за перевод..
— Какой перевод?
— Почем знаю… Ваша фамилия-адрес?
— Все правильно..
— Расписывайтесь..
Машинально я расписался. А она уже хлопнула дверью, ушла.
Я поглядел на перевод. Он был ни много ни мало на десять тысяч рублей! Обратный адрес, совсем незнакомая фамилия. И та же на конверте.
Я разорвал конверт — там была короткая записка и письмо. В записке было: «Выполняем волю нашего родственника Николая Семеновича Болотникова. Он завещал Вам указанные деньги и это письмо». Я бросил перевод и записку — открыл второй конверт:
«Дорогой друг! Это письмо не с того света, не бойся. Я пишу его сейчас, потому что знаю, ты не взял бы от меня деньги, как бы я тебя ни просил. Художники настоящие народ гордый. Но деньги у меня все равно остались, и те, кому я их отдаю, получат много. Это деньги чистые. Они от продажи моих картин. Может быть, они помогут тебе достигнуть того, чего не достиг я. Ты больше и талантливее меня. Это понял я, еще когда ты у меня учился, и было бы грустно, если б и твои картины постигла участь безвестия. Я не грущу, поскольку моя жизнь состоялась, а в твоем лице я увидел то, что самому не далось совершить. Будь. И даже не благодари меня. А деньги потрать на холсты и краски, не захочешь принять — раздай тем, кто едва сводит концы с концами. Среди художников такие не переведутся. Я не обижусь.
Болотников».
Нет, никому я не стану их раздавать, подумал я. На эти деньги можно поставить памятник, и самое правильное будет так поступить. А ведь он точно написал, что как бы я ни нуждался, я никогда, ни от кого не принял бы никакой помощи. Помощи ждут и жаждут даже слабые, а я прошел лагерь, и лагерники настоящие, как и воры в законе, никогда ничего не просят. И даже, может быть, я рассердился, хотя и сердиться было вроде смешно и нелогично. Болотников ведь завещал мне деньги от души, всегда желая мне помочь. И кто еще помог мне в жизни? На кого я мог опереться кроме? Только сам, мое мужество да, наверное, еще Господь Бог, иногда, может быть, и взиравший на мое странное, непохожее на прочих существование.
Был Новый год. И на главной площади устанавливали елку. Ледяной городок перемигивался цветными огнями. Черным роем толпились у катушек.
Здесь-то поздним январским вечером я и увидел ЕЕ под руку с высоким жлобистым парнем, идущую совсем не так, как реденько и (сдавалось мне) неохотно гуляла она со мной, а чаще отказывалась: «Учусь же? Когда? Некогда мне гулять. Понимать должен? Лекции я не пропускаю». Да, она шла совсем не так, как со мной, оживленная, сияющая, не замечающая ничего вокруг.
Она должна была быть на лекциях в институте. И это я очень хорошо знал. Завтра вечером она бы, правдиво глядя мне в глаза и целуя меня, рассказывала мне, как она учится.
Сначала они несколько раз скатились с катушки, и он обнимал ее, как спокойный обладатель.
Потом они зашли в кафе поесть мороженого.
Я ждал. И бесы ревности содрогали мою душу. Я ждал парочку и не знал, удержусь ли, чтоб не устроить тут мордобой
обоим: ему — ей, в том, что я снесу этого жлоба, не было даже тени сомнения. Они долго не шли, и, может быть, именно это и спасло их я перегорел, стало тошно, гадостно. Когда они все-таки вышли и, оживленные, двинулись вдоль по улице до поворота на Восточную, где она жила теперь в общежитии, я просто свернул на трамвайную остановку и уехал. Я даже сам не понял, почему так поступил.
На следующий день, как ни в чем не бывало, детский голосок спрашивал меня, когда приехать.
— Никогда! — ответил я и бросил трубку.
Она позвонила снова.
— В чем дело?
Теперь в ее голосе я уловил страх и что-то похожее на отчаяние.
— Спроси у того, с кем ты была вчера…
— Да это же., та-ак… Ой, ну… Это же просто… Знакомый… Ну. Почти одноклассник… Ну, в школе вместе учились… Праавда! Ну-ну, простите меня. Я же не знала… Что..
— И из-за этого одноклассника, «знакомого» ты не пошла в институт?
Молчание. Она собиралась с мыслями.
— Нет… Нет… Тут все не так… Ну, я расскажу. Можно, приеду? Тут все не так. Не хочу по телефону говорить… Ну, простите меня. Я все объясню… Все не так..
И хотя ясно я понимал, по голосу чувствовал: ТАК! — я сказал:
— Ладно… Приезжай.
Я не мог ей ответить: «Нет!»
И она опять приехала. Опять были объяснения. Слезы. Почти клятвы. И была ночь, полная дикого, ошеломляющего своей откровенностью секса. Передо мной и подо мной была уже совсем не робкая школьница — была опытная, владеющая телом женщина, чуть не сказал, почти профессионалка, которая обессиливала меня с искусством Клеопатры и ненасытностью Мессалины и, обессилив, убедившись, что я еще могу, через короткое время снова активно бралась за дело.
Что это за девушка? Ведьма? Дьявол в лице такой кроткой с виду, улыбчиво скромной розовощекой толстушки? Кто она, кто на самом деле?
Гадал — и не мог разгадать.
Глава XI. СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
Была весна. Теплая, солнечная, ранняя. И было лето, жаркое, грозовое, божье… И осень — золотая, левитанов-ская. И новая зима была с морозами, куржаком на деревьях, новогодьем в снежной метели.
И весь этот год мы были счастливы. МЫ — были? Или один только я? Нет, были счастливы — МЫ. Она жила почти все время у меня, со мной. Как жена. Утром мы вставали по будильнику, и она сердилась на будильник (и на меня), была не в духе (Когда ты возьмешь меня из этой проклятой конторы? Хочу быть домохозяйкой!). Недовольно одевалась, не забывая при этом все-таки соблазнять меня и демонстрировать внушительные богатства своей прекраснобелой, бело-розовой пышной попы, которую я не уставал целовать, когда вечером она трудилась на кухне или лежала на тахте и увлеченно смотрела телевизор. Эта задница ее была ненасытна и рождала в ответ такие же ненасытные, ненасыщаемые желания. Вообще, женщина моя — МОЯ! почти идеально владела умением всегда держать мужчину «под напряжением», все время соблазнять его, заставлять смотреть, хотеть и думать об ее богатствах. По крайней мере, для меня она была соблазнительна бесконечно, и как-то однажды я, дурак, исповедался ей в этом! Зачем? Зачем? Запомните, все прочие жалкие дураки, с признаньем этим вы подписываете себе приговор. Но разве мы, когда мы любим и сами любимы ЖЕНЩИНОЙ, не гордимся этой своей обладательной властью?
Она одевалась, а потом садилась в кресло накрашиваться. Красилась, впрочем, не всегда охотно и не всегда старательно, но, бывало, глаза у нее начинали блестеть, и тот сходный с масляной смазкой блеск всплывал словно изнутри и поражал меня тяжелым ревностным ожогом. Мысль, что она изменяет мне, может изменять, не то чтобы не допускалась мной, но и не тревожила сильно, потому что в целом я все-таки думал о ней хорошо.
Пока она красилась, я, по своей инициативе или привычке за многие годы, готовил чай, накрывал на стол (делал это лишь в будние дни, в воскресенья и в субботы все это делала она, а я благодушествовал, наслаждался барством, и вообще всей этой как бы настоящей семейной жизнью), мы пили чай, иногда с пирожным, если я успевал его купить вчера и если оно у нас оставалось с вечера, ели колбасу или яичницу. Потом она (или я) торопливо убирали со стола, и я подавал ей плащ или пальто, она редко ходила в одном платье — только в жару, — потому что была мерзлячка. Она собственно и жеманно, совсем как вышколенная супруга, целовала меня, и мы расставались до вечера. Или встречались через день.
Я всегда выходил в лоджию, посмотреть, как она появится из подъезда, и она всегда оборачивалась раз и другой, чтоб махнуть мне, и удалялась своей странной статной походкой — так ходят женщины-провинциалки, знающие себе цену.
Иногда я провожал ее до работы, и тогда я чувствовал, что она злится, старается сделать вид, что я дяденька-приставала и, что тут поделаешь, — привязался. И я тоже злился, выдавал ей по первое число, но действовало это недолго, опять звонок, опять садиковый голос и опять примирение на нашей чистенькой кухне и ночью на широкой софе.
Проводив, я с легким сердцем брался за работу. Раздвигал мольберт, подбирал краски, снимал с подрамника влажный холст и начинал писать.
Венера уже почти далась мне, и я наконец нашел и таинство прибоя, и той волшебной пены, из которой должна была родиться эта богиня. Узор как-то случайно подсказало мне заснеженно-замороженное заднее стекло автобуса. Дело было нынче зимой — я ехал рано утром, автобус шел, видимо, не из гаража, а где-то простоял ночь, и стекла за ночь удивительно заледенели странными узорчатыми кружевами и даже какой-то совсем брильянтовой, что ли, осыпью, которая в лучах раннего солнца переливалась розовым, желтым и огненно-голубым. Да, вот такой и должна быть ПЕНА, из которой творилась Афродита, сияющей, волшебной, лишь глуше красками, тише мерцающей заревыми сполохами, и, если можно так сказать, я пожирал глазами эту странную игру света, и никто ни в жизнь бы не догадался, откуда художник может взять свое вдохновение. Дома как одержимый я кинулся к мольберту, чтоб успеть выплеснуть из памяти этот сложный и даже жутковатый образ-фон — и успел! Он удался мне. И, закончив фон, я только что не заплясал вокруг мольберта. Первая часть картины решалась!
А вечером звонила ОНА, и я шел ее встречать, привычно ждал на трамвайной остановке — вполне уверенный и спокойный, почти спокойный — и почти счастливый — счастливый и даже гордый! — ко мне едет, приедет сейчас и пойдет горделивой походкой МОЯ девушка.
Дома она сначала, старательно и лукаво поглядывая на меня, раздевалась. О как приятно было мне смотреть на нее, раздевающуюся, полную, молодую девушку, даже, пожалуй, девочку, ибо выглядела она совсем юной и косы теперь отращивала. Я смотрел, как поднимает она подол, вздевая платье, или как опускает юбку, обнажая только для меня крутые, тугие ляжки, как вся, розовая от напряжения и какого-то словно бы странного девичье-бабьего стыда, кося лукавым, крашеным, знающим взглядом, расстегивает перетянувший спину бюстгальтер, чтобы выпустить на свободу двух своих белых полных голубей с темно-розовыми набухшими бутонами. Снимала трусы, обдавая меня тюльпанно-черемуховым запахом своего тела. Отстегивала чулки, бросала пояс на кресло и, совсем голая, со следами резинок на поясе и над коленями, нарочно виляя полным задом, скрывалась в ванной. Оттуда она выходила пахнущая уже чистотой, пастой и мылом, влажная, простоволосая, в мягких бабьих штанах, которые виднелись в расстегнутый халат и уже звали меня к тому, что всегда было и сейчас опять будет. И обнимала меня, целовала влажными свежими губами.
Иногда ненасытное безумство овладевало нами сразу, стремительно, и она буквально тащила меня к софе и, уже не рассуждая ни о чем, начинала привычно настойчиво ласкать и уже спустя несколько секунд жадно и жарко изгибалась подо мной, разметываясь, как в жару и в ознобе, на подушках, раскрыв рот, закрывая глаза и не удерживаясь от стонов. Или она стояла на коленях в самой разнузданной женской позе и, тихо ойкая, отдавалась моим толчкам, а потом безудержно включалась сама, так что зад ее, широкий и выпуклый, не девичий, бабий и бесстыжий, с раскрытым и как бы жадно хватающим воздух розовым отверстием, доводил меня до неистовства, и захватывая, как рукой, туго-невыносимо требовал отдать все, ия отдавал под низкий и уж совсем нечеловеческий ее стон, с которым и она отдавалась, освобождала меня, и мы валились на бок, все еще оба вздрагивая в блаженной исходящей истоме, и она ненасытно целовала меня горячими-горячими губами, я слышал ее прерывистый шепот: «О-о… Какой ты мужчина! Мой мужчина… Мужик мой! Жеребец! О-о! Какой ты! Я буду тебе верной женой! Мой милый! Любимый! Не бросай меня!»
И я верил всему, что говорила мне изласканная, насыщенная женщина.
А потом она, всегда что-то напевая, готовила ужин на кухне. А я смотрел на нее, и душа моя млела: «Вот хозяйничает наконец у МЕНЯ, МОЯ, ПОЧТИ ЖЕНА, молодая, прекрасная, любимая женщина, которая любит меня. ЛЮБИТ МЕНЯ».
Иногда, не в силах сдержать свое восхищение, я подходил к ней сзади и, обнимая за нежную полноватую талию, держа за груди, одновременно целуя ее голову, отрастающие уже заплетенные косы, прижимался к ней и, вдохновленный ее запахом, ее милым податливым молчанием, опускался на колени, поднимал подол халатика, спускал-стягивал мягкие голубые панталоны и целовал ее нежные большие прохладные ягодицы, пахнущие словно бы апрельским снегом и пригретой солнцем травой. Что это было за наслаждение целовать ее ягодицы и даже ее штаны!
Ужинали. Не торопились. Болтали. Она всегда добавляла мне своей стряпни, и всегда я хвалил, потому что хотелось ее отблагодарить и потому что готовила она действительно хорошо. И огорчалась не на шутку, если что-нибудь не получалось, пригорало. «Да брось ты! Ты у меня еще молодая!» — утешал я всегда и смеялся, а она начинала улыбаться. Она была Козерог, и этому я как-то не придавал значения…
А потом она вязала, смотрели телевизор. И если бы кто-то глянул на нас со стороны, сказал бы: вот счастливейшая пара и счастливая семейная жизнь; вообще — счастье без конца. СЧАСТЬЕ! Я забыл, какой у него вкус, вообще, какое оно. Вся жизнь моя складывалась как-то так, что счастье, если и было-ощущалось, едва осветив мою жизнь, тотчас задергивалось мрачной, тяжелой тучей, и туча была долго (и если бы туча!), а отблески этого странного и почти незнакомого мне состояния, внося радость в мою жизнь, были неясны и даже пугали. Я словно всегда знал, что за этим медовым состоянием, ощущением последует нечто, всегда, как расплата, и никогда не хотелось в это верить, хотелось думать, что теперь и так уже будет вечно и не о чем беспокоиться. Вот и теперь: ОБА со мной и всегда будет со мной. Со мной! «Ты, что ли, правда, любишь меня?» — «Правда! Люблю…» И забывалось, не помнилось, что такое счастье…
Когда уставали от телевизора и пора было ложиться спать, она откладывала свою вязку и, лукаво поглядывая на меня, спрашивала:
— Ну, что? Будем?
— Можешь не спрашивать…
— А как ты хочешь?
— Со школьницей?
— С беременной?
Это была наша нечастая игра, и она очень любила ее, надевала пышную ночную рубашку, строгие белые штаны и, не позволяя мне их снимать, — можно было только, подняв рубашку, целовать и ласкать ее пышные набухшие груди и гладить живот, — умело и настойчиво-важно освобождала меня рукой и, добившись всего, ненасытно, жадно целовала, прижимаясь, дрожа крупным телом: «Это мы с тобой так будем, когда я буду беременная… Ты хочешь ребенка? Я так этого хочу».
— Может, хочешь с медсестрой?
— Хочу…
— Ладно. Сейчас я постелю, а ты жди.
И она стелила постель. На это стоило посмотреть. Она застилала нашу софу, как бы священнодействуя. Короткий халатик ее намеренно задирался. У нее был полный живот, и халатик туго утягивал ее в поясе, высоко открываясь сзади. Надо было видеть, как она наклоняется, расправляя простыни, как, подобно озабоченной девочке, надув губы, взбивает подушки, оправляет одеяло. Закончив все это, она подходила ко мне, обнимала, иногда даже становилась на колени и целовала меня, говорила обещающим голосом: «Ложись. Я сейчас..»
И я ложился в прохладные простыни, предвкушая всегда, как сейчас это будет, хотя и давно знал КАК, и она точно все это знала.
Как-то в один из особенно близких и сладких вечеров, когда мы, обнявшись под одеялом и уже сытые, лежали тихо и благодарно, целуя друг друга, я рассказал ей под великим секретом, как в моей юности, если не в детстве, медсестра
Марина развратила меня своими «медпроцедурами» и как я привык к ним и уже постоянно хотел, чтобы со мной была медсестра. Она слушала, а потом жарко и даже дрожа, прижимаясь ко мне, рассказала, как сама, еще девочкой, начала себя трогать, и делала это, и уже не могла отвязаться, и дальше, в школе, во всех классах, пока училась, — делала… «Бывало, только приду из школы — дома никого нет и уже прямо дрожу — хочу». И рассказала, как ложилась, спускала трусы и делала: «Сначала., так., пальчиком делала, а потом., потом — предметом. Ну, таким, сама придумала. О, как было… И — не могла остановиться… И думала… Какая я грешная. Очень боялась, что кто-нибудь., узнает… Тебе первому рассказала… Тебе..»
Помню, это признание обоих вызвало такой силы новый порыв, оба стонали, целовались до изнеможения и с распухшими губами, тесно прижавшись, точно потеряли сознание, уснули на рассвете.
А «с медсестрой» — это легко придумала она по моему рассказу. И я уже знал, что сейчас она появится в белой косынке поверх бигуди (так ходила и эта Марина!), в белых или в желтых панталонах (и это опять та давняя нимфоманка-медсестра!) и уверенно, пожалуй, куда увереннее, искуснее той, будет владеть мной, и я буду стонать от наслаждения и так хотеть ее, эту мою медсестру, что едва удерживался от… А она будет «наказывать» меня, «за непослушание», шлепать, «насиловать» и в конце концов, сидя на мне, могучая, полная, властная, завершит, облив горячим и нестерпимым под непрерывный, накачивающий стон: «Я ведь медсестра! Мед-сест-ра-а! Мед-сестра! О-о! Мед-сест-ра-а-а… ай!!»
Это было любимое наше занятие. И я всегда так жаждал ее в косынке и даже хотел, чтоб она ушла из этого проклятого мужичника и поступила учиться в медучилище.
И снова мое привычное мрачное одиночество. ОДИНОЧЕСТВО. После такого долгого счастья оно уже кажется невыносимым. Попробуйте, испытайте. И ничего, ничего я не хочу. Схожу с ума. И чтобы действительно уж не спятить, пишу в тетрадях это свое житие. ЖИТИЕ! Эта проклятая чертовка совсем обворожила, закружила меня, и вот ловлю себя на том, что все время ее жду. Теперь я уже не в силах выключить телефон и, кажется, не в силах ее не искать. Только удерживаю себя. Пока держу. Я знаю, что из магазина она перебралась теперь в еще одну строительную контору и там тоже одни сплошные мужики, приставучие и подлые, грязные и похотливые, как кобеля. И очень скоро я понял, что она изменяет мне, что-то такое складно врет, но обмануть меня невозможно, и следить за ней мне почему-то не хочется. Она спокойно обманывает меня, а я обманываю себя. И мы уже реже встречаемся. Не видимся и по месяцу. Я не звоню, и не звонит она. Так однажды мы не виделись всю зиму. И всю зиму я писал эту не дающуюся мне картину с Афродитой. Она не творилась. Мрачно и медленно я мазал что-то на холстах, бросал в угол испорченные картоны, счищал краски и начинал снова, опять счищал и в конце концов бросал кисти, садился писать «Житие».
Если не работать совсем, тянет уже повеситься, но делать этого я не стану. Веревка на шее — самый, наверное, страшный и мучительный самоконец. Делать этого я не стану. Я еще поживу, цепляясь за работу, чтоб не грызла тоска за уж вовсе впустую прожитый день. Таких дней в моей жизни мало, если только не считать лагерь, да еще когда выбивали из колеи эти вечные и постоянные отказы от выставок и Союза художников, в который я не мог попасть, как заколдованный. Для того, чтоб приняли, мало мастерства, нужно участие в выставках. Чтобы участвовать в выставках, надо писать радостные картины о трудовых подвигах, героях пятилеток, думающем о народном счастье очередном вожде, «верном продолжателе дела…» Ас этими картинами тебя и примут в Союз художников, и ты получишь право на участие в более высоких выставках, право на закуп твоих картин, право на признание?.. Но только не ты, Александр Васильевич Рассохин, Кэ-315.. Номер твой по-прежнему хранится в папках, не подверженных тлению. Да, я знал жизнь и знал, что мое неучастие в выставках и молчание о моем имени не просто случайное невезение и даже не следствие моих крамольных картин — понемногу ЖЕНЩИНА и даже ОБНАЖЕННАЯ уже появлялись на выставках. Их писали «молодые», у которых не было клейма и за которыми не столь усердно приглядывали «искусствоведы в штатском». Все это я знал, как знал и назойливое стремление некоторых «молодых» подружиться со мной, прийти в мою мастерскую с бутылочкой. Таких около художников крутилось несколько, и самый назойливый друг — некто Лепешкин, сладкая медовая личность, друг и приятель местных поэтов, художников-модернистов, фрондеров прозаиков и вообще неподобных. Для него и я уже, видимо, был на крючке. Этот Лепешкин, Виталий, «Виталька», осаждал меня просьбами посетить мастерскую, поболтать, «поговорить за жизнь». И тем упрямее я отталкивал его домогательства. Стукачей еще с лагеря боялся, как чумы. Липучие — всегда продадут, — знал старую лагерную мораль.
И еще впервые я понял, что мое железное, кажется, здоровье начинает сдавать. Кто там из мудрых врачей (а я старался к ним никогда не обращаться) сказал, что все болезни начинаются с расстройства нервной системы? Нервная система! А в лагере я ее не расстраивал? Очевидно — нет! Там расстраивать ее было бесполезно, если не хотел пораньше на свободу, за зону, в снежную яму… Там и само ничего не расстраивалось. Там было: или вкалывай, приспосабливайся мотать срок, или сдохни. А жалеть некому.
Уже тридцать пять лег прошло, и ничего не забыл, не тускли в душе эти лагерные картины. Иногда же их напоминали встречи. Видел я как-то Кырмыра, волчьей легкой побежкой катившего в район рынка. Встретил, лет десять уж прошло, и главвора. Ехал в автобусе старый, плешивый, с запавшими глазницами и что-то, по-воровски клонясь, втолковывал другому такому же жутковато ощеренному (улыбка!). Меня узнал сразу. Узнал — и обрадовался будто. «Сашка! Ввот встреся! Ззы-вой? И я тозэ, на сва-боде, мля! К коресу, вон еду… Это свой., свой! Мотали вместе. Садись, поботаем..» — волком глянул назад, где сидел какой-то угрюмый с виду парень. Кивнул все еще ласково ощеренному напарнику.
— Ну, ты, — напарник погасил свою улыбку, — место уступи… Сто-о?! Ты-ы, лошадье… Ну, потеряйся, сука… А то счас по крыше..
Парень «потерялся».
— Ну, вот… — главвор улыбался, — неусеный ессе. А то я сють не расстроился… Садись, Сашка. Все худознисяес? Он не вор… но так фрайер битый. Из политиков… В авторитете у нас был, картоськи рисовал, баб… Свой он… А я вот в отгуле пока. На дно прилег… Дя-я, знаем, сто такое са-ветская власть! Mo-зет, заедес? Пузырь есть. Глотнем. А то и здесь мозно. Клонись… Или в дело пойдес? Есть больсая замутка. Можно взять хорошо. Пойдес?
Я отказался.
— Ну, ладно, отдыхай… А я тебя все помню. Бабу ту, в литузах-то! Помню. Удрузил ты мне тогда. Я ссяс тозе Маньку туг насел молодую. Такая зе посьти… Зо-па-а! Вв-о-о… Только палка вот плохо слузить стала. Другой раз бросил бы ей лиснюю — а не пасет… Дя-я, знаем, сто такое са-ветская власть..
Вышли они на остановке «Психбольница». Главвор помахал кепкой. Только ссутулился, а так волк волком и остался.
Напарник-громила шагал следом. Вот она картина — будь я жанристом!
Что-то такое сегодня лезло мне в голову? Водки, что ли, выпить?
Я встретил ее как-то случайно, на трамвайной остановке. У нее был виноватый, осунувшийся вид, но когда я пригласил ее к себе, сразу согласилась, поехала.
И опять было как будто прежнее застолье. И вино, и ладное женское тело под рукой. И вдруг (вдруг!) пьяное, со слезами признание.
— А я изменила вам. Да… Вот сделала аборт. И еще болею… Плохо мне… Гоните… Да… Вы, конечно, меня не простите? Нет?
И еще что-то про свою жизнь с матерью, неуемной женщиной. Как где-то жили, скитались по баракам, как мать «выходила» то за одного, то за другого. Бросала и ее, бросила, пока не осела в дурном зауральском городке-городишке, опять «вышла» и уже долго живет. Родила сына и теперь вроде бы утихомирилась.
— А ты похожа на нее?
— Не очень. Она толще… Я на отца… Но он живет один. А мать давно выгнал, потому что изменяла. И меня не принимает. Да я и не хочу с ним. Он скупой и злой.
«Дочь повторяет судьбу матери», — вспомнилось мне. Повторяет! «Ах, ты, дрянь!» Но сдержался.
Я проводил ее до остановки, до общаги, где теперь у нее была комната. Сказал, что прощаю, и просил больше мне не звонить.
И она не звонила. А время шло. И я никак не мог ее забыть. И все думал, просыпаясь ночами, — неужели правы эти древние индийцы: «Сущность женщины — измена».
А мне уже шестьдесят? И никого со мной. Чем же я виноват перед судьбой, если не нахожу любимую и если любимая чем ближе, тем дальше? Что причиной, что женщины бросают меня и я не живу, и не жил, как все, даже вышедшие оттуда зэки устраиваются. А я — нет. Вот случай представил возможность встретить женщину, какую всю жизнь искал, — и что из этого получилось? Или мне надо было найти богиню, саму богиню? Но ведь и она, великая, славна была тем, что любила всех. ВСЕХ! А ты хотел, чтоб была богиня и принадлежала только тебе? Одному? Да?
И в конце концов опять пошел я ее разыскивать. И нашел в той же поганой строительной конторе, где клубилась вокруг нее все та же липучая и обличьем чем не лагерная, липучая мужичня: шоферы, прорабы, мелкие начальники, набитые говенной этой спесью, вечная пьянь и триппер, то расхожее и массовое, что от века плодит, не улучшая, на Руси тусклая, обыденная жизнь.
Она опять вернулась ко мне. Вернулась. И еще год прошел. Ко мне словно вернулось новое вдохновение. Картина спорилась. Афродита рождалась. Еще были деньги. И мы жили вроде бы снова, как прежде, как муж с женой. И она только числилась в том своем общежитии, хоть раз-два в неделю и уезжала туда «побывать». А я даже проверял — и вроде бы словно все было чисто. Но в то же время интуиция моя ужасная нет-нет и тревожила меня.
Глава XII. …И ОТВЕРЗЕТСЯ
Летом в жаркие воскресные дни мы ходили загорать на пляж, и я со сладкой гордостью в душе замечал те взгляды, что были направлены ЕЙ, на НЕЕ, ее откровенно женской мощной юной фигуре, косе, хвост которой уже ласково гладил то место, где начинались ее нежные круглые ягодицы, и я сам любовался ее женственностью, что так удивительно сочеталась с постоянно детским и девичьим в лице, нежным румянцем щек и малиной откровенных губ. Она явно цвела, и я с ней казался и был явно моложе, гордился этой своей моложавостью и обладанием и прощал кобелиные эти взгляды, и стойки, и то, как она косила на них, украдкой и вскользь (как не посмотреть!), прощал и забывал даже тревожиться, хотя дальним умом, на самом дне памяти хорошо и горько знал, что такое счастье, и особенно — счастье с ней…
Как-то перед новой осенью она сказала мне словно бы с раздумьем:
— Отпусти меня в Ялту?!
— Куда? Зачем? — поперхнулся я. Мы пили вечерний чай, и она была какой-то особенно милой и нежнопрелестной.
— Ну, есть путевка… Бесплатная… Профсоюзная… В наш профилакторий… Я же нынче почти не отдыхала? Отпусти… И ты пока отдохнешь от меня. Ты ведь тоже устал? Ну, милый, дорогой Сашенька? Ну, душечка, пончик, ватрушечка… — этой глупой детской присказулькой-наговором она всегда награждала меня, когда хотела подлизаться, и я всегда на нее клевал.
— Нас поедет восемь человек… Все женщины… Да, да… И одна семейная пара..
И тот вечер, и то раннее утро..
Тем вечером она была необычно ласкова со мной, и мы снова играли. Она была божественной медсестрой, опустошившей меня подряд уже три раза… Сидя на мне верхом, закидываясь животом и ошалело встряхивая грудями, мотая распущенной гривой, она походила уже не на женщину, а на что-то дикое, необузданно воплощенное, и низкий стон, рвавшийся из-за стиснутых зубов, покривленных страданием губ, казался нечеловеческим. Она пила, всасывала, лишала меня любой попытки сопротивления, и я будто уже растворялся в ней, объединялся с нею, становился единой с нею сущностью… Так не было еще никогда.
— Это, чтоб ты без меня не гулял! Не гулял! — шептала она, целуя меня и засыпая молодым каменным сном. А я еще долго ворочался и не мог заснуть. Почему-то укололо ее счастливое веселье и ее уж явное и необычное даже старание. «Не гулял! Сама там — не загуляй!» — бормотал я, и все ворочался, и не мог заснуть, уже светало, и у меня болело сердце… Перебрал..
А на утро я проводил ее до остановки, где за ней должны были заехать по пути в аэропорт. Мы почти не ждали, потому что сразу подкатила «Волга», два молодых жлоба выбрались из распахнувшихся дверок. И она, улыбаясь, отдала им свой чемодан и едва кивнула мне (для них я был, очевидно, ее «дядя»), и они посмотрели на меня мельком, с презрением молодых и превосходящих. Дверки захлопнулись. «Волга» укатила, словно унося половину моей души, может быть, и больше, потому что ОНА даже не махнула мне, не глянула в окошечко. Она была уже не со мной, а только ТАМ и с ними.
Сентябрьский рассвет был росный и холодный с тем оттенком прожитого и как бы последнего лета, которое, уже уйдя, лишь горестно чудилось в далях, и крышах, и в похоже ранних женщинах, идущих к трамвайной остановке.
И, стараясь превозмочь все это: внезапную тоску, ревность, боль, ломившую сердце, подозрение, вдруг едко осенившее меня, — я вернулся в какую-то донельзя опустевшую, словно постылую и без души квартиру, с ненавистью покосился на закрытый тряпкой подрамник и едва не заплакал. Как она уехала от меня! Что такое было со мной? Опять предупреждала моя страшная интуиция? Я открыл скрипнувший шкаф на кухне, достал водку, налил целый стакан — так только и можно, кажется, теперь, за шестьдесят! Глушить тоску, залить… И, жмурясь, жадно, по-алкашному, выпил, утерся, без закуски… Без закуси… А-ах… Стало легче. Оттеплело. Отмякала, распускалась душа. Отходил будто дурной этот страх… Не страх… Так., безнадежность. И еще была маленькая надежда: может, зря я так… Приедет она… Все-таки неделя, недолго. Может, правда, она устала, приедет — и все будет по-старому… Уехала только с бабами, семейная пара не в счет. Все женщины — говорила — с ее работы, машинистки, бухгалтерши..
Успокоился и, даже пьяный, начал рисовать. Рисовал теперь словно нехотя. Богиню, а получалась Женщина. И вдруг пришло-осенило! Да что же я маюсь?! Афродита и должна быть ЖЕНЩИНА! ЖЕНЩИНА — прежде всего! Плотская, плотская женщина! И если лицо МОЕЙ женщины не подойдет здесь, то тело моей женщины-девочки, так соблазняющее меня до чувственной дрожи, тело, по которому я уже тоскую и держу его в уме, и в душе, и в памяти, я смогу написать с никому недоступной силой!
Вот говорят: «Не пей!» А истина, казалось, неразрешимая открылась мне в вине, открылась в водке! Я нашел решение моей Венеры. Афродиты, рожденной из пены..
Она обещала приехать через неделю. Но прошла и вторая, и началась третья, а ее все не было. Правда, в конце второй недели был звонок. Краткий (нет денег): пока не могут все выехать, нет билетов. На работе договорилась «без содержания». Явно было — вранье, явно — пока звонила, за спиной стояли. О, вранье, вранье! А ты еще поверил, болван! Уезжала она, конечно, на полную катушку, на весь отпуск! И не одна! Она опять обманула меня. Обвела, как дурака.
Я трепыхался. Я даже уловил в ее голосе надтреснутый холод. Так не звенит чашка, когда и трещина еще не видна. Голос женщины, которая разлюбила тебя. Эх, дурак ты, дурак, дурачина. Я не спал толком уже столько ночей… Считал дни… Сомнения не давали мне жить. И тогда я позвонил на ее работу. Спросил. Равнодушный женский голос ленивенько ответил:
— Да что вы волнуетесь? Они же отдыхать группой уехали…
— Сколько? — глухо обронил я.
— Да человек шестнадцать их уехало… — ответил голос и добавил: — Приедут… Не бойтесь… Не маленькие.
Шестнадцать! «Все женщины!» — открытие окатило меня ледяной волной. А я, кажется, ведь был готов к этому.
Значит, все точно — женщина намеренно и спокойно обманула снова. Намеренно и спокойно..
Две мои картины — одна давняя (Надя-малярка, мой диплом!) и пейзаж с рекой — из недавних, кажется, приняли на зональную выставку! Кажется, приняли… Во всяком случае, официального отказа я не получил. Не отвергли, как раньше, внаглую. И немножко все это отдаляло мою душевную боль, хотя., как отдалишь явное?
Вот и сейчас я то ли шел, то ли плелся, не замечая ничего вокруг, ни течения встречной толпы, ни наглого бега трамваев, ни редкого первого снега, пролетавшего в пасмурности свежего ноябрьского пасмурного утра. Был ноябрь, самое начало, и раньше я любил этот осенний, поздний, а скорее, предзимний месяц. Шел на выставку, а держал в памяти все, что было после ЕЕ приезда. Приехала изменившаяся, чужая, похуделая, холод в глазах, ледок в голосе, снисходительные умолчания на мои обвинения. Понял — все! Понял — теперь надолго. Если не навсегда. Понял, что не нужен, есть-появился другой. С ним она ездила. И там уже новая любовь. У нее это было так просто, как, видимо, и у ее матери, а дочь «повторяет судьбу матери». Неужели правы эти древние индийцы: «Сущность женщины — измена». «Нет места, нет времени, нет пожелавшего — потому и чиста женщина». А там было и место, и время, и пожелавший был. «Никогда не насыщаются любовью прекраснобедрые, словно коровы в поисках свежей травы, бродят они в поисках наслаждений. Снаружи они прекрасны, внутри ядовиты, как ягоды гунджи». Лезла в голову вся эта афористика. Раньше я как-то не придавал ей серьезного значения… «Поверивший женщине подобен заснувшему на вершине дерева — он проснется, упав!» Все держа это в памяти, перебирая в памяти тяжкие детали разлуки, я вошел во вновь отстроенный выставочный павильон, где должны были быть мои картины и где засилье ликующей парадной живописи не то чтоб удивило, или ошеломило, или напугало-озадачило, а просто толкнуло, еще больше словно унизило меня. Невыносимо как-то стало.
Ленин.. Ленин.. Ленин.. Ленин — вождь! Ленин, идущий по крови знамен. Ленин, орущий на меня с трибуны отверстым черным ртом. Ленин. Ленин… С детьми, с соратниками, с газетой «Правда». А дальше, в огромном зале-вестибюле, полотна одно другого внушительнее размерами: «Сталевары», «Доменщики». «Прокатчики». Женщины-трактористки. Геологи-землепроходцы. Буровики-нефтяники. И самые эти вышки, как увеличенные вышки несметной зоны… Лагерь… Социалистический… Тут он справлял свой праздник. И Чапаев тут был. И женщина — «Анка-пулеметчица»! Пулеметчица! Метательница ПУЛЬ! Господи?! Где же истина? Кто заблудился? Я — или ОНИ? Ходит вот, задрав голову, мой однокашник «трутень» Семенов. Знаю: он уже НАРОДНЫЙ!! Почти ВЕЛИКИЙ! На меня даже не смотрит, я для него никто, мошка… Даром, что когда-то сопел за моей спиной… Убелен сединами. Величав. Картины растиражированы «Огоньками» и «Работницами». Возле послушные журналисты, глядящие в рот искусствоведки… А поодаль партдама со свитой, и возле нее вьется-крутится бойкая крыса Замошкин, льется угодливой улыбкой. Картина его «Уральские ходоки у Ленина»! Мало, оказывается, серовских «ходоков», объясняющих гению, как он их обморочил. В той серовской, покопаться если, и смысл найдешь, в этой одна сплошная политура, смотрят на Ильича подобострастные охламоны — где он, Замошкин, такую натуру нашел? Глядь, и заслуженного схватит. Батюшки! И Лебединский тут — полотно едва не в стену длиной — «Ермак на Иртыше». И написано здорово, краски сияют, куда Васнецову. Лебединский единственный, пожалуй, из «трутней» вышел-выбился в настоящие живописцы, но хвалою обнесен — не та все-таки тема, мало этой самой «партийности». Постоял с ним, поговорили. «А ты что? Не представлен?» — «Как это? Две работы… Брали..» — «Не видел что-то..» — «Ну, давай, ищи. Может, проглядел я… Выставка большая… Министр обещал быть… Обкомовцы вон ходят. На окончательной развеске ты разве не был?» — «Не был..» — «Как же ты так?! Там ведь и запросто снять могли… Обком!» — побежал здороваться с начальством. Я же как будто понял — нет, видимо, на выставке моих «принятых» картин. Уж он-то бы, Лебединский, углядел! И все-таки, не веря своему предчувствию, иду… Иду из зала в зал. Иду — и везде это: домны, тепловозы, краны, шофера, работяги, сталевары, пограничники, герои труда и — нет женщин, женщины, есть только плакатные какие-то лаборантки, спортсменки, тоже сошедшие с плакатов, передовая доярка с видом глупее самой глупой коровы и заслуженная учительница, седая вдохновенная ханжа. Все. Где же ты, моя Надя? Надия? Моя первая и, кажется, последняя надежда? Нет тебя… И здесь ты сбежала от меня., и тут — бросила. «Сущность женщины — измена».. Как еще там сказано у этих индийцев? «Книга, жена и деньги, раз уйдя из рук, не возвращаются. Если же возвращаются, то книга истрепанной, жена испорченной, а деньги по частям…» Да, вернувшись, она совсем охладела ко мне. Две или три встречи… Ссора на ссоре. И вот расстались злые, разбегающиеся. И ясно мне стало — ей надо провести праздники без меня. Помнится, вначале даже вздохнул с облегчением. Кончено. Хватит. Надоело. Лопнет сердце. И чего мне ждать еще, перевалив за шестьдесят? Может, права и она? Зачем ей, двадцатипятилетней, я? Кому ни скажи, и всяк оправдает ее и осудит меня. Ишь чего захотел! Вечной любви! А то, что клялась, целовала руки, стояла на коленях — не в счет? Так ведь и я все это делал. Разве что не клялся, а просто — любил… Любил. Где же ты, моя картина? Надя-Надежда? Обошел все залы, большие и малые, и не было нигде… Ничего..
И вот, выйдя из выставочного павильона как оглушенный, — пробыл-проискал добрых два часа, — я опять в городской густеющей суете. И вдруг кольнуло-осенило: «Сегодня же 6 ноября! Сокращенный предпраздничный день! И сегодня, сейчас, я еще могу найти ее и, может быть, вернуть, сказать, что не могу без нее, что опять не взяли мои картины и мне надо ее участливое слово, просто слово. Господи, кто понимает, как нужно доброе слово, участие измаявшемуся в сомнениях художнику и как нужно тут именно женское слово… То, что картины мои — и даже пейзаж! — «забодали», уже не вызывало сомнения, даже на такой огромной выставке я не мог их не найти. Да, и пейзаж мой тоже, видимо, показался безыдейным. Там были сплошь пейзажи индустриальные! Или уж какой-нибудь «Седой Урал», или «Посадка космического корабля в уральской тайге» — и такой пейзаж там был! Господи, о чем это я? Надо бежать, торопиться… Я еще застану ее… И все расскажу… И она поймет… И мне снова станет легче. Легче пережить эту ссору… разлуку… праздники., которые я всегда переносил, переживал, как болезнь, как мученье… Я так привык к ней! Я ведь, может быть, все эти годы, когда уже накатывала та самая, без просвета, возрастная апатия, держался ЕЮ, дышал, ждал, встречал, терял и снова находил. Я писал ее и бросал кисти, но мне она была всегда нужна, даже после любой ссоры, даже после ее предположительных тайных измен… Найти ее сейчас… Она еще должна быть там, в этой проклятой прокуренной конторе! Скорей! Я бросился к трамваю. Пробился. Толпа внесла, вдавила меня в его тесное, душное нутро. Ехал, негодуя на каждую остановку, перескочил на автобус, на трамвай снова и — успел! Из конторы еще только начали выходить какие-то тошнотворные мужики, мужланы, с малиновыми рожами, принявшие первую дозу «праздничной», хамье и жлобье с матерным говором и такие же держаные, громкоголосые веселые бабешки, похотливое суетное племя обыкновенных простых людей, кому уже семьдесят лет втолмачивали, что они и есть соль и цвет этой земли, и завтра ИХ праздник, весь состоящий из дикой пьянки и примитивного блуда, от которого они неделю будут потом отлеживаться. Завтра ИХ праздник, который они уже начали сегодня в наспех оборудованных застольях. Все эти оживленные люди рассаживались по машинам, по ждущим служебным автобусам, жестикулируя, шли к трамвайным остановкам. Но ЕЕ не было среди них, и, превозмогая обычное свое отвращение к этой конторе, я забежал внутрь, в пахнущий цементом, соляркой и прокислым табаком коридор, заглянул в комнату, которую знал. ЕЕ не было. Значит, ушла раньше, уехала… Куда? С кем? Впрочем, может быть, и одна. Я не поощрял ее за эти бесконечные коллективные пьянки, и до поры она слушалась меня. Но все-таки что-то выше моего рассудка толкало меня бежать и искать ее, и снова, толкаемый этим предчувствием, я вылетел к трамвайной остановке и, будто уходя от погони, прыгнул в уже двинувшийся трамвай, туда, в ту сторону, к ее общежитию… Я даже не дождался привычной остановки, а выскочил раньше, чтобы напрямик, по заснеженным пустырям и картофелищам — так было скорее — добежать до ее дома. Вот они — три бетонные коробки-общаги, полные сутолочной густой, пьяной, одинокой, тошно коллективной и тоскливо буйной жизни. Я бежал туда, бежал, бежал, и сердце готово было взорваться. Вот он, второй дом, вот угол, надо завернуть, и я увижу ее окно. Окно ее комнаты на восьмом этаже. Вон оно..
Пасмурно. С отемненного неба идет редкий снег. Четыре часа дня, но уже смеркается, будто и в комнатах горят огни. В ее окне нет света. И значит, ее еще нет. Но я даже не успел обрадоваться, пока понял. Дома она! Голубым слабым сполохом мерцает включенный телевизор… Мой подарок… Все жаловалась — скучно без телевизора. Значит, дома — и я уже на лестнице. Лестница общаги! Заблеванная, прокуренная, век не метенная и не мытая. Коридор. И вот дверь. Чтоб унять одышку, остановился. Тихо галдит телевизор. Нет вроде других звуков. И колотится, дубасит в грудь сердце… Постучал. Нет привычных ЕЕ шагов. Нет голоса. Что? Заснула она, что ли? Постучал еще, заколотил в дверь, так что посыпалась, наверное, штукатурка. Выскочила соседка.
— Где она!!! — мотнул пьяно.
— Не знаю… — буркнула, тотчас скрываясь.
И по этому исчезновению понял — там она! ТАМ! И НЕ ОДНА! ТАМ БЫЛИ ЗАНЯТЫ. ТАМ любили…
Вынести дверь? Избить их обоих?! Вломиться, как буря? И все разнести? С моей-то сноровкой?
Но почему я повернул назад? Почему оглушенно спустился с лестницы? Почему, как слепой, держась за стены и ничего не видя, выбрался из подъезда? И еще зачем-то стоял, все не веря себе. Оправдывая ее. Вдруг куда-то ушла? И забыла выключить? Но я знал — такого с ней не бывает, не может быть.
Прошло непонятное время, и в темнеющем воздухе яснее сделалось дерганье голубого огонька там, и вот наконец неясная за шторой белесоватая женская фигура в короткой ночной рубашке (моей, подаренной!) показалась в окне и тотчас отпрянула. Увидела. Исчезла.
И тогда, совсем оглушенный, не разбирая уже ни дороги, ни следа, я пошел назад, к остановке, шел и рыдал, не боюсь этого сказать, рыдал, как впервые обманутый мальчик, — я взрослый, старый, битый жизнью мужик, художник, опять потерявший самое главное, то, что было, как видно, самой страстной и страшной, последней любовью.
Сошли праздники, и был еще один, самый тягостный уже после них солнечный день. Пустой и тихий. Не было ветра. И даже притаивало на солнце. А по крышам, приняв тепло за весну полошились голуби и галки. Тепло было. Но стоял ноябрь — месяц изменницы Луны и лукавого Нептуна.
С утра я бродил по городу, весь охваченный сосущей душу жаждой. Она никак не унималась, эта проклятая жажда. Никак не унималась. И даже тянуло вновь поехать туда, чтобы словно еще и еще пережить свое унижение. Я знал, что там в окне опять трепещет и гаснет тот огонек и, наверно, опять любят друг друга на софе, которую мы вместе с ней покупали, или на том ковре-паласе, куда она, бывало, меня стаскивала, чтоб не слыхали соседи.
Нет, я не поехал, потому что точно уже знал, с кем она изменила мне, по-обидному пошло, как секретарша с начальником, и что все это началось еще до Ялты и теперь уже напрочь отделило ее от меня. Машинально я шел бесконечно длинной улицей к своему дому, к мастерской, и шел долго, медленно, собирая и обдумывая все, что узнал и понял за эти бесконечные праздничные дни, когда я то до одури хлестал водку и драл на себе рубахи, то впадал в забытье, равное прозрению, и, проснувшись, пытаясь опомниться, пил снова. Я шел к дому, пока что-то не остановило меня, и я понял, что это телефонная будка с выбитыми стеклами. Что остановило? Зачем-то я решил позвонить в Союз художников. Узнать, где мои картины. Был выходной, и это был безнадежный звонок, но мне почему-то ответили. Дежурная. Я спросил телефон председателя правления. И она ответила, что в праздники он просил его не беспокоить. «А в чем дело? Кто спрашивает?» Я назвал себя.
— Хочу узнать, что с моими картинами. Они были приняты на выставку.
— Ах, это вы? Так я вам отвечу. На окончательном заседании отборочной комиссии ваши картины отклонили. Комиссия посчитала их недостаточно идейными и не новыми по композиции. Такое тут заключение. Вы можете их забрать. Они в Союзе.
Я очень медленно повесил трубку. И вышел из кабины. Трамвай, полупустой и гремучий, пробежал мимо меня. Он приостановился на остановке, но совсем не для того, чтобы меня подождать. Двери закрылись, и он ушел. Так у меня было не раз во сне. А может быть, и это был сон? Вся моя жизнь, все ее стремления и вся маета?
Я вдруг понял, почти радостно, что мне надо делать. Понял это освобождающе и ясно, как бы глядя на все удаляющийся трамвай.
Я побежал вдоль линии, как бегают потерявшие рассудок люди и собаки. Машины на шоссе и трамваи, несущиеся слева, со звоном обгоняли меня. Я бежал и все ждал, вот лопнет сердце, и я упаду, и тьма, уже словно застилающая глаза вместе с заливающим их потом, закроется, и все кончится, кончится раз и навсегда. Но я бежал и не знаю, почему этого не случилось.
Я добежал до дома, бегом поднялся по лестнице на свой этаж и только здесь, роняя ключи у двери, упал. Но я был жив, и мне было что-то еще надо. Очень надо… И потому я оставался жив. И наконец открыл дверь. Я бросился к своему столу, где лежали мои тетрадки, все тетрадки, в которых, одна за другой, я написал за последние три года все это — всю мою жизнь. Я сел к столу и стал писать вот эти последние страницы.
Теперь я обвел взглядом свою мастерскую, свою недописанную картину, где Венера с еще не найденным лицом выходила из бушующей пены, и вспомнил, что из всех веществ, какие есть, мне сейчас нужнее всего пинен, очищенный скипидар и разбавитель, который поможет мне решить все. Эти голубые пузырьки стояли в ванной, и я собрал их, чтобы, скрутив пробки, вылить на мои картины, холсты, на шкаф, где они стояли. Я не стал плескать скипидар на стены, и на ковры, и на эту недописанную мной мучительницу Афродиту. Все равно ничего не уцелеет и не должно уцелеть. Запах скипидара и нефти я вдыхал как нечто пьянящее. Пока дописывал эти строки.
А дальше я открыл дверь в лоджию. Сейчас я возьму спички, весь коробок. Зажгу и брошу его в залитый скипидаром шкаф. Возьму эти тетради — их с собой — и несколько времени буду смотреть, как веселым, голубым и радостным огнем покроются и растворятся мои муки, слезы, поиски и находки. Все эти мои женщины и мои страдания, от которых теперь я свободен. Да, свободен от Каиновой печати лагеря, от моих удач и неудач, от Афродиты, Евы, Надежды и от моей последней, несбывшейся любви.
И вот распахнуты створки. Я ничего не боюсь. И ничего не хочу. Сейчас я шагну вперед. И буду совсем свободен..
12/XI 1993 г.
Было тепло. И даже таяло на пригревах. И на отвесах крыш копошились голуби и галки. Стоял ноябрь — месяц изменницы Луны и лукавого Нептуна…
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Любой век приводил в литературу новый реализм. Тем более это должно произойти на пороге нового тысячелетия. Литература, как и все искусство, должна перейти на высший рубеж изобразительности и осмысления жизни, — иначе она деградирует, распадется на те примитивно-прагматические, развлекательные или формалистические течения, которые всегда характерны для времени под знаком грядущего Апокалипсиса.
Верю, что реализм выживет и что предметом изображения этого высшего реализма станет наконец все, что творит Человек и творит Природа. Верю, что эпоха цензурных изъятий и оскопляющих купюр в новом тысячелетии канет в прошлое, ведь не секрет: искусство в целом было в плену христианского догматизма, точнее, догматизма клерикального, и цепи его продержались довольно прочно почти два тысячелетия. Не собираюсь посягать на высшую морально-нравственную ценность Христовых заповедей — они несокрушимы, — но разве человек, даже христианин, верующий, не нарушал их все и сплошь?
Именно потому, что тема греха и искупления останется вечной, реализм высшего порядка, на мой взгляд, не должен бояться отображения процессов всей нашей грешной жизни точно так же, как не чурались этого далекие мастера дохристианских эпох и культур, творениями которых мы продолжаем восторгаться. Что было запрещено в изображениях тем древним художникам? Ответ прост: ничего. Фронтоны и капители индийских храмов, украшенные сверхнатуралистичными изображениями и сценами совокупления, прекрасны своим жизнеподобием и реализмом Любви — высшего счастья, доступного человеку. Любви поклонялись, любви служили, любовь почитали как, может быть, высшее проявление божественного начала.
Нет сомнения, мы на тысячелетия оказались отключенными от истин любви, утвердив над ней и ее изображением пуританские табу и ханжеские запреты, особенно дикие в странах бывшего «социалистического лагеря».
Однако и в этом лагере, не говоря уж про мировой охват, ни один большой мастер, тем более великий художник, не вошли в историю искусства без хотя бы попыток вернуть искусству и человечеству свободу изображения жизни и ее основы — любви. Так рождались «Декамероны» и «Гаврилиады», стихи Баркова, «Яма» Куприна, «Лолита» Набокова и даже фривольная «Эммануэль», в сущности, реалистическое повествование о жизни женщины-нимфоманки.
Но реализм высшего порядка должен не просто допускать к изображению все, что есть жизнь, человек, природа и что Бог или Сатана заповедали Человеку или на что его обрекли, реализм высшего должен строить подиум для подъема человека на новую ступень бытия и нравственного совершенства. Я убежден: в этом его будущая задача. Такую приблизительно задачу ставил в недавнем прошлом «социалистический реализм», но не решил ее, ибо стоял, как в библейской притче, подобно дому на песке умозрительной лжи… И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и дом тот упал, и было падение его великое..
Высший реализм нового тысячелетия уже грядет в наиболее быстро реализуемых формах, таких, как телеэкран и кино, литература же пусть медленнее, но вернее будет прокладывать великий путь к реалистическим вершинам, ибо будет всегда иметь высшее превосходство не только прямой изобразительности, но и философского объяснения жизни. ЧТО и КАК она раскрывает с позиций ОТТОГО и ЗАТЕМ. С этих же позиций и с верой в правду изображаемой жизни, не претендуя, однако, на исключительность своих суждений, автор представляет читателю новый роман.
Самый никоновский роман
Нет сомнения в том, что с «Чашей Афродиты» у Н.Г. Никонова были связаны большие ожидания.
Позади была уже «Весталка» — роман, где он уверенно взял творческие высоты, на которые прежде не посягал. Что касается небывало резкого афронта со стороны определенной части читателей (которые полагали, что знают жизненный материал, положенный в основу романа, лучше, чем автор) — это, конечно же, было писателю неприятно, но все-таки он отчетливо видел (и критика его в том поддержала), что причина тут не в изъянах его литературной работы, а в радикальной новизне его подхода к сакральной теме войны. То есть даже сам характер споров, развернувшихся вокруг «Весталки», убеждал Никонова в его творческой правоте.
Возникший вслед за тем замысел нового романа продолжал, выводя на более глубокие смысловые горизонты, главную тему «Весталки», как сам автор ее понимал (женщина как источник и символ жизни), и Николай Григорьевич впервые заговорил вслух о задуманной им тетралогии, которую он поначалу, помнится, называл «Четвертый ледниковый период», а потом упростил: «Ледниковый период» — и все. Тетралогией Никонов собирался подвести своеобразный итог своего полувекового творческого пути: до конца выявить и четко прорисовать в цельных картинах «жизнесостояния» (И.А. Ильин) те законы бытия, которые он предугадывал в шестидесяти с лишним своих больших и малых предыдущих книгах, снискавших читательскую любовь и закрепивших за ним репутацию бесспорного лидера уральских литераторов. Ожидания, связанные с «Чашей Афродиты» (так писатель назвал второй роман тетралогии), подкреплялись еще и тем обстоятельством, что это было его первое крупное произведение, написанное не только на высшей точке развития таланта и мастерства большого художника, но и, по признанию самого автора, совершенно свободно, без оглядки на нормы и условности, откуда бы таковые ни исходили и чем бы ни мотивировались. А в послесловии к первому книжному изданию «Чаши…» (его не было в журнальной публикации) Никонов рассуждает о «высшем реализме нового тысячелетия», который «будет всегда иметь высшее превосходство (над реализмом традиционным. — В.Л.) не только прямой изобразительности, но и философского объяснения жизни». Естественно, что роман «Чаша Афродиты» создавался Никоновым в ключе предвосхищаемого им нового реализма и, казалось бы, по всем признакам был заранее обречен на успех.
Но ожидаемого успеха не получилось… Не было на этот раз потока читательских писем — ни восторженных, ни даже ругательных; в литературных кругах о романе говорили вяло и с некоторым недоумением. Но главное: начинающие «акулы книжного бизнеса», пристрастно и уже достаточно опытно фильтровавшие весь литературный поток в поисках, как говорят финансисты, «ликвидных» текстов (то есть произведений, которые можно было бы без особых хлопот издать и быстро распродать), самым задушевным романом самого талантливого и знаменитого уральского писателя не заинтересовались. Можно лишь предполагать, что творилось в душе писателя (такими чувствами он никогда ни с кем не делился), но, как мне кажется, Никонов был не столько даже опечален, как озадачен: ну, не может же быть!..
Между тем случилось именно то, что должно было случиться. Очевидная и, как мне кажется, ключевая причина столь холодного приема «Чаши Афродиты» при первом ее появлении заключалась не в органических свойствах (недостатках или особенностях) текста, а в болезненном тогдашнем духовном состоянии общества. Роман был опубликован в июльском номере журнала «Урал» 1995 года (который, однако, вышел где-то осенью: в октябре, а то и в ноябре), и даже нарочно нельзя было выбрать время, более неподходящее для его появления в свет. Это был тот драматический период новейшей российской истории, когда эйфория либерализации уже полностью иссякла, ограбленный с помощью ваучерной аферы, а вслед за тем и финансовых пирамид бывший советский народ почувствовал себя загнанным в угол, и для подавляющего большинства населения страны, особенно для интеллигенции, кое-как перебивавшейся с хлеба на квас на нищенские, притом нерегулярно выплачиваемые бюджетные копейки, проблема выживания оттеснила на задний план все иные житейские заботы, так что впервые невесть с какой давней поры (включая и годы Великой Отечественной войны) литература стала вдруг никому не интересна и не нужна. Горячечный взлет тиражей на рубеже 80-х и 90-х годов, спровоцированный разрушением цензурных барьеров, предшествовал, как оказалось, агонии и обернулся вскоре почти тотальной катастрофой «толстых» журналов и издательств.
Умеренный спрос сохранялся разве что на диванно-трамвайное чтиво: российский обыватель, измотанный погоней за миражами благополучия, нуждался в релаксации (словечко только входило в обиход, раньше говорили просто о досуге) и по неизжитой еще советской привычке в свободную минуту тянулся к книге, но такой, чтоб не усугублять груз проблем, давящий на ум и сердце. Издатели цеплялись за эту потребность, как за соломинку, — тем и ничем иным объясняется и анонс «Чаши Афродиты» на журнальной обложке: «Эротико-реалистический роман». Я в качестве главного редактора подписывал тот номер к печати, но сейчас уже не помню, кому из нас пришел в голову столь неуклюжий рекламный ход; во всяком случае, сам Николай Григорьевич тому не противился — против его воли точно не сделали бы. Увы, такая — в духе времени — «реклама» не поспособствовала успеху публикации, а скорее даже сбила читателей с толку: давние поклонники Никонова сочли, что ради профессионального выживания в рыночных условиях он сдал нравственные позиции, а любители «клубнички» были откровенно разочарованы: очень уж тяжкий осадок в душе оставляли мастерски написанные откровенные сцены романа, читателям-эротоманам это было совсем «не в кайф».
Первое книжное издание «Чаши Афродиты» появилось лишь пять лет спустя после журнальной публикации (интервал слишком большой даже и для советских времен), да и то не на волне возродившегося вдруг читательского интереса, а в преддверии семидесятилетия писателя — «по заказу Министерства культуры Свердловской области», как сообщено в выходных данных. Впрочем, это даже не было отдельное издание: «Чашу…» поместили в одном большом томе с «апробированной» «Весталкой». Тем не менее юбилейная ситуация могла бы, по идее, как это обычно бывает, подогреть интерес читателей и критики к этой в принципе не освоенной вещи. Увы, содержательного разговора о романе не получилось и на этот раз, однако теперь по иной причине: в то время у всех на устах была уже другая, совсем недавняя по времени (и опять-таки журнальная) публикация Никонова — роман «Стальные солдаты», третья часть задуманной тетралогии. На фоне новой вещи, воспринятой многими вовсе уж как вызов общественному мнению и даже самому здравому смыслу (насколько это было справедливо — другой разговор), — а еще примите во внимание пять лет привыкания читателей к необратимо изменившейся морально-нравственной атмосфере в обществе, — так что торопливо прочитанная некогда «Чаша Афродиты» вспоминалась уже едва ли не как эталон благопристойности — что ж теперь было к ней возвращаться?
Но снова прошли годы… Не стало Никонова, и в силу этой неустранимой причины более ранние его публикации встали в один общий ряд с более поздними, а новых вещей Николай Григорьевич, увы, больше уже не напишет… И стало быть, преходящие обстоятельства социально-нравственной и литературной конъюнктуры больше не могут влиять на восприятие никоновских произведений. Перечитайте же теперь «Чашу Афродиты» — только внимательно и непредвзято перечитайте! — и вы убедитесь, что это на самом деле одно из вершинных произведений большого писателя. Здесь подобно тому, как отдельные нити сплетаются в прочный жгут, соединились в едином остродраматическом сюжете мотивы многих прежних произведений Никонова. Здесь достигло высшей отметки его изобразительное мастерство; здесь обрел неведомый прежде масштаб и исчерпывающую полноту «никоновский мир» — художественное пространство, заполненное характерами, коллизиями, житейскими реалиями, которые всегда особенно остро волновали писателя, ибо именно в них виделись ему проявления скрытых механизмов мироздания. И здесь же получили свое логическое завершение социально-философские искания, побуждавшие писателя на протяжении десятилетий переступать разного рода табу и разрушать стереотипы. Грести против течения — это, если хотите, долг, миссия, но и крест истинного художника, самой профессией своею обреченного не только на признание, но и на хулу.
Иными словами, «Чаша Афродиты» — самое, если можно так выразиться, никоновское произведение Никонова; но в этом же утверждении кроется и ключ к пониманию того конфликта, который, несомненно, омрачил последние годы пребывания писателя на этой земле и который, по-видимому, будет долго сказываться и на посмертной судьбе никоновского литературного наследия.
Стержень сюжета романа — судьба художника Александра Васильевича Рассохина. Доводилось мне слышать от литераторов, общавшихся с Николаем Григорьевичем более тесно, чем я, фамилию екатеринбургского (нет, еще свердловского) живописца, с которым писатель был дружен и с которого якобы «срисовал» главного персонажа «Чаши Афродиты». Вполне допускаю, что внешняя канва событий жизни никоновского героя отчасти подсказана этим жизненным примером. Но перечитайте хотя бы несколько страниц, посвященных живописи, из автобиографического повествования Никонова «В поисках вечных истин» — и вы увидите, что в герое «Чаши Афродиты» больше от самого автора, нежели от какого бы то ни было прототипа (хотя не стану отрицать, что таковой был). Ну вот, к примеру: «Я могу по многу раз ходить в галереи и на выставки, чтобы насладиться одним, много двумя полотнами. Не обязательно шедеврами с мировым именем. Шедевры, чаще всего, — только имя. Так, я очень люблю «Турецкие бани» Энгра в Лувре и совсем не восторгаюсь «Свободой на баррикадах» в том же музее. Я люблю всем известную изрепродуцированную «Золотую осень» и картины малоизвестного Степанова…» Имена, названия, оценки — все из «Чаши Афродиты», и может показаться, что это рассуждает «ученик Энгра» Александр Рассохин, только за пять лет до своего появления (вместе с «Чашей…») на свет. Однако еще раньше, много раньше — за десятилетия до исповеди «В поисках вечных истин» — опубликованы повести Никонова «Лесные дни», «Балчуг», «Старикова гора», и там тоже действуют художники-живописцы, в которых теперь легко признать как бы предварительные эскизы будущего Рассохина. А если принять во внимание не только род занятий персонажей, но также манеру их поведения, отношение к частностям повседневности (скажем, любят всякую лесную живность, но до исступления не переносят орущего за стенкой или на деревенской улице радио), вкусовые склонности и антипатии, некоторые биографические детали, да и самый образ мышления — тут уж прообразы главного героя «Чаши Афродиты» обнаружатся едва ли не в каждой предыдущей вещи Никонова, а их истоки восходят (из этого писатель никогда и не делал секрета) к собственной биографии автора.
Так что же выходит: Александр Рассохин — это сам Никонов?!
Но и это очевидным образом не так. Герой «Чаши…» все-таки прожил совсем другую жизнь. Правда, он ровесник и земляк Николая Григорьевича (Свердловск ни разу на протяжении повествования не назван, но легко узнается по внешним приметам), учился в той же ненавистной мужской средней школе (сколько раз в разных произведениях Никонов вспоминает ее недобрым словом) и жил, вероятно, где-то по соседству — сначала в районе нынешней улицы Никонова, потом в спальном районе на восточной окраине города. Он даже имел с писателем, судя по тексту, немало общих знакомых. (Читатель, соприкасавшийся с миром местной творческой интеллигенции, их тоже узнает без труда, хотя и они либо не названы вовсе, либо названы вымышленными именами.) Но писатель Никонов (при всех «рытвинах» и «колдобинах», которые встречались на его жизненном пути) прожил внешне благополучную жизнь: вовремя окончил институт, получил достойную работу, рано и счастливо женился, успешно вошел в литературу… Иное дело — герой «Чаши…».
Александр Рассохин шестнадцати лет от роду, мальчишкой-десятиклассником, был осужден по печально знаменитой 58-й статье («антисоветская агитация») и в последующие десять лет проходил «университеты» Гулага. Он вернулся (в барачную комнатушку отца) еще молодым, многое пережившим и ко многому готовым, но физически и духовно не сломленным; в нем достало здоровья и силы духа не только приспособиться к откровенно враждебной ему жизни, даже и не только освоить профессию художника, получить диплом, но и создать такие шедевры, силу которых не могли отрицать и его недоброжелатели, а самый авторитетный для него ценитель — выдающийся мастер, помогавший ему постигать глубинную суть искусства, — без колебаний признал: «Ты больше и талантливее меня».
Но талант, взращенный из глубин натуры художника, из глубин народной жизни, из глубин мировой художественной традиции, не вписался в матрицу советского мироустройства, жестко регламентирующую поведение человека вообще, а профессиональное поведение художника в особенности. Шедевры Рассохина безоговорочно отклоняются выставкомами, не покупаются советскими музеями, не принимаются даже в художественные салоны на продажу. Зарабатывать на жизнь герою романа (при его спартанской — нет, лагерной — неприхотливости) приходится исполняя случайные, чисто ремесленные заказы. Неустроенный талант — неустроенная душа — неустроенная жизнь… А символ жизни для художника Рассохина — женщина. Как и для писателя Никонова еще в «Весталке»; однако в «Чаше Афродиты» эта же мысль выражена даже более обобщенно и заостренно. И в самой последней сцене романа Александр Рассохин заливает свои так и не явленные миру шедевры, хранящиеся дома в шкафу, очищенным скипидаром…
«А дальше я открыл дверь в лоджию. Сейчас я возьму спички, весь коробок. Зажгу его и брошу в залитый скипидаром шкаф…» После этого Александр выходит на лоджию — его однокомнатная квартира находится на двенадцатом этаже… «И вот распахнуты створки. Я ничего не боюсь. И ничего не хочу. Сейчас я шагну вперед. И буду совсем свободен…» Это не преходящее (с кем не бывает, а могло и не случиться) помрачение духа в силу стечения обстоятельств (ОНА ушла, картину, вроде бы уже приняв, опять отклонил выставкой), а естественный исход событий, направлявших течение всей жизни героя в романе — от лагерного предзонника до трагической развязки. Именно эта траектория наглядно и чувственно конкретно выражает философскую суть второго романа из незавершенной тетралогии «Ледниковый период».
Я только что написал слова, требующие особенного читательского внимания: роман «Чаша Афродиты», несмотря на обилие в нем слишком откровенных сцен, — никакой не «эротико-реалистический», а именно философский, и это главный ключ к его пониманию. Только я должен предупредить, что философия — не совсем то, что вы, может быть, «сдавали», проходя курс наук в каком-нибудь вузе. Конечно, полезно представлять себе естественнонаучную картину мира, убедиться, что у каждого следствия есть своя причина, а количество непременно переходит в качество; полезно овладеть и некоторыми приемами правильного рассуждения. Но так ли уж важно, что там «первично», а что «вторично», если дух может быть силен и в немощном теле, а духовный голод не утоляется роскошными разносолами? Куда как важнее, что даже самая обширная научная эрудиция не дает надежных ориентиров в безграничном и безмерно сложном мире, где все мы живем. Незнание компенсируется опытом — и вашим лично (он незаменимо важен), и особенно опытом прошедших до нас с вами по земле поколений. Он-то и накапливается в череде не сменяющих, а развивающих и дополняющих друг друга философских учений, запечатлевается в образах искусства, которые суть не «картинки» для праздной забавы, а крупицы непосредственного знания, которые для житейской практики имеют не меньшее значение, нежели понятия и формулы точных наук.
Видимо, имея в виду вот эту коренную разницу между общепринятым (под влиянием вузовских традиций) представлением о философии и ее подлинной сутью, Никонов писал, что, дескать, «люблю не столько философию, сколько мудрость (а это и есть философия!). Свою картину мира строю, как всякий мало-мальски мыслящий, и начал это с детства, с осознания себя, а продолжил в книгах» («В поисках вечных истин»). «Убежден, — рассуждал далее Никонов, — что без солидного, систематического историко-философского образования вряд ли можно чувствовать себя серьезным литератором и чего-либо путного добиться на избранном поприще». Продолжая это рассуждение, автор (тогда еще будущей) «Чаши Афродиты» называет десятки имен — от Демокрита и Сократа до Ясперса, Хайдеггера, Ортеги-и-Гассета; по ним можно примерно представить себе круг философских интересов писателя. Но чтение философов для Никонова — не школярские штудии для расширения кругозора, а усилия, способствующие художественному постижению тайн мироздания.
Думаю, увлекательным занятием для серьезного литературоведа могло бы стать изучение процесса постепенного — из года в год, от одного рубежного произведения к другому — накопления в прозе Никонова философского потенциала. Но тема этой статьи позволяет мне ограничиться лишь ссылкой на промежуточный итог никоновских философских штудий, который подводит сам писатель: «Все философские школы грешат одним недостатком: их основатели и последователи не были биологами. Биология и есть высшая философия жизни, и, познавая ее, можно делать открытие за открытием, даже в физике и математике, не говоря уж про общественную жизнь. Огрубленно: жизни общественной, то есть социальной, — нет. А есть лишь биологическая жизнь сообществ разных уровней: вирусы, бактерии, колонии лишайников, муравейники, термитники, стаи рыб, птиц, четвероногих, сообщества низших приматов, архаические популяции орангутангов, шимпанзе, горилл, современная жизнь примитивных народов <…> — в основе всего лежит биологическая философия, или, если хотите, натурфилософия, над которой у нас было принято смеяться, глумиться, в то время как она гораздо точнее, чем всякого рода несбывшиеся опыты всех утопистов, вместе взятых!» («В поисках вечных истин»; выделено автором). Не знаю, начал ли уже Никонов работу над «Чашей Афродиты» тогда, когда писал процитированные строки, но очевидно, что именно десятилетиями в нем вызревавшая «биологическая философия» положена в основу этого итогового романа.
Надо, однако, заметить, что у философии принципиально иные отношения с истиной, нежели у точных (и даже «не точных») наук: если физик или, скажем, математик обосновывает свой вывод системой строгих аргументов (малейший сбой в логике — и он не будет принят научной общественностью), то все философские учения основываются на постулатах, в принципе недоказуемых, их можно либо принять, либо не принять, а вместе с ними принять или не принять возведенные на них интеллектуальные конструкции. От чего зависит — принять или не принять? Только от двух причин: во-первых, от укорененности того или иного исходного положения в духовной традиции человечества (отсюда и доказательная сила ссылок на философские авторитеты, и непременное цитирование признанных в философском мире книг); во-вторых, от соответствия философских суждений вашему житейскому опыту (в том убедительность «афористических истин», о которых упоминает Никонов, а я бы сказал и проще: на душу легло — значит, истинно). Эти положения верны также и в отношении к литературе (которая в основе своей, безотносительно к намерениям автора, всегда философична): если вы (вслед за Станиславским) воскликнете: «Верю!» — то больше и никаких доказательств не требуется. А если: «Не верю!» иные доказательства уже и не помогут.
Рассуждений на эту тему у Никонова я не встретил (все-таки, несмотря на амбиции, проявленные в его исповедальных вещах, теоретиком он себя не числил), но сильной писательской интуицией, — как говорится, «нутром» — он понимал, что это так. Поэтому философскую базу «Чатни Афродиты» подготовил основательно. Прежде всего, предпослал роману как бы мифологический «Пролог». К слову, «пролог на небе» — давняя и почтенная традиция серьезной литературы, начиная от «Илиады» и отнюдь не кончая «Фаустом» Гете. Немало философских рассуждений рассыпано по всему тексту романа — от поучений лагерного художника Самуила Яковлевича и училищных наставников до откровений, почерпнутых Александром Рассохиным из собственного нарастающего творческого опыта; ссылками на «далеких мастеров дохристианских эпох и культур» в авторском послесловии к роману Никонов еще раз подкрепил свою «биологическую философию», а на деле — право не считаться с традиционными нормами и запретами ради «высшего реализма».
Однако я не всуе употребил пресловутое «как бы», говоря о «Прологе», предваряющем роман. Все есть в античной традиции: и пеннорожденная Афродита-Киприда, и храмы в ее честь, и храмовые гетеры, и оргии — только мифа, разыгранного писателем на первых страницах романа, никогда не существовало. Писатель воплотил здесь свою произвольную фантазию, причем в манере, совсем не свойственной природе его таланта. Ни фотографическая память, ни феноменальная тонкость слуха, ни особый дар вчуствования на этот вымысел, увы, не сработали, и в выспренной, несколько даже китчевой картинке проступили «швы»: непонятно, кто, где и зачем в течение двадцати лет втайне воспитывает обыкновенную, от смертных родителей, девочку, чтобы она затем предстала перед народом в образе (но только в образе!) бессмертной богини. «Боги дали ей…», — сообщает автор; так если они есть, то почему бы Киприде не являться людям самой? А если их нет, так кто же дал смертной исполнительнице роли богини способность повелевать любыми животными, усмирять морскую стихию и даже вызывать гром «из клубящихся туч»? Да это бы ладно, ключевой (так и не разгаданный) для меня вопрос: зачем после двадцати лет успешного «лицедейства» (думаю, что я вправе так назвать ее периодические появления перед людьми в образе богини, которой она на самом деле не является) лже-Афродита должна испить чашу яду, чтобы умереть? А этот вопрос несравненно важнее, нежели вопрос о природе ее власти над стихиями: ведь «чаша Афродиты» дала название роману и, значит, должна быть признана ключевым образом к пониманию его «биологической философии»…
Сцена оргии у подножия храма в честь Афродиты (выражаясь по старинке — свальный грех) меня, читателя, не вдохновляет, а скорее вызывает брезгливость. И ссылки на «далеких мастеров дохристианских эпох и культур» не снимают для меня вопрос о природе «христианского догматизма», порицавшего физиологическую разнузданность: ведь автор сам же оговаривается, что не собирается посягать на высшую морально-нравственную ценность Христовых заповедей.
Так что мифологические экскурсы и теоретические подпорки плохо держат замысел романа. Иное дело достоинства текста — той самой художественной ткани, которая более всего ответственна за утверждение истины, составляющей содержание произведения. В этой части Николай Григорьевич Никонов явил вершинное мастерство. Текст перед вами, и я не вижу необходимости делать из него выписки (тем более что короткими цитатами в этом случае невозможно было бы обойтись), чтобы показать, как здорово он умеет дать двумя-тремя беглыми штрихами выразительный портрет; как тонко он умеет передать переливы настроения: к примеру, во всепоглощающем всплеске счастья — нарастающую горечь смертной тоски; как убедительно, в конце концов, он рисует эротические сцены, до этой поры так мало освоенные литературой: серьезные художники касались этой сферы едва-едва, памятуя о нравственных запретах, а ремесленники, спекулирующие на эротике, оставляли на них омерзительные следы своих засаленных пальцев. И читая роман как притчу о художнике, которого разлучили с жизнью, я был бы готов поверить в постулаты «биологической философии» Никонова, если бы страница за страницей не нарастало пресыщение. И уже не «ханжеское» (одно из ключевых слов никоновской философии) умозрение, а здоровое нравственное чувство противилось психологическому нажиму: невозможно, чтобы жизнь талантливого человека вот так полно, даже через край, была погружена в область необузданных эротических фантазий и переживаний! Не верю! И невозможно, чтобы искусство живописи было так фатально «зациклено» на женщине, даже и не столько на обнаженной натуре, сколько на эротике. Не верю! Нормальный творческий инстинкт художника-реалиста (не провозвестника проблематичного «реализма высшего порядка», а продолжателя отечественных реалистических традиций) помогает Никонову найти убедительное сюжетное решение: «изголодавшийся» в десятилетнем заключении зэк (причем в том самом возрасте, когда сама физиология требует!) действительно может непоправимо свихнуться на эротике. Собственно, так и прочитывается история Александра Рассохина; в этом плане она оказывается художественно убедительной. И, как всегда у Никонова, поразительно богата панорама жизни большого советского города, культурного центра, в 50—80-е годы. Тем роман интересен, тем он оправдывает свое значительное место в никоновском литературном наследии.
А вот что касается «биологической философии» — я думаю, я надеюсь, что у нее найдется немного поклонников. Но познакомиться с ней любопытно хотя бы потому, что она многое объясняет в творческой судьбе крупнейшего уральского писателя.
Валентин Лукьянин
Примечания
1
В тексте встречается авторский знак., (двуточие) там, где многоточие автор считает излишне многозначительным.
(обратно)



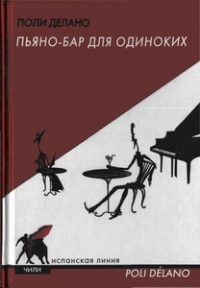

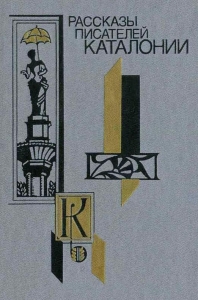

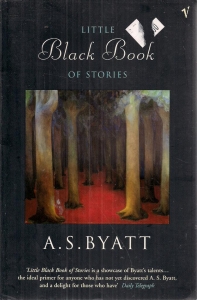
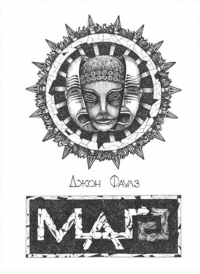

Комментарии к книге «Том 8. Чаша Афродиты», Николай Григорьевич Никонов
Всего 0 комментариев