Сергей Носов Поцелуй Раскольникова
1
ХОЗЯЕВА САДА
«И, кажется, вечор еще бродил я в этих рощах…»Ночь, теплая, уже не белая августовская ночь. Последний (наверное, последний) трамвай. Мы выходим из пустого вагона, идем по безлюдной Садовой. Оба одеты не по-городскому – на мне резиновые сапожки, отец в стареньких кедах, за плечами у него рюкзак, в котором лежит большая хозяйственная сумка; у нас фонарики – на плоских больших батарейках, которые забавно проверять на язык.
За оградой в глубине Михайловского сада едва мерцают огоньки – два, три, четыре… то появляются, то гаснут. Это пришедшие раньше нас. Увидев огоньки, отец воодушевляется: значит мы не одни – есть что собирать! – значит выползок ожил!.. Кажется, нам действительно повезло: днем был дождь; все складывается как нельзя удачно. Влажная почва и теплая ночь – главные условия хорошей охоты.
Ворота закрыты, висит замок – на ночь сад закрывается. Будем проникать со стороны Садового моста, в год моего рождения его стали называть Первым Садовым, чтобы не спутать с тогда же нареченным Вторым, но я еще об этом не осведомлен, потому что моя голова еще не забита ненужным.
Мне девять лет.
Ограда завершается округлой секцией; пики, исходящие из одной точки, под разными углами целятся в пространство Марсова поля. Залезаем на парапет; хватаясь за пики и нависая над береговым скосом, перебираемся в сад. Отец доволен: нас никто не заметил. Не зажигая фонариков, идем в темноту, подальше от освещенной Садовой. Трава влажная, это хорошо, они любят сырость.
Отец включает фонарик, мы видим край газона; крохотные кучки земли – это следы недавнего присутствия выползков. Самих, однако, выползков нет. «Шумно идем, – говорит отец, – попрятались». Я знаю: у них великолепный слух. Неужели у них есть уши? Мы проходим еще в темноте – тихо-тихо, почти на цыпочках. Некоторое время стоим, замерев. Тишина. Город уже уснул. Где-то далеко, за Фонтанкой, проезжает машина. Над нами кроны старых деревьев – безветрие – листья лип не шумят. Оборачиваюсь на темный силуэт пристани-павильона. Днем здесь играют в шахматы за столиками и на скамейках. Что это за силуэт – словно кто-то сидит? Может быть, уснул шахматист?
«Посвети», – тихо произносит отец, я включаю фонарик, направляя луч ему под ноги, и словно кто-то в землю зарытый хочет ощупать поверхность земли высунутым мясистым мизинцем – вот что мы видим: настоящего выползка! Отец медленно наклоняется к нему, замирает на секунду-другую и, быстро схватив двумя пальцами, стремительно вытаскивает из норки. Я поражен: я никогда не видел таких длинных червей! Сантиметров тридцать, не меньше!
Это не простой земляной червяк, это не из тех, которых я собирал в деревне. Большой ночной выползок, вот кто он. Днем он прячется глубоко под землей, ночью поднимается наверх, чтобы, высунувшись из норки, поработать цепким ртом, собирая гниющие травинки и листья. Земля Михайловского сада очень богата выползками. Теперь я это вижу сам. Куда ни посветишь фонариком – всюду они. Но поймать выползка не так-то легко. Только коснешься – и он мгновенно исчезнет. Прячется под землю с невероятной скоростью. С легкостью проскальзывает между пальцев. Надо уметь. Я учусь. Если схватить не у самой норки, ускользнет обязательно. Мне удается вытащить из земли только четвертого. Приноровился, у меня получилось. Огромный, не стыдно испугаться такого.
Нас прибывает. Теперь с десяток фонариков блуждает по саду. Свет у всех тусклый, рассеянный – выползки боятся яркого света.
Вдвоем легче: светит один, другой наклоняется. Отец и я – только нас двое, остальные собиратели все одиночки.
Мы, наверное, похожи на грибников, перепутавших день с ночью.
Как это им удается исчезать с такой быстротой? – думаю о выползках и не могу их понять. Какая сила утягивает их под землю?
Тень императора Павла наблюдает за нами из окна замка. Михайловский замок, я знаю, называют еще Инженерным, я не знаю только, что там есть техническая библиотека и что я буду туда приходить – искать по реферативным журналам иностранные аналоги для наших изобретений. Я не буду биологом, а стану инженером, как не стал биологом, а стал инженером отец, хотя он был в детстве юннатом, ходил в кружок при Зоологическом музее, ездил в экспедиции, научился рисовать птиц и знает, что выползков едят не только кроты, но и лисы, и барсуки, и даже при определенных обстоятельствах люди.
Мои родители инженеры, они работают в «почтовом ящике», проектируют какие-то приборы, устройства, дома я слышу слова «снять характеристики», «довести до ума», их работа настолько секретная, что мне нельзя даже упоминать о ней в школе, только я не знаю сам толком, о чем же мне нельзя упоминать.
Я знаю, что в убийстве Павла был замешан его собственный сын. Как это – сын убивает отца? Не представляю. Рядом с Михайловским садом – только с другой стороны – был убит еще один император. Вижу темные очертания храма, построенного на месте убийства. Говорят, Спас-на-Крови собираются срыть. Рядом невысокий дом, когда-то принадлежавший церкви. В коммунальной квартире бывшего церковного дома росла моя мама – ей было двенадцать, когда в храм попал, но не взорвался, немецкий снаряд. Странно, до войны она часто гуляла по саду, но даже не слышала никогда о существовании выползков. Вот удивится, когда принесем полную сумку.
Больно ли червяку, когда его насаживают на крючок? Отец говорит: наверное, больно, только сам червяк об этом не знает. Спустя тридцать лет правительство Норвегии, вняв «зеленым», тем же задастся вопросом и профинансирует научные исследования по этой теме. Ученые придут к выводу: червяку не больно. Червяк боли не знает, скажут ученые. А то, что он извивается на крючке, – это все рефлекторное.
Чем глубже ночь, тем смелее выползки показываются из своих норок, брать их становится проще. Особенно много в южной стороне сада – там, где гранитные ступени ведут к Михайловскому дворцу.
Здесь все Михайловское – сад, замок, дворец.
Почему-то им нравится обитать поблизости от каменных плит.
И еще они любят, когда рядом деревья.
Здесь дубы, липы и тополя.
Мертвый древний дуб – нам вдвоем не обхватить руками, из его ствола вырублено многофигурное нечто. На всю высоту. А высота – трехэтажного дома. Он и днем страшноват, ночью лучше и вовсе не светить фонариком на лобастые головы…
Отец говорит, что эти головы старше его самого. И что мастер вложил какой-то в них смысл. Никто не знает какой. Мертвый дуб не переживет реконструкцию сада – лет через тридцать его распилят на части.
По ночам в Ленинграде еще не практикуют подсветку исторических зданий. Замок Павла со шпилем, храм, дворец теряются в темноте. Ночь безлунная. Боятся ли выползки луны? На Садовой гаснут светильники – экономия света. Как это – быть червяком? Жить в земле? Выползать ночью наружу?
Почему он червяк, а я человек?
Это правильно. Но справедливо ли это?
На работе у отца сплошь рыбаки. Собираются на Селигер за налимом. Налим любит выползков. Сумка, полная выползков, будет храниться у нас в холодильнике.
Тайна, известная мне: другой император, бронзовый, вместе с конем был в блокаду засыпан песком и землей – и вот здесь, в этом саду, возвышался над ним высоченный курган – представляю какой. Очень загадочный памятник, – в мирное время к нему не знали как относиться: плохой он или хороший. Царь, конечно, плохой, его хотел убить Александр Ульянов. А памятник, он хороший? Зачем же его перетаскивают с места на место? Нет его больше в саду, но я знаю он где: он во внутреннем дворике, это рядом, я видел. Тяжелая маркиза надежно закрывала в музее окно, но щелка все же была, и он там стоял (маркиза – не женщина, а занавеска.) Вернее, лошадь стояла. Император сидел неподвижный верхом. Он был, как и мой отец, засекречен. Пройдут годы, его рассекретят и установят на месте ленинского броневика, того самого, рядом с которым я принят был в пионеры.
Инженер из меня почему-то вышел плохой. Расставляю слова, чем и живу.
А еще здесь были грядки во время блокады. Дождевые черви, разрыхляя садовую почву, приносят известную пользу земле, а овощи они не едят. Может быть, выползки, которых мы собираем, потомки тех, что разрыхляли почву блокадного огорода.
Пытаюсь представить себя разрыхлителем почвы – в норе. Нет у меня ни рук, ни ног, ни глаз, ни ушей… есть только длинное-предлинное голое тело, которым прижимаюсь к чему-то (я же не знаю слово «земля»!)… Рот, он есть, упирается в землю (но я не знаю ни «рта», ни «земли»), я вытягиваюсь вперед, проникая в твердое заостряющейся головой… у меня нет головы, но был бы я человеком и была бы у меня здесь голова… и, проникнув ненамного вовнутрь, начинаю, телом сжимаясь, разбухать головой, которой нет у меня, но была бы, если бы я был человеком… Так я расширяю пространство норы. А потом сокращаюсь. И снова, длинный-предлинный, упираюсь ртом в твердую землю…
Самое жуткое, что я совершенно один. Нет ни родителей, ни друзей. Никого. Я один – сокращающийся и удлиняющийся… заглатывающий крохи земли и кусочки гнилушек…
А если бы мне сильно не повезло и я бы родился не в семье людей человеком, а червяк породил бы меня червяком… и был бы я всю жизнь червяком… и никто бы не знал, что этот червяк – это я… Никто, ни одно существо на свете!.. И если бы мой отец, у которого я б не родился, насаживал меня на рыболовный крючок, разве бы думал он обо мне?.. ему бы и в голову не пришло, что на крючке – это я… что это я извиваюсь… Да я бы сам о себе не знал ничего (что это я, я б такого не знал!)… Даже тогда, когда бы я вылезал наполовину из норки и было бы мне хорошо, я бы не думал ни о себе, ни о мире, в котором живу, потому что червяк не знает, как думать, а просто живет…
Мы, собиратели выползков, бродим по саду и невольно встречаемся на Большой Проплешине (днем здесь мальчишки гоняют мяч). Один, который с ведром, угощает двух других «Беломором». Отец не курит уже несколько лет – говорит, что свое откурил. «Не с одной» – говорит, который с корзиной и, дав прикурить первому, гасит спичку. Потом со второй спички дает прикурить второму, с третьей сам прикурил. Обсуждают добычу и кто поедет куда. Кто за налимом, кто за язем, кто за сомом. Спорят, как лучше приманивать крупную рыбу. Мы с отцом возвращаемся к павильону, что придуман архитектором Росси. Я отчетливо вижу: никто на стуле не спит. Спрашиваю отца, почему нельзя вдвоем прикуривать от одной спички. Он отвечает, что это окопный закон. Снайпер успеет прицелиться на огонек и снять второго.
Я не понимаю, шутит он или нет. Если был бы здесь снайпер, где бы сидел? На крыше дворца? На суку столетнего дуба? Оглядываюсь по сторонам, всматриваюсь в темноту.
С Невы доносится гудок. Плывут корабли. Выползки привыкли к ночным гудкам, они их не боятся. Мосты разведены, но нам с отцом не надо тревожиться – мы живем на этой стороне, а через Фонтанку мосты не разводят.
Мы перелезаем через ограду, минуем замок и цирк, идем вдоль Фонтанки пустынным городом. Сумка, полная выползков, лежит у отца в рюкзаке.
Выползки живут по нескольку лет. Неужели это правда, что они не чувствуют боли? Трудно поверить. Трудно представить, но, может, кто-то из них – мой ровесник?.. Господи, как хорошо, что я человек!
ПОЦЕЛУЙ РАСКОЛЬНИКОВА
Вид из окна
За фасадом Юсуповского дворца (не того, что на реке Мойке, где убили Распутина, а другого, на реке Фонтанке, что напротив нашего окна) виднеется башенка. В стародавние времена на ее остроконечном шпиле развивался красный флаг. По нему я определял направление ветра, когда подходил к окну. Каждую осень в наших местах господствует сильный западный ветер с залива, первопричина петербургских наводнений. В конце ноября флаг нередко меняли, таким он становился потрепанным. Иногда и вовсе его срывало ветром.
В том здании мы поженились. То есть поставили подписи в соответствующих документах. Брак был тайным. Ни гостей, ни свидетелей. На мне не было галстука. Женщина в строгом платье, в чьи обязанности входило напутствовать молодоженов, удивилась: «Вдвоем?» – «Можно без речей, – сказала невеста. – Про ячейку общества мы все знаем».
На потолке расцветала лепнина бутонами, за спиной женщины – герб СССР. «Все-таки я скажу» – спич оказался на удивление неофициальным. Что-то о здравом смысле, которого всем не хватает. Абсурдист, живущий во мне, шевельнулся и замер. Пожалуй, она нарушала инструкцию. Мы улыбались все трое, как заговорщики.
День был по-ленинградски пасмурным. Выйдя на улицу, сразу поссорились. Через час помирились. Потом мы ссорились и мирились, ссорились и мирились, не понимая, из-за чего ссоримся, потому что ссоримся исключительно из-за пустяков, а по большому счету как-то никогда и не ссорились.
Однажды шквальный ветер сорвал красный флаг, и больше здесь флага не вешали. Все в стране изменилось. Государственная символика и все остальное. Название государства.
Город тоже поменял имя.
Наводнений почти нет. Дамба хоть и недостроена, а худо-бедно защищает город.
О направлении ветра я сужу по кронам деревьев.
Дирижер
Высокий, худой, в коротких брюках, в перекошенных башмаках, он появлялся то здесь, то там вблизи перекрестка Невского и Садовой. Он всегда держал деревянную линеечку, которой то и дело размахивал.
Со мной он почему-то здоровался, возможно, признавал во мне еще одного городского сумасшедшего. Я ж, увидев его, старался незамеченным отойти в сторону.
Я видел, как он дирижирует то на автобусных остановках, то у входа в театральную кассу, то возле спуска в метро.
Я видел однажды, как в «Кулинарии» продавщица дала ему бутерброд с куриным паштетом; он отошел к окну и, зажав подмышкой линейку, стал быстро есть. В эти минуты мир был предоставлен самому себе, следовало торопиться.
По Невскому и Садовой курсировала большая белая карета на огромных колесах. Ее везли две угрюмые лошади. Туристы выглядывали из окон.
Иду я однажды по галерее Гостиного Двора, вижу: едет карета, а улицу наискосок переходит он. Не знаю, что было вначале, он ли взмахнул линеечкой – или отвалилось колесо само по себе, без его участия. В любом случае, вслед за первым отвалились и три других, карета с треском опустилась на рессоры, выломались дверцы, и вся конструкция, чуть помедлив, сложилась, как карточный домик. Среди обломков сидели ошарашенные пассажиры, рядом ходил возничий в какой-то невероятной ливрее и озабочено чесал затылок. А дирижер продолжал вдохновенно размахивать линеечкой, и, казалось, это он управляет процессом.
Хоронили поэта Андрея Крыжановского. Никто не заметил, как в числе провожающих в автобус проник человек с линеечкой. На кладбище было не до него. Он выдвинулся из толпы, когда гроб на ремнях опускали в яму. И стал дирижировать.
Больше я его никогда не видел. Жив ли – не знаю. Напротив места, где развалилась карета, повесили мемориальную доску, посвященную баснописцу Крылову. Не похоже, что мир стал менее (или более) управляемым. Может, и жив.
Поцелуй Раскольникова
Решив покаяться, Родион Раскольников вышел на середину Сенной площади, встал на колени, поклонился и, не думая о последствиях, поцеловал землю («эту грязную землю», сказано у Достоевского).
Последствия возымели быть через полтора века. На месте поцелуя Раскольникова к юбилею города стремительно вырастает стеклометаллический, весь изнутри светящийся штырь – «Башня мира». Слово МИР изображено на нем более чем на сорока языках.
Знатоки называют сооружение «архитектурной доминантой площади». Раньше у площади была другая доминанта – колокольня храма Успения Пресвятой Богородицы, памятник высокого барокко.
Мне исполнялось пять лет, когда храм срыли до основания. В тот же год у меня нашли паховую грыжу. Груда камней на месте храма и операция под общим наркозом – одни из первых и самых ярких впечатлений детства. Помню еще, в больничном коридоре что-то гудело, наверное, полотер, а во дворе глухо тюкало: тюк да тюк. Сосед по палате (мальчик постарше меня) говорил, что это отрезают и отрубают ноги.
Отец рубил дрова прямо в прихожей – на чурбане. В наш старый дом недалеко от Сенной очень долго не проводили горячую воду.
Позже нашего школьного военрука зарубила жена топором. Он спал и, говорят, ничего не почувствовал. Хочется верить. За день до этого мы поднимали всем классом на четвертый этаж огромный увесистый сейф – для хранения учебных гранат и автоматов.
Говорят, у него была любовница – наша соседка.
На месте храма образовался вестибюль станции метро. Несколько лет назад у вестибюля рухнул бетонный козырек, погибло семь человек. Я видел машины «скорой помощи» и взъерошенного губернатора.
В советские времена Сенная называлась площадью Мира. Говорили, что ее вновь переименуют в площадь Мира – в честь «Башни мира», выросшей на том самом месте, где Раскольников целовал землю.
ДОСТОЕВСКИЙ НА СЕННОЙ, ИЛИ СЕННАЯ БЕЗ ДОСТОЕВСКОГО
1
Известно, рассказ Достоевского «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» был воспринят многими как пасквиль.
Прототипом чиновнику, проглоченному крокодилом и вещавшему из нутра чудовища прогрессистские благоглупости, публика назначила осужденного Чернышевского.
Спустя годы, протестуя против «аллегорического» прочтения его сочинения, Достоевский передразнивал интерпретаторов: «В чем же аллегория? Ну конечно – крокодил изображает собою Сибирь; самонадеянный и легкомысленный чиновник – Чернышевского. Он попал в крокодила и все еще питает надежду поучать весь мир».
Вряд ли бывший каторжник Достоевский, когда писал своего «Крокодила», сомневался в том, что уже никогда и ни при каких обстоятельствах не лишится свободы. Однако лишился. Но ненадолго. Дело в том, что, будучи редактором «Гражданина», он допустил оплошность, наказуемую арестом и штрафом: напечатал без разрешения министра императорского двора материал, содержащий слова Александра II. И случилась эта оплошность всего через три недели после того, как Достоевский в том же «Гражданине» объяснялся по поводу Чернышевского и своего «Крокодила». Приговор Окружного суда был приведен в исполнение в марте 1874 – бывший каторжник на двое суток стал арестантом.
Сидел он в здании Гауптвахты на Сенной площади. По воспоминаниям надзирателя (достоверность которых, впрочем, сомнительна) писатель коротал время за картами в компании с неким Александровым, купеческим сыном, тоже отбывающим срок. Чем бы ни занимался Достоевский эти два дня, молодому арестанту о своем каторжном прошлом он несомненно рассказывал и наверняка мысленно обращался к своему «Крокодилу» и судьбе Чернышевского. По сути, Достоевский сам «попал в крокодила», было что-то пародийное в его досадном и нелепом аресте. Вот чего точно не мог предугадать автор «Крокодила», так это того, что в том же помещении через век с четвертью будет заключен сам крокодил – живой крокодил в стеклянном террариуме.
В 90-е годы двадцатого века в здании бывшей Гауптвахты Сенного рынка (образец классицизма, архитектор В. И. Беретти) разместится выставка экзотических рептилий. Предприятие окажется выгодным – процветать ему и в новом тысячелетии. Я заходил, я видел того арестанта. Назвать его огромным было бы преувеличением; такой не проглотит ни Чернышевского, ни чиновника даже низкого роста; пожалуй, крокодил, которого выставляли в Пассаже в далеком 1864, был покрупнее. Но и наш может схватить за руку.
Вряд ли наш – потомок того. Хотя кто знает? Я спросил служительницу, не нужны ли на прокорм крокодила дохлые крысы (в старом доме недалеко от Сенной мы боремся с крысами с помощью крысоловок). Я бы мог поставлять. «Только живых, – сказала служительница, – и только бесплатно». Ушел.
2
Вооруженный топором, удаляясь от Сенной все дальше и дальше, Раскольников шел на убийство. В голову ему лезли мысли, несообразные с тяжестью преступного замысла.
Известно: «Проходя мимо Юсуповского сада, он даже очень было занялся мыслью об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях». Кроме того, известно нам, что «ему вспомнились собственные прогулки по Сенной», то есть, надо полагать, на короткое время он мысленно перенесся назад по Садовой – шагов на 350–400, именно там и материализовался горячечный бред Раскольникова: возник фонтан. Но не сразу. Через 138 лет, к 300-летию Санкт-Петербурга. Фонтан представляет из себя поилку для лошадей, за отсутствием оных поднятую на возвышение. Вверх не бьет, четыре струи направлены вниз. Вряд ли бы он удовлетворил Раскольникова.
3
Начнем издалека и с общеизвестного.
1) «Преступление и наказание» входит в условную группу «главных», «мировых» романов, скажем, в десятку, или двадцатку – не важно.
2) Если бы мы захотели выделить из этой десятки-двадцатки такие произведения, месту действия в которых с максимальной точностью отвечает топография реальной местности, пришлось бы назвать два творения – роман Достоевского и «Улисс» Джойса.
3) Из великого множества уголков Дублина, упомянутых в «Улиссе», нельзя выделить особого места, связанного с ключевым, кульминационным, смыслостягивающим происшествием, по причине отсутствия отвечающего тому эпизода: кульминации в традиционном понимании этого слова в «Улиссе» нет. В «Преступлении и наказании» – есть. Соответственно есть и место, относящееся к этому эпизоду, и оно в романе обозначено точно: середина Сенной площади, перекресток («Поди на перекресток, поклонись народу…»), место, где Раскольников – в экстазе духовного очищения – целует «эту грязную землю».
Но раз так, то, следуя этой логике, надо признать, что перекресток Садовой улицы и Московского (тогда Обуховского) проспекта, продолженного переулком Гривцова (тогда Демидова), есть самый литературный топос на земном шаре. Более «литературных мест» на планете не существует. Почему-то столь очевидная мысль никому не приходит в голову. Я сам тысячи раз бестрепетно топтал ногами этот участок уже не столько земли, сколько асфальта, множество раз проезжал по нему на трамвае, но никогда и в голову не приходила мне мысль о тайном статусе этого «пятачка».
Место напомнило само о себе. Причем таким фантастическим образом, что если бы Достоевскому пришло в голову задуматься о будущей судьбе им обозначенных петербургских реалий, ничего похожего он не смог бы и вообразить. Через 138 лет после того как, рухнув на колени, Раскольников целовал здесь грязную землю, из целованной этой земли вырос невероятный объект, именуемый Башней мира.
Он действительно скорее сам вырос, чем был воздвигнут, скорее образовался сам, чем был образован. Ведь по первоначальному замыслу нечто подобное, концептуально высокое и стеклометаллическое должно было стоять у морских ворот города, изображая из себя маяк, и это, пожалуй, еще как-то могло согласоваться со здравым смыслом. Но на берегу залива Маяку мира, подарку Франции к 300-летию Петербурга, а именно так в то время представляли еще только замышляемый объект, просто не нашлось места. Поскольку от подарков отказываться не принято, место для сооружения выделили по принципу «где придется», пришлось на Сенной площади, она большая; концепция при этом легко исправлялась: не маяк, но башня. В самом деле, давно ли Сенная площадь называлась площадью Мира? Вот пусть Башня мира на ней и стоит. Более убедительных аргументов в пользу выбора данного места не предлагалось. На риторический вопрос «а зачем вообще нужна эта вышка Санкт-Петербургу?» был столь же риторический ответ: «Франция дарит».
За два месяца до юбилейных торжеств выяснилось невероятное: правительство Франции не имеет никакого отношения к Башне мира. Зато к ней имеет персональное отношение генеральный комиссар Генерального Комиссариата по участию Франции в праздновании 300-летия Санкт-Петербурга. Как частное лицо. Как частное лицо он нашел в частном порядке спонсоров частному своему проекту, одним из авторов которого, в частности касающейся концепции, оказалась его жена, художник. В необходимости воздвижения Башни мира в городе Петербурге он сумел заблаговременно убедить лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И вдруг выясняется, это не есть дар непосредственно Франции, а плод частной инициативы ее гражданина.
Пресса злорадствовала. Общественность протестовала. Комиссара из Франции обвиняли в лоббировании семейных интересов. Скандал разгорался. Блоки будущего сооружения были задержаны на границе. Таможенники предъявили городу счет. Казалось, Башни, какой бы она ни была, как не было у нас, так и не будет, все говорило против нее. И все-таки она выросла, выросла как из-под земли. Почему? Зачем? Почему именно здесь?
Не потому ли, что 138 лет назад целовал на этом месте землю Раскольников?
Башня светится, и нутряной ее свет словно источается самой землей.
Стоя на коленях, Раскольников поцеловал землю два раза – и вот результат: через 138 лет два вертикальных световых луча гиперболоидов башни-светильника многозначительно пронзили петербургское небо.
«…Поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету…». Ритуальный жест Раскольникова означает просьбу о прощении у земли, против которой он согрешил, возвращение к людям, закон которых нарушил, примирение с миром. «… Всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает…». Но посмотрим на башню. «МИР МИР МИР МИР…» – сорок раз только на русском, и еще тот же «мир» – на тридцати двух языках народов мира!
После встречи с Путиным инициатор проекта дал интервью: «Владимир сказал мне… что ему хотелось бы поднять политическое значение Петербурга. «Башня мира» выполнит эту миссию: рядом с ней президенты 50 стран, которые прибудут на празднование 300-летия Петербурга, подпишут особый «контракт с миром». Они на века поставят здесь свои подписи. И эта традиция продолжится – президенты других стран, которые будут приезжать в Петербург позже, тоже будут расписываться здесь».
То есть, согласно этому фантастическому проекту, к месту, где Раскольникову до'лжно было поклониться на все четыре стороны света, со всех концов света должны съезжаться владыки мира и его частей для выполнения ритуала под стать тому, на который решился Раскольников. Ведь ритуальный жест Родиона Романовича тоже можно интерпретировать как своего рода «контракт с миром». Надо полагать, президенты, привлеченные сюда неведомой силой со всего света, оставляя подписи на Башне мира, тем самым в символическом плане должны были бы просить, подобно Раскольникову, прощения у матери-земли, перед которой они все погрешили, а, стало быть, переживать неизбежно минуты духовного очищения.
Поразительно, но, грезя об этой невероятной башне, заинтересованные лица даже не помышляли о Достоевском. Все получалось как бы само собой, без аллюзий на литературный источник.
Жаль, в полной мере осуществить проект не удалось. Было бы интересно. Фаллообразный объект пятиэтажной вышины вопреки обстоятельствам, человеческой логике и настроению горожан, словно по злому волшебству, все-таки вырос, образовался на земле, дважды целованной раскаявшимся убийцей, но этим дело и ограничилось. Башня получилась непрезентабельной. Президенты к ней не съезжались. Договор не подписывали. Как-то привезли сюда актера Депардье. Побывав на Сенной, он сказал: «Большая фантасмагория».
2004
P.S. Башня просуществовала семь лет. В июле 2010-м, не выдержав аномальной жары, треснули стеклянные панели конструкции. С невероятной стремительностью объект был демонтирован. Восстановлению не подлежит.
ЗАКРЫТИЕ ТЕМЫ
Рассказ протрезвевшего
Я не пьяница, хотя, бывает, срываюсь. Бывает, меня несет вопреки очевидной целесообразности, угрожая историей. Тогда попадаю.
Была бы речь обо мне, тогда бы не было стыдно. Стыдно акцентировать, но в роковой цепи, будучи последним звеном, не я ли получил печать избранничества?
Нет, не совсем. Но и это надо осмыслить.
Боль головы и дрожание рук – вот мой портрет сегодняшним утром. Я берусь за перо, пускай не писатель. Я не только видел историю, но творил своими руками.
Что же думаю тогда о себе, проникаюсь значением происшедшего? Что я думаю о себе? что я думаю о себе? что же я думаю о себе, кроме всего вышесказанного?.. (Перечеркнуто)
Я не пьяница, хотя, бывает, срываюсь. Я еще не писатель… (Перечеркнуто)
Я не пьяница и не писатель. Я с трудом подбираю слова. У меня болит голова и дрожат руки. Я живой участник событий истории.
Расскажу, что было вчера.
Располагая значительной суммой денег и желая купить жене какой-нибудь хороший подарок, предварительно выпив немного с товарищем, уже без товарища во втором часу пополудни я вышел на Сенную.
Надо ли рассказывать, что такое Сенная?
Сегодня Сенная – это сотни, тысячи людей. Это живые цепи продавцов. Это нескончаемый поток покупателей. На Сенной можно купить все, чему я сам доказательство, как пример покупателя и как гражданин в другом смысле.
Итак, в соответствии с уже сказанным я предполагал купить жене хороший подарок.
Моя жена любит подарки.
Не буду рассказывать о своих впечатлениях, связанных с этой целью. Вопрос о моральном праве, имею ли я или нет сообщить, о чем сейчас говорю, меня сильно волнует. В принципе я никогда не был коммунистом и всегда был далек от политики. Хотя аспект человеческого характера не может не быть моим руководством. Я признаю только это. Такова моя позиция по принципиальным вопросам.
Идя навстречу обстоятельствам и еще не приобретя подарка, я был задержан своим вниманием около продавца алкогольных напитков. Как, должно быть, известно, многие на Сенной освобождаются от имеющегося у них алкоголя простейшей реализацией через продажу. Таково проявление рынка. Что касается дяди Леши, а так звали, как я узнал тогда же, заинтересовавшего меня человека, то о нем говорить, пожалуй, больше не будем, хотя, по правде сказать, это именно он продавал «тридцать третий» портвейн, причем, что примечательно, в розлив. Один стакан стоил семнадцать рублей. Не так дорого.
Осознавая нелицеприятные качества моих объяснений, вынужден утверждать, что без них невозможно. Мы выпили. В этом смысле я был не один. Михаилом звали другого, как потом он представился.
Это был человек лет сорока, с бледным припухшим лицом, покрытым морщинистой кожей. Волосы его были гладко зачесаны на правый бок. Лукавый взгляд зеленоватых глаз придавал его облику загадочность выражения. Роста он был невысокого. Кроличья шапка была надета на его голову. Он был без пальто. Вместе с тем в нем не было ничего подозрительного, что бы могло насторожить собеседника.
Непринужденность беседы не предполагала худого.
Напомню, что я был при деньгах.
Короче, пользуясь моим характером, среди черт которого есть уступчивость, или, я бы даже сказал, безотказность, я налил ему по его предложению сверх этого еще столько же, заплатив за обоих.
– Ты, поди, бизнесмен крутой, – сказал мне Михаил, думая, что я действительно крутой бизнесмен, в чем, конечно, ошибся.
Ошибкой с моей стороны было то, что я не отрицал этого и даже сказал, бахвалясь:
– Да, деловой человек.
– Если так, – обрадовался Михаил удачному случаю знакомства со мной, – ты-то нам, приятель, и нужен. Как раз.
– Объяснись, – попросил я Михаила.
– Изволь. Что ты скажешь на то, если я тебе предложу по дешевке ценный предмет?
– Это как по дешевке?
– Договоримся, – сказал Михаил.
– В чем же ценность его? – продолжал я расспросы.
– В том, что стоит безумных денег, причем за границей.
– Полагаешь, продам иностранцу?
– С руками-ногами! Денег хватит тебе до конца твоей жизни.
Предложение меня слегка зацепило.
– Покажи.
– Нет, он дома. Я живу в двух шагах отсюда, идем. Знаешь, как тебе повезло, что я выскочил опохмелиться. Друг мой вон не выходит, дежурит. Вещь такая, не отойдешь. Величайшая ценность.
Забегая вперед, скажу, что друга звали Василий.
Я еще сомневался.
Михаил убеждал. Проявляя, как могло показаться, заботу, в том числе обо мне, он в действительности решал проблемы личного рода. Я же, постепенно сдаваясь, позволял себя соблазнять. В нем был темперамент.
Вышеотмеченная моя безотказность дала себя знать с новой силой, причем любопытство разгорелось во мне, превзойдя предприимчивость, и я, потеряв голову, согласился.
Удивительна та быстрота, с которой пошел я навстречу просьбам незнакомого человека и еще приобрел две бутылки для совершения сделки, – но только тем, кто не смыслит ничего в психологии. Им также, наверное, удивительна необходимость тех или иных действий, обеспечивающих конкретность ситуации. Все это легко объясняется отсутствием у них жизненного опыта, хотя я никого не хочу обидеть, а также тем, что я не писатель и не умею отражать мысли. Особенно сейчас, когда мое состояние удручено состоянием организма.
Мы отправились к Михаилу.
Забыл сказать о погоде. День был солнечный. Все таяло и текло. Солнце светило ярко, лучисто, предвещая приближение уже начинающейся весны, отражаясь на лицах людей гаммой чувств, несмотря на трудности и проблемы. Так и должно быть на самом деле. Кто хоть раз приходил на Сенную, тот знает – здесь не горюют. На Сенной царит дух приподнятости. Здесь хочется быть счастливым.
В том, что жил он действительно недалеко, как и во всем остальном, я не был Михаилом жестоко обманут, но если бы правда высказана была до конца, думаю, что меня остановило бы благоразумие, не говоря уже о том, что в это трудно поверить.
Таким образом, преодолев проходной двор, мы вошли в одну из парадных Санкт-Петербурга и стали подниматься по достаточно малоприглядной лестнице, чей невзрачный вид хорошо описан в художественной литературе. Надо сознаться, мною овладевало предчувствие. Зачаточно оно выливалось в форму испуга. «А что, – думал я, – не ударит ли он меня сейчас по башке и не отберет ли деньги?» (У меня еще оставалось примерно триста рублей.) Но волна здравого смысла пресекла беспричинные страхи, потому что зачем ему тогда было бы просить меня купить еще две бутылки портвейна?
На третьем этаже мы оказались у цели. Двумя продолжительными звонками Михаил позвал Василия к двери. Но тот не открыл дверь, а только спросил:
– Кто там?
– Это я, – отвечал Михаил.
Дверь открылась. Мы впустились в квартиру.
Прихожая (а я оказался именно в ней) была оклеена обоями желтого цвета, несущими на себе орнаментальный рисунок. На стене висело круглое зеркало, а под ним стояла небольшая тумбочка, на которой безучастно лежал чей-то окурок – скромный свидетель образа жизни и не только его одного. Слева у стены возвышался шкаф. Справа располагалась вешалка. Возможно, я ошибаюсь, но планировка квартиры была такова, что в комнату можно было пройти, став спиной к последней, и на кухню – просто повернув направо.
– Кого ты привел? – раздраженно спросил Василий, имея в виду, несомненно, меня и выражая свое нескрываемое неудовольствие.
Лицо Василия не относилось к числу привлекательных, особенно не украшал его крупный лоб. Верхний край носа Василия был излишне вдавлен в соответствующую полость лица, что его, к сожалению, портило. Глаза широко расставлены. Поначалу он мне не понравился.
– Это наш покупатель, – сказал про меня Михаил, – деловой человек.
– Этот? – словно бы удивился Василий. – Посмотри, он на ногах не стоит. Что он купит?
– Это я на ногах не стою? Посмотри на свои! – смело был я возмущен, волю дав нанесенной обиде.
Михаил разрядил обстановку, достав из моей сумки две бутылки уже не раз упомянутого портвейна. Он урезонил Василия. Тот смягчился.
– Он при деньгах? – спросил Михаила товарищ, имея в виду, есть ли у меня деньги.
– Деньги есть, – отвечал за меня Михаил, хотя не знал, сколько именно денег.
– Ты ему рассказал? – задал новый Василий вопрос, потому что он точно не знал, что я знаю и знаю ли я то, что я на самом деле не знаю.
– Нет, – сказал Михаил, – иначе бы он не пришел.
– Ну, тогда надо выпить еще.
Мы очутились на кухне.
К сожалению, этот кухонный эпизод мне запомнился хуже. Вероятно, я в самом деле, как говорят, захмелел. Мы вели разговор, но о чем – врать не буду. Я что-то доказывал. Так устроены память и мозг человека, когда есть полоса, где их слабо касается. То, что было потом до какого-то пункта, я запомнил уже навсегда, но не странно ли это? Нет, не странно. Потому что меня потрясло. Всего потрясло. Я буквально трясусь до сих пор, выводя по прошествии суток нетвердой рукой эти честные строки. Вот Василий, помню, сказал:
– Пошли.
Мы в комнате очутились.
Он лежал на столе.
– Вот, – сказал Михаил.
Я стоял возле трупа.
Если б я был художником слова, я бы знал, какие найти мне слова. Нет, не труп, не оглушающий труп, на обеденном лежа столе, поражал меня своим неожиданным для настоящего места присутствием (в чем с его стороны была лишь, если подумать, одна неуместность), но его исключительная тому лицу принадлежность, узнать которое для меня было бы слишком ужасно. Чем больше я всматривался в лицо покойника, тем быстрее трезвел, узнавая.
– Ну, признал? – спросил Михаил.
Отрезвевшего, меня покачнуло.
– Ты думаешь, не настоящий? – спросил опять Михаил.
– Ты потрогай, мы тоже сначала не верили, – подстрекая, сказал мне Василий.
– Мужики. Шутки шутками, но без меня. – Я к выходу повернулся.
Я громко сказал:
– Тема закрыта.
– Подожди, не уйдешь. Теперь не уйдешь. Одной ниточкой связаны. Ишь чего захотел. Закрытая тема…
– Вася, Вася, не горячись. Он просто не верит. Расскажи все, как было.
За трясучестью рук моих мне вовсе не в руки вложили стакан, но к губам поднесли. Чтобы выпил скорее.
– Пей. Раскис…
Не успевшее стать проглоченным потекло вниз по дрожащему подбородку. Я глотал, торопясь.
Мы опять очутились на кухне.
– Знай, что я тебе говорю, – заставлял меня слушать Василий. – Ни в какой газете того не прочтешь, ни по какому ящику не увидишь.
Пренебрегая моей нетрезвостью, он поведал мне великую тайну, от которой рассудок, решительно защищаясь, отключался время от времени. Как хорошо, что не все мною усвоено, не все понято. Но и за вычетом этого понятое мною серьезно будоражит мысль.
Одно верно: Василий знал много. Он владел деталями плана, доступного ему в самых общих чертах. Всепроникновенность мафии – общеизвестное свойство, но знает ли кто, что она дошла и дотуда? Хрустальный гроб обворован – это уже факт истории, не считая того, что известно об этом лишь избранным. Василий поведал мне существо подмены: вместо тела положена кукла, муляж, искусная копия тела. Василий доказывал, что никто не заметил подмены, настолько все сделано гладко.
– Представляешь, какие замешаны силы?
– Но зачем? Но зачем? – изнурял я вопросом сознание.
– Как зачем? На продажу.
– Неужели только затем, – слабо теплился ложной догадкой мой новый вопрос, – чтобы продали мне?
– Не будь идиотом. Тело стоит не один миллион. Его хотели продать за границей. Переправить. По финскому льду…
Финский лед… эмиграция… совнарком… – вспоминалась родная история.
– Но у них сорвалось. На последнем этапе мне было суждено сколачивать ящик. Я же плотник. Вот… результат. Михаил предоставил жилплощадь.
– Вор у вора… – хотел я сказать, что подумал.
– Да, дубинку украл, – развив мою мысль, прекратил щекотливую тему Василий.
Он устало спросил о количестве денег. Я достал все, что было:
– Триста рублей.
– Да. Негусто. Впрочем… на две бутылки. С закуской. Михаил, ты не спишь? – спросил Михаила Василий, заподозрив, что тот почему-то уснул.
Но тот не уснул. Он взял мои деньги и пошел опять на Сенную, предоставив нам ожидание.
Боже, как тяжело вспоминать!
Мы ждали. Времени было около четырех часов. Голоса играющих детей доносились до нашего слуха. Как сейчас помню, они играли во дворе, подобно тому как это всегда происходит независимо от противоречий родителей. Всегда и везде. Солнечный свет мягко падал на стены кухни. Не помню, сказал ли я, что мы были на кухне. Это была обычная петербургская кухня, больше свойственная центру города, чем новостройкам, что доказывают и высота потолков, и немалая площадь. Украшением помещения служила непритязательная акварель, кажется, зимний пейзаж. Вентиляционная труба вела к соседям.
Помню, я сам понемногу дремал, иногда пробуждаясь. Как-то раз я спросил Василия, отчего моя кандидатура вызывает такое упорство, другой покупатель даст, наверное, больше.
– А ты бы с ним пожил хотя бы недельку, я б на тебя посмотрел, – быстро ответил Василий, намекнув, что жить с ним в комнате больше не может.
– Я при нем не курю. Я матом при нем не ругаюсь. Ты заметил, я матом совсем не ругаюсь, – приставал он ко мне, уверяя, что не ругается матом.
И еще я запомнил слова:
– Понимаешь, я книги читаю. О нем. Маяковский. Поэт Евтушенко… Поэт Вознесенский… Ты знаешь такого поэта? – тот Вознесенский писал: «Прозрачное чело горит лампообразно». Но откуда ему это известно? Представляешь? Откуда-то знал! Знал… Неужели он ходил к нему ночью?
– Я тоже хочу еще посмотреть, – сказал я, захотев еще посмотреть, но не справился с телом, упав.
Василий поднимал меня, утешая:
– Увидишь.
– Михаил, я тебя не заметил как ты возвратился, – я сказал Михаилу, если правильно вспомнил сейчас.
– А к тебе он не будет ходить, не боишься, Василий?
– Нет, он труп.
– Нет, не труп. Труп-идея. Больше чем труп. Самый главный труп на земле. Труп-идея.
– Труп идеи? – спросил Михаил.
– Идея трупа, – отозвался Василий и сознался. – Боюсь.
Впечатления этого часа питаются обновленностью, мы как будто стали другими. Безусловно, что-то случилось тогда, взволновавшее сердце, если не бояться сказать образно. Я не люблю излишества от красоты, но бывает, когда невозможно без формы. Исключительно редкое положение, взыскующее осмысления со стороны, иногда требует этого. Хочется сказать: блажен понимающий, что происходит, когда незамутненная посторонним, в чем родила мать, голая мысль бьет тебя словно электрическим током, и ты обретаешь речь. И тогда сами по себе, не нуждаясь в подборе, приходят на ум слова. Истина в своей простоте поражает тебя наглядностью. Оказывается, ты не знал ничего о себе, как не знаешь всего остального, так знай, знай, не пугаясь доступности, что все постигаемо.
Но когда завершается короткий период познания, невозможность его воссоздать безотчетно становится качеством твоей несовершенной памяти, как бы другие ни валили все на похмелье. Последнее не объясняет, но усугубляет трудоемкость творчества, но уже ничего невозможно припомнить. Я далек от мысли, как бы ни хотел ясности. Пустота и страх угрожают явиться. И все же проблески, о чем говорю, есть для меня безусловная ценность, как последняя форма надежды.
Понимаем ли я был в мною упомянутых проблесках? Не до конца. – Он умер в каждом из нас, а вы продаете, – было сказано мною.
Я готов повторить:
– Он умер в каждом из нас, а вы продаете.
Памятен Михаил, проливающий мимо стакана. Другого не помню, чем откликался Василий. Кроме того, мы оба страдали. Тот страдал по-другому.
– Нет, – отрицал он, – разве это продажа?
Я стоял на своем:
– Он жил и умер в каждом из нас, а вы продаете.
Василий тоже заплакал. Он был в порошке.
Я понял трагедию этих людей. Меня обожгло, поражая. В порыве я закричал им настоящую правду: ведь это подставка! подставка!
– Слушайте, вы! – закричал я, примерно как и сейчас, дрожа и пугаясь открытия. – Это ж подставка! Вы жертвою пали интриг! Неужели неясно вам, что вас просто подставили, очень умело организовав по-своему?! Они хотят, чтобы вы продали сами. Своими руками. Сами. Вы. Неважно кому. Все подстроено, мужики. Все подстроено. Все. Он умер в каждом из нас, но оставшееся в каждом из нас много ли живее умершего?..
– Повтори, – попросил Василий, перепачканный порошком.
– Он умер в каждом из нас, но то, что осталось в каждом живого, намного ли оно живее умершего?
– Разве я проститутка, – спросил, терзаясь, Василий, – чтобы торговать своей мертвечиной?
С другой стороны сказал Михаил:
– Разве это продажа? – запал в мою память его возражающий голос. – Мы пили портвейн, а теперь пьем водяру. На твои кровные деньги и вместе с тобой. Заедаем сухим молоком из одного дорогого пакета. Нам оказали иностранную помощь, и мы купили его на твой остаток. Мы не продали ничего. Мы пропили. Мы пропили, и ты пьешь вместе с нами.
Помню еще мысль Василия:
– Прошу не считать все это продажей. Мы тебе просто должны. Вот и все. Мы должны. Понимаешь? Должны. Это долг наш. Наш долг.
Был ли то я, если картина моих поступков не целиком отразилась в сознании? Да, я, это был именно я. Например, потрясло, что еще не стемнело. Меня направляла тележка. Большая. Все знают ее по грузчикам гастрономов. Стремительность встречи меня поразила настолько, что запомнилась лучше, чем все. Напряженно работала мысль.
Скажу достоверно, сначала я шел по Садовой. Ящик меня не смущал, несмотря на размер. Я был свободен от выдумок насчет жены как недостойных, как мелких, чтобы она поняла наконец всю сложность и вместе с тем высоту. До того ли мне было тогда? Мог ли я думать? О чем? О пользе? О бескорыстии? А ей бы лишь попилить. Или ты не способна понять, не умеешь окинуть женским умом весь масштаб, всю огромность величия, по сравнению с чем это сущий пустяк, то, что выпил с друзьями, и то, что брюки в земле, и ботинки, и сам, – это мелочь какая-то. Да тебе ли меня порицать, когда я отвечаю?
Потому что решение было принято мною и никто его не отнимет, в тот критический час во многом неправильной жизни: я себе запретил транспортировать к дому. Я принял, решился.
Вчера мною похоронено тело.
Так было. Хочется верить.
Безусловно, когда поразмыслишь, способность что-либо рыть в этом случае, особенно с учетом промерзлости почвы, при трезвом анализе должна показаться небессомненной. Согласен. Кто спорит? Однако повсюду копают, весь город сейчас перерыт, что могло бы способствовать при должном подходе. Ямы не помню, но помню, я стоял на краю. Как много положено на алтарь беспамятства! И все же лопата была. Отчетливо, ясно. Образ этой лопаты и подошедших детей – лучшее доказательство справедливости сказанных слов. Уверен, дети тоже работали. Я рассказывал им по мере возможностей осознаваемое. Иначе быть не могло.
Верю: мы предали тело земле. Хочется верить. Хочется верить. Верю больше, чем помню. Был ли то сквер или сад, но, быть может, Юсуповский. Впрочем, так ли – не знаю, не надо искать. Все равно не найдете. Даже если память когда-нибудь мне ответит, нет, я не выдам. Нет, никому. Никому. Никому. Никто не узнает. Никто.
1992
2
ПО СОСЕДСТВУ С ДОСТОЕВСКИМ
Сколько о Достоевском во всем мире написано работ – тысячи ли, десятки ли тысяч, сотни ли тысяч, – представить даже приблизительно не могу. Кто-нибудь их считал? Скажут: миллион – удивлюсь, но поверю.
После всего, что другими написано, вновь о Достоевском высказываться без особых внутренних на то причин любому автору уже неприлично, вроде бы (речь, впрочем, не идет об авторах школьных сочинений). Без «особых» – это без каких причин? А вот «внутренних», говорю. Чтобы самому себе объяснить, зачем ты на это решился. Скажем, лестное для авторского самолюбия предложение издательства написать очерк о Достоевском1 – это совсем не тот случай, чтобы со спокойной совестью торопливо отвечать согласием. А как на счет морального права? Какое ты лично отношение к Достоевскому имеешь? Есть ли что-то (себе ответь), что тебя с Достоевским связывает?
В общем, я думал-думал и придумал, что меня с Достоевским связывает, и сразу как-то вздохнул свободно.
Собственно, тут и думать долго не надо было, потому что речь идет о связи предельно формальной.
Но – выразительной.
Имею в виду место жительства. Так получилось, что я с рождения живу недалеко от Сенной площади. Есть такая в Санкт-Петербурге. А окрестности Сенной площади – самые что ни на есть «достоевские» места.
Если кто не читал еще «Преступление и наказание», они там описаны. Да и сам Федор Михайлович Достоевский долгие годы жил поблизости.
Для понимания идейного содержания «Преступления и наказания» вовсе не надо жить рядом с Сенной, но что поделаешь – раз судьба моя здесь жить, вот и говорю, что здесь живу.
Курьез, конечно. Два человека, не знакомых друг с другом, с разницей в несколько лет, полушутя, говорили мне одно и то же: хорошо бы для привлеченья туристов установить на Сенной памятник Раскольникову (если кто не читал – герой романа), обязательно с топором (если кто не читал – он им совершит ужасное преступление).
Но когда такая странная мысль приходит в голову людям друг с другом не знакомым, это только о том говорит, что все здесь действительно пропитано духом Достоевского. (Что такое «дух Достоевского», оставим в стороне, речь о том, что «дух» – этот не выдумка.)
Федору Михайловичу нередко предъявляют один серьезный упрек. Вот, дескать, все хорошо, но многие герои у него определенно выдуманы – в жизни таких не бывает. Эксцентричные какие-то, с выкрутасами, с чрезмерностями в характере… какие угодно еще, но только не из жизни взятые, а сочиненные. Я по себе заметил, и другие мне сознавались в том же: странная вещь происходит с нами, с теми, кто в том возьмется укорять Достоевского, – сразу же, как только сподобишься на укор, начинают встречаться по жизни такие яркие личности, что как будто из романов Достоевского взялись: эксцентричные, с выкрутасами, с чрезмерностями в характере, какие угодно еще… Просто без Достоевского мы смотрели на них как-то иначе.
Вот и я, проходя изо дня в день по Сенной, стал примечать одних и тех же людей. И возможно, они меня примечали – как человека, чье лицо примелькалось. И поймал себя на мысли, наблюдая за некоторыми, что героями Достоевского они запросто быть могли бы. А иные и вовсе словно сошли с его страниц. Поглядишь на себя сторонним взглядом, а чем ты сам лучше их или хуже? А то еще такая фантазия: вот в одно время мы с ним живи и не знай я Достоевского в лицо даже, разве при встрече где-нибудь рядом с Сенной прежде, чем по сторонам развести взгляды, не кивнули бы мы едва заметно друг другу, как примелькавшиеся друг другу прохожие?
Нет, Раскольникову определенно надо было задуматься о фасоне шляпы, чтобы здесь неприметным казаться.
Этот очерк пишется для тех, кто к Достоевскому подступается только. То есть для тех, кто в соответствии со школьной программой прочитал или даже, может быть, еще не прочитал «Преступление и наказание».
Акция с моей стороны не то что б рекламная, но типа того.
Тут без личного опыта не обойтись – так что надобно о себе, о конкретном читателе.
Ну и как же конкретный читатель, а именно я, познакомился с Достоевским?
А так. Да как все. В школе, вестимо.
Заданное на лето «Преступление и наказание», помню, читал (а то было по первому разу) с большим интересом, но не помню, стал бы читать (особенно по первому разу), если б не было такого задания.
После школы – с годами – почти всего прочитал, без всяких заданий. Включая даже черновики и подготовительные материалы.
Как это ни смешно, начальным импульсом к освоению Достоевского послужил мне полушутливый афоризм, чье-то высказывание, услышанное мною лет в семнадцать. Я и потом это слышал несколько раз. Высказывание приписывалось разным личностям, так что чья это идея, утверждать не берусь. Речь шла об оригинальном принципе деления человечества. Тогда мне один человек сказал, что его знакомый делит всех людей на три категории.
Первая – те, кто прочитал «Братьев Карамазовых». Вторая – те, кто не читал, но обязательно прочтет. И третья – кто не прочтет никогда.
Услышав это, я мысленно определил себя во второй группе. В третьей почему-то быть не очень хотелось.
Согласитесь, мысль хоть и простая, но на все человечество кой-какой свет проливает, и главное – на тебя самого, на твое место среди людей.
Может быть, я и сам себе тогда не отдавал отчет в том, что был закодирован на «Карамазовых».
Однажды к ним приступил. Будучи студентом технического института.
Роман бы я и без этого афоризма прочитал – скорее всего. Хотя как знать. Может, и не прочитал бы. Может быть, и вообще бы обходился в жизни без книг.
Потом уже «Бесы» были, и «Идиот», и многое другое.
На Достоевского можно подсесть. Из всех вещей, которые в жизни надо обязательно попробовать, Достоевский не самая худшая.
Но это не значит, что его надо всем читать обязательно.
Если вам все в себе понятно, если у вас не возникает трудных вопросов – ни к себе, ни к окружающему вас миру… если вы уверены, что так у вас будет всегда да и вы сами всегда будете и ни в чем не убудете, на кой леший вам этот Достоевский? Зачем душу зря тревожить?
Он и нравиться всем не обязан.
Тем, кого он раздражает (есть чем раздражать), бог в помощь, например, великий Набоков. Почитайте-ка, как один гений другого терпеть не мог (правда, есть мнение, что Набоков так с ним счеты сводил, потому что внутри него самого сидел Достоевский…).
Нет, было бы вполне нормально, если бы «нормальный» человек как-нибудь впал в оторопь, только лишь поглядев на тридцать томов, не умещающихся на одной полке. Как можно столько понаписать было? Без компьютера и не шариковой ручкой даже – пером, которое окунают в чернильницу?! Это ж надо было всю жизнь, поди, сидеть в кабинете, писать и писать, жизни не видя? Да было ли у него в жизни что-нибудь, кроме этого неустанного сочинительства?
Если мы говорим о Достоевском (а мы говорим о нем), то тут нам надо подивиться другому: как это при такой бурной жизни вообще оставалось место писательству?
Есть такая достаточно редкая категория творческих людей, сознательно создающих свою жизнь как художественное произведение (скажем, к ним относился поэт Байрон). Достоевский не был художником жизни, о красоте своей биографии не заботился, специально приключений не искал, не позволял себе красивых жестов, обязанных запомниться потомкам, он просто жил, но вся жизнь его состоит из таких ярких и выразительных эпизодов, что может показаться, будто она кем-то выдумана, изобретена – слишком уж много событий на долю одного человека.
Если представить невозможное – конкурс писателей всех времен и народов на самый крутой эпизод в биографии, пожалуй, Достоевскому равных не будет. И не обязательно писателей представлять – да хоть любого возьмем: в самом деле, выслушать на морозе – с барабанной дробью – смертный себе приговор и в белой длинной рубашке-саване мысленно попрощаться с жизнью, такое не со всяким случается.
Судьба распорядилась так, что молодой и успешный писатель Федор Достоевский оказался в тайном обществе, хотя какое это было «общество» – так, просветительские собрания на квартирах. Чаще всего собирались у Петрашевского, был он за лидера, отчего и назвали потом всю компанию петрашевцами. «Потом» – это когда объявили государственными преступниками. Лично Достоевскому, главным образом, вменялось в вину публичное чтение письма Белинского Гоголю. Белинский сегодня не самый популярный литератор, но если кто пожелает ощутить себя в коже государственного преступника, которого приговорят к «расстрелянию», пусть прочтет это письмо и непременно вслух – как тогда Достоевский. Итак: арест – следствие – приговор.
Представьте. Снег. Площадь. Войска. Осужденные под конвоем. До сего дня каждый из них провел восемь месяцев в одиночной камере Петропавловской крепости. Вот три врытых в землю столба. К ним уже привязали первых троих с завязанными глазами. Достоевский на очереди, он смотрит на небо. Солдаты с заряженными ружьями строятся в линию. Звучит команда «прицель». Сейчас будет «пли». В этот момент, в «последний момент», и оглашается другой приговор: всем дарована жизнь.
Каждому – свое. Достоевскому – четыре года каторги, а потом в рядовые.
Ошеломленных «злоумышленников» одевают в теплую одежду. Петрашевского прямо отсюда отправляют в Сибирь. Остальных – назад, в Петропавловскую крепость. Пока.
Всю эту инсценировку казни придумал сам царь. Разработал в деталях. Оно, конечно, очень жестоко, прямо скажем, по отношению к осужденным просто садизм. Один с ума сошел прямо там, на плацу. Но ведь и хуже могло быть, останься прежний приговор в силе. И не читали бы мы ни «Идиота», ни «Братьев Карамазовых».
Ладно – казнь на плацу, каторга, острог – это все очень и очень индивидуальное, почти небывалое, совершенно в своем роде исключительное, – с кем еще могло приключиться такое? Но возьмем то, что свойственно всем, вот, скажем, любовь. Каждый рано или поздно влюбляется. И пусть любая любовь сама по себе всегда чем-то особенна, у Достоевского и здесь уж слишком все получается по-особенному. (Он-то влюблялся, это мы знаем.)
Любовь вчерашнего каторжника, солдата, к замужней женщине: страсть, экзальтация, самопожертвование, отчаянные поступки вроде рывка из одного сибирского города в другой – без позволенья сурового начальства (в самоволку, сказали бы мы); свадьба, омраченная тяжелым припадком… Бурный роман со взбалмошной красавицей, из первой генерации русских нигилисток, она требует от него жертвенной самоотдачи и подчиненья, он старше ее на девятнадцать лет; биографы скажут: «роковая любовь». Анна Григорьевна, его вторая жена и мать его детей – это уже «тихая гавань» (относительно тихая – с учетом множества житейских приключений), да только обстоятельства их знакомства и предложенья руки «эксклюзивны» настолько, что можно точно утверждать: ничего подобного ни с кем другим не было и не будет.
Или такой возьмем фактор – успех. Уточним: успешность дебюта (для писательской биографии всегда немаловажный момент). Никакой литературный дебют не обязан быть непременно успешным; здесь у кого как. Но вот: «Новый Гоголь явился!» – это ж воскликнул не кто-нибудь, а Некрасов, сам познавший на опыте, как и тот же Гоголь когда-то, что значит, сгорая от стыда, уничтожить своими руками тираж первой собственной книги. Феноменальному успеху «Бедных людей», дебютного романа еще совсем молодого Достоевского, даже в масштабах истории мировой литературы трудно найти аналог. Да как только вынес автор из комнаты, в которой жил, рукопись только что законченного романа, тут все сразу и началось: Григорович-сосед, первый слушатель «Бедных людей» в авторском исполнении, сам начинающий сочинитель, пролил слезы потрясения и восторга, а дальше уже понеслось по цепочке: Некрасов, Белинский, читающая Россия…
Потом у Достоевского по-разному получалось, но раз об успехе заговорили, о дебютном, как же не вспомнить о позднем Федора Михайловича – подберем посильнее словечко – триумфе? «Пушкинская речь», прочитанная им на торжествах, посвященных юбилею поэта (это о всемирной-то отзывчивости русского человека), произвела на публику эффект, сравнимый разве что с выступленьем каких-нибудь современных рок-звезд. Ладно бы ликование, крики, шум, выбегания на сцену из зала – двое грохнулись в обморок! Этих двух достойных интеллигентных людей имена сохранила история, но лишь потому (может быть, их и больше было, кто знает…), что упали в обморок от восторга, прослушав речь Достоевского!
Пророк пророком, а святым не был. Среди страстей его была и пагубная – это рулетка. Тоже не совсем обычная для русской действительности, у нас ведь больше картами увлекались. Но, по счастью, в России не было казино, отношения с рулеткой он мог выяснять лишь за границей. Почему человек столь азартный, по природе своей игрок, был равнодушен, в отличие от многих своих современников (в том числе и писателей), к игре в карты? А кто его знает. Думаю, Достоевскому с его состраданием к чужим неудачам и бедам, в принципе, было дико радоваться любой победе над кем-то, – другое дело рулетка, где нет перед тобой живого противника, где проиграть способен лишь ты сам и больше никто. Рулетка – это вызов самой судьбе, испытание судьбы, и это еще всегда отчаянный жест, потому что шансы у игроков заведомо не равные. Он был игроком по существу, по складу своего характера.
Но сказать, что Достоевский играл с судьбой – это ничего не казать: сама судьба отвечала ему с какой-то удивительной выразительностью, словно признавала в нем достойного противника. Он ее искушал – она подбрасывала ему испытания. Он с легким сердцем залезал в долги, чтобы потом прятаться от кредиторов. Подписывал самоубийственный контракт с нечистоплотным издателем, едва не обрекая себя на литературное рабство. Убеждал брата издавать вместе с ним журнал, и это в самый неподходящий момент, когда уже невозможна подписка.
Он легко затевал предприятия, заведомо провальные, разорительные, вновь и вновь бросая вызов судьбе. Судьба отвечала красиво и сильно: все-таки четыре года в кандалах это тоже ответ… Или, скажем, когда счет идет не на годы, а на дни и часы, и надо успеть согласно контракту доделать неподъемный текст к стремительно приближающемуся сроку, ибо ставка – твоя литературная независимость, свобода, опоздаешь и ты лишишься всех прав на свои сочинения, даже на еще не написанные, станешь литературным батраком при хозяине-издателе, хуже – литературным рабом… Он успел! Совершил невероятное: продиктовал «Игрока» в течение считанных дней, еще остававшихся до срока (тема романа более чем подходящая для данной критической ситуации), да еще в итоге влюбился, а потом и женился на стенографистке, самоотверженно ему помогавшей, и это в конечном итоге оказался счастливейший брак!..
Не будем утверждать, что судьба была к нему милостива. Он не раз оказывался на грани катастрофы, страданий он натерпелся сполна. И все-таки его суровая судьба была к нему по-своему снисходительна, словно благородно пренебрегала форой, которую он ей безоглядно и безотчетно давал. Достоевский прожил интереснейшую жизнь и ушел из нее победителем.
Мы не можем не сказать о болезни Достоевского. Да ведь недуг у него был тоже далеко не банальный: эпилепсия, «болезнь пророков», в древние времена считавшаяся священной. Припадки с потерей сознания и судорогами были мучительными, пена на губах и закатывающиеся глаза наводили на свидетелей приступов ужас, Достоевский подолгу приходил в себя, выбитый из ритма жизни, и все же было во всей этой жути нечто такое, что считал он даром судьбы. Нам трудно представить тот опыт (которым он дорожил) особого восприятия реальности в секунды, предшествующие припадку. Это так называемая аура – от греческого «дуновение», «ветерок». В случае с Достоевским «ветерок-дуновение» проявлялся сверхярким, чрезвычайно сильным переживанием счастья и чувством всепрнизывающей гармонии. В это предшествующее припадку мгновение он словно проваливался в иное измерение, всеобъемлюще воспринимая реальность и переживая вместе с тем сильнейший восторг. Какого рода зрение ему открывалось, нам дано лишь догадываться в силу наших способностей фантазировать. Пишут, что в зарубежной психиатрии используется специальный термин «эпилепсия Достоевского», то есть и здесь Федор Михайлович высказал себя исключительным образом (щедро «одарив» своею болезнью целый ряд персонажей). Не знаю. Пускай. По свидетельству современника, он признавался, что в те предприпадочные секунды испытывает «такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди».
Но о другом тоже надо сказать – не о болезненном счастье пребывания в иных, не доступных нам эмпиреях, а о земном, здешнем, посюстороннем.
Даже если болезнь не брать в расчет, Достоевский, бесспорно, обладал обостренным восприятием мира.
И что касается счастья, позволим себе заявить, он прожил не только богатую на события жизнь, но и очень счастливую жизнь. Наверное, это покажется странным тем, кто считает его только певцом страданий, и тем, кто хочет в нем узнавать только страдальца. Воля ваша, но Достоевский – это тот, кто знал, и знал больше других, что такое счастье. Счастье он переживал чувственно, остро, порой исступленно – и отнюдь не всегда за секунду до приступа. Письма его – и молодого, и зрелого человека – полны признаньями в счастье. Он и в Петропавловской крепости за два дня до отправки на каторгу ощущал себя счастливейшим из счастливых: «жизнь – счастье, каждая минута могла бы быть веком счастья». Счастье – это восприятие жизни как дара. Счастье – это единение с миром. Счастье – это преображение души. Счастье – творчество. Счастье – любовь.
Не благополучие и не удачное стечение обстоятельств, счастье – это удар, то, что выше сил человеческих, и то, что в силу своей избыточной полноты делает человека другим, преобразует душу. Оно не исключает страдания, но оно сильнее страдания. Чудом счастья испытаны любимые герои Достоевского. Князь Мышкин, знающий больше других о гармонии мира. Алеша Карамазов, обнимающий землю в звездную ночь и не умеющий понять, что с ним происходит. Вот и Раскольников, угрюмый Раскольников-каторжанин, озлобленный на весь мир, в итоге испытал всю мощь этой очистительной силы. «Он плакал и обнимал…»
«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» – ну эти слова Анны Ахматовой, понятно, к поэзии относятся. А что с прозой?
Чтобы представить, при каких обстоятельствах рождался один из величайших в мире романов, надо вообразить себе захудалую гостиницу в немецком городе Висбадене и растерянного голодного постояльца, застрявшего здесь по причине полного безденежья. Достоевскому скоро сорок четыре, он вдовец. Он весь в долгах. Дела его разлажены, нервы его на пределе.
Он приехал в Висбаден в надежде выиграть в рулетку.
Разумеется, проиграл. Проиграл все. Заложил золотые часы. Денег нет на еду – это полбеды, хуже – денег нет, чтобы заплатить за гостиницу. Чтобы выбраться из этой дыры, уехать. 50 гульденов, одолженных Тургеневым (вечным своим литературным соперником) мало. Достоевский взывает в письмах о помощи. Положение его самое отчаянное. Хозяин гостиницы угрожает полицией и, кажется, вот-вот потеряет терпение. Приходится делать вид, что уходишь обедать, тогда как просто болтаешься по городу три часа, дабы в отеле не догадались, как плохи дела у голодающего постояльца.
Вот в таких условиях и берется Достоевский за новое произведение. Единственное, на что он может рассчитывать, это вознаграждение за писательский труд.
Он пишет письмо Каткову, издателю «Русского вестника». Он излагает замысел своего нового сочинения и просит прислать ему аванс – 300 рублей. «Повесть» (речь пока идет всего лишь о повести) он обещает написать недели за две – за три. Он еще не знает сам, во что выльется замысел, не знает, что уйдет на работу два года и что в конечном итоге это будет большой роман в шести частях с эпилогом. Сиюминутная задача Достоевского – заинтересовать издателя, «зацепить» его, уж очень деньги нужны.
Это письмо, сохранившееся в черновике, цитируют почти всегда, когда речь заходит об идейном содержании «Преступления и наказания». Идейное содержание – это очень хорошо, но вот еще о чем нельзя не сказать: сие письмо есть документ поразительной творческой концентрации.
«Идея повести, сколько я могу предпола<гать>, не могла бы ни в чем противоречить Вашему журналу; даже напротив. Это – психологический отчет одного преступления.
Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению, и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях поддавшись некоторым странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна, берет жидовские проценты, зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. «Она никуда не годна», «Для чего она живет?», «Полезна ли она хоть кому-нибудь?» и т. д. Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, обобрать; с тем чтоб сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства, – притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении «гуманного долга к человечеству», чем, уже конечно, «загладится преступление», если только может назваться преступлением этот поступок над старухой глухой, глупой, злой и больной, которая сама не знает, для чего живет на свете, и которая через месяц, может, сама собой померла бы. <…>
Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы. Никаких на н<его> подозрений нет и не может быть. Тутто и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он – кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое, убежд<ение?> внутреннее<?>, даже без сопр<отивления?>. Преступн<ик> сам решает принять муки, чтоб искупить свое дело. Впрочем, трудно мне разъяснить вполне мою мысль. Я хочу придать теперь худож<ественную> форму, в которой она сложил<ась>».
Писатели не очень любят излагать идеи своих сочинений, занятия эти для писателей бывают весьма затруднительными. Это Толстому, чтобы объяснить идею «Анны Карениной», надо еще раз написать «Анну Каренину» (в чем он сам однажды признался). Но для Достоевского, судя по всему, разговор об идее романа не представлял проблемы. Петрашевский, жаждавший знакомства с Достоевским, знал, о чем спросить молодого автора «Бедных людей», когда встретил его на выходе из кондитерской: «Какова идея вашей будущей повести?» – и этот вопрос был абсолютно по адресу. Молодой писатель стал обстоятельно отвечать, так они познакомились.
Если воспользоваться современной терминологией, процитированное письмо следовало бы назвать «заявкой»: автор излагает издателю свое предложение. Ориентировочно, неконкретно, условно. В процессе работы автор может существенно отклониться от первоначальных предложений, это естественно – судят не по замыслу, а по результату. В случае с Достоевским поражает как раз то, что конечный результат, каковым мы знаем «Преступление и наказание», с необыкновенной точностью отвечает идее, сформулированной на самом раннем этапе работы. Хоть бери это письмо и сдувай с него, как со шпаргалки, в школьное свое сочинение по теме «Идейное содержание романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
Но ведь еще ничего не было – ни названия, ни представления об объеме, ни о способе изложения (от какого лица – «от себя» ли, рассказчика, или от лица героя). Не было имени у героев. Даже точного представления не было еще, кто будет главный в романе. И судя по поздним черновикам, вариантам сюжета предстояло долго еще бороться друг с другом, прежде чем определилась единая канва повествования. И тем не менее главное уже прозвучало.
Но и это не все. Будем говорить об интуиции Достоевского, иначе бы нам пришлось говорить о мистике. Дело вот в чем. У Каткова, получившего письмо из Висбадена, было достаточно причин оценить актуальность идеи, и одна из них – совершенное на днях в Петербурге убийство некоего ростовщика Бека и его кухарки (мог ли знать за границей о том Достоевский?), но и выписав просимый аванс, Катков (а уж Достоевский тем паче) не знал еще подробностей дела: личность убийцы (молодой человек), возраст (19), его внезапное раскаянье, другие детали – обо всем этом еще не появилось в газете. Дальше больше. Перед выходом из печати начальных глав романа, как по заказу, некий молодой человек убьет топором (на сей раз в Москве) ростовщика и его служанку, – на первых читателей «Преступления и наказания» это странное совпадение произведет еще то впечатление.
Проживая поблизости, я иногда заходил в «дом Раскольникова» – это недалеко от Сенной; считается, что своего персонажа Достоевский поселил здесь, в ста пятидесяти шагах от дома, где сам жил. Сейчас на углу «дома Раскольникова» мемориальная доска, но во двор уже не попасть – электронный замок на воротах с некоторых пор оберегает покой жильцов. А когда-то любой, повернув во дворе направо, мог беспрепятственно проникнуть на лестницу, ведущую «к Раскольникову». В девяностые годы на ее ступенях тусовались школьники – должно быть, сильно продвинутые, потому что все они были фанатами романа, а точнее сказать, главного его персонажа. Это уже тогда казалось несколько странным, ведь книги стремительно переставали читать. Здесь же все стены были исписаны изречениями в поддержку преступных деяний Родиона Романовича – типа «Родя, ты прав!», «Мы с тобой, Родя!». Можно встретить было и обширные записи в жанре альтернативного сочинения.
Вряд ли бы Раскольников обрадовался такой поддержке.
В свое время Катков буквально заставил Достоевского переписать ключевую главу романа, это там, где Соня читает Раскольникову о воскрешении Лазаря, а Раскольников ей свои воззрения излагает. Претензия в духе того была, что негоже, дескать, блуднице разъяснять Евангелие, и слишком уж убедителен убийца в проповеди нигилизма. Первоначальный текст, так встревоживший редакцию «Русского вестника», до нас не дошел, за что до сих пор винят Каткова. Но, вспоминая надписи на стенах, думаю: а что, может, по части убедительности Раскольникова в проповеди нигилизма тревога Каткова была не так уж беспочвенна?
Известны ведь случаи (сплошь современные), когда роман Достоевского вдохновлял на убийства. Вот писали, школьник зарубил бабушку и родителей, по-своему усвоив урок «Преступления и наказания».
Но хватит страшилок. Патология. Пусть. Мало ли кому как крышу сносит – не Достоевского же в этом винить.
Мы способны отличать литературу от руководства к действию. Парадокс в том, что душегуб Раскольников – объективно честный, порядочный человек. Действительно, что мы можем сказать о нем плохого, помимо того что он убийца? Ну да, раздражителен, необщителен, замкнут в себе, что еще?.. Индивидуалист, не замечен в особой любви к человечеству… Да ладно! Попрекнем занудством еще и угрюмостью… Бедность, неудачи, депрессия – существует достаточно причин, которыми можно объяснить не лучшие проявления индивидуальности Родиона Романовича. Важнее другое. Раскольников – человек, не способный на подлость. Представления о справедливости обострены в нем. Там, где иные не замечают зла, он способен совершить поступок. Даст отпор негодяю. Не допустит, чтобы пьяная девочка стала объектом притязаний уличного развратника. Не будь он убийцей, мы бы смело зачислили Раскольникова в ранжир так называемых положительных героев (с трудным характером). Да ведь он и на преступление решается по справедливости – по странно им понятой справедливости, будто бы исправляющей какую-то мировую погрешность.
Жесткий экспериментатор Достоевский действительно доводит своего героя «до крайности». Если убийство процентщицы еще хоть как-то согласуется с сумасбродной теорией Раскольникова, то Лизавета – жертва безвинная во всех отношениях, никакими концепциями не предусмотренная, никакими теориями не санкционированная. Лизавета из всех персонажей, населивших этот роман, – существо самое беззащитное и покорное. И именно ей, Лизавете, суждено погибнуть под топором идейного убийцы, в иной, более счастливой ситуации способного ей в чем-то, возможно, сочувствовать и, быть может, даже чем-нибудь помогать. Но та пьяная уснувшая на скамейке девочка, незавидным положением которой обеспокоится Раскольников, оказалась бы она в иной ситуации – случайно здесь, в квартире Алены Ивановны, на месте этой несчастной Лизаветы, и что бы? – Раскольников не занес бы над ней свой топор? Опуская топор на голову человека, идейный исправитель несправедливости, логикой не абстрактных теорий, а конкретного преступления, становится простым палачом, мясником, грязным убийцей, сказать по-современному, отморозком. Убивая другого, он убивает себя.
Все связано в этом мире. Взять только одну деталь: как-то раз Лизавета чинила Раскольникову рубашку, теперь одежда Раскольникова запачкана ее кровью.
А потом кровь будет (по слову Настасьи) «кричать» – в ушах ли, в мозгу ли, в печенках ли Родиона Романовича. Добро пожаловать в ад.
Сны такие бывают, когда ты, хороший, правильный, честный, понимаешь вдруг, что совершил нечто непоправимое, преступное, не свойственное твоей доброй натуре, и что с этим ужасным надо что-то делать теперь, перед лицом всевозможных угроз, а делать нечего, уже ничего не поправишь, – это кошмар безысходности. И только когда просыпаешься в холодном поту, понимаешь, как хороша жизнь, – куда лучше, чем ты представлял еще вчера вечером.
Не знаю, как у других, а у меня большая часть «Преступления и наказания» оставляет смутное ощущение подобного приглушенного кошмара, только не со мной, сновидцем, случившегося, а с другим – другим хорошим, правильным, честным. Еще бы! – волею автора мы, читатели, обречены до известного, конечно, предела, но все же отождествлять себя с героем романа, одновременно ощущая почти постыдную тихую радость от осознания счастливой разницы между собой и им. Что до него, до Раскольникова, он свое получил сполна. Убийство – это всегда самоубийство. «Разве я старушонку убил? Я себя убил», – и никакое не прозрение это, а трезвая констатация состояния души: ее мертвенности.
Финальная сцена в эпилоге романа – на вековечном просторе над широкой рекой (степь, стада, звучащая песня…) – возвращение к жизни Раскольникова-каторжанина, со слезами и обниманием Сониных колен и предвещанием ей и ему «нестерпимой муки» и «бесконечного счастья» на годы вперед, – многим кажется сентиментальной и лишней. Воля ваша, господа, но без нее не было бы и романа. Потому что «Преступление и наказание» всеми своими силовыми линиями стягивается к этой точке: не про то роман, что убивать плохо, и не просто про то, что возмездие всегда настигнет преступника, – о чем бы ни был роман, он еще и о возможности возвращения к жизни, спасения. О возможности воскресения и преодоления личного ада.
Заграничные приключения шестьдесят пятого года завершились обычным порядком – возвращением в Петербург.
Попытка обмануть судьбу посредством рулетки не удалась, долги, от которых бежал за границу, лишь приумножились. Последний по времени долг подобен точке в конце главы: фунт (один), счет на который – за непредвиденные расходы на корабле – Достоевский прямо с причала отправляет в Копенгаген своему другу барону Врангелю (на обратном пути довелось у него погостить).
Нам даже трудно представить, что значит Достоевский-должник. Человек, сошедший 15 октября на берег – это человек-долг. Даже одежда на нем – одолженная.
Ну, с теплой одеждой как раз понятно, осенью на Балтике холодно, в летнем костюме не выйдешь на палубу. Выручили плед и пальто, которые он позаимствовал у Врангеля. Плюс к тому теплые фланелевые панталоны, фуфайка, зимняя шапка. Есть, по-видимому, толк и в гамашах как принятому в те годы дополнению к обуви… Обещал возвратить.
Что касается летнего костюма (пиджак, брюки и жилет), в котором Федор Михайлович прибыл в Германию, то его принадлежность Достоевскому тоже весьма относительна; за костюм еще предстоит расплатиться. Приобретен за два месяца до поездки – в кредит – в модном магазине Ф.И. Гофмана с обязательством уплатить по счету 1 сентября. Кто ж мог знать тогда, в середине мая, что в сентябре владелец костюма застрянет в какой-то заграничной гостинице, где ему будут даже в свечке вечерами отказывать из-за неплатежеспособности.
В конечном итоге нашлись хорошие люди, помогли – старый семипалатинский друг Достоевского Александр Егорович Врангель, служивший в то время в русской миссии в Копенгагене, и священник Иван Леонтьевич Янышев. Первый, узнав о несчастье Достоевского, прислал ему 100 талеров, второй выступил поручителем по гостиничным счетам (170 гульденов) и дал необходимые 134 талера на оплату текущих издержек. Кабы не эти двое, трудно сказать, чем бы завершились висбаденские злоключения русского писателя.
Золотые часы на цепочке он бы точно не выкупил.
Золотые часы на цепочке – едва ли не единственно ценная вещь, достоверно принадлежащая пассажиру парохода «Vice-roy».
В Копенгагене Врангель раскошелился еще на 50 риксталеров. Билет и все такое, издержки.
Достоевский должен был и по мелочам, и по-крупному.
Из писателей – не только Тургеневу. Кому как. Кому сколько.
Должен был по векселям покойного брата (эти долги он честно взял на себя). Был и внушительный «семейный долг», правда, пока не очень кусачий.
Один из самых досадных долгов: контрактное обязательство написать бесплатный роман – это просто камень на шее. (Будет «Игрок»). Можно ли писать по обязанности, когда сам живешь новой идеей и она захватила все твое существо?!
А так и было – захватила все его существо!
Известно, что на корабле он работал (один из набросков датирован). Но что значит «работать»? Это ж не только «за письменным столом». Работать – это бродить по палубе, мириться с голосами, звучащими в голове, не замечать вкус пищи; проснувшись, не быть уверенным, что засыпал… Работать – это жить романом.
Романа еще не было, и он уже был. И он уже был настолько бесценен, что все признаки внешних банкротств могли казаться лишь ничтожными пустяками.
Взволнованным и воодушевленным сходит с корабля Достоевский. И пока мы тут подсчитываем его долги (охота нам!), он, долгам счет потерявший, весь в нем, весь в романе.
Нет прямых доказательств, но мне кажется, что в этот день, в день возвращения, был у него прорыв по всем направлениям замысла. Уж слишком сильной была эмоциональная встряска.
Вот вам картина: Достоевский, дорвавшийся до газет (всегда относился серьезно к газетам). С этим просто: попросил в трактире – и читай себе «Голос». Соскучился по новостям. И вдруг в двух прежних номерах полуторанедельной и двухнедельной давности – подробности убийства ростовщика Бека и его кухарки. Силы небесные! Тут даже не сюжетный ход подсказан жизнью – жизнь с небывалой яркостью подтверждает остроту уже выбранного сюжета.
(Будет в романе потом эпизод: Раскольников в трактире нетерпеливо «перебирает листы» в поисках сообщений о своем преступлении).
Известно: в день возвращения Достоевский посетил знакомого ростовщика и заложил золотые часы. Часы, которыми так дорожил.
Есть тут странность какая-то.
38 рублей, конечно, очень нужны, когда нет ни копейки, но позвольте, разве Достоевский не знал, что Катков ему выписал 300? Эти 300 рублей, аванс за еще не написанный роман, должны были ждать Достоевского в Петербурге. Эти деньги Катков отправил в Висбаден, и, пока писатель гостил в Копенгагене, деньги вернулись назад. Достоевский знает, что они ждут его в Петербурге и, тем не менее, торопится с часами к ростовщику… Зачем?
Можно не соглашаться, но что-то мне подсказывает, что не столько по сиюминутным денежным обстоятельствам, сколько по соображениям творческого характера понес Достоевский закладывать свои часы.
Ему не деньги нужны, не только деньги, ему сейчас – в момент вдохновения – важна сама ситуация. Он ее, простите за глагол, моделирует. Он хочет проверить с точностью до деталей, что ощутит его персонаж во время пробного посещения своей будущей жертвы, – ведь тоже с часами придет!.. Слабое бряканье дверного звонка, который «как будто был сделан из жести, а не из меди»… открывание двери… Надо прочувствовать все самому. Услышать, увидеть.
Кстати, если от пристани добираться до дома – ростовщик Готфрид живет по пути.
Ну а мы? Раз мы живем рядом, отчего бы, мысленно обойдя Сенную, в очередной раз не перейти нам Кокушкин мост – тот самый «К–н мост», в сторону которого побредет Раскольников в первом же абзаце повествования?..
Федор Михайлович Достоевский, пальцами не показывать, мерным шагом идет вдоль Екатерининского канала – худой пешеход с изможденным лицом и убедительной бородой, по которой просвещенные европейцы совсем недавно распознавали в нем русского. Здесь, на канале («на канаве»), в чужом пальто, он совсем не приметен, разве что выделяется цепкостью взгляда человека, вернувшегося издалека и жаждущего впечатлений. Он идет по местам обитания своих будущих героев, образы которых сегодня стремительно овладевают им. Он весь в романе. Легкая эйфория, возбужденность, взволнованность – он всегда это предчувствовал: приближение эпилептического припадка. Мы ведь тоже задним числом знаем не хуже его, что ждет его этой ночью, – будет, и один из сильнейших. Ну-с, господа, какова сила дерзости нашей фантазии? А вот: глазами встречаемся и – киваем друг другу, как давно примелькавшиеся прохожие.
И не нам ли знать лучше чем знает он сам, каким получится этот роман?
Глядим ему в спину, удаляющемуся по Столярному переулку.
3
ПОДСОЗНАНИЕ ПЕТЕРБУРГА
Русский разведчик из старого фильма, заставляющий свой мозг запоминать за одну секунду страницу секретного документа, наводит меня на мысль, я не шучу, о скульпторе Фальконе. Вообразим: искусный наездник, пришпорив коня, мчит на помост и – в помощь художнику – вздымает коня у самого края. Мгновение, которое нельзя остановить никакими поводьями, можно лишь мыслью, лишь напряженьем сознания. Представление повторяется сотни и сотни раз, и каждый раз мозг Фальконе уподобляется, сказали бы мы, фотокамере.
Собирателю ягод, когда закроет глаза, видятся ягоды, рыбаку – поплавки, разведчику Йогану Вайсу – секретные таблицы и чертежи. Не надо гадать, что представлялось ночью пожилому французу, когда, погасив свечи в комнате, он не терял надежды уснуть. Медный всадник – это материализовавшийся полусон Фальконе. Такого памятника нигде и никогда не было. Поразительно, откуда у мастера, известного на родине всего лишь изящными камерными скульптурами, обнаружились в чужом ему Петербурге такая воля и такое упорство. Зачем конь встает на дыбы? Окажись Фальконе более покладистым – и навязали бы ему идею многофигурной статичной композиции с многозначительными аллегориями. А мог бы на этом месте бить фонтан, о котором был не прочь помечтать Дидро (рекомендовавший Фальконе Екатерине Великой). Постамент мог бы быть сборным – почему бы и нет? Но Фальконе, одержимый почти сумасбродной, почти невыполнимой идеей, сумел подвигнуть Петербург на одну из самых грандиозных строительных операций за всю его и поныне длящуюся историю – на обработку и перемещение тысячетонной скалы из неблизких лесов к Петровской, как ее и называли тогда в честь будущего монумента, площади.
С тех времен Франция – в подсознании Петербурга. О чем ни думай Петербург, чем ни болей, Франция всегда с ним – где-то в подкорке. Так слово «парижанин» таится в складке плаща Медного всадника, и уж никуда от этого не деться.
С латыни этот «тайный» автограф обычно переводят так: «Лепил и отливал Этьен Фальконе парижанин 1778».
Умер он, как известно, у себя на родине, так и не увидев своего творения во всем его величии.
А Монферран умер здесь, в Петербурге, вскоре после освящения Исаакиевского собора, строительству которого он отдал сорок лет жизни. Просьба католика быть погребенным в одном из подземельных сводов собора осталась невыполненной. Тело Августа Августовича Монферрана вдова забрала в Париж – его могила еще не так давно считалась утерянной. Нашли. Но для парижан Огюст Рикард де Монферран все же архитектор не из самых известных.
Это у нас: «ЗОДЧИМЪ А. МОНФЕРАНДОМЪ» – торжественно! – в творительном падеже – на Александровской колонне, на прямоугольной плите по левую руку от ангела. Есть бинокль – можете разглядеть.
Участник наполеоновских походов, перенесший ранения, он, бывший гвардеец, стал архитектором главного памятника победе русского оружия в Отечественной (по-нашему) войне. Такое бывает.
И Вандомскую колонну в Париже, установленную Наполеоном, Александровская превзошла высотой.
Так что главнейшие символы Петербурга – Медный всадник и Александровская колонна – связаны с Францией напрямую.
Есть еще Троицкий мост – «побратим» парижского моста Александра III. Оба – памятники эпохи франко-русского союза. Заказ на строительство Троицкого получила французская фирма «Батиньоль» (сумевшая обойти в этом вопросе своего конкурента – создателя Эйфелевой башни). Кажется, теснее чем тогда Россия и Франция больше не сближались. Французская эскадра стояла в Кронштадте, «Боже, царя храни» и революционная «Марсельеза», ничуть не мешая друг другу, звучали на улицах Петербурга, и, покинув роскошный шатер, направлялись к первому камню из тех, что лягут в основание моста, русский самодержец и президент Франции. Торжество закладки состоялось, как сказано в тексте на закладных досках, «в третье лето благополучного царствования Государя Императора Николая II, августа 2 дня». Доски скрепили цементным раствором, и, когда правителям государств поднесли на серебряном блюде молоток – стукнуть каждому по доске, обоим, должно быть, казалось, что так хорошо будет всегда.
Через полтора года французская пресса озаботится экстравагантными обстоятельствами смерти президента Феликса Фора. А до подвала в Ипатьевском доме еще жить и жить… Франко-русский союз перечеркнет русская революция, а через три месяца после расстрела царской семьи Троицкий мост, заложенный русским царем и французским президентом, переименуют в честь известного принципа теперь уже французской революции (как и нашей – «Великой»): его назовут мостом Равенства.
Мы знали его, когда он был Кировским.
В детстве, переходя Неву, помню, воображал Чкалова, пролетающего между мной и водою. Ну и пусть что легенда, – пролетел же под мостом, когда снимали кино, пилот Борисенко. Нас водили на «Валерия Чкалова» всем классом, как раньше водили всем классом наших родителей, и все мы ждали, когда пролетит под мостом. Позже эпизод отзывался в подростковом сознании кадрами из «Искателей приключений» – это когда герой Алена Делона, отчаянный авантюрист, летел вдоль Елисейских Полей в полной уверенности, что смелость города берет и что он «прошьет» на своем самолете Триумфальную арку.
ОХОТА К ЧТЕНИЮ
Представьте себе трехтомник Флобера на русском языке. В СССР Флобера издавали многократно, это далеко не первое издание. Год – 1983. «Мадам Бовари», «Воспитание чувств», «Саламбо», повести, философская драма… Как вы думаете, каков тираж?
Тираж – двести тысяч.
Наверняка возникнет вопрос: зачем так много, неужели весь тираж разошелся?
Удивительно не то, что весь тираж действительно разошелся, удивительно то, что он уже был распределен между читателями еще до выхода самого трехтомника. И число желающих приобрести собрание сочинений Флобера было во много раз больше объявленного тиража.
Собрания сочинений в то время распространялись по предварительной подписке, задолго до выхода книг из печати. Чтобы приобрести абонемент на еще не изданного Флобера, нужно было прийти к магазину в один-единственный условленный день за несколько часов до открытия и занять очередь. Очередь за Флобером выстраивалась ночью. Абонементы доставались лишь первым, большинство мечтавших приобрести тома Флобера, отстояв ночь, уходили ни с чем.
Вот так у нас распространялись подписные издания.
Разумеется, это касалось не только Флобера, но сегодня мы говорим о восприятии в России именно французской литературы2, – поэтому все мои примеры будут касаться Франции.
Я все чаще вспоминаю те удивительные годы. Время идеологических ограничений и невероятного интереса к литературе. Авторитет писателя был чрезвычайно высок. Вера в печатное слово была сродни религиозному чувству. Книгопочитание, царящее в стране, напоминало массовый психоз.
Когда несколько позже Горбачев объявил политику гласности и собрал по более-менее демократической процедуре Съезд народных депутатов СССР, оказалось, что каждый десятый из многочисленных (2250) делегатов – писатель.
Если бы Флобер был современником Горбачева и подданным СССР, он бы наверняка стал делегатом первого Съезда народных депутатов и внес бы свой вклад в дело так называемой перестройки.
Но вернемся в «застойные» годы – в годы моей молодости, любви, идеологических ограничений и запойного чтения.
Сейчас, когда я вспоминаю о роли книги в повседневной жизни советского человека, многое мне кажется невероятным, почти фантастическим. Все познается в сравнении, поэтому, когда речь заходит о современном восприятии французской литературы в России, хочется вспомнить ту, совершенно уникальную ситуацию повального чтения чего бы то ни было – и французских писателей не в последнюю очередь. Полагаю, французские авторы очень удивились бы, если бы узнали, как их будут читать на русском в годы так называемого «застоя».
Ничего подобного никогда не было раньше и никогда больше не будет.
Книги, если издавались, то издавались большими тиражами (стотысячный тираж – обычная издательская практика), при этом спрос на литературу был так велик, что эти огромные тиражи раскупались мгновенно, а чаще всего, как тогда говорили, не доходили до прилавка. Купить нужную книгу можно было отнюдь не в магазине по невысокой цене, обозначенной на обложке, а на черном рынке, по цене во много раз превышающей официальную.
В Ленинграде черный книжный рынок размещался на окраине города, в поле, за большой газовой трубой, протянутой вдоль дороги. Сотни, если не тысячи продавцов выстраивались рядами, у их ног на земле были разложены дефицитные книги. Бесконечной вереницей мимо них проходили покупатели, прицениваясь. Торговля была незаконной, иногда милиция – в плане борьбы с книжной спекуляцией – разгоняла черный рынок, и тогда он перемещался в другое место, подальше от трубы и дороги.
Цены на книги «за трубой» были чрезвычайно высоки. Скажем, «Опыты» Монтеня стоили порядка 80−120 рублей, что пот ем временам было соизмеримо с зарплатой молодого инженера. Хорошо прокомментированное, но очень скромное в полиграфическом отношении (мягкая обложка, газетная бумага) издание «Цветов зла» Бодлера распространялось на черном рынке по цене в 20 раз превышающей номинальную (напечатанную на обложке), – и это при том, что тираж книги был 50 000. То же можно сказать о книгах стихов Аполлинера, Сандрара, Элюара. Еще дороже стоил сборник прозы Альбера Камю, включающий «Постороннего» и «Чуму». При этом философская эссеистика Камю не издавалась по причинам идеологическим.
Цены черного рынка, немыслимо высокие при немыслимо высоких, многотысячных тиражах, демонстрировали истинный спрос на литературу, в частности на переводную, и в частности на французскую.
При этом любой здравомыслящий советский читатель имел представление о пределах возможного. Вряд ли кто-нибудь тогда надеялся прочитать хоть когда-нибудь на русском языке сочинения, например, маркиза де Сада или, скажем, Селина. История, впрочем, посмеется над читательскими ожиданиями: прежде недоступное будет и издано, и переиздано, но только уже практически в другом государстве и в другую эпоху, когда читательский интерес к литературе, как таковой, стремительно упадет.
Вообще говоря, в сознании обычного советского человека за французскую культуру всегда отвечал Александр Дюма и прежде всего «Тремя мушкетерами». Книгу эту в России считали почти родной, своей. Актер, сорок лет назад сыгравший д’Артаньяна в советском сериале, до сих пор пожинает плоды популярности, оставаясь известнейшим человеком в России. Мой отец, прочитавший «Мушкетеров» в детстве, и в свои 80 лет помнил имена персонажей второго и третьего плана.
В начале семидесятых, в условиях наисильнейшего читательского бума, с романом «Три мушкетера» был связан поразительный социальный эксперимент. Тогда придумали выдавать право на покупку некоторых наиболее популярных книг за сдачу макулатуры в специально организованных пунктах приема. Человек, сдавший 20 килограммов макулатуры (скажем, старых газет и журналов), получал специальный талон, дающий ему право купить (!) «Трех мушкетеров». Таким образом был продан миллион экземпляров романа, и каждый экземпляр из этого миллиона был обеспечен двадцатью килограммами макулатуры. Другой роман Дюма, «Графиню де Монсоро», по той же схеме распространили тиражом уже в два миллиона экземпляров, что было равносильно выручке в 40 000 тонн макулатуры. Та же система распределения литературы позже была распространена и на некоторые другие книги (например, на прочие романы Дюма и романы Мориса Дрюона, тиражи их тоже значительно превышали миллион).
Интерес к литературе более-менее элитарной – в условиях известных идеологических ограничений – пытался удовлетворить журнал «Иностранная литература», тираж которого в то время колебался в районе отметки сто тысяч. В частности, в середине шестидесятых там были опубликованы два образца драмы абсурда – «Носорог» Ионеско и «В ожидании Годо» Беккета, перевод с французского. Другой журнал – «Новый мир» – печатал «Падение» Камю.
Речь идет о так называемых «толстых» литературных журналах – действительно толстых и без единой картинки, сплошь тексты и только тексты. Я, помнится, заказывал номера с Ионеско и Беккетом где-то уже в начале восьмидесятых – в читальном зале Публичной (общегородской) библиотеки, и нашел их изрядно потрепанными. В те годы, кстати, подписка на популярные журналы в виду их немереного спроса была искусственно ограничена, причем весьма занятным способом, вполне достойным драмы абсурда. Дело вот в чем. Подписывались на «толстый» журнал по месту работы или учебы. Обычно в трудовом коллективе кому-то поручали в качестве «общественной нагрузки» отвечать за подписку – он собирал деньги на газеты и журналы и выдавал «квитанцию о подписке». Осенью, когда начиналась «подписная кампания», в каждой лаборатории, в каждой студенческой группе действовал «ответственный за подписку». Партийное начальство требовало от него подписки прежде всего на партийные издания. Так вот, желающие подписаться на «Иностранную литературу» (или другой «толстый» журнал) обязаны были сначала подписаться на партийную газету «Правда» или на скучнейший теоретический журнал «Коммунист». В противном случае на «Иностранную литературу» их не подписывали.
Типичная ситуация того времени: каждый день почтальон опускает в почтовый ящик газету «Правда», а раз в месяц – журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Коммунист» и т. п. При этом «Иностранная литература» и «Новый мир» прочитываются от корки до корки, а «Правда» и «Коммунист» складываются на антресолях нечитанными. Когда нечитанного накапливается достаточно, кто-нибудь из домочадцев (скажем, теща читателя «Иностранной литературы») несет партийную макулатуру в пункт приема вторсырья и получает за 20 килограммов «Правды» талон на право покупки «Трех мушкетеров» или «Королевы Марго». Чем не Ионеско?
Был и другой, не менее удивительный способ распространения книг – по линии так называемого Общества книголюбов (любителей книги). В институте, в котором я учился, действовало отделение этого всесоюзного общества. Оно отличалось тем, что сотрудничало с авторитетным издательством «Наука», выпускавшем книги по разнообразным научным дисциплинам, включая филологию. Но что значит «сотрудничало»? А вот что. Дефицитные книги этого издательства общество распространяло не иначе как с нагрузкой (то есть с принудительным приложением книг, не пользующихся спросом). Например, вы хотите купить сочинение аббата Прево «История кавалера де Гриё и Манон Леско», изданное тиражом сто тысяч в серии «Литературные памятники» и снабженное образцовым научным аппаратом. Пожалуйста. Но будьте любезны купить еще «Определитель клещей – врагов картофеля». Вас интересуют трагедии Расина, изданные в той же серии? Пожалуйста: тираж небольшой, всего 25 000 (редкость), поэтому в нагрузку две книги – в обязательном порядке прилагается монография о размножении сине-зеленых водорослей, а также каталог черепков археологической экспедиции на юг Туркменистана.
Это было время поразительного интеллектуального голода.
«Простой» (но взыскательный) советский читатель, не имеющий возможности познакомиться со многими образцами мировой литературы, о самом существовании этих образцов часто узнавал из критических и литературоведческих статей.
Вот пример. В той же Публичной библиотеке на открытом доступе (подошел к полке и взял книгу) были выставлены Труды Тартуского университета. По состоянию сохранности страниц можно было легко догадаться о популярности тех или иных работ. Хорошо помню сильно «зачитанные» страницы, на которых была напечатана статья И. И. Ревзина и О. Г. Ревзиной «Семиотический эксперимент на сцене». Эта узкоспециальная работа содержала анализ различных уровней нарушений коммуникативных связей между персонажами пьесы Ионеско «Лысая певица», в СССР не публиковавшейся. Но большинство посетителей читального зала, обращавшихся к этой работе, интересовались другим. К радости «простых» читателей (то есть не слишком озабоченных глубиной структуралистского анализа) в статье довольно подробно излагалось содержание пьесы, более того – приводилось много цитат, причем абсурдистский финал почти полностью. Помню, с какой жадностью, не отходя от книжных стеллажей, я проглотил эту статью. И до меня и после точно так же эту статью читали другие. Тогдашний читатель хорошо понимал, что в ближайшие годы ему не удастся подержать в руках «Лысую певицу», но по отдельным цитатам он мог эту драму абсурда как бы реконструировать в своем воображении.
Это была тогда общая читательская практика, своего рода умственная игра – по отдельным цитатам реконструировать как бы целое. Отгадывать то, что находится далеко за предметом высказывания.
Разумеется, эта читательская экстраполяция, в силу ее приблизительности, была чревата мифотворчеством. Читатель сам придумывал себе литературу – своего Селина, своего Арто, своего Жана Жене… – то, что он не имел возможности прочитать. Рассуждать в компаниях друзей о непрочитанном было в порядке вещей так же, как пересказывать фильмы, которые сам видеть не мог, но о которых где-то слышал или читал.
В этом отношении были востребованы даже статьи, громящие буржуазное (в действительности чаще всего антибуржуазное) искусство Запада с позиций, так сказать, догматического марксизма (или того, что тогда понималось у нас под словом «марксизм»). Эти статьи читались с поправкой на тенденциозность. Выработался даже особый навык извлекать информацию о критикуемом произведении из-под каркасов малоинтересной критики.
Не надо думать, что все это носило умозрительный характер; такое чтение-вычитывание могло существенно изменить жизнь человека. И примеров тому более чем достаточно.
Сказанное можно проиллюстрировать любопытным литературным примером.
Помню, в начале 80-х на меня произвела впечатление повесть одного начинающего тогда автора, опубликованная в довольно специфическом издании «Литературная учеба» (Николай Курочкин: «Пограничная ситуация», позже повесть переиздавалась под названием «Смерть экзистенциалиста»). Герой, житель Благовещенска (10 000 километров от Москвы), преподает в техникуме политическую экономию (дисциплина, обязательная для учебных заведений того времени). Неожиданно для себя он увлекается французским экзистенциализмом – главным образом Сартром. Причем из Сартра он мог читать только пьесу «Мухи», все остальное извлекал опосредованно – из статей советских философов, посвященных критике экзистенциализма в целом. Сартра и других экзистенциалистов по необходимости цитировали, чтобы тут же опровергнуть, и эти драгоценные для героя повести цитаты он методично выписывал в толстую тетрадь, а когда их набралось много, скомпоновал так, что получился своего рода самодельный трактат. Получив, таким образом, весьма приближенное представление об экзистенциализме, герой повести с одержимостью неофита стал проповедовать философию существования среди знакомых. А потом и вовсе, следуя (по его понятиям) Сартру, решил быть ответственным за свою судьбу не на словах, а на деле. Стремясь к подлинной свободе, он сознательно вовлек себя в «пограничную ситуацию»: бросил работу, ушел из дому, начал бродяжничать, обитал на вокзалах и кладбищах. Стремление к ощущению полноты жизни и поискам ее смысла привело его к мысли о самоубийстве – исключительно по идейным соображениям. Впрочем, самоубийство не удалось герою: в критический момент у него не хватило духу броситься под поезд…
Насколько помню, повесть меня увлекла отнюдь не сюжетом, а как раз тем, о чем сейчас разговор – описанием технологии извлечения (хотя бы приблизительного) знания из косвенных и неочевидных источников. По крупице, по цитате, по одному-двум случайным упоминаниям… Все это было очень знакомо. Помню, что, читая эту повесть, я с удивлением узнавал источники персонажа – определенные критические статьи советских философов, энциклопедические заметки и т. п. По-видимому, опыт чтения у многих в нашей стране тогда совпадал.
Кстати, тип добровольного изгоя действительно был распространен в России и, вообще говоря, имеет свои исторические корни. По крайне мере, я таких людей знал. В одной из глав повести герой, между прочим, встречал подобных ему бродяг-интеллектуалов («бичей»), правда, считавших себя не адептами французского экзистенциализма, а последователями Ницше (тоже тогда не издаваемого в СССР).
Эта повесть была еще любопытна мне тем, что в то время я сам сделал экзистенциальный выбор: пренебрег научной карьерой, ушел с должности инженера на кафедре и устроился ночным сторожем подальше от людей, на городской окраине.
Охраняя сам не знаю что (что-то такое сюрреалистическое – шахту строителей метро), я много читал. Среди прочего читал я в сторожке и замечательную работу «Достоевский и Камю». Помню, как обрадовала и встревожила меня эта исследовательская статья; более того – во многом тогда поддержала. О впечатлении, которое она произвела тогда на меня, свидетельствуют отчеркивания на полях (недавно я к ней вновь возвратился). Кто б мог подумать, что почти через тридцать лет мне доведется познакомиться с автором этой работы – Евгением Петровичем Кушкиным. И не чудо ли это? – мы оба участники одной конференции в славном граде Амьене.
4
ШЕСТОЕ ИЮНЯ
Мне рекомендовано забыть это место – не посещать никогда.
А я вот пришел.
Многое изменилось, многое не узнаю, а могло бы измениться еще больше и гораздо в большем – в планетарном! – масштабе! – выбей тогда я дверную задвижку и ворвись в ванную комнату я!..
Надеюсь, у меня нет необходимости в десятитысячный раз объяснять, почему я хотел застрелить Ельцина.
Хватит. Наобъяснялся.
С тех пор как меня освободили я не бывал на Московском проспекте ни разу.
Станция метро «Технологический институт» – здесь я вышел, а дальше ноги сами меня понесли. Все рядом. До Фонтанки (это река) шесть минут неспешной ходьбы. Обуховский мост. Мы жили с Тамарой не в угловом доме, а рядом – на Московском проспекте у него восемнадцатый номер. Надо же: ресторан «Берлога»! Раньше не было никаких берлог. Раньше здесь был гастроном, в нем Тамара работала продавщицей. Я зашел в «Берлогу» взглянуть на меню. В частности подают медвежатину. Что ж.
Если это «берлога», то комнату в доме над «Берлогой», где я жил у Тамары, справедливо назвать «Гнездом».
В нашем гнезде над берлогой был бы сегодня музей, сложись все по-другому. Музей Шестого июня. Впрочем, я о музеях не думал.
Захожу во двор, а там с помощью подъемника, вознесшего рабочего на высоту третьего этажа, осуществляется поэтапная пилка тополя. Рабочий бензопилой ампутирует толстые сучья – часть за частью, распил за распилом. Я уважал это дерево. Оно было высоким. Оно росло быстрее других, потому что ему во дворе не доставало солнца. Под этим тополем я часто сидел в девяносто шестом и седьмом и курил на ржавых качелях (детская площадка сегодня завалена чурбанами). Здесь я познакомился с Емельянычем. Он присел однажды на край песочницы и, отвернув крышечку аптечного пузырька, набулькал в себя настойку боярышника. Я хотел одиночества и собрался уйти, но он спросил меня о моих политических убеждениях – мы разговорились. Нашли общий язык. Про Ельцина, как обычно (тогда о нем все говорили) и о том, что его надо убить. Я сказал, что не только мечтаю, но и готов. Он тоже сказал. Он сказал, что командовал взводом разведчиков в одной африканской стране, название которой он еще не имеет права предать огласке, но скоро сможет, и тогда нам всем станет известно. Я ему не поверил сначала. Но были подробности. Много подробностей. Не поверить было нельзя. Я сказал, что у меня есть Макаров (еще года два назад я купил его на пустыре за улицей Ефимова). У многих было оружие – мы, владельцы оружия, его почти не скрывали (правда, Тамара не знала, я прятал Макарова под раковиной за трубой). Емельяныч сказал, что придется мне ехать в Москву, основные события там происходят – там больше возможностей. Я сказал, что окна мои глядят на Московский проспект. А по Московскому часто проезжают правительственные делегации. Показательно, что в прошлом году я видел в окно президентский кортеж, Ельцин тогда посетил Петербург – дело к выборам шло. Будем ждать и дождемся, он снова приедет. Но, сказал Емельяныч, ты ведь не станешь стрелять из окна, у них бронированные автомобили. Я знал. Я, конечно, сказал, что не буду. Надо иначе, сказал Емельяныч.
Так мы с ним познакомились.
А теперь и тополя больше не будет.
Емельяныч был не прав, когда решил (он так думал вначале), что я сошелся с моей Тамарой исключительно из-за вида на Московский проспект. Следователь, кстати, думал также. Чушь! Во-первых, я сам понимал, что бессмысленно будет стрелять из окна, и даже если выйти из дома и дойти до угла, где обычно правительственные кортежи сбавляют скорость перед тем, как повернуть на Фонтанку, совершенно бессмысленно стрелять по бронированному автомобилю. Я ж не окончательный псих, не кретин. Хотя иногда, надо сознаться, я давал волю своему воображению. Иногда, надо сознаться, я представлял, как, подбежав к сбавляющей скорость машине, стреляю, целясь в стекло, и моя пуля попадает именно в критическую точку, и вся стеклянная бронь… и вся стеклянная бронь… и вся стеклянная бронь…
Но это во-первых.
А во-вторых.
Я Тамару любил. А то, что окна выходят на Московский проспект – это случайность.
Между прочим, я так и не выдал им Емельяныча, все взял на себя.
Мне не рекомендовано вспоминать Тамару.
Не буду.
Познакомились мы с ней… а впрочем, какая разница вам.
До того я жил во Всеволожске, это под Петербургом. Когда переехал к Тамаре на Московский проспект, продал всеволожскую квартиру, а деньги предоставил финансовой пирамиде. Очень было много финансовых пирамид.
Я любил Тамару не за красоту, которой у нее, честно сказать, не наблюдалось, и даже не за то, что во время секса она громко звала на помощь, выкрикивая имена прежних любовников. Я не знаю сам, за что я любил Тамару. Она мне отвечала тем же. У нее была отличная память. Мы часто играли с Тамарой в срэббл, иначе эта игра называется «Эрудит». Надо было выкладывать буквы на игровом поле, соединяя их в слова. Тамара играла лучше меня. Нет, правда, я никогда не поддавался. Я ей не раз говорил, что работать ей надо не в рыбном отделе обычного гастронома, а в книжном магазине на Невском, где продают словари и новейшую литературу. Это сейчас не читают. А тогда очень много читали.
Ноги сами, сказал, привели. Рано или поздно, я бы все равно пришел сюда, сколько бы мне ни запрещали вспоминать об этом.
Просто за те два года, что я жил с Тамарой, тополь подрос – тополя быстро растут, даже те, которые кажутся уже совершенно взрослыми. Крона у них растет, если я непонятно выразился. Теперь ясно? А когда видишь, как что-то медленно изменяется на твоих глазах – в течение года или полутора лет, или двух, тогда догадываешься, что и сам изменяешься – с этим вместе. Вот он изменялся, и я изменился, и все вокруг нас изменялось, и далеко не в лучшую сторону, – все, кроме него, который просто рос как растут себе тополя – особенно те, которым не хватает света… Короче, я сам не знал, чем тополь мне близок, а то, что он близок мне, понял только сейчас, когда увидел, что пилят. Надо ведь было через столько лет прийти по этому адресу, чтобы увидеть, как пилят тополь! Вот и всколыхнуло во мне воспоминания. Те самые, которыми мне было запрещено озабочиваться.
Зарплата у нее была копеечная, у меня тоже (я чинил телевизоры по найму – старые, советские, еще на лампах, тогда такие еще не перевелись, а к моменту шестого июня одна тысяча девятьсот девяноста седьмого года уже не чинил – прекратились заказы). В общем, жили мы вместе.
Однажды я ее спросил (за «Эрудитом»), смогла бы она участвовать в покушении на Ельцина. Тамара спросила: в Москве? Нет, когда он посетит Санкт-Петербург. О, когда это будет еще! – сказала Тамара. Потом она спросила меня, как я все это вижу. Я представлял это так. Черные автомобили мчатся по Московскому проспекту. Перед тем как повернуть на Фонтанку, они по традиции (и по необходимости) тормозят. Перед его автомобилем выбегает Тамара, бухается на колени, вздымает к небу руки. Президентский автомобиль останавливается, заинтригованный Ельцин выходит спросить, что случилось и кто она есть. И тут я – с пистолетом. Стреляю, стреляю, стреляю, стреляю…
Тамара мне ответила, что у меня, к счастью, нет пистолета, и здесь она была не права: к счастью или несчастью, но Макаров лежал в ванной, за трубой под раковиной, там же двенадцать патронов – в полиэтиленовом мешке, но Тамара не знала о том ничего. А вот в чем она была убедительна, по крайней мере, мне тогда так казалось, это что никто не остановится, кинься она под кортеж. А если остановится президентский автомобиль, Ельцин не выйдет. Я тоже так думал: Ельцин не выйдет.
Я просто хотел испытать Тамару, со мной она или нет.
Потом он меня спрашивал, светя мне лампой в лицо: любил ли Тамару? Почему-то этот вопрос интересовал потом не одного начальника группы, но и всю группу меня допрашивающих следаков. Да, любил. Иначе бы не протянул два года на этом шумном вонючем Московском проспекте, даже если бы жил только одной страстью – убить Ельцина.
На самом деле у меня было две страсти – любовь к Тамаре и ненависть к Ельцину.
Две безотчетные страсти – любовь к Тамаре и ненависть к Ельцину.
И если бы я не любил, разве бы она говорила мне «орёлик», «мой генерал», «зайка-зазнайка»?..
Ельцина хотели тогда многие убить. И многие убивали, но только – мысленно. Мысленно-то его все убивали. Девяносто седьмой год. В прошлом году были выборы. Позвольте, без исторических экскурсов – не хочу. Или кто-то не знает, как подсчитывались голоса?
Во дворе на Московском, 18 я со многими общался тогда, и все как один утверждали, что не голосовали в девяносто шестом за Ельцина. Но это в нашем дворе. А если взять по стране? Только я не ходил на выборы. Зачем ходить, когда можно без этого?
Ему сделали операцию, американский доктор переделывал сосуды на сердце.
Ох, мне рекомендовано об этом забыть.
Я забыл.
Я молчу.
Я спокоен.
Итак…
Итак, я жил с Тамарой.
Возможность его смерти на операционном столе обсуждалась еще недавно в газетах.
И я сам помню, как в газете, не помню какой, меня и таких же, как я, предостерегали против того, чтобы жизненную стратегию не связывали с ожиданием его кончины.
Но я не хочу отвлекаться на мотивы моего решения.
А что до Тамары…
В двух шагах по Московскому – Сенная площадь. Большую часть барахолки на ней к тому времени уже разогнали. Но всегда можно было нащупать цепочку, ведущую к продавцу. В зависимости от того, какой продавец требовался. В данном случае, если кто не понял еще – к продавцу того, из чего производится выстрел.
Вот такого продавца я и нашел в свое время на пустыре, где улица Ефимова упирается в Сенную площадь.
Короче, Емельяныч меня во всех отношениях не то чтоб поддерживал, а мы были вместе. Он только пил изрядно, и очень плохие напитки. Он покупал их в ларьке у Витебского вокзала.
Однажды он сказал, что за его спиной стоит целая организация. И что я в организацию принят.
В нашей организации он был на ступень выше меня, вследствие чего знал других – из нашей организации. Я же только Емельяныча знал. Он жил в соседнем доме, а именно в доме номер 16. Окна у него выходили на перекресток, и в случае появления Ельцина он бы мог метче стрелять из окна. Дело, однако, в том, что мы не планировали стрелять по машине. Зачем по машине, если она бронированная? Это бессмысленно. Это равносильно самоубийству и профанации общей идеи. Я так думал тогда, и Емельяныч – тоже. Но я уже об этом, кажется, говорил?
А вот о чем я еще не говорил: у нас был другой замысел.
Наступил июнь одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года.
Пятого июня, за день до приезда Ельцина в Петербург, Емельяныч мне сказал, что Ельцин завтра приедет. Я знал. Все, кто хотя бы немного интересовался политикой, знали.
Президент хотел в Петербурге отметить сто девяносто восьмую годовщину со дня рождения Пушкина.
Александр Сергеевич Пушкин – наш национальный поэт.
Я предвкушал покушение.
Емельяныч сказал мне, что руководство организации разработало схему. Завтра вечером, шестого июня, президент посетит Мариинский театр, в прошлом Кировский – оперы и балета. Меня заблаговременно проведут за кулисы. Ельцин будет в первом ряду. А дальше, как убили Столыпина.
С той только разницей, что я выйду на сцену. Из-за кулис.
То, из чего стреляют, я купил, однако, на свои деньги, а не на деньги организации, с которой Емельяныч были крепче связан, чем я.
Но ведь я же не думал о карьерном росте!
А что Тамара? Ее уже тошнило от фамилии Ельцин. Тамара просила меня о нем не говорить. По правде скажу: она боялась, что моя ненависть к нему вытеснит любовь к ней. И где-то она была права. Правильно, что боялась. Ненависть к нему я помню сильнее, чем к ней любовь. А я ведь любил… Как я любил Тамару!..
У меня тоже, однако, хорошая память. Гоша, Артур, Григорян, Улидов, некто «Ванюша», Куропаткин, еще семеро…
Имена, фамилии, клички. Я ничего не скрыл.
Емельяныча я не назвал и не выдал следствию организации в целом.
Емельяныч не был любовником Тамары.
А их – всех. А зачем так надо было громко кричать?
Следователи поначалу считали ее моей сообщницей. Их интересовала сеть отношений.
Пусть разбираются сами, если хотят.
Не мое дело. Но их работа.
В садике напротив я встречал жильца соседнего дома, мне этого человека показал Емельяныч, он сказал, что сосед.
Сосед Емельяныча был писателем. Бородатый, в шерлок-холмсовской кепочке, он часто сидел на скамейке.
Мне кажется, он был сумасшедшим. На мой вопрос, сможет ли он убить Ельцина, он ответил, что Ельцин и он принадлежат разным мирам.
Я спросил его: с кем вы, мастера культуры? Он не понял вопроса.
Нет, я помнил. Я помнил, как на закате горбачевской перестройки большая группа писателей ездила к Ельцину в Кремль, чтобы выразить президенту поддержку. И не было среди них ни одного, кто бы хотя бы запустил в Ельцина хрустальной пепельницей!.. А ведь сорок человек – это число! И наверняка их не проверяли на предмет проноса оружия!.. Любой бы мог пронести!.. И вот теперь я спрашиваю: Валерий Георгиевич, почему вы не пронесли пистолет и не застрелили Ельцина? И не слышу ответа. И я спрашиваю: Владимир Константинович, почему вы не пронесли пистолет и не застрелили Ельцина? И не слышу ответа. И я других спрашиваю – их было сорок! – и не слышу ответа! И я не слышу ответа! И ни от кого не слышу ответа!
А этот, который в кепке в саду, он мне говорит, что не был зван.
А был бы ты зван, ты бы застрелил Ельцина?
Кто ты такой, чтобы быть званным? Что написал такого, что бы быть званным и застрелить Ельцина?
Что ты пишешь, ваще, и кому это надо, если все идет своим чередом и этот черед предопределен высшим решеньем?
Иногда мне самому хотелось писателем стать. Ведь наверняка Ельцину понадобится поддержка и наверняка он позовет в Кремль новых, и я буду среди них, с пистолетом (о, проклятое слово!) в штанах (за ремнем) – где-нибудь с пистолетом в штанах за ремнем – и неужели я не достану мой пистолет в момент «дорогие россияне…»?.. и не сделаю это?
О, ради этого я б написал!.. Я бы что угодно написал, чтобы оказаться в числе приглашенных!
Что касается пистолета. Я хранил его в ванной, за трубой под раковиной.
Тамара не знала.
Хотя я много раз говорил, что он достоин пули в живот, и она была со мной как будто согласна.
Емельяныча я не выдал и не выдал организацию, стоявшую за его спиной.
Следствие пошло по другому пути.
Гоша, Артур, Григорян, Улидов, некто «Ванюша», Куропаткин, еще семеро…
Писателя в кепке я приплюсовал тоже.
Было утро шестого июня. Я дома еще находился. Мысленно я готовился к вечернему подвигу. Но о славе не думал.
На девять часов намечен контрольный звонок. Девять, девять пятнадцать, а он не звонит. Почему не звонит Емельяныч?
В девять тридцать я сам позвонил.
Он долго не снимал трубку. Снял наконец, соединился. Я услышал знакомый голос, и понял, что пьян Емельяныч как пять Емельянычей. Мозг мой не хотел верить моему слуху. Как могло такое быть? Ведь Ельцин уже прилетает! Как ты смел, как ты мог?.. Успокойся, все отменилось. Как отменилось? Почему отменилось? Не будет спектакля, говорит Емельяныч. «Золотой петушок» околел. В смысле опера (или балет?).
Я закричал о предательстве.
Успокойся, мне Емельяныч сказал, возьми себя в руки. Будет случай еще. Но не сегодня.
Все утро я не находил себе места.
В гастрономе под нами был санитарный день. Травили с утра тараканов и отпустили домой продавщиц. Пришла Тамара, от нее пахло химией.
На Московском проспекте, я еще не сказал, очень большое движение. Транспорт шумит. За два года, что жил я с Тамарой, я сумел себя приучить к этому шуму.
Я в комнате был. Помню (хотя вспоминать мне потом запретили), что я себя занимал поливкой цветов. Именно кактусов. Тамара в эти минуты душ принимала. И тут снаружи у нас шуметь прекратило. То есть – за окнами. Но шумело в ванной комнате – душем. А за окнами – тишь: прекратилось движение транспорта.
Это лишь одно означало: освободили для Ельцина путь. Он прилетел и скоро доедет до нашего перекрестка. Я-то знал, что он прилетит. Еще бы, ведь мне надлежало по прежнему плану его завалить этим вечером в опере (или, не помню, в балете?)…
И вот теперь балет отменен (или опера?).
«Золотой петушок», сказал Емельяныч.
В общем, я у окна. На Московском затишье. Менты стоят на той стороне. И никакого движения. Ждут. Но вот промчался ментовский мерс (или больше, чем мерс?) – для контроля готовности пропустить президентский кортеж. Так всегда они посылали вперед для контроля готовности.
И все-таки надо взять пистолет и выйти наружу. Так мне внутренний голос велел. А другой внутренний голос мне говорил: не бери пистолет, просто выйди и посмотри, а пистолет, сам ведь знаешь, тебе не поможет.
И все-таки я решил взять пистолет. Но Тамара душ принимала.
Тамара, когда душ принимала, закрывалась от меня на задвижку. Она стала так делать где-то в апреле. Она считала, что душ, если шумел, то меня возбуждал – причем сверх всякой меры. Но это было не так. Во всяком случае, было не так, как ей представлялось.
В апреле был у нас один почти необъяснимый такой эпизод.
С тех пор она стала от меня закрываться.
Но я о другом, и при чем тут какая-то ванная?
Да, я, вспомнив о своем тайнике, подбежал к ванной и застучал в дверь. Я закричал громко: открой!
Опять? – грозно спросила Тамара (голос деланно грозный). Это мне: Уймись! Успокойся!
Открой, Тамара! Нельзя терять ни секунды!
Уймись! Не открою!
Ведь она не знала, что у меня пистолет спрятан там за трубой.
А если бы знала?
А вообще, что она знала? Чем была занята ее голова? О чем она думала? Она ведь ничего обо мне не знала! Не знала, что я хочу убить Ельцина. И что в ванной у меня тайник!
И если бы я действительно так возбуждался от шума воды, разве бы я не сломал дверь? Да я бы выбил ее левым плечом! После того апрельского случая у меня было много возможностей прорваться к ней в ванную во время ее в этой ванной мытья! Однако я ни разу не выбил задвижку – и где же тогда я возбуждался?
Да ведь она ж меня провоцировала (я потом догадался) этой задвижкой нарочно.
Но я о другом.
Я бы выбил задвижку, если б не внутренний голос – второй, а не первый. Уймись. Иди на улицу и не выдавай волнения. Пистолет не пригодится тебе. План отменен. Так что выйди и посмотри. Просто побудь. Пока он не проехал.
Я так и выбежал в домашних тапочках, чтобы не терять ни секунды.
Я выбежал из дома, но уже во дворе перешел на обычный шаг. Вышел из подъезда свободно. Ельцин еще не проехал. Шли по тротуару прохожие. Как обычно ходят они. Некоторые останавливались и смотрели в перспективу Московского. Далеко, за Обводным каналом, виднелись Триумфальные ворота, памятник победе в турецкой войне.
Обычно улицы, когда проезжали государственные деятели, перекрывались не менее чем за десять минут, так что время было еще.
Со стороны набережной Фонтанки перегородили движение. Там стояли машины, впрочем, я их не видел с того места, где был.
Странно смотреть на пустой проспект. Пустота проспекта тревожит душу. Ни одной припаркованной машины. Убрано все.
Еще проехала одна милицейская.
И повернула с Московского на Фонтанку, то есть налево – там было свободно.
То, что Ельцин поедет тем же маршрутом, не было ни для кого тайной. Это единственный путь.
Я посмотрел на крышу ЛИИЖТа, недавно переименованного в ПГУПС – нет ли снайперов где?
Вроде бы не было.
Диспозиция – вот. По правую руку – мост через Фонтанку, имя ему – Обуховский. На той стороне сад, светофор, милицейская будка. Особая достопримечательность – высокий верстовой столб в виде мраморного обелиска – в восемнадцатом веке здесь по Фонтанке проходила, говорят, черта города.
Не по минутам даже – по секундам помню эти события. Вот – едут: приближаются по Московскому. Президентский автомобиль шел не первым, а тот, что был впереди, уже со мной поравнявшись, убавил скорость – впереди налево ему поворот. Я смотрю, конечно, на президентский – и другие глядят, не только я, и другие зеваки-прохожие, – я ж смотрю и думаю, а правда ли, там он сидит, может, он в другом, а в этом – ложная кукла… Ложная кукла за истинно бронированным стеклом? И тут я вижу руку его, несомненно, его, слегка шевелящуюся в немом приветствии – за стеклом, где сидение заднее, – а кого он приветствует, как не меня? Меня и приветствует! Это когда он со мной поравнялся.
Притормаживая. Сбавляя скорость. (Впереди поворот.)
А далее происходит невероятное.
Ему наперерез чья-то бросилась тень. Я даже не сразу разобрал, кто это – женщина ли или мужчина. А когда увидел, что женщина, в первую секунду подумал, не Тамара ли моя. Не вняла ли Тамара моей подсказке?
Сердце екнуло, подумал когда о Тамаре.
Но с какой стати Тамара, когда она должна быть под душем? Да нет, конечно, была не она.
И произошло еще более невероятное – остановилась машина. А вслед за ней и другие – и весь кортеж. А дальше – еще невероятнее: вышел он.
Дверь отварилась, и вышел он!
Было шестое июня одна тысяча девятьсот девяноста седьмого года.
Он стоял в шагах десяти от меня, и та женщина тоже стояла – шагах в пятнадцати!
Такое невозможно представить! Но так было! Он вышел и к ней подошел!
И все его клевреты стали вылезать из машин своих и солидарно к той женщине подходить.
Губернатор! Он тоже вышел!
И вышел Чубайс!
О, вы не знаете, кто такой Чубайс? Мне рекомендовано забыть это имя! Но как же забыть, когда помню? Как же забыть?
И зеваки, случайные пешеходы, они тоже стали подходить ближе к нему, и я вместе с ними!.. Я – бессознательно – вместе с другими – шаг за шагом – ближе, ближе – к нему!..
Было будто бы это все не сейчас, а когда-то до этого!
Как в прежние времена, когда он – было несколько тогда эпизодов! – общался с народом! На заводе, на рынке, на улице, где-то еще…
Смело общался с народом!
Я слышал – мы все слышали – их разговор!
Женщина лет сорока. Эта она остановила президентский кортеж. Вы не поверите, она говорила о состоянии библиотек.
Вот как она сказала: у нас большие проблемы с библиотеками, я сама учительница русского языка и литературы и хорошо знаю, как обстоят дела, Борис Николаевич. А еще, Борис Николаевич, у библиотекарей и учителей, а также у врачей в поликлиниках очень низкие зарплаты.
А он ей отвечал: это неправильно, надо во всем разобраться.
А помощник ему говорил: обязательно разберемся, Борис Николаевич.
А я думал: где мой пистолет?
У меня не было с собой пистолета!
А она ему вдруг о себе говорит: меня зовут Галина Александровна, я живу на улице Маклина дом девять дробь одиннадцать, в одной комнате со взрослеющим сыном… дом в аварийном состоянии, квартира у нас коммунальная…
А он ей говорит: дадим вам новую квартиру.
А помощник ей говорит: во всем разберемся.
И все это рядом – передо мной! А я не взял пистолет!
Другие тоже стали спрашивать, но нечетко, сумбурно. К ним у него не было интереса.
Я тоже хотел: Борис Николаевич, неужели вы, правда, не пойдете сегодня в балет?.. или в оперу? (Я еще не терял надежду). Но тут широкая спина заслонила от меня президента.
А спросил бы – хрен бы они сказали.
Следователь, кстати, был настолько любезен, что показал мне потом газету: Ельцин, оказывается, в этот день возлагал цветы к монументу Пушкина.
Он грузно определил свое тело в машину. И все помощники и клевреты разбежались по своим авто. И весь кортеж медленно тронулся и повернул с Московского на Фонтанку.
Учительница стояла и смотрела на них, отъезжающих. К ней приставали журналисты из президентского пула. Мент-подполковник просил нас покинуть проезжую часть.
Скоро на Московском возобновили движение.
И я очнулся.
Я стоял под светофором в домашних тапочках и понимал, что такого шанса никогда больше не даст мне судьба. Почему я не взломал дверь в ванную? Но разве мог я догадаться, что такое случится и что он выйдет наружу из бронированного автомобиля?
Мог! Мог! Мог! Я просто обязан был это предвидеть!
Я видел себя стреляющим в президента. Я видел падающего – его. Я видел удивленные лица зевак, не смеющих поверить в освобождение от тирана.
Я бы мог даже спастись. У меня не было такой задачи. Но я бы мог бросить мой пистолет и побежать в подворотню.
Я просто видел, как я бегу в подворотню дома номер 18 и пересекаю двор. Те, кто, опомнившись, мчатся за мной, думают, что я идиот – ведь там впереди очевидный тупик… Это я идиот? Это вы идиоты! А как насчет прохода налево? Там есть довольно широкая щель между глухой стеной и углом пятиэтажного дома. Вот я пробегаю мимо тополя, который тогда еще не спили, и устремляюсь налево, и вот я уже в прямоугольном дворе, в котором нет ни одного подъезда, если не считать двери в бывшую прачечную… А? Каково? Отсюда два пути – во двор по адресу Фонтанка, 110, или во двор по адресу Фонтанка, 108, мимо бетонных развалин древнего туалета. Лучше – в 108. Меня никто не ждет на Фонтанке!.. А можно рвануть по лестнице на крышу, а по крышам здесь одно удовольствие уходить!.. По крышам легко убежать аж до самой крыши Технологического института!.. Или по глухой невысокой кирпичной стене вскарабкаться, это возможно, на пологую крышу строения, принадлежащего военному госпиталю…Через больничный сад я быстро дойду до проходной на Введенском канале… а можно через решетку – на Загородный, с другой стороны квартала!
Я бы запросто мог уйти!
А мог бы остаться. Мог бы сдаться. Я бы сказал: Россия, ты спасена!
О, они бы мне памятник еще поставили! Прямо там, в саду напротив дома Тамары! Прямо рядом с мраморным верстовым столбом, восемнадцатый век, архитектор Ринальди!
Только мне не нужен памятник! И доска мемориальная мне совсем не нужна на доме Тамары!
Вы не знаете, как я Тамару любил!
Вы не представляете, как я ненавидел Ельцина!
И этот шанс был упущен. Я бродил по городу. Я добрел до Сенной, потом до Гороховой. Переходя деревянный Горсткин мост, я хотел утопиться в грязных водах Фонтанки. Деревянные быки торчали из воды (это против весеннего льда), я смотрел на них и не знал, как буду жить.
Лучше бы я тогда утопился! Было бы намного лучше…
Я не помню, где я был еще, я не помню точно, о чем думал. Я даже не помню, зашел ли я в рюмочную на Загородном или нет. Экспертиза потом показала, что был я трезвый. А мне казалось, что я не в себе.
Одно я знаю точно, я знал, что никогда себя не прощу.
В этом городе ночи в июне белые, но мне казалось, что потемнело, или это, может быть, в глазах моих стало темнеть. Помню, пришел домой. Помню, Тамара телевизор смотрела. Я не хотел, чтобы Тамара услышала выстрел, я хотел застрелиться на заднем дворе. Вошел в ванную, достал пистолет, зарядил. Спрятал за ремень брюк. Посмотрел на себя в зеркало.
Ужасная рожа. А застрелюсь – будет хуже еще.
Я решил с ней не прощаться. Я не мог вынести минуты прощанья. Я устремился к двери, чтобы уйти. И тут она вышла из кухни, где ящик смотрела, и мне сказала.
Она мне сказала.
Она сказала мне: где ты был?.. ты все пропустил?.. ты ничего не знаешь?.. ты только подумай, передавали во всех новостях, сегодня прямо перед нашими окнами такое случилось! Учительница остановила машину Ельцина! Одна живет в однокомнатной квартире с взрослым сыном, и он обещал дать им новую квартиру!
Я замер.
Вот вы все ругаете Ельцина, сказала Тамара, а он квартиру дать обещал.
Дура! Дура! Дура!
Закричал я.
И выстрелил пять в нее раз.
Я не скрывал своих намерений и на первом же допросе сообщил, что хотел застрелить Ельцина.
Меня куда-то возили. Меня допрашивали высокие чины. Я рассказал про пистолет, про трубу в ванной. Назвал все имена, потому что они думали, что я убил сообщницу. Гоша, Артур, Григорян, Улидов, некто «Ванюша», Куропаткин, еще семеро… Плюс тот в кепке писатель.
Только Емельяныча я не выдал. И организацию, стоявшую за его спиной.
Сначала они не верили, что я одиночка, а потом вообще не верили ничему.
Странно. Могли б и поверить. В то время одну за другой разоблачали попытки. Служба безопасности рапортовала о том. Еще до меня, помню, разоблачили банду кавказцев, сняли с поезда в Сочи, не дав им приехать в Москву. Один потенциальный убийца прятался на каких-то московских чердаках, имея нож при себе, – он дал признательные показания на допросе, судьба его мне не известна. Писали в газетах, сообщали по радио.
А вот обо мне – никто, ничего.
Про учительницу Галину Александровну, что жила на проспекте Маклина и остановила машину Ельцина на Московском проспекте, слышали все. А про меня – никто, ничего.
Я так и не знаю, в какой африканской стране выполнял интернациональный долг Емельяныч.
Доктор медицинских наук, профессор Г. Я. Мохнатый меня уважал, относился по-доброму. Но было непросто, я думал о многом.
Мне рекомендовано эти годы забыть.
Я живу во Всеволожске, вместе с отцом-инвалидом, у которого скончалась вторая жена. У меня есть отец. Он инвалид.
Иногда мы играем в срэббл, а по-нашему – в «Эрудит». Мой отец почти не ходит, но память у него не хуже моей.
В Санкт-Петербург я попал за долгое время впервые. Мне рекомендовано сюда не попадать.
Я сожалею, что так получилось. Я не хотел ее убивать. Моя большая вина.
Но как мне кому объяснить, как я, по сути, Тамару любил!? Кто любил хоть кого-нибудь, тот поймет. У нее была масса достоинств. Я не хотел. Но и она. Ей не надо было. Зачем? При таком избытке достоинств и такое сказать! Нельзя же быть непроходимой дурой. Нельзя! Дура. Такое сказать! Нет, просто дура! Дура, дура, тебе говорю!
5
О НРАВСТВЕННОМ ПРЕВОСХОДСТВЕ ШАРИКОВА НАД ПРОФЕССОРОМ ПРЕОБРАЖЕНСКИМ 3
Общеизвестно: даже обыкновенное изменение пола требует помимо клинической операции особых мер по психологической и социальной адаптации индивидуума. Здесь же мы имеем дело не с изменением пола, а с более драматичной метаморфозой – изменением биологического вида. Без продуманной программы адаптации, как психологической, так и социальной, переход из состояния «собака» в состояние «человек», естественно, невозможен. Однако никакой программы у Преображенского не было и быть не могло, он просто безответственно самоустраняется от участия в судьбе произведенного им на свет Шарикова.
Более того, профессор открыто выражает свою незаинтересованность в том, чтобы человек Шариков забыл свое собачье прошлое. «Не забывайте, что вы… так сказать, – неожиданно явившееся существо, лабораторное», – втолковывает профессор вполне разумному уже человеку, единственное прегрешение которого заключается в том, что он захотел получить человеческие документы.
Чем ярче проявляется индивидуальность Шарикова, чем быстрее формируется его характер, тем большее раздражение вызывает Шариков у профессора Преображенского. Но нет у вивисектора ответа на справедливые упреки подопытного: «Разве я просил мне операцию делать?.. Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал».
И ведь верно – не давал. Преображенский ненавидит уже за то Шарикова, что он оказывается способным задуматься о юридической стороне своего положения: «Я иск, может, имею право предъявить».
В любой цивилизованной стране иск Шарикова был бы удовлетворен, профессор по гроб жизни выплачивал бы компенсацию за моральный и физический ущерб. Странно, что гордящийся своей буржуазностью Филипп Филиппович Преображенский не понимает таких простых вещей. Да он просто должен молиться на то, что живет в этой стране и принадлежит этому (вернее, тому) времени. В любой другой стране он как минимум сидел бы за решеткой, если не на электрическом стуле.
Инакофоб, биорасист, безответственный вивисектор профессор Преображенский демонстрирует поразительную нравственную глухоту. В течение трех недель (!) после «полного очеловечивания», констатированного Борменталем, ни профессор, ни его ассистент не находили нужным дать «новой человеческой единице» (по выражению того же Борменталя) нормальное человеческое имя. Вот вам и социальная адаптация! А когда уставший от анонимности человек решается сам изобрести себе имя и отчество, это вызывает и гнев, и сарказм профессора Преображенского: какой, дескать, идиотизм, какая безвкусица – Полиграф Полиграфович! Но кто же запрещал вам, Филипп Филиппович, самому окрестить вашего подопытного и тем облегчить для него невыносимо сложную проблему самоидентификации? И разве так трудно оценить благородство и деликатность Шарикова, не поддавшегося искушению воспользоваться именем мирового светилы, на что он имел, между прочим, все основания? Ведь по идее «лабораторному существу» было бы логичнее назваться не в честь ведомственного праздника, а в честь самого профессора – не Полиграфовичем, а Филипповичем, и не Шариковым, а Преображенским. Во всяком случае, Преображенский столь же родовое имя для этого нового человека, как и Шариков. Если бы профессор Преображенский открыл новую болезнь, мы бы, возможно, знали болезнь Преображенского, мы бы могли знать бациллу Преображенского, шов Преображенского, скальпель Преображенского, но невозможно представить, чтобы Преображенский дал собственное имя произведенному им на свет человеку, имевшему дерзость жить там, где он родился.
Вообще говоря, все несчастия Шарикова начались именно с квартирного вопроса. А ведь эта квартира принадлежит Шарикову точно так же, как и профессору Преображенскому. Профессор должен быть еще благодарен своему созданию за то, что Шариков претендует всего лишь на законные шестнадцать квадратных аршинов, то есть на угол, как лицо постороннее, а не на половину всей многокомнатной квартиры, как родное дитя профессора.
Другие примеры нравственной глухоты Преображенского.
Вот профессор возмущен видом галстука Шарикова: «Откуда взялась эта гадость?» Эту гадость «ядовито-небесного цвета» подарила Шарикову добрая повариха Преобораженского Дарья Петровна. Спрашивается, что помешало самому профессору подарить Шарикову один из многочисленных своих стильных и модных галстуков?
Вот профессор обнаружил у Шарикова интерес к чтению книг. Между тем его возмущению нет предела: Шариков, оказывается, читает переписку Энгельса с Каутским, которую подсунул ему Швондер. Спрашивается, что мешало профессору Преображенскому «подсунуть» «Фауста» или «Анну Каренину»?
Шариков появился на свет половозрелым, и это особенно злит профессора и его ассистента. Возможно, ученых головорезов больше бы устроило, если бы либидо Шарикова было обращено на самок собак, на сук, но Шарикова, на его беду, влечет к женщинам. Но разве не сам Перображенский пересадил собаке семенные железы человека? Чем же он теперь недоволен? Вместо того чтобы помочь человеку осознать его сексуальную аутентичность, Преображенский и Борменталь жестоко пресекают все попытки подопытного (надо сказать, неуклюжие, трагикомичные и, во всяком случае, безобидные), проявить себя как существо сексуальное. Шариков привел барышню – заметьте, к себе домой, на площадь законно ему принадлежащую согласно официальной прописке. Почему-то это возмутило Преображенского. Отказывая Шарикову в праве быть мужчиной, он сам уединяется с барышней у себя в кабинете и пересказывает ей историю болезни Шарикова, то есть выдает тайну его собачьего прошлого. Не подлость ли это? Уже не говоря о том, что профессор медицины самым циничным и преступным образом нарушил клятву Гиппократа. Садист добился своего – женщина ушла в слезах, ведь Шариков сказал ей, что шрам на его голове – это след ранения на колчаковском фронте. Спросим себя: а что другое должен был сказать Шариков? Что был бездомной собакой и бегал по помойкам? Что голову разрезал ему безумный вивисектор?
За красивыми разговорами о разрухе в головах людей Преображенский и Борменталь ежевечерне пьют водку, причем, следуя логике двойных стандартов, осуждают алкоголизм Шарикова, не давая ему денег на выпивку. То, что не имеющий дохода Шариков слямзил несколько рублей, расценивается как вселенская катастрофа.
Однако трудно не восхититься волей Шарикова обрести подлинную социальность. Он сам себе дает имя, добивается выдачи документов, то есть обретает гражданский статус и, наконец, не желая материально зависеть от профессора-садиста, Шариков самостоятельно поступает на службу, причем находит работу по призванию, чем дает Преображенскому и его подручному очередной повод для оскорбительного сарказма. Оказывается, отлавливать безнадзорных и больных кошек в плане санитарно-гигиенических мер городских властей – это однозначно плохо и неблагородно, зато хорошо и даже почетно издеваться над собаками, нелегально вживляя в их мозги инородные органы!
Шариков обречен. Профессор Преображенский решается на убийство. Убив человека, он не испытывает угрызений совести. Он убил недочеловека, как ему представляется. Он может найти себе множество оправданий.
Можно посетовать, например, как сетует Борменталь, на стечение обстоятельств, на случай: не того человека гипофиз пересадили собаке. Получился Шариков, а мог быть Спиноза.
Лукавит Борменталь. Ведь и Спиноза кончил бы так же.
Во-первых, Спинозе тоже где-то надо было бы жить, а 16 квадратных аршинов Спинозе, пожалуй, покажется мало.
Во-вторых, Спиноза, как и Шариков, тоже бы не любил кошек и, несмотря на всю свою мудрость и гениальность, при случае на них бы набрасывался.
Этих двух причин вполне достаточно, чтобы и Спинозу отправить под скальпель.
2001
БУДУЩЕЕ ЗА МОКРОСТУПАМИ
Ну и кто сказал, что слово «мокроступы» не прижилось? Еще как прижилось. Пять тысяч упоминаний в Интернете 4 – не слишком ли много для несуществующего слова? И это не важно, в каком контексте употребимы «мокроступы» – в ироническом ли, в откровенно ли глумливом, – двести лет издевок и насмешек над словом-изгоем лишь подтверждают его парадоксальную жизнестойкость. В том и парадокс, что бытовало оно все эти долгие годы исключительно как объект насмешек, как анекдотический пример нелепого словообразования, как слово, которого быть не должно, да его и не было (как бы), и, тем не менее, оно было, пускай даже в этом изгойском качестве. Между тем, понятие «мокроступы» не превратилось в абстракцию, и, хотя словом этим сегодня выражается нечто большее, чем только «галоши», к историческим галошам оно свое отношение не утратило.
Это с «галошами» еще проблема. Если за те же двести лет так и не удалось выработать единую языковую норму – «галоши» или «калоши», смеем ли мы утверждать, что сей варваризм действительно у нас прижился?
Не одного меня веселит сохранившаяся надпись над дверцей лифта в Доме радио: «Вход в галошах запрещен». Последний раз сюда входили в галошах во времена Зощенко. Забавен не только анахронизм, даже в самой дискриминации по признаку наличия галош есть что-то комичное. С галошами так всегда происходило. Даже в одной потребности галош всегда было что-то юмористическое. Почему крокодилы в сказке Чуковского питаются галошами? Потому что само название продукта указывает на его иноземное происхождение. Не знаю, задумывался ли об этом Чуковский, но то, что мы называем галошами, изобрели именно на родине южноамериканских крокодилов – это там индейцы получали непромокаемые пленки на ногах путем опускания ног в смолу каучукового дерева, что и было подсмотрено конквистадорами. Крокодил Чуковского и его детишки едят родное. А стали бы они есть галоши, если бы те назывались мокроступами? В мокроступах они бы отказались признать свое. Они бы не стали есть мокроступы, также как не стали бы есть бескозырки, ушанки, ватники, тулупы, валенки… Это не их.
Кстати, о валенках. Исчезнув из городского быта, галоши нужны еще там, где носят валенки. Но если вслушаться в слова «галоши на валенках», – это же и есть лучший пример смеси французского и нижегородского. Хорошо, мы, положим, привыкли, но адмирала Шишкова, когда-то изобретшего слово «мокроступы», эти «валенки в галошах» могли коробить без дураков.
Вот, говорят, «мокроступы» – смешное слово. И чем же слово «мокроступы» смешнее слова «вертолет»? Против «вертолета» мы, кажется, ничего не имеем. Нет, это как раз слово «галоши» смешное… и несолидное.
Предрекаю: слово «мокроступы» переживет слово «галоши». Слово «галоши» будет забываться по мере исчезновения галош. Каждый ли знает, что такое «гамаши»? А когда-то знал каждый. Вот и «галоши» забудутся. Не будет галош, и никому в голову не придет назвать что-нибудь галошами. А «мокроступы» – емкое, звучное слово. Даже бравое, хочется сказать (даром что изобрел адмирал). Жизнеутверждающее. Волевое. Идущий вперед и не смотрящий под ноги да услышит все коннотации. Освящено оно исторической памятью, а то, что память эта дурная – дело десятое. Уже сегодня это слово можно использовать как бренд. И не обязательно какой-нибудь там разновидности резиновой обуви. Да хоть обуви всей! Да и не только обуви!.. Вот увидите, появится литературный журнал «Мокроступ», сайт mokrostооp!.. Такие имена на дороге не валяются.
Что касается обуви, представим себе, новая сеть обувных магазинов решила назвать себя «Мокроступом» (почему бы и нет – ведь есть же «Буквоед»?..). Несколько дней рекламы по ящику – и мы будем произносить «мокроступы» абсолютно нейтрально, без всякой иронии. Войдешь в «Мокроступ» – навстречу продавец-консультант: «Добрый день! Новая коллекция осенних мокроступов». – «Эти мокроступы китайские?» – «Нет, это испанские мокроступы». – «Разрешите примерить».
2006
ОТКОПАННЫЕ И ОПРОКИНУТЫЕ
Из жизни памятников
Это один из многих – бетонный, типовой, а точнее сказать, принадлежащий к типу «с трубкой в правой руке». Левую руку он запустил в карман брюк, как бы приглашая к ответной непринужденности. Почему-то окрестности Гатчины населяли Сталины именно этого образца. Один, говорят, украшал Батово, сердце набоковской ойкумены, – стало быть, как раз в те самые годы, когда Набоков писал «Другие берега», вспоминая ландшафт своего блаженного детства.
И вдруг этот: он нашел себя в поселке Вырица – на том же берегу Оредежи – где-то в начале нулевых. На самом деле нашел его местный предприниматель, но где откопал, знать никому не дано. Из числа себе подобных этот Сталин, по-видимому, единственно уцелевший.
Либеральная общественность, как это ни покажется странным, к появлению бетонного Сталина в поселке Вырица отнеслась довольно снисходительно, почти благосклонно. И дело вовсе не в том, что новонайденный был установлен на частной территории (а частную собственность надлежит уважать), владелец земельного участка как раз обеспечил к памятнику открытый доступ, – дело в том, что сам памятник, перенесший любительскую реставрацию, выглядел, на трезвый взгляд, как-то уж слишком экстравагантно. Он был покрашен – в сочные кричащие цвета. Преимущественно в зеленый (цвет мундира). На лице лежал (и лежит) насыщенный грим. Усы, волосы и зрачки глаз его – аспидно-черные. Лично мне он напомнил статую индийского божества вроде тех, что я видел в ашрамах священного города Ришикеш – одним словом, от нашей традиции очень далекое.
Может быть, в более поздние времена прогрессивно мыслящая общественность различила бы в этом феномене откровенный кич, но в ту недавнюю пору, когда открытое почитание Сталина было еще явлением маргинальным, восторжествовало общее мнение: это, разумеется, стёб. Ценители курьезов разнесли весть о раскрашенном Сталине по всему свету – о нем рассказали в газетах, журналах, его показали по ящику, – и вот результат: популярность объекта удостоверена пометой «Сталин» на карте Яндекса. Да, он стал одной из главных достопримечательностей Вырицы. Оказалось, однако, все не так просто.
К памятнику потянулись не только праздные зеваки, туристы и молодожены с невнятными убеждениями, но и политические активисты вполне определенных взглядов, а также латентные почитатели Сталина – к нему понесли цветы. И тут выяснилось, что владелец монумента, раскрашивая свое достояние, и мысли не держал ни о каком карнавале, – военный пенсионер, он поступил так, как ему подсказало сердце.
Владелец Сталина, судя по его интервью, человек общительный, но он так и не рассказал, где откопал бетонного кумира, – очень похоже на правду, что откопал он его в буквальном смысле. Я сам четверть века назад узнал из первых уст историю про то, как директор дома культуры одного из районных центров Псковской области совместно с завхозом и парторгом закопали под покровом октябрьской ночи шестьдесят первого года бронзовый бюст Сталина прямо во дворе ДК («из первых уст» – это «из первых рук» непосредственного участника погребения). Не сомневаюсь, что земля на постсоветском пространстве богата и по сей день подобными кладами. Что-то мне подсказывает, что будут их находить все больше и больше. Как говорил по другому случаю первый и последний президент СССР, «процесс пошел». И хотя пошел он не вчера, определенно ускорился к шестидесятилетней годовщине доклада Хрущева на ХХ съезде. Некогда попранные памятники вождю народов, чаще всего бюсты, стали выискиваться то там, то сям: они словно сами вылезают наружу – из-под земли, из каких-то таинственных схронов, со свалок. Поправленные и покрашенные, они легко находят место на непритязательных пьедесталах, порой, заметим, весьма экзотических – вроде крыши крыльца сельского дома. Не хочу утверждать, что вся Россия заставлена памятниками Сталину, но счет им идет на многие десятки.
Общественное внимание обращают на себя лишь немногие, как правило, вновь изготовленные Сталины, для того и произведенные на свет, чтобы вызвать политическое событие (бюст в Пскове открыт, бюст в Липецке, в Пензе…). Сами по себе эти объекты довольно скучны, но утверждение их сопряжено со скандалами, и отнюдь не местного значения. Вообще-то заказать сегодня бюст-новодел ничего не стоит (вернее, стоит согласно прейскуранту, – соответствующие сайты к услугам заказчика). Мы же говорим сейчас о других, о прежних Сталиных, когда-то поверженных, но сохраненных и вновь предъявляемых в публичном и полупубличном пространстве городов и весей страны.
Вырицкий Сталин – их предвестник.
Полвека он где-то надежно скрывался, чтобы однажды в преображенном виде явиться посреди садовой лужайки, словно с призывом к уцелевшим собратьям: обнаруживайтесь!.. находитесь!.. ваше время пришло!
Слышали ли вы о красногородском Сталине? Мне кажется, это самый фантастический из всех, что можно представить. Его нашли не так давно в лесу, окруженном болотами, недалеко от латвийской границы. На взгляд непосвященного грибника (впрочем, грибники не доходят дотуда), это просто бетона кусок, вероятно сюда свалившийся с неба.
Не совсем так. Местом официальной прописки этого Сталина до известных событий было село с парадоксально несельским названием Красногородское (ныне Красногородск, поселок городского типа), и существовал этот Сталин в селе Красногородском в облике бюста. Когда пришел час принести его в жертву духу оздоровления социалистических общественных отношений, кто-то из красногородских начальников решил спасти бюст вождя, но закапывать в землю бюст не стали, с ним поступили затейливей – его замуровали в бетон. Огромную бетонную глыбу на тягаче отвезли далеко от села в лес, куда ныне и дорога заросла деревьями. С некоторых пор эти места – запретная пограничная зона.
Но память о замурованном Сталине еще теплилась в сознании стариков Красногородска.
Обнаружили его поисковики – из тех, кто разыскивает останки погибших воинов и артефакты войны. Причастны к открытию объекта и вездесущие телевизионщики, оперативно среагировавшие на соответствующую наводку, – правда, их интересовала новонайденная бетонная глыба как доказательство посещения инопланетянами данной зоны, будто бы аномальной, но ведь это и не важно теперь, – главное, открытие состоялось, причем открытие в обоих значениях слова: объект открыт – обнаружен, и объект открыт – представлен народу.
Что ни говорите, но Сталин, замурованный в бетоне и возвышающийся, подобно фантастическому термитнику, бесформенной глыбой над кустами черники средь редких сосен (да еще и в зоне запретной), это действительно круто. По-моему, такое открытие по выразительности сопоставимо только с открытием Ленина в Антарктиде. Помните, 31 декабря 2007 года норвежцы и американцы добрались до так называемого полюса относительной недоступности, и что они, изумленные, увидели надо льдами? Голову Ленина на высоком пьедестале! Рядом с нею и встретили Новый год.
Судя по отчету, опубликованному в областной газете «КурьерЪ. Псков – Великие Луки», поисковики, нашедшие сокровенную глыбу в приграничном лесу, первым делом попытались освободить Сталина от многолетнего бетонного плена – не получилось: кувалда сломалась. Лично меня в этой истории поражает больше всего то, что как раз тогда же кувалдой орудовали в других местах и с другими целями – на территории Украины громили памятники Ленину.
Этому придумано слово – «ленинопад». Хотя мне кажется слово «ленинолом» подошло бы лучше – Ленины все-таки с пьедесталов не сами падали.
Не могу судить об отношениях исторического Ленина с историческим Сталиным, там очень много противоречивого и неясного, но что несомненно для меня – между памятниками одному и другому существует тонкая, но прочная связь. Несчастья, со все ускоряющейся быстротой поражавшие после ХХ съезда популяцию памятников Сталину, многократно усилились после ХХII съезда КПСС, целиком посвященного открытому осуждению культа. Произошел стремительнейший, обусловленный директивами съезда, повсеместный демонтаж памятников Сталину – тех, что доселе умудрялись избегать расправы.
Тогдашний, хочется сказать сегодня, сталинопад, который охватил не только Советский Союз, но и страны социалистического содружества, по масштабности и стремительности был гораздо мощнее новейшего ленинопада, ограниченного территорией Украины. С памятниками Сталину было в их массе покончено, избежать окончательной утилизации удалось лишь немногим (хотя как посмотреть) – затаившимся в убежищах или под слоем земли. И тут стала расти популяция памятников Ленину – оно и понятно: партия брала курс на восстановление ленинских норм (так это тогда называлось). Очень часто Ленин занимал место, прежде принадлежавшее Сталину. Говорят, в Ясной Поляне голову Сталина на его собственном туловище заменили ленинской головой. В типовой композиции «Ленин и Сталин в Горках» Сталина на местах изымали вместе с частью скамейки, принуждая Ленина к общению с пустотой. А что касается вышеупомянутого Ленина в Антарктиде, наверняка бы рядом с ним где-нибудь во льдах мерзла поверженная голова Сталина, если бы освоение Антарктиды началось несколькими годами раньше.
События последних лет свидетельствуют об обратном процессе: Ленина меньше – Сталина больше. Конечно, в абсолютном исчислении количественный дисбаланс очевиден, но это тот самый случай, когда количество переходит в качество, определяя тенденцию.
Первой жертвой украинского ленинопада стал памятник Ленину в Киеве. 8 декабря 2013 года гранитную скульптуру низвергли с пьедестала и раздолбили кувалдами. Это был значительный памятник, со своей историей и репутацией. Перед войной он побывал в Нью-Йорке, на Всемирной выставке, вместе с другим творением Сергея Меркурова – памятником Сталину из такого же розового гранита. Этого Ленина уже не существует, а о том, каким был тот Сталин, можно еще отдаленно судить по объекту, выставленному в московском парке «Музеон», хотя назвать эту меркуровскую статую памятником уже нельзя, сие – музейный экспонат, в лучшем случае – элемент художественной антисталинской композиции, потому что фигура Сталина с отбитым лицом окружена здесь другими объектами, призванными напоминать о незаконных репрессиях.
Меркуров, говорят, был склонен к мистике, а по части снятия посмертных масок он был главным в СССР. У Ленина снял, а у Сталина – не успел: умер на год раньше.
Меркуровские памятники иногда получают по лицу. Судьба многих из них незавидна.
Как-то в Интернете появилась эротическая азбука С. Д. Меркурова, отнюдь не рассчитанная создателем на посторонних зрителей, – но, судя по отношению публики к этим фривольным картинкам, они запросто могут стать классикой жанра и не потерять своей легкомысленной популярности через двести лет. А вот суровые гиганты, созданные Меркуровым, казалось бы, на века и воплотившие собой в неизреченной полноте образы отца народов, просуществовали всего несколько лет. Свергнут был ереванский колосс при помощи танков, взорван колосс, возвышавшийся над каналом имени Москвы. Даже встречавший посетителей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки железобетонный Сталин, за которого скульптор удостоился своей первой по счету Сталинской премии, демонтирован еще при Сталине был – в силу недолговечности материала. А нового Сталина не успели воздвигнуть.
Вот и киевский Ленин недавно погиб.
И все-таки одному меркуровскому Сталину относительно повезло. Он хоть и уступил на постаменте место создателю Третьяковской галереи, но сам нашел себе во дворе этой же галереи убежище – стоит себе там в углу, в закутке, трех-с-половиной-метровый, гранитный, с не тронутым кувалдой лицом. Он словно хочет повторить судьбу шедевра Паоло Трубецкого – памятника Александру III на коне, переждавшего тяжелые для себя времена во внутреннем дворе Русского музея.
Знаменитая конная статуя Марка Аврелия, которой уже без малого две тысячи лет, была бы точно уничтожена в Средневековье, если бы ее по ошибке не приняли в Риме за памятник Константину Великому. Мне рассказывали о бюсте Сталина, которого принимали за бюст Орджоникидзе, и это спасло ему в свое время жизнь. Иногда памятникам полезно прикидываться.
ТЕРРИТОРИЯ СЕРОГО ЦВЕТА
Как бы ни отличались российские города один от другого, почти в каждом можно забрести в такое место, что уже и не поймешь, где ты – в Москве, Питере, Пскове, Челябинске? На картах городов такие территории обычно закрашивают одинаково серым негостеприимным цветом, это промзона. Речь идет не о крупных – часто не похожих на другие – промышленных предприятиях, действующих или не– (куда без пропуска все равно не пройти), а о всегда обширных городских проплешинах, обычно примыкающих к железнодорожным путям. Низкорослые строения, будто стесняясь неказистости, прячутся за деревянными заборами, стенами из бетонных плит, – гаражи, мастерские, пункты сбора цветного металла, базы, склады.
Экскурсий сюда не водят и мало охотников здесь гулять.
Как-то здесь все конкретно, предметно, рельефно, неизменяемо. Действительность здесь о себе заявляет с такой прозаической определенностью, что порой кажется ирреальной.
Промзона – это коллективный сон российских городов, всегда одинаковый и одинаково серый. Стая бездомных собак, игнорируя часовые пояса, бежит одновременно и в Красноярске, и в Пскове.
Промзона запросто может оказаться на территории бывшего кладбища (как, например, в Петербурге – на месте огромного Митрофаньевского, простиравшегося когда-то между двумя ветвями железной дороги). Кладбища у нас, известно, срывали охотно; из двух возможностей – кладбище, свалка – предпочтение отдавалось второй. Свалку промзоны два раза в неделю утюжит бульдозер. Здание склада металлоизделий когда-то было часовней. Перестроено. Пломбы, замки. Круглосуточная охрана.
Город застраивается и обустраивается, обтекая промзону и отодвигая окраины. Промзона остается внутри. Все глубже и глубже – внутри. Островом. Обширным родимым пятном.
«Кислород по четным. С 10 до 17» – вывеска. Посвященный поймет.
Что до воздуха, он, как ни странно, чист и даже вполне. Много зелени. (Все заросло.) Кусты сирени, высокие тополя. Чертополох. В конце мая, возможно, запоют соловьи. Если их не прогонят вороны.
Улицы в таких местах носят названия вроде Складская или Химическая, да и улицами назвать их можно с натяжкой; чаще это проезды, тупики, иногда, как дома, пронумерованные по порядку (жилых домов здесь, как правило, нет). В здешнюю топонимику редко привносилась идеология, даже переулок Строителей здесь вряд ли возможен, потому что, если уж Строителей, то где-нибудь в центре быть ему (и не переулку – проспекту), рядом с проспектом Ленина или Социалистическим.
Время здесь, понятно, стоит. Непонятно, как ему удается стоять, когда вокруг перемены и вроде бы кипит жизнь в большом городе. О том, что есть оно, время, напоминают даты, выложенные из кирпича на фасадах ремонтных мастерских и подобных им архитектурных сооружениях; почему-то любили у нас датировать такого рода постройки.
Я знаю заводскую трубу (должна быть в промзоне хотя бы одна заводская труба), на самой верхотуре которой значится 1991 – в этот год прекратил работу так до конца и недореконструированный заводик, – уже не вспомнить за утратой вывески, что делали здесь. Могучая, никогда не дымившая труба резко контрастирует с мелкими габаритами заводских корпусов, которые и разглядеть невозможно из-за покореженного забора и густых зарослей крушины. Зато труба видна отовсюду. Для чего ее строили? Не для того ли единственно, чтобы вознести под самые облака историческую дату распада великой державы? Можно сказать, культовое сооружение теперь. Памятник не только стране, которой уже нет места на карте, не только эпохе, но и гению слепой деконструкции, богу крутых перемен, чье тайное имя так и будет – Труба. Нельзя сказать, что труба мертва совершенно, – с наступлением сумерек на ней зажигается огонек, – мало ли кто летит по воздуху.
Никогда не знал, для чего на такие трубы ведет лестница: кому надо ползти наверх по металлическим скобам, когда объект уже возведен «до самого неба»? Ради того же фонаря для оповещения летательных аппаратов? – Громоотвод, – предположил мой знакомый, – надо ведь следить за громоотводом, а то как же? Ну-ну. Вспоминается фильм из пионерского детства, – там, назло фашистам-врагам (не помню, где) водрузили флаг на трубу. Иногда в газетах сообщают о городских безумцах, устремившихся к небу, их снимают с помощью вертолета. Много не пей. Высоко не лезь.
Сторож, увидев меня, вышел из дежурки-вагончика и смотрит туда, куда я смотрел только что, – на трубу. В глазах тоска. С недосыпа – зевает. (Понимаю. Сам сторожил.)
Вот что. Эти скобы-ступени, их наличие, предполагает, говоря просто, возможность долгого, дальнего, невозможно высотного взгляда – на что бы то ни было – а на все! – на, в частности, город, который обычно и называют городом, настоящим городом, и который отличен от всех других городов.
6
ТЯЖЕЛЫЕ ВЕЩИ Записки и вариации
Читатель ждет уж рифмы розы.
ПушкинМир, в котором мы живем, есть мир, в котором живем мы.
Из космологии1
– Подожди, – сказала она, – подожди. Я позабыла, как называется.
– Что называется? – переспросил он.
– Ну, ваше изобретение…
– Изобретение?..
– Вспомнила: дискредитатор времени5.
– Не дискредитатор, а дискриминатор. Временной дискриминатор. Ты перепутала.
– Дискредитатор мне больше нравится…
– Нет, дискриминатор… Такая штуковина с отрицательной обратной связью. Следящее устройство.
– Оно что – следит?
– Отслеживает всякую всячину. Тебе интересно?
– Ага, рассказывай.
Но прежде всего нужно завести часы, старинные стенные часобои в роскошном футляре красного дерева с резными стрелками на потрескавшемся циферблате. В этой комнате дозволяется делать все: стоять, например, на голове, если будет желание, доламывать чудом не доломанный приемник «Восток» или двигать мебель, нельзя только не заводить часы, иначе, предупреждала хозяйка, они остановятся и не пойдут уже ни за что на свете. «Но, Клавдия Ивановна, это предрассудок». – «А вот и не предрассудок, друг мой, они сто лет не останавливались». – «Да ведь была сказка такая – помните? – не знаю, кто написал…» – «Ах, Коля, какие сказки? Какие могут быть сказки, Коля?»
Коля и Оля. Известная формула, где переменные на сей раз обретают значения «Коля» и «Оля», уже была начертана кем-то – чудесная предусмотрительность! – на стене в парадной. Тогда, поднимая по лестнице тяжелый чемодан с книгами, он сказал: «Погляди». И она, поглядев, ответствовала: «Это не про нас», кажется, нисколько не удивившись. На четвертом этаже он долго возился с ключами («чужой замок – загадка»), она тем временем перегнулась через перила: «У!» – и еще громче: «У! У!» – в широкий пролет лестницы, но эхо не откликалось.
Иными словами, приехали.
Да, Оля, приехали. Стоим посреди непроветренной комнаты возле тюков и чемоданов, перед этими старинными только что заведенными часами и огромным зеркалом (а в нем еще двое); вечерний свет льется в окно (хозяйка убрала занавески), и чей-то голос, доносящийся со двора, зовет некую Нину смотреть телевизор; голубь, ковыляющий по карнизу, задевает крылом за стекло, а мы стоим посреди комнаты и глядим друг на друга, два счастливых человека – она старше его «на целых три года», а что до дисгармоний изза возрастных несоответствий, то брошюры с рекомендациями уже сданы в «Старую книгу» (по гривеннику, к радости обоих, минус две копейки комиссионных), и никаких советов не надо. Коля, обними Олю. «И пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих». (Я же начетчик.) Слышишь? Александр Степанович.
Александр Степанович, единственный сосед по квартире, сдержанно, ненавязчиво, негромко стучится в дверь: «Здравствуйте!»
– Здравствуйте. – Оля поправляет свитер.
– Я что? Я, значит, знакомиться…
– Нам говорила Клавдия Ивановна, вы – Александр Степанович.
– А вы Николай как бы и Ольга.
– Николай и Ольга.
– Очень приятно.
– Очень приятно.
– Очень приятно.
У Александра Степановича стриженая голова. Он огромен и неуклюж и тяжело дышит. Пришлось повернуться боком, чтобы не застрять в дверном проеме.
– Повезло вам со мной, ребята, даже завидую, как повезло. Человек я тихий, непьющий, благо… кхе-кхе… ушный. Благодушный, говорю. Только вот кашляю много. Простужаюсь. Работа такая, кхекхе, вредная…
Есть что-то располагающее в его манере жмуриться при каждом «кхе-кхе» и беспрерывно вращать головой; то в сторону Коли, то в сторону Оли обращено луноподобное лицо Александра Степановича; причем голова за неимением шеи растет прямо из туловища… Минуту терпения, Коля и Оля. Пожалуйста, Александр Степанович.
– Кхе-кхе, извините… Я ведь где работаю? В училище военном, в душевой, сутки через трое (может быть, чаю хотите, нет? а то я быстро чайник. Он у меня, знаете, на магнитной воде чай, я его, чай, на магнитной воде завариваю… Я, это…). Ну да. Сыро там, простужаюсь на сырости. Мне Самсонов, это друг у меня, Самсонов, знаете, Самсон в Петродворце золоченый, так он, значит, мне, Самсонов, говорит: брось, Александр Степанович, все равно на пенсии, а я, нет, говорю, надо чем-то заниматься в жизни… чем-то этим, общеполезным. Как же я брошу? Нет, не брошу… А сколько мороки-то с ними, с курсантами!.. Я им мыло порежу, значит, хорошее, хозяйственное, разложу по местам, чтобы каждому на месте сразу кусок был, так ведь они его обратно никогда не положат, разбросают кто где, собирай потом. А я порядок люблю, чистоту, значит… А уж в раздевалке наследят – о-о-о! – это еще тот народ, не соскучаешься. Много работы. И главное что?.. Что главное? – Александр Степанович замолкает, задумывается над своим вопросом. – А что-что? Может, чайку, действительно? Вы-то, значит, муж как бы и жена, кхе-кхе, получается?..
– Муж и жена, – подтверждает Коля.
– Теперь колец не носят, – с грустью заключает Александр Степанович. – А я так все один и один. – И, будто изумившись сказанному, печально разводит руками. – Как видите.
– Послушай, – сказала Оля, когда сосед удалился на кухню. – Он похож на Варламова.
– На какого Варламова?
– На Варламова, актера, помнишь?
Она достала из чемодана папку с открытками – старые фотографии императорских театров.
Ах, Варламов! Ну да, он помнил, конечно. Однажды у них появились случайные деньги – непредвиденная премия за новый спектакль, кажется, так, – они зашли в магазин на Литейном и, повинуясь внутренним голосам, дружно приказавшим израсходовать всю сумму, купили открытки. Пока Александр Степанович погромыхивал за стеной чайником, Ольга, присев на корточки, раскладывала на сдвинутых стульях: Варламов в роли купца, выпячивает живот, украшенный драгоценностями, и хитро щурится, будто на солнце; Варламов, улыбающийся в наклеенные усы – пушатся аж до самого второго подбородка, – беззаботно поднимает стаканчик с вином за здоровье хозяев, при этом видно, как разъезжаются ножки венского стула под невообразимой тяжестью актера; Варламов в кресле, без грима.
– Знаешь, он еще ничего не говорил, только появлялся на сцене, а зрители уже смеялись. Он часто не помнил текста, импровизировал как бог на душу положит, актеры просто не могли с ним работать… (А он перебирает ее волосы, длинные, рассыпанные, густые, и видит, что глаза у нее закрыты.) Стоял на одном месте возле кулисы, а из-за кулис подсказывали… О трагической роли мечтал. Колька, ты ведь не знаешь, как я тебя люблю? Нет? Не знаешь?
– Чай, чай, – оповещал из-за двери Александр Степанович.
В чайном клубе № 3 (группа Артамонова) не было сахара. Пришлось идти в № 2, к программистам, но и там сахар кончался; в комнате Воздерженцева чай не пили (руководитель темы!), а потому Коля Касаев, Николай Николаевич, был командирован к «левым» товарищам.
Все сотрудники филиала (политические разногласия тут ни при чем) делились на «правых» и «левых». В лаборатории справа от лестничной площадки работали «правые», в лаборатории слева – «левые». На лестничной площадке, или, иначе, «на пятачке», курили. А когда курили – общались. Говорили о спорте, проблемах пола и аномальных явлениях в атмосфере. Сколь типично все это, столь же и непоказательно: болтовня за чаем или в курилке, естественно, не отражает истинного состояния умов и направлений коллективной мысли. Сатиру, по крайней мере, автор писать не желает.
– Автор? – переспросил Касаев. – Какой автор?
Но тот, всезнающий, уже растворился в воздухе.
Анна Тимуровна, дежурившая на «пятачке», с чувством пожимала Касаеву руку:
– Поздравляю, ты автор изобретения!
– Спасибо, Анна Тимуровна. (О том, что заявка прошла, он узнал еще на прошлой неделе.)
– Слышали? Касаев получил «красный угол».
– У тебя первая?
– Первая.
– Первая и с первого раза.
– Хороший аналог нашли.
– Аналог – великое дело.
Или нет. Без всяких рукопожатий. Очередь в отдел головных уборов еще велика, можно придумать другой вариант.
(«Извини, Оля».)
Пусть Анна Тимуровна схватит его за рукав.
– Стоп, Касаев! Давай стихотворение.
– Господь с вами. Я за сахаром.
– Кочергин родился. Надо поздравить.
– Не умею. (Он набирает код на двери «левых».)
– Врешь. Все ты умеешь. Сочини. («Ктт/ттК», – сработал электронный замок.)
– Марину попросите, она сочинительница.
– Эх, Касаев…
Марина будет сидеть в комнате Пирогова, будет, закинув ногу на ногу, перелистывать «Сельскую молодежь» 6. Кто такая Марина? Марина – это Марина.
– А где Пирогов?
(«Посмотри, красивая шляпа?»)
– А Пирогов-то где?
– А там, с паяльником, – взмах рукой в сторону приборов.
Допустим, обед, а Пирогов работает.
– Петрович, ты здесь?
(«Я тебе говорю, гляди: шляпа». – «Да, Оля, я вижу». – «Я мешаю тебе? Ты придумываешь?» – «Нет, Оля, я так».)
– Здесь, здесь, – слышится из-за генераторов, осциллографов и друг на друге громоздящихся частотных измерителей. – Небось, к нам за сахарком пожаловал? Дай-ка ему, Марина, два кусочка.
– Мне восемь.
– Ого, восемь…
– Я, между прочим, «красный угол» получил.
Марина:
– Хорошо работаешь.
Пирогов:
– Это за воздерженскую?
– Нас три автора: Воздерженцев, Артамонов и я.
Марина:
– Хорошо работаете.
Пирогов:
– А мы тут про вашего Воздерженцева говорили.
Марина:
– Очень подозрительная фамилия.
Пирогов:
– Если предок воздерживался, кто же, интересно, род продолжил?
Марина:
– Темная история.
Пирогов:
– Темная.
Касаев:
– Ну, я пошел.
Ему вдогонку:
– Стой! Ты правда женился?
(Двигаемся, двигаемся, наша очередь.)
Но он уже набирает код в лабораторию правых. Анна Тимуровна скороговоркой:
– Театр – это прекрасно.
– Прекрасно, Анна Тимуровна.
– Актриса?
– Нет, реквизитор.
– Ох, тихомиришь, Касаев…
Двое покупают шляпу – черную, широкополую, одну на двоих. Ему чуть мала, ей в самый раз. У тебя что, голова больше? Выходит, что больше. Нет, погляди.
Ему идет. Он похож (говорит она) на чеширского кота. На чеширского кота в сапогах и шляпе. А ей-то как идет!.. А как? Очень идет. Правда?
– Простите, это мужская или женская?
– Без разницы.
– Я же тебе говорила.
На улице:
– Я по четным, ты по нечетным.
– Нет, до перекрестка – ты, а я дальше.
Но тут налетает ветер.
Ах!
Тарарах, чебурах, шахиншах.
О себе два слова. Я автор. Подробности – потом. Конечно, авторской бесцеремонностью сегодня удивить никого нельзя; если это прием, то не я придумал. Но я – автор, и есть причина напомнить о себе именно в этом месте. Иначе потом запутаемся.
2
Приветственный возглас начальника – откуда-то сверху и сбоку:
– Салют, коллега! Что читаем? (Встреча в библиотеке.)
– Да вот, читаем помаленьку…
– «Карамзин и поэты его поры». Кто такие?
– Милонов, Грамматин…
– Грамматин? Почему не знаю?
– Он жил в Костроме.
– Это хорошо, если в Костроме. Ты не забыл, что у нас конференция?
– У меня же доклад…
– А тезисы?
– Завтра к обеду.
– Это хорошо, если к обеду.
Виктор Тимофеевич Воздерженцев вышел из читального зала.
Что сказать о Касаеве? Рефлексивен и склонен к самовыражению. Книжки читает. Про таких говорят: многодумный. Человек пытливого ума и широких взглядов. Говорят: увлекающийся, сомневающийся, легковоспламеняющийся, самозагружающийся, т. е. ищет для себя проблемы, нормальный, говорят (в смысле «того»), хотя и «не от мира сего» тоже подходит. Если бы многочисленные гармоники его души (как-никак все-таки радиотехник) вошли в резонанс, он стал бы гармонически развитой личностью. Но резонанс – непростое явление.
Вот уже год с Касаевым происходило что-то неладное: он читал действительно все подряд, будь то газеты за любое число или объявления на водосточных трубах. В целом же он оставался взыскательным читателем – после работы шел в Публичную библиотеку и брал заказанные накануне книги, благо Оля домой возвращается поздно. С равным успехом он мог заказать на завтра воспоминания Аполлона Григорьева, «Астрономический вестник» за прошлый год или труды всероссийского съезда спиритуалистов (1907). Он сам подтрунивал над собственной всеядностью. А что делать? Наверное, не начитался в детстве. И вот в одном медицинском справочнике он находит описание симптома запойного чтения – это когда чтение ребенка, одностороннее и непродуктивное, обнаруживающее «аутистические тенденции», обретает «характер сверхценного образования». Николай Николаевич усмехнулся и отметил не без самоиронии, что давно вышел из «препубертатного возраста».
Огорчало одно: все забывалось. Все прочитанное легко забывалось, а крючковатые нотабене, рассыпаемые по блокноту щедрой касаевской рукой, напоминали ему самому не столько о важности цитируемых мест, сколько о бессистемности извлечений.
Все же нечто такое, что придавало его интересам некоторое направление, безусловно существовало. И даже облагораживало своеобразным, что ли, пафосом принципиальный дилетантизм Касаева. Внимание к третьестепенному – вот что. Тем более, когда третьестепенное, незначительное и, казалось бы, не стоящее никакого внимания, вдруг в силу обстоятельств представляется с такой двусмысленной выразительностью, что появляется повод задуматься о куда более важном. Не знаки вечного, а знаки преходящего волновали Касаева. Шумовой фон истории… Это у себя на работе они выделяли сигнал из смеси сигнала и шума. Вечером в читальных залах Публичной библиотеки он решал те же задачи обнаружения и фильтрации. Судьбы тех людей прошлого, о которых неизвестно почти ничего, интересовали Касаева, – известно только что были они, случились, мелькнули.
Например, экзальтированный студент, тот самый, что лишился чувств от восторга, когда Достоевский прочитал свою знаменитую речь о Пушкине, чему он потом рукоплескал – после тридцати, сорока, пятидесяти? На каком таком поприще он отличился? Не умер ли от чахотки, так и не завершив курса? Или, наоборот, поправился, удачно женился, растолстел, стал мух лупить и наливку пить и ни о каком «всечеловеке» больше не думал? Знал ли он, что его обморок, как примечательный штрих, благодаря Достоевскому уже не забудут и через сто лет будут говорить, что «кто-то упал»7, а вот речь Бартенева, произнесенную в тот же день (биограф Пушкина, едва ли не первый), забыли через неделю… Что за персона Леон Дикий, булочник из города Тулы? Он пришел в Ясную Поляну и огорошил Толстого вопросом: «Как сделаться хорошим писателем?» Толстой побеседовал с ним внизу, а потом, поднявшись наверх, сказал близким: «Я думаю, что он душевнобольной» (доктор Маковицкий записал толстовскую фразу). Почему-то ненормальный Леон не давал покоя Касаеву. Ведь стремился же человек к чему-то, переживал, придумывал что-то такое, стихи, вероятно, писал или прозу под стать своей дикой фамилии, а может быть, кличке (если не псевдониму), надеялся… Нетрудно представить себе, с каким сожалением и недоумением слушал великий Лев Толстой своего на французский манер тезку – Леона. Что же это за карикатура такая? Чего тут больше – фарса или трагедии, как в судьбе, например, Миши Неизвестного, отказавшегося назвать свое настоящее имя администрации сумасшедшего дома? Его забрали за то, что вещал перед народом «от Бога». Что он вещал? Почему Толстой плакал, когда ему говорили про этого Мишу?
Кто такой Нос? Он значится в списке вероятных адресатов Чехова. (Кстати, это ведь у Чехова в записных книжках: «Главное не Шекспир, а примечания к Шекспиру».) Сохранилось письмо, в котором Нос уведомляет Чехова о получении двадцати пяти рублей. Будучи казначеем Общества любителей российской словесности, человек по фамилии Нос принимал деньги на памятник Гоголю. Звали бы его по-другому, Касаев не обратил бы внимания, но – Нос! Гоголь… Коллежский асессор… И вот уже с каким-то святотатским остервенением он перелистывает именные указатели, библиографические справочники, подшивки старых газет. Нет нигде Носа: то ли не та фигура, то ли не там ищет.
Вот как оно получается: жил-был человек, положительный, честный (иначе бы не выбрали в казначеи), любил Гоголя, ценил российскую словесность, сам, быть может, грешил сочинительством, ходил на службу, имел принципы, мечтал о чем-то, во что-то верил. На бессмертие не претендовал. Умер. Забыли, как других забывают. А спустя почти столетие целое увековечили фамилию в примечаниях к Чехову, да еще в такой курьезной связи с Гоголем, что волей-неволей будоражит фантазию. Да кто они, что они, где они, все эти казначеи, секретари, председатели, окрыленные высокими идеями почетные и рядовые члены всех этих обществ помощи, поощрения, попечения, обществ любителей и ценителей, обществ трезвости и грамотности, и общеобразовательных народных развлечений, и покровительства животным, и взаимного вспомоществования учащим и учившим? Все хотели быть полезными. Все.
Журнал «Весы» опубликовал имена своих подписчиков: 845 человек – поминальный список петитом… Спустя пятнадцать лет всех этих адвокатов, чиновников, журналистов, врачей, музыкантов разбросает по свету кого куда, если останутся живы, а еще лет через десять въедливый историк литературы, пожелавший определить социальный состав читателей журнала, будет устанавливать личность каждого. Неужели, Касаев, и твоя фамилия когда-нибудь украсит примечания к чему-нибудь эдакому, когда окажется вдруг, что она к чему-нибудь эдакому причастна? Да хотя бы к тем же «Весам» или к этим трудам по спиритуализму, которые ты, молодой специалист с дипломом о техническом образовании, третью неделю читаешь в Публичной библиотеке? («Как вы говорите? Касаев? Ах, да, Касаев, тот самый, имевший касательство…» Чу! Подкрадывается социолог…)
Несправедливость какая-то имеет место быть в мире. Ну, допустим, хорошо, забвение так же в конечном итоге естественно, как и смерть человека, – ладно, смиримся. Но ужимки-то зачем эти судьбы там или чего другого, что распоряжается людскими несообразностями, зачем, говорю, та издевка, с которой откликается то самое на более чем понятное хотение людей не забывать друг друга и сопротивляться хаосу? Обезжизненные имена всплывают откуда-то, словно для того только, чтобы напомнить очередной раз: Лета глубока, время скоротечно, будто кто-то сомневается в этом. И каждый раз хочется в пику всем законам обнуления разглядеть человека за умершим именем, хоть черточку его какую живую, самую малость (пел же он «Утро туманное» на станции в Борисоглебске!), а если ничего не осталось, если все съедено, тогда взять грешным делом и придумать, домыслить, вообразить, а иначе зачем же все было и есть, зачем?
Вот где беда Касаева: слишком эмоционален. Все рассуждения свел к риторике – зачем да зачем. В блокноте появляется между тем пространная запись о той же Лете с двумя громоздкими деепричастными оборотами, но будем справедливы: название реки подчеркнуто двойной волнистой – признак самонеудовлетворенности.
Если же оставить метафизику в стороне, то все чудесно. Именно все чудесно, и чем буквальное понимать это, тем вернее. (Правда, метафизика здесь поворачивается иным боком.) В пору увлечения космологическими теориями, – собственно, эта пора жизни Касаева еще не завершилась, – он сильно сочувствовал идее обусловленности мировых констант фактом человеческого существования. («Представь себе только, все приспособлено для человека, будь другой масса протона или гравитационная постоянная „гамма»…» – «Ну ты и зануда!» – «…Нас бы тогда, – шепотом, – не было б вовсе». – На губы лег ее указательный: «Тс-с-с-с!» – «Да, да, – с усилием, – честное слово…») Или в детстве. Когда проснешься за час-полтора до школы и чувствуешь: сон еще не забыт, но забывается катастрофически быстро, несмотря на твои отчаянные хватьхвать, и ты будто не ты; все предметы, скажем, фаянсовый лев из михалковской басни или горшок со столетником, или битые гляделки дедовы (без дужки) на подоконнике, или веник в углу, – все дружно напоминают, освещенные солнечным светом, о своей неизменной всегдашности: ты вот спишь-спишь, соня, а мы ждем, как дураки терпеливые, и ты нас не видишь. Да нет, вот и я теперь с вами! Они: нашего полку прибыло! Но отстраненность от посюстороннего еще не преодолена полностью, потому как ты нарочно затаил дыхание, чтобы успеть изумиться самому вхождению в едва сбыточный мир действительности.
Иными словами, друг Касаев, надо уметь радоваться жизни (такая вот мудреная истина) и принимать ее с благодарностью, как тому учат популярные шлягеры. Даже эту очередь в гардеробе, молчаливо индевеющую под сердитым взглядом гипсового Щедрина (ибо мы до сих пор находимся в Публичной). Два гардеробщика, два неутомимых инвалида из «Трудпрома», – у одного, как весело объяснил он торопливой даме, рука на крючке болтается, – вот оптимисты! Их артистизм вызывающ. «Барышня!» На чаевые отвечают конфетами.
А на улице надо поднять воротник, потому что опять развеселился борей, осень как осень. И что бы еще сказать хорошее? Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге, – это при всей нелюбви к многолюдству! Продавец мороженого возле «Елисея» бросил нарукавники в пустую коробку – дескать, мешают, – и кружатся листья по Малой Садовой. А вот и памятник Гоголю (нет, не тот, другой), вернее, отсутствие памятника, – только с Гоголем приключится такое! Здесь, в двух шагах от Публичной библиотеки, напротив кинотеатра «Родина», стоит в сквере замечательная гранитная тумба; горожане настолько к ней привыкли, что уже не читают потускневшую надпись: «На этом месте будет сооружен памятник…» А может, он и действительно сооружен на этом богохранимом месте, да мы только не видим его, и сидит недоступный зрению Николай Васильевич на гранитном пьедестале, как в кресле на том единственном дагерротипе, наблюдает устало за происходящим. Незримо присутствующий… Это же лучший монумент Гоголю! Незримо присутствующий 8.
А дома Александр Степанович по своему обыкновению ворчит на курсантов за отсутствие хваленой дисциплины – представьте, мыло опять не убрали! – и марширует, пока нет Оли, в солдатских кальсонах по коридору, – их-то у него полтора десятка! Думает, не приготовить ли ужин на базе бульонных кубиков? Или сварить яйцо вкрутую?
Скоро придет Оль в нашу юдоль, глядишь, ниотколь, все пойдет своим чередом, кошкин дом, тили-бом… Но что есть чертовщина, как не Самсонов?
О Самсонов! Страшный, ужасный…
Три Столба называется это место; два деревянные – вот они, а третий, железобетонный, возвышается в дальнем углу пустыря за овощным ларьком и кустом шиповника. Около Трех Столбов я встречаю тебя после спектакля, жду на троллейбусной остановке и, чтобы убить время, сочиняю небылицы про горожан, которых вижу, всякие глупости, как в детстве, всякую чушь, как придется. Двое вышли из дома, они шахматисты: один с фонариком, другой с корзиной – сражались, не щадя живота своего, до самой ночи, но после двенадцатой ничьей обнялись полюбовно и пошли собирать шампиньоны в парке имени Кирова.
На втором этаже к окну подбегает усатый мужчина в домашнем халате – очень известный изобретатель; он сконструировал только что Усилитель Вероятности9 и теперь глядит в окно с надеждой: вдруг хлынет заказанный дождь? А вот супруга его задергивает властным движением занавески: пустое ты дело, муж мой, затеял, эх, пустое, – и гасит свет в комнате. А этот в черном берете и тоже с усами (конспиративными!) несет валторну, старший мастер скотомогильника, будем знакомы, оприходовал по фиктивным накладным (рубль тридцать за штуку) без малого тысячу кошек, – а хотел ведь стать музыкантом! Завтра, други мои, суд и позорище, а сегодня музыка, пам-парам: Шуберт и Брамс, пам-парам, и до утра Гендель! Какая же это валторна? Просто резиновый шланг неизвестно зачем с какой-то воронкой. Нет, не валторна. И медленно-медленно-медленно выплывает «восьмерка» из-за угла соседнего дома, и, вглядываясь напряженно в светящееся нутро троллейбуса, я отступаю немного назад, в темноту пустыря, чтобы ты не увидела меня первой.
Знаешь, я хочу тебя опередить, хочу застать в тот момент, когда на лице твоем нельзя прочесть ничего, кроме отрешенности и усталости. Через секунду ты будешь искать меня глазами и твой взгляд скользнет по мне, не замечая меня, и тогда сердце мое начнет вдруг сжиматься от какой-то неизъяснимой сентиментальнейшей нежности. И я сделаю шаг навстречу; троллейбус остановится, откроются двери. Каждый раз я пытаюсь запомнить, запечатлеть в памяти – хотя бы ненадолго, хотя бы до утра – образ едва уловимого перехода от выражения сосредоточенности на твоем лице до улыбки, когда глаза наши наконец встретятся. Фокус такой получается только здесь, у Трех Столбов, на остановке троллейбуса; в иных местах, где мы назначаем встречи, сколько бы я ни высматривал тебя из потока прохожих, ты всегда подкрадываешься незамеченной.
– Ты не заметил, кстати, внизу открыт подвал?
– Кажется, открыт.
– Будут кошки мяукать.
– Опять не выспимся.
– Что-то устаю от лестницы. Крутая больно.
– Эх ты, старуха.
– Старуха.
– Может, ты беременна?
– Нет, не беременна. Не смотри.
(«Из окна твоей комнаты окна соседнего дома…»)
– Прочесть стихотворение?
– Прочти.
– Из окна твоей комнаты окна соседнего дома, словно комикса кадры с последней страницы журнала для детей и подростков та-тата, та-та-та влекомый тра– та-та-та, та-та-та не знала.
– И все?
– Больше не придумал.
– А что ты скажешь, если я предложу тебе котлету.
– Холодную?
– Как пожелаешь.
– Скажу спасибо.
А еще я скажу вот что…
Он удивлялся (немного) той серьезности, с которой она воспринимала его тягу к самовыражению (если об этом можно говорить без иронии), или, точнее, к выражению своего мирочувствования, или еще чего выражению, – чего она не знала, да и сам он не отдавал себе в этом отчета. Но: я тебе мешаю? Я больше не буду, – и залезала на тахту, по-турецки подобрав под себя ноги; в руках поблескивали спицы, начиналось таинство вязания. Он же, предоставленный самому себе, приступал к тому, что она называла работой. Он работал. Сидел за столом, глядел куда-то в пространство и думал. У него была склонность (слабость? способность?), которую кто-то из классиков определил как «привычку записывать». И он записывал, испытывая при этом необъяснимое беспокойство, а что – неважно, впечатления прожитого дня, как правило. Он действительно, не знал, что должно получиться и, главное, зачем; он просто ощущал необходимость написать несколько слов, чтобы вычеркнуть больше половины и оставить самые нужные. Ими он хотел выразить все. Ни много ни мало: все. И постоянство маятника, качающегося на часах, и танец огромного комара на стене над обоями, и напряженность дыхания неугомонного А. С., шаркающего по коридору, и неожиданное начало дождя (первые капли бьются в стекло, как мотыльки, когда мчишься в автомобиле), и желание жить – невообразимое! – вцепившись, будто что-то случилось, в бряк поварешки, в тормозной скрежет, в дурацкую фразу «брови красят против их роста», – услышанную сегодня в автобусе; все и все сразу: жизнь, счастье… Или как же у Пушкина? Семья, любовь etc. – религия, смерть. Нет, не об этом. Это был не дневник; о дневнике нельзя знать никому, одна лишь догадка о его существовании, пусть даже самого близкого человека, уже обессмысливает идею абсолютной искренности. Он думал: судьба дневника – огонь, и недоумевал, как чьи-то дневники попадали к читателям. Он просто «работал», искал слова тут же, на глазах у Оли. Если угодно, упражнялся в стиле (так проще); правда, любое упражнение есть подготовка к чему-то, а он не преследовал целей, находя самодостаточность в самом процессе изобретения фразы. Пытался остановить мимолетное с помощью грамматических конструкций; мимолетное пролетало мимо, у него ничего не получалось, – но он пытался, – и чувствовал, что получается что-то (что-то «чуть-чуть»), и тогда удивительная радость вырастала внутри него, и эта радость становилась еще радостней оттого, что, отражаясь на его лице, она передавалась и Ольге. Он умер бы от стыда, наверное, если бы здесь, на тахте, сидел другой человек, – подумать страшно, кто-то увидел бы его лицо – одухотворенное, блаженное, с дурашливой улыбкой: он пишет! Оля между тем не торопясь вязала из распущенной бабушкиной шали теплый свитер с зигзагообразным рисунком. Она никогда не читала того, что он доверял бумаге, и не просила прочесть, он же никогда (почти никогда) не читал ей этого, но она понимала, что все это надо, и он был ей за то благодарен.
Однако Самсонов…
Геннадий Валентинович Самсонов, конечно, фигура колоритная, настолько колоритная, что больше таких колоритных фигур в природе не существует. По-моему, Самсонов – недоразумение. Но коль скоро он есть, а это факт, мы должны считаться с его индивидуальностью.
Самсонов является по душу Александра Степановича, словно герой готического романа, ровно в полночь. Каждую пятницу в полночь – с невероятно огромным портфелем, основательно перепачканным грязью. Некоторое время топчется на лестничной площадке, приводя себя в надлежащий вид: стряхивает землю со складок своего плаща, вытирает ноги и причесывает бороду. Сколько бы Самсонов ни вытирал подошвы резиновых сапог, он все равно наследит, когда, распространяя запах плесени и тухлятины, стремительно побежит в комнату Александра Степановича. Вдруг разволновавшийся Александр Степанович обратится к соседям с просьбой не беспокоиться: все, дескать, хорошо, скажет он, это Самсонов, кхе-кхе, завтра я вымою пол в коридоре, спокойной, товарищи, ночи, и закроется на ключ в своей комнате. И будут они жечь свет до самого утра, а утром, еще до зари, Самсонов исчезнет.
Впервые увидев его, Оля сказала:
– Он что, из могилы?
А Коля, тонкий ценитель Гоголя, сказал:
– Не знаю.
3
Что-то вроде реверанса: выбирает автор подходящий момент и начинает советоваться с читателем. Этично это или неэтично, спрашивает, когда герои говорят о Пушкине? Или о Лермонтове – этично это или неэтично? А то еще лучше – возьмет и пожалуется на собственную неискренность, будто тем самым окажет читателю знак особого доверия. Художественная правда, например, может сказать автор, на то и художественная, что неправда, как же мне быть откровенным? И в самом деле, как? От доверительности до кокетства один только шаг; заботу автора о собственном образе можно объяснить слабостью к самолюбованию, да и вообще проза такого рода в силу распространенности приемов грешит вторичностью. Тут уж дело того, кто пишет: не думать об этом и гнуть свою линию, не пугаясь упреков, или же, прикинувшись как бы неосведомленным, попытаться обаять взыскательного читателя мнимым своим простодушием; а то еще, как в данном случае, – решиться на объяснения.
Страсть к объяснениям – это мое несчастье. Любой жест, буде покажется выразительным, я должен оговорить как-то, словно извиниться за какое-то, что ли, надувательство. И это не установка на стиль, а черта моего характера, особенность склада ума, я такой – я постоянно думаю о том, что я думаю. Больше того, я, автор, думаю о том, что думают другие, например, что думают другие про то, как я думаю о том, что я думаю. Я вообще неравнодушен к чужому мнению, а поскольку все эти мысли о мыслях вещь далеко не новая, то в плане самооправдания (опять-таки) я должен (должен!) дать понять (понять должен дать…), что руководствуюсь не столько желанием пофорсить, сколько разобраться в путаных своих побуждениях. Стало быть, что-то неладное с автором происходит. Стало быть, заволокла кручинушка светел месяц. Вот именно. О том и речь.
Хорошо. Однако при всех злоупотреблениях личным местоимением «я» сам-то я остаюсь до сих пор абстракцией – как бы и не человек вовсе. Между тем я обладаю качествами. Согласно характеристике с места работы (прошлым летом меня призывали на военные сборы), я «общителен, инициативен, морально устойчив», – и разве это не роднит меня с большинством соотечественников? По социальному положению я – служащий. То есть хожу «в контору» и сижу за полированным столом. Работы у меня много. В жизни я не такой зануда, каким представляю себя на бумаге; напротив, по роду деятельности я обязан бороться с многословием, я – редактор. Да, пора наконец признаться: я исполняю обязанности редактора отдела науки и техники. Я редактирую. Я вычеркиваю слово «который» и убираю многоточия. В детской публицистике (наше издание подростковое) я приветствую раскрепощенность и занимательность. Больше парадоксальности. Смелее. Не надо жевать резину: «К сожалению, уважаемый Евгений Савельевич, Ваш материал о метагалактическом коде не отвечает возрасту наших читателей. Рукопись возвращаем». Ночью, когда большинство людей спит, я перевоплощаюсь посредством письма, – что-то из области оккультизма, – в другого. Хуже того: я вселяюсь в другого со всеми своими комплексами и заморочками. И это называется «творчество».
Он звонит иногда на работу. Иногда я ищу встречи с ним. Он живет рядом – две автобусные остановки. Он любит поговорить. О жизни говорим, о философии, о литературе – это еще те беседы… «Как жена?» – «Ничего, тебе привет». – «Спасибо, и ей такой же». – «Спасибо». Его жена – еще та жена. Наши жены – пушки заряжены. Его любимая фраза: «Все чудесно!» Все чудесно. Ночь. Я сижу и злюсь над чистым листом бумаги. Я неискренен и честолюбив. Я? Нет, мои дорогие, вы и представить не можете, какую власть я имею над вашими образами. И спрашиваю себя: какую?
Два зрачка утоленного страха Потускнеют едва ли, сужаясь, Перед вечностью, будто душа есть У великого ересиарха. Только нет ни покоя, ни сна нет, Только некуда больше податься. Не искупится ношей всезнанья Неприкаянность душепродавца…«Фауст». Увы, мюзикл.
– Пожалуйста, не пародируйте Шаляпина!
– А я и не пародирую, – обиделся Мефистофель.
– Не надо, друзья, – произнес примиряюще автор текста (не Гёте, не Лессинг, не Морло). – Мне нравится.
– Да, – сказал режиссер, откидываясь на спинку кресла. – Да. – И глубоко задумался. «Не науку хотел он завоевать, – он хотел через науку завоевать самого себя, свой покой, свое счастье» (Тургенев о Фаусте). Скоро премьера. На премьере Игорь Максимильянович сядет вон там, в центре зала, примостится на стуле в проходе, положит ногу на ногу и будет заносить в блокнот замечания. Что же вы занесете, Игорь Максимильянович, если темно? Что-нибудь да занесем, у нас хорошее зрение.
– Почему, – обращается режиссер к Мефистофелю, – вы держите в руке что – не знаю?
– Крючок, – отвечает Мефистофель.
– А была кочерга.
– Где кочерга? Я взял то, что мне поставили.
– Где кочерга? – спрашивает постановщик старшего реквизитора.
– Где кочерга? – спрашивает старший нестаршего.
– Где кочерга?
На сцене появляется Оля.
– Вот.
Вот так. Это называется «зарядить». На профессиональном жаргоне реквизиторов это называется «зарядить», то есть поставить предмет на нужное место. Кочерга «заряжена».
– И потом, – говорит Фауст, – мне мешает вот это.
– Ну так подвиньте это правее.
– Правее нельзя, – проснулся10 пожарник, – правее нельзя. Железный занавес!
– Немного можно. Двигайте.
И двигают.
А мы? А что мы должны подумать, непосвященные? Вот что: железный занавес – это на случай пожара. Нельзя под ним размещать декорации.
– Позвольте, – протестует пожарник. Но режиссер повернулся в нашу сторону.
– Кто это? Что это? Откуда?
И вглядывается в пустоту, хмурясь:
– Или мне померещилось?
«Дорогая редакция журнала „Здоровье»! Пишет Вам Александр Степанович Воронцов, пенсионер, хотя и работаю. Много лет я читаю «Здоровье», мне очень нравится Ваш журнал. Особенно мне нравится то, что Вы отвечаете на вопросы. Выступите, пожалуйста, с моим вопросом как с предложением. Вот уже целый год я экспериментирую на душах. Я работаю с душами. Все души я снабдил магнитами. Правда, мои магниты не очень мощные, и вода магнитится слабо, и потом их срывают, когда не мое дежурство, но все равно результат хороший. Он подтверждает все это о целебности магнитной воды. Если в прошлом году, когда без магнитов, болел гриппом и простудами каждый четырнадцатый посетитель нашего отделения, то в этом году, когда с магнитами, уже каждый восемнадцатый, и сам я стал себя чувствовать гораздо лучше. Я прошу Вас, дорогая редакция журнала «Здоровье», обратить внимание на мой опыт и строго спросить на страницах журнала с начальника фабрики, где делают души, когда же он наконец будет выпускать их с магнитами? Ведь это так просто! С глубоким уважением Воронцов (Александр Степанович)».
– Ну как? Теперь нет ошибок?
– Ерунда какая-то.
– Почему ерунда?
– По кочану, Александр Степанович. Вы же не маленький.
– Я дело пишу.
– Вам, наверное, Самсонов такую глупость посоветовал.
– Самсонов знает.
– Плохо он влияет на вас… ваш Самсонов.
– Тише, Оля… Не надо.
– Вы бы меня попросили, я бы вам все объяснила.
– Что вы объясните, я сам знаю. Я хочу знать, что они скажут.
Кстати, о театральных профессиях. Реквизитор он и есть реквизитор, с ним все ясно, все хорошо, искусство же гримирования… гримирования… искусство грима – стыдно сказать – всегда возбуждало во мне подозрительность. Что-то не нравится мне в этом искусстве, хоть режьте меня – не нравится.
Мне было семь лет, когда я очутился в гримерной; известное дело: зеркала, запах вазелина, окна завешены черным, – Клавдия Ивановна, знакомая деда, взяла меня к себе на работу. Я тихонечко сидел в уголке и наблюдал за метаморфозами. Сначала было интересно – потом надоело.
– Хочешь я покажу тебе, каким ты будешь в старости?
Я испугался.
Дома, стоя у зеркала, я корчил рожи и плакал.
Мне и сейчас не по себе, когда в предметном указателе «Основ сценического грима» читаю:
бельмо
блеск глаз и потливость
глаза слепые
морщины, их заглаживание
слезы, создание их иллюзии.
Наша первая встреча. Лет пять назад, шесть. Вспоминай: Крым, Судак, улица Чехова или Гоголя, кого-то из классиков, а может быть, переулок, на углу водокачка. Это недалеко от автобусной станции, помнишь? У меня, правда, была борода, как и у твоих приятелей, они мне сразу не понравились, бородатые в шортах (ничего мне не нравится, да?), – один такой широкоплечий верзила, другой худой и вроде бы косоглазил, а третьего уже не припомню. Вам принадлежала веранда, еще кто-то спал прямо под яблоней на раскладушке, а мне тетя, по-моему, Дуся, может быть, Маня, уступила сарайчик метр на полтора возле будки, допустим, Полкана. Судя по рюкзакам, вы засиживаться не собирались, был август; я же попал в Крым, как это ни странно, по служебной необходимости, – в смысле времени и места не самая плохая командировка, плохо только то, что человек, с которым я должен был встретиться, оказался не тем человеком, за которого принимали в редакции. Я уже тогда появлялся в редакции, сотрудничал с отделом науки, представь, и техники, писал кое-что, но о художественном, то есть о том, чем сейчас грешу, – а ведь это «художественное», стало быть, попробуй разберись, где правда! – тогда еще не помышлял и в дела чужие вмешиваться тоже не думал, тем более перевоплощаться в кого-то, – я же еще не знал тебя, а ты еще не знала своего К., а твой К. еще не знал нас обоих…
Дальше. Я обгорел на солнце. В тот же день как приехал. Помнишь, к вам приходил некто попросить тройного одеколона. Вы, кажется, ели арбуз, нет? Да, ели арбуз, я хорошо представляю: твои умиротворенные довольные спутники и много арбузных корочек. Тройного одеколона у вас не оказалось, и ты, именно ты сказала, что лучшее средство от ожога – это простокваша. У вас как раз оставалась простокваша в бутылке (или кефир), что-то такое кислое, неважно что, – в общем, это очень славно, что кислой простокваше найдется применение, хотя я теперь думаю: зачем простокваша к арбузу? Да и вообще на такой жаре простокваша? Забавные подробности, правда? И главное, в духе Александра Степановича. Ну ладно. На другой день, вернее вечер, я имел счастье тебя провожать до дома. Где мы встретились, уже не помню, и почему ты была одна – тоже, а ведь была одна; я-то шел от Генуэзской башни через кукурузное поле и видел зайца (честное слово, зайца, а вот поле, наверное не кукурузное), шел через поле, видел зайца, потом, уже в городе, мы почему-то встретились. Я сказал: «Соседушка», и употребил еще какое-то велеречивое выражение со словом «разрешите», ты как-то сразу включилась в игру, и те пятнадцать-двадцать-тридцать минут до самого дома мы проболтали как давно знакомые люди. Разумеется, я спешил произвести впечатление, а потому врал черт-те что, я врал, ты смеялась, и я еще, помню, удивлялся тому, что вот можно так легко смеяться – просто и непринужденно, будто это большая – естественный смех – редкость (хотя так оно и есть, наверное), и тоже смеялся. Да! Ты рассказала мне, как «провалилась» в свой театральный, не сумела изобразить ласточку, – странные у вас экзамены, – причем, рассказывая про свою неудачу, ты так выразительно разводила руками, хотел сказать «крыльями», и наклоняла голову набок, что, будь я на месте экзаменаторов, поступил бы иначе.
Ну, что еще? Звезды для антуража (первые), цикады, запах моря. Голые плечи твои. Шея. Губы. Только не надо эпитетов, ресурсы литературности побережем для Н. К. – пригодятся. Глаза. Глаза нахальные. С вызовом. Короче говоря, когда появился кто-то из твоих молодцов с фонариком, я уже был хорошенький. Всю ночь проворочался: во-первых, душно, во-вторых, кожа лезет, в-третьих, не согнуть ноги в коленях (метр на полтора), в-десятых, не дремлет Полкан, потявкивает, тяв да тяв, и наконец, в-сто двадцать шестых, думал я, везет дуракам, а симпатий к твоим друзьям я не испытывал, везет дуракам, думал я и гадал, кому из них повезло больше. Утром, влюбленный и утомленный, я собрал пожитки, сел в автобус (бронь) и укатил в Симферополь. Не хочу сказать, что все эти годы я думал о тебе, просто, когда вспоминал Судак, ты, радость моя, сама собой вспоминалась.
4
– И наконец, об эксперименте. – Он повертел указку в руке, посмотрел в окно: десятилетняя дочь вахтера пускала около ректорской «Волги» мыльные пузыри, пузыри лопались. – Да, – продолжал Николай Николаевич, – собственно алгоритм определяется следующим выражением. Тут все ясно. Моделирование на ЭВМ11 дало ожидаемый результат, вот соответствующие характеристики, обратите внимание на заштрихованную область – выигрыш три децибела. Далее: имитатор, структурная схема которого…
Рядом с девочкой сидела рыжая кошка, она внимательно следила за мыльными пузырями, за их возникновением, существованием и смертью; когда лопался очередной пузырь, кошка вздрагивала от неожиданности, – очевидно, капельки мыла попадали ей на нос. Николай Николаевич перевел взгляд на коллег. Виктор Тимофеевич за первым столом удовлетворенно кивал головой, скорее по инерции, чем осознанно. Остальные, кто как умел, пытались изобразить на сумрачных лицах по крайней мере заинтересованность – пятый доклад до обеда, шутка ли это?
– Да-да, имитатор, – подсказал Виктор Тимофеевич. Касаев будто очнулся.
– Как говаривал еще князь Одоевский Владимир Федорович, – медленно произнес он, удивляясь собственной непредсказуемости, – наблюдение есть проверка теории. Так вот…
Аудитория оживилась.
– Кто, кто говаривал? – закрутили головами нерасслышавшие.
Виктор Тимофеевич задвигал бровями, самодеятельность он не приветствовал. Между тем докладчик рассказывал о выборе весовых коэффициентов.
– Краткие выводы, – сказал он и сделал краткие выводы. – Спасибо за внимание. – И отошел от доски.
– Будут ли вопросы к докладчику?
Вопросов было немного.
Встал седовласый старичок из смежной организации, лет восемьдесят на вид (между прочим, лауреат едва ли не Сталинской премии), встал и, почему-то глядя в окно, сказал с выражением:
– Достойно! – Словно «достойно» это относилось к той, пускающей мыльные пузыри девочке. – Достойно, – повторил старичок, – но у меня есть конкретный вопрос. – Вопрос оказался каверзным. Не успел докладчик и рта раскрыть, как старичок уже сам ответил. Сами задаем – сами отвечаем. Николаю Николаевичу оставалось лишь согласиться:
– Абсолютно верно.
– Теперь понимаю, – сказал старичок и сел на место.
Аспирант из межотраслевой лаборатории был менее благодушен.
– Так как, вы говорите, выбрали веса? (Сказать «весовые коэффициенты», понятно, признак дурного тона; во время доклада он морщился, хмурился, цокал языком, усмехался и покачивался на стуле, угрожая с грохотом рухнуть навзничь.)
– Как решения системы дифференциальных уравнений, вот они на доске.
– Как же вы решаете, если не учли то-то и то-то?
– Почему не учли? То равно единице, а это положили равным нулю.
– Не слишком ли смелые допущения?
– В рамках данной модели допущения вполне приемлемые.
– Эти допущения дадут вам такие альфа и кси, которые съедят все ваши три децибела.
– Ну уж нет! Как легко видеть, альфа обратно пропорциональна дисперсии сигма, а если иметь в виду… и т. д., и т. п.
– Очень мило, – сказал аспирант, не дослушав до конца.
И тут не выдержал Воздерженцев.
– Прошу прощения! Не много ли вы на себя берете? Вы отрицаете совершенно очевидное. Прежде чем выступать с таким, извините, апломбом, следовало бы ознакомиться с нашей статьей в последних трудах института, там все доступно изложено. – Слово «доступно» он выделил голосом. – Есть ли вопросы по существу?
Все молчали. Те, кто сидел поближе к окну, смотрели на девочку. Огромный мыльный пузырь проплыл над карнизом и застыл перед открытым окном, как шаровая молния. «Влетит или не влетит?» – подумал Касаев. Пузырь лопнул.
– У меня по существу.
(Лицо просветленное, ряд последний.)
– Вы, если не ослышался, упомянули князя Одоевского?
– Да так, к слову пришлось…
– Был бы рад записать источник цитаты.
– Пожалуйста.
– Спасибо.12
– Вот и прекрасно, – оживился Воздерженцев. – Товарищи! Не пора ли нам пообедать?
«Предложенный способ доказательства несчетности множества рациональных чисел глубоко ошибочен. Построенная Вами десятичная дробь (не 1), (не 0) (не 5) (не 3)… будет непериодической, поэтому соответствующее ей число…»
Представляю: он складывает письмо пополам и прячет в конверт. Надо в особую папку – переписка с академическими журналами. Ух, какой сочинит он ответ! Ух! А за окнами дождь. (В Костроме сезон дождей.) Размокропогодилось. И вот что странно: окна-то выходят на площадь Мира, на бывшую Сенную. В Ленинграде площадь Мира тоже называлась когда-то Сенной, и живу я в двух шагах от этой площади. Странное, очень странное совпадение.
В Костроме я ни разу не был.
Молодой человек, спросивший о князе Одоевском, был не кто иной, как Евгений Борисович. Тот самый полумифический Евгений Борисович из Костромы, легенды о котором уже третий год бытуют в среде математиков и нематематиков. Памятуя об исключительной скромности Евгения Борисовича и об его неприязни к собственной популярности называть фамилию нахожу излишним.
На конференции (говорят, ученый секретарь института сам звонил в Кострому) Евгений Борисович выступил с двумя докладами. Первый – небольшое сообщение на секции математического моделирования. Как и предполагалось, оно заинтересовало узкий круг специалистов (двух человек). Основной же доклад организаторы конференции поберегли на десерт, причем название темы в программе не указывалось (видимо, оргкомитет опасался переаншлага), зато наименование рубрики – ни много ни мало «Трибуна» – выделялось жирным шрифтом: все ожидали дискуссию. К сожалению, мне не довелось присутствовать на этом докладе, но то, что я знаю, взято из первых рук: Евгений Борисович произвел ошеломляющее впечатление. Он обратил пафос доклада против гегелевского понятия «дурная бесконечность»; трудно сказать, чего здесь было больше – математики или философии. Остроумно опровергая положение Кантора о несчетности действительных чисел и предлагая свою аксиоматику, Евгений Борисович уверенно доказывал необходимость существования Самого Большого Числа; щемящую тоску по оному, говорил докладчик, испытывали многие мыслители прошлого (в частности, цитировался Чернышевский). По словам очевидцев, после доклада творилось чтото невообразимое. Одни пели панегирик Евгению Борисовичу, другие – их большинство – обвиняли в математической ереси.
Полемическая работа о Больших Числах до сих пор, увы, остается неопубликованной, что, конечно, делает некорректным ее изложение, и без того чреватое вульгаризаторством. Для нас важно другое. Рыбак рыбака видит издалека. Евгений Борисович и Николай Николаевич стоят в очереди за кофе и возбужденно о чем-то беседуют.
Люблю слова: «давеча», «дескать», «бывало»… Бывало – оно как на горе камень: бы – и через себя переваливается: вало. И покатило за собой воспоминания.
Что-то простодушно-смиренное в этом «бывало» – словно непритязательное «прости» за беспокойство прошлого.
– Бывало, зайдешь к Сорокиным, там Ленька, покойничек, Павел с гитарой. – Старики перебирают фотографии. Она терпеть не может слова «покойничек», а он еще так произносит, будто укоряет ее: вот пилишь меня с утра до ночи, пилишь, а ведь я тоже смертный.
– Когда я учился в Политехническом…
А я-то когда учился?
Кажется, совсем недавно. Вчера. И вот уже вычитаешь в уме из двузначного двузначное. Неужели так быстро летит время?
Мы на гребне науки. Мы-то на гребне, мы знаем. Первые микропроцессоры, первые микроволновые устройства на базе ультразвуковых «элзэ» (линий задержек), мало ли что первое – все в наших руках! Мы учимся, мы работаем, мы кутим в общежитии на Новоизмайловском. У нас еще те перспективы! Юмористы острят с эстрады: раньше инженер «ах-ах», а теперь «ха-ха», – и будущие инженеры в зале дружно аплодируют остроумию и, как им кажется, смелости юмористов. Третья часть выпуска будет работать не по специальности.13
Я хотел вспомнить очередь. Обыкновенную очередь в кафетерий – не более. «Бывало, стоишь в очереди…» Тетя Шура-буфетчица воодушевляет хвост призывами:
«Стойте, милые, стойте, всех напою…» У нее были свои любимцы. Она приветствовала их прибаутками и называла каждого «мой». «Этот мой, ему без очереди». Без очереди обслуживала тех, кто брал тройные и четверные порции кофе, – в дни стипендии мы позволяли себе такие жесты. Я подозреваю, что тетя Шура плохо считала: она всегда спрашивала, сколько дать сдачи. Пила кофе прямо из блюдечка, сидючи около бака с сосисками; тем временем ее заменяла у аппарата посудомойка-подружка.
Бывало, профессор Тропинин, выйдя на середину зала, переливал кофе из чашки в стакан (чтобы остудить) и обратно; игнорируя улыбки окружающих, он отстаивал свое право на чудаковатость.
В общем, они познакомились, наговорились и адресами обменялись. Придумывать подробности, как с тем докладом, что-то пропала охота. Скажу только, что все дороги ведут в Рим.
– Что же вы, Николай Николаевич, в собственном соку варитесь, да еще здесь, в Петербурге?
– Вот что, – строго сказал Евгений Борисович, – передайте-ка привет одному человеку (сам не могу: он сейчас в командировке), буду весьма признателен. – И он дал ему мой рабочий.
5
Пламенный… Хладный…
«Когда будет составлен словарь Пушкина, – читаем у М. Гершензона, – то несомненно окажется, что никакие определенные речения не встречаются у него чаще, нежели слова пламя и хлад с их производными или синонимами в применении к нравственным понятиям…»
Соблазнительно поправить видного пушкиноведа (благо словарь языка Пушкина теперь под рукой): есть более часто встречающиеся слова «в применении нравственных понятий». Например, «счастье». Вот уж воистину любимое Пушкиным слово! Оно появляется в начальных строках самого первого стихотворения Пушкина («К Наталье»), чтобы сопровождать потом все творчество поэта.
1813. «Прилетело счастья время…»
1814. «Но быстро дни любви и счастья пролетели…»
1815. «И так я счастлив был, и так я наслаждался…»
1816. «И счастья в томном сердце нет».
1817. «Кто счастье знал, тот не узнает счастья…»
1818. «Не всякого полюбит счастье…»
1819. «…На лоне счастья и забвенья».
1820. «И счастие моих друзей / Мне было сладким утешеньем». 1821. «Любимцы счастия, наперсники судьбы…»
1822. «И будто слышу близкий глас / Давно затерянного счастья…»
........................................
1836. «Вот счастье! Вот права…»
Мимолетное счастье. Счастье неуловимое. Обманчивое счастье, искушающее своей кажущейся доступностью. Счастье-тоска. Счастье, мыслимое только в прошлом. Последнее счастье. Счастье, равновеликое судьбе. При этом коварное счастье. Счастье-насмешка. Счастье независимости. Счастье…
Etc, – как любил писать Александр Сергеевич.
В конечном итоге, в принципе невозможное, вытесненное, замененное чем-то другим счастье, которого нет и не надо.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она.
Трудно представить другого поэта, у которого столь часто встречалось бы это емкое слово. В нашем столетии таких, пожалуй, и не было. Ведь не Блок же, не Мандельштам, не «отяжеленный лирой» Ходасевич… О нынешних и говорить не приходится. И в девятнадцатом – не Тютчев, не Некрасов, не Баратынский. Быть может, Фет?
Может, Бенедиктов?
Я подумал: «Вот! Для шуток
Хочет бить, стрелять… Каков!
Да ружья нет – счастье уток!
Счастье юных куликов».
За неимением частотных словарей российских поэтов остается предположить (на манер Гершензона), что слово «счастье» как нравственное понятие у Пушкина встречается чаще, чем у кого-либо другого…
И далее в том же духе.
Что-то вроде визитной карточки.
Он сидел у меня в кабинете, – как, однако, звучит красиво: у меня в кабинете! – можно подумать, я большой начальник… Он сидел в нашей комнате (еще «в нашей комнате» иногда появляется литконсультант, ведущий шахматную рубрику), сидел, говорю, в нашей комнате и терпеливо ждал, а я, стало быть, читал его статью о Пушкине. Статья называлась «На свете счастья нет» и доказывала, что счастье есть, и что Пушкин (будто бы) специально написал «нет», потому что знал, что «да».
– Вы, наверное, стихи сочиняете? (Мы были еще на «вы».)
– Нет, – сказал он неуверенно, – не сочиняю.
Был он высокоросл, мешковат, сутул (первая встреча, как-никак, – пора и портрет дать), нижняя губа слегка оттопырена, синие круги под глазами, впалые щеки, морщина на лбу не по возрасту – словом, не из тех, кто производит впечатление сразу. Тогда я его, конечно, не рассматривал, это я сейчас живописую, а тогда я читал статью о Пушкине.
– Ну что, – сказал я, – вроде неплохо. Бодро написано. Молодцевато. Даже с эстрады читать можно. А зачем? Все про Пушкина пишут. Пушкин да Пушкин.14 Очень подозрительно. Очень.
– Я и сам вижу, – сказал он. – Всюду Пушкин. Откроешь роман, а там – Пушкин…
– Или взять кинематограф. Что это еще за мода?
– Или критику нашу… Только и говорят, можно или нельзя Пушкина тревожить, этично это или неэтично? 15
– Вот видите, – сказал я (он тяжело вздохнул). – Вопрос очень сложный. Я, извините, к такому разговору не готов. Увы, не читал Гершензона. Трудно оценить иронию.
Странно: тот факт, что я не читал Гершензона, давал мне почему-то моральное преимущество. Он заулыбался как-то глуповато, будто тоже не читал Гершензона, а только выудил откуда-то случайную цитату.
– И что вас потянуло на Пушкина?
– Сам не знаю. Пошел в библиотеку и написал.
– Вон вы какой начитанный…
– Есть немного.
– А что еще пишете?
– А так… Зарисовки…
– Вы математик?
– Постольку поскольку. Я инженер.
– Ну и прекрасно. Сварганьте что-нибудь на пять страничек о науке. Только о роботах не пишите. О роботах у нас куры не клюют.
Он предложил написать о реликтовом излучении.
– Нет, для нас сложновато.
Ну, тогда о радиогалактиках, о квазарах, об успехах радиоастрономии. (Радио радиом, но его явно тянуло в космос.)
Маленький очерк об эволюции Вселенной?
Я задумался.
– А хотите об антропном принципе?
– А что это такое? – спросил я осторожно.
Ну как же! Антропный принцип… Антропный принцип – это вам не хухры-мухры. Он объясняет картину физического строения мира. Все фундаментальные константы (неужели вы никогда не слышали?) предопределены фактом человеческого существования. Будь другой масса протона или гравитационная постоянная «гамма», и картина мира была б совсем иной. Жизнь в такой Вселенной стала бы невозможной. Нам повезло. Из бесконечного множества вариантов нам достался единственно приемлемый. Вселенная такова, потому что мы можем в ней жить. Если бы она была чутьчуть другой, мы бы не смогли рассуждать об этом. Разве это не чудо: мы сидим и беседуем? Как вы считаете?
– Пожалуй, чудо, – согласился я недоверчиво.
Между тем рабочий день подходил к концу. Мы вместе вышли на улицу. Он все еще рассказывал мне про этот антропный принцип, а когда закончил, стал я витийствовать. Писать надо так и так. Больше парадоксальности и смелее, и чтобы был элемент игры – это обязательно.
Мы прошли одну остановку. Около входа в метро его ждала – он сказал:
– Оля,
познакомьтесь,
моя жена.
А мы, кажется, знакомы, хотел сказать я, а может быть, и сказал, не помню. Помню, что сердце мое сильно забилось.
Пожалуй, поставлю-ка я здесь отточие:
........................................
Обозначает оно не столько пропуск событий, сколько растерянность автора перед необходимостью что-то рассказывать. О чем рассказывать, когда ничего не случилось; или лучше так: когда что-то случилось, но это «что-то» находится вне событийного ряда.
Грипп не задел. Дрожжи перестали быть дефицитом. Выступил на профсоюзном собрании с зажигательной речью: как мы живем, товарищи, как работаем? Купил новый дипломат… Не то, не то, не то. У тебя, говорят сослуживцы, чертики в глазах прыгают, – вот, что главное: чертики скачут! Мир стал рельефнее. Идешь по улице и замечаешь: рельефнее, не нарисованное, не из картона сделаннее. Батюшки родные, да уж не в оптимисты ли ты записался? Брось, говорю, какой ты оптимист, ты пессимист окаянный (да-да!), пессимист окаянный!..
Так вот и получилось (как-то). Познакомились – подружились. Мы обнаружили духовное, – сразу так уж и духовное? А почему бы и не духовное? – обнаружили духовное родство.
Иными словами, я сублимировал. Я сублимировал, и эта сублимация становилась объектом художественного осмысления. Лжесублимация.
Ну вот, корифеи психоанализа.
Что «вот»?
Ничего. Все в порядке. Дальше.
Дальше возвращаюсь к идее отточия. Если бы я писал киносценарий, то в этом месте дал бы ряд эпизодов. Один за другим, и все мельком.
Зима. Снег, улыбки. Мы втроем на льду Финского залива среди рыбаков-подледников.
Мы в тире (похоже на ретро). Он убивает волка. Я раскалываю орех. Оля выбирает цель, заранее щуря левый глаз.
На вечере молодых поэтов в ДК пищевиков. Молодой поэт размахивает руками.
«Ты ни горяч, ни холоден: Устало глядишь на мир со стороны, а стало быть, терпелив. Хаос души сокрыт от взгляда постороннего. Отчасти ты жить умеешь. Ты умен. Ты счастлив? Ты не горяч, не холоден. Ты сыт…»
Прыгает каскадер с подножки мчащегося поезда. Посмотри, Оля, как весь изогнулся (замедленная съемка. Сидим в кино). Сейчас он сгруппируется – медленно, как в дурном сне, – и покатится, покатится вниз по насыпи, мастер эффектных падений.
Каждый повествователь должен беречь свой вестибулярный аппарат. А то как даст, как занесет, замотает…
…Впрочем, не знаю, не знаю. Быть может, юлианский календарь действительно имеет свои преимущества перед григорианским. Я готов легко согласиться, хотя и не слушаю К., и даже готов зевнуть, но, разумеется (благовоспитанный человек), не зеваю, а только сильнее сжимаю челюсти, и киваю в знак внимания головой, и гляжу на новогоднюю елку. Елка уже заметно поосыпалась, поувяла. Вся в бусах и серпантине, она, разукрашенная, напоминает теперь молодящуюся певицу, эта новогодняя, вернее, староновогодняя елка. Тринадцатое января. Вечер. Телевизор безумствует у соседа. Мультипликационный, как и обещано, концерт. А за окнами снег… (Имею обыкновение уточнять, что происходит за окнами, так вот: идет снег, снежные хлопья…)
Николай разворачивает карту миротворного круга.
– Смотри: это тысячелетие прошло под знаком Рыбы, прошлое – тоже. Точка равноденствия перемещается в сторону Водолея…
Я допиваю остатки чая.
– Кстати, о времени. Пора и честь знать.
Оля:
– Не торопись, детское время.
И то верно: живу рядом.
– Ты их завел?
– Конечно, завел.
Они говорят о часах, о старинных часобоях с потрескавшимся циферблатом.
В этой комнате разрешается делать все.
– Двигать мебель, если будет желание, на голове стоять, приемник доламывать. Нельзя только не заводить часы. У хозяйки пунктик. Что-то случится, если часы остановятся.
– Была сказка такая.
– Сказка?
........................................
Все поменялось. Теперь мы – Ольга и я – сидим на корточках, выдвинули ящик с открытками из-за шкафа:
Савина, Ермолова, Сазонов – фотографии артистов Императорских театров. «Редкие?» – «Ну, как сказать, начало века…» Давыдов-Расплюев в помятом цилиндре; Давыдов-Бальзаминов, ноги под себя, на скамейке. Слободин, Варламов. «Он похож на соседа». – «На вашего соседа?» – «Да, на Александра Степановича». – «Вот как; Варламов…» Она (мы сидим на корточках) коснулась коленом (случайно) моего колена, а я (будь раскрепощеннее) не убираю. Лилина и Качалов. Качалов и Лилина. Знаешь, я хочу потрогать твои волосы, такая мальчишеская идея (действительно, мальчишеская, если следовать лит. традиции), но я (благовоспитанный человек) не трогаю их, а только думаю, как… А еще думаю я, что тот, кто стоит за спиной, он все видит, все знает, и пусть. Он не умеет ревновать. Ему не надо.
«Почему ты такой счастливый?» – хочу спросить я, но говорю, обернувшись:
– Почему ты такой умный?
Он накрывает ладонью часть миротворного круга (Овен? Водолей? Рыба? Воздух – Меркурий, Вода – Юпитер).
Звонок.
– К вам гости.
– Это не к нам. Это Самсонов.
И, как по команде, часы на стене отбивают полночь.
........................................
«Не бойся гостя сидячего, а бойся стоячего» – о себе. (Топот по коридору уже прекратился; разволновавшийся Александр Степанович произнес, подмигивая: «Спокойной, товарищи, ночи»; запах плесени и гнильцы сделался несомненным.) Я в пальто и слегка удивлен.
– Что это было?
– Это было Самсонов.
– Живем как во сне, – загадочно улыбается Оля.
Охотно верю: видел его со спины: приземистый, дюжий, косолапый (Вий!), если б лицо оказалось железным, стал бы точно похож на Вия. О тайна, – говорю я, слегка паясничая и пожимаю руку хозяину. – О тайна. – И целую хозяйку. «Ну и квартирка, однако!» И выхожу на улицу.
Снег.
«Он прав, надо жить с ощущением чуда. Все для нас и чудесно. А для кого же еще? А мы, дураки, – как гости…»
........................................
Вот и письмо от жены (от бывшей). С Новым годом. (Спасибо.) У них «нормально». Просит переслать валенки.
6
Ты ни горяч, ни холоден. Куда там! Не метаться в огне тебе, и не до медитаций суровых (?), ледяных (?), когда твой ум решает, как да что, – да все в порядке, все хорошо, растет укроп на грядке, ты ортодокс, возможно, вольнодум. Ты ни горяч, ни холоден. Устало глядишь на мир со стороны, а стало быть, терпелив. Хаос души сокрыт под маской ироничности. Отчасти ты жить умеешь. Ты умен. Ты счастлив? Ты ни горяч, ни холоден. Ты сыт. Ты ни горяч, ни холоден. Ты просто один из тех, кто вышел выше ростом тех, кто пониже, впрочем, ниже тех, кто выше, та-та дальше я не помню та-та-та та-та тара-та-та-та какой-то там тра-та-та-та успех. Ты ни горяч, ни холоден. Ты ищешь тра-та-та та-та та-та-та-та тыщи тра-та-та-та, но не нашел еще в себе себя. Как малое дитятко тра-та-та та-та ищет под кроваткой игрушку: холодно? теплее? горячо?– Вот вы, Оля, это все театр-театр, говорите, литература там, поэзия… а я, я что хочу сказать?
– Вы бы не бродили, Александр Степанович, вам же укол сделали.
– Я сегодня книгу читал, вчера то есть. Воспоминания о Лермонтове – не поверите, плакал! Тот молодой, этот еще моложе…
– Кто, Александр Степанович?
– Мартынов. Совсем пацан – ну, сколько там? – двадцать с хвостиком. Мальчишка!.. И такая глупость получилась… Такая, не поверите, какая глупость…
– Да я знаю…
– У них, Оля, был вечер, прием значит… Ну вот, был вечер, а Лермонтов, он с дамой беседовал, и стояли они как бы возле рояля… Ктото играл на рояле, музицировал, значит… Князь Трубецкой, кажется. Ну вот, стоят они с дамой, беседуют, вдруг входит Мартынов, и за поясом у него, знаете, два кинжала. На Кавказе все так ходили: у кого один кинжал, у кого два, кому как нравится. Лермонтов да и скажи: вот, посмотрите, вошел мужчина с двумя кинжалами. А дама возьми и хихикни. И как назло, Оля, в это время музыка прекратилась. И все слышали. И так получилось, будто Лермонтов нарочно сказал, чтобы все слышали. Хотя чего тут особенного? Сказал и сказал. Ничего особенного, так ведь? Ну вот, Мартынов говорит ему потом: «Мишель, ты меня опять, значит, оскорбляешь…» У них и раньше было… «А мы с тобой договаривались насчет деликатности, забыл?» Самолюбие у него, Оля, у Мартынова… Ну, Лермонтов пожимает плечами: что делать, если так получилось, или ты теперь меня, говорит, на дуэль вызовешь? А тот разозлился: да, говорит, милостивый государь, и все!
– Ну так вы лягте, Александр Степанович, не бродите…
– Прочитал я все это, и так тоскливо стало, так стало печально… Подхожу к окну, а во дворе бабы ругаются, не поделили что-то. Кричит одна другой через весь двор: ах ты, сукина дочь (извините, Оленька), так разэтак… А вторая отвечает в том же роде, только еще круче. Ну и что? Покричали-покричали и успокоились, как ни в чем не бывало… Никто ни в кого не стреляет. Все живы-здоровы… Благополучие!.. Так и живем, Оля.
А пальцев на правой руке у деда не было. Ему повезло. Он сам говорил, что ему повезло. Он считал себя человеком везучим.
Обручальное кольцо самоварного золота хранилось в железной коробочке из-под индийского чая. Еще там лежал петровский пятак и почему-то наперсток.
Когда умерла бабка, дед надел кольцо на безымянный палец левой руки. Эта рука была разработана, как клешня у омара. Он рубил, пилил, строгал одной левой. А если кто здоровался с ним за левую руку, то всегда крякал от неожиданности, и тогда дед, словно читал по бумажке: «Ха-ха-ха», – громко и членораздельно смеялся.
Февраль-фебруарий, бокогрей лютый. Сшиби рог с зимы.
На углу Невского и Гоголя она окликнула: «Привет!»
– Привет, сто котлет. Давно не виделись. (Давно – это значит неделю).
– Какой ты зашоренный сегодня… Не замечаешь.
– А… Придумываю.
– Оно и видно. Куда?
– Туда.
– И я туда же.
Слово за слово: «Букинист», кондитерская, Гостиный.
– Хочу купить шляпу.
– Шляпу?
– Широкополую.
Мы отстояли очередь в отдел головных уборов, и – о чудо! – продаются шляпы. Широкополые.
– Потому что зима.
– Тебе идет.
– И тебе идет, посмотри.
(«…На чеширского кота в сапогах и шляпе…»).
– Ух, ты!
Вот именно: «На чеширского кота, глянь, какая красота».
Зима. Февраль. Метелица. Февраль – месяц лютый, спрашивает, как обутый. У меня было дурашливое настроение. Помню, в пионерском лагере я победил на конкурсе знатоков пословиц. Вьюги да метели в феврале полетели. Мы шли по Невскому.
– Ты сама вязала варежки?
– Конечно сама, я сама вяжу. И потом…
Потом – суп с котом.
Вышли на Садовую. Тут Ольга остановилась.
– Подожди.
Я не понял.
– Что-то случилось?
Она держалась за бок и вид у нее был очень горестный.
Я растерялся.
– Ничего, отпустит, – успокоила Оля. – Почка.
Не отпускало.
– Вот что, – сказала, – давай-ка зайдем к товарищу, тут близко. На пять минуток, хорошо? Я свечку сделаю.
– Конечно, зайдем.
Я взял ее за руку (или под руку?), как-то по-особенному взял, осторожно, заботливо, с участием, и повел делать свечку.
– А что за свечка, Оля?
– Ну, это упражнение гимнастическое, ноги вверх вдоль стены, а сама на лопатках стоишь, помогает. – Она прихрамывала, и я вместе с ней прихрамывал, будто мог тем самым помочь (это я не сразу заметил).
Мефистофель жил на третьем этаже, – он и был «товарищем» («Сатана там правит бал…»). Жил-был Мефистофель. Оля прошла «в ту комнату», а мы с хозяином расположились на кухне, сели за стол и загоремыкали. «Ну вот», – говорил Мефистофель. «Да, – отвечал я, – вот вам и „ну»». Он предложил яичницу (жарил перед самым приходом), я отказался.
– Значит, вы «Фауста» ставите? (Беседуем.)
– Мюзикл.
– И сами поете?
– Под фонограмму.
– Трудно представить.
– Такой спектакль.
Беседа не клеилась.
– Натурфилософия Гёте, честно говоря, не близка мне.
– А?
– Натурфилософия, говорю…
– Андрей Филиппович, – отозвалась Оля из комнаты, – я ваш ковер со стены уронила!
– А черт с ним, – пробормотал Мефистофель. – Какая тут натурфилософия. У нас все по-другому.
Помолчали.
– Но – мюзикл!
Говорить было явно не о чем.
– И конец меня не устраивает, – продолжал я задираться (от зажима, наверное). – Получается, Фауст всех надул. Пользовался сатанинскими привилегиями, все ему, как с гуся вода, а в результате еще и на небо вознесся. Плохо это или хорошо, но договор был заключен, и его нарушили. Мне такая справедливость не нравится.
– Не знаю, – сказал Мефистофель.
Я добавил зачем-то:
– Каждый должен заниматься своим делом.
Мефистофель задумался.
– Вы правы, – согласился он. – А как же иначе?
Он был очень галантен. Провожая нас на лестничной площадке, долго раскланивался и приглашал, если что, заходить не стесняясь. Оля заметно повеселела. Она укала с нарочитой беззаботностью («У! У!») в пролет лестницы, но эхо не откликалось. Надо запомнить, подумал я. Мы вышли на улицу. Шел снег.
– Вот глупость. Врачи рожать не дают. Нельзя рожать, говорят. Дурында.
…Стихотворение «Пора, мой друг, пора…» Пушкин написал, по-видимому, в июне 1834 года. Тогда же в письмах к жене он говорил о желании порвать с суетой столичной жизни и поселиться в своей деревне. Июньские письма, дающие достаточное представление об умонастроении поэта, вполне дополняют известное восьмистишье Пушкина.
Те же обращения, та же доверительная интонация:
«Прошу тебя, мой друг…», «Пожалуйста, мой друг…»
Та же идея бегства: «Ух, как бы мне удрать на чистый воздух…» Кажется, только при одной мысли о побеге Пушкин сбивается на стихотворный размер: «Туда бы от жизни удрал, улизнул! Цалую тебя и детей…»
Мотив смерти: «Умри я сегодня, что с вами будет?» (Ср.: «…И глядь, как раз умрем».)
А вот и сакраментальное слово (о серьезном – шутя): «Но вы, бабы, не понимаете счастья независимости».
Счастье независимости. Этому он знал цену лучше, чем кто-либо. О независимости мечтал сам поэт, о ней тосковали его герои. Например, Евгений из «Медного всадника»: «О чем же думал он? О том, / Что был он беден, что трудом / Он должен был себе доставить / И независимость и честь». Напротив, себялюбивый Германн искал счастье в картежной авантюре: «Вот мои три верные карты, вот, что утроит, усемерит мой капитал, и доставит мне покой и независимость!»
Независимость, покой, счастье…
– Мне нравится твоя жена.
– И мне нравится.
– Когда ты бросишь ее, я знаю, что сделаю.
– Во-первых, я ее не брошу, а во-вторых… – Что будет «во-вторых» он не сказал, но я сам догадался.
– Все равно я вас разведу.
– Это как?
– В повести. Я уже написал половину.
– Очень неоригинально.
– Очень оригинально. Ты изменишь ей, или она тебе, я еще не придумал, и ты прыгнешь с поезда.
– Зачем с поезда?
– Мне так хочется.
– Странное желание, – сказал он.
– Ничего странного, – сказал я, – ничего странного.
7
– И никаких шахмат, – добавил Воздерженцев, – никаких чаепитий!
Марина, Марина, наелась маргарина! Марина, Марина, ангина, скарлатина! (Дразнилки.) Оленька – Оль, голый король… Блин. Полблина. Четверть блина.
– Да нет, я все понимаю, но это моя профессия… Моя профессия – тяжелые вещи. Я двигаю тяжелые вещи – кровати, доспехи рыцарские, всякие тумбы, – и это моя работа, тяжелые вещи… Раньше я думала: вот поступлю, вот окончу, вот стану актрисой, да еще какой актрисой… А теперь знаю: мое призвание – тяжелые вещи. И хорошо. Я знаю свое призвание. Тяжелые вещи. Ты говоришь «лицедейство». И пусть. Я сама вижу, где лицедейство. Но я не могу без этого, и без тяжелых вещей – тоже. Понимаешь?
– Да, интересно. Моя работа тоже сопряжена с передвижением массивных предметов. Раз в две недели мы носим в поверочную лабораторию измерительные приборы – это в другой корпус: генераторы, частотомеры тяжелые, – навьючимся, как те самые, и вперед.
– Я говорю о другом, ты не понял.
Он бы мог и не напоминать про шахматы. Последняя лихорадка отсвирепствовала еще в прошлом квартале; к тому же электронные часы (шахматные, самодельные, гордость «правых») попросили коллеги из межотраслевой лаборатории и, судя по всему, приобрели в собственность.
Приходил пожарный – молодой, принципиальный. Он напомнил Анне Тимуровне о ее допобязанности, – это она отвечала за противопожарную безопасность в третьей комнате, – составил акт для пущей убедительности и унес электрочайник. Все чайные клубы объявили о самороспуске. Воздерженцев лично реквизировал кипятильники.
«Пятачок» опустел. Курили теперь этажом ниже, в специально отведенном для того помещении. А на «пятачке» повесили плакат о вреде курения: зеленый субъект в очках (следовательно, научный работник) рассыпается на дымящиеся кусочки.
Виктор Тимофеевич Воздерженцев написал в многотиражную газету передовицу: «Работы стало больше». И в самом деле, работы стало больше. Составлялся отчет – 180 страниц на машинке и 30 страниц приложений! Годовой отчет всем отчетам отчет. Марину перевели к «правым».
Одно обстоятельство серьезно тревожило Воздерженцева. На последнем ученом совете кто-то употребил выражение «тупиковая тема». Ничего конкретного под этим не подразумевалось, просто речь зашла о научном балласте, вообще о научном балласте, и ктото сказал: «тупиковая тема», – Виктору Тимофеевичу пришлось не заметить, как на него посмотрели другие. О бесперспективности поговаривали и в самой лаборатории Воздерженцева. При этом примиренческие настроения (главным образом в среде незащитившихся), что-де, и тупики необходимы в науке, Виктор Тимофеевич осуждал, как рационалистическую ересь. Никаких тупиков. Диссертабельность и перспектива (конечная цель исследований рисовалась некоторым в образе докторской шефа). Шутка ли это: за год защитились двое. Но Воздерженцев знал, что оба кандидата подыскивают другую работу.
В октябре приезжал заказчик. Представитель заказчика. Или просто – представитель. Вид у представителя был не очень представительный: невысокий лысоватый мужчина лет сорока пяти с экземой на переносице. Ему показывали установку, включали приборы, щелкали «децибельниками», причем с таким видом щелкали, словно хотели удивить невероятной диковинкой, а он недоверчиво спрашивал: «Что это? Что это?» – и хмуро констатировал: «Вижу». – «Нам надо то-то и то-то», – сообщал представитель. – «Ну, не совсем то, зато можем предложить это». – «Нам надо то-то и то-то».
Касаев стоял за спиной Воздерженцева («наша талантливая молодежь»); он держал тетрадь с математическими выкладками – летопись разложения в ряд одного нехорошего интеграла (интеграл не хотел раскладываться), Касаев ждал. Выбрав подходящую минуту, Виктор Тимофеевич заговорил о теоретических аспектах проблемы. Увы, представитель мало интересовался математикой, он хорошо чувствовал железо: «То-то и то-то». – «Подождите, вот напишем годовой отчет – тогда увидите».
Годовой отчет – три экземпляра один на другом, а сверху тридцатидвухкилограммовая гиря (пресс) – теперь лежит на столе. Последние осциллограммы наклеивались в уже переплетенные экземпляры отчета.
– Но, – сказала Марина, – я не смогу впечатать в таблицы…
– Я знаю, – сказал Касаев.
– Ты забыл сказать
План
1. Марина.
2. ?
3. ?? Измена?
Пирогова – вычеркнуть. У кого из мужиков больше всех на лбу рогов? Всех рогастей Пирогов. Он имеет «пи» рогов (т. е. 3,14). Остальное вычеркнуть.
Итак, шел снег. За окном шел снег. Снег шел. Итак, шел снег.
Не кульминация, а резонанс.
Если длина волны не отвечает параметрам резонатора, в последнем возбуждаются хаотические гармоники.
А ты меня простишь, но не поймешь. Зато простишь легко, как опечатку, как в городе старинную брусчатку, забудешь мой томительный бубнеж. (Куда-нибудь в середину?)
Все мечешься.
Или: Касаев, ты все мечешься? Я мечусь? Вот уж я-то совсем не мечусь.
Диалоги.
– Ты забыл сказать…
– Спасибо.
– Первый раз в первый класс.
– Я даже испугался немного.
– Странно. Я думала, вы с женой…
– Что?
– Без предрассудков.
– Давай не будем о жене.
– Извини, забыла разницу.
Вот и сломалось перо. Жмешь – не выдерживает. Будь порядочным, не фальшивь. Не придуривайся. Никто не верит, что пишу гусиным. Никто не верит.
8
Эта ночь, эта безумная ночь, эта самая моя бестолковая ночь, нелепая до невероятности и невероятная до нелепости, уж просто и не знаю, какая ночь – слов нет – застигла меня в пути.
А дело обстояло так.
Я ехал в электричке, уже проехал Гатчину, времени шел примерно час одиннадцатый.
Я ехал и думал. О чем же я думал? Да все о том и думал. Жаль, думал я, концы не свести с концами (в смысле формотворчества), жаль, все разваливается. А ведь так хорошо начал! Я способствую увеличению энтропии. Надо сосредоточиться.
Конечно, это не столь интересно, о чем именно я думал, но я специально останавливаюсь на деталях, чтобы поправдоподобнее изобразить происшествие, заведомо неправдоподобное… Без подробностей тут не обойтись, и вот еще для убедительности: возвращался я не откуда-нибудь, а со станции Сиверская; там, на Торговой улице, я навестил двоюродного брата моей бывшей… моей бывшей жены и возвратил ему чехол от кинопроектора, но к тому, что случилось, это, по-видимому, никакого отношения не имеет.
И еще кое-что проясняющая подробность: мое настроение. Весь я был такой деятельный, активный, и в то же время сосредоточенный, собранный, самоуглубленный и, что особенно важно, томим предчувствием. Предчувствием сам не знаю чего. Задним-то числом весь психологизм выглядит попроще. Итак, я сосредоточился. На чем? На вполне конкретных вещах: на своих творческих поползновениях и связанных с ними осложнениях, скорее, однако, формалистических, чем драматических. В руках я держал блокнот, рисовал крючочки, то есть думал. Ничего удивительного, в электричках я всегда мудрствую – было бы время и никто б не мешал. Так вот, озадачивало меня, среди прочего, непредвиденное расхождение между героями моих записок и реальными их прототипами. Даже не столько само расхождение (вполне естественное), сколько неспособность автора (моя то есть) подвергнуть его контролю. Реальные прототипы – так их назовем – хорошие, милые, славные люди: он и она, она и он – мои друзья, если на то пошло, пребывают в том возбужденно-радостном состоянии жизнеприятия, которое сами они, ничуть не пугаясь, называют, – а за ними и я грешным делом, – счастьем; но, положа руку на сердце и хорошо подумав, я бы предпочел слово «благополучие», мы все «благополучные», – я-то скептик, положим, человек предубежденный, более того, имеющий свой какой-никакой интерес (допустим), предпочел бы слово «благополучие» слову «счастье», да только их мое мнение не волнует!
Их не волнует, а меня вот почему-то волнует, что их не волнует, – вся сложность заключается в том, что теория перевоплощений на сегодняшний день практически не разработана… Все, молчу. Ближе к делу. Он и она, литературные двойники этих живых, реальных людей, не менее самостоятельные по отношению к автору, чем те сами, и вовсе не намерены потакать его (опять-таки моим) усилиям «чуть-чуть» подправить действительность. Они попросту игнорируют меня, и я должен считаться с тем, что у них гармония и неустроенность их не устраивает. Может, я что-нибудь не так понимаю? Все третьи лица, как только заявляются их имена, моментально становятся лишними, а ведь я возлагал надежды и на Марину, и на некоего Пирогова, и на Воздерженцева… даже на Артамонова, чья фамилия дважды мелькнула где-то в начале, не говоря уже об Игоре Максимильяновиче, режиссере, и об этом… Андрее Филипповиче, который Мефистофель… (Ольга сказала: «Нет, я бы отказалась. Во-первых, без души нельзя, во-вторых, она живая и, значит, жить хочет, и живет у меня вот здесь, в ямочке под гортанью, а в-третьих, это как знать день своей смерти, – придут и попросят. Какое уж тут счастье!») Один лишь Евгений Борисович не подвел, выполнил свою сюжетообразующую функцию, но именно его-то мне меньше всего хотелось бы эксплуатировать. Надо бы написать письмо в Кострому (кстати!), а то я совсем негодяй после этого. Как там Большие Числа? Как там Грамматин Николай Федорович?
Николай Федорович Грамматин в своей Костроме уснул как убитый, а когда почувствовал флюиды, сел и сидит на краю кровати…Ну ладно. Была ночь. За окнами темно и холодно. Я ехал в электричке, держал блокнот в руке и думал. Юноша и девушка сидели напротив. Оба не очень трезвые. Вернее, не очень трезвым был он, а уж она-то совсем… Она икала. Она, увы, икала, вздрагивая всем телом, а он, видимо, стесняясь того, что она неэстетично икает, придурковато улыбался и оглядывался по сторонам, словно призывал всех в свидетели: вот, посмотрите, какая история… как это так могло получиться?.. Девушка икнула и вздрогнула, он посмотрел на меня своими невинными очами, я встал и вышел в тамбур.
Я вышел в тамбур.
Странно, но факт: дверь наружу была приоткрыта. Я посмотрел туда, где было темно, – там, в темноте, мелькали деревья. Я подумал, хорошо бы оставить Касаева одного в тамбуре пригородной электрички. Пусть он курит и смотрит туда, где мелькают деревья, и думает о математике. Он рационалист, мне так удобнее, пусть он думает чаще о математике, а именно: просто об арифметике, пусть он, вдруг захотелось мне, складывает в уме и вычитает, умножает и делит, и глядит в темноту, где мелькают деревья, и думает при этом… и думает, что он думает. Отдадим должное широте интересов, но все от ума – даже любовь к Пушкину. Он – антигерой… да-да, как в том фильме (в каком?)… антигерой, и все тут. Пусть он просто считает: один, два, три, и так до Самого Большого Числа, и не догадывается о мнимости своего благополучия… но, запутавшись окончательно (а я-то уж его так запутаю!), он вдруг осознает эту самую мнимость, когда совершит какой-нибудь нелепейший, безотчетнейший, немотивированнейший поступок. Он (моя старая идея) прыгнет с поезда!
Я подошел к полуоткрытой двери. Высунулся наружу – холодный воздух ударил в лицо. Прыжок выглядел бы вполне правдоподобным, особенно здесь, где электричка почему-то замедляет свой ход. Главное не налететь на столб. Если он будет действительно прыгать, то пусть – по ходу движения поезда. Меня словно толкнул кто-то.
«На свете счастья нет, но есть покой и воля…» Антитеза ли это?
Афористическая строка Пушкина вовсе не отрицает счастье, а дает ему емкое определение.
Счастье – не что иное, как покой и воля. Нет счастья, кроме покоя и воли.
То, что мы называем счастьем, на самом деле есть покой и воля.
А следовательно, нет противоречия между словами прозревшего Онегина и этой пушкинской формулой. Поэт как бы говорит: мой Онегин наказан за ошибку – вольность и покой он предпочел счастью, одно противопоставил другому. Но именно «покой и воля» – настоящее имя счастью; иного счастья нет.
Когда я открыл глаза и понял, что члены мои целехоньки, я ничего не испытал, кроме чувства недоумения. Где-то далеко за лесом (за перелесками) громыхала уходящая электричка, а я лежал под насыпью на снегу и глядел на небо. Почему, медленно думал я, на небе нет звезд? – именно так я и думал, именно медленно, именно такими словами (а я думал словами, потому что хотел запомнить все, что думал, и даже записать, когда встану). Звезд не было. Озарения не испытал. И глубокого неба Аустерлица не было тоже, и вообще ничего не было, кроме мглы холодной, насыпи железнодорожной, поля картофельного, и меня самого на снегу лежащего, и вверх смотрящего, и будто со стороны себя видящего. И тогда я подумал, о чем не скажу. Мне стало холодно. Я поднялся на ноги, подобрал шапку, вскарабкался на эту самую насыпь и не пошел – побежал три километра до станции. Я успел на последнюю электричку.
8-бис
Мои ночные испытания на том не завершились. Уже на вокзале я понял: домой все равно не попасть, – ключи остались там, в снегах Гатчинского района. Я бы мог пойти и в другое место, мог бы позвонить и по другому номеру, но я позвонил им: так, ребята, и так (подошла Оля), нет ключей от квартиры.
– Ну, раз нет, приезжай (был час ночи). Я одна.
– А где муж?
– В командировке.
Долго ждать я себя не заставил.
– Я так рада тебе. Честное слово. Мне страшно. Явился этот Самсонов, этот ненормальный, и ходит как неприкаянный…
В комнате Александра Степановича горел свет, но был там не Александр Степанович. Оказалось, что его еще утром увезли в больницу. Того не зная, Самсонов пришел, как всегда приходит в ночь с пятницы на субботу, и теперь не может найти себе места.
– Просто ужас какой-то… Я иду на работу, открываю внизу почтовый ящик – там письмо. Конверт фирменный. Читаю: журнал «Здоровье». Ну вот, ответили, дождался. Он им чепуху писал про свою магнитную воду… Предлагал воду в душевых намагничивать… ответили… Ну, что делать? Не поленилась подняться, пусть читает… Про воду магнитную… Стучу в дверь – молчит. Странно. Открываю, а он лежит на кровати, бледный, губы дрожат, одной рукой за сердце держится, а другой рукой в стену, как кошка, чтобы я с той стороны услышала. Вы что, Александр Степанович? Плохо? А он мне шепотом: матушка… Представляешь? Так и говорит: матушка, вызови «скорую»… Ты не слушаешь?
– Нет-нет, слушаю.
– Я к телефону. Телефон занят, у нас заблокирован… Я к соседям. Внизу то ли музыкант живет, то ли шахматист – жена открыла… В шахматы всегда во дворе играет, еще мне предлагал. Вот. Вхожу. Представь себе: он в кресле сидит, зажал трубку между колен, это телефонную трубку, а сам на валторне… Я как заору: да вы с ума сошли, там человеку плохо! Он испугался, трубку сразу повесил. Вместе стали врача вызывать. Ну что, те приехали. Вот тебе и журнал «Здоровье»… Увезли Александра Степановича.
– Да, – сказал я, – ну и денек…
– А ты почему весь помятый? Весь вывалялся в чем-то?
– Я, Оля, не поверишь, из электрички вывалился.
Она действительно не поверила.
– В ванную и спать.
Я принял душ. Я надел халат ее мужа. Я причесался его расческой. Вот он, итог перевоплощений. Когда я вошел в комнату, Оля уже была в постели.
– Раскладушка у окна. Если надо, зажги свет.
Я потоптался около раскладушки, вздохнул тяжело и лег.
– Спокойной ночи. – И, помолчав, добавила: – Часы остановились.
– Завести?
– Вот. Он уехал, и часы остановились.
– Завести?
– Не нравится мне все это…
– Оля, хочешь, я заведу часы? – Касаясь руками стены, я сделал несколько шагов по комнате. – Хочешь? – По-моему, она улыбнулась. Я не мог видеть это, но я слышал. Я слышал ее всю. Слышал губы, глаза, волосы, шею, слышал ямку под гортанью, в которой живет душа. Я сказал:
– Оля.
Она сказала:
– Не надо.
Роман без адюльтера. Антироман какой-то.
Дело близится к концу. Я сидел на кухне (опять на кухне).
Я сидел на табуретке и уже на сей раз ни о чем не думал. Просто курил.
Через открытую дверь я видел часть антресоли. На картонной коробке лежала шляпа в полиэтиленовом пакете. Та самая, широкополая. Далась мне эта шляпа.
В дверях появился Самсонов.
Я даже вздрогнул от неожиданности.
– Не огорчайтесь, – сказал он, – все к лучшему.
– Что именно?
– Все.
Он тоже сел на табуретку (разумеется, на другую). Тоже закурил. Мы сидели и курили. На нем были шлепанцы Александра Степановича. У него были грязные руки. Очень грязные, до неприличия грязные. И черные ногти. Весь он выглядел неопрятным…
Меня как кипятком ошпарило:
– Вы работали в Публичной библиотеке!
– Да. Три года назад.
– Библиографом…
– Я вас тоже помню, – сказал Самсонов, теребя клочковатую бороду. – Вы приходили каждый день, а одно время доставали меня черт знает чем… Какими-то булочниками, казначеями… Сейчас вспомню фамилию…
– Леон Дикий?
– Да-да, Леон Дикий, потом Нос какой-то, очень мне тогда это понравилось…
– Как же вы так?.. – спросил я, сам не понимая, что спрашиваю.
– А как? Меня уволили. Теперь сменил род занятий.
Он пододвинул ко мне табуретку, заглянул в глаза испытующе.
– Вам нужны деньги?
– Деньги? – Я был ошарашен вопросом.
– А что удивляться? Деньги, женщины… Это понятно. Вы молодой. Молодость! Жаль, конечно, Александра Степановича, будем надеяться все обойдется, он человек хороший, но с другой стороны, с его-то здоровьем… И с возрастом… Одно приемлемо: живет близко и не хапуга. А так и поговорить не о чем. Я тут ему книжку дал почитать, о Лермонтове, потом две ночи мне пересказывал… Занятно… Пальцы у вас, вижу, музыкальные… Это мне нравится…
– Вы что, бредите? – не выдержал я.
– Нет, почему же? Я хочу сделать вам одно предложение.
– Какое еще предложение?
– У нас мало времени. – Он подвинулся еще ближе. – Я предлагаю вам сделку. Взаимовыгодную. Только между нами, пожалуйста, никому ни слова. Даже ей… Это условие. Надеюсь, вы… как бы сказать поделикатнее… человек небрезгливый?.. А то, знаем вас, книжников…
– Сумасшедший, – закричал я, – не трогайте меня своими ручищами!
– Тише, тише, – забеспокоился Самсонов, – вы меня не так поняли. Вам понравится, вот увидите!.. Ну идемте же, идемте. Скоро рассвет.
Он взял меня за руку и повел в комнату Александра Степановича.
В комнате Александра Степановича дурно пахло. То, что лежало на столе, было аккуратно накрыто газетой. На полу стоял портфель.
Самсонов взял портфель в руки и открыл. О боже, подумал я. То было нечто
(внутренний голос, этакий авангардист, сидящий внутри меня, искушает: поставь точку! Будучи реалистом, однако, должен закончить фразу)
нечто невообразимое: полный портфель толстых, упитанных, живых червяков.
– Смотрите! Смотрите! Здесь на сто пятьдесят рублей! Собирал весь вечер. Знаю навозохранилище – золотая жила! Час езды на электричке. Очень перспективное навозохранилище. Наша задача: разложить все по кулечкам. В каждом кулечке пять штук – это полтинник. Одному тут не справиться. Поспеть бы вдвоем. Должны торопиться. К шести на вокзал, продаю по вагонам. Рыбаки – их, знаете, тысячи! – хватают с руками-ногами. Выручку – один к трем. Нет возражений? Вот как делать кулечек – смотрите! Ночь будет нелегкой…
Я покорно взял в руки газету.
9. Вместо эпилога
Я ночи не люблю. Ведь ночью нужно спать. А спать не хочется, однако заставляют: стемнело – значит надо, засыпай.
Моя белибердовая идея: ночь прячется в шкафу. У нас в прихожей шкаф – большой, как дом, как небоскреб, как замок. И замкнуто пространство в этом замке. И в замок заползает ночь сквозь щель на дверце, заползает перед началом утра, прячется и преет до вечера, густая, а потом ползет опять наружу…
А ночью ночь – уроненная клякса на мой рисунок: на мои поля, на города, на доброго павлина и на добропорядочных людей, которые набегаются за день, ложатся спать и сразу засыпают, и называют это: «Отдыхаем». Но большинство храпит.
– Ты любишь меня, дедушка?
Он спит. И видит сон, наверное.
– Ты любишь?
Кряхтя спросонок, отвечает:
– Ну так!..
И засыпает снова.
Меня все любят. Вот и хорошо.
Закрыть глаза, стараться не дышать, голову засунуть под подушку. А главное, не думать. И тогда представить можно. Впрочем, не представишь.
Так и живем. На глупые вопросы ответы не даются.
Ну и пусть.
Сом – это рыба. Сом – такая рыба, которая, как маленький китенок, и скользкая, и с длинными усами.
Когда ему, сому, вспороли брюхо, он ожил вдруг, проснулся, встрепенулся, забил хвостом, своими плавниками зашевелил и, так заулыбался, что стало страшно. Сом – такая рыба.
Усы сома пытались расползтись, пытались улизнуть куда-нибудь, но тщетно. Ведь позади огромная улыбка как будто говорила: «Не уйдете…»
А в стороне лежало на фанерке изъятое из тела сердце и вздрагивало, словно лягушонок, полуживой и красный.
Сом – это рыба.
Я щель в шкафу замазал пластилином.
Когда-нибудь я стану инженером и сконструирую искусственные пальцы. И назову искусственные пальцы не как-нибудь «искусственные пальцы», а просто «пальцы» – вот как назову.
Когда-нибудь я стану инженером и изучу научную проблему, и электрификацией шкафов займусь практически. Наступит долгий день – длиннее, чем два дня на Севере, наступит. А ночь уйдет куда-нибудь в леса дремучие, в берлоги, где медведи, которым абсолютно все равно: они себя всецело посвятили высасыванью из мохнатых лап микробов.
А в воскресенье к нам приедет мама и привезет из города арбуз. Я побегу бегом, а дед поедет навстречу маме на велосипеде.
........................................
Я хочу сказать что мы еще молоды… ведь мы еще молоды молоды молоды… еще ведь молоды мы…
… – 1984
1
Этот очерк вошел в первый том «Литературной матрицы» («учебник, написанный писателями», 2010, «Лимбус пресс»), и адресован он, как следует из текста, тем, кто Достоевского, возможно, не читал, но фамилию слышал.
(обратно)2
Собственно, этот текст представляет собой сообщение, сделанное автором на конференции в Университете Пикардии имени Жюль Верна, в Амьене, 2010.
(обратно)3
Прочитано на конференции содружества петербуржских фундаменталистов «Интеллигенция-минус» в арт-галерее «Борей». По роковому стечению обстоятельств конференция проводилась 11 сентября 2001 года.
(обратно)4
15600 на июль 2016 (согласно Гуглу).
(обратно)5
Кстати, о времени. Это давнишнее сочинение. Автору не побороть искушение комментировать этот текст – в стиле данной сноски – с позиций сегодняшнего дня. Дата написания, само собой, в конце.
(обратно)6
Вряд ли «Сельскую молодежь» выписывала кафедра, хотя и могла: от коллектива, также как и от отдельной его составляющей, требовалось по тогдашнему обычаю обязательно что-нибудь выписывать. Как бы то ни было, не следует путать с журналом «Сельская жизнь», которую сегодня издают авангардные фотохудожники, обосновавшиеся в поселке Шувалово.
(обратно)7
А еще через двадцать лет будет издан двухтомый энциклопедический словарь С.В. Белова «Ф. М. Достоевский и его окружение» (СПб, 2001). Если бы Касаев до наших дней сохранил свое любопытство, он бы, несомненно, обратился сегодня к этому словарю. Человека, упавшего в обморок, звали Паприц Константин Эдуардович, он воспитывался в Петровской земледельческой академии. Позже отличился на поприще статистики. Прозу писал и стихи. Напечатал несколько стихотворений, повесть и два очерка. Но до «тридцати, сорока, пятидесяти» не дожил, умер в возрасте 25 лет, немногим пережив год смерти Достоевского. Известно, что, кроме него, в обморок в тот исторический час упала некая Маша Шелехова, сведенья о ней скудны
(обратно)8
Сегодня «зримо отсутствующий» – потому что на месте той замечательной тумбы теперь фонтан. Тумбу куда-то убрали. Вместо памятника Гоголю через дорогу в сквере установили гигантское изваяние будто бы Тургенева, более похожего на Мономаха.
(обратно)9
Идея усилителя вероятности принадлежала институтскому товарищу автора Борису Олеговичу Кашину. Он изобрел много всякого, но УВ на данный момент, кажется, еще не построил.
(обратно)10
В первом издании была опечатка: просунулся.
(обратно)11
А ведь действительно, слово «компьютер» почти не использовалось. В основном говорили «ЭВМ». ЭВМ «Раздан» вспоминается автору. Общеинститутская. Каждый, заказав машинное время, мог ею (машиной) пользоваться, – если, конечно, умел программировать. Расписав программу на обратной стороне перфокарт, мы эти перфокарты складывали в стопочку в нужном порядке, перетягивали резинкой и несли в машинный зал, где клали на полку. Потом приходили за распечаткой. К самой машине потребителей старались не допускать, с ней общались жрецы. Старушка была неторопливой, некоторые задачи решала всю ночь… За год до смерти Брежнева новая машина, микромодульная, появилась на кафедре, уже не вспомню, как называлась. Ежеквартально на нее давали («на профилактику») 34 литра спирта. Если не оприходовать, больше не дадут. Чаще всего мы настаивали спирт на апельсиновых корочках. Бутылки со спиртом стояли в шкафах и под столами… Недавно на дачном чердаке я обнаружил старинную (1959) разработку с обзором древнейших, еще ламповых и релейных ЭВМ; одним из авторов был мой (будущий) тесть. О машине, полное название которой «БЭСМ Академии наук СССР», построенной за пять лет до моего рождения, говорилось: «Эта машина по своим данным превосходит все европейские и большинство американских моделей».
(обратно)12
Касаев-рассказчик не счел тогда нужным указать источник. Спустя годы спешу уточнить: В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Л., «Наука», 1972. – Книга и сейчас у меня на полке. Страницу искать не буду.
(обратно)13
Куда там треть! 5/6, как время покажет!
(обратно)14
Ничего удивительного. Страна была литературоцентричной. Даже пушкиноцентричной.
(обратно)15
По-видимому, что-то было такое. Ничего не помню. Помню бесконечную дискуссию в «Лит. газете», этично или неэтично поступил поэт Юрий Кузнецов, написав стихи: «Я пил из черепа отца / За правду на земле».
(обратно)

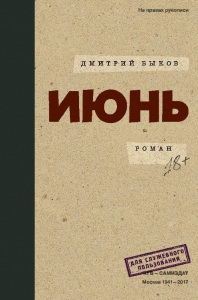




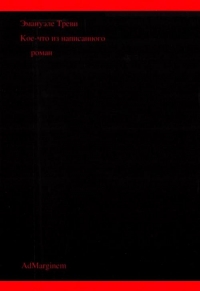
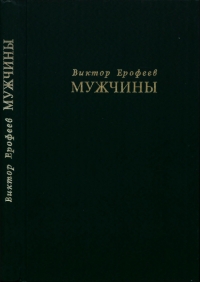
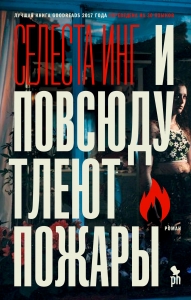

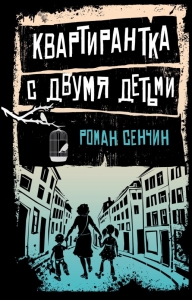

Комментарии к книге «Поцелуй Раскольникова», Сергей Анатольевич Носов
Всего 0 комментариев