Алсари Атлантида священная
Хаос нынешний подобен скачке хаоса с Проявленным. Призвание новых энергий вызывает взрывы стихий, потому уже нельзя остановиться и нужно ставить все средства на проявленное. Так белые кони Света должны опередить черных коней. Нужно твердить это напоминание, иначе некоторые прельстятся вороными скакунами.
247, Иерархия, Агни Йога.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Солнце еще не взошло, и тропинка, по которой взбирался царь Родам, была едва видна. Идти в гору надо было еще и еще – царь взглянул наверх, – а сердце уже дало сбой. Что бы это могло быть? Он не устал: истинные атланты не знают, что такое усталость.
Истинные атланты, – усмехнулся он про себя. Этот ловко карабкающийся за ним тоже, небось, почитает себя за истинного атланта. Как же, проживает на исконной земле, а не в колонии где-нибудь, да еще царю прислуживает, раб… А ведь посмотри на него, так и не отличишь сразу от атланта – издали, конечно, – ростом, пожалуй, помельче, да и весь какой-то уменьшенный, что ли, в пропорциях. Цвет кожи?.. Кто сейчас обращает внимание на цвет кожи! Вон советник Азрула, будто не хватает ему белокожих, – нет, отдает дочь свою, светлую и синеокую Хитро за медноликого и узкоглазого Гана! И не скажи против! Ты и атлант, и Ган, хотя твоя кровь от крови первых воплощенных, а его – уже тысячекратно разбавлена беспорядочными смешениями. Ну да ладно – попытался урезонить себя царь Родам, – капля божественной крови в этом сосуде греха тоже чего-нибудь да стоит. Да и ничего уже изменить нельзя, а главное – успокоил себя царь, – на всех светловолосых и синеоких не женишься, хотя и осталось их до обидного мало.
При мысли о женитьбе торговца Гана пришла на ум ему жена его, царица Тофана, и он досадливо поморщился: куда завели его бесконтрольные размышления, поди ж ты! Если уж сам великий царь Атлантиды, хоть и усеченной по воле неба, но могучей и единственной владычицы… Тут ему снова пришлось недовольно крякнуть: мысли явно не слушались его. Он невольно покосился на горбатую от поклажи тень позади него – слава Единому, никто, кроме атлантов, не владеет силой читать мысли!
Да, таинственное и знаменитое на весь обитаемый мир умение атлантов – владеть не только своим необыкновенным по красоте и силе телом, но и мыслями, это умение, которому сами атланты, впитавшие его с младенчества, нисколько не удивлялись, – начинало изменять даже их царю. А ведь было это умение истинной силой атлантов, мощью и властью их над людьми иного племени. Давно царь начал замечать этот убийственный, хоть и не осознаваемый пока упадок мыслительной силы у некоторых из своих собратьев, а вот теперь все чаще самому приходится убеждаться, что и ему трудно бывает удерживать мысль свою на острие молнии. Если атланты утеряют этот наиглавнейший изо всех Божьих даров, если – не дай Единый! – покроется их ясное сознание тягучей и сонной пеленой, окутывающей разум всех людей на Земле, что же будет с благословенной Атлантидой? И как будет жить он сам, не представляющий себя без этого дара? А ведь при бессмертном царе Родаме держится не только Атлантида и все ее былое и настоящее величие, но и весь мир! Скажи об этом непосвященным – ничего не поймут, в лучшем случае сочтут, что это царская причуда. Хотя, впрочем, может, и наоборот: простой-то народ его, царя Родама, боготворит. Помнят еще, слава Единому, откуда пошли быть родоначальники атлантов, десять великих царей…
Да, народ, пожалуй, всегда его поддержит. А вот верные его соратники, а вот высшие священнослужители, мало-помалу исковеркавшие Сокровенную Истину и превратившие ее в нелепое служение бесчисленным богам и божествам… И добро бы по неведению! Так нет же! Все нынешние высшие жрецы – суть атланты, по крови и по духу. Как же общаются они с Высшим в часы Великого Общения, непременные для любого атланта? Или они вовсе…
Царь Родам похолодел от этой мысли. Вот оно – прозрение. Вот оно – решение главной загадки наступившей странной эпохи: посвященные в Таинства и Откровения Сфер, не прилежащих Земле, отлучены от Знания, а причина… причина именно в том и состоит, что, изменив Высшему, Единому, они пошли на соглашательство с теми низменными, которых тьма тьмущая.
То-то он не перестает удивляться священникам: будто разум у них время от времени вынимают из головы, и потому не могут они помнить постоянно и дружно о том, что единственная их всех опора и сила, да и сама возможность жизни – это он, Родам, царь из Божественного Рода, и что, не дай Единый, пошатни они хоть на чуть-чуть его, царя, божественное величие, а не то что свергни они его, – так не выжить никому из них также. А зачем они народу нужны, крикуны одичалые, без божественного ореола, сияющего над главой каждого из царей Атлантиды!
Вот только удержать бы этот ореол над собственной головой ему самому, последнему царю Атлантиса…
Царь остановился, осознав внезапно весь ужас этой мысли, промелькнувшей как бы вскользь. Разум его торопливо уводил куда-то прочь эту мысль, и она послушно исчезала – верный признак того, что мысль эта принесена свыше, – но он снова и снова усилием воли заставлял себя утвердить ее в своем сознании, чтобы разобраться в ней. Ведь если это случайная мысль (царь усмехнулся: случайных мыслей, как и вообще ничего случайного, у атлантов не бывает, только человеки могут тешить себя случайностями), то надо, убедившись в том, что это мысль земная, выкинуть ее из головы навсегда, включив особый механизм памяти. Если же он в неурочный час прочел предвидение, отпечатанное на Великой Ленте Жизни, веление Богов, как сказали бы не-атланты, – тогда надо к этому отнестись серьезно…
Впрочем, он давно предчувствовал нечто подобное. Иначе не пришлось бы ему сейчас, в ночной тьме, под светом одних только звезд, взбираться на вершину горы Мери, к святилищу Единого, созданному самим Атласом Великим, позднее переименованным презренными бибилоями в Атланта. К святилищу, куда не смеет ступить нога простого смертного, – а лишь только потомка царей Атлантиды, и то при условии, что в крови его преобладают некие частицы, присущие первым атлантам и не поглощенные полностью смешением с кровью земных смертных. Не для простого устрашения распространилась издревле эта легенда: не раз научен был человеческий род избегать прикасания к таинствам атлантов, прикасания, приносившего мучительную гибель от невидимых причин. Надежно были ограждены атлантские святилища от непосвященных. Все знали, что именно на огромных плитах этих храмов под открытым небом Единый беседует с царями, облекая их высшей мощью и защитой.
Миновав священный бетил, огромным каменным пальцем указывавший в небо, царь Родам остановился, искоса глянул на раба. Повинуясь молчаливому жесту властелина, тот снял с плеч впившиеся лямки, едва сдержав стон, и отдал поклажу царю, который подхватил ее одной рукой. Сложив ладони вместе и поклонившись, раб начал спускаться с горы, пятясь задом наперед, ибо таковы были правила, запрещающие после общения с царем, отпрыском Божиим, поворачиваться к нему спиной. Случайно брошенный вверх взгляд его уловил неясный, но огромный силуэт царя, на котором поклажа, еще недавно сгибавшая спину раба так, что он без конца стукался лбом об острые камни крутого подъема, казалась смехотворным каким-то бугорком, детской игрушкой.
Поспешно опустив глаза, раб продолжил спуск, стараясь не думать о том, зачем царю нужно было брать его с собой и заставлять тащить на себе, почитай, с самого вечера, этот страшный груз, который чуть не раздавил его, – когда он и сам мог нести его, причем – шутя. Вон, как легко несут его ноги, когда не нужно ему без конца останавливаться, чтобы подождать его, своего раба, у которого сердце чуть не выскочило из груди от натуги. Ведь атланты в состоянии все сделать сами. А многие до сих пор соблюдают древние правила и отказываются от услуг рабов – он знает, слыхал… Рассказывают, что, стоит атланту захотеть, – и камни сдвигаются с места и укладываются в таком порядке, какой вздумается ему, и все вещи могут сняться со своих оснований и висеть в воздухе или же оказаться за много стадий вдалеке, – а атлант будет стоять тихо, и лицо его будет в этот момент добрым и ласковым, не таким, как всегда. Так для чего же атлантам, всесильным, как боги, труд человеков?
Но мысль эта была крамольной, и, будучи уловлена кем-нибудь из атлантов, каралась тяжким наказанием для допустившего ее. Нет нужды, что царь Родам уже далеко: ни одна мысль человеческая не ускользает от атлантов, благословение на них и на их отцов и низкий поклон богоравному царю царей Родаму, не удостоившему внимания ничтожную мысль своего преданного раба…
* * *
Тем временем царь Родам действительно легко, как верно приметил его провожатый, поднимался все выше и выше. Думы его не отягощались низменными проблемами раба, оставленного в темноте и одиночестве на границе недоступного ему священного пространства с одной стороны, и густого леса, покрывающего основание горы и кишащего дикими животными, – с другой.
Полностью захваченный давно забытым в обыденной круговерти чувством свободы и все возрастающей легкости, царь едва ли не перелетал с камня на камень, чуть касаясь их носком мягкого сапога. Эта телесная легкость проистекала откуда-то изнутри, наполняя собой все тело с его костями, жилами, и только Единый знает с чем еще. Вот уж кажется, что еще одно усилие, один невероятный вздох – и он взлетит.
Царь Родам счастливо улыбнулся. О, это вечно желанное чувство полета! Утерянное предками-титанами, оставит ли оно когда-нибудь их потомков, или, все укрепляясь, приведет их в конце концов к исполнению мечты?.. Мечты о полете в своем истинном и полном значении, как то было ведомо прародителям атлантов: захотел – поднялся в воздух, влекомый одной лишь силой желания, полетел в любую сторону, – а то и просто покувыркался в воздухе от избытка счастья.
Полет прямо в этом теле, тяжелом и грубом по сравнению с телом светящимся, – вот, он уже близок! И не надо будет ни громоздких летательных аппаратов, ни поисков сверхмощных источников энергии, над чем давно бьются лучшие умы да и не только Атлантиса…
Слава Единому, атлантам остался еще полет, но в теле невидимом: высшее Общение, им и только им на земле принадлежащее. Сердце царя вдруг мягко сжалось – опасность, – инстинктивно отметил он. И тут же осознал: опасность нависла над самой этой способностью атлантов. Как ни уходил от этого признания самому себе царь Родам, все же внутренняя дисциплина взяла свое: непостижимые для человеков уникальные возможности атлантов – их жизнь одновременно в трех мирах и вытекающее отсюда свободное владение невидимыми силами природы – находятся на грани исчезновения. Слава Единому, царю Родаму дано право хранить тайну, принадлежащую Высшему, и он уже долгое время защищает свои мысли непроницаемым покровом от вторжений любопытных. Пока еще атланты в самолюбовании и гордости не замечают ничего. Те же из них, которые и ощущают ослабление мыслительного могущества, или непонятные, но скоро преходящие недомогания, никому в них не признаются, и будут затемнять свое сознание от других, что приведет в конце концов к полному и совершенному их отемнению. Так что надежда только на Единого и его милость.
Улыбка исчезла с лица царя, и оно вновь обрело свое привычное беспристрастное выражение. Он сосредоточился: перед ним была последняя преграда, хорошо знакомая по прежним посещениям, – каменная стена, обводящая контуры скалистой вершины. Но царь знал, что она не неприступна: проведя руками по гладкой стене выше головы, он нашел два небольшие углубления, подтянулся, зацепившись пальцами ног за едва ощутимые царапины, – лазать по отвесным скалам не представляло проблемы ни для одного жителя славного острова Посейдонис, составляющего гордость и последний оплот атлантов, – осколка их когда-то поистине необъятной родины, Атлантиды…
* * *
Ган, тот самый Ган, которого царь прозвал «торговцем», проснулся, как всегда в последние годы, перед рассветом. Вылив на себя в купальне кадку ледяной воды из источника, отведенного сюда посредством пластических труб, он, отряхиваясь, как морское животное, завернулся в кусок белого льняного полотна и вышел в сад.
Молельня, куда он направлялся, была выстроена здесь еще в незапамятные времена, до Великой Катастрофы, кем-то из его дедов-прадедов. Впрочем, Ган не очень вникал в собственную генеалогию: он знал, что исходит из высокого рода Туров, что племя его причислено к сонму бессмертных, хотя физическим бессмертием не обладал уже давно никто из туров или туранцев, как их называли иноплеменники. Он втайне считал себя потомком самого основателя Атлантиса, хотя доказательств к этому не было никаких: царские архивариусы уже несколько раз намекали ему на это, но он не обращал на их ученые выдумки внимания. Что ж, пусть те, кто ни на что больше не способен, копаются в пыльных фолиантах и без конца рассуждают о чистоте расы и образе жизни!
Образ жизни – усмехнулся про себя Ган, – почему они считают, что образ жизни должен быть одинаковым для всех? Ведь даже боги имеют различные образы, не говоря уже об атлантах и человеках. Значит, и образ жизни каждый может иметь свой собственный и неповторимый. Живу, как знаю, и никто не заставит меня измениться, пока я сам не пожелаю этого. В чем же иначе их хваленый закон свободной воли, о котором все уши прожужжали на непременных храмовых беседах?..
Он подошел к небольшой каменной площадке, невысоко огороженной зубчатой стенкой. Недавно Ган, вразрез с обычаями отцов и в пику царю Родаму, покрыл нежным и гладким мрамором грубые гранитные плиты древнего фамильного святилища, истертые тысячелетними поклонами и оттого потерявшие достойный вид. Он также поставил здесь, под драгоценным резным балдахином, статую своего бога – нововведение, на которое он первый из Атлантиса осмелился открыто. Но он намеревался идти дальше, уже объявил в узком кругу, что ко дню своей свадьбы с красавицей Хитро присоединит к мужскому божеству его супругу, богиню Тиннит, Тинатин, если быть точным.
Словно тень взмахнула крылом перед его лицом, и Ган вздрогнул. Он вспомнил внезапно, что его много раз уже предупреждали о том, что нельзя произносить имени бога или богини. На то они имеют подставные имена, псевдонимы, чтобы вибрациями священных звукосочетаний не тревожить без надобности высочайшую Сферу и не вызывать ее невольно возмущения, которое на неподготовленного и невежественного вопрошателя может навлечь разрушительные энергии.
Ган поспешно пробормотал слова о прощении и сложил ладони вместе, как его учили. Но мысли увлекали его все дальше, словно ему нужно было доказать что-то самому себе, определиться в чем-то, вызывавшем постоянную неуверенность.
Да, он показал всем, поставив бога Баала (это имя означало всего лишь «Владыка» и могло быть отнесено к любой категории богов и атлантов, уж это Ган успел узнать) в своем семейном тофте-святилище, что отошел от веры истинных атлантов. Но на что ему эта вера, приносящая только воображаемый почет от толпы человеков – и ничего больше? Какое облегчение ощутил Ган, признавшись себе самому в том, что не признает веры атлантов, и, мало того, – не обладает их непостижимым могуществом. Еще отец Гана, бывало, сокрушенно качал головой, обсуждая с его матерью будущее их сына: «Закрыт он, на то воля Единого, закрыт от Высшего…» На что супруга его, задетая намеком на собственное происхождение, более человеческое, чем божественное, отвечала: «Не он один, повелитель мой!» И что значит – «отошел от веры»? Не вернее было бы сказать, что идет по той же дороге, но отдает дань почета и другим богам, расположенным как бы на обочине Единого?
Да, когда-то и его предки общались с Наивысшим, – этот тофет тому доказательство, – но жизнь-то идет вперед, все меняется! Нет на земле больше богов, остались одни человеки… Ну – и атланты, которые для человеков должны быть как боги. Оттого-то, видно, так ярится царь Родам, что боится признаться в том, что сам становится человеком, так же, как и все атланты. Ему легче, конечно: кровь его наиболее чиста изо всех потомков бога Посейдона, сына титана Крона. Но и труднее ему в то же время: он со своими нечеловеческими, прямо скажем, способностями без конца «попадает невпопад», как укорила его недавно жена его, царица Тофана. То не нравится ему, что кто-то не сумел омолодиться вовремя, – как будто это так просто в наше время! – то подумал кто-то не совсем приличное да посмел при нем, царе великом…
Ему бы, Гану, такие возможности, – он бы уж… Он бы развернулся! Да главное, – затаился бы, и о своих всевидении и всеслышании никому бы ни гу-гу! То-то весь двор и вся страна, да что страна – весь мир был бы у него в руках! Шутка ли: ты только успеешь придумать, что соврать, – а царь уже гром и молнию на тебя мечет: нарушаешь, мол, Главный Закон! А у него этих законов – тьма тьмущая. Послушай его, так и жить на земле уже не стоит, а надо перебираться на небо: там только и живут по небесным законам. А на земле свои законы. Ган даже засмеялся, с удовольствием вспомнив сборище друзей – и подруг, конечно, – прошлым вечером.
Так что, дорогой царюшка, пора бы и тебе свалиться с небес да на землю. Впрочем, равнодушно подумал Ган, все в воле богов и, видно, на роду написано царю Родаму остаться последнему из тех, всемогущих, которые не прижились на земле со своим знанием, тайноведением и божественной премудростью. Жаль, конечно, – подоспела утилитарная мысль, – но ведь таких, как царь Родам, не приспособишь к полезной работе, скажем, на серебряных рудниках или на очистке обводных каналов Атлантиса. Им бы это ничего не стоило: стой себе и представляй, как растворяется в воздухе… аннигилируется, по-ихнему, все ненужное.
Ган со злостью вспомнил, как на жалобу царю о том, что начала расти у него какая-то шишка на неудобном месте, царь со своей неизменной, неявной, что ли, улыбкой, ответил ему: «А ты ее аннигилируй, Ган!» Точно не знает он о том, что не может он этого сделать, – не может! Как не может многого другого, что положено уметь атланту.
Гану и в голову не могло прийти, что царь Родам до последнего часа твердо верил в то, что все, чем обладает он, царь, – все эти знания, умения и видения присущи и всем атлантам без исключения. Иначе – зачем тебе называться атлантом?..
Да, невыносимо и тяжко стало жить при дворе тем из атлантов, которые желали бы упростить свое существование, отдать чрезмерные тяготы, взваленные их предком Атласом добровольно на себя и своих потомков, на откуп земным богам, с готовностью предлагающим свою помощь, – правда, в обмен на некоторые условия, еще не вполне понятные таким, как Ган. Например, что означало бы: «Обязуюсь отдать все свои силы?» Если они имеют в виду те силы, которые ощущает в себе Ган, – то можно бы, пожалуй, согласиться, ведь оставят же ему на прожитие, небось, толику… А вот если разговор о тех силах, о которых Ган как бы забыл в себе, – то ведь он может их и вспомнить, пожалуй, когда-нибудь, а? Вот то-то и оно.
В общем, окончательного согласия Ган еще не дал. Его и не торопят, собственно. Думают, что ему невыносимо трудно расстаться с прежней верой, молитвами… Знали бы, что он, сколько помнит себя, никогда не понимал, чего от него хотят, когда заставляют обращаться к кому-то, кого он не видит, не слышит и не ощущает, с непонятными, заученными наизусть словами. Ну, конечно, со временем он понял – надо хотя бы внешне соблюдать то, что установлено для его клана, – иначе дороги тебе не будет. Быть как все, понял Ган, – это как пропуск к преуспеванию.
И все же, видно, фундаментальное отрицание Высшего достаточно просвечивало сквозь его слова и поступки, как ни старался он затушевать их показным исполнением на людях всех ритуалов, раз его нынешние покровители и новые друзья, хвала Баал-Богу, нашли случай обратиться к нему. Именно они – и советник Азрула, его будущий тесть, в первую очередь, – открыли ему глаза на то, что без помощи Невидимых Сил невозможно обойтись, если ты, конечно, желаешь жить и повелевать жизнью, а не существовать, как червь, ползая по земле лишь волею Единого, которая, к тому же, оставила тебя…
Ему открыли под страхом смерти великую тайну: многие из атлантов, и их уже большинство, к нынешнему часу до конца прошли свой путь духовного нисхождения, соединившись с человеком, – что, оказывается, являлось целью появления на Земле их божественных предков. Поэтому они отныне принадлежат земным Невидимым Силам и составляют все вместе главную мощь Атлантиды, – а значит, и всего мира. Тем атлантам, которые еще упорствуют в своих, не от мира сего, убеждениях, дается время на осознание гибельности своего пути и шанс на продолжение земного существования – при условии передачи ими своих, признаваемых за божественные, сил и возможностей. Или – или.
Он принял посвящение, пока еще предварительное, и знаком его отныне стал перевернутый полумесяц с диском-кружком между его рогами, символ, означающий соединение божественной пары: Тиннит Пене Баал и Баал-Аммона, Баал-Бога…
Внезапно неистовая сила вошла в тело Гана, который приблизился к статуе бога. Рухнув ниц перед раскрашенным деревянным идолом, являвшим собой чудо искусства, воплотившим земную красоту, Ган подполз к нему по гладкому мрамору, омытому ночным дождем, и припал к его ногам, обливая их слезами восторга и преданности, доходящей до полного уничижения. Он не только не сопротивлялся этой, уже знакомой ему силе, но и призывал ее в себя, и усиливал многократно, все более и более разжигая в себе волны этой силы, наполнявшие его мощью, готовой все крушить.
О великий бог мой!.. – взывал он мысленно, ибо в такие минуты язык его и гортань не слушались его, как бы перекрываемые другой силой, – повели мне все, что пожелаешь, ибо знаю твою цель во мне: ты сотворишь из меня властелина мира, и, обещаю тебе, что ты будешь всегда действовать через меня. И да не произнесет язык мой слов жалости к врагам твоим!
Сила, так самозабвенно призываемая Ганом, крутила и сворачивала его тело в самые неестественные узлы, пока не свела все мышцы и жилы в нерасторжимой судороге, сковавшей его в неподвижности.
Ган, погруженный в темный экстаз, не ощущал боли. В закрытых глазах его словно густой слой бархатисточерной сажи покрыл все, что он знал на земле. И на этом фоне, поглощающем все световые блики, в беспорядочном и неуправляемом движении перекрещивались друг с другом молнии, вновь возникающие, взрывающиеся вдруг и разлетающиеся разноцветными искрами. Точно страшная битва шла в его сознании, но вне его тела. Впрочем, так оно и было…
Наконец все успокоилось. Судорога ослабила свою хватку, и упоительное чувство плотского блаженства охватило Гана, более реальное, чем сама земная действительность. В неясных каких-то видениях, сопровождавших это ощущение, он пытался достигнуть давно являвшейся ему прекрасной женщины, и женщина эта вовсе не была схожа с обликом невесты его, Хитро: женщина была черноволоса и темноглаза; прекрасная и устрашающая одновременно, она влекла его, обуреваемого желанием невероятной силы слиться с ней, утолить в ней свою страсть, отдать ей эту тягостную силу, которая иначе могла бы разрушить города и в прах разнести горы.
Сегодня она ускользала от Гана особенно неуловимо. Осыпая ее ласковыми и страстными словами, он не заметил, как, разъяренный сопротивлением, перешел на грубый язык, которым он общался с прелестницами известного в Атлантисе притона тайных услад. К его удивлению, черноокая дама вдруг приблизилась к нему, отдалась его железным рукам, и – о чудо! – Ган овладел ею. Невероятной мощи порыв настиг его, и темная страсть излилась из него долгим криком дотоле не испытанного наслаждения.
Садовник, вышедший в сад, чтобы с восходом солнца, помолившись, срезать несколько стеблей, заказанных ему дворцовым целителем, с ужасом глядел на хозяина, в полутьме корчившегося на мраморном полу святилища в конвульсиях, как показалось ему вначале. Желая помочь, он подошел ближе, и тут наконец в ритмических движениях нагого тела, освободившегося от пут белого полотна, садовник увидел… Он божился потом жене своей, что не будь хозяин один перед своей статуей, то можно было бы подумать, что здесь, на плитах святилища, с невидимой женщиной проделывает то, что только что совершили и они в собственной постели. Жена испугалась такой шутке и велела садовнику молчать об увиденном.
Однако перед глазами раба неотступно стояло то, что ему довелось увидеть, а в ушах его долго, при виде хозяина, звучал его крик, переходящий в хриплый рев. Это чудо господне, что, убегая, он не помял ни одного цветка и не нарушил ни одной клумбы, а то несдобровать бы ему, у домоправителя кнут весь в металлических шайбах…
Третий день, как царица Тофана нервничала.
Все вокруг диву давались ее, столь несвойственным атлантам, внезапным припадкам гнева, сменяющимся ручьями слез или полным изнеможением. Кончилось тем, что царица всех прогнала прочь от себя и лежала одна в своем просторном покое, наполненном светом и ароматом цветущих олеандров, потому что одну из стен покоя составляли совершенно прозрачные небьющиеся плиты, для красоты оправленные в сияющий орихалк. Теперь эти плиты были разведены в стороны, и благоухающий парк, начинающийся, казалось, прямо на обширном мраморном балконе, уставленном мраморными же резными вазами с редкостными растениями, являл с покоем царицы как бы одно целое.
Сюда, в загородный дворец, выстроенный по приказу царя Родама вскоре после его женитьбы, который давно бы уже следовало как-то обновить, – даже и мрамор не вечен – царица Тофана приехала сразу после крупной размолвки со своим богоравным супругом. Она прекрасно знала, с чем связано ее нынешнее состояние полного душевного разлада. «Быть не в себе», – называлось это у атлантов и почиталось за великое несчастье, недостойное могущества и силы их естества. Возможность «выйти из себя» еще как-то предоставлялась земным человекам – «челяди», – им это прощалось просто в силу того, что они не обладали пока нужным аппаратом: организм их, получивший от атлантов проблеск духа, должен был пройти теряющийся в тысячелетиях путь совершенствования, внутренней эволюции, прежде чем ему можно было бы ставить хотя бы такие требования, как самообладание, не говоря уже о мыслительной мощи…
Но в последнее время кое-кого из богоравных все чаще настигали эти необъяснимые для них поначалу приступы потери внутренней гармонии. Однако все они, будучи на прямой связи с Высшим, умели самовосстанавливаться, – ибо без энергетического равновесия невозможна была бы никакая, даже самая примитивная, беседа на внеземном уровне. Но – дальше-больше, словно какой-то сокровенный затвор был уже сломан, и все труднее стало атлантам «быть в себе». Величайший Космический Опыт подходил к критическому рубежу: высшее сознание, заключенное в узкие рамки земного тела, должно было осиять весь народ, – и атлантов, и живших с ними бок о бок не-атлантов, – иначе общее состояние грозило приравнять к себе возможности отдельных личностей.
К тому и шло. Пришедшие на землю через своих предков-титанов, чтобы своим влиянием возвысить сознание человечества, осилившего к тому времени необходимые ступени физической эволюции, атланты в какой-то момент начали сами воспринимать земные черты.
Велико искушение для духа, впавшего в осязаемое тело, отойти от законов и правил, по которым он существовал в других сферах. Земная жизнь, паче чаяния, оказалась такой привлекательной…
Да, царица Тофана прекрасно знала – и кому, как не ей самой, лучше было разобраться в себе, – что виной ее болезни была она сама. Точнее – ее поднявшаяся из каких-то сумрачных глубин, до которых было неприятно дотрагиваться даже мысленно, и уже известная ей по нескольким проявлениям самостоятельность. Даже не самостоятельность, потому что невозможно было назвать этим, таким поощряемым у атлантов словом, ее новое – дикое – чувство. Самость – вот что это такое. Я, и только я. И никто не вправе приказать мне сделать что-то или поступить как-то, пока я сама этого не пожелаю.
Но в чем дело? – попыталась разобраться в себе царица. Ведь это и есть Закон. Разве она преступает его, наипервейший закон Вселенной, закон свободного желания, свободной воли? Не хочу и не подчинюсь ему, Родаму…
Но ведь это не просто какой-то прохожий под этим именем – отвечал ей едва слышно кто-то невидимый внутри, – ведь этот Родам – твоя половина, соединенная с тобой узами на самом деле нерасторжимыми, – и кто, кроме тебя, помнит лучше, как это происходило, – не только на земле… И вся причина твоего безумия, – ибо это и есть безумие, когда ты отвергаешь высокий разум и идешь на поводу у страсти, готовой поглотить тебя, – в том, что ты отошла от своего долга. Долг, непререкаемый долг твой в том, чтобы исполнить любое повеление своего супруга, потому что он доверяет тебе, именно как собственной половине, и рассчитывает на тебя. Сейчас трудно ему, – он не только муж Тофаны, но и царь Великой Атлантиды, – и, помогая ему, ты поможешь и себе, и всем, потому что в другой раз царь, который сохранит свою силу с твоей помощью, оставшись неделимым, – так же придет на помощь тебе, как и другим.
Царица, как бы в полузабытьи, еще долго продолжала бы пререкаться сама с собой, когда вдруг осознала, что в ней – хвала Единому! – проявился вновь ее внутренний голос. Это значило, что провод внешней связи хоть слабо, но начинает восстанавливаться, и что не все еще потеряно. Она поднялась с ложа – какая-то непонятная усталость владела ею – и уже собиралась пройти в соседнее помещение к небольшому алтарю, чисто символически обозначавшему место, наиболее благоприятное для Общения, – как вдруг все недавние мысли о благодарности высшей силе исчезли из ее головы, как бы прикрытые сверху аспидной доской, на черном фоне которой явился вполне реальный, в ярчайших расцветках, улыбающийся лик уже знакомого ей Кечкоа, низшего духа.
Царица попыталась избавиться от непрошеногогостя, с досадой отгоняя яркое видение, но Кечкоа и не думал исчезать из ее сознания. Удивленная, она спросила его невольно:
– Как смеешь ты, ничтожный, не повиноваться мне?
Кечкоа помолчал, заговорщицки улыбаясь и в упор разглядывая полуодетую царицу. Для общения с Тофаной он, из дипломатических целей, принял человеческий облик: это был молодой и довольно привлекательный мужчина с темными волосами, короткими завитками, покрывавшими его голову и часть шеи, массивная колонна которой переходила в сильные смуглые плечи, небрежно прикрытые алым, в черно-желтую полоску, шелком. Черные глаза его, глубоко спрятанные под густыми бровями в глазницах, гасивших их блеск, были почти неразличимы на темном, покрытом густой черной бородой лице, и оттого белозубая улыбка казалась чем-то инородным, искусственным: атланты первым делом смотрели друг другу в глаза, и этого иногда бывало достаточно, чтобы понимать собеседника без слов. Именно из-за этих притушенных глаз царица Тофана и не привечала Кечкоа, хотя он и оказывал ей уже несколько мелких, как она считала, услуг: не так давно, например, царица с удивлением нашла на своем туалетном столике золотой поднос с двумя вулканическими «бомбами». Поднос ярко выделялся на темно-красном камне подзеркалья, так что не заметить его было невозможно, но на все распросы, откуда он взялся и кто его поставил сюда, царица ответа не получила ни от челяди, ни от приближенных. Зато от одной из них, близкой своей тетушки, толстухи Изе, последовало прямотаки провидческое предложение расколоть эти «бомбы» и взглянуть, что у них там внутри. Царица, с сомнением повертев в руках округлые шероховатые, странно тяжелые для своего размера шарики, все же согласилась, и вскоре на том же золотом блюде красовались, сверкая радугой, два огромных алмаза, на ее глазах извлеченные из сердцевины невзрачных камней. Царица тогда долго любовалась не столько самими алмазами, которые, конечно, были необыкновенны и поразительно отвечали ее невысказанному до сих пор желанию иметь нечто совершенно выдающееся в новой короне, которую она собиралась заказать, – сколько открывшейся в сколе внутренней поверхностью «бомб»: она была усыпана плотно прилегающими друг к другу коническими иголками, сияющими и переливающимися на впервые открывшемся им свету, пожалуй, даже больше, нежели сами алмазы. Одна из этих половинок с тех пор стояла под стеклом в личной коллекции редкостей царицы, ровным отверстием посередине напоминая о происхождении ее чудо-алмазов…
Когда их огранили, – каждый отдельным мастером и совершенно особо – так же внезапно, как сейчас, явился этот самый Кечкоа, чтобы получить свою долю признательности от царицы. Не в самых сильных выражениях, но он ее получил, оставив у царицы ощущение чего-то вязкого и прилипчивого, к чему она не привыкла до этого. И, в то же время, – не могла же она, в конце концов, не отблагодарить Кечкоа, кем бы он ни был, за доставленный подарок. Правда, она могла бы и не принимать его, а послать на распыление, как гласило строгое правило обращения с предметами неизвестного происхождения, но настолько велико было в ней, да и во всех атлантах, чувство превосходства над всем земным – в том числе и невидимым, – что и тут, как много раз уже до этого, она отмела от себя все сомнения, давно втайне считая исполнение законов излишней тяготой для себя как царицы; так же необязательными с некоторых пор сделались в ее понимании и многие другие правила атлантов, предписанные к строгому соблюдению, – этические и ритуальные.
Появление в поле видения низшего духа удивило царицу Тофану, но отнюдь не обеспокоило поначалу. По праву происхождения атланты в своем сознании были отделены от нижней сферы – земной и подземной – всем складом собственного естества, принадлежавшего высшему и, естественно, не имевшему никаких точек соприкосновения с антагонистом своего прародителя. Эта формула настолько прочно внедрилась в их разум, что со временем стерлась с его поверхности, покрывшись иными наслоениями, связанными с земным образом жизни. Постепенно и враг – невидимый или пролетающий в отдалении темной тучкой – стал казаться уже вроде и не врагом, а лишь гипотетическим недругом, настолько слабым, что любые его происки, буде они проявятся, можно будет уничтожить одним мановением руки, не прибегая даже к силе мысли, недоступной низшим.
Однако случай с угаданными камнями насторожил царицу. Разум ее был остер, как и память, и она не могла утешить себя тем, что мысленное желание ее просочилось наружу, если б она поделилась им с кем-то и забыла об этом. Но, раз исключена презренная человеческая забывчивость, – то, значит… Тут царице самое бы время задуматься и, прибегнув к высшей помощи, как это и предписывалось сводом правил, очистить каналы связи, через которые уже начинали просачиваться инородные элементы, порождения самой Земли.
Короче говоря, момент был упущен, и теперь царица успокаивала себя тем, что невозможно ведь, живя на Земле, полностью отгородиться от ее энергий. А что ей оставалось теперь, кроме упования на неизбывную мощь своего клана…
И царица с облегчением вздохнула, найдя эту спасительную формулу.
Тем временем Кечкоа продолжал молча ее разглядывать. В непривычном раздражении от его назойливого взора – никто до сих пор не осмеливался так явно влиять на эмоции царицы, – она повторила:
– Что ты молчишь? Кто позволил тебе…
– Чье позволение мне еще нужно, царица, если ты сама допускаешь меня до своего лицезрения?
Впервые за свою, такую долгую по земным меркам, жизнь царица не нашлась с ответом. Эта беседа настолько отличалась от всего, к чему привыкла она, и что составляло незыблемую, как всегда казалось, основу ее существования, что она в растерянности, в то же время презирая саму себя за это, опустилась в легкое плетеное кресло, имевшее форму полусферы, и, тщетно прикрывая обнаженные округлые колени короткой домашней туникой, пролепетала:
– Я?.. Сама?.. Что ты такое говоришь, как тебя там…
– …Кечкоа, сиятельная царица. Ну конечно, ты! Кто же из вас впустит в свое сознание непрошеного гостя? Мой пропуск – твое расположение ко мне!
Царица Тофана начала с ужасом понимать, что отделаться от этого обитателя земной тени будет не так просто, может быть, даже невозможно. Теперь, закрыв глаза, она, в свою очередь, в упор разглядывала собеседника, подавляя невольное, какое-то природное отвращение к нему. Больше всего ее поразил его ярко-красный рот на фоне черной бороды, сливавшейся с волосами на висках, так что свободным на этом лице оставалось крохотное пространство: начиная от узкого лба с нависшими надбровьями, и заканчиваясь тупым треугольником довольно крупного носа. Рот этот, с выдающейся вперед нижней толстой губой, казался утонченному вкусу царицы атлантов чем-то неприличным, какимто вполне самостоятельным образованием, вызывавшим даже брезгливое чувство: он извивался в разговоре, среди густых зарослей щетины, как дождевой червяк. Царица вдруг успокоилась: червяков она не переносила напрочь, исключая их начисто из сферы окружающей жизни, и уподобление им губ этого чернобрового сразу же поставило его на соответствующее место.
Внезапно заскучав, она зевнула, прикрыв узкой ладошкой рот. Гость что-то продолжал говорить, однако царице стало неинтересно его слушать: зевота все усиливалась, и, мало того, ей огромных усилий стоило удержаться, чтобы со всей сладостью не потянуться.
– Ну, хватит! – наконец воскликнула она, поднявшись и подойдя к своему алтарю. – Заговорилась я с тобой, прости, снова запамятовала твое имя. А болтать мне попусту не в привычку, знаешь ли. Так что – будь здоров!
И она крепко закрыла перед самым носом Кечкоа, начавшего как-то линять и размываться в четкости линий, воображаемую, но вполне натуральную дверь – натуральную вплоть до малой трещинки, идущей от сучка, – и резко, в два оборота, повернула ключ в замке.
Зевота и ломота исчезли как не бывало. Царица, обретя как-то сразу свою обычную уверенность, быстро, стараясь ни о чем не думать, кроме как о предстоящем купании, прошла, на ходу развязывая пояс туники, в сад. Обнаженная, встала она под ледяные струи искусственного водопада, отведенного сюда от священного ручья Баим, который, говорят, течет чуть ли не с самой горы Мери, куда не ступала нога ни человека, ни обычного рода атланта – с тех пор, как стали атланты смертны…
Ритуальное омовение, с сознательным привлечением стихийных сил, освежило царицу и придало ясности ее разуму. Отряхнувшись после купания и выкрутив из густых длинных волос воду, как это делают поселянки, полоща белье в реке, она, все еще не допуская в сознание ни раздумий, ни мыслей, вернулась к себе, как и вышла – через ступени балкона – и, не призывая никого на помощь, начала тщательно, как всегда, одеваться. Собственно одевание составляло окончание этого почти священного действия, – процесса, в котором царица приводила свое тело в соответствие с идеалом Красоты, идеалом, который каждый атлант мог лицезреть внутренним оком, обращаясь к Высшему в себе, идеал тот был совершенен…
Открыв несколько деревянных, украшенных резьбой знаменитого Прама, дверок в стене своей спальни, царица в большом раздумье перебрала все наряды, висевшие там на торсах-манекенах. Несколько раз ее рука почти уверенно ложилась на мягкое плечо какого-то из них, затем возвращалась к другому, в задумчивости перебирая бахрому или украшения, разглаживая любовно невидимые складочки. Каждый наряд уже надевался царицей, и не раз, и каждый нес на себе определенный слой воспоминаний. Воспоминания эти были не все безоблачны, но зато все до одного волнующи и добры: в этих платьях, очень сложных по составу частей, настоящих царских уборах, – независимо от того, были ли они парадными, во всем блеске золота и драгоценных камней, или же предназначались для отдыха в кругу семьи и близких, и украшенных в этом случае не столько бьющим в глаза сверканием царской роскоши, долженствующей превзойти все, что могло изобрести не знающее предела воображение красавиц, у которых, вот уж воистину, Красота была «в крови», – сколько изяществом и необычностью вышивки или простой отделки, а иногда и просто новыми линиями покроя: царица Атлантиды была и признанной царицей Мод и Красоты.
Наконец она выбрала белое, такое простое, но несказанно прекрасное платье: было оно все, от плеч до ступней, убрано в мельчайшую складочку – признак божественной или царственной власти, – состояло из многих оборок и подхватов, и сложностью своего изготовления принесло немало слез и бессонных ночей известным расенским рукодельницам, взятым с тех пор царицей под особую опеку. Словом, нашлось им занятие, да и изрядная прибыль, потому что до этого дня сидели они, горемычные, в полной нищете, годами иногда поджидая своих воинственных муженьков, морских бродяг, которые возвращались время от времени к своим домам, оборванные и с пустыми кошельками, но зато осиянные духом необыкновенных приключений и с непременными подарками своим женщинам в виде колец, браслетов, а то и наплечных украшений, достойных царской знати. Подарки эти у женщин-расенок почитались за святыню, и не было случая, чтобы кто-нибудь из них, даже при крайней нужде, вынес их на базарную площадь, что шумела беспрестанно, до самой ночи, перед портом Атлантиса, просторная, как сам порт, наполненный несчетным числом судов и суденышек: от огромных металлических построек, чудом державшихся на воде, до изящных, всего в несколько ярусов, лодок из драгоценных сортов дерева, иногда с разноцветными парусами, которые расцвечивали бирюзовую, с белым кружевом пены, морскую гладь, делая ее еще более нарядной…
Поверхностные мысли царицы блуждали, не нарушая глубин прикрытого до поры сознания. Она вынула из дорожного сундучка одноразовый пакет с нательным бельем, слегка провела по нему ногтем, округло заточенным и покрытым нежно-розовым перламутром, – пакет послушно раскрылся. Царица критически просмотрела, растягивая на пальцах, тончайшее узорное плетенье – теперь, когда для быстроты обратились к машинной работе, стали появляться огрехи – и, присев на низкий стул перед зеркальной стеной, осторожно натянула сначала на ступни, а затем и на все тело плотно облегающую, почти неразличимую, если бы не вытканный цветочный узор, чешую, закрывавшую все тело атлантских женщин, оставляя лишь голову и кисти рук открытыми. Древний, сейчас почти несоблюдаемый закон предписывал им покрываться подобным образом каждый раз при общении с сознаниями, низшими по уровню, дабы защититься, хотя бы внешне, от губительных эманаций; руки по тому же обычаю скрывались тонкими, не стесняющими движений перчатками, а голова и – главное – лицо ограждались от мира эфемерной, едва различимой фатой, прикрепленной к головному убору, будь то царская корона или простой обруч на лбу. Впрочем, в своем кругу атланты не придерживались неукоснительно подобных строгостей. Однако, видно, у царицы появились причины одеться в непроницаемую броню, разряжающую вредоносные стрелы невидимых излучений. Ее уверенность в собственной неуязвимости была поколеблена.
Высокая, очень высокая даже для атланток, царица Тофана стояла перед своим отражением в большом, во всю стену, зеркале, и смотрела на себя как бы со стороны, безжалостно отыскивая в собственном облике новые черты, какие-то малейшие изменения, почти незаметные черточки, которые бы указали ей на начавшееся разложение. Жадно выискивала она эти признаки, известные ей одной, хотя сердце ее замирало от какого-то нового ощущения, неведомого ей до этой минуты.
Страх, – мелькнуло что-то. Неужели?.. Неужели это и есть тот самый страх, появление которого предвещает крах силы, гибель всего?.. Царица отогнала от себя, как назойливое насекомое, эту мысль, – но надолго ли?
Но никаких внешних изменений она не находила в собственном облике. Перед ней стояла юная женщина, все такая же юная, несмотря на время, оставшееся позади. Так же гладка, мрамору подобна, была ее белая кожа, скрывавшая под собой сложный и безупречно настроенный механизм органических взаимодействий и омических реакций. Именно об этой безупречности говорили и само состояние этой кожи, ее ровный цвет и матовая бархатистость, и яркий блеск глаз, присущий атлантам и удостоверяющий их высшее происхождение, и весь облик царицы: мягкие линии плеч и бедер, упругие ноги и вздернутые ягодицы, грудь, наполненная избытком жизненной силы и не требующая пока никакой внешней опоры. Так в чем же дело? Откуда ее беспокойство, такое непонятное и даже – подумать только! – вызвавшее в ней страх?..
Простого ответа не было. Чтобы получить ясное понятие обо всем, что происходило и в ней самой, и вокруг нее, – для того и готовилась царица Тофана. Готовилась тщательно, ибо на Общение с высшими Силами нельзя было явиться с разбега из гущи земной жизни: требовалось очищение. Очищение внешнее подходило к завершению, – оставалось накинуть платье и приладить на непокорные кудри корону. Об очищении внутреннем царица, надо сказать, не слишком задумывалась, привыкнув к мысли о собственной непогрешимости. Очищение требуется, к примеру, челядинке Оркии, которую скоро нельзя будет допустить к обслуживанию хлева, не то что покоев царицы, – так она набралась грязи, путаясь по углам со всеми без разбора… Или повару из колонистов, седому уже мужчине, который, однако, не стесняется в глаза – страшно подумать! – лгать. Да мало ли кому еще! Всю эту челядь, учи их, не учи, – надо изолировать от себя, давно она об этом говорит царю Родаму. Но только он со своими устаревшими отцовскими заветами и слышать ничего не хочет об этой изоляции. Вот и допомогались человекам! До того, что и сами стали пропускать в себя их же черноту. Так, пожалуй, можно дойти до того, что засоришь в себе все до одного каналы, и будешь тогда… Царица запнулась, не решаясь дойти до напрашивающегося определения, и медленно произнесла:
– Будешь и сама, как человек…
Мысль эта была ясна и тверда, как все мысли «оттуда». Царица невольно взглянула наверх – не явился ли кто до времени на беседу с ней, – она ведь еще не готова. Но нет – в глазах ее, и открытых, и закрытых, изменения картины не было. Вот, пожалуй… Но что это? Царица снова и снова открывала и закрывала глаза, надеясь, что наваждение пройдет. Однако все было тщетно: в закрытых ее глазах, этом источнике высшей радости, знания и самой неиссякаемой жизни, – стояла какая-то невиданная до тех пор серая пелена. Никакого проблеска света, ни единой цветовой полоски, не говоря уж о ярких картинах Земли или иных миров, обычно являющихся ей по первому желанию. Царица кинулась к алтарю и ощутила, как холод начал просачиваться в ее тело: неугасимый Огонь, наместник на земле Единого, погас.
Но и тут царица не задумалась. В поисках виновного она бросилась звонить во все колокольчики, стоявшие и висевшие в изобилии в ее спальне. Видя, что никто не появляется, она выбежала в длинный коридор, крича и браня слуг.
Ей пришлось обежать все четыре верхних этажа дворца, подняться даже на плоскую крышу, превращенную по ее желанию в цветущий сад, – дворец как вымер. Все еще бегом, с сердцем, непривычно колотящимся неровным каким-то боем, она спустилась по устланным коврами лестницам на нижние, подземные жилые этажи, которые не любила, и где бывала лишь в крайних случаях сильной жары (что случалось на Посейдонисе все реже, слава Единому) или угрозы землетрясений.
Царица проходила покой за покоем, освещавшийся при ее приближении как бы сам собой, но не встречала никого. Она уже не думала о том, что челядь, видно, покинула дворец, напуганная ее недавним приступом ярости, и мысль о неповиновении человеков уже не трогала ее. Но где же была ее свита, ее наиболее близкие приближенные, с которыми она примчалась сюда разъяренная, как божество Чиченов, слава Единому, оставивших Атлантиду и перебравшихся на остатки югозападного материка Мус?
Почти в беспамятстве от непонятной слабости шла царица все вглубь и вглубь, спускаясь по красиво убранным прочным лестницам ниже, ниже и ниже. На площадке последней лестницы, уже не каменной, а металлической, освещенной едва заметным светом над свинцовой дверью, непроницаемой, как стена, она поневоле остановилась: идти ниже было некуда. Слабеющими руками царица прощупала те места на двери, в которых обычно бывают замки или запоры, – ничего не было. Царица успела подумать, что дверь эта скрывает тайну и потому заперта мыслью. Кто бы мог запереть подобным замком эту дверь, как не царь Родам?.. Чувствуя, как коченеет в этом каменном панцире ее тело не только снаружи, но и изнутри, и смирившись уже с тем, что мысленная мощь, которая одна бы могла сейчас помочь ей, оставила ее, царица из последних сил прошептала:
– Родам, любовь моя…
В то утро царь Родам успел ко времени. Когда восточная гряда островерхих гор четко обозначилась на фоне побледневшего неба, он уже заканчивал раскладывать на жертвеннике – большой каменной чаше, слегка вогнутой и поставленной на изящную ножку, массивную внизу и сужающуюся кверху, – дрова для ритуального огня, принесенные им с собой. В данном случае дрова эти невозможно было заменить ничем: они брались от священных додаров из рощи при храме Посейдона в Атлантисе, которая постоянно пополнялась молодыми саженцами; затем готовились по особой технологии в течение нескольких лет – сушились, вымачивались и вновь медленно подсыхали, – и, получив некие свойства, известные только жрецам храма, составлявшим его отдельную коллегию, могли служить своей цели. Цель эта была велика и возвышенна: огонь, питающийся плотью додаров, не только сам был чист, но и своими эманациями очищал земное пространство вокруг, делая его пригодными для проникновения высших энергий и облегчая земным обитателям соприкосновение и связь с этими энергиями, – что и составляло Высшее Общение.
Кроме всего прочего, для возжжения священного огня требовалось умение выложить из дров пирамидку, подходящую к каждому отдельному случаю, – царь Родам, например, знал семь таких способов, и вполне обходился ими. Но некоторые – он слыхал об этом – превратили даже священное явление в вид коллекционирования. Рекорд дошел, кажется, до ста видов…
Царь Родам крутанул головой. Он не осуждал, но… Надо бы запретить царским указом подобное отношение к сокровенному. Но чего он добьется указом? Насильно в сердце не вложишь божественный трепет, не заставишь понять его тех, кого он оставил. Вот, ему докладывали, – недавно даже додумались устроить игры, это взрослые все дяди: кто мудренее пирамидку выстроит, да чья окажется устойчивее под ударами с десяти шагов. Дети?.. Да нет, тут другое…
Между тем башенка была готова. Царь любовался ее стройным корпусом и красивым узором: каждый ряд поленьев являл собой новую, отличную от других, геометрическую фигуру, самостоятельный символ, вместе же двенадцать рядов составляли некую магическую формулу, космический знак. Омыв руки из принесенного с собой кувшина, царь Родам полил, вернее, окропил – настолько драгоценным были эти вещества, – каждый из рядов пирамиды, стараясь не пропускать ни одного полена, – густым маслом из семи крохотных золотых сосудов.
Знакомый аромат, все усложняясь новыми и новыми запахами, едва не увел царя в прошедшие времена, когда это самое действо, которое сейчас он проводил в одиночестве, совершали они вдвоем с отцом, великим царем Сваргом.
Но Родам вовремя встрепенулся: небо на Востоке горело. Быстро он чиркнул огнивом над приготовленной пирамидой – и, как истинное чудо, вспыхнул беззвучный прозрачный костер, совершенно лишенный дыма и распространяющий вокруг себя благовоние, наводящее на мысли о неземном. Огонь вспыхнул именно в ту секунду, когда к Земле вырвался первый луч солнца, стремительный, радостный, как добрый хозяин к толпе заждавшихся гостей, на ходу обнимая каждого и окидывая всех пристальным взором.
Это было добрым знаком.
Теперь оставалось ждать. Думать – и ждать.
* * *
Давно это было.
В те незабываемые дни, когда великий царь Сварг заканчивал обучение своего сына, тогда еще царевича Родама. К тому времени он прошел уже полный курс школы, обязательной для всех без исключения детей: атланты за этим очень следили. Однако это общее образование, которое, безусловно, оттачивало способности полубогов, каковыми атлантов почитали земные человеки, и расширяло и без того огромные возможности их, – это как бы вводное образование не шло ни в какое сравнение с тем, чему учил царь своего наследника, получив на то Высшее соизволение, и с облегчением узнав об окончании своей миссии на Земле. Конечно, это не означало непременного ухода с земного плана – царь мог, если желал, продолжать свое прежнее житье, исключалась лишь полная власть, – однако ни один, не только из царей, но и вообще атлантов до сих пор не воспользовался этим правом: разрешение оставить бренное тело и вернуться, хотя бы на время, в родные надземные сферы было превыше всего, и не воспользоваться им никому не приходило в голову.
Царь имел много преимуществ перед рядовыми атлантами, хотя, в общем, они были равны. Это были тяжкие все преимущества, и одно из них составляло выбор достойной себе замены. Выбор этот должен был быть безошибочным: исполнение Высшего Плана, неизвестного во всей полноте даже самим царям, зависело от него. Груз, возлагавшийся на плечи новоявленного царя Атлантиды, был неимоверно тяжел: он составлял земное равновесие. И царь, принимавший из рук своего преемника-отца знаки власти, одним из которых был золотой шар, символ планеты, должен был вместе с ними вполне сознательно и добровольно взять на себя ответственность за энергетическое благополучие Земли на время, ему порученное. Эта ответственность давалась царю не просто символически, – но подкреплялась поистине божественной способностью повелевать скрытыми от прочих силами Земли и Космоса.
Полубог становился богом, но богом, живущим на Земле.
Трудным было и само обучение царским премудростям. Царь Родам даже теперь, когда с тех пор прошло столько лет, не любил вспоминать тот тягостный период. Светлокудрый красавец, упивавшийся радостями жизни, он из хмельного пиршества юности был перенесен бестрепетной рукой необходимости в совершенно иной мир, о котором и не подозревал до той поры. Это был мир неустанной борьбы с самим собой, который вдруг оказался злейшим врагом, мир овладения собственными привычками, чувствами, желаниями, наконец. Это последнее было для царевича, привыкшего к всеобщему поклонению, самым трудным, пожалуй, – именно потому, что он долго не мог уразуметь, зачем надо переламывать себя и не получать того, чего тебе сейчас хочется, – чем бы это ни было.
К счастью, выбор отца оказался верным: задатки у Родама, неожиданно для него самого, переросли в именно те качества, которых от него ожидали. Даже старые атланты, помнившие еще царствование его деда, все без исключения подняли над головой раскрытые ладони в знак одобрения, когда кончился испытательный срок пробного правления царевича, и самые сложные вопросы войны и мира были им вполне разумно решены.
Тогда еще царь Родам понял: для того, чтобы владеть миром, нужно овладеть самим собой. Эта главнейшая премудрость атлантов, которую они впитывали с молоком матери, но далеко не все постигали, – премудрость, подкрепленная знанием сокровенных таинств, и была сильнейшим оружием их нынешнего царя.
Едва ощутимая тяжесть легла на сердце царя Родама, вернее – в самое средоточие груди. Будто детская игрушка, стрела с мягким пластичковым наконечником, накрепко присосалась к наиважнейшему энергетическому центру. Царь попытался избавиться от этой нежелательной присоски, – благо, он умел это делать. Однако тяжесть не уменьшалась, – напротив, появилось чувство беспокойства и едва уловимого пока дискомфорта: его энергией пользовался или враг (но кто осмелился бы воровски прорваться сквозь ауру царя, если он не самоубийца?), или же это…
Царь Родам мгновенно вернулся к действительности, от влияния которой ему пришлось на время отгородиться, плотной шторкой как бы завесив свое сознание от всех внешних вторжений. Это было необходимо для того процесса полного очищения, который должен был привести его к Общению на уровне, задуманном им. Однако эта утечка энергии, которую он в другое время и не заметил бы, могла теперь усложнить или, по крайней мере, отдалить время Общения: для этой цели царю требовалось огромное количество силы, чистейшей по качеству вибраций и неимоверной по напряжению.
Сначала царь отнес все к тому, что ввергся-таки в воспоминания. Недаром возвращаться мыслью в прошлое было запрещено. Собственно говоря, никаких прямых запретов для атлантов не существовало: воля их была свободной, как это ей и дано от начала. Все запрещающие и, следовательно, карающие меры были предназначены только для человеков, подобно тому, как стращают наказанием детей, чтобы уберечь их от опасности, пока их разум не укрепится настолько, что они смогут осознать ее сами, без принуждения. Атланты просто не делали никогда того, чего не следует делать: они знали. Случай же возврата мыслью в прошлое грозил оживлением прошедших, давно изжитых энергий, то есть опасностью потратить свою нынешнюю силу на явление минувшее, и потому бесполезное. Ведь, с точки зрения атлантов, только будущее, и лишь оно одно, имело значение во всем мироздании. Будущее, – даже не настоящее, которое уплывает, едва наступив…
Просмотрев бегло свои недавние мысли, царь, однако, убедился, что здесь все было в порядке: защитное ограждение перед прошлым было нетронуто, да и сами воспоминания были необходимой частью процесса очищения. Что же?..
И вдруг сердце пронзила боль. Это не было уже просто неприятным, тянущим чувством, будто не хватает воздуха. Это было как удар копья. И царь понял.
Осторожно, едва дыша, он повернулся, не поднимаясь со своего каменного ложа, – подняться не давало это проклятое копье – и устремился мыслью к своей царице: никто, кроме Тофаны, не мог вот так, без всякого спроса, причинить ему такую боль. Так же, как и величайшую радость, и поистине неземное счастье.
Гермес легко сбежал по широкой и пологой лестнице, ведущей от Центра Знания к подножию холма, где он оставил свой мобиль, по пути приветствуя нечастых в это время дня встречных: мужчин – стукая с разбега ладонь в ладонь; перед женщинами целуя сведенные в пучок пальцы – в знак восхищения. Словно вихрь пронесся из конца в конец по белокаменной лестнице, украшенной изваяниями львов, грифонов и фениксов, обвитых священными символами, которые превратил талант их создателя в изощренное сплетение узоров. И долго еще, пока не развеется в пространстве этот незримый коридор, оставленный им, каждый вступивший в него будет ощущать чувство беспричинной радости и какого-то всеобщего дружелюбия.
Это было счастливое свойство Гермеса – своим присутствием как бы осветлять все вокруг. Когда его спрашивали о причине этого всепобеждающего обаяния, он только пожимал плечами, сияя карими глазами и добродушной усмешкой, – искренне не видя здесь никакого секрета. В действительности же дело было лишь в том, что он не таил на сердце никаких обид, и в сознании своем старался быстро избавиться от неприятностей, воспринимая их как неизбежные временные препятствия на своем пути. Главное – это знать Цель – говорил он иногда, если чувствовал, что его могут понять. Велико же было стремление его к этой, ему одному ведомой Цели, и велика, по-видимому, была эта Цель, когда столь чиста и мощна была сила его энергии. Луч ее не то чтобы отражал, – но просто покрывал встречные излучения, усиливая благоприятные и нейтрализуя вредоносные, враждебные, – очищая таким образом и их владельцев, и все пространство вокруг от ядовитых эманаций.
Во всяком случае те, кто настойчиво расспрашивали его о секретах воздействия на людей и все окружающее, – все они имели в виду потусторонний источник его силы. Полагали даже, что Великий царь Сварг, оставляя Землю, передал свою особую жизненную мощь меньшому сыну…
Сам Гермес не придавал большого значения подобным вещам, хотя слухи до него доходили разные. Он воспринимал то, что думал, говорил и творил, как нечто совершенно естественное и вполне доступное – при желании – всем. Но все это, чего «при желании» другие должны были упорно добиваться строжайшим самоконтролем и величайшим устремлением, – как бы ничего и не стоило самому Гермесу.
– Чистая кровь, – говорили склоняющиеся к материализму.
– Чистые помыслы, – молчаливо отвечали им Те, Кто Знали.
– У него нет зависти даже к своему царственному брату, – удивлялись первые.
– Это оттого, что он, родившись, когда брат его уже царствовал, впитал в себя с молоком матери, что у него нет никаких шансов на корону, – добавляли другие.
– Зато у него есть любовь, – заключали Те, Кто Знали.
Однако сейчас не все было безоблачно для Гермеса. На ходу он оглядел небосвод, – тут было все в порядке. Солнце светило хоть и перейдя уже зенит, но в меру ярко. Ничего, предвещающего внезапную перемену погоды, не было. Вон, правда, подозрительное облачко из-за западной гряды гор на горизонте, – но это не раньше, чем на завтра… Гермес не отгонял беспокойного чувства, – он лишь отставил его в сторону, как бы наблюдая за ним, – что-то, чуть сдвинувшее его с точки всегдашнего равновесия, но не проявившееся пока, произошло. Он ждал, спокойно и терпеливо.
Еще издали Гермес залюбовался своим мобилем, стоявшим на специальной площадке в тени рослых пальм. Он относился к этому своему детищу поистине как к живому созданию, – а кто знает, не было ли оно так на самом деле? Ведь, если сложить вместе все затраченные на него чувства и мысли, не говоря уже о физических усилиях его самого и помогавших ему расенских юношей, то немудрено, что мобиль понимает его и с готовностью подчиняется ему. Пришлось даже поставить ограничитель на исполнение, – иначе при малейшем отвлечении внимания своего хозяина мобиль начинал рыскать, выполняя его желания.
Мобиль был небольшой и легкий, – хотя, при надобности, мог и увеличить свою вместимость. Металл, из которого он был сделан, плавить пришлось в верхних слоях атмосферы. Хорошо, что повезло в тот раз, и друг Арац, возглавлявший команду выведенного на орбиту небесного корабля, взял на борт и Гермеса, – а то бы пришлось даже за такой безделицей, как разрешение, идти к брату Родаму: уж очень тот оберегает своего младшего, будто он слабее всех.
Внешне Гермес, действительно, отличался от атлантов царственного рода. В первую очередь тем, что рост его не отвечал известным требованиям: своему брату Родаму Гермес был едва по плечо. Видно, сказывались годы, прошедшие между их рождением, за время которых дрогнула и неуловимо начала изменяться внутренняя постоянная атлантов, даже внешне приближая их к облику коренных обитателей Земли. В последнее время дошло до того, что некто, отстаивая свои, безусловно, привлекательные многими льготами, права атланта, должен был соглашаться на исследование собственной крови! А ведь организм атланта, гласит одна из заповедей, должен быть неприкосновенен в своей целостности. Конечно, заживить ранку никому из атлантов не составляло труда, но все же… В эти короткие, казалось бы, мгновения вторжения в тело инородного инструмента нарушалась целостность защиты. Тем более, кровь, это священное во всем мироздании вещество, показываясь наружу, привлекала в себя невидимые для земного глаза враждебные элементы. Время не играло тут роли: существуя на земном плане, оно полностью отсутствует на планах иных, и то, что кажется ничтожным мгновением всему земному, то непроявленному в протяженности оказывается достаточным для проникновения. Конечно, атланты в состоянии легко справиться с любыми вторжениями в тело, – однако это будет уже не совсем тот, первозданный атлантский организм…
Гермеса это не касалось, слава Единому. За исключением роста, во всем он был истинным атлантом, чем могли похвастать немногие к этому времени. Да и красив он был вот уж поистине как Бог…
«Герму…» – раздался тихий, но отчетливый голос.
Это было детское ласкательное имя Гермеса, которым до сего времени продолжал называть его брат Родам.
Внешне ничего не изменилось. Все тот же беспечный и спокойный, Гермес приблизился к своему мобилю и, не открывая дверки, перемахнул через борт, едва коснувшись его рукой. Его короткая золотистая туника – кусок ткани, схваченный на левом плече изумрудным аграфом, а на талии – серебряным поясом чудной чеканной работы, приглушенно сверкнула в воздухе радужным спектром, – хозяин ее уже бесшумно несся в пространстве, набирая высоту.
Как только было получено известие, Гермес как бы раздвоился. Один, физический, мчался на помощь, мгновенно получив всю нужную ему информацию, стоило лишь проявиться источнику беспокойства, неясному до тех пор, – второй же Гермес, мысленный, был возле брата на горе Мери.
Положение было хуже, чем можно было предположить. Аура царя Родама была пробита толстым витым жгутом темно-серого с красными прожилками цвета, который напряженно, под прямым углом, присоединялся к солнечному сплетению его: шел интенсивный отток энергии. Это был пиратский способ, и на такие смертельные даже для атланта методы не осмеливались ни они сами, ни, тем более, никто из человеков. Это была вражеская рука из невидимого мира, не знающая сомнений ни перед чем, добро это или зло. Сила, которая, раз преступив общие для всех космические законы, препирала их теперь любыми путями: целью ее, этой силы, было подчинить себе все не просто живое, но, главное, мыслящее; заставить работать на себя – или уничтожить.
Но трогать этот жгут, между тем, было нельзя, и, встретившись глазами с братом, Гермес понял, что тот также осознает все происходящее как оно есть. Лицо царя пожелтело, глаза, обычно такие яркие и прекрасные своей полнотой жизни, ввалились: первый признак утечки жизненной силы. Однако сознание атланта Родама, не только не угасшее под гибельным натиском, но еще более, казалось, обострившееся, четко обрисовало Гермесу весь дальнейший план его действий. Нисколько не колеблясь, как это сделал бы на его месте любой из жителей Земли, и не тратя времени на вздохи и стенания – атланты видели настоящую помощь и истинное милосердие лишь в действии, – Гермес мысленно присоединил к груди Родама свой луч, яркоголубой с серебряным отливом, узкий, как натянутая нить, – и оставил его на время. Луч этот через Гермеса должен был помочь царю Родаму перенести энергетическое нападение до тех пор, пока Гермес не справится с его источником и не приведет все в порядок. Сам Родам мог уже ни во что не вмешиваться: ему надо было беречь силы. Безучастный ко всему происходящему – так могло бы показаться постороннему наблюдателю, если бы таковой вдруг оказался, – полулежал этот исполин на холодных каменных плитах, прислонившись к огромному Трону Атласа и ни на минуту не выпускал из внутреннего поля видения Гермеса, серебряной стреле подобно несущегося из Атлантиса в Белый Загородный Дворец царя и царицы.
* * *
Гермес действительно спешил, потому что минуты, считанные минуты, имели сейчас значение. Выявив этот зловещий жгут, высасывающий жизнь из его брата, он, мгновенно проследив направление, увидел, что другим концом этот жгут подсоединен к царице Тофане. Впрочем, сам Гермес и не сомневался в этом: кто, как не жена или ближайший кровный родственник, проявив слабинку, может вот так, без всякого спросу, вломиться в твое внутреннее естество! Да добро бы сам, а то ведь… Прямо как в школьном учебнике самозащиты, где разбираются разные ужасы, в которые никто, по правде говоря, и не верит. Да, или ослабели атланты, или же наоборот, избыток силы заставил их потерять бдительность перед невидимым врагом. А он – тут, все время возле них, все стремящихся в высшие сферы, и в уверенности в своей мощи презирающих какие-то там низшие слои…
А это – Земля, именно что низший слой сознания, – на видимом или невидимом плане ты находишься. И именно притупления твоей бдительности ежеминутно поджидают те, из мрака…
Что-то странное продолжало происходить с царицей Тофаной. Гермес ощущал, что она находится в Белом Дворце, однако саму ее никак не мог увидеть. И вообще весь Дворец как метлой вымело: ни одной живой души, ни одного светлого огонька, к кому можно было бы обратиться…
Постой, постой… Не она ли?..
«Тофана!» – закричал Гермес и опомнился, когда его чуткий к настроению хозяина мобиль рванулся было, повинуясь порыву его, и тут же захлебнулся. Все же это не было живым существом, и эмоции, которые подтачивали и атлантов, не то что эту серебристую железку, могли бы его полностью разложить на атомы… Еще недоставало, подумал Гермес – и повеселел.
Главное – Тофана нашлась. Она здесь, во Дворце, хотя по-прежнему совершенно неизвестно, где ее искать: она не откликается на мысленный призыв даже чрезвычайной силы. Такое случается, или если атлант накрепко закрывается сам, не желая никаких контактов, или… если он мертв. Но тогда контакт автоматически переносится на другой план, и общение с ним даже облегчается. Значит, Тофана находится под таким сильным воздействием, которое полностью перехватило функции ее сознания и продолжает пользоваться ими для своих целей.
Но какие же цели могут быть достигнуты темной силой с помощью Тофаны? Гермес перебрал ее превосходные качества, не желая углубляться в те, судить о которых имел право только ее супруг. Здесь все было в порядке.
И все же… Ну, конечно! Они подбирались к царице долго, он это видел, но из глупой в этом случае деликатности не поговорил ни с ней, ни с братом. Все эти ее сомнительные в последнее время приемы переселенцев с погибшего материка, вокруг которых, без сомнения, витают целые сонмы астральных жителей…
Гермес вспомнил даже, как толстуха Изе, которую он не очень-то привечал, приглашала его на некое собрание, намекая, что и сама царица, мол, не гнушается бывать там и наблюдать за жизнью астрала. «Жуткая картина! – говорила Изе. – Нам, в нашей пресной жизни, не мешает иногда пощекотать нервы!»
Да, Гермес знал: это сделалось модой среди атлантов – с помощью неких личностей наблюдать за астралом, находя удовольствие в новых острых ощущениях. Теперь уже оказывалось вроде бы и неприличным признаться в том, что ты не вхож в астрал. И никто не думает, что это явление вообще противоположно самому естеству атланта, выходца из если не высших, то, по крайней мере, высоких слоев Надземного. Да, атланты миновали низший астрал. Да, само их существование на Земле означает их желание, извечное и как бы впечатанное в их сознание, – желание помочь земным человекам быстрее и легче пройти их отрезок пути в начале бесконечной цепи эволюции. И подразумевает это стремление помочь как раз именно то, чтобы, не допустив до астрального уровня, минуя его, вырваться сразу на средний план сознания.
А получается, должен был констатировать Гермес давно просившуюся мысль, что сами атланты теперь настолько снизошли на Землю, что интенсивно формируют в себе астральное тело. Вот и он сам уже не всегда сдерживается, – мобиль его тому свидетель. А ведь эмоции – это и есть проявления астрала. Надо будет и ему самому проследить в себе возникновение этих странных, почти неуправляемых движений. Совсем ни к чему они атланту, двигателем энергии которого являются только высшие чувства.
Да, действительно: с кем поведешься, от того и наберешься, вспомнил он расенскую пословицу, которую любил повторять парнишка со странным именем Ноза, помогавший Гермесу в сборке его мобиля своими, как у всех расенов, золотыми руками.
Между тем, Тофана, которую он уже несколько мгновений держал под пристальным вниманием, начала понемногу проявляться. Все сгущавшаяся тьма, в которую с трудом проникал его луч, постепенно выдавала свою тайну: Гермес различил, наконец, коричневооранжевые размытые контуры женской фигуры, лежащей без движения где-то в полной тьме. Закрепив на своем экране это видение, Гермес посадил мобиль на плоской крыше Дворца, зафиксировав его на мощных воздушных подставках, и как ветер кинулся вниз по лестнице, спиралью спускавшейся по нескольким этажам небольшого, интимного жилища царя и царицы.
Локатор вел его все ниже, и Гермес, не гнушавшийся никогда возможностью прокатиться по широким и гладким атлантским перилам, на этот раз отвел душу полностью, – хотя и не ощущая никакого удовольствия, – что и отметил позже.
Наконец он упал на руки: лестница закончилась. Прямо перед ним лежала, как ему показалось вначале, обнаженная царица. Включив собственное освещение, от чего неяркий желтоватый круг света очертил пространство близ него, Гермес разглядел Тофану получше. На ней был ритуальный комбинезон, плотно прилегающий к телу и, по-видимому, оградивший ее от неминуемой гибели, но кисти рук и голову оставивший открытыми. Это означало, что царица почувствовала приближение опасности, хотя и не успела почему-то завершить свое облачение, которое защитило бы ее.
Земные глаза Гермеса видели перед собой скорчившееся тело женщины, жены и любимой его брата. Тело, по всем признакам, было уже неживым: даже не прикасаясь к нему, Гермес ощущал холод. Точно ледяной вихрь кружил вокруг Тофаны, всасывая в себя, через ее посредство, все проявления живой энергии. Гермес, впервые столкнувшийся с этим явлением, о котором до этого знал лишь понаслышке, теоретически, немедля начал действовать так, будто занимался этим всю жизнь.
Перейдя вместе с Тофаной на невидимый, тонкий план, он обнаружил то, что искал: тот самый серокрасный жгут, который поставлял телу царицы энергию ее мужа. Эта энергия не приносила ей, однако, облегчения и прибавления сил, – она будто хлестала все мимо. Жгут, разветвляясь на несколько более тонких нитей, впивался в ее ладони, кончики пальцев, и темным облаком окутывал всю голову, соединяясь выше в тот самый витой канат, который видел Гермес на груди царя.
Можно было просто отсоединить, не мудрствуя лукаво, этот канат от груди царя еще там, на горе, – но тогда погибла бы Тофана. Гермес принял ту мысль Родама: оставить все как есть и найти истинного виновника там, вне тела царицы. Царь жертвовал не только своей жизнью, – но, что было важнее в тот момент, – возможностью самого Общения. Ведь, обессиленный, он должен был бы снова набираться энергии, накапливаемой им под большим давлением за много времени вперед, – а это могло стать смертельным, если бы истечение ее превысило некий допустимый уровень.
Отсоединить этот проклятый насос от тела Тофаны?.. Одно другого не лучше: царица, жизнь в которой держится сейчас только за счет вливаемой в нее силы Родама, потеряв эту подпитку, тотчас умрет. Тогда…
Гермес, выигрывая время, медленно поднялся. Окружив себя непроницаемым ни для каких низших кругом пламени, тем самым он вошел сознанием в сферу Огня. Это был отчаянный поступок, грозивший плотскому телу Гермеса, в лучшем случае, внутренним пожаром, а по большому счету – и гибелью. Ибо не приспособлена земная плоть к прохождению через нее самых высоких, огненных энергий.
Он не думал об опасности, полностью положившись на помощь своих надземных Руководителей, бывших с ним незримо всегда, – в отличие от многих, утерявших эту возможность, атлантов. В его мысленной руке, напряженной огнем, проявился меч, острый и сияющий. Быстро и решительно Гермес очертил этим мечом вокруг тела лежащей царицы окружность, засветившуюся сразу светлым, почти невидимым глазу ореолом пляшущего пламени, тем самым защитив и ее от действия темных. Затем, уже совершенно не опасаясь ничего, он легко избавил тело Тофаны от инородных присосок.
Выждав минуту, чтобы дать царю Родаму возможность наполниться своей силой, он послал ему мысленный призыв.
Родам явился тотчас же, показывая Гермесу повисший жгут, который он уже отсоединил от своей груди. Тогда, не закрывая поля обзора от брата, Гермес своим огненным мечом начал методично рубить на мелкие куски пресловутый жгут, рывками подтягивая его к себе до тех пор, пока протяженность его не кончилась. Тогда, отправив меч обратно в его сферы и сам покинув их, Гермес уничтожил напрочь безжизненные останки изрубленного каната, принесшего столько бед им всем. Сделать это уже не представляло труда, стоило лишь мысленно сгрести их как бы с поверхности в никуда – и этого больше не существовало.
Теперь надо было позаботиться о Тофане. Гермес нашел на ее руке пульс – он, хотя и едва заметный, но уже прослушивался. Впрочем, он не думал о времени. Как всегда, когда надо было действовать, имело значение лишь само действие, выполненное в кратчайший срок. Время же укорачивалось или удлинялось в зависимости от обстоятельств, окружавших это действие.
Гермес не был обеспокоен тем, что Тофана не приходила в себя. Он даже сознательно удерживал ее на этой грани – между жизнью и небытием, чтобы иметь возможность беспрепятственно, не подавляя сопротивления подсознания, временно подключить ее к собственному аппарату жизнеобеспечения.
Проделывая это, он вдруг ощутил внезапный приток силы. Это Родам, оправившийся от нападения (ведь любое вторжение в ауру – и есть нападение, от друга оно исходит или же от врага), отослал обратно, с благодарностью, луч Гермеса, который сейчас был ему так кстати.
Призвав на помощь Единого, – а на этот призыв откликались все Высшие Силы – Гермес осторожно поднял Тофану и начал, чуть пошатываясь, – потому что в по-прежнему холодное тело женщины, которую он держал на руках, уходил гудящий, мелко вибрирующий поток его энергии – подниматься по крутой винтовой лестнице наверх. Все его мысли были сосредоточены сейчас только на том, чтобы вынести Тофану к свету солнечного дня, и ощущения собственного тела не занимали его: он их просто выключил. Конечно, это было опасно, и грозило при таком перерасходовании энергии, усугубленном огненным напряжением, мучительной гибелью. Даже Высшие Руководители не могли бы помочь в этом случае: их помощь тогда бы могла выражаться лишь в полной их безучастности к пораженному телу, ибо ткани, опаленные огнем, невозможно огнем же и вылечить… Да, опасность была велика, но и думать о ней значило себя обессиливать. Вдруг Гермес улыбнулся: перед ним, как живая, стояла его новая знакомая с одного из островов в далеком восточном море. Юная девушка, почти еще ребенок, она всегда вызывала симпатию у Гермеса своей смешливостью и детской прелестью.
На эти острова Гермес набрел в своих полетах почти случайно, чуть округлив однажды прямую траектории пути из Египта – домой. Точнее сказать, цепочка островов этих давно была известна атлантам, но считалась необитаемой после потопа, сопровождавшего Катастрофу. Велико же было его удивление, когда, приземлившись под влиянием отчетливого импульса, он обнаружил и здесь возрождение жизни. Самый обширный остров, который его обитатели пока никак и не назвали, был весь покрыт густой растительностью, за исключением горной вершины и ровной долины между холмами. Эта долина оказалась местом обитания целого племени, скрывающегося от всего мира.
Это были не атланты – Гермесу не стоило труда определить в них человеков, – но были они, без сомнения, родом с погибшего материка. Рослые и носатые, с медно-красной кожей и прямыми черными волосами, они очень напоминали Гермесу тольтеков, остатки которых, спасшиеся на Посейдонисе, ушли столетия два назад на Мус. Такие же своенравные и воинственные, как и все человеческое население с погибшей Атлантиды, тольтеки не смогли ужиться на Посейдонисе, обвинив царя Родама в пристрастии к каким-то примитивным племенам расенов скитов, в ущерб вроде бы им исконным жителям Атлантиды. Дай им волю, они бы, пожалуй, очистили весь Посейдонис от его населения, лишь бы жить самим. Да, поистине трудная эта задача – переделать человеческую природу, оторвать мысли человека от своей собственной личности и заставить оборотиться на других. Удастся ли?
Мысль Гермеса вернулась к Эаме, девушке с безымянного острова. Она начинала уже, пожалуй, воспринимать своего Учителя и через тонкое пространство – редкое для человеков качество.
Конечно, нельзя сказать, чтобы человеки были обделены тонким чувством или начисто неспособны принимать мысль. Но их тонкое чувство ограничивалось лишь земным, не в состоянии воспарить над ним или ближайшим к ней, пространством. Конечно, попадаются особи, – как Эама, к примеру, – которые своим сознанием как бы вырываются из общей трясины, и чей кругозор расширяется неимоверно, в сравнении со своими соплеменниками. Таким – очень трудно. Гермес понимал эту трудность, – общаясь по роду своего Задания с разумом, едва начавшим, в сущности, формироваться, он и сам находился частенько в таком же положении – и старался помочь здесь настолько, насколько каждый готов был принять его помощь. Но зато как быстро шло развитие, и как велики были успехи этих, воспринявших!
Правда, Гермес никак не мог решить для себя самостоятельно один вопрос: действительно ли ко благу ускоренный рост сознания этих существ, едва выведенных из полуживотного состояния путем… Путем, как бы мягче выразиться, улучшения их породы? Гермес теоретически понимал, как необходимо было внести в эти, по сути бессознательные создания, дуновение Высшего, приобщив их к общей эволюции разума. Мало того, он и сам отнюдь не гнушался обществом человеческих женщин, в которых иногда находил больше прелести, чем в рафинированных и всеведающих атлантках, подчас изнемогающих под грузом собственной недосягаемости. Но – в те далекие времена, когда Титаны снизошли к земным жительницам, чтобы породить их, атлантов… Какой же великой целью, открывшейся им свыше, должны были они руководствоваться, чтобы пойти на это самоистязание. Оставив привычные себе сферы, где все ясно, ярко и изумительно прекрасно, – даже борьба, которая там, пожалуй, еще яростнее, чем внизу, – ввергнуть себя в оковы проявленного тела! Гермес не был полностью уверен, что, окажись он в то время Титаном, согласился бы на это. Впрочем, он и сейчас ни в коем случае не хотел бы поменяться местами ни с кем из человеков, а вот помогает же им! Несет свою службу, как говорит его брат Родам, истинный наместник на Земле Бога Единого.
Эти мысли отвлекли Гермеса от ненужных сейчас размышлений о тягости момента и не помешали нисколько его мысленному разговору с простушкой Эамой. Поощрив ее успехи и дав новое задание, Гермес простился с ней до следующей встречи уже наяву через несколько дней и решительно закрылся от нее.
Последний завиток спиралевидной лестницы почти уже вынес его на поверхность из подземелья, когда его сознания достиг шум голосов и отдельные вскрики.
Неужели и мы стали крикливыми, как человеки? – успел он подумать, когда набежавшая толпа приближенных Тофаны окружила его и освободила от этого неимоверного бремени – тела царицы. Будто каменный столб он нес – пришло ему в голову, – и он отдался таким теплым, таким благодатным рукам женщин, которые, будь на то их воля, с величайшим бы удовольствием подняли его и понесли б на воздусях к постели. Но – герой не заслуживает к себе подобного отношения. И атлантки, оттеснив человеческих прислужниц, окружив Гермеса сияющим плотным кольцом и поддерживая его, когда ноги отказывались служить ему как надо, провели своего любимца в круглый покой, расписанный огромными диковинными цветами и листьями, и уложили, освободив тело его от одежд, на овальное ложе, покрытое ворсистой тканью. Ткань эта, мягкая, как шелк, имела, как почти все в обиходе атлантов, особое свойство, секрет. Подключенная к источнику энергии, щедро питавшему дома атлантов и тщательно охранявшемуся от человеков, эта ткань очищала их тела от вредных воздействий, которых им приходилось набираться, соприкасаясь с низшими излучениями, безопасными до некоторого уровня и смертельными – при накоплении предельной дозы в их телах.
Еще не разобравшись в том, что произошло, они сделали все правильно, безоговорочно исполнив то, что предписывалось во всех случаях, когда налицо была потеря атлантом равновесия.
«Гармония – превыше всего!» – этот призыв атлантов не был пустой красивой формальностью, они-то уж знали. И восстановление, хотя бы в минимальных пределах именно гармонии, равновесия тела и духа, позволяло привести к норме ток энергии, ровный и мощный ток, который в дальнейшем уже сам действовал так, как это было нужно. Ведь ток этот нес в себе энергию, которая сама в себе разумна в высшей степени…
Наутро Гермес был свеж и весел, как обычно.
Проснувшись, он, еще не открывая глаз, мгновенно осознал, где он находится, и просмотрел все системы своего тела. Каналы были чисты и светлы, энергетические воронки и вихри были в порядке: ничего не потревожено, не сбито на сторону, слава Единому. Немного, правда, саднило в горле, – но это не страшно, успокоил себя Гермес, – чуть перегрелся центральный провод. Перебрал он вчера с огнем, опасаясь, что не достанет у него силы справиться с нечистью. Теперь он будет более уверен в себе, более осторожен…
Будто и не было сна, как бы извлекающего его из земной действительности, Гермес легко окунулся в нее. Сначала он осторожно прикоснулся к ауре брата, вроде бы спрашивая: «Можно?», и только после появления на экране Родама открылся ему. В этом не было какогото опасения, – напротив, он не желал помешать, или, не дай Единый, навредить брату, ворвавшись в его сознание непрошеным. Да еще в такой момент, когда тот, готовясь ко встрече с космическим Сознанием, собирает в единый пучок все до одной стрелы своей неимоверно мощной, даже по меркам атлантов, энергии.
Однако Родам выглядел спокойным и немного ироничным.
– Отошел? – спросил он Гермеса.
– Да я, кажется, и не…
– Ладно уж! Молодец ты.
– Скажешь тоже…
– Хвалю и одобряю. Присмотри за ней, пока вернусь.
– Разумеется. Как ты? Я – насчет помощи.
– Нормально. Сбой был тяжелый, конечно, но не им помешать нам в таком деле, а?
– Я рад. Моя сила – с тобой, брат!
И Гермес первым погасил свой экран.
Скупая похвала Родама наполнила его сердце радостью. Гермес знал, что это высшее чувство, наиболее, после чувства любви, ценимое у атлантов, изливаясь из него сейчас, творит чудеса, передаваясь другим, очищая от печали и уныния мысленную сферу и как бы укрепляя ее светящимися нитями, видимыми иногда даже земным глазом. Это чувство и само по себе было прекрасным, – тем более его следовало продлить, учитывая общую пользу…
Все в том же приподнятом состоянии Гермес, омывшись в кабине с обжигающе горячими, вперемежку с ледяными, струями воды, в кажущемся беспорядке направленными в разные стороны и несколько минут настолько сильно бомбардировавшими его тело, что он не смог дольше выдержать эту своеобразную экзекуцию и вышел из кабины, после чего она выключилась, – надел свою, по всем признакам побывавшую в чистке золотистую тунику и тщательно расчесал мокрые волосы изящным гребнем, в запечатанном футляре лежавшем на столике у зеркала. Тут же лежал и пакет с новыми сандалиями, – кто-то побеспокоился обо всем, пока он спал, – подумал Гермес. Кто же?
Со смущенной улыбкой, потупившись, на него взглянула Гелла – и тут же исчезла: Гермес не хотел вызывать ее на беседу. Не в том дело, что слишком юна была дочь его двоюродной сестры Нефелы. И даже не в том, что уж очень настойчиво попадалась она ему на глаза в последнее время, – хотя и это тоже, конечно, играло тут свою роль. Гермес, как и весь его род, превыше всего ставил свою самостоятельность, и особенно в отношениях с женщинами. Все должно было исходить от него, мужчины… Главное же состояло в том, что не нравилась она Гермесу. Не трогала его сердца и не возбуждала этих совершенно изумительных вибраций в душе и во всем теле, которые на земле зовутся любовью.
Гермес понимал, что ему давно надо бы обрести себе подругу здесь, на Земле. Иногда его одинокое – без найденной половины – состояние давало о себе знать тянущей какой-то тоской, тягой к чему-то, чего он и сам не мог бы определить, потому что, в сущности, это было неопределяемым вообще. Однако Гермес ясно осознавал, что простое исполнение свадебного обряда с любой девушкой, к которой он испытывал бы симпатию, ничего бы не дало, кроме мгновенного отчуждения и даже глухого раздражения. Так бывало всегда, когда он встречался с женщиной, – не имело значения, его ли рода она была или же человеческого, – и, зная это свое качество, он старался не обнадеживать ни одну из них.
Жизнь его была полна до краев, дружелюбие его простиралось на всех людей без различия их космического состояния, – начального ли у человеков и развитого ли – у атлантов. Мимолетные его сближения с женщинами не вызывали в них чувства разочарования или вражды, когда он с ними прощался, – да он и не прощался ни с одной из них никогда; просто отношения их переходили в какую-то новую фазу, фазу дружбы, скрепленной сладкой чашей любви…
Однако надо было приступать к делам, которые его ждали.
Гермес, мягко ступая по коврам, устилавшим сплошь полы в покоях царицы Тофаны, подошел к высокой двустворчатой двери, ведшей в ее спальню и сейчас охраняемой темнокожим гигантом Кну. Дружески кивнув ему, Гермес хотел было пройти в дверь, и уже протянул было руку, чтобы ее открыть, как вдруг копье раба преградило ему путь. Гермес вопросительно взглянул на Кну: тот, хотя и считался гигантом среди человеков, едва доставал ему до подмышки, однако это обстоятельство никак не означало, что раба или челядинца можно оттолкнуть и пройти силой. Подобное самовольство исключалось в среде атлантов. И, хотя находились уже и среди них те, кто выставлял свою силу поперед всех правил, царевич Грма-Геле никогда бы себе не позволил пренебречь правилами этикета, если считать «этикет» словом производным от «этика»…
К тому же, Кну не был просто рабом, взятым на определенный срок. Он происходил из того редкостного рода человеков, который в виде эксперимента был введен первыми, еще во всем божественными атлантами для собственного обслуживания. Тогда это было необходимо: атланты-боги с трудом привыкали и к собственному тяжелому телу, вдруг потребовавшему множества забот и услуг, и к условиям жизни на планете. Ведь нужно было питаться чем-то, да и покрывать тело свое, не столько от жары или мороза, сколько от нескромных глаз тогда еще совсем неразумных, но очень восприимчивых обитателей Земли.
В полном смысле слова «живые машины», или биороботы, они были генетически направлены на преданность своим создателям и безоговорочное служение им. Наделенные недюжинной силой и здоровьем, не знавшим сбоев, – ибо не имели в собственном аппарате механизма, который позволял бы им иметь право выбора (в отличие от человеков, которым это право было дано в соответствии с их вхождением в общекосмическую эволюцию), они были несокрушимы и незаменимы. Их отличие от челяди, слуг-человеков, и состояло в том, что их нельзя было ни купить, ни любым другим способом совратить во вред их хозяевам. Однако, сами будучи изначально правдивыми, они были легковерны: их можно было обмануть…
– Мне ведь можно всегда, Кну, ты же знаешь! – сказал Гермес напряженно сжавшемуся биороботу.
– Кну получил приказ – никого не впускать! – отчеканил тот.
– Но кто мог дать тебе такой приказ… Сама царица?
– Нет.
– Вот видишь… – Однако Гермес вовсе не имел желания препираться с Кну или, тем более, пытаться его обвести вокруг пальца, что иногда служило своеобразной забавой для некоторых. – Ладно, сторожи царицу да смотри в оба!
Кну благодарно кивнул Гермесу и еще больше вытянулся у притолоки порученных его попечению дверей. Гермес же, обойдя по коридору личные покои царицы, взбежал по мраморной лестнице на второй этаж, где, он знал, обычно собирались придворные.
И в самом деле, распахнув дверь гостиного покоя, Гермес увидел всех в сборе.
В дальнем от входа углу, на кушетке, вытянув ноги и запрокинув голову на высокое изголовье, лежала толстуха Изе, бессильно свесив правую руку и полузакрыв глаза, из которых катились частые слезы. Вытирать эти слезы было на этот раз работой Геллы, возле которой стоял целый короб с белоснежными платками из тончайшего льна. Осушая слезы своей, огромных размеров, подопечной, Гелла один за другим бросала эти платки в другой короб. Это занятие уже настолько ей надоело, что она иногда уже путала коробы, не успевая за потоками слез, омочивших уже не только шею, но и грудь добросердечной всеобщей тетушки. Обернувшись на появление Гермеса, – ей не нужно для этого было никаких слов, предваряющих его, – Гелла снова сбилась с ритма и начала вытирать нос своей подопечной мокрым платком, отчего та закрутила головой и открыла глаза. И вовремя: Гермеса уже окружали дамы.
Тетушка Изе не могла, чтобы не уронить своего достоинства, подойти сама к своему любимцу, хотя, если бы ее воля, она презрела бы и правила, не рекомендующие женщине подходить к мужчине первой, буде это даже ее собственный племянник, и свой собственный огромный вес, и побежала бы к герою дня, спасителю ее ненаглядной Тофаны. Но – негоже было бы ей, негласно признанной главе дома по женской линии, торопиться к юноше, и Изе, мысленно представив себя, со всеми своими колышущимися телесами, расталкивающей этих непоседливых свиристелок, окруживших Гермеса плотным кольцом, неслышно засмеялась. Гелла, не сводившая глаз с Гермеса, ощутила под рукой сотрясение тетушкиной груди и с удивлением увидела, оборотившись к ней, что та смеется сквозь сомкнутые губы, позабыв о своих недавних слезах. Тогда, бросив и платки, и коробы, девушка вскочила, чтобы присоединиться к окружению Гермеса, – но тут неумолимый жест обычно снисходительной Изе заставил ее снова опуститься на прежнее место: старшего слово – хоть и невысказанное – было законом.
Да так оно было и лучше: Гермес сам подходил к тетушке, чтобы не заставлять ее утруждаться. Но Изе и тут не поддалась слабости и искушению нарушить правила, коих она была неукоснительной хранительницей. Не прибегая ни к чьей помощи, она медленно опустила ноги на пол и поднялась, став перед Гермесом во всей своей красе и гороподобии. Осенив его в пространстве знаком креста, который в духовном обиходе атлантов означал очищение от неблагополучия духовного и земного, она сказала:
– Отдай мне свою боль, мой мальчик! Пусть благословение Единого, через наших отцов и дедов, пребудет с тобой всегда!
Гермес с искренне теплым чувством преклонил колено перед этой женщиной, помнившей не только его отца, но и деда. Собственно, никто и не задавался мыслью, – сколько же земных лет исполнилось тетушке Изе: она знала и помнила, казалось, все в истории атлантов, если не в истории Земли…
Что-то разом, как бы щелкнув, изменилось в отношении Гермеса к тетушке Изе: его обычная настороженность при общении с ней отошла в сторону, уступив место (он чувствовал, что эта уступка на время) ответной волне признательности и добра. И он низко, почти касаясь рукой пола, поклонился матроне, казалось, отдавая необходимую дань символу их рода, живому символу, всем своим естеством и памятью своею являвшему хранилище тайн развития (и угасания – пришла мысль, поразившая Гермеса), атлантов.
Объятия не были в чести у потомков богов. Могучая женщина, чье тело уже не выдерживало обрушившихся на него вихрей чувств и эмоций ее ближних, вдруг осознавших в них вкус и прелесть, и которая обречена была некой силой на их очищение, – и прекрасный в своей чистоте высшего знания юноша смотрели друг на друга. И тонкие волны их излучений объединились наконец в едином потоке. Этот поток, от которого и впрямь светлее стало в огромном зале, затемненном от яркого солнца тяжелыми шторами и густой листвой цветущих растений за окнами, – поток этот захватил и присутствующих. Начавшие уже забывать о его явной и мощной силе, но теперь подхваченные этим неудержимым влиянием, они подходили все ближе к мужчине и женщине, ставшим центром круга. Молчание освящало это собрание, усиливая все растущее напряжение.
И тут Гермес властно явил перед всеми образ Тофаны. Однако не тот, почти безжизненный, образ, который, независимо от их воли, запомнился им, – отнюдь нет.
Тофана, царица атлантов, юная и величественная красавица Тофана, в своем золотом парадном облачении, с сияющей короной о девяти лепестках, символизирующих девять сторон света, ясно и твердо глядела в лицо каждому. Ее взор, вдохновенный и в то же время поженски мягкий, как и прежде, проникал в душу и завораживал даже тех, кто уже привык заворачиваться в тусклый газ искусственной защиты от посторонних влияний. Нельзя было бы утверждать, что царица принуждает к чему-то или насильно вторгается в чье-то естество. Нет! Уверенная в своем высшем Праве, она всего лишь утверждала свое исконное могущество над подданными.
Придворные, за долгое время уже привыкшие к обиходному, что ли, общению с царицей и втайне считавшие каждый себя «ничем не хуже», в одно короткое мгновение вспомнили разницу между собой и ею. Убеждать тут никого не нужно было: именно это кратчайшее озарение истиной могло поставить все на свое место, – и это было сделано.
Атлант есть атлант. И для любого из них не было беспрекословно убедительнее ничего, кроме энергетического и духовного потенциала, превосходящего намного их собственный.
Гермес очнулся от непонятного шума, вызванного каким-то движением вокруг него. Еще отрешенным после неимоверного напряжения мысли взглядом он обвел комнату, где находился: перед ним, словно завороженная, истуканом на толстых ногах стояла Изе, не сводя с него восторженного взгляда, а вокруг…
Такого, пожалуй, никто и не помнил уже. Да и сам Гермес нисколько не желал и не требовал ничего подобного. Однако, к своему удивлению, он вдруг ощутил, что ему приятен вид коленопреклоненных атлантов…
* * *
И тут в залу вошел Аппло. Стремительно вошел – и остановился в открытых дверях, оценивая открывшуюся перед ним картину. Гермес, скрывая улыбку, взглянул на брата, и знаком его радости чуть взметнулись над карими глазами шелковистые брови. Мягко обогнув распростершихся в давно забытом трансе придворных, он проскользнул к Аппло и вывел его в коридор, осторожно прикрыв за забой створки резных дверей.
Аппло стоял невозмутимый, как всегда. Уголки его красиво изогнутых губ, немного приподнятые, могли ввести в заблуждение кого угодно, только не Гермеса: уж он-то знал, что эта, вроде бы врожденная, улыбка вовсе не означает размягченности или безвольного благодушия его брата. Кому-кому, а Гермесу были ведомы сила воли и ума Аппло, неизменно приводившие его к непререкаемой и, казалось, легкой победе над любыми противниками в любых спорах и интеллектуальных столкновениях. Без сомнения, в физических – воинских или атлетических – ристалищах Аппло также не было бы равных, пожелай он только участвовать в них. Гермес, бывший с детства большим шутником, навсегда запомнил пару уроков, данных ему в свое время старшим братом, и сила руки Аппло явилась для него наипервейшим авторитетом. Это уже потом, с годами, пришло естественное признание первенства Аппло во всем, что касалось сторон жизни как земной, так и вечной, и восхищение его качествами, казалось, данными ему от рождения. Неназойливо, только собственным примером воспитывали «младшенького» Родам и Апплу. Едва начал он разговаривать, – а произошло это довольно поздно, как у всех атлантских детей, – брали они его с собой по различным делам в поездки по колониям, где встречались со множеством людей, разрешали конфликты – или наоборот, разрубали узел воинским мечом. Впрочем, это присуще было только Родаму: Аппло твердо стоял на том, что разум и его инструмент – язык – даны именно для того, чтобы при помощи них улаживать все споры.
Прав был Аппло, которому были вверены многие человеческие племена для их обучения и духовного продвижения; но прав был и Родам, часто, и даже слишком часто в последнее время отдававший предпочтение мечу в разрешении дел и споров человеческих. Ибо не желали они, человеки, воспринимать то благое и доброе, о чем твердили им боги через своих служителей, но упрямо поворачивали все только на себя, на собственную пользу.
Торопился, предчувствуя сроки, царь Родам. Сомнение, никому не высказываемое, начал ощущать Аппло. Гермес, любивший обоих больше самого себя, метался между ними, пытаясь объединить их действия, – цельто была едина!..
Да, неспокойно было в Атлантиде, хотя немногие ощущали это.
– Ты, как всегда, вовремя, – сказал Гермес и позволил себе несколько забыться: взял крупную белую руку брата в свои, маленькие и смуглые ладони, и слегка сжал ее. Это было непростительным проявлением эмоций, за что в другое время Гермесу бы здорово досталось от непроницаемо сдержанного Аппло.
Но – и это ли не изменение времени и нравов? – тот лишь промолвил:
– Не пойти ли нам куда-нибудь в парк и не посидеть ли, скажем, у водопада? Ведь журчание воды – та же музыка, верно?
И он свободной рукой крепко обнял плечи Гермеса. Так и стояли они, обнявшись, что совсем не было в атлантских правилах, пока не загудел подъемник, сигнализируя о скором появлении новых посетителей.
Братья заговорщически взглянули друг на друга и ступили на винтовую лестницу: оба избегали лишних встреч. Ведь никто еще, кроме Гермеса, не знал, – а кроме Аппло не чувствовал, насколько опасно положение. И дело было не в одной царице Тофане, которая лежала у себя, внизу, по-прежнему бездыханная, но спокойно оставленная всеми для скорейшего восстановления ауры. Это было верное действие, – но верным оно оказалось бы в любом другом случае. Сейчас же на царице, как на удобном и ставшем доступным темном фокусе, сошлись пучком стрелы излучений невидимых врагов. Она сейчас являлась той цитаделью, от падения которой или способности удержаться зависело будущее атлантов.
Царице необходимо было помочь, ибо, коль скоро она сдастся, в этот пролом ринутся воистину неисчислимые полчища вредоносных влияний, заражая все встречное на своем пути, сметая защиту уже ослабевших темным допуском, как в случае самой царицы, аур и нанося неизбежный вред аурам сильным.
Но, как бы тяжело ни было положение Тофаны, а прежде всего думать было необходимо о царе Родаме, о том, как можно было бы в сгустившейся обстановке сохранить пристойное пространственное равновесие, которое бы не нарушило еще больше и без того покачнувшейся гармонии токов, сосредоточенных на нем, как на держателе нитей земной силы.
Гермесу ясно было, что именно царь Родам является настоящей мишенью начавшейся атаки, непревзойденной по мощи всеми бывшими до того нападениями. Теперь предстояло вкратце обрисовать картину Аппло, причем так, чтобы сразу отбить у того охоту к мирному завершению схватки, которая уже развернулась во всю. Поймет ли его Алпло, поэт и светлый мечтатель?
* * *
Загородный дворец, место интимного уединения царя Родама и царицы Тофаны, расположен был всего в десяти стадиях от северных ворот Атлантиса, если ехать по внутренней стороне Центрального канала, ведшего в глубь страны. Поместье, одно из трех, принадлежащих лично царю, было небольшим, но на удивление прекрасно спланированным и ухоженным, хотя управлялись со всем только лишь пять человек, постоянно живших при нем: садовник с внуком – помощником лет пятнадцати, повар, привратник и домоправитель, которого царь, нарушая некие традиции, утвердил в этой высокой должности, хотя в его происхождении не было и намека на наличие атлантской крови. Рутул, так звали дворецкого, платил своему венценосному шефу за доверие – дотошной честностью в расчетах и преданностью, которая не рассуждает, – словом, это был человек, способный воспринимать лучшее из всего спектра предлагаемых атлантами качеств, и на него царь имел, как было заметно кое-кому, некоторые виды.
Царская чета бывала в своем красивом имении лишь наездами, и поэтому Рутул не держал постоянного штата прислуги. По надобности он приглашал двух-трех женщин из соседнего селения для уборки помещений, – остальные приезжали вместе с царем и царицей: непосредственно прислуживать богоравным имели право только атланты.
Имение, которое называлось Э-ден, жилище бога, можно было бы воспринять как Атлантиду в миниатюре. Дворец, крохотная копия столичной Цитадели, располагался на островке посередине круглого озера и был окружен парком, где росли самые диковинные растения, цветы и деревья со всего света. Вокруг, насколько окинет глаз, лежали возделываемые плодоносные поля, разграниченные фруктовыми деревьями и виноградниками, на которых трудились поселяне, – ибо рабов на Посейдонисе не любили и священную землю их рукам никогда не доверяли. Собственно, рабами здесь были те, кто сами себя почитали таковыми, добровольно приезжая – приплывая – на Посейдонис ради возможности жить в сказочных, по сравнению со странами всего мира, условиях. Что ж, они допускались на Посейдонис, но не к истинной жизни его. Жизнь эта, как бы отделенная от них невидимым, но непроницаемым стеклом (вроде того, каким ограждали в зверинце Атлантиса диких или просто необычных зверей) , протекала мимо этих несчастных, и туда, вовнутрь, хода не было. Потому что превыше всего – не только сами атланты, но, вслед за ними, и человеческое население страны – ценили собственную свободу, самостоятельность внутреннего сознания или духа. Для атлантов это являлось врожденным, естественным положением, которое не требовало убеждений и разъяснений; человеки же, в силу своей природы склонные к усиленному копированию чужих действий (особенно, если это действия сильных сознаний), безоговорочно воспринимали установления, шедшие от самих богов.
Таким образом, рабы на Посейдонисе совершенно отличались от такого же явления, скажем, в любой стране Срединного моря. Там без хотя бы нескольких рабов не обходилась ни одна семья, не говоря уже о городах с их массой общественных и принудительных работ. Это не означает, однако, что атланты, в принципе, были противниками рабства: в своих колониях, достигавших даже островов Тихого океана, они отнюдь не искореняли этого явления, считая его как бы неотъемлемой частью традиций подопечных народов. Тем более что на весь населенный мир невозможно было бы распространить всю техническую оснастку атлантов: не она являлась главным в тех чудесах, которые украшали и невероятным образом упрощали жизнь этих властителей мира. Основным было то, что пользоваться всей своей аппаратурой, управлять ею могли лишь они сами. Все было очень просто: подключение энергии от Малого Кристалла, который построили-таки атланты после гибели Большого, производилось ключом мысли. Так что дело было не в том, что атланты тщательно скрывали от человеков свои источники энергии, – в силу первоначальной стадии своей эволюции те просто ничего бы не поняли. Им было еще рано. Должен был пройти огромный срок тяжелого и спокойного вращения судеб, чтобы из элементарной глины начали формироваться стройные, тончайшие структуры мысли, обожженной божественным огнем пространственного знания…
Тем не менее, человечество, хоть самым краешком, но было приобщено к атлантскому образу жизни; во всяком случае, перед его глазами был постоянный пример для подражания, некий идеал, самой своей очевидностью вызывавший в человеках неясную тоску, неопределенное пока стремление к подражанию ему. Конечно, самыми привилегированными изо всех человеческих племен оказались те, кто исконно проживал на той земле, где в свое время обосновались посланники богов. Тут имело значение и непосредственное влияние излучений, и самое качество их: первоначально эти излучения, и сейчас еще несравнимые по целительной, очищающей дух и тело силе с энергиями человека, – излучения атлантов, напитанные желаниями добра и вознесения этих, тогда еще полуживотных существ, были светоносными в поистине поражающей степени.
Те, расселенные по лику Земли с погибшего материка, восприняли все земные качества своих, уже почти очеловечившихся богов. На Посейдонисе же, оставшемся почти невредимым в той страшной битве Хаоса с небесным Порядком, и даже, казалось, прикрытым от восстания стихий каким-то охраняющим колпачком, – на этом поистине осколке Атлантиды, вроде бы даже обновившемся после такой ужасной жертвы богам как небесным, так и подземным, человеки были другими. Не ангелами, – но просто другими. Они были не то, что менее воинственны, чем те, волею Неба отколовшиеся, они были в сути своей миролюбивы. Вот уж действительно, – царь, или «cap», как произносилось это слово тогда, передавал свои энергии во всем комплексе народу, порученному ему. Правда, со временем энергии, не подкрепляемые из сильного источника, рассасываются, а то и вовсе иссякают. И тогда появляется возможность очиститься тем нациям, которые находились под отрицательным воздействием своих давних покровителей, – но и опасность для других потерять свою благую основу.
Однако было видно по всему, что подобные опасения не посещали души любимцев богов, жителей Посейдониса. Жизнью они были вполне довольны, с готовностью повиновались своим божественным покровителям, и те отвечали им заботой и справедливым судом, по надобности.
Правда, долгое уже время шло понемногу расселение человеков с метрополии – в колонии, во вновь основываемые или же давно известные города и поселения. Ведь как бы ни был велик Посейдонис, он ограничивался океаном, – водой, и расширяться ему было некуда. А население острова росло, благословенным полным незнанием болезней. Вот и пришлось начать воевать: лучшие-то земли были все давно заселены. Море всем надобно, море, теплое и питающее…
Велением времени возникло в одном из селений близ царского имения Э-ден ремесло оружейников. Жили здесь суры, недавние хлебопашцы и виноградари, теперь же – истинные ювелиры по изготовлению оружия. Началось все из пустяка: стали промышлять домашней утварью, и кухонные ножи их изготовления оказались по дyшe не только хозяйкам, но и мужчинам. Крепкие то были ножи, не тупились, не зазубривались. Мягкий камень даже рассекали. Вскоре жрецы, которые, собственно, и дали направление новой специализации суров, уже пользовались в различных ритуальных целях именно их ножами. Пики и секиры для храмов сначала сильно отличались от боевых, но постепенно, когда знать оценила мастерство суритских оружейников, возрос и спрос на их изделия. Однако непревзойденными по качеству и популярности неизменно оставались знаменитые клинки.
Ремесленники расширили свое дело, давно уже перебравшись в четвертый, рабочий круг Атлантиса. Они привлекли в свое производство ювелиров, и таким образом оружие Атлантиды стало не только самым крепким, но и красивейшим. Сами атланты не пользовались им – их вооружение было в принципе иным, – но охотно носили притороченные к поясам маленькие кинжалы, оправленные в драгоценности, и вскоре без них невозможно было бы представить ни одного атланта. Роскошь в соединении с красотой составляют гармонию, чей секрет и есть острие, соскальзывая с которого богатство становится пошлостью…
В селении же Сури осталась небольшая мастерская, она обслуживала преимущественно царскую семью. Работы хватало, потому что семья была не мала, да и ювелирные запросы царицы Тофаны могли бы охватить заказами чуть ли не всех мастеров Атлантиса, обученных коллегией жрецов, – не будь суриты столь искусны и быстры в работе.
Мастера, как в самом селении, так и ушедшие в столицу, обеспечивали заработком и себя, и своих близких – из тех, кто остался в селении, не пожелав окунуться в суету первого города мира. Но поселяне, тем не менее, не оставляли привычной работы в поле и по хозяйству. Отчасти тут играло роль установление атлантов о непременной и обязательной занятости человеков, за исполнением которого строго следили старейшины цехов в городе и поселений на остальной части государства. Но – и без всякого над ними контроля суриты, как и все племена на Посейдонисе, так же точно исполняли бы свою часть работы. Поистине, золотой здесь обитал народ, трудолюбивый и в высшей степени неприхотливый.
Вот в это-то селение и пришел однажды утром раб, исполняя повеление царя Родама явиться в Сури к тамошнему лукумону Иббиту и оставаться там, пока за ним не придут от имени царя. Вернее было бы сказать – доплелся, ибо его изможденный вид, трясущиеся от усталости руки, которыми он даже не мог поднести ко рту фиалу с водой, так что сыну лукумона, юному Игрешу, пришлось собственноручно напоить его, – все в его облике показывало собравшимся вокруг него поселянам, что этот чужой человек – на грани жизни и смерти.
Все молчали, пока Игреш, превозмогая себя, поил пришельца, обняв его одной рукой: на то было повеление отца и лукумона, ослушаться которого было не только невозможно, – невозможной была бы сама мысль об этом, так же как для самого лукумона, старейшины или любого человека не существовало понятия неповиновения приказу или просьбе царя.
А ведь в этом случае все обстояло именно так: этот пришлый, бар-ан (как называли жители Посейдониса всех иностранцев, будь это могущественный правитель, купец или же раб, добровольно продавшийся душой и телом), встреченный на улице группой селян, направлявшихся в поле, обратился к ним с какими-то непонятными словами. Бар-ан, одним словом, которого никто уразуметь не может, ибо говорит он на другом языке. И осталось бы одно – сдать его старейшине для служебного препровождения, когда б не произнес он ясное и понятное всем:
– …Лукумон Иббит… Царь Родам…
Правда, имени царя, равно как и имен Богов, – их настоящих имен – произносить не полагалось: на то у них всех есть многочисленные эпитеты, подставные имена. Но у этого несчастного, видно, было безвыходное положение, в котором многое прощается и богами и, тем более, человеками. Вот и привели они раба всей молчаливой гурьбой к своему лукумону, который как раз предавался священным размышлениям под огромным зеленым дубом на лужайке за домом.
Дуб, непременный атрибут всякого лукумона, равно как и живущнй в его ветвях кот, символизирующий священное животное бога Солнца – льва, – стоял на этом месте уже никто не помнил, сколько тысяч лет. Долголетие каждого дуба, являвшегося как бы древесным воплощением самого лукумона, служило главным доказательством силы и мощи этого человека, поставленного богами над своими сородичами, – как опередившего многих в своем духовном развитии и поэтому способного получать и воспринимать особые знания, недоступные пока всем подряд…
И в самом деле, лукумон Иббит почитался жителями своего селения, да и всей долины Э-неа, прекраснейшей в мире долины, не только непревзойденным лекарем всех недугов человеческих, но и чародеем, знающим тайны земли и Неба. Да что много об этом говорить! Уже одно то, что возраст лукумона составлял почти полные три человеческие жизни! Между тем недавно, уже от шестой по счету жены (прежние все с миром ушли в мир иной) родился у него сын. Сколько у него детей, внуков, правнуков – не ведал и сам лукумон Иббит. Но он всех одинаково любил и обо всех заботился, – не слишком, правда, отличая от посторонних. «Все – дети Одного Бога», – говорил он.
Царь Родам знал, к кому – и зачем – направить своего раба.
* * *
Гора Мери находилась в северо-восточном углу Посейдониса, который с юга был открыт морю, а с остальных трех сторон замыкался горными цепями. Горы эти, со стороны равнины Э-неа полого поднимавшиеся пастбищами и террасами виноградников, чуть выше уже вздымались неприступными кряжами, по гребням и на остроконечных вершинах которых лежал вечный снег. Что ж, климат на Земле посуровел с той Катастрофы…
Правда, чуть ли не до самой вершины горные массивы были покрыты густыми смешанными лесами или же рощами, которых никто никогда не планировал, не имея права, по строжайшему закону, вмешиваться в таинственную жизнь великого растительного царства, у которого, как было это всем известно, свои каноны и правила, и нарушить их – значит нарушить гармоническое сочетание энергий не только внутри растительного мира, но и его само собой слагающееся равновесие во взаимодействии с другими царствами: земным(минеральным) и животным. Ведь искусственно посаженный парк и естественная поросль леса представляют собой два совершенно отличных друг от друга явления по психической природе и энергетической согласованности своих членов.
Леса и рощи были священными; это значило, что без особого повеления бога или его милостивого разрешения нельзя было сорвать даже листика с самого, казалось, чахлого куста, помять ни одной травинки. А уж о том, чтобы рыть канавы или, снимая лесной покров, вгрызаться рудниками в землю – и думать нечего было: атланты, – а вслед за ними и атлантикосы, человеки, жившие вместе с ними, вбиравшие в себя их философию и жизненную мораль, – знали толк в энергиях. Металлы, в их естественном местопребывании, служат проводниками планетных токов, и, самовольно вмешиваясь в их работу, можно внести дисгармонию в порядок этих явлений. А боги – те знали, где, когда и сколько можно взять у земли каких-то минералов, и себе на пользу, и земле не в убыток…
Сквозь леса всюду были проложены удобные тропы, достаточно просторные даже для упряжки в пару быков. Атланты же своими мобилями нисколько не портили колеи: «колесницы богов», как их называли человеки, не имели колес, их заменяла воздушная подушка. Собственно, эти мобили, каждый настроенный на энергию своего владельца, были полностью универсальны: не было среды, в которой они потеряли бы свои двигательные или быстроходные качества. Неуловимые глазу изменения в корпусе – и модуль, только что торпедой мчавшийся в море, уже скользит над поверхностью земли, сглаживая ее неровности, а при необходимости – взмывает в воздух свечкой, набирая космическую скорость, или же вольно летит над землей, на такой высоте, что пилот может любоваться ее красотами и даже приветствовать друзей, находящихся внизу. Хоть и назывался Кристалл – Малым, но мощь его происходила из того же источника, что и у Великого, который взорвался однажды.
Правда, теперь атланты, оставшиеся на Посейдонисе, были куда осторожнее в обращении со своим Сокровищем.
Держали в строгом секрете его местонахождение, – даже от своих собратьев, вынужденных переменить места обитания (а, может, тем более от них), – и каждую дозаправку личного мобиля приходилось выбивать чуть ли не с боем у специального доверенного царя Родама, советника Лефа. А этот Леф полностью соответствовал (в своем рвении выполнить царскую волю) собственному имени: оно означало льва, животное священное в ту эпоху. Впрочем, почти никто не обижался на него: Леф был этера царя, его побратимом. И таких этера у Родама была целая небольшая армия. Недаром он был признанным любимцем Единого: ведь, чтобы заиметь нескольких этера, или хотя бы одного, нужно было обладать многими качествами, более сильными, чем у других, которые одни только и могут привлечь к себе сердца искренне и бесповоротно.
Царь Родам обладал достоинствами. Но главное, чем он, как магнитом, притягивал к себе соратников, мужчин и женщин, – было его открытое для всех сердце. Достоинство его как царя, – но и боль. Ибо царь Родам, хотел он этого или не хотел, тем больше становился человеком, чем больше его бедное и великое сердце напитывалось ядами излучений, исходящих от окружающих его. Равно, – друзей или врагов…
Но и то верно, что каков этера, таков и хозяин. Простой народ не часто общался с великими атлантами, но с их ближайшим окружением, если таковое у кого имелось, – постоянно. А человеки, хоть и приобщались понемногу к высоким энергиям, но своего животного, земного инстинкта еще не потеряли: они нутром чуяли сущность любого, стоящего перед ними. И хоть ты золотом обвешайся с ног до головы, а не признают тебя, если ты кичлив и чванлив, или же в другом каком качестве неискренен: подчинятся, но не признают. Так уж устроен человек, что это свое отношение к тебе он бесповоротно отнесет и к твоему хозяину, от имени которого выслушивает тебя, – и будет прав.
Замечали человеки давно, что мельчают атланты: уж очень стали некоторые из них отличаться от тех богов, о которых рассказывали им семейные предания. А ведь не какие-то это были сказочные персонажи, – нет, многие из них, все под теми же божественными именами, продолжали жить и здравствовать, не замечая сменяющих друг друга десятков человеческих поколений, память которых, тем не менее, четко запечатлевала их характеристики – не хуже атлантских записывающих машин…
Царь Родам горько усмехнулся, когда вольно пущенная мысль привела его плавными спиральками от красот Посейдониса – к записывающим машинам, этому позору атлантов. Вот тебе и доказательство деградации атлантской расы: вместо того, чтобы усиливать в себе Богом данные качества внутреннего видения, слышания, не говоря уже о могуществе, перед которым исчезает само понятие силы тяжести и притяжения, – многие пошли по легчайшему пути. Вот и появились новейшие изобретения, которые плодятся и множатся с невероятной быстротой, – такие как эти пресловутые машины памяти, всякие приспособления для подъема тяжестей и даже мобили, – ими, кстати, и сам царь не гнушался. И ведь только начни: память атлантов, исподволь ослабляемая вроде бы невинной привычкой полагаться на то, что машина всегда услужливо подскажет, подсчитает и выберет наилучший вариант для любого действия, – этот совершенный разум, сам являющийся непревзойденным аппаратом, не требующим ни времени, ни места для своего размещения, ни громоздкой системы подпитки, ни ремонта, в конце концов, – она начала давать сбои, эта память.
Дальше – больше, как всегда это бывает. И теперь уже от человеков, пожалуй, атлантов отличает лишь умение создавать эти машины и пользоваться ими. Но это ненадолго: человеки – племя смышленое. Их допустили к обслуживанию всяких машин: и примитивных, и тончайших, – потому что у атлантов на это нет времени, нет и интереса, – значит, скоро надо ожидать полного овладения ими всей атлантской техникой. Что тогда?
А ничего, – сам себе и ответил царь Родам. Ровным счетом ничего, если не считать того, что атланты, как вид, человекам скоро будут не нужны, – и даже в тягость. Эти маленькие неприхотливые создания, получив в свои руки все приспособления атлантов – всю их так называемую техническую мощь, – и сами прекрасно с ними справятся. Зачем тогда им содержать собственным трудом это рассеявшееся по миру племя великанов? Ставших, к тому же, что-то уж очень прожорливыми в последнее время. Впрочем, и это просто объяснимо: своими земными притязаниями, все больше закрывая самим себе доступ высших энергий, атланты ставят себя перед необходимостью возмещать эту потерю через земную еду. Многие даже, сначала под видом жертвоприношений Богам, а потом уже и вовсе откровенно, пристрастились к мясу животных. Не Богам это нужно, – но низменной природе таких горе-атлантов. Может, с этого и начал изменяться к худшему их род, – кровь священна во всем мироздании, и употреблять в пищу ее нельзя. Если намереваешься, конечно, сохранить возможность свободного проникновения во все миры…
Все эти до невероятия умножившиеся жертвоприношения надо искоренить. Царю Родаму, который был по Закону Первосвященником, или Главным Жрецом атлантов, прекрасно было ведомо, что творилось на этих действах, вокруг алтарей, залитых кровью невинных животных, объятых ужасом и безмолвно вопиющих о спасении. Не раз уже он сам, своей властью, прекращал эти кровавые оргии, – но его начали обходить. А ведь к открытой крови охочи припасть именно те… Враги, загнанные под землю и на воле скрывающиеся лишь в тени планеты.
– Отмахиваться от них своей неприкосновенностью больше нельзя, – услыхал вдруг Родам.
Он не понял вначале. Решил, что этот мягкий низкий голос – лишь продолжение его мыслей, материализованных силой его воображения. Но затем опомнился, открыл глаза и обернулся – он сидел на каменной плите, прислонившись к трону Атласа, – все мгновенно прояснилось. То, что он считал своими размышлениями, было чтением посылаемых ему мыслей Самого. Величественный и неправдоподобно огромный, сидел Атлас на своем троне, вольно расположив руки на его резных каменных подлокотниках и чуть подогнув левую, обутую в атлантскую сандалию, мощную ногу. Было темно, хотя час уже приближался к предрассветному. Царь Родам, не знавший понятия полной темноты из-за светимости своей ауры, поразился яркому свету, разлившемуся по всей площадке древнего, как сама Атлантида, святилища. От неожиданности, не приняв необходимых охранных мер, он взглянул прямо на Атласа – и отшатнулся, крепко прижав руки к глазам, опаленным, как огнем. Впрочем, это и был огонь, – Атлас, существо Высшего мира, где сама плоть является огнем, и излучения имел соответственные ядерным разрядам на Солнце. Хорошо еще, что он притушил, насколько мог, свои огни и поставил светогасящую стенку между собой и своим незадачливым потомком.
Молчали долго: надо было как можно быстрее исцелить Родама: воспламенилась слизистая не только глаз, но всего организма. Слизистая оболочка, самая уязвимая часть физического тела…
В других обстоятельствах это грозило бы мучительной смертью от пожара энергетических центров даже такому, как царь Родам, полубогу. Но – не в присутствии Атласа, располагавшего силой и Знанием Вселенной. Да и сам пострадавший помог, – погасив собственные ощущения и позволив сознанию Атласа проделать в своем организме то необходимое, что мог сделать он один. Царь Родам не мог, не желал пошевелиться. Впрочем, это был уже не царь и не Родам. Его истинная сущность вошла, естественно и легко, в свою природную ячейку, и он, наконец, осознал себя. Все, пережитое им на Земле, оказалось теперь таким мелким и не стоящим заботы, – все эти дрязги, интриги друзей и врагов, собственные его старания сохранить царственную власть якобы для спасения планеты, – все осталось тем же, и все изменилось. Изменился, прежде всего, – и всего лишь – взгляд Родама: поднявшись над всеми мыслимыми до этого мгновения уровнями, его сознание охватило вдруг разом явления жизни как целое. С неземной ясностью сложились в пестрый узор побуждения и чувства близких ему атлантов, – как и тех, отошедших от Закона. Стало воочию видно то, чему Родам не имел доказательств на Земле, хоть и знал шестым чувством: давняя измена советника Азрулы, заговор против него, царя, двойная игра жрецов, поддерживающих и мятежников, и законную власть в ожидании, кто же начнет побеждать. Многое осознал Родам в это неизмеримо короткое – по земным меркам – мгновение прозрения Истины.
Ничего личного, такого, что касалось бы только атланта Родама, живущего на земле, не было открыто ему. Он и не интересовался этим, полностью погруженный в непрестанно ткущийся ковер всеобщей кармы. Ковер, который, однако, не был лежащим или же повисшим в одной плоскости, но заполнял собою все пространство вокруг, – пространство, которого, между тем, не было.
Нити, светящиеся, темные, все разных цветов и их тончайших оттенков, свивались и развивались, осторожно соприкасались друг с другом и резко отталкивались, иногда даже взрываясь. Все это, едва царь останавливал взгляд на чем-то, тут же проявлялось яркой картиной земной жизни, однако не ограничивалось показом какого-то одного явления, но продолжало его развитие в будущее. Впрочем, останавливаться царю Родаму и не приходилось: сознание его, самым невероятным для земного состояния, но таким естественным для этой минуты, образом охватывало разом все действия, явления, мысли персонажей, их заботы, далеко или близко идущие планы, и даже то, к чему могут привести те или иные из них. Охватывало одновременно или вневременно…
Сказать, что он находился в состоянии блаженства, значило бы ничего не сказать, ибо блаженство, по уровню своего развития, царь Атлантиды имел возможность испытывать и в обычном, земном, состоянии. Но то, что он чувствовал теперь, было чем-то качественно иным: это было полное слияние с Божественной Тканью Мира, во всем ее единстве, единстве Силы, Разума и Красоты.
Он ясно отмечал каждое ощущение этого нового для себя состояния сознания, которое соединяло их все в один прекрасный поток. Гармония, – пел этот многоструйный поток. И не было возможности – да и надобности также – вычленять из него что-нибудь одно, называя его по имени и обедняя этим неразрывно целостное его единство.
Напряжение в спокойствии, – так назовет про себя царь Родам это состояние много позже. Именно, – высочайшее напряжение, которое возможно лишь при величайшем спокойствии духа, – так определит он его для брата Герму. Ибо не кому иному, как Гермесу, будет поручено несение Высшего, отныне становящегося тайным и сокровенным, Знания. Того Знания, которое должно быть донесено через все катастрофы, преграды, смятения и разрушения. Через чудовищные преступления пролития крови, ужасы бессмысленных войн и страданий, потемки сознания, которые повлекут за собой гибель народов и бесчисленных цивилизаций, снова и снова возрождающихся одна из другой – и забывающих об этом, и презирающих собственное происхождение.
Благословенный Гермес, имен которого не счесть во всех веках и племенах, исполнит данное ему поручение. Тайными символами, непонятными даже для посвященных, словами, – а там, где исчезала письменность, так и легендарными преданиями – отголоски Великого Знания непрерываемо и победно шли в изустных передачах из поколения в поколение. Они часто заучивались наизусть, несмотря на темный смысл странно звучащих слов давно исчезнувшего, но священного поныне языка.
Эти обрывки истины, единственной для всех, пройдут сквозь черную эпоху человечества. Разрозненные, искаженные и неузнаваемые, они будут собраны Новыми Атлантами, – обновленными людьми на обновленной Земле. Очищенные их самоотвержением и соединенные в единой, целостной мозаике, они, являя собой части одного и того же тела, сольются в живой и прекрасный монолит Истинного Знания, которое от века.
КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Голос Атласа вернул царя к действительности земной. Но – вернул обновленным, вернул полного сил и ожидания чего-то непременно героического, что он теперь в состоянии совершить.
– Ну что, пришел в себя? – слова титана раскатывались эхом в соседних ущельях, хотя заметно было, что он говорит далеко не в полную силу, сдерживая себя из опасения навредить. – Теперь понимаю, что сталось с атлантами, если даже лучший и высочайший из них… Зачем же ты призвал меня, коль встреча со мной тебе опасна?
– Прости, великий Аттли, – голосом охрипшим, но бодрым, произнес царь Родам. В опаленной его глотке звуки продирались через боль, которую невозможно было явить наружу, – хотя что могло быть тайною для Атласа? – Не буду отнимать у тебя много времени и отягощать своими делами, – они теперь почти сплошь – земные…
– Говори! – пророкотал титан.
Царь Родам помолчал. Начало было неожиданным, в своих мыслях об этой встречи он готовился к разговору. Представлял, как поделится с высоким посланцем своими опасениями насчет того, что атланты – почти все – начали снижать уровень собственных возможностей, духовных и физических. И вдруг – такой поворот событий! Что же это: выходит, что и он, царь всего населенного земного мира, великий и непревзойденный, которому подвластны все, кого он желает видеть подчиненными, повелевающий не только земными подданными, но и стихиями с их невидимыми для землян духами, – и он тоже не может больше соответствовать эталону атланта, он, который есть само совершенство, космический посланец, бог?.. Бог – это для человеков – постарался он уточнить мысль, – на самом же деле – не совсем бог. Так, что-то среднее: полубог. И кто это придумал…
– Да уж, конечно, не ты, – Атлас перешел на мысленный диалог. – Тебе бы дай волю, так ты, пожалуй, и всевышним бы себя прозвал, что скажешь?
Царь Родам был сбит с толку. Пожалуй, это с ним случилось впервые в жизни. И – именно в такой момент!..
Непонятно было – то ли Атлас ни во что его не ставит, – опять? – одернул его вновь невидимый внутренний наставник, невесть откуда вдруг взявшийся, – или же он… Ну конечно, над ним подтрунивают!
– Пожалуй, оно-то еще серьезнее, чем я думал, – вновь подал голос Атлас. – Великое право – доверять своим ближайшим. Но, – если желаешь, чтобы дело составилось по-настоящему, так, как ты его задумал и направил, – нельзя отдавать его исполнение другим, хотя бы и самым-самым… Говорю это для тебя, царь, чтобы ты принял это к действию. Все делай сам. Только своей энергией, от начала до конца. Иначе будешь раскаиваться; как я сейчас раскаиваюсь в том, что оставил дело своих рук и мысли своей, поверив в то, что преемники мои доведут его до конца… И достойные все были, эти преемники, а вот поди ж ты! Аттитлан гибнет…
Царь Родам был потрясен. Гибнет! Атлантида гибнет, – верно ли он понял, не ослышался ли? Эти его смутные опасения, недовольство всеми вокруг – значит, они подсказывали ему действительно нечто страшное, что приближается, затягивая всех в какую-то паутину, из которой не вырваться?.. А он-то пришел сюда, чтобы пожаловаться милостивому Отцу на непослушных овечек его стада!
– Не прерывай меня, – напомнил условие Атлас. – Ты совсем разучился слушать. Да и понимаешь с трудом. Это – не в укор. Укоров не будет: поздно. Теперь надо суметь спасти то, что еще можно спасти. Садись и запоминай.
Родам оглянулся, ища, на что бы присесть, раз уж велит, но Атлас с неподдельным огорчением добавил:
– Мало того, что Фохат стал для тебя непереносим, – Фохат, высшая энергия, без которой немыслима сама жизнь, – так ты еще и разучился подставить под себя стул?!
Он махнул рукой – показалось, что на Родама с его возможностями, – однако стул, настоящий деревянный стул, хоть и простой, без резьбы, но добротный, появился подле царя. Тот, в конец пристыженный, но сохранивший внешнюю невозмутимость, поблагодарил Атласа и сел: взяла свое царская привычка не терять достоинства ни при каких обстоятельствах. Даже при таких, как встреча с Атласом.
Царь Родам глубоко, с затяжкой вздохнул, после чего его дыхание надолго приостановилось. Казалось даже, что оно исчезло вовсе, – но это только казалось: на самом деле функции дыхания перешли вместе с полетом сознания на высший, духовный план. Все его существо подчинялось теперь центрам, составляющим триаду верховного сознания, неподвластного земным, животным сигналам.
Внезапно мысль его, под воздействием огненной силы Атласа, обрела четкость и ясность – и легко полилась потоком считываемых сверх-идей, отличить которые от собственных всегда возможно не только по их несравненной глубине, но и по необычности формы:
– Во времена, теряющиеся в дали сотен тысячелетий планетного исчисления, когда из Зерна Жизни, проросшего на Земле, оплодотворенной Небом, развились и размножились сменявшие много раз друг друга виды, – один из них, наиболее опередивший своих сородичей по развитию заложенного в них содержания, был отмечен Советом Семерых как возможный объект дальнейшей эволюции.
Эволюция… Долго, долго еще невежество будет заключать это понятие в рамки развития физической формы, связывая с ее приспособляемостью к жизни развитие разума, или интеллекта, что в равной степени составляет физическое явление, призванное облегчить существование. Но разум – это всего лишь высшая земная ступень животного инстинкта, изначально приданного всему живому.
Нечто совершенно иное по качеству, вибрациям и возможностям – это сознание. То самое сознание, которое, будучи воспринято вначале хотя бы одним человеком, особь за особью, род за родом вводит все человечество в общую семью Космического Сознания, – великое Общее Поле взаимосвязанностей, где нет расстояний, нет самого понятия времени, ибо все в одном, и одно во всем, – но не в обособленности. Потому что здесь нет тайн. Допущенные в эти сферы прекрасно знают, что не существует такой тайны, которая бы не открылась, – она во мгновение ока станет явной для сознания, обратившегося к ней. Раз нет тайн, – значит, нет ухищрений, обмана, – и попросту зла как такового. Это Царство Истины. И все мировое содружество следует этому закону. Собственно, Закон – един. Множество частностей его, придуманных человеками – это всего лишь попытка расчленить великое тело Истины. А ведь если следовать всего лишь одному этому незыблемому правилу, – можно не задумываться об остальном в жизни…
Истина – это доброта и любовь Бога, заключенные в сердце человека, на какой ступени развития он ни стоял бы. И если это сердце открыто всему, что составляет жизнь, – Бог действует через такое сердце на мир, окружающий человека.
Но – в общей массе, – человек закрывает, почти неминуемо, сердце свое для добра, и, поддавшись неким вредоносным силам, внушающим ему думать только о себе, заботиться о себе – и трудиться, опять же, только на собственные потребности, сам себя этим человек отвергает от истинного благополучия, как земного, так и духовного, – ибо если закрыто его сердце для добра, которое есть одно на всех, то закрыто оно и для принятия в себя помощи Всевышнего, его животворящего луча…
Одним словом, эволюция Космоса – это то же, что эволюция сознания. А само сознание можно представить как одухотворенный интеллект. Цель велика: ввести человека в общее духовное поле, и дальше – дать ему возможность расширять свое сознание до уровня космического. Это – как бы цель-максимум на нынешний Великий Круг, который необозрим по количеству земного времени, но конечен с точки зрения Беспредельности, в которой эта эволюция продолжается.
Действительно, – каждому свое. И неисчислимы в Космосе уровни развития сознаний, как беспредельно и число атомов, несущих в себе зародыш первозданной жизни. Подобно любому семени, жизнеспособность атомов необычайно продолжительна. Ведь они, появившись на свет сразу после протонов, нейтронов и электронов, несут в себе, в закодированном виде, историю всей жизни во Вселенной. Историю не только прошлого, но и будущего, – того пути, по которому пойдет, должна пойти эволюция. Все это чрезвычайно просто, как просто все, что исходит от Истины: биологическое состояние любого организма зависит от того, каким образом простейшие атомы первозданных, стихийных элементов – например, воды или воздуха – образуют в нем сложные соединения.
Да, именно атомы представляют собой ископаемые Космоса, реликты Великого Огненного Начала…
Эволюция – явление всеобщее. Не только на уровне планеты, но и Вселенной – и выше, – она осуществляет потенциальные свойства каждой системы, от верха до низа. Эволюция, таким образом, это планомерная расшифровка генетического кода. Коды атомов, сочетающихся в строго определенные молекулы, дают жизнь бесчисленным их видам, сразу же образующим свои собственные, но также загодя спланированные задания.
Эволюция плотно-материального состояния так же не лишена порядка и красоты, как и эволюция всех других, более тонких, или «невидимых», как любят говорить на Земле, видов материи. Да, материи, ибо в мироздании все материально, но материя различна сама по себе. Материя более организованная, а, значит, и прошедшая свой путь эволюции с оценкой «отлично» (потому что двоечников в следующий класс здесь не переводят), достигшая уже определенной высоты в эволюции не только физической, но и, куда реже, – духовной, в силу своего высочайшего сознания добровольно берет на себя заботу о тех, кому предстоит еще только вступить на этот путь, – путь совершенствования, путь развития человеческих цивилизаций.
Ибо что такое цивилизация без сознания? Какой бы сверхразвитой интеллектуально она ни была, но стоит уйти из жизни носителям знания, – как исчезает все, исчезает даже из памяти народной. Что может остаться? Лишь несколько самых выносливых строений…
Да и те, утерявшие своих создателей, а с ними и секреты построения, вызывают в следующих поколениях лишь удивление и недоумение, – и ничего больше.
Конечно, в более отдаленные и просвещенные времена начнут понимать, видя их, что жили на Земле люди с поистине божественными возможностями, которые они стремились передать человекам, лишенным еще тогда искры божьей.
Но из животных в люди – путь непростой. Здесь необходима помощь со стороны. Непосредственная жертва…
* * *
Не впервые Картлоз приближался к Посейдонису морем, но каждый раз зрелище, которое открывалось глазу, было заново поражающим…
Корабль уже замедлил свой ход, чтобы дать возможность пассажирам, облепившим поручни всех трех палуб, насладиться панорамой. У капитанов Атлантиса была своя традиция: приостановиться как бы в изумлении перед тем, как на горизонте, там, где сливаются ярко-голубым цветом небеса и море, вечно сияющие и одинаково лазурные, начинало особенно посверкивать и блистать. И хотя не было ни на одном судне ни единого человека, который бы не знал доподлинно, что этот ослепительный свет исходит от орихалковой стены, окружающей Верхний Город, – средоточие и главный оплот Атлантиса, – а также от наверший его дворцов и храмов, капитан неизменно провозглашал в громкоговоритель голосом зычным и волнующе-низким:
– Атлантис! Атлантис, достопочтенные господа! Приближается главное чудо земли, город, по красоте и великолепию достойный своего создателя, великого титана Атласа, чье имя носим мы, жители этой благословенной земли, – и восприемника его могущественного бога Посейдона! Возблагодарим же небесных покровителей наших за счастливое плавание и благополучное прибытие к родным очагам. Гостей же попросим присоединиться к нашей благодарственной молитве и принести свою посильную жертву охраняющим нас богам, дабы и впредь они не лишали нас своей защиты!..
Картлоз, стоявший рядом с капитаном, с одобрением проводил взглядом золотой перстень с красивейшим сапфиром, который тот, показав всем в поднятой руке, с размаху бросил далеко в море. Этот перстень не давал Картлозу, в общем-то довольно безразличному ко всякого рода драгоценностям, покоя в течение всего плавания, а оно было долгим, и продолжалось полный месяц, если считать по старинному атлантскому календарю, – двадцать дней. Раньше, до Катастрофы, этот путь, говорят, проделывали шутя: каких-то четыре-пять дней от Тарса! Теперь же, когда мореплавание едва-едва возобновляется за столбами Мелькарта, – океан, сплошь забитый глубоководным илом и ставший вязким, как жидкая грязь, от рассеянного в воде и воздухе материка очистился, слава Единому, – от того же Тарса можно, идя сразу к северу, все по-над берегом, добраться до студеных полярных вод, которые (говорят же: нет худа без добра!) после исчезновения Атлантиды заметно потеплели. Будто и вправду, как утверждает капитан, теплое течение от самой середины земли Мус, не чувствуя теперь для себя преграды, вырвалось на свободу и направилось топить льды на северо-восток.
Картлоз усмехнулся: много им там дела, теплым водам, точить ледяные громады – это тебе не то, что согреть воду в кружке! Хотя – что ж, за последние пару лет, как он впервые сумел пройти этим путем, – изменения в тех местах огромны. Пожалуй, никакие расчеты не смогут дать полного прогноза очищения северных земель ото льда: так быстро, и еще с ускорением, идет процесс.
Конечно, в древности атланты знали, – с их-то возможностями! – что под северной ледяной шапкой, пусть и не сплошь, – но находится земля. Или огромный остров, или же материк. По всей вероятности, все же – последнее, иначе острову пришлось бы быть слишком узким и растянутым. Ведь полосу земли, освободившуюся от ледового панциря, еще голую и очень неприветливую (Картлоз даже поежился при одном этом воспоминании) проходили в течение нескольких дней. Он помнил, какая это была безрадостная пора: дул попутный ветер, но парусов не поднимали и шли машиной на самых малых оборотах: места совсем новые, лоций – никаких, хоть движение, слава Единому, здесь довольно уже оживленное. Все – благодаря атлантам из Посейдониса. Ведь доверять на море, – как, впрочем, и на суше, – теперь можно только им: все остальные, заводнившие Срединное море, принадлежат морским разбойникам, бродягам, потерявшим свою землю, как и многие другие, но избравшим для себя самый легкий путь к обогащению. Интересно, где же они обитают? Ведь должна же быть суша, на которой они могли бы обсушиться и обогреться, да и детей народить. Нельзя же без этого человеку, если он человек, конечно. Да и их эти ужасные заработки: для чего-то они ведь им нужны? Даже пропить их, и то нужно место на суше, где только и растет виноград, – из моря вина не выжмешь и не выпаришь…
Драгоценности, за которыми охотятся, в основном, эти бродяги, тоже нужно обратить в товар, или хотя бы в эти… каури, кажется, так называют маленькие красивые ракушки, которые вывозят только с одного места, – где-то на экваторе, чуть ли не посередине между Ливией, с ее восточной стороны, и Мусом, – с его запада. Незаметно, а смотри ты, дорожают эти белые, с коричнево-радужным переливом, и крепкие, как электрон, небольшие завитки, которые нельзя ни подделать, ни заново воспроизвести. Говорят, на тех островах их чуть ли не лопатой гребут, но монополию держат… А кто, собственно, в этом монополист?
Картлоз перебрал в уме всех известных ему в деловой сфере, кто мог бы придумать такое гениальное применение морским ракушкам, как всемирная форма товарообмена и, к тому же, наладить их вывоз при соблюдении полной тайны. Наконец он пожал плечами: при всей своей осведомленности в мировых торговых делах, он вынужден был признать свое поражение в этом, таком пустяковом с виду, случае. Он постарался отогнать от себя эту неприятную мысль, – и здесь его, восточного атланта, обходят. И кто? Знать бы… Почти наверняка – эти выскочки-коротышки из Ливии. Теперь уже и не поймешь, как их называть, и какого они родуплемени. Кто-то говорил, что они – не коренные жители ливийского побережья, хотя это и так понятно. Где сейчас сыщешь собственно коренных жителей? После того, как все земли, пригодные для жизни, заселены были беглецами из Атлантиды. Вот и эти, – Картлоз усмехнулся названию – финикийцы. Хотя сами себя они так не называют, а упорно зовут себя: ханаан, по имени своего родоначальника, которого, кстати, никто не знает. Хурры, которые когда-то исконно жили на всем побережье юга Срединного моря, теперь теснятся слабыми кучками то там, то здесь, в самых неудобных местах проживания. Зато все еще сохраняют свое лицо. Остальные из них, те, которые слились с пришлыми из Атлантиды племенами человеков, прикоснувшихся к жизни богов, и от этого ставших только спесивее, – те совсем потеряли память о себе.
Да, все смешалось в мире, а уж о чистоте крови и говорить не приходится…
Размышления его прервал капитан, жестом призвавший и своего почетного пассажира принять участие в жертвоприношении. Картлоз и виду не подал, что не видит смысла в этой пустой трате зачастую неповторимых по красоте и совершенству исполнения драгоценных изделий. Он вынул из одного отделения широкого пояса крокодиловой кожи загодя для этого случая припасенный прозрачный мешочек, не спеша, под заинтересованными взглядами сгрудившихся вокруг соседей, развязал много раз обвитую шелковую ленту на нем – и церемонным жестом, высоко подняв мешочек, высыпал его содержимое в море. Картина была прелестна: разноцветные камни, все ограненные или же просто отполированные, рассыпая вокруг себя снопы радужных искр, беззвучно и мягко, точно в растопленное масло, погрузились в зеленоватую, травяного оттенка и такую же прозрачную, как хризолит, воду. Здесь было довольно глубоко – как везде, где пронеслось огненное дыхание божьего гнева, – но дно уже обозначалось тем, что отражало солнечные лучи.
Дождь подарков богу Посейдону уже закончился, и Картлоз немного пожалел, что за своими думами пропустил зрелище редкой красоты. Но тем значительнее оказалось его приношение: всеобщее внимание теперь было приковано к разлетевшимся от удачного броска и долго еще видимым под водой камням купца.
– Эоэ! – зычно крикнул капитан. – Хорошее предзнаменование! Господин наш Посейдон принял все жертвы! Чувствуете ли вы радость? Это не ваша личная радость! Нет, это великий и могущественный изо всех богов, чью силу перенимают все, кто ступает на землю его острова, или хотя бы приближаются к ней с добрыми намерениями. Это Он одаряет вас своей могучей радостью, несравнимой по силе ни с каким земным чувством! Посейдон принимает вас! – и без всякого перехода он неожиданно изрек:
– Господа! Наш благословенный богом корабль в обратное плавание к Таршищу, или Тарсу, как вам будет угодно, отправляется через месяц. Через месяц, господа, день в день и час в час, мы отплываем обратно. Поспешите, кто еще не успел этого сделать, занять себе каюты поудобнее, хотя у нас все места, даже в трюме, где помещаются ваши грузы, удобны! Можете спросить у своих мешков и корзин! Ха-ха-ха!..
Под аккомпанемент раскатистого баса, усиленного рупором, матросы, предводительствуемые деловитым молодым помощником капитана, успели уже убрать паруса, а в последнюю минуту – и опустить крытую лестницу для удобства пассажиров. Сами-то они просто перепрыгивали через борт, когда это было нужно. Как сейчас, например: корабль шел впритирку к каменной пристани, а на ней уже ждали матросы, чтобы, подхватив концы, брошенные с носа и нормы, закрепить их на огромных бронзовых тумбах, впаянных каким-то чудом в красноватый базальт природного мола. Картлоз сверху наблюдал эту картину. Он не торопился сходить вниз, в толчею галдящей публики, отчего-то спешащей непременно в первых рядах сойти на землю. Можно было представить, как им опостылел этот корабль, в течение долгого месяца бывший им гостеприимным и устойчивым домом на ненадежной, текучей стихии.
– Ну что? – раздался бас капитана, и рука его дружески обняла Картлоза. – Не торопимся? Ну и правильно. Здесь, у нас, может, самое интересное только начинается! – и он слегка потряс своего привилегированного пассажира.
Картлоз поморщился от такой вольности: он не переносил фамильярности в любом ее виде, пусть она даже исходит от атланта, которому повезло родиться в северной части материка. Конечно, эти атланты сейчас контролируют всю населенную часть земного шара, но надолго ли? От знающих не скроешь, что вся их хваленая сила, их всемогущество, которым они так кичатся, – он пренебрежительно взглянул искоса на добродушного с виду капитана – заключается всего лишь во владении ими Малым Кристаллом…
Но привычка держать под контролем свои действия взяла свое. Спрятав мысли под дружелюбной улыбкой, Картлоз ответил хозяину своего временного дома:
– Я вот и подумываю: не остаться ли мне в моей чудной каюте, с которой я прямо-таки сросся за это время?..
– А что?! – взревел от восторга капитан. – Где ты найдешь еще такие условия?! – он подмигнул Картлозу и снова попытался обнять его, от чего тот увернулся. – Вот только придется на денек перейти в любую другую каюту. Хоть и капитанскую, – он простецки ухмыльнулся, – надо, понимаешь, уборочку произвести на всем корабле. Это – священная традиция, – после плавания очистить каждый уголок, отмыть все: стены, потолки и полы, чтобы можно было провести настоящий очистительный ритуал, – ну, ты знаешь, пригласим жрецов из храма Нептуна и все такое…
Рука его все порывалась к объятиям, и Картлоз не сдержался. Чуть более порывисто, чем было допустимо среди атлантов, он схватил эту широкую ладонь и припечатал ее к борту. Капитан детскими удивленными глазами посмотрел на него и обиженно спросил:
– Ты чего?..
– Да плечо у меня болит… – опомнился Картлоз. – Чирей вдруг выскочил… А ты все трогаешь и трогаешь! Прости меня за резкость, друг Дирей!
– Чирей?.. С чего бы это? Питание у нас было превосходным всю дорогу. Чирей – это неспроста. Вроде бы маленький такой, а зла творит много. Вернее, не сам творит, а рассылает из себя мириады врагов во все стороны организма, внедрившись в какую-то ослабленную точку.
И он даже откинулся, чтобы осмотреть Картлоза получше. Однако тот был уже и сам не рад: он забыл, что эти атланты не болели, и не просто так не болели, но знали секрет быстрого исцеления. Один из многих, исчезнувших из памяти его рода. Их-то и предстояло добыть Картлозу. Секреты, после Катастрофы ставшие недосягаемыми для восточных атлантов, отторгнутых от высшего Знания решением Совета Семерых.
Картлоз уже и не знал, как выйти из этого положения, когда вдруг его взгляд упал на руку Дирея.
– Что я вижу! – с неподдельным изумлением воскликнул он. – Твое замечательное кольцо! Так ты, значит, его не… Молчу, молчу!
И он картинно припечатал пальцы к своему рту, который все больше раздирался в ехидной улыбке: теперь Дирей был у него в руках!
Капитан быстро отдернул руку и даже завел ее за спину, – но было уже поздно.
– Что ты имеешь в виду? – в растерянности его голос как-то сник и потерял свои неподражаемые модуляции. – Кольцо? А что – кольцо?
– Да ты не опасайся меня, друг Дирей, – вкрадчиво заговорил Картлоз. – Покажи-ка мне свое кольцо… Ну, конечно, то самое, настоящее! Я так боялся, что ты не догадаешься бросить в море фальшивое! Ведь там, где ты бываешь, во всех этих лоскутках и обрывках, образовавшихся на месте когда-то единой империи, много всякой накипи всплыло наружу. И уж поддельные драгоценности – это еще не самое трудное и важное для тех, кто желает обогатиться любым путем, – он помолчал, разглядывая кольцо, запавшее ему в душу с первого взгляда на него, еще при посадке на корабль в Тарсе. – Береги его. Другого такого нет и не будет.
Он поднял голову от кольца, которое жадно разглядывал, пытаясь запомнить его, впечатав в сознание. Как его учили, готовя в эту поездку, от которой так много ожидали там, на родине, чье имя он носил…
– Вот я и берегу, – пробормотал капитан Дирей, – потому и не мог пожертвовать его милостивому богу Посейдону. Надеюсь, что он, зная все и понимая, не обидится на меня за это.
– Что это ты, как варвар какой, называешь великого бога то Посейдоном, то Нетуном? – перебил его Картлоз.
– Да все потому, что профессия у меня такая – ездить по всему свету, – Дирей все еще был скован, мысль о разоблачении, которое теперь зависит от этого мозгляка, лишенного благорасположения богов, точила его. – Знаешь ли ты, что Посейдон, да благословит его деяния Всевышний, до Катастрофы владел землей, да, да, именно землей?
– Ты шутишь, можно ли?..
– Эх, и отстали же вы, восточные, в своей изоляции! И времени-то прошло совсем ничего – если сравнивать с Историей, конечно, – а вы, я давно замечаю, совсем закостенели в тех границах, которые тесно сжимали вас и раньше. Но они-то ведь и привели к беде, да и не только вас! Ну, ты понимаешь, я говорю о характере, который определяет отношение к знанию. У вас, восточных, это сделалось…
– Мы, кажется, говорили совсем не о том, – холодно проговорил Картлоз, не глядя на собеседника.
Капитан Дирей осекся. Ему не надо было объяснять, что происходит – знание шестым чувством, слава Единому, не оставило его пока. Недаром им всем: морякам, купцам, просветителям, начавшим выезжать в тот, как бы затерянный, мир, строго-настрого запрещалось во всех контактах с простыми человеками ли, или же вот с такими вроде бы и атлантами, как этот высокомерный и хитроумный восточник, упоминать о Катастрофе. А тем более – распространяться о причинах, вызвавших ее: об этом говорить можно было только со «своими». Уже не раз капитан Дирей убеждался в правильности этого запрета, что особенно касалось таких, как этот, твердолобый. Вот уж поистине верно это их определение: лишение божественных даров выразилось у атлантов, преступно с ними обошедшихся, лишь в одном, но зато стоящем всей земной жизни: боги закрыли в них потустороннее видение, третий глаз, находящийся во лбу. Атлант, лишенный этого дара, становился просто человеком, – нo гораздо хуже: со своими-то не забытыми претензиями…
– Ах, да, мы отвлеклись, – в голосе капитана появилось что-то наигранное, с чем он не мог сладить, но в двух словах вопрос о Посейдоне-Нетуне заключается в том, что…
– Ну, хватит! – зашипел Картлоз и сдавил руку Дирею. – Отдай мне свое кольцо – и никто не узнает о твоем преступлении!
– Ты чего это? Какое преступление? Да у меня этих колец знаешь, сколько? И все настоящие! Пойдем, покажу! Пойдем, пойдем! Ишь, расшумелся! Стража, ко мне!
И капитан пронзительно засвистел в серебряный свисток, постоянно висевший у него поверх блузы, в отличие от амулетов, которые принято было носить прямо на теле.
Но его гость внезапно весело рассмеялся, приведя этим могучего, но простодушного атланта-капитана в некоторую растерянность. Он не мог взять в толк, как это можно было, после всего того, что было тут говорено, – и даже не в словах дело, а в том, что прочувствовал капитан, – так искренно смеяться и вообще делать вид, что ничего не получилось! Слава Единому, который надоумил капитана: послал силу, а вместе с ней и нужные слова, чтобы отвести, если не беду, то целый комок неприятностей…
Картлоз, между тем, чуть не захлебывался от смеха. Он все порывался что-то сказать, но смех, который должен был доказать капитану его искренность, не давал прорваться ни одному слову. Капитан уже несколько отстраненнее, как и полагалось это с самого начала, наблюдал за конвульсиями своего собеседника, когда вдруг вспомнил о своих дальнейших действиях, предписываемых всеведущей инструкцией. Эта инструкция была накрепко впаяна в сознание тех из атлантов, кои уже утеряли естественную связь, непринужденный внутренний диалог между собой, не говоря уже о выходе на Высший План. Она служила как бы напоминанием: в жизни случается не только доброе и открытое, но есть и оборотная сторона этому. И ты, коль скоро вышел на уровень общечеловеческий, в какой-то степени затемнив таким образом свое сознание, должен, общаясь с другими, – будь то человеки или даже твои собратья-атланты – находиться постоянно в боеготовности. Во всех странных, сомнительных для тебя случаях ты можешь безоговорочно передавать свое сознание вверх по Иерархии, – там уж разберутся, что к чему, и укажут тебе, как действовать дальше.
Капитану Дирею, плававшему с самого открытия сообщения между исконной Атлантидой и новыми землями, еще не приходилось прибегать к этому способу. Каждый раз гордость или, скорее, уверенность в том, что можно справиться и собственными силами, удерживала его от дачи условленного сигнала. Но на этот раз он чувствовал, не стоит дожидаться обстоятельного разговора на берегу, в тихом полуподвале каменного дворца. Разговора, бывшего, по его мнению, пустой формальностью, своеобразным отчетом каждого капитана, который надолго выходит в мир, ставший враждебным не только атлантам, но и самому себе.
В этом же случае было нечто, настолько противное самому естеству капитана, в общем-то не гнушавшегося земной жизни, что он вдруг осознал: здесь большая опасность. И опасность, грозящая не ему лично, – об этом не стоило бы и говорить, – но чему-то большему и высшему, чем он один, самому принципу атлантизма, что ли…
Впрочем, капитан Дирей не формулировал так четко своих мыслей. Достаточно было и того, что была создана сама эта идея, – а уж передача ее наверх – она совершалась автоматически, или сама собой, как говорили атланты, не любившие употреблять понятие «автоматизма» в отношении собственного, сверхразумного сознания.
Но, так или иначе, а сигнал был дан. И пока капитан с удивлением, похожим на иронию, взирал на корчи этого своего пассажира, которому он чуть было не открыл своего сердца (вот до чего может довести излишняя доверчивость ко всем, кого ты хочешь почитать за единомышленника!), через его сознание, нисколько его этим не отягощая, – наблюдатели извне вели свой контроль за происходящим. Теперь капитан Дирей мог быть уверен, что не попадет впросак: начиная с этой минуты все, что бы он ни сказал и ни сделал, неощутимо подсказывалось ему кем-то, кто знал больше и видел дальше.
Если бы кто-нибудь сказал ему о насилии над собственной личностью, вряд ли капитан его бы понял. В среде атлантов подобная передача сознания вышестоящим считалась вполне нормальным явлением, и даже была желаема рядовыми атлантами. Условия жизни менялись быстро, борьба с противоположными силами оказалась труднее, чем ожидалось когда-то, и приняла затяжной характер; атланты, все более входившие во вкус земной жизни, уже не всегда бывали уверены в правильности своих поступков и с готовностью обращались к тем, сохранившим чистоту сознания, за направляющим руководством. Пример ужасающего взрыва для всех был напоминанием о том, к чему может привести отрыв от Высшего руководства, которому Единый План, без сомнения, ведом если и не полностью, то в гораздо большей части. «Я сам, я сам», – твердит гордец, и эта самость заводит его совсем не туда, куда бы ему самому хотелось…
Тем временем Картлоз, видя, что его смех вызывает у капитана лишь недоумение, проговорил, вытирая слезы душистым белоснежным платком:
– Ну ты меня и насмешил, друг Дирей! Вы что здесь, все такие?
– Какие? – вежливо переспросил капитан.
– Серьезные! Шуток совсем не понимаете…
– Какие-такие еще шутки? Ты ясно выразился, – и все тут!
– Да пошутил я, слово даю, а ты уж и поверил! – и Картлоз снова прыснул смехом, явно собираясь продолжить припадок показной веселости.
– Я твоих шуток не понимаю. Но ты учти на будущее, раз уж прибыл в Атлантис и собираешься заводить дела с нами: такие шутки тебе могут обойтись очень дорого в следующий раз. Ты что, забыл цену слову? Сказал – и оно отпечаталось. Доказывай потом, что ты «пошутил»!
– Ну я прошу тебя, Дирей, давай забудем об этом, если тебе неприятно. Мог ли я думать?..
– Должен был бы… – пробормотал Дирей, и повернулся, собираясь отойти.
– Постой, постой! – схватил его Картлоз за край капитанской белой с синими полосами по краю туники. – Мы ведь не можем так расстаться: дай мне слово, что не обижаешься на меня.
– Слово? – удивился Дирей. – Мы словами на ветер не бросаемся.
– Ну, хоть пригласи меня еще раз остаться на своем корабле.
– Сделай одолжение, – безразлично ответил ему Дирей, осторожно освобождая свою одежду от назойливых рук Картлоза, – только не трогай меня руками. Ты забываешь, что мы этого не любим.
– И чего это ты все время говоришь о себе во множественном числе?
– Потому что мы – это действительно «мы». Мы все, атланты, – он нехотя поправил сам себя. – Истинные атланты.
Картлоз остановился; Капитан, обернувшийся к нему, успел поймать какой-то непонятный ему, но отталкивающий блеск в его огромных черных глазах. Самопроизвольная дрожь прошла по телу Дирея, такому большому и сильному, доказывая собой его проницаемость для внешних воздействий. Однако, к счастью, это была всего лишь реакция его ауры, отторгнувшей от себя злую силу, исходившую от медоточивого лже-приятеля.
Тут же гримаса боли, которую невозможно было сдержать, исказила черты Картлоза. Согнувшись чуть ли не вдвое, он схватился за правый бок, и дыхание его зашлось. Капитан оказался в двусмысленном положении: с одной стороны, ему полагалось бы, как хозяину дома, где случилась с гостем болезнь, проявить соболезнование и вылечить друга. Но, с другой стороны, это был вовсе не друг, и теперь, когда проявилась его сущность, к нему прикасаться нельзя было, а не то что лечить. Ведь для исцеления другого всегда потребна энергия собственного сердца. Это не возбраняется правилами, как было известно Дирею, но только в случае, если энергии, которые неминуемо придут в каналы целителя по закону обмена: я – тебе свою чистую энергию, ты мне – отработанную, если эти привходящие энергии не будут совсем уж обратного свойства по отношению к твоим собственным. А именно это и наблюдалось сейчас. Капитан нисколько не удивлялся тому, что он столько времени общался с этим восточником, – да и не только с ним, – не ощущая никакого урона для себя. Он знал, что урон, который неминуем при любом общении атланта с излучениями ниже по уровню, легко восстанавливается из Вселенского Источника, если только нет перерасхода. А перерасход получается лишь в единственном случае: если твоя сила уходит как в бездонную бочку, пытаясь заменить собой, своим светом, всю тьму мира, – что невозможно. Потому так упорно советовали жрецы-наставники всем, выходящим во внешний мир, не растрачивать драгоценной силы, дарованной им, на потребу врагам.
Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не появился над палубой мальчик-юнга, подобранный Диреем в порту Тарса и приставленный к делу: паренек был на побегушках. Вот и сейчас, не успев высунуть голову из служебного люка, он затараторил:
– Господин мой, тебя срочно требуют в таможню! Слышишь, иди скорее!
Капитан взглянул на все еще не распрямившегося Картлоза и сказал, стараясь смягчить свой трубный голос:
– Что с тобой случилось?.. Ну, ладно, – мне сейчас, видишь, надо идти, а к тебе я пришлю врача. Договорим после, когда поправишься, – и он сделал знак юнге остаться с больным.
Вздох невольного облегчения вырвался у него, едва он спустился на несколько ступеней, скрывших его от вида Картлоза. Прогрохотав как можно громче по металлической лестнице, чтобы тот слышал, как спешит капитан по важным делам, он другим ходом прошел в свою личную молельню, – крохотную каютку, примыкавшую к его роскошному жилому помещению, – и, запалив лампаду, припал к подножию небольшого золотого изваяния. О чем была его беседа с почитаемой им Всемирной Матерью – осталось навеки неведомым. Но из молельни капитан вышел сосредоточенным и спокойным, казалось даже, что он потерял свою знаменитую беспечность.
Но это только так казалось. Ибо на самом деле капитан не потерял ничего, но даже приобрел. Приобрел ясное понимание происходящего вокруг, – не только вокруг собственной персоны, но гораздо шире и глубже; приобрел уверенность в том, что способен возродить в себе основную силу – владение мыслью и способность мыслить сообща.
Его помощник, которому пришлось самому явиться за патроном, – как будто у него своих дел мало, – застал капитана за переодеванием. Не пристало младшему, хоть по званию, хоть по возрасту, задавать вопросы старшим, но не сдержался Диреев помощник:
– Вы что тут затеяли?! Небось, не на бал вас зовут…
– А вот как раз и на бал, – усмехнулся было капитан. Но тут же, соблюдая ранжир, гаркнул, как на верхней палубе:
– Молчать! Кругом – и вперед… ма-а-арш!
И помощник, молодцевато выпятив грудь, бодро зашагал. Он не смея больше и думать о том, почему же все-таки его хозяин надел свою лучшую тунику, расшитую руками сумерских мастериц, которую он купил, нещадно торгуясь, за баснословную цену – мешок раковин каури, и обновить собирался только в день свадьбы сына. Впрочем, представилось ему, это и к лучшему: взойдет сейчас капитан Дирей, такой представительный и великолепный в своей новой тунике, в этот галдящий закуток, таможню, из которой два выхода: или в рай Атлантиса, или же в загородку для отсылаемых по разным причинам обратно, – и все успокоятся. Чиновники – оттого, что вновь зауважают легкомысленного Дирея, а задержанные, – те просто напросто онемеют при виде чуда: капитана в образе – ни меньше, ни больше, как морского божества, принявшего облик их шумливого и простецкого хозяина в своих, одному ему известных, божественных целях.
И вот так с атлантами всегда, – думал помощник капитана, уроженец Расена, что в предместье Атлантиса, и сам расен, – только успеешь найти с кем-либо из них общий язык, понахвататься каких-никаких навыков, – глядишь, он и оказывает себя как истинный хозяин жизни, до которого тебе, хоть ты лоб расшиби, а не дотянуться. И поделом тебе, глупый ты человечишко. Знай свой шесток и не принижай бога, хоть бы он и был во временной опале…
Радмил, так звали проворного и сообразительного расена, вопреки своим самоуничижающим размышлениям, шагал бодро и даже весело. Словно заряд, наполнивший его молодцеватостью в капитанской каюте, продолжал действовать и даже возрастать, стоило ему отдать должное непревзойденным качествам своего кумира.
Пообещав себе больше никогда не умалять дистанцию между собой и своим богоподобным капитаном, Радмил вступил в помещение таможни. Он сразу же был огорошен яростным криком чиновника:
– Где этот твой?.. Чего ты его не притащил сюда? – Что он мне, докладывает, что ли? – легко поддался настроению разъяренного чиновника Радмил. – На аркане же не притащу его. Как ты думаешь, такого…
Он вовремя осекся. Что ж, человеки так забывчивы…
* * *
Судовой врач, зашедший в каюту Картлоза, видимо, даже не собирался к нему притрагиваться. Он стоял, причесанный и принарядившийся, готовый к сошествию на берег – приказ капитана, конечно, застал его в последний момент. Картлоз искоса взглянул на него, такого спокойного и безмятежного, и злость, поднявшаяся изнутри, заставила его сжать зубы: так красив и безупречно здоров был этот лекарь! Разве он в состоянии понять больного и посочувствовать ему!..
– А вы что же, хотели бы, чтобы все, окружающие вас, мучались вашей болью? – раздался вдруг голос молодого человека. – Неужели вам от этого было бы легче?
– Что вы тут выдумываете… Я ничего не говорил. Оставьте ваши домыслы…
Врач взялся за табурет, опрокинутый Картлозом в пароксизме боли:
– Позволите присесть? – спросил он.
Картлоз судорожно отвернулся и застонал сквозь стиснутые зубы. Врач осторожно поставил табурет на ножки, но не стал садиться. Задумчиво он проговорил:
– Вылечить вас будет непросто…
– Ну так лечите же!..
– Для начала вы должны успокоиться. Облегчение придет, не волнуйтесь, ждите его.
– У меня все внутри разрывается, а вы только и делаете, что беседуете… Ну и методы у вас, здешних!
– Что ж, у каждого – свои методы. Мы своими вполне довольны, но если вы не желаете воспользоваться ими, – ваша воля. Могу и уйти.
– Ну и убирайтесь к… У вас даже выругаться – и то нельзя! Хмерти! Куда я попал! Оставьте хоть чтонибудь обезболивающее… Питье, или пилюлю… Ну, надавите же, в конце концов, где надо, чтобы перестало болеть!
Врач, помедлив, достал из поясного кошеля приготовленное лекарство и молча положил его на маленький круглый столик возле лежанки, на которой больной, уже не в силах сдерживаться, катался с боку на бок.
– Вот, примите, – тихо сказал он и отошел снова к двери. – Как правило, мы лекарствами не пользуемся, но вам сейчас не поможет сам господь…
– Но почему?
– Потому, что вы сами этого не хотите.
– Я?..
– Именно. Потому я и держусь от вас на порядочной дистанции: немудро вас вылечить, а самому заболеть, ведь правда?
– Вот оно, ваше хваленое бессмертие! Можно прожить тысячу лет, если так дрожишь за свою шкуру!
– Вы ошибаетесь. Спорить я с вами не имею права, а говорю только потому, что должен вас предупредить кое о чем.
Картлоз и сам не заметил, как поднялся с лежанки. Оправляя за узкий кожаный с серебром пояс свою черную шерстяную рубаху, он проговорил, все еще сбиваясь на крик:
– Какая забота! И чему обязан?
– Рад, что вам лучше, – голос врача был неизменно ровен. – Теперь садитесь и выслушайте меня.
Машинально Картлоз сел. В удивлении от того, что не чувствует больше никакого страдания, только что отнимавшего у него самое желание жить, он ощупал руками свой бок, покрутился вправо-влево, выделывая конечностями замысловатые движения, доказывающие его полное выздоровление, пока наконец не свалился с неустойчивого табурета. Благо, что полы в его каюте были застланы пушистой обивкой, не только уничтожающей на себе пыль и мелкий мусор, но и амортизирующей при ходьбе или падении, как сейчас. Безличная сила мягко подняла его в воздух и поставила на ноги, – так, что самому горе-акробату осталось всего лишь выпрямиться.
Врач невозмутимо наблюдал за упражнениями своего пациента. Наконец он проговорил:
– Успокоились?.. Ваше самочувствие удовлетворяет вас?
– О, дорогой друг…
Врач неуловимо отклонился от объятий, которые должны были показать меру благодарности Картлоза, и голосом, не допускающим никакой фамильярности, начал:
– Вижу, что вы поняли основной принцип исцеления, который мы применяем. Не буду вдаваться в подробности, которые вас только утомят, но обязан сделать кое-какие разъяснения. Вы вступаете на территорию Атлантиды, и должны теперь постоянно соразмерять не только свои поступки или слова, – но и самые мысли с той атмосферой благожелательности, которой, вы скоро это почувствуете, напоена эта земля. Придется погасить в себе некоторые привычные вам, как представителю расы, приведшей материк к гибели, импульсы. Буду говорить прямо: это импульсы, обратные самому качеству энергий нашего острова и всех, кто живет на нем. Злоба и недоброжелательство в любых видах могут породить взрыв энергий, хотя бы на самом личном уровне. Вам понятно?
– В общем-то да, но насколько это относится именно ко мне, не знаю…
– Сейчас поймете. Удар, который вы получили – не преднамерен. Кто-то, чья энергия сильнее вашей, потому только, что более очищена (и тут и дальше я пользуюсь и буду пользоваться моральными категориями, вы понимаете?), отослал вам вашу же мысль. О качестве ее можете судить по той боли, которую вы испытывали недавно.
– Но, позвольте, со мной такого никогда не было. А ведь если это «моя мысль», как вы утверждаете, это означало бы, что я должен бы был испытывать нечто подобное все время, постоянно. Не так ли?
И Картлоз картинным жестом предложил врачу ответить. Тот невозмутимо продолжал свое:
– Собственные мысли никогда не мешают тому, от кого они исходят. Но, отторгнутые защитной сетью ауры, в которую они были посланы, эти мысли с удесятеренной силой несутся обратно, по закону бумеранга. О результатах не стоит говорить.
– Что же – допустим, что это все так и есть, – мне нельзя вообще ни с кем беседовать здесь? Может, посоветуете запереться в этой каюте и в страхе дожидаться, когда этот корабль отправится обратно?
– Язвительность в тоне Картлоза достигла предела, хотя он и пытался скрыть ее улыбкой.
– Ваше право поступать так или иначе.
– Вы что, серьезно?
– Более, чем вы думаете. Исцеление ваше, которому вы свидетель, – не навсегда, к сожалению. И не вините в этом никого, кроме себя.
– Опять какие-то загадки!
– Для того, чтобы эти «загадки» стали вам понятны, потребовалось бы много усилий с вашей стороны, не говоря о времени. Я пытаюсь вам объяснить хоть что-то лишь потому, что вы – происхождением из атлантов. Между прочим, не думал, что Знание утеряно вами в такой полноте. Конечно, может быть, высший клан, если он у вас сохранился, держит в тайне от общей массы основы бытия, – но зачем? Народ должен быть здоров в первую очередь, – и это не так уж трудно сделать…
Картлоз резко отвернулся от собеседника к окну. Его руки, сцепленные за спиной, яснее слов выдавали волнение своего владельца. Наконец он сказал голосом, неожиданно охрипшим и усталым:
– Вы правы. Мы забыли все. К чему вспоминать, что было, если сейчас мы вынуждены искать по миру секретов не то, что плавки металлов, – об этом вообще никто, кроме вас, не знает, – но даже того, как строить корабли. Правда, апсны, или абиссины, владеют этим ремеслом, но так они и живут на побережье моря.
– Но зачем вам корабли? В горах…
– Завоевать побережье – дело не такое уж хитрое. Если бы у нас был секрет плавки сверхметаллов для постройки летающих машин и… – Картлоз замолчал.
– Договаривайте же, – чуть заметная ирония прозвучала в невыразительном до того голосе атланта. – Для создания снарядов, способных устрашить своей взрывной силой этих несчастных человеков, на которых вы всегда вели охоту? Так ведь?
– Если и так, то – вы правильно заметили: для устрашения. Всего лишь для устрашения. Зачем напрасно проливать кровь и с одной, и с другой стороны, когда можно вполне мирным способом достичь соглашения. Слабый должен подчиниться более сильному. Разве вы не согласны с этим?
– Это уже не философия, – это отдает казуистикой. Разговор наш вышел за рамки приемлемого. Я всего лишь врач, пришедший к вам оказать помощь, – вы не забыли? Так же, как и предостережения в отношении ответного удара.
– Да-да, ответный удар – это реально. Так научите же конкретно: чтo и как мне надо делать, чтобы не подставлять себя под эти ужасные стрелы?
– Повторяться – не в наших правилах. Но на всякий случай – сохраните эту пилюлю, – врач кивнул на крохотный шарик в упаковке, – как я понимаю, она вам вскорости пригодится. Но – имейте в виду: это не панацея, это всего лишь мгновенно снимает боль, сама же болезнь остается и прогрессирует.
– Но меня интересует именно сама болезнь!
– Постарайтесь для начала успокоить себя, – голос врача потеплел, – и не думайте о самом себе слишком много. Знаете, чрезмерная забота о себе-драгоценном приводит только к тому, что сознание замыкается для принятия чего-то ценного из остального мира. А он превосходен, заверяю вас.
– А если думаешь не столько о себе, сколько о собственном городе? О его бедах?
– Как это ни странно, но это одно и то же: что о себе самом, что «только» о своем народе. Остальные вроде бы и не существуют, если следовать этому выбору. А если подумать и о них, других?
– Но ведь они, эти «остальные», они ведь так примитивны! Посмотрите на их быт хотя бы! Они ведь живут, как скот, и часто еще хуже, ибо заботятся о скоте больше, чем о своих нуждах! Вы что же, советуете им уподобиться? Забыть обо всех достижениях своих предков, забыть и не стараться восстановить традиции более высокие, неземные?
– Вы сами сказали: «мы забыли все»… И это ваше высокомерие, не будет ли оно возвращать вас снова и снова к изоляции космической, которая есть не что иное, как обязанность осознать свои ошибки?
– Хотите сказать слово «карма»? Что ж, мне знакомо оно. Не раз слышал. Но не считаю эту доктрину скольконибудь реальной. Извините, но это сказка, а жизнь обнажает все, что есть на самом деле: сущность каждой вещи.
– Наша беседа грозит превратиться в спор, а это бесцельная трата энергии, хотя бы потому, что время – тоже энергия.
– Однако, как же можно выяснить истину, если не в споре?
– Истину каждый должен находить сам, обратившись к себе.
– Извините, не понял, как это. Знаете, мне приходится все растолковывать, вы сами видите!
Терпение атланта было бесконечным или казалось таковым. Картлоз и не предполагал, что играет с огнем, слегка нервничая с этим непробиваемым лекарем, по привычке, которую уже и не осознавал. Так было принято в его среде: идти напролом везде, куда тебя пускают и не пускают, не считаться ни с какими чувствами и соображениями, если они не продвигают к цели. Однако сейчас он смутно начинал понимать, что эта стена – не равнодушия, но какого-то исконного, природного спокойствия – неодолима для него. Никакими наскоками и атаками невозможно было ее пробить. Тут нужен был другой ход…
– Все очень просто. Надо почаще думать. Обо всем, что окружает вас, что происходит. Только так приходит понимание многих вещей, которые казались вовсе вне разумения, – продолжал врач.
– Но… я ведь, кажется, думаю.
– Обычно, – это касается человеческого мышления, да не будет это для вас обидным, – думают как-то мельком: мелькнула мысль и пропала, извините за каламбур. Затем появилась другая – и тоже исчезла. А вот когда заставишь себя додумывать мысль, как бы она ни ускользала, тогда только можно начать овладевать умением мыслить. Таким способом открываются все запоры, все тайное.
– Ну, уж это вы перегнули, пожалуй!
– Попробуйте! Сами убедитесь.
– И насчет тайн тоже? Прямо-таки раз – и откроются?
– Конечно, не на «раз». Может, и не на счет «десять», – это уж, знаете, кто на что способен. На каком порядковом уровне находится его основание, и каков тот трамплин, который дает взлет сознанию.
Картлоз видел, что задерживает врача, но какая-то сила понуждала его еще и еще задавать вопросы, которые и самому ему казались глупыми, и тянуть время. Это было непонятно, потому что он заведомо знал: все зря, и вот так, походя, невозможно было бы ничего узнать, а тем более запомнить. Но могучая притягательность этого гиганта против его воли действовала как магнит, который Картлоз видел как-то в рулевой кабине у капитана…
– Вижу, что вы спешите, но не могу расстаться с вами, – вырвалось у него признание, – так необычно все, о чем вы говорите. Нельзя было бы нам продолжить беседу в другой раз? Мы, собственно, даже не познакомились, – видя, что атлант не торопится с ответом, Картлоз затараторил, стараясь сбить его с толку и подчинить своему желанию. – Я – Картлоз, купец из страны Картилии, прибыл сюда по приглашению уважаемого Гана, для торговых переговоров. Жалею безмерно, что не удосужился беседы с вами во время плавания, – что бы мне заболеть еще тогда? – и он засмеялся, довольный своей шуткой.
– То, что ни один из обитателей этого корабля не болел во все время плавания, – веско сказал врач, – большая похвала моей работе, и я благодарю вас за то, что вы ее отметили. Собственно этой работы никто не ощущал, ведь правда? – не дожидаясь ответа он продолжал чуть оживленнее, чем до того, и можно было понять, что работа – его основное увлечение, и даже больше – смысл всей деятельности. – Вот и хорошо. Если сообщество, доверенное врачу, посещают болезни, значит, он не в состоянии держать равновесие в нем, – в каждом его члене в отдельности и во всех вместе.
Врач помолчал, пристально глядя на Картлоза, от чего тому захотелось вдруг отвести глаза, и закончил:
– Вы же заболели, потому что я выключил защиту, как только корабль пристал к берегу: моя миссия на это плавание закончена.
– А могу ли я надеяться, что обратным рейсом встречусь с вами?
– К сожалению, не могу ответить определенно. Это зависит не от меня.
– Но предполагать-то вы можете?
– Предполагать – да, но не высказываться о своих предположениях.
– Вы меня совершенно очаровали. Подобного разговора у меня не было, пожалуй, за всю мою жизнь, – задумчиво сказал Картлоз и встрепенулся. – А как же мне найти вас? Ведь даже имени своего вы мне не подарили…
– Эсмон. Так меня зовут здесь.
– Мне знакомо ваше имя… Но не припоминаю…Здесь, – говорите вы, а там, – как вас зовут там, в мире нашем?
– О, по-разному. У нас, здешних обитателей, много имен во всех странах. В каждой – свое. Что ж, это и понятно: та Катастрофа, она ведь не только уничтожила общую для всех землю. Чуть ли не каждая семья, вынужденная пробиваться в новых местах в одиночку, образовывала сперва собственное наречие, а затем и свой язык…
– Кроме нашего, картилийского, – быстро вставил Картлоз. – Согласитесь, что он – основа всех языков.
Эсмон поморщился: у него дрогнул уголок губ.
– Опять вы за свое. Я решил уже, что вы достаточно осведомлены. Что же касается нашей возможной встречи, – ваш знакомый, Ган, знает, как меня найти.
И приподняв ладонь в знак расположения, Эсмон повернулся к двери лицом. Картлоз шевельнулся было, чтобы отворить ее перед гостем, оказавшимся столь необыкновенным, – он успел вспомнить, что Эсмон, Эшмун, Эскулап и многие, многие другие – это все имена божественного отпрыска, Бога, владеющего жизнью и смертью всех, совершающих круг рождения. Великий сын величайшего из величайших – бога Апплу, или Аполлона, удостоил его чести беседовать с ним. Картлоз только хотел сказать ему, что престарелый дядя его называл Аполлона в числе своих дальних родственников, но дверь открылась сама собой, пропустила Эсмона, как бы истаявшего мгновенно за нею, и мягко затворилась.
Картлоз с опозданием бухнулся на колени: он помнил, что так поступают те, кто почитает это святое семейство и желает выказать ему свое уничижение. Однако, по правде говоря, никакого особенного почитания Картлоз не испытывал. Встав с колен, он подошел вплотную к двери и сказал ей:
– А что я, хуже? Ну-ка, открывайся!
Но дверь, крепко прикрытая, бездействовала.
* * *
Сознание включилось сразу, едва он проснулся.
Да, как это было ни удивительно, но он спал! Крепко и без сновидений. Впервые за все время, проведенное на горе Мери, царь Родам заснул.
Впрочем, несколько дней без еды и сна ничего не значили для атланта, а тем более – готовившего свой организмк принятию высших энергий. Это было неспроста: информация, которую ему должен был передать Атлас, видимо, была такой напряженности, что его воспринимающий аппарат временно выключили, дабы оградить от сгорания. Все это было понятно и объяснимо: никто из внеземных руководителей не желал бы сожжения тела своего земного сотрудника посредством пожара его тонких энергетических центров. Ведь то, что с легкостью может выдержать огненное зерно в своих сферах, часто оборачивается гибелью для тела физического. Но иного пути нет. В том и состоит главная трудность, что для соединения с высшим огненный дух должен неминуемо пройти через плотную, земную оболочку, хоть она и неприспособленна к огню до времени.
Опасно нести в своем теле огонь. Для того чтобы он стал неопалимым, должно и само тело стать другим, как бы и неземным, огнеупорным в каждой своей клетке…
Не открывая глаз и не меняя положения, он для начала решил выяснить, где находится: от Атласа можно было ожидать всего самого неожиданного. Так и оказалось.
Вокруг было полностью замкнутое пространство. Не считая наглухо закупоренной двери в одной из стен, если это можно было зазвать стенами – никаких швов или стыков между ними. Это, без сомнения, был монолит, однако и не бетон. Камень, определил царь Родам, но камень не просто сложенный плитами, на что такие мастера были атланты. Нет, это было помещение, вырубленное в скале.
Выяснив это обстоятельство и отложив его на второй план, царь взглянул на себя. Он был совершенно невредим, чувствовал себя превосходно. Правда, как оказалось, он лежал в «позе зародыша» – на левом боку, соединив руки и притянув ноги, согнутые в коленях, к опущенной голове. Из инстинктивного ощущения он не стал шевелиться: надо было освоиться в новом месте, осмотреться по-настоящему, понять, что к чему, и лишь только потом можно было открываться; он не сомневался, что за ним наблюдают.
Итак, это была пещера. Но пещера искусственная. Он знал несколько таких мест, где спасались от дикарей жалкие потомки уцелевших атлантоидов. То были целые поселки, вырубленные в неприступных горах, на лицевой стороне отвесной скалы. Однако все они находились далеко от Посейдониса, на противолежащих материках, тогда как у царя Родама было ясное ощущение токов острова, где он родился.
С другой стороны, на Посейдонисе не было, насколько он знал, никаких пещер. То есть, конечно, они были, но эта, в которой он так неожиданно оказался, находилась на поверхности земли: луч царя, как радаром просматривая все кругом, неизменно находил воздух, воздушное пространство на каком-то расстоянии от каменных стен.
И снова царь отложил в сторону, как не готовый к разрешению, вопрос о том, где же он находится. В любом случае ему надо было беречь силы, а напрасные умствования могли бы сейчас только пережечь уйму энергии, так и не дав ответа, время для которого еще не наступило.
Он пошел по пути наилегчайшему – стал примерять свое нахождение к тем пещерам, о которых подумал было в первую очередь: достояние и великая тайна атлантов, государственные подземные склады и жилые помещения царской семьи. Это занятие было сейчас, по крайней мере, полезным в том смысле, что, осматривая подземелья, он одновременно с поисками собственного местонахождения делал как бы ревизию их состояния.
Дело было в том, что остров Посейдонис был в основании своем скалой колоссальных размеров, покрытом синекудрым богом, заботливым к своим чадам, землей, плодородной, тучной, которую прорезала широкая река, до того прямая и полноводная, что ее иноземцы считали за канал. Быть может, этому мнению способствовало то, что от этой реки (которую племена, жившие по ее течению, называли по-разному, искажая каждый на свой манер ее для всех единое имя «Сморода») исходили многочисленные, маленькие и побольше, канальчики, своей сетью покрывавшие в строгом порядке всю поверхность долины Э-неа вплоть до подножия гор. Сморода, Самород, Смарагд или Самара была поистине чудом этого острова, ибо была исторгнута из одного горного ущелья самим богом Посейдоном, прикоснувшимся к земле своим знаменитым, только ему присущим, трезубцем. Великий бог подарил своим подопечным не ручей, способный утолить их жажду и дать мимолетную прохладу, нет. Дар его был поистине божествен: из недр острова вырывалась могучая река, своим неторопливым движением к морю снабжавшая священной водой в избытке всех, кто в ней нуждался. Удивительное дело: Сморода оставалась такой же полноводной, от истоков до устья, даже тогда, когда атланты, искусные, как никто, мелиораторы, прорыли Большой обводной канал, не только напоивший предгорья, но и ожививший сообщение между селениями.
Атлантис слыл не меньшим чудом, чем река: этот поистине необыкновенный город был весь, начиная с верхнего яруса, где обитал царь и ближайшие из его семьи, и кончая пригородами, вольно раскинувшимися вокруг самых нижних из его стен, – построен из камня. Камень для зданий использовался самый разный. Верхний Город недаром по-другому назывался «Белым»: все его дворцы, включая и подсобные помещения, были из известняка, а Храм бога Посейдона потребовал на свою постройку неимоверное количество белоснежного, без единой инородной прожилки, мрамора.
И все это при том, что поверхность острова была на редкость ухоженной и благоустроенной. Ни плетра земли не расходовалось здесь впустую, вплоть до горных лесов, которые, впрочем, тоже шли в дело: стволы деревьев, строго отобранных по сорту и качеству, сплавлялись по Каналу и его сети в самые разные части острова. Так откуда же брался камень, столь разнообразный по цвету и структуре, что цвета белый, красный и черный, а в Нижнем городе и смешанный из всех трех, составляли как бы опознавательный знак Атлантиса?
Секрет был в том, что весь камень доставался изпод земли. Мало того, что чудом была поверхность Посейдониса, но чудом, которое невозможно было бы повторить кому-либо, была и обратная сторона его, вся покрытая сетью подземелий. Эти пустоты, образуемые с искусством, непостижимым для непосвященных, нисколько не нарушали главного во всяком строительстве – равновесия между силами притяжения и отталкивания, ибо являлись плодом точных расчетов гениальных инженеров.
Камень шел в дело, помещения оборудовались под самые различные нужды, и к этому времени, о котором идет повествование, осваивался уже пятый ярус – по направлению вниз – основания острова. Каждый занимался своим делом, и потому никто, казалось, и не замечал этих работ. Но и они, в свою очередь, производились как-то незаметно, буднично: с северной, скалистой стороны Посейдониса, непригодной для судоходства, через тоннели, наполненные сетью механизмов и приспособлений, камень подводился к поверхности, складывался на специально оборудованной площадке, вырубленной в довольно укромном месте, и тут же грузился на особые суда, ни к чему другому не приспособленные. Суда эти, обойдя Посейдонис, приставали к грузовым причалам Атлантиса, где и разгружались.
Вот на эти подземелья и нацелил свою мысль царь Родам. Раз отстранив, как невозможную, свою догадку о том, что находится внутри горы, в самой ее сердцевине, он все же, на всякий случай, искал сам себя в недрах Посейдониса.
Но не себя он там нашел. Он вдруг, сам не веря своим глазам, их особому видению, узрел какое-то, сперва непонятное им действо. Остановил же его внимание вид собственного советника Азрулы, который был облачен в какое-то странное одеяние. Строго говоря, это и одеянием-то нельзя было назвать: на советнике был огромный головной убор, состоящий из разноцветных перьев, лицо его было четко раскрашено знаками, цветом своим и содержанием нисколько не соответствующими истинному его духовному состоянию, а тело его укрывал короткий передник, оставлявший обнаженными его бедра и ягодицы.
Царский советник истово тянул руки вверх, а его поднятая к потолку голова без конца шевелила длинным, ярко намазанным чем-то темно-красным и блестящим, ртом. Этой же краской, и так же беспорядочно, даже неопрятно, был окрашен и подбородок его, и грудь, и кажущийся таким смешным передник. Царь, который и не стал бы останавливаться при виде своего советника – мало ли, по каким делам он находится здесь, – заинтересовался, прежде всего, необычностью всего здесь происходящего. Подивившись на наряд Азрулы, обычно в своей одежде чрезвычайно консервативного, он, уже чувствуя какое-то неосознанное пока беспокойство, обратился к окружающему советника пространству.
Невольно царь напрягся: вокруг этого новоявленного жреца, роль которого, без сомнения, играл Азрула, сгрудились одетые подобно ему мужчины. Лиц их царь особенно не разглядывал: так, приметил нескольких, однако его поразило их общее выражение: сумасшедшинка в глазах.
Но самое поразительное было еще впереди. Проследив за взглядами собравшихся, направленными в одну, казалось, точку, царь увидел то, что уже ожидал увидать.
На круглом валуне, поставленном на каменный же куб, лежало безвольно обмякшее, схваченное внизу за руки и ноги, тело обнаженного человека. Живот его, намеренно оказавшийся на самой вершине этой ужасной пирамиды, был туго натянут. Человек был еще жив, – ясно замечалась мелкая дрожь, волнами проходившая по этому, по всему видать, молодому телу.
Царь Родам вскочил с пола, где он лежал, намереваясь послать разряд в это скопище недоумков. Минута промедления – ему не хотелось уничтожать все в том кругу, а испепеляющая молния не знала разбора, – и он опоздал. Азрула опустил свои заломленные кверху руки, в одной из которых оказался широкий и острый ритуальный нож, сделанный из осколка вулканической смолы, которая тверже стали, и неуловимым движением вскрыл кожу жертвы.
Царь заставил себя досмотреть эту картину до конца. Он не отводил глаз, когда Азрула натренированным движением сунул руку в грудь человека, еще извивавшегося в агонии, и, деловито покопавшись там, начал тащить оттуда нечто, являвшееся, как было понятно, целью всего ритуала. Это нечто не поддавалось, – тканито молодые, эластичные, – как-то отстраненно подумал царь, – и Азруле пришлось погрузить во внутренности, изливающиеся кровью, и вторую свою руку. Помогая себе коленом, которым он заранее уперся в валун, наконец вырвал из груди сердце и, торжествуя, высоко поднял его над головой. Сердце еще билось и трепетало, и брызгало вокруг себя алой кровью, застывающей на лицах и телах всех, кто здесь присутствовал. В дикой радости они старались прикоснуться к нему, чудовищно обнаженному и такому крошечному в огромных окровавленных лапах Азрулы. Они кричали – а, может, даже пели: рты их разевались, непотребно искажая лица, – и, охваченные каким-то общим безумием, приплясывали, образовав круг, центром которого был каменный алтарь.
Царю стало понятно, что за «краска» так неэстетично покрывала лицо и все тело его советника: это жертвоприношение древнему богу недаром уничтоженной Атлантиды, видимо, было уже не первым на этой встрече. Как бы стараясь облегчить царю свое полное разоблачение, Азрула, яростно прокричав что-то в пространство над собою, вперил безумные глаза в кусок плоти в своих руках и – это был, очевидно, апофеоз всего этого действия, – зубами оторвал от него кусок, который (царь это ясно видел) украдкой выплюнул. Никто этого не заметил, потому что некому было наблюдать: всей гурьбой, однако соблюдая какую-то очередь, они, его – царя – приближенные, кинулись отхватывать свою долю.
Царь наблюдал: но нет – никто больше не выплевывал.
* * *
Все увиденное не обескуражило царя Родама. Знакомый не понаслышке с самыми низменными проявлениями человеческого разума, для которого у него было готово снисхождение ввиду его только-только начинавшегося развития, он, тем не менее, не ожидал застать своего советника и иже с ним за подобным действом. Они, считавшиеся всем миром атлантами, и уж, во всяком случае, приобщенные к этой культуре и ее истории, хорошо знали о преступности всякого рода кровавых жертв, их абсолютного неприятия Высшим Разумом. Это означало единственно то, что, внешне соблюдая все правила, дающие им нити власти над народом, эти царские помощники, кураки, истово поклонялись Абиссу и всем его темным божествам.
Что ж, каждый выбирает себе богов по внутреннему расположению, подумал царь Родам. Невозможно приказать кому-либо предаться Высшему, если все токи его существа настроены на прием только примитивных, низменных вибраций. Человек, живой аппарат космической связи, только еще находится в процессе налаживания своих систем, и ему, новичку в мире интеллекта, привычнее обращаться к земному и подземному, чем непонятному и далекому небесному. Но ведь эти, его кураки – они-то должны были уже миновать этот отрезок пути, когда неведение о причинах злых бедствий, которые никому не милы, может привести к приобщению себя именно ко злу, в самом физическом его понимании. Ведь они получили уже, хоть и не высокое, по собственному уровню, но посвящение в некоторые тайны Знания.
Нет, этого он не мог понять! Как, поднявшись хотя бы немного над болотом невежества, став на прочную плиту основания, можно было вдруг целиком, «с головкой» , погрузиться в такой мрак! Чем же так привлекательна эта, искаженная до неузнаваемости, идея жертвы богам, которые-де жаждут крови? Или не известно им, что боги, ненасытно требующие подобных даров, вовсе и не боги? Или ничему не научила ни атлантов, ни человеков та Катастрофа? А ведь одной из многих ее причин явилось преобладание в самом теле планеты энергий темных и разрушающих над другими, несущими ей саму возможность жизни. Именно тогда махровым цветом расцвела и насильственная магия, – чародейство, сознательно направляемое друг на друга. Эти посылки спаяли над планетой и ее обитателями черный купол настолько неразрушимый, что для его уничтожения потребовался огонь того взрыва…
Царь не любил вспоминать о прошедшем, настроения это не улучшало, а сил отнимало много. Однако в последнее время как-то получалось так, что он все чаще обращался мыслью к Катастрофе и ее причинам, будто неназойливо ведомый к какому-то, еще неясному, решению. Во всяком случае теперь он уже понимал, насколько неверно и идеализировано это общее в Атлантисе мнение, что Катастрофа, явившись, конечно, ужасным несчастьем, в то же время принесла и пространственное очищение: те, мол, кто остались в живых после нее, уцелели волею Неба потому, что были светлым исключением из общего темного потока. То, что он так неожиданно увидел сейчас, полностью опровергало это.
При всем владении собой царь почувствовал, что необходима разрядка. Примерившись, он начал кидать и швырять собственное тело на каменные стены, с безразличием опытного тренера возвращавшие его на место. Броски эти, явившиеся не чем иным, как виртуозно выполненными гимнастическими упражнениями, отвлекли его от дум, которым еще не пришло время определиться в решении.
Там, на вершине горы Мери, ему на третий день пришлось-таки одеться в теплый костюм, чтобы не тратить напрасно энергии на обогрев тела. Костюм этот, связанный из тонкой и пушистой шерсти альпаки, защищал тело и от холода, и от жары, ибо на вершине их перепады были очень значительны. Облегающий не только корпус, но и голову подобием шлема, костюм этот здесь, в этом каменном мешке, оказался очень кстати. И ушибов от яростной схватки с гранитными скалами было поменьше…
Да, царь Родам, полубог, при божественном сознании имел тело человека. Управляемое этим сознанием и бессмертное, оно оставалось уязвимым.
Между тем, время шло.
Если в начале своего ожидания на священной горе царь Родам нисколько об этом не беспокоился, даже после того нападания через царицу Тофану, временно лишившего его сил, то теперь, когда встреча с Атласом состоялась (хотя и не принесла внутреннего удовлетворения), он начал думать, что пора бы и домой.
Там, внизу, необходимо было навести порядок.
Атлас показал ему, что заговор Азрулы растекся довольно широко, и он знал теперь, где находятся главные очаги, которые надо погасить в первую очередь. И все же какая-то тень сомнения примешивалась к самой бесповоротности его решения: имеет ли он право, с точки зрения высшей морали, подавлять свободную волю того же Азрулы, к примеру, хотя и выражающуюся таким диким способом, как заговор? Не поставит ли он себя на одну доску с этими глупцами, ответив насилием на только еще готовящееся насилие?
Но тут же он остановил сам себя. Какое еще насилие над чужой волей! – подумалось ему, – насилия никакого не было с самого начала, Азрула сам выбрал для себя этот путь, путь обмана, многолетней двойной жизни, которая сама по себе в состоянии привести к полному духовному падению. И было бы из-за чего! Всего-то и навсего, что цель его многотрудной деятельности – власть. Хотя – не просто царствование в Атлантисе, но мировое господство…
Царь прервал эти размышления, которые могли привести к нерешительности более слабого. Он понял, откуда у него эти вдруг возникшие сомнения вокруг свободы воли: он соприкоснулся, чуть глубже, чем обычно, с внутренним миром Азрулы, тот сопротивлялся. Необходимо было, чтобы раз и навсегда обезопасить себя с этой стороны, решительно размежеваться от мысленной сферы своего советника. Царь Родам, собрав в единый пучок силу, велел ей изгнать из своего сознания чуждые ему влияния.
Легкая зевота показала ему, что все в порядке: ведь и нечистая сила – тоже сила, а потеря энергии, в любом ее качестве, вызывает упадок бодрости. Но изгнание темной энергии из глубин естества мгновенно освобождает его от тяжкого засилья, вызванного необходимостью бороться с вредным чужаком в себе. И, как только оно, изгнание, совершилось, организм возрождается, и восстанавливаются его естественные функции. Ибо жизненная мощь, кроме всех своих альтруистических целей, имеет в земном теле наиважнейшую, без которой не сможет существовать не только это тело, но и весь комплекс его невидимых двойников: в первую очередь энергией должно быть обеспечено, и в избытке, само физическое существо.
Царь Родам усмехнулся: кажется, как мало значит это слово – «избыток»! А ведь именно о нем забывают сейчас в первую очередь те, кто желал бы вершить мировые судьбы. Этот самый «избыток», и он один, дает ощущение силы, а значит и желание ею поделиться с другими, – отсюда и доброта могучих созданий. Он дает возможность творчества, в чем бы это ни выражалось. Многими качествами одаряет «избыток», но главное из них все же – приобщение, или причащение, причастие к высшим сферам пространственной мысли, что несет за собой прояснение сознания.
Казалось бы, чего проще: больше силы – больше и разума, вспомнил царь любимое выражение своего непутевого братца Фуфлона. Что ж, тот следовал одному ему известным путем: ублажал свою плоть не только едой, в утончении которой изощрялся, но и всякими дурманящими напитками. Добро бы сам, – так нет, собрал вокруг бражников, не разбирая сословий, и бродят они по миру, как бы собирая дань за обучение человеков виноделию.
Вот яркий пример того, к чему может привести утечка любого из божественных секретов! Фуфлон, царский сын, паче всех других таинств возлюбил питье амброзии, напитка, дарующего богам силы и бессмертие. Обманом он разузнал рецепт ее изготовления, но рецепт этот, естественно, был неполным: в каждую чашу амброзии следовало прибавлять каплю, единственную каплю нектара…
Забыл Фуфлон о том, что неравны пока в своих возможностях полубоги и человеки, и что амброзия, уравновешенная нектаром, в одних возбуждает круговращение небесной силы, но в других же, закрытых, как котел под паром, вызывает брожение и гниение своих низших элементов. Другими словами, напиток, возвышающий божественный разум, дающий бессмертие плоти, озаренной высшим сознанием, оказался для человеков подарком, который хуже самой смерти; он нес безумие, действуя на те же центры в мозгу, что и у атлантов, тогда как насильственное пробуждение неких точек в детски спящих отделах повело к деградации чуть ли не всей расы, с такими титаническими, поистине, усилиями взращенной на Земле.
Да, с Фуфлоном тоже придется что-то делать, иначе он всех человеков заставит снова стать на четвереньки…
Так что сила – силе рознь. И царь Родам, размышляя над необходимостью избытка жизненной силы, конечно, имел в виду ее аспект, направляемый на возвышенное. Усиленный в себе до предела только он и может уравновесить собственную противоположность – низменную, неорганизованную и неразумную сторону всякого проявления.
Ну вот! Мало того, что вся Земля находится в опасном состоянии возмущения своих токов, что собственные помощники, на которых, казалось, только и можно опереться, оказываются ярыми врагами, еще и в своей семье такое неблагополучие! И за что, спрашивается, браться в первую очередь?..
В который раз он сознательно отогнал от себя образ Тофаны. Ни разу, с того самого случая, он не дал себе воли и не разрешил сознанию, освобожденному силой Гермеса от власти царицы, вновь впустить ее в себя полноправной владелицей. Он не анализировал своих побуждений, он просто оставлял все как оно есть до поры, когда сможет заняться этим, не ослабляя себя.
Ибо, снова подумалось ему, силы надо беречь.
Промозглый холод начинал проникать и сквозь теплую шерсть альпаки. Пришлось включить собственный, пока что легкий, обогрев.
Нетерпения не было вовсе: царь Родам знал, что все идет так, как оно должно идти. Что-то ему показывают, но что-то он и сам должен проделать, дабы доказать свою пригодность к тому, к чему его готовят. А о том, что все это – полоса испытаний, всегда предстоящая очередному заданию, говорило сердце, никогда не ошибавшееся в таких случаях. Сейчас оно билось хоть и спокойно, но в двойном ритме: непосредственный ритм самой мышцы был силен и ровен, тогда как пульс внутреннего общения с высшим проводником был быстр и почти неуловим, сливаясь в гулкую нить ясно ощущаемого напряжения.
Царь отметил это, потянулся длинной потяжкой, окончательно освобождая свои каналы от постороннего присутствия, и легко заснул, улегшись на этот раз на другой бок и подложив, как это делают малые дети, сложенные ладони под щеку.
Он действительно спал, и лицо его, освещенное собственным же светом, обрело выражение наивное и восторженное одновременно: он видел сон, которого долго ждал…
* * *
Хитро, дочь советника Азрулы, готовилась к свадьбе. Таково было отцовское повеление, и хоть высказано оно было в форме предложения, Хитро знала, что возражать бесполезно: отец во всем, что касалось внешнего соблюдения традиций и ритуалов, был до смешного непреклонен.
Каждое утро он заходил к ней, под самую крышу дворца, где она, когда пришло время ей жить отдельно от родителей, облюбовала себе верхний этаж, и справлялся о том, как идут дела. Несколько месяцев все повторялось с монотонностью механизма, – отец целовал ее в лоб, потом любовался ею, подведя к высокому окну (Хитро казалось в последнее время, что он не столько ею любуется, как сам утверждает, сколько разглядывает), после чего начинал дотошно выспрашивать о всяких мелочах: достаточно ли тонко льняное полотно, что привезли накануне эти мошенники-поставщики, или его надо вернуть им обратно; довольна ли она девушками-вышивальщицами, готовящими ее постельное белье, и не надо ли привезти их во дворец, чтобы они работали под присмотром; вся ли посуда ею закуплена, и почему она предпочитает золото серебру? Хитро отвечала неизменно тихо и спокойно, но чувствовала, что отец остается недоволен краткостью ее речи. Ему, так много ожидавшего от брачного союза своей дочери с главой восходящего, как он считал, клана Туров, хотелось блеснуть перед будущим зятем и его родней всем блеском своего рода, близкого к царскому, – но, в то же время, не слишком расточительствуя.
Хитро, сначала сама того не замечая, начала понемногу тянуть с подготовкой приданого. Внешне уступчивая и покладистая, она с удивлением ощущала внутри себя какое-то стойкое противодействие. Сперва это относилось к тому, чтобы отстоять свою независимость хотя бы в мелочах, – отец входил в такие подробности ее приданого, что ей порой хотелось спросить у него: чья же, собственно, свадьба готовится, ее или его, советника царского. Но потом, дальше – больше, все сильнее начала давать себя знать глухая стена непонимания, предвестница раздражения…
Сегодня, однако, отец был настроен решительно. Хитро это поняла, едва только он появился в ее гостиной: маленький, по меркам атлантов, но крепко сколоченный, в длинной тоге, отороченной пурпуровой полосой, с тщательно причесанными волосами, частыми волнами спадавшими за спину, – он совсем не отвечал тем признакам величия, которые сами говорят за себя. Но внутренняя сила, действующая чаще всего на подавление, подчинение любого проявления чужой воли, сквозила во всем его облике. Особенно поражали его глаза: голубые, как у дочери, они, тем не менее, совершенно отличались от прекрасных, лучистых глаз Хитро своим выражением. Любители расследования форм наследственности физической стали бы в тупик в этом случае – глаза, строением совершенно идентичные, одинаковые даже в разрезе, напоминающем два всплеска голубого пламени, длинным изгибом осветившие обе стороны лица, – эти глаза различались ни чем иным, как выражением. Взгляд Азрулы был затаенно агрессивным, и временами эта агрессивность прорывалась наружу как бы яркими клинками, способными пронзить свою жертву, – и это не было преувеличением или красивой метафорой. За спиной Азрулы тайно ходил слух о смертельности его взгляда, подтвержденный многими случаями, – правда, все больше из числа человеков.
Что же касается взора Хитро – тут невозможно было бы обойтись обыденными словами. Говорили, что сам покровитель и глава всех поэтов, Алплу, не однажды слагал в их честь вирши непревзойденной красоты…
Телохранитель распахнул перед советником дверь, и он движением одного лишь пальца приказал прислужницам удалиться. Ни слова не говоря, подошел он к дочери, онемевшей в каком-то неясном предчувствии, и запечатлел свой, ставший обязательным, поцелуй на ее белом и чистом лбу. Она продолжала сидеть, не в силах двинуться и даже открыть глаза, опаленные видом его ауры. Все так же молча, несколько отстранившись, он стоял над дочерью, жадно разглядывая ее лицо, чуть тронутое бледностью, эти чудные волосы цвета старого золота, мелкими и частыми завитками обрамлявшие его овал, немного заостренный книзу; неожиданные на нежном лбу широкие брови, светлые и блестящие, будто приклеенные тщательно по одному волоску. Тонко и четко очерченный нос, начинающийся как бы со лба, – не его черта, в который раз констатировал он, нисколько, впрочем, не сожалея об этом. Потому что форма его носа, будучи перенесена на это нежное лицо, была бы здесь не к месту: нос у советника был, мягко выражаясь, похож на клюв орла, только чуть мясистее.
Взгляд Азрулы остановился на массивной подвеске из нефрита, окаймленного тонкими и ажурными узорами золота. Опять золото! Чего он никак не мог добиться от обычно покорной Хитро, так это любви к серебру. Серебро – металл его рода, а к тому же теперь, когда он, пока еще скрытно, возводит новый культ, именно серебро должно помочь ему в этом, ибо является самим светом богини Уни, чье прекрасное тело одето в белоснежные крылья голубей…
Сладостная дрожь пронизала тело советника, но он вновь сосредоточился на созерцании лица Хитро. Этот ритуал, непонятный и тягостный – он видел это, – для его дочери, давно уже был необходим самому Азруле. Таинственная сила мягким и животворным потоком вливалась в него через это каждодневное действо, как бы омывая собой все его существо. Полным сил и уверенности после этого визита отправлялся Азрула вершить дела, которые равно почитал за свои, – государственные ли, общемировые ли. Ведь теперь, в отсутствие царя Родама, которое, даст великий Баал, продлится вечность, в компетенцию советника входили даже такие. Он не беспокоился о том, что останется без этой энергетической подпитки, когда Хитро уйдет из его дома, выйдя замуж, – связь родственная давала ему возможность «входа» к дочери в любое время, без доклада, как говорится.
Да, советник Азрула пользовался энергией других. Во всех остальных случаях это носило спонтанный характер, – он снимал излишки ее со всех, кто их имел. Но никто не мог сравниться по чистоте и силе излучения с его дочерью! Он верил, что действует не во вред своей обожаемой и ненаглядной красавице-дочке: она-то уж, в отличие от него самого, имела доступ к неиссякаемому Источнику… Однако сегодня Азрула пришел сюда не только за этим. Накануне он имел не очень приятный разговор со своим будущим сватом, отцом жениха. И тот, хоть и улыбаясь и заискивая (по своей родовой неприятной привычке), но сделал уважаемому и бесценному советнику прозрачный намек о том, что пора бы и завершить намеченное свадебкой. Дело, мол, протянулось уже сверх всяких сроков, и, если он-де, Азрула, гнушается ими, то можно ведь и разойтись мирненько. Невест вокруг много…
Вечером, вспоминая этот разговор, Азрула сам себе удивлялся: грозный для всех, он не терпел никакого умаления собственного достоинства. А тут – что значит интерес не личный, а во исполнение воли владеющей им богини! – ему даже в голову не пришло поставить на место этого выскочку, отца торгаша, как бы он сам себя ни называл. Надо – и все тут. Надо не ему, советнику Азруле, но матери Уни, и этим все сказано. Объединение кланов должно совершиться, символизируя этим будущее мировое владычество его самого, Азрулы! Племя Туров очень сильно, и все более распространяется по земле. С его помощью он охватит своим влиянием все беспредельные территории, открывающиеся для жизни с таянием вековечных ледников, там, на Востоке.
Что перед этим величием всего лишь одна судьба, хотя бы это и была судьба его единственной дочери! Азрула был полон решимости перешагнуть через все преграды.
Наконец он оставил руку Хитро, которую крепко сжимал на протяжении всего времени, пока разглядывал ее. Сев на высокий резной стул, как раз напротив дочери, он нетерпеливо прочистил горло, звук этот должен был дать понять ей, что отец желает с ней говорить.
Но Хитро, как это было ни странно, не открывала глаз. Отец застал ее за считыванием утренних новостей – информации, регулярно передаваемой в пространство специальным Агентством, собирающим ее, как пчелы мед, с общего ментального поля. Хитро старалась не пропускать этих известий, инстинктивно тренируя свой пространственный приемник мыслей. Она знала, что большинство атлантов с готовностью восприняли новое изобретение: знаки, запечатлеваемые на какойлибо поверхности, и, в сущности, повторявшие то, что можно было при некотором упражнении восстановить в себе многим – чтение мыслей в пространстве. Но сама не желала прибегать к этому нововведению, предпочитая оставаться одной из немногих, причастных к первоисточнику.
Новости… Сегодня не было ничего интересного. И, главное – ничего о царе Родаме. Это было очень странно: царь, божественная личность, – и вдруг как в воду канул! Никто ничего не знает о нем. Даже отец, который обязан быть в курсе всего происходящего именно с царем, – и он молчит. Скорее всего, не знает, в чем дело, – определила Хитро сразу, как только обратилась к нему с этим вопросом. Ее пространственные поиски также ни к чему не привели: облик Родама был закрыт от нее, как и ото всех на Земле, ярко-голубым пятном, сверкающим редкими золотистыми искрами, – знак того, что царь жив, и беспокоиться о нем не надо. Однако беспокойство у Хитро было.
Не открывая глаз, она увидала отца, теперь уже сидящего перед ней. Надо было отрешиться от своего состояния, но странная истома одолела ее. Она знала, что отец спешит, и была благодарна ему за то, что он не слишком торопит ее с «пробуждением». Уже не раз Хитро замечала за собой эти необычные приступы слабости, хотя и не связывала их с посещением отца. Но сегодня она вдруг ощутила, что именно от отца исходит какой-то тягостный напор, лишающий ее сил и самого желания действовать.
Подозревать отца в чем бы то ни было она не имела права, таков был непререкаемый закон. Она и не подозревала. Ей просто захотелось вдруг посмотреть на него под другим углом зрения, как на постороннего: все ли в порядке с его энергетикой, не вкралась ли какая чуждая сила, затемнившая, не дай Единый, какой-либо из внутренних каналов или хотя бы точку. Обычно в таких случаях все сводилось к направленному излучению с ее стороны, и гармония восстанавливалась. Но необходимо было одно условие: согласие на это самого возможного пациента. Ибо взгляд со стороны на внутреннюю сущность другого означат самовольное вмешательство в состояние этой сущности, подвластной лишь самой себе, своей свободной воле. Это грозило тяжкими карами, и прежде всего – ответным ударом, действующим автоматически.
Хитро удалось превозмочь себя, свое апатичное состояние, когда не было желания даже пальцем пошевелить. Усилие было сделано, и – о ужас!
Хитро невольно открыла глаза, стараясь высмотреть на плотном, видимом теле отца то, что открылось ее ясновидению в его эфирной оболочке. Однако перед нею сидел, несколько скованно улыбаясь, именно ее отец, всеми почитаемый советник Азрула, в безупречной тоге и даже с лавровым венком на голове, долженствующим отгонять низменные силы. Хитро очень хотелось перепроверить свое открытие, но для этого надо было бы снова закрыть глаза или, по крайней мере, отрешиться от земной видимости. Однако Азрула не позволил ей уйти в себя:
– Дочка, дочка! Не слишком ли много времени и сил ты уделяешь миру иному? Не забывай, что мы живем на земле, и что наша задача – улучшать именно земную жизнь своим присутствием на ней. Ты же, я смотрю, постоянно витаешь где-то в облаках, отдавая им все свои силы…
– О нет, дорогой отец! Дело как раз в обратном: я начала отчего-то терять силы, как ты правильно заметил, но теряю я их здесь, на земле. И, обращаясь в «те» сферы, – Хитро слегка приподняла кисть руки – я прямо-таки возрождаюсь. Слава Единому, который дает мне эту возможность!
– Ты меня обеспокоила, дочь моя. Может быть, обратимся к жрецам? – видя, что Хитро отрицательно мотнула головой, он примирительно добавил:
– Не хочешь, – не надо. Не знаю, право слово, откуда у тебя эта нелюбовь к жрецам…
– Отвращение, – это было бы вернее сказать.
– Ты меня пугаешь. Как же ты собираешься вести себя на брачной церемонии? А ведь здесь, как и во многом другом, без жрецов не обойдешься!
– Ну, это еще далеко, отец. Успеем поговорить и об этом.
Азрула поднялся и, сложив руки за спиной, прошел к окну. Отчего-то ему стал непереносим пристальный взгляд дочери, как бы растворявший все его тайные покровы. Стараясь избежать его, он начал не спеша прохаживаться по большому круглому покою Хитро, занимавшему верхушку угловой башни, разглядывая то вид из какого-либо окна (их здесь было четыре, по числу сторон света видимого аспекта Земли), то драгоценную безделушку, коих его дочь была любительница. Решительный настрой, с которым он явился сюда, к его сожалению, значительно сник, и советник всеми силами старался восстановить его в себе, опасаясь потерять влияние на дочь. Тщательно избегая встречи с ее взглядом, поворачиваясь к ней то спиной, то боком – лишь бы не открывать наиболее уязвимую лицевую сторону, – он начал самую трудную часть разговора:
– Нет, моя дочь, срок настал.
Он почувствовал, что она напряглась, но упорно продолжал, как бы огромным катком уминая под себя все проявления любви и жалости к этому, единственно близкому, созданию.
– Ты дала слово. Более того, за него, твое слово, поручился я своей властью и самой жизнью. Но вот я вижу, что ты не думаешь его исполнять.
Молчание Хитро было непонятным. Азрула. повернув к солнцу чашу из светлого изумруда, делал вид, что пытается прочесть какие-то значки, вырезанные на ее изножии, и вслушивался в тишину, пытаясь уловить хотя бы дыхание дочери. Наконец он не выдержал:
– Отвечай же! – он постарался сказать это как можно тверже, но голос его сорвался.
Наконец тихие слова прошелестели, но Азрула не понял, были ли они сказаны, или же, давно ожидаемые, явились в его сознании сами собой:
– Ты прав, я не буду женой Гана.
Изумрудная чаша, с силой припечатанная советником к металлическому треножнику, на котором было ее место, дала трещину от низа доверху. Он не обратил на это внимания, хотя какой-то край его сознания отметил плохое предзнаменование, пытаясь овладеть собой. Сейчас это было главным, ибо духовная сила Хитро превосходила его собственную, это не было для него новостью, и выстоять перед ней, не поддаться ее обволакивающему влиянию, а затем и пересилить, было задачей не из легких. Он теснил сопротивление дочери всей своей мощью, почерпнутой недавно из глубин ее же существа, но его напряжение вылилось в глухую ярость, вместо желаемого и необходимого сейчас равновесия.
– Ты понимаешь, что говоришь? – с угрозой спросил он.
Но Хитро быта уже вне досягаемости для него. После того, как ей удалось взглянуть на сокрытую глубоко под многочисленными внешними личинами истинную сущность своего отца, за что она не забыла послать мысленную благодарность невидимым покровителям, ей оставалось вести с ним только тонкую двойную игру. Одной ей это было бы не под силу, но ведь она была не одна!..
Встрепенувшись, Хитро с деланной укоризной воскликнула:
– Ах, как ты неловок, отец! Эта чаша! Мне она досталась с таким трудом! Что же теперь с ней делать?
Ей удалось сбить отца с толку, но ненадолго, она знала. Однако и небольшая передышка, и та стоила многого. Азрула озадаченно поглядел на испорченную чашу, потом – на дочь, и чуть оттаял.
– Ну-ну, – проворчал он, – большое дело! Куплю тебе новую такую же. Вон, сегодня корабль прибыл с Востока. Небось, завален разными штучками почище этой!
– Ты не понимаешь! – Хитро продолжала капризничать. – Эта чаша – из того города, который строит Гермес т а м. Потому она особенная: излучения того места священны! Да и эти письмена, – она живо вскочила и подбежала к отцу, стараясь быть к нему ближе, – видишь эти значки? Это все Гермес. Он придумал их, чтобы облегчить передачу информации. Не все же, как мы, могут воспринимать ее прямо. А тут…
– Хватит! – Азрула отскочил от дочери и, усевшись в резное деревянное кресло, указал ей на такое же, но в противоположном углу покоя. – Садись и слушай меня!
Неохотно, прижав к груди разбитую чашу, Хитро подчинилась. В уме ее уже был готов план действий, подсказанный ей невидимым советчиком.
– Да, отец, – всхлипнула она, – я тебя слушаю…
– Ты – что же, – сдерживаемая ярость придавала голосу Азрулы какой-то даже присвист, – думаешь, что я ничего не замечаю? Что ты одна такая чувствительная, – ах, не притронься к тебе, – а другие, собственный отец, к примеру, ничего не ощущают? Кроме того, что воочию перед ними? – Должен тебя разочаровать! Да! Все твои ухищрения – у меня как на ладони! Только, по мягкости своей, не желал давить на тебя! Но всему свой предел, моя дорогая!
– Как ты разговариваешь со мной, отец! Разве я этого заслужила?
– Ты заслужила еще и не того! Ты что, с ума сошла что ли, если не желаешь понять, что иного выхода нет?
– Так не бывает. Расскажи мне все, – и я укажу тебе, как надо поступить.
– Вот оно что! Ты хочешь, чтобы я, занимающий сейчас чуть ли не первое место в Атлантисе, я, перед которым открываются пути во весь внешний мир, опорочил теперь свое имя твоим непонятным отказом Гану? Я не скрывал от тебя, что значит для меня лично твой будущий брак: это бразды правления над тем, новым народом, вдруг невесть откуда взявшимся и набирающим силу день ото дня…
– Но какой же это «новый народ»? Это ведь потомки Туров, славного нашего атлантского племени.
– Видишь, ты признаешь величие Туров, – а не желаешь идти замуж за одного из них, да еще ближайшего нам?
– О, это разные вещи, отец. Туры – те, которым было дано спастись в Катастрофе, – не имеют ничего общего с родом этого торговца, Гана. Те, которым предстоит очистить свою натуру от кровожадности, идущей от вливания в их кровь слишком большого количества низменных элементов, они еще могут возродиться. Но эти… – Она запнулась, жалея, что и так сказала много лишнего, – в общем, я не могу быть женой Гана. Именно его. И, какие бы твои интересы здесь не затрагивались, я не вижу непреодолимой стены перед их исполнением. Только – по-другому. Мы все решим вместе, отец! Доверься мне. Я уже сейчас знаю, как можно наладить отношения с восточными Турами. И вовсе для этого не нужна эта глупая свадьба!
– Но – слово?!
– И здесь нет ничего особенного. В обычаях брачных нет ничего такого, что запрещало бы возврат слова, если невеста или жених раздумали. Я специально интересовалась этим, отец, просматривала весь брачный кодекс, жаль, что ты не можешь им воспользоваться… Там ясно сказано: при расторжении помолвки – а у нас ведь никакой помолвки так и не было! – следует-де вернуть подарок, сделанный женихом. И только-то! Сложнее жениху, если он задумает отказаться от невесты, ему надо платить откуп, который ему назначит судья…
– Ты смеешься надо мной! Причем тут подарок! Да, официальной помолвки не было, – ты все уклонялась. Теперь я понимаю: эти все приступы то внезапной болезни, которой не существовало никогда, или ссылки на астрологические сроки, препятствующие оглашению, – вce это приемы, достойные Фуфлона, твоего дядюшки, но никак не тебя, наследницы высокого рода…
– Вот мы и пришли к тому, с чего надо было начинать, – мягко остановила его Хитро. – Высокого рода, говоришь? Достойные дядюшки Фуфлона, мои поступки?.. Но как же быть тогда с тем, что Ган, по всем жреческим канонам, не ровня мне, имеющей, со стороны матери, прямое отношение к царскому роду?
Говоря это, Хитро поднялась, отставив в сторону свою чашу, и стояла теперь перед советником Азрулой, высокая, более чем на голову выше его, красивая и спокойная. Отбросив, когда пришел момент, маску послушания, она теперь смотрела на отца без обычной улыбки, улыбки, без которой он не мог себе представить свою дочь, покорную его воле всегда и во всем. Он внезапно понял, что случилось нечто ужасное, уничтожившее его власть над нею. Исполнились слова, произнесенные ее матерью перед тем, как уйти из жизни. «Не казни дочь так, как ты казнил меня, – произнесла она замирающим голосом, и на все его расспросы сумела добавить лишь: – она иного рода».
Целый вихрь смятенных чувств поднялся в душе советника, усиленный еще и тем, что, не имея доступа к закрывшейся для него аурe дочери, он обращался вновь на него самого. Глаза его, и без того тяжело набрякшие, вдруг налились кровью, а левая сторона лица задергалась в мимолетном тике. Но Хитро продолжала:
– Ты хорошо знаешь, как должны сохраняться нами заповеди чистоты крови. Потому и нет позволения царю и всем его близким жениться на ком-либо, кто вне царского рода, чтобы иметь возможность донести божественную искру, дарованную им, царям, в неприкосновенности…
– О чем ты говоришь, ты, моя дочь?! Ты желаешь унизить собственного отца? И ты думаешь, что боги похвалят тебя за это? Да, я давно понял, какой ошибкой было с моей стороны добиваться женитьбы на твоей матери. Я думал, что незначительная примесь человеческой крови – вполне достойной, кстати, крови атлантских картилинов – не имеет значения в такой длинной, как в моем роду, череде атлантов. Но постоянные напоминания об этом твоей матери! Она начала избегать меня, отталкивать сразу же после свадьбы…
– Как я ее понимаю… – вырвалось у Хитро.
– Еще бы! Чистая кровь! – издевка послышалась в тоне Азрулы, потерявшего над собой контроль. – А о том забыли вы обе, что ваш муж и отец – человек! Да, человек, как бы вы ни стыдились этого! А раз это так, то и ты сама – тоже человеческий отпрыск. Так-то, милая! – и он с какой-то злой радостью схватил Хитро за руку, стараясь заглянуть ей в глаза, чтобы уловить в них признаки страдания и насладиться ими.
Но Хитро высвободила свою руку от цепкой хватки отца и, слегка потирая ее, ответила:
– Ты ошибаешься! Я всю жизнь звала тебя отцом, ибо таков обычай, и таково было веление матери. Даю слово, что и в дальнейшем я бы нисколько не отступила от материнского завета, если бы не твоя угроза насильственного брака.
– Это не простая угроза! Ты будешь женой Гана, даже если для этого мне и придется тебя лишить сознания! Не толкай меня на это!
– Своими словами ты облегчил мне признание… Но прежде скажи мне: ты помнишь то мое условие, при котором я согласилась идти за Гана?
– Ты столько крутила вокруг этого брака, что я не знаю уже, о каком именно условии ты говоришь. Да и о каких условиях может идти речь, если ты сама нарушаешь главное, свое слово, данное Гану!
– Но ты все же ответь: помнишь ли ты, что в нашем разговоре с тобой я попросила тебя об особенном условии, которое не представляет ничего незаконного, напротив…
– Ну, говори же!
– Мне и в тот раз было непросто сказать тебе эту вещь. Тем более, сейчас. Но ты играешь в непонимание, – что ж, ладно. Я просила, чтобы в случае нашего с Ганом брака ко мне был применен закон, дающий царю в своем царстве право первой ночи с новобрачной…
– И это говоришь ты, высокообразованная и не менее высокородная девица! Пристало ли тебе вытаскивать на свет какие-то архаические суеверия! Ты бы еще к «черной старухе» обратилась!
– Это не суеверие, и ты сам недавно вспоминал о нашей общей задаче на земле – улучшать жизнь на ней. Ты вынуждаешь меня напомнить тебе, что закон «первой ночи» – как раз и составляет основание этого самого улучшения. Более того, исполнением его улучшается и возвышается сама порода человеческая. Ты что ли забыл, недаром все первенцы пользуются преимуществом в правах! Но что об этом много говорить: ответь мне, помнишь ли ту мою просьбу?
– Ну, помню, – нехотя признался Азрула, – но счел ее несерьезной, по правде говоря. Думал, что ты и сама скоро забудешь о ней.
– Значит, ты не выполнил моего главного условия и единственного. А оно открывало хоть какой-то просвет для меня в этом противоестественном браке.
– Ты что, – голос Азрулы даже пресекся от невозможности собственного предположения, – влюблена в… царя?
– Дело не в этом, – уклонилась Хитро от прямого ответа, – а в том, что своего первого и, будь уверен, единственного ребенка я могла бы заиметь только от него.
– Это почему же? Не потому ли, что надеешься придать ему немного царственности? Да пойми же – я повторяю тебе, – капля крови человеческой уже мутит всю картину. Забудь о своих претензиях на царственность. Мы, хоть и с подпорченной кровью, но все же атланты. И выше всех человеков, что бы я тебе тут ни говорил до этого. Это – очень много, поверь мне. Не могут все атланты исходить из одной семьи, – вон, теперь выясняется, что браки внутри одной семьи ведут к вырождению рода.
– Это все домыслы тех, кто не знает сути, – невежд. И уж, во всяком случае, царской семьи это не может касаться: особые компоненты, присущие этой крови, превозмогают любые земные противодействия. Потому и не передаются они человекам, что могут проявляться только в сочетании с себе подобными качествами.
– Так передаются они человекам или нет? Что ты путаешь?
– Ты прекрасно знаешь, что – нет. Передается остальное: физическое и умственное совершенство, стремление и тяга к чему-то возвышенному, постепенно определяющаяся. Но божественное присутствие в крови – удел немногих.
– Тем более непонятно, почему ты так стремишься к царскому ложу? Если твой ребенок в любом случае уже не может быть полноценным атлантом?
– Давай откроем все карты. Мы оба знаем это, но ты не желаешь сказать открыто обо всем.
Глаза Азрулы закрылись, – он не в состоянии был пережить то, что собиралась выговорить Хитро.
– Не надо, – прошептал он. – Это горечь и боль всей моей жизни. Не растравляй ее. Мы не сможем и дальше чувствовать себя близкими и любящими, если ты произнесешь это вслух.
Но Хитро больше не знала колебаний. Ведомая чемто большим, чем признательность к человеку, который был рядом с ней всю ее жизнь, и осознавшая разом, в совершенной целостности, цепь причин и следствий, двигавших этим человеком и многими другими, связанными с ним различными узами, она шла напрямик. Настал именно тот «миг истины», который зависит от чего-то большего, чем простое желание или нежелание отдельной личности. Истина, великая и непререкаемая, должна быть выявлена, когда к этому приводят множественные невидимые нити, которые ее стараются растворить в ничто, и которые, тем не менее, неизбежно сами и способствуют восстановлению ее.
– А разве ты сам не разрушил эту близость? Пусть не любовь, которой никогда не было с твоей стороны, моя бы в ответ не замедлила… – Хитро чуть помолчала. – Ты знаешь об этом, Азрула, и знал еще прежде, чем это стало известно мне: я – не твоя дочь. Права «царской первой ночи», как и я, в свое время потребовала от тебя моя мать. Тогда ты это условие выполнил, и тайна была соблюдена.
– Нет, она нарушила слово, сказав обо всем тебе! – вскричал советник.
– Не прежде, чем ты многократно предавал ее… Моя мать стала твоей жертвой, и теперь она, и никто другой, подсказала мне причину твоей «заботы» обо мне!
– Ты сомневаешься в моей искренности, когда я говорил, что люблю тебя? Или я давал тебе повод быть недовольной моим отношением к тебе?
– О нет. Ты не мог бы поступать иначе – ведь я тогда закрыла бы свое сердце от тебя. А так, открытое, оно оставалось для тебя источником той силы, которую ни ты, ни твои друзья – она усмехнулась – не можете почерпнуть ниоткуда. Ты рассчитывал, что и в этом браке я стану кормушкой, бездонным колодцем, откуда вы все хлебали бы, пользуясь моей бессловесностью. Вы знали, что не в моих принципах отвергать кого-то, кто нуждается больше, чем я.
– Ну, так что же?.. Ты права, я действительно нуждаюсь в твоей помощи! Мои обязанности настолько опустошают меня, что только твоя поддержка, да еще то, что я постоянно нахожусь в кругу атлантов, только это и держит меня еще на плаву. Неужели ты забудешь все и откажешься от меня? – Азрула, говоря это, все больше приближался к Хитро, и странный блеск зажегся в его глазах, так похожих на ее.
Его слова, казалось, подействовали на добросердечную Хитро. Он остановился близко от нее, так близко, что смог взять ее за руки. Холодящий ток, заструившийся по ее позвоночнику, такой знакомый и так много раз вызывавший в ней упадок жизненных сил, причины которого она не могла предполагать, – этот гудящий, словно динамо, и вызывающий в сознании чувство опасности, неестественный поток энергии, обратно движущейся в организме, привел ее в чувство. Она резко оторвала свои руки, даже пришлепнув ими по открытым ладоням Азрулы, как бы прикрывая этим нечто, и проговорила в неподдельном негодовании:
– Довольно! Неужели ты еще не понял, что разоблачен?
– Что значит «разоблачен»? – удивился Азрула.
– Ты не знаешь, как «разоблачают»? Очень просто: снимают одну за другой все одежки, покрывающие самую сердцевину тела или явления. До тех пор, пока не обнажается сама сущность. Так я и добралась до твоей «святая святых», ты уж извини!
– Глупости все! Ты начинаешь терять разум, – прав Ган!..
Азрула осекся, но слово было сказано, и Хитро его подхватила:
– Ган? Он еще смеет рассуждать о чьем-то разуме? Да знаешь ли ты, почему я не могу сочетаться с ним? – и, не дожидаясь вопроса, она брезгливо сказала:
– Ему супруга не нужна. Он весь погряз в астральных сношениях.
– Как ты смеешь, – ты, чистоплюйка! – зашипел Азрула, мгновенно сбросив с себя маску несчастного и покидаемого отца. – Что ты можешь понимать в настоящей жизни, ты, которая еще даже и не вылупилась на свет, можно сказать! Или, думаешь, тебя не коснется страсть? Ошибаешься! Без страсти нет никого, кто жил бы в земном теле, ни человека, ни атланта. Хотя ты, похоже, думаешь, что дети атлантов рождаются от возвышенных мечтаний. А всякая страсть – она от астрала! От того самого «низменного», как вы говорите, астрала. И страсть, и многое другое… И никому не избежать его власти: ни человекам, ни вам, ни нам. Ибо кончается ваше время, драгоценные наши земные боги! Астрал есть, он образован и с вашей помощью, – особенно Прометей постарался! Теперь посмотрим – кто кого!
– Зачем ты так злишься, Азрула? – проговорила Хитро, стараясь на прощание хоть немного сгладить размолвку. – Ты ведь прекрасно знаешь, что злоба противопоказана: она разрушает нас же самих в первую очередь…
– А, так ты еще заботишься обо мне? – деланно расхохотался советник. – А посмотри-ка на себя: ты ли не злишься, больше того – гневаешься?
– Но это не гнев, Азрула, ты ошибаешься снова. Это – негодование, а справедливое негодование нужно и законно в нашей жизни. Не можем же мы терпеть всю низость, когда она проявляется…
– Безмерно благодарен, дочурка, – картинно раскланялся советник, разведя руки в сторону, – утешила. Вот это действительно достойное прощание дочери с отцом! Нет слов!
– Если тебе угодно принять мои слова, как направленные к тебе, – что ж, это право твое. Каждый привлекает в свое сознание то, что ему ближе.
– Она еще издевается! – Азрула был неподдельно потрясен всем происшедшим, и Хитро снова, в который раз, смягчила свой тон.
– Много лет я называла тебя отцом, Азрула, – сказала она, – но теперь, ты видишь, это стало невозможным. Чтобы не было лишних вопросов, хотя ничего скрыть невозможно, завтра же я перееду в скитское поместье, которое оставила мне мать. Думаю, что мы обо всем договорились и все, что надо было, прояснили. Ты, кажется, торопился по каким-то делам? – таким вежливоотстраненным был ее голос, что советник понял: это навсегда. Примирение, которое еще возможно было бы, не настаивай он так на этом злосчастном браке, отныне исключено.
Он не думал сейчас о том, что скажет Гану и его многочисленной родне, как объяснит отказ Хитро от свадьбы. Этим он озаботится позже, когда останется один и будет способен оценить все происшедшее между ним и Хитро. Сейчас же его интересовал один вопрос: что же будет с ним? Ведь в течение почти всей своей жизни он привык к тому, что благодатный и почти ничего не стоящий ему родник энергии, возносивший его над многими, был всегда в его полном распоряжении, – что наяву, что мысленно. А вот теперь он иссяк?..
Обернувшись от порога на Хитро, он машинально поправил себя: «не иссяк родник, но припасть к нему теперь невозможно». Ибо его названая дочь, отныне царевна Хитро, провожала его в полном сознании своей неприкосновенности и всемогущей силы. Он все-таки не сдержался:
– Не думай, благословенная царевна, что оставляешь своего престарелого отца в беспомощности. На каждую силу – найдется другая, может, и большая сила. Не пропадем!
И долго еще его хохот, которого раньше Хитро и не слыхала, раскатывался по всей башне: лестница вниз шла спиралью по внутренним стенам ее, и путь был немалым.
Зря все же он не захотел воспользоваться машиной и с удобством спуститься вниз в комфортабельной кабине, – подумала Хитро, слушая эти раскаты смеха.
Отчего-то она вдруг содрогнулась…
* * *
Поговорив в саду, красоты и благоухания которого они на этот раз вроде бы и не заметили, братья расстались. Гермеса ожидала его обычная лекция во Дворце Знаний; Апплу, полный раздумий, вернулся в царские покои, готовый взять на себя все тяготы, выпавшие на долю его любимого Родама.
Да, слишком давно он не был здесь, на исконной земле своих предков. С тех пор, как, велением богов, все царские отпрыски, за исключением нескольких, по разным причинам оставленных жить на Посейдонисе, были наделены землями в различных частях света, отданными вместе с населением под их полное попечительство, Апплу бывал здесь лишь изредка. По правде говоря, все более тягостными становились ему эти посещения; причину этой тягости он знал, но не желал признавать ее существование, что неминуемо случилось бы, облеки он свою мысль в слова. Потому и опечалился он теперь, после разговора с Гермесом, осознав, что его опасения уже давно вошли в жизнь и без его содействия или противодействия. Корить себя за то, что он обязан был предупредить брата об опасности и не сделал этого, было бесполезно. Во-первых, Родам и не послушал бы никого, хотя бы это был и наиболее близкий ему по духу брат Апплу, а во-вторых, все, что случается, бывает неспроста. Никто, кроме Единого, не ведает, где и на чем должны сойтись все нити человеческих и божественных судеб, и только Ему под силу эти узлы или бережно развязать, или же разрубить одним махом, невзирая на то, сколь многие судьбы, непричастные на первый взгляд к этому клубку, будут жестоко развеяны в прах.
Дело было в том, что именно Алелюну, как его называли в стране новых аттили, или хаттов, был присущ дар предвидения, так редко встречающийся не только среди богов земных, но и надземных. Особое качество – сила света, превосходящая все представления, давала ему возможность безо всяких видимых усилий проникать в самые сокровенные анналы высшего Знания, которые охраняются самой своей недоступностью, и читать в них все, касающееся будущего как всей планеты, так и каждого отдельного создания, обитающего на ней. Правда, всякий, читающий в этих пространственных скрижалях, не имел права, без особого повеления, раскрывать тайну того, чему еще только предстояло свершиться. И каждый, кто попытался бы это сделать, будь он из рода самого что ни на есть божественного, неминуемо понес бы кару – или карму – самого этого явления. Это означало взятие на себя чьей-то судьбы со всеми обрушивающимися на ослушника ударами. Таков уж вселенский Закон…
Однако Апплу стряхнул с себя облако невеселых мыслей, и яркое солнце вновь засияло в его глазах. Это не было просто красивой метафорой: не только он один относился к потомкам Солнечной династии, и каждого из них можно было узнать по особому, не блеску даже, но сиянию в глазах. Это наследственное качество оказалось настолько живучим, что продолжило свое проявление в течение многих тысячелетий…
Перед тем, как взойти на ступени дворца, такого прелестного и даже игрушечного в ажурной резьбе своих нефритовых стен и украшений, Апплу обернулся в сторону парка, как бы отдавая тому дань признательности за приют. Восхищение заставило его глубоко вздохнуть, и он искренне пожалел, что не воспринял его поистине волшебное обаяние тогда, когда выслушивал сообщения Гермеса: это намного облегчило бы их груз, резко надавивший на плечи светлого бога.
Теперь Алплу мог себе представить, что означала собой та тягость ноши, которую завещал собственным потомкам титан Атлас. Его мысли были о царе Родаме: ни разу не было такого, чтобы тот хоть словом обмолвился о непомерности своей миссии. А ведь они с Гермесом только сейчас разделили с ним ее тяжесть, – и уже мечтают о том, как бы стряхнуть с плеч нечто, сковывающее их движения, и временами даже сводящие эту перекладину креста, вместе с его основанием, позвоночником, судорогой боли.
Да, Апплу, благородный и великодушный, примчался по первому же зову Гермеса на помощь брату Родаму. Но он-то знал, что эта помощь – лишь кратковременная передышка, которая даст тому возможность перевести дух перед принятием на себя наиглавнейшего, ради чего и состоялось его воплощение.
Потому что каждый, кто осознал себя в этом мире, должен следовать по пути, который сам же и выбрал. И, принимая помощь со стороны, рискует он найти в ней лишь отягощение чужой болью, перекладываемой на его плечи. Истинная помощь может прийти лишь от сознания, более очищенного, а значит, мощного, чем твое. Ясно, что не на Земле можно найти такое…
* * *
Предупрежденный Гермесом, Апплу не стал подходить ко входу, который охранял Клу. Он, взойдя на террасу, подошел к балконной двери, сейчас наглухо запертой, и взглянул через толстое стекло. Однако оно было затемнено специальным наполнением, – берегли покой царицы.
Все это было правильно, и придраться было не к чему. Буде что случится, и сам царь спросит с тех, кто должен ответить: все произошло само собой, а инструкции и правила – они все были соблюдены. Царица, очищенная особыми процедурами, была оставлена в строгом одиночестве, охраняемая от малейшего инородного влияния даже не человеком, а биороботом, эманации которого не влияют на совершенное сознание. Это одиночество и являлось той, наиболее целительной панацеей, которая одна только и могла бы спасти сейчас царицу, восстановив ее жизненные силы и залечив раны на ее ауре, раны, невидимые физическому глазу, но оттого не менее ужасные.
Алплу не колебался. Он, вдвойне брат Родаму – по крови и по духу, – имел право воздействия на существо, которое, в полной беззащитности, хоть и надежно изолированное от видимых воздействий, лежало за этой стеной, находясь на грани жизни и смерти, на грани перехода в небытие, откуда нет возврата. Еще была возможность вернуть царицу Тофану к сознанию, призвав для этого силы более могучие, чем те, которыми обладали рядовые атланты. Правда, это было небезопасно для самого Апплу, но другого выхода не было.
Он не любил мгновенных переходов в пространстве или телепортаций, как их называли те, склонные к наукообразности выражений, кто ничего в них не понимал. Но нынче, видно, был именно такой день, – ему уже пришлось перенестись сюда с берегов Понта, теперь вот снова надо перейти за стену, не повредив ее. Но это, конечно, легче, чем разобрать себя на атомы, а затем вновь собрать, не потеряв при этом ни одного и не спутав ни на йоту их месторасположения. Алплу повеселел: он уже готов был и к первому варианту, а тут наготове оказался вовсе простой.
Однако без концентрации и здесь не обошлось, но это было делом привычным и обязательным для всякого мысленного действия.
Стоило только представить себе часть препятствия, все равно, стеклянного, как сейчас, или любого другого состава, как бы вынутым из общей массы, и можно было спокойно проходить в открывшееся отверстие. При выходе оно тем же путем восстанавливалось. Но не об этом надо было думать: в полутемном покое, едва различимая через кружевные драпировки, занавесившие широкое ложе от потолка до пола, на котором они чей-то заботливой рукой были разложены пышными симметричными складками, лежала она, супруга его брата.
Апплу едва ее узнал, – нет, он воспринял эту женщину как незнакомку. Та, которая явилась перед ним, когда он первым делом сорвал драпировки, не думая о том, что выдает этим свое здесь присутствие, не могла быть той красавицей Тофаной, которую раз ее видевшие уже не забывали, настолько всепобеждающ в ней был призыв земной плоти. Тем и покорила она в свое время Родама, ради нее пошедшего против вековой традиции, до этого казавшейся незыблемой: царь, глава клана, во сохранение чистоты крови, мог брать в жены лишь только собственную, родную, от одного отца и одной матери, сестру.
Тофана же принадлежала к царственному, или божественному роду лишь отчасти, или побочно: она была дочерью их общего отца, великого Сварга, но матерью для нее он избрал вполне земную женщину, случайно попавшую ему на глаза. Правда, это не оказалось мимолетным увлечением, и царь настолько приблизил ее, что дочь, родившуюся вскорости, воспитывал в «Храме невест».
Это все нисколько бы не вышло за рамки необычного, если бы принявший царствование Родам не потерял голову, увидав Тофану, когда ей было всего лет двенадцать, на ежегодных смотринах этих храмовых девственниц, и если бы отец, как и собирался, женил сына при своей жизни. Да, много «если» должно было сойтись для того, чтобы не случилось того, что все-таки случилось: вражья сила нашла в конце кондов трещину, через которую могла бы просочиться в обычно неприступную для нее крепость – божественное сознание, чтобы привнести и туда хаос и сумерки, низводящие его в обычное, земное состояние…
Да, Апплу теперь воочию убедился, насколько трудна, а может быть, и невыполнима его задача. Голова Тофаны была резко запрокинута назад, и редкое дыхание, сопровождаемое хрипом, с трудом вырывалось из приоткрытого рта: кожа ее, поразительно быстро ссохшаяся и покрывшаяся частой сетью мелких трещин – знак проникновения в кровь вредоносной, противоположной по знаку энергии, – туго обтягивала ее тело так, что, казалось, под ее желтоватым покровом исчезли напрочь все мышцы, обозначив кости скелета.
Тофана умирала, – это было бы ясно и неискушенному человеку при первом же взгляде на нее. И удивительным казалось не то, что умирает «бессмертное» существо, а как раз другое – какие силы в состоянии так долго удерживать его на «этой» стороне, не отдавая полностью тем, другим.
А то, что они обступили и ждут – это Апплу не нужно было подтверждать. Он даже не открывался в астральный план для того, чтобы убедиться в присутствии непрошеных или все же допущенных гостей. Какая-то брезгливость удерживала его, кроме уверенности в том, что не нужно смотреть, – все и так ясно. И, тем не менее, нужно было действовать.
Алплу отрешился от вида женщины, лежавшей перед ним, от мыслей о неизбежности воздаяния за ошибки, от любви к брату и даже от осознания самого себя. Сила этой отрешенности как раз и составляла степень слияния с тем, Высшим, которое одно и могло бы произвести чудо возвращения к жизни земного организма, уже почти лишенного своего эфирного, энергетического двойника. Им завладели те, жадными черными ртами присосавшиеся к его жизненно важнейшим точкам. Очищать их, одну за другой, было бесполезно. На это могли бы уйти многие часы, а сейчас дорого было каждое мгновение. К тому же, точка, очищенная только что, могла быть вновь захвачена врагом, едва от нее отступится благой целитель. Здесь нужно было очищение полное и единовременное, – то именно, которое означает удар по главному врагу, прячущемуся за спинами этих мелких пакостников.
Враг этот был не просто силен, он обладал мощью, не уступавшей мощи самого Алплу. И справиться с ним поэтому можно было, лишь призвав ту силу, которая, выйдя за рамки всяких возможных представлений, – даже для такого совершенного сознания, каким являлось сознание высших атлантов, – является уже запредельной. Эту силу невозможно увидеть или потрогать руками, – в ее существовании надо было быть уверенным. А уверенность эта, не просто слепая вера, а именно спокойная уверенность, происходила от знания, которое мог дать лишь опыт. Малейшее сомнение свело бы на нет все усилия, но о каком сомнении подумал бы любой, знавший Апплу?..
…Он никогда не узнал, сколько времени прошло с тех пор, как он объединил в собственном естестве начало высшее с тем, низведенным злой волей до нижайшего предела. Скорее всего, это было, как мимолетное дуновение, но ему оно показалось невыносимо, мучительно долгим. Никогда до этого Апплу не думал, что его тело, такое совершенное и наполненное настолько чистой и сияющей энергией, что заслужило название «лучезарного», тело, совершенно слитое со всеми высшими проявлениями и тем поистине божественное, что оно может так страдать.
Боль была всеобъемлюща. Настолько резкая и, казалось, нескончаемая, что крик так и рвался из горла, чтобы ее утишить, она была явно направлена на то, чтобы сконцентрировать на себе все его внимание, отвлечь его от нерушимости осознания связи с Высшим. Но нет, это ей не удалось. В самый, наверно, критический момент пришла вдруг мысль: «Что, друг, непросто быть человеком?» – и своей какой-то теплой иронией помогла выстоять.
Он не стал глядеть на результаты того побоища, которое произошло с его активным участием, на невидимом плане. Просто призвал в воображении огромную машину, которая своим совком и сгребла всю падаль, не успевшую убраться восвояси, помогая себе всякими весело крутящимися и вертящимися метелками и щетками.
Да, все надо было теперь закончить самому. Эти земные дела, они малоприятны, но кому же их препоручишь, чтобы быть уверенным, что все будет доведено до конца?..
Он отыскал взглядом алтарь, перед которым стояла опаленная свеча. Уничтожив ее движением раскаленного пальца, Алплу зажег маленькую лампаду, которая привлекла его внимание изящной формой и красотой филиграни. Такую вещь могло создать лишь существо, осознавшее суть творчества, и он залюбовался игрой света на золоте ее узоров и цепей.
Умиротворенный благодарностью, которую он принес Тому, Кто Помогает, Апплу повернулся к выходу. Он закончил дело, ради которого явился сюда, – остальное для него не существовало. Однако его остановил удивленный возглас:
– Что это все значит? Кто ты такой, и что ты здесь делаешь, хотела бы я знать?
Апплу даже не взглянул в ту сторону, откуда донесся голос: кто, кроме царицы Тофаны, мог быть так многословен?!
…Дыру в стеклянной стене пришлось восстанавливать уже издалека, с крыши Цитадели в Атлантисе, куда его перенес на своем мобиле Гермес.
Прощаясь, Апплу спросил:
– А как же твоя лекция?
– Почему ты спрашиваешь?
– Опаздывать, или, тем более, отменять назначенное – не в твоих правилах, ведь так?
– А я и не думаю ничего отменять, тем более – опаздывать. Прошло-то всего минуты три между тем, как ты ушел и вернулся. Я только собирался нажать на педаль…
И действительно, Апплу видел, пока бежал по парку и одним махом перепрыгивал через высоченную ограду, как Гермес неподвижным изваянием сидел в своем мобиле, которому не требовалось никакого нажатия педалей, и как только Алплу вскочил на сиденье, он сорвался с места, подобный сверкающей стреле, и умерил свое движение вверх только после того, как Апплу замотал головой:
– Перегрузки же…
* * *
Я, лукумон Иббит, милостью Единого и силой всех Богов, исполняющих Его волю, посылаю в беспредельное пространство мысль вечную, открытую для всех, кто окажется в состоянии ее воспринять. Ибо, уловленная, но не раскрытая посредством слов человеческих, которые и даны нашему роду для выражения всего, что видят глаза и чувствует сердце, – в отличие от высшего общения, которое не требует слов, – она так и останется бесплодной и бесплотной в ожидании часа, когда сможет расцвести, попав в соответственные ей условия…
Несу эту весть всем, весть единую в своей сущности, но допускающую возможность собственного внешнего разделения. Это означает, что формы, в которые она сможет воплотиться, будут неодинаковыми не только для одного племени, в котором эта весть проявится, но даже для каждого отдельного человека, способного ее воспринять. Разными будут имена героев, совершивших подвиги во благо своего народа, и различными окажутся также названия самих этих народов; якобы породивших в своей глубине таких гигантов-защитников; и многие будут ожесточенно спорить об обладании, единоличном и непререкаемом, самой памятью об этих подвигах.
Они будут спорить напрасно. Ибо весть, посылаемая мною, расскажет о деяниях и судьбе одного и того же человека, рожденного от Великого Бога еще тогда, когда это совершалось на Земле. Человека, облеченного при появлении на свет высшими возможностями, которых не сможет вынести ни одно существо после него. Но эти его возможности будут действительны лишь для земных проявлений.
Ибо за всю свою необычайно долгую жизнь ему не было дано осознать божественной направленности собственных деяний. Он просто делал то, чего не мог не делать: нес человечеству благо и защиту от несправедливости, которую считал главным злом.
Но память человеческая, помноженная на время, приобретает удивительное качество – она воссоздает Истину. И иногда делает, казалось бы, невозможное: сама, своей силой причисляет избранника к сонму Богов.
Единственный случай давления снизу, которому подчиняются, с которым молчаливо соглашаются светлые Боги…
Я сразу понял, как только его привели ко мне, что это не простой человек. По блеску глаз понял, по удивительно соразмерным пропорциям его тела. Даже его рост, хотя он был всего лишь выше самого высокого, не обманул меня: наши поселяне перед ним казались диким кустарником, корявым и темным, – он же среди них стоял, как прямая и светлая береза, вроде бы и хрупкая, но под своей шелковистой кожей скрывающая невидимую мощь древесных мускулов.
Я велел отвести его в маленький дом, который стоит в отдаленном конце моего сада, и уложить в чистую постель, омыв в бассейне с теплой подземной водой. Сыну Игрешу поручил я надзор за этим пришлым, дав ему в помощь пару селян, – пусть учится, как надо выхаживать человека, получившего удар молнии…
Когда его уже уводили, поддерживая за пояс, – так он ослаб – я остановил всю процессию. Можно было бы, конечно, и подождать до того времени, когда он придет в себя, но я хотел убедиться кое в чем, прежде чем дать какое-то направление своим размышлениям. Я сказал:
– Сними шапку.
Он понял – а я произнес это на языке страны Сумер – и медленно стащил с головы свой вязанный колпак, плотно облегавший его голову и маленькой шишечкой возвышавшийся над затылком. Все рабы носили такие колпаки. Носили их и другие, по желанию, но рабов они отличали по цвету, непременно коричневому. К тому же на Посейдонисе, как и в других странах, было принято начисто обривать головы рабов, тогда как коренные граждане ходили с шевелюрами. Чем длиннее волосы, тем именитее и состоятельнее человек…
Пришлый стоял ко мне вполоборота, и неважно было, что он свесил голову, еле держась на ногах. Одного короткого мгновения хватило мне, чтобы разглядеть то, что я и ожидал увидеть: череп незнакомца в своей верхней части чуть поднимался на конус!
По моему знаку его увели.
Лишь через три дня я посетил этого раба.
Он полулежал в тени густого орешника, покачиваясь в низком гамаке, и одна рука его доставала пальцами до воды в бассейне. Остановившись перед ним на расстоянии шагов десяти, и не замечаемый им пока, я постарался определить его состояние. С виду он казался вполне здоровым, внутренне же все обстояло не так благополучно, как можно было ожидать. Однако, без сомнения, дела его шли на поправку – слава Единому, царь Родам будет доволен! Видит Бог, нет ничего, перед чем бы я остановился, прикажи мне Он, мой земной Владыка, через Которого являет свою волю Тот, Кто Наблюдает. А в том, что участие в этом пришлом я принимаю велением царя Родама, в этом у меня не было никаких сомнений с самого начала: разве посмел бы кто, а тем более раб, произнести втуне, не имея на то оснований, имя царя! Но этот произнес, да еще присовокупил к нему и мое собственное имя, да охранит его, это имя, Всевышний, так же как имена всех достойных его помощников на земле…
Послать-то царь Родам послал, а вот почему и для чего – это надо было разгадать уже мне самому. Ведь так же, как у меня на выучке находятся все мои соплеменники, не говоря уж о многих приходящих за знаниями, точно так же и я сам являюсь добровольным и послушным учеником царя, соблаговолившего самолично вести мое духовное совершенствование. Ведь без Наставника – нельзя. Если ты, понятно, желаешь идти быстрее и, главное, не топтаться на месте, делая бесконечные ошибки. Могу ли я когда-нибудь забыть о том, что именно Он, мой Царь, открыл мне глаза, то есть дал возможность за всем тем, что видят человеки, просматривать основное: что именно движет всеми их поступками, и даже знать их следствие. С этого и началось мое, такое долгое и трудное, восхождение, которое когда-нибудь должны будут преодолеть все человеки без исключения. Кто раньше, а кто намного, намного позже.
Между тем, этот раб повернулся в мою сторону. Я мысленно похвалил его за внутреннюю зоркость, подтверждающую его повышенную чувствительность, и вышел из своего укрытия. Ждавший поодаль домочадец поставил для меня легкое кресло возле гамака, и я, под пристальным взглядом незнакомца, сел напротив него. Он, видно было, хотел встать, как и полагалось бы настоящему рабу, но желание это проявилось у него, надо сказать, с большим запозданием. С видимым облегчением он вновь откинулся на спину, когда я помахал рукой, веля ему не вставать.
Какое-то время мы посидели молча: я в упор его разглядывал, он отвечал мне тем же. Взгляд у него был открытый и смелый, но я-то видел: он чего-то боится. Может, я не так выразился: степень страха трудно определить, особенно на первый взгляд, но то, что какое-то опасение есть, – это было уж точно.
Я начал с самого начала:
– Чего ты боишься? – спросил я по-сумерски. Он сразу напрягся, чего я и добивался.
– Херкле ничего не боится! – отрезал он.
Пришла моя очередь призвать все свое самообладание: это имя было мне известно. Да и не только мне, надо сказать.
– Херкле?.. – я тянул время, давая и ему возможность подумать: мне вовсе не хотелось просто-напросто прорваться в его оболочку и прочитать за ней все, что меня интересовало. Это было не в наших правилах. – Ты уверен, что это твое собственное имя?
– А чье же еще?
– Ну, может, тебя назвали так в честь… не знаю, какого-нибудь выдающегося человека?
– Нет, так мать назвала именно меня.
– И давно это было?.. Ну, давно ты родился? И где?
– Родился я в… по правде говоря, я уж и не помню, где. Ты ставишь меня в тупик, хозяин. Я не знаю и того, когда же я родился.
Он задумался. Я знал, что он говорит правду, но знал я также и то, почему он не может ответить на эти вопросы, как не сможет ничего сказать и о многом другом: его высший разум, по праву рождения присущий ему, был от него закрыт крепким щитом того, что, не догадывайся я обо всем, мог бы назвать колдовством.
Однако если это было и колдовство, то наивысшего толка: к его закрытию руку приложили боги. Поэтому освободить его разум было не только сложно – простоето колдовство можно было бы снять, даже не пошевелив пальцем, – но невозможно. На это было нужно особое повеление свыше. Что ж, посмотрим.
– Может, у тебя есть и другое имя?
Он молчал, глядя в воду.
– Ты не должен меня опасаться. Я тебе желаю добра.
– До сих пор все, кто так говорил, приносили мне зло. Видно, они так понимали, что есть добро, – усмехнулся он.
– И все же доверься мне. Ты ведь где-то в глубине своей чувствуешь, что я незлобив, правда?
Он перевел взгляд выше, на деревья вокруг бассейна.
– Да, у меня есть и другие имена. Но не спрашивай сейчас о них. Может, потом… Все равно никто не верит, не поверишь и ты. Я пришел сюда, в Атлантиду, сам. У меня здесь дело. Другого выхода, как сделаться рабом, не было. Вот я и согласился, лишь бы привезли сюда. Океана мне самому не переплыть.
– Как же ты попал к Царю?
Он пожал плечами:
– Сам удивляюсь. Чем-то я приглянулся его младшему брату, который оказался на пристани, как раз когда нас выгружали из корабля. Но он меня ни о чем не спрашивал, не то что ты.
– Ему это и не нужно, – он ведь бог.
– Странно у вас тут. Одни говорят – «бог», другие – … – он сдержался.
– А ты не слушай тех, «других». Ничего хорошего от них не услышишь.
– А почему я должен слушать тебя? Ты вон даже моложе меня, как я погляжу. Будь ты хоть стариком, тогда бы можно было, из уважения к твоему опыту…
– Если ты хочешь сделать мне приятное, называя меня молодым человеком, что ж, я принимаю твой подарок. Но должен ответить тебе тем же: я ведь тоже подумал было, с первого взгляда, что ты еще совсем молод. Довольно теперь об этом, но имей в виду, что у меня уже есть внуки в пятом поколении.
Он удивленно посмотрел на меня.
– Не веришь? А сам-то? Детей имеешь?
– Были дети.
И он замолчал. Я и не спрашивал: больного места касаться не следует.
– Горло болит? – перевел я разговор на другое.
Он невольно потянулся рукой к шее.
– Уже меньше… А ты откуда знаешь?
– Просто я – лекарь. Может, расскажешь мне, где ты был, что тебя так угораздило…
– Вечером, не знаю, сколько дней назад, ко мне, когда я уже спал под навесом, с краю, пришел царский брат и разбудил меня.
– Царевич Грма-Геле? Гермес?
– Вроде так. Все было так странно: он прижал палец ко рту и сделал мне знак рукой – идем, мол. Ну, пришли мы, а шли через какое-то подземелье, было бы совсем темно, если бы царевич не светил своим фонариком впереди себя…
– Ты видел этот «фонарик»?
– Ну, видеть – не видел, но чем-то он ведь светил, потому что вокруг было все видно, а шагов с двенадцати – сплошная тьма. Что, это у вас не так называется?
– Да нет, просто, чтоб ты знал, никакого фонарика не было. Царевич, так же, как и все из их семьи, когда ему нужно, светит сам.
– Ты что говоришь?..
– Привыкай. Не забывай, где находишься, раз уж прибыл сюда. Кстати, а ты не пробовал сам светить? – и я улыбнулся.
– Смеешься? А я-то тебе чуть не поверил…
– Ну-ну… Не смеюсь я. После узнаешь, что я имею в виду. Продолжай. Вышли вы из подземелья, а дальше что?
– Дальше поплыли на лодке.
– Кто греб?
– Какой-то атлант. Очень могучий. Он уже был в лодке, когда мы подошли. Я его сперва и не узнал, он сидел спиной ко мне всю дорогу. Только когда лодка пристала к берегу, и царевич велел мне взять большущий тюк, лежавший на корме, я узнал от него, что буду сопровождать самого царя, и, когда он меня отпустит, вернуться должен буду тем же путем, берегом канала, к твоему селению, а здесь уже спросить тебя. И еще велел обязательно назвать имя царя. Я все сделал, как нужно было.
– Что же с тобой случилось, что ты так ослаб?
– Ума не приложу. Чего только в жизни со мной не бывало, не буду рассказывать, а такого даже представить себе не мог! Чтобы я, да падал в обморок, как нежная девица!
– А ты и не падал в обморок, откуда ты это взял?
– Не врешь?.. Мне показалось, что я несколько раз терял сознание… Ну, ладно. Нет – и хорошо.
– Ты сразу почувствовал себя плохо, как расстался с царем?
– Нет, не сразу. Хотя что-то неладное почуял еще тогда, когда взбирался вслед за ним…
– Ты не должен никогда больше говорить «он», понял? Говори «царь». Или – «великий царь». И никак по-другому.
Кажется, он действительно понял, он вообще был на редкость сообразительный. Еще бы, скажете вы… После моих-то человеков! Но и среди них попадаются, верите ли, тоже ничего себе… Он продолжал:
– Ладно. Если ты лекарь и лечишь меня, я тебе расскажу все, что помню. Потому что лечишь ты здорово, раз я уже в порядке. Понимаешь, для меня тащить такой тюк, как тогда на меня взвалили, ничего не стоит. Ну, все равно, что пушинку нести.
– И часто ты раньше таскал тюки?
– Что ты! Никогда! – он понял, что выдал себя, и лицо его омрачилось. – Я знаю, что очень сильный, по сравнению с другими. Но – не тюки. Другое приходилось передвигать.
– Горы, например…
Но этого он вроде бы и не расслышал.
– Ты хочешь слушать дальше? А то перебиваешь все.
– Прости меня.
– Слушай, а ты сам-то кто таков? Что-то я не пойму: вроде бы обычный человек, а ведешь себя со мной, как… Извиняешься, вот. Перед рабом?
– Перед созданием Божиим. Продолжай.
– Тюк… Он был огромен, но тяжести его я не ощущал до тех пор, пока вдруг отчего-то клюнул носом в скалу, да так сильно, что разбил себе лоб, вот здесь, – и он указал пальцем на едва заметный беловатый след между бровями. – Быстро так зажило. Не от твоей ли водицы?
– Неважно, от чего.
– Ну, стукнулся. Однако как-то пришел в себя – до этого я, оказывается, шел как во сне. Гляжу, а у меня даже руки и те дрожат. Хорошо, что царь вскорости отпустил меня. Подхватил этот тюк – и поскакал наверх, точно молодой горный козел. Мне даже казалось, что он взлетает над камнями, так красиво у него это получалось.
– И высоко ты забрался на гору?
– Точно не знаю. Там темно, хотя мне почему-то было все видно под ногами, когда я шел за царем, наверно, ты прав насчет «фонарика»… Да и, говорю же тебе, в забытьи каком-то шел.
– А обратно?
– Обратно было идти еще хуже. Голова сильно болела, видно, от удара. И видеть – совсем ничего не видел. Вроде бы как ослеп, понимаешь? На ощупь спускался. Помню только, что простились мы с царем возле каменного столбика. Похожие и у нас на Востоке ставят, где только можно…
– Или нужно. Ну, раз ты заметил бетил, тогда понятно, – ты дошел до трети высоты горы. Да…
– А что? Нужно было и дальше сопровождать царя? Я и сам хотел, – это ничего, что руки-ноги стали дрожать и голова, как обручем ее стянули, – но это ведь царь Атлантиды, подумай сам, а я кто такой здесь? Раб. Дворцовый раб на побегушках. Он мне, слава ему, только сделал такой, знаешь, маленький знак, – иди прочь, мол, дальше не твое дело.
– Ты прав, – не удержался я.
– Я сумел отойти от горы не больше, чем стадии на две, и вынужден был отдохнуть. Я присел возле канала, а потом и прилег. Должно быть, я заснул, потому что проснулся, когда солнце уже вовсю светило. Я забеспокоился, что меня начнут искать, могут ведь и подумать, что я сбежал…
– Куда тут у нас сбежишь, милый…
– Да… Поднялся, а идти-то не могу! Поглядел случайно на свою руку – о Громовержец! – она у меня, словно хворостинка сухая. Поглядел на ноги – они, как два кривых сучка. И чего это я так сразу высох?
– Не думай об этом. Сейчас ты доволен своими руками-ногами, я так думаю, а?
– Прямо чудеса какие-то, да и только. Хотел бы и я научиться у тебя этому.
– У тебя все впереди. Погоди, придет время – и тебе ничему даже учиться не придется: сам все поймешь.
– Как это?
– Не торопись. Но знай, что дело это непростое, и что недаром великий царь наш повел тебя на эту гору. Подумай сам: зачем ему было бы тащить за собою подобную обузу? Неужели он и сам не справился бы? В крайнем случае мог бы захватить кого-то из своих, атлантов. У него, как ты знаешь, наверно, целый полк преданных этера, которые почитают за счастье ему услужить.
– Я и сам удивлялся…
– Это доказывает, что у царя были основания взять с собой на священную гору Мери именно тебя, такого, как ты есть. Для чего ему это понадобилось, как ты думаешь?
Я размышлял вслух, занятый своими мыслями, и не обращал внимания на то, что говорит Херкле. Но вдруг – поистине, словно молния озарила мой ум – я понял! И не оставалось никакого сомнения в том, что это именно так и никак иначе!
Я постарался скрыть от него свое прозрение, но он почуял – нечто изменилось. Глаза его были широко открыты, и теперь я мог в них читать все, что бы мне захотелось, но мне не было нужды этого делать, ибо я знал больше него. Как можно спокойнее, чтобы, не дай Единый, не поколебалось хрупкое равновесие, установившееся между нами, я спросил его:
– Ты вообще-то знаешь, что это за гора такая, куда ты сопровождал царя?
– Гора как гора…
– Нет, дорогой. Я сказал тебе, что эта гора священна, но этого еще мало, чтобы понять остальное. Знай, что обычным человекам запрещено подходить к ее подножию в окружности десяти плетров. А никого из новоприбывших в глубину долины Э-неа вовсе не пускают. Ты, наверно, думаешь, как и они: секретничают атланты. Охраняют свои тайны, чтобы только самим пользоваться ими. Ведь правда, думаешь так?.. То-то. Так думает весь мир. А того не знают, неразумные, что, допусти их атланты к своим чудесам – тут же полягут они все, штабелями, пораженные смертельной болезнью, и никто не сможет им помочь.
– Даже ты?
– Я?! Кто я такой по сравнению с любым, самым посредственным атлантом?! Я – всего лишь прилежный ученик, ловящий каждую кроху знаний, оброненную своим великим Учителем, – вот кто я такой!
– Мне неприятно слышать от тебя такое. Разве следует так себя уничижать? У нас так не принято. Наши боги, они дают понять, что готовы помочь, если мы для них сделаем то-то и то-то. Каждый раз все обговаривается вполне определенно. И коли наша плата в виде жертвы богу недостаточна, он просто не обращает на нас внимания. А бывает, что и начинает вредить…
– И ты считаешь, что боги должны быть именно такими? То, о чем ты рассказываешь, это ведь похоже, скорее, на самых темных человеков! Из тех, кто только и думает, что о собственном благополучии – до остального им и дела нет. Неужели настоящие боги станут торговаться с человеками, которых они призваны воспитывать во благе, как равный с равным на базаре? Это для моего понимания недоступно.
– Но так живет весь мир…
– Видно, не весь, раз мы, живущие на Посейдонисе, думаем иначе. А ведь как думаешь, так и живешь.
Но Херкле меня уже не слушал: какая-то мысль его сильно занимала. Наконец он посмотрел на меня – ну и глаза у него все же! – и проговорил, приподнявшись на локте:
– Не хочешь ли ты сказать, лукумон Иббит, что…
Его сил хватило ненадолго, вновь опустился на мягкую подушку. Однако взгляд его был тверд, когда он потребовал от меня ответа, казалось, позабыв о нашем споре насчет отношений с богами. Едва слышно он прошелестел одними губами:
– …что и я поражен той самой болезнью? И нет мне спасения?
Мне нельзя было его касаться, чтобы не нарушить с таким трудом начавшей затягиваться ауры, да и себя следовало бы поберечь от его, все еще очень тяжких излучений. Но я не мог поступить иначе: чего бы стоили тогда все мои слова о благе и добре?
Я наклонился к нему, сжал его бледные руки своими и сказал, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно убедительнее:
– Я хочу сказать, что ты побывал на священной горе атлантов и остался жив. Да, твоя теперешняя болезнь – последствие того, что ты принял в себя там. И благодари мудрого Царя, который не позволил тебе сделать ни шагу дальше того места, что по твоим силам. Ты скоро исцелишься. Но исцеление тебе не даст почти ничего, если не осознаешь своего нового состояния, открытого для тебя теперь.
Я выпрямился. Напряжение было столь велико, что пот градом катился с моего тела, и руки дрожали крупной дрожью: вибрации этого мнимого раба были поистине божественны.
Смогу ли я помочь этому огненному птенцу вылупиться из его непробиваемой скорлупы для истинной жизни? Достанет ли моих сил, чтобы сохранить его, такое ранимое человеческое естество в этом страшном горниле атомных энергий?
Но Царь велит, – я подчиняюсь с радостью. Ибо это значит, что и я не малая песчинка, по воле ветра носимая с места на место. Владыка делает свое дело – освобождает самую сущность бога, мне же доверено обеспечить для него надежный и прочный земной дом, здоровое тело.
Я был уверен: этот дом не сгорит в пламени внедряющегося в него неземного Огня. Потому что нет ничего, перед чем бы я остановился, прикажи мне Он, мой Владыка. Сама мысль о недавних сомнениях сейчас забавляла меня: коль скоро Владыка так наметил, значит, победа неизбежна.
Атланты, истинные атланты, они всегда знают, чего хотят. Не то что мы, человеки…
Мудрейший лукумон Иббит верно угадал все, кроме одного: царь Родам ничего не знал о своем рабе и согласился на то, чтобы взять его с собой единственно из-за уговоров Герму. Впрочем, тогда, занятый полностью подготовкой к высочайшей цели, достижение которой ему предстояло, он и не вникал особенно в то, о чем говорил с ним брат: уже тогда он был внутренне почти совершенно отрешен от земных дел. Его доверие к Гермесу было настолько полным, что и без объяснений он исполнил бы любую его просьбу, поэтому он и не стал задерживаться мыслью на том, что, помимо абсолютной ненужности этого сопровождающего, само приближение к горе Мери может тому навредить. Не было времени на то, чтобы вдаваться в подробности, и он согласился, резонно полагая, что Гермес все предусмотрел и учел.
Так оно и было.
И вот Гермес, сияющий и неизменно веселый, появился, будто возник из воздуха, в своем мобиле прямо перед знаменитым дубом. Лужайка, ярко-зеленая, словно раскрашенная свежей краской, была безлюдна, но он все же укрыл мобиль невидимым куполом: к чему смущать селян, которые могут здесь появиться в любой момент.
Он обошел дуб, под которым лукумон имел обыкновение размышлять о материях как высоких, так и низких, в попытке найти их равновесие, но никого не увидел: ни лукумона, ни даже его огромного, и, как поговаривали, ученейшего кота. Между тем было раннее утро, обычное для всех человеков время обращения к Богу, и было странно, что именно лукумона нет на его излюбленном для молений месте.
Но кому-кому, только не Гермесу было удивляться чему-либо. Настроив себя на излучения лукумона, он был несколько огорчен, найдя того в постели, окруженного многочисленными родными, которые проливали искренние слезы. Однако, бегло осмотрев больного, Гермес не стал больше беспокоиться: это был всего лишь перерасход сил, и слава Единому, перерасход не слишком большой.
Для того, чтобы восстановить обычную гармонию в организме этого превосходного во всех отношениях человека, Гермес не стал дожидаться прибытия Эсмона, которого ожидал сюда с минуты на минуту. Он просто сделал все, что нужно, сам.
Теперь лукумон полежит еще часок в постели, а потом вдруг поймет, что совершенно здоров, и первым делом, конечно, отправится к своему подопечному.
Это означало, что у них с Эсмоном в распоряжении не больше часа. И Гермес порадовался тому, как все удачно складывается: не нужно будет обижать лукумона, отсылая его прочь, чтобы побыть с этим «рабом» наедине.
Внезапно рядом возник Эсмон, выступивший из непроницаемой оболочки, где остался его летательный аппарат. Невозмутимый и приветливый, Гермес повел его в усадьбу лукумона.
Снова пришлось прикрыться, теперь уже самим, потому что здесь кругом были селяне, домочадцы лукумона и почитатели, которых привела сюда весть о недомогании наставника. Было совсем необязательно волновать больного известием о своем появлении здесь, да и вообще так было спокойнее.
«Раба» они нашли сидящим на пороге маленького, в две комнаты, домика, побеленного мелом. Мела на Посейдонисе было много: вот причина, по которой все селенские строения, будь то дома, стены загонов для скота или так излюбленные здесь башни, – все, что можно, белилось и освежалось регулярно, к храмовым праздникам. Белизна простых, но геометрически правильных и соразмерных построек на фоне густой и обильной зелени садов, полей и лесов служила долине Э-неа лучшим украшением.
Этот дом был круглый, с круглой же крышей из блестящей желтой соломы, увенчанной металлическим флюгером в виде петуха, машущего крыльями; судя по проволоке, аккуратно спускавшейся до самой земли, он служил также и громоотводом.
В каждой усадьбе, помимо основного дома, иногда в несколько этажей – смотря по величине семьи, – бывало также по нескольку таких домиков. Это были своеобразные больницы, без лекарств и врачей, с предельно простой методикой лечения: уединение было той исцеляющей силой, которая творила чудеса, восстанавливая целостность излучений человеческого организма, нарушенную многолюдным укладом жизни. Время от времени кто-нибудь из семьи брал с собой необходимое: постель и какую-то еду – и уходил в конец сада. Никто его не беспокоил ненужной заботой: это строго запрещалось правилами. Но, если через три-четыре дня он не возвращался, ставили в известность лукумона. Тогда уже он наводил порядок, коль природа сама не справилась…
По всему было видно, что рабу здесь нравится. Он хорошо устроился на деревянной ступеньке перед дверью, гостеприимно распахнутой и словно приглашавшей в прохладную сень передней комнаты с гладко обструганным столом, лавкой и табуретами. Устроился так хорошо, что видно было, как не хочется ему подниматься и встречать неожиданных, он бы сказал, непрошеных гостей.
Однако он поднялся и начал шарить по карманам коротких, едва прикрывавших колени, штанов, ища свой колпак, непременный атрибут раба: ведь пришли хозяева. Он залез рукой даже за пазуху свободной белой рубахи, пока наконец не нашел его на ступеньке, – оказалось, он на нем сидел.
Он поклонился, неловко напяливая злополучный колпак на голову, ибо знал, что не должен снимать его ни при каких условиях, кроме как на ночь. Но Гермес остановил его:
– Оставь это. Где бы нам поговорить, если ты не возражаешь?
Раб не удивился такому повороту событий. Он с достоинством пригладил свои, начавшие уже отрастать, светлые с кудрецой волосы, внимательно поглядел поочередно на высоких, в прямом и переносном смысле слова, посетителей и посторонился, делая приглашающий жест рукой.
Но Гермес усмехнулся:
– Уж не хочешь ли ты сказать, что мы втроем сможем уместиться в этом петушином домике? – он кивнул головой на крышу. – Нет уж, лучше посидим на приволье!
И он, пользуясь тем, что вход был открыт, слегка наклонился и достал через дверь табуреты. Раб не успел и глазом моргнуть, а его уже приглашали на лужайку перед фонтаном…
Он сел, но был явно смущен, как себя вести с этими странными гостями? Он не знал.
Между тем, Гермес начал с восхваления лукумона Иббита. Он обращался к Эсмону, никогда здесь не бывавшему, и посматривал на раба, как бы приглашая того принять участие в разговоре. Раб молчал, но Гермеса это не останавливало.
– Не могу обидеть никого из наших лукумонов, – балагурил он, – но именно лукумон Иббит наиболее близок мне по духу. Уж в ком можно быть уверенным до конца, так это именно в нем. Что ж, душевная чистота, она одновременно проясняет и разум. Наш хозяин – живое подтверждение того, насколько может даже в это трудное время человек приблизиться к жизни одновременно в двух мирах: земном, в котором он рожден, и небесном, о котором другие его сородичи могут только догадываться.
Быстрый взгляд в сторону раба и вдруг непосредственное обращение прямо к нему:
– Как тебя зовут, друг мой?
– Но… У раба нет имени, хозяин.
– Ты знаешь, у нас тут нет рабов. Просто те, кто начали к нам приезжать, должны как бы показать себя с разных сторон, прежде чем смогут назваться полноправными жителями Посейдониса. Так как же тебя зовут все же?
– Здесь – зовут бараном.
– Ну, это не только тебя, а всех приезжих. Ну ладно, не желаешь – не отвечай. Однако надо же нам как-то обращаться к тебе, а?
– Назовите сами, как хотите…
– Решено. Будем звать тебя… Ты откуда прибыл, из Ливии?
Раб неопределенно качнул головой.
– Значит, назовем по-ливийски: Абд-Мельк-карт. Не возражаешь?
И прямо взглянул ему в глаза.
– Что же ты отворачиваешься? Не согласен с новым именем? Или с тем, что тебя назвали «Абд», то есть «раб»? Но ведь не простой раб, а раб самого Мелькарта, «царя страны»!
– Подожди, Герму, – вступил в разговор Эсмон, – не настаивай. Ты видишь, нашему другу неприятен твой напор. Давай лучше посмотрим, чем сможем ему помочь, ведь он еще не оправился от болезни. Скажи мне, не кружится ли у тебя голова?
– Нет, господин, не кружится и не болит, благодарю Громовержца, – отвечал раб, с готовностью поддерживая новое направление в разговоре. – Лукумон Иббит, да пошлет ему благоденствие его Бог, и в самом деле великий лекарь.
– А это что у тебя? – и Эсмон, не дотрагиваясь до тела раба, указал на какие-то красноватые линии на его груди, чуть выше сердца. – Это было всегда?
Заглянув туда, куда указывал Эсмон – в глубокий вырез рубахи, – раб онемел от удивления. Осторожно потрогав пальцем какое-то довольно крупное изображение, словно отштампованное неведомой печатью на его теле, он затем намочил этот же палец в воде бассейна, возле которого сидел, и попытался оттереть его. Однако ничего не получалось: кожа вокруг порозовела, тогда как знак – а теперь уже было ясно, что это именно знак – не стирался. Раб прекратил свои попытки и взглянул на Эсмона. В глазах его не было страха, – одно лишь недоумение.
– Что это, господин? – тихо спросил он.
– Не спеши. Скажи сначала, когда «это» появилось на твоей груди?
– Я увидел его после тебя, господин.
– Ты не догадываешься, что бы это могло быть?
– Нет… – раб отвел глаза в сторону, – не смею, – поправил он сам себя.
– Твоя мать говорила ли тебе когда-нибудь о твоем происхождении?
– Ей не нужно было говорить со мной об этом, я и так знал. Как и все вокруг меня, а потом и весь…
– «Весь мир», ты хочешь сказать?
– Да, потому что мне пришлось покинуть родные места и пойти странствовать.
– И где же ты побывал?
Раб усмехнулся:
– Легче сказать, где меня еще не было. Короче говоря, обошел весь обитаемый и необитаемый мир.
– Конечно, в юности так тянет в новые места…
– В юности… Но я далеко уже не юноша, добрый господин!
– Сколько же тебе лет, если выглядишь ты так молодо?
– Не знаю, господин. Ты спрашиваешь, я не могу не отвечать, ибо ты знаешь: сейчас я – дворцовый раб. Но ты наступаешь, сам того не желая, мне на больное место: я в самом деле не знаю, сколько времени я живу на земле. Иногда мне кажется, что я жил всегда…
– Считаешь ли ты себя богом, раз так говоришь?
– Нет, нет! Да простит меня Громовержец, если можно было так подумать после моих слов. Просто… все вокруг меня исчезают: родные, близкие, друзья и враги, – а я все живу.
– Но, наверное, уж есть великая цель в твоей жизни, раз она так необыкновенна!
– Цель?.. Не знаю. Не думал никогда.
– Но так не бывает!
Раб задумался. Наконец, с видимым усилием, он произнес:
– Хожу. Исправляю то, что неладно. Везде, во всех концах Земли они такие слабые и беззащитные, те, кого вы зовете человеками…
– Ничего себе – слабые, – заметил как бы вскользь Гермес, – только и делают, что убивают друг друга!
– Это тоже от слабости, – убежденно ответил ему раб. – И хитрят от слабости, и обманывают, и предают, потому что слабы!
– А ты?
– Что – «я»?
– Ты не обманывал никогда, не убивал, не крал, не…
– Поначалу бывало всякое. Пока я не осознал, что сильнее всех. Зачем обманывать, если иметь силу сказать правду – это красивее? Но предавать – этого на мне нет. За это – караю.
– И при всем том, что ты рассказал о себе, ты не знаешь, кто ты родом?
– Почему не знаю? Знаю. Но что оно значит, мое происхождение из царской семьи, со стороны матери, если я всю жизнь в рабстве, можно сказать, у собственных родственников! Пойди туда, принеси то, – передразнил он кого-то, видно, сильно ему надоевшего. – И не откажись! Боги, говорят, так велели еще при моем рождении, чтоб я вечно кому-то повиновался! А у самого – ни кола, ни двора…
– Что, и семьи своей нет?
– Были семьи… Несколько раз даже. Но, говорю же вам, непригодный я для обычной человеческой жизни!
Уткнувшись лицом в колени и закрывшись руками, он вдруг глухо зарыдал. Это было тяжкое зрелище. Гермес, встав с места, отошел к густому орешнику и начал усердно разглядывать его ветви, усыпанные мелкими светло-коричневыми плодами.
Наконец раб взял себя в руки, или нечто иное ему помогло – Эсмон все это время сидел напротив, не отрывая глаз от него, – рыдания его стихли. Все еще всхлипывая, как ребенок, он умылся в бассейне, затем попил воды из фонтана. Отвернувшись, он утерся полой льняной рубахи, постоял некоторое время, опустив голову, затем обернулся к своим странным гостям. Садиться он больше не стал, дал понять, что знает свое место, и, заведя руки за спину, по обычаю домашних рабов, ожидал, что ему теперь скажут.
Гермес подошел к его табурету с полными пригоршнями сорванных молодых орехов и беспечно сказал:
– Не будешь садиться?.. Тогда я высыплю орехи на твой стул, не возражаешь? Угощайтесь, вы оба. Лучше орехов – ничего нет, это уж я точно знаю!
И он, чуть ли не силой, заставил раба приняться за угощение: нельзя же было отказаться, если для тебя щелкает орехи, правда, молодые и мягкие, один из великих атлантов!
Эсмон, понаблюдав за этой картиной, с легкостью поддержал игру. Вытаскивая из скорлупы круглое ядрышко, он ответил Гермесу:
– А мне больше нравятся другие орехи.
– Уж не дикие ли? – ужаснулся Гермес.
– Нет. Их зовут греческими, потому что жрецы во всех странах Востока выращивают их только в ограде храмов.
– А! – только и произнес Гермес. – Поговорим о тех орехах в другой раз, если ты не против, хотя я и сам до них большой охотник.
– Так почему же ты взял своим деревом этот, мелкий орешник, а не тот, в котором ядро напоминает…
– Говорю же тебе, в другой раз, – сделал страшные глаза Гермес. —
У нас, дорогие вы мои, мало времени. Я полагаю, что скоро к нам присоединится некто… – он значительно поднял палец. – И потому, – хватит нам ходить вокруг да около.
Он повернулся к рабу и посмотрел на него серьезным и теплым взглядом.
– Мельккарт, – сказал он ему, – приготовься выслушать главную тайну, знание которой изменит всю твою жизнь. Ты – сын моего отца, великого царя Сварга. Ты мой брат, брат царя Родама и всех остальных царских детей.
Мельккарт оставался недвижим, и только его карие, с золотистым отливом, глаза открылись широко-широко. Он молчал долго, и Гермес продолжил:
– Эсмон – сын Аполлона, или Алплу. Твой племянник. Остальных родственников не буду перечислять, – не время. Было веление свыше, и я устроил так, что ты побывал на горе Мери. Поверь мне, что твои страдания после этого посещения – необходимая часть очистительной процедуры. Действительно, некоторые, и очень значительные, силы не желали, чтобы ты занял на земле достойное твоего рождения место. И энергия того заклятия была так велика, что ее не могли бы рассеять ничто, кроме времени. Теперь же срок исполнился. И стало возможным приобщить тебя к истине.
Он подошел ближе к вновь обретенному брату.
– Больше всего мне бы хотелось забрать тебя с собой сейчас, – тихо проговорил он, и Мельккарт ощутил, как вполне реальные волны любви и нежности, идущие от Гермеса, вызывают в нем ответное чувство. – Но ты должен прийти в полную силу, прежде чем ступить в мир в новом качестве…
– О господин… О брат мой, я достаточно силен, поверь мне и испытай меня, если хочешь! Скажи мне только, где опасность, и я сумею ее побороть, какой бы она ни была!
– Ты меня не понял. Дело в силе не только физической. Скоро к тебе придет другая сила, сила сознания. И ты поймешь, что она не только не слабее твоих железных мускулов, но даже мощнее.
Видя, что Мельккарт его не понимает, он улыбнулся:
– Не смотри на меня так иронически. Скоро ты и сам во всем убедишься, уверяю тебя. Главное – удалось снять с тебя эту ужасную коросту, которая покрывала твое сознание, не давая ему воспарить к свету. Оставайся здесь и размышляй. Ты увидишь, как легко достигнут твоего понимания все ранее не понятные вещи. Перед лукумоном до конца не раскрывайся, если сможешь…
– Это испытание?.. Конечно, смогу!
– Все мы на испытании, – туманно заметил Гермес. – Так ответь мне теперь, как тебя зовут от рождения?
– Херкле, так назвала меня мать, – повторил Мельккарт слова, сказанные им лукумону.
– Да, Херкле. Геракл, – так велел твоей матери назвать тебя наш отец, великий царь. Отныне ты оставишь прежнее имя, под которым тебя знает весь мир – Мельккарт, царь страны, хотя и оно достойно полубога. Оно тем ценнее в моих глазах, что заслужил ты его в народе сам, своей справедливостью и готовностью к защите слабых. Будучи закрытым от знания истины, ты, тем не менее, прошел труднейшие ступени сам. Конечно, высшая помощь тебе – она шла, и ты поймешь это позже. Но и оступался ты много. А? Или я не прав?
Геракл настороженно досмотрел на него:
– Что же теперь делать?
– У нас тут расены говорят: «Кто старое помянет, тому глаз вон», – пошутил Гермес. – Не хочу лишиться глаза…
Он удивленно поморгал: Геракл истово поплевал через плечо.
– Ты что это? – воскликнул Учитель богов и человеков. – Ты это оставь, слышишь?
– Неровен час, – смущенно пробормотал Геракл. – Ладно, буду переучиваться!
– Вот и хорошо. Но где же Эсмон?
Эсмон шел навстречу лукумону Иббиту, чтобы представиться ему. Вместе они приблизились к Гермесу и Гераклу, и лукумон, чуть ли не вприпрыжку поспевавший за изо всех сил медлившим гигантом Эсмоном, прокричал прерывистым голосом:
– Да благословит тебя Единый, великий Гермес! Да благословит Он всю твою семью и вновь обретенного тобою брата Херкле! И он, на виду изумленных атлантов, пал перед ними ниц.
Задумчивый и как бы приглушенный во всех своих ощущениях Картлоз стоял у низкой деревянной загородки, ожидая окончания формальностей, которые были для него внове. В прошлый его визит сюда все было проще: всех прибывших, без разбору, отпускали куда кому было нужно сразу по прибытии. Теперь же надо было назваться и объяснить цель приезда, после чего один из чиновников снабжал тебя небольшой блестящей карточкой, выпадавшей по окончании опроса из аппарата, стоявшего перед ним. Эта карточка являлась, как можно было понять, пропуском во внешнюю жизнь Атлантиса. Остальные – внутренние взаимосвязи – налаживались каждым уже самостоятельно.
Внезапно Картлоз понял, что напрасно дожидается перед конторкой, к которой и подошел-то потому, что здесь не было этой беспокойной толпы, так раздражавшей его. Чиновник, оставив свое место, стоял, вытянувшись в струнку перед атлантом в тунике, отделанной фиолетовым цветом (Картлоз уже понял, что полосы и другие линии на их одежде, так же как ее покрой, были знаком принадлежности к определенной группе), и выслушивал его замечания, которые тот произносил тихим голосом. В другое время Картлоз не потерпел бы никакой проволочки: как это так, его смеют задерживать! Но сейчас, в этом своем непонятном состоянии несвойственного ему спокойствия, он как-то странно не интересовался происходящим…
Он стоял бы так, вероятно, сколь угодно долго, если бы не приход капитана Дирея. Громогласно заявив о своем появлении, капитан быстро разрешил вопрос, потребовавший его присутствия, и собрался выходить из таможни, когда заметил своего незадачливого пассажира, отрешенно разглядывавшего стойку перед собой. Что-то толкнуло его подойти к Картлозу.
– И чего ты здесь дожидаешься? – в приветливости голоса капитана можно было не сомневаться.
Картлоз посмотрел на него, однако никак не проявил своего интереса.
– Идем, что ли? – не отступал капитан. – Чего застыл?
– Надо получить карту, – вяло ответил наконец Картлоз.
– Ну так получай! Чего же стоять даром? – Задержка.
И Картлоз указал подбородком на пустую конторку. Дирей все понял:
– Иди туда, в угол, там все сделают. Здесь пока нечего стоять.
– Почему?
– Видишь, этого бедолагу отстраняют от должности. Не справился.
– Не пойму…
– Ну, прорвало его. Нахватался тут с вами… приезжими. Вот и придется теперь поработать ручками.
– Говоришь загадками.
– Какие тут загадки! Просто у нас не положено выходить из себя, коли уж ты работаешь с человеками. А раз твоя нервная система дала сбой и пропускает эмоции, значит, ты должен лечиться. Трудом. Лучше всего – механическим, это здорово очищает, я тебе скажу!
– Так в чем же виноват этот бедняга?
– Ох, прямо беда с тобой! То думаешь только о себе, то пристал к человеку, проблема которого тебя не должна волновать. Ну, раскричался он тут. А у нас с этим строго.
– И что же теперь с ним будет?
– Я вот не пойму, что это с тобой случилось, дорогой ты мой. Ты ли это, мой бесценный пассажир, или кто другой нарядился в эту твою неподражаемую рубаху? Кстати, не собираешься ли ты в ней разгуливать по Атлантису? У нас ведь черного, знаешь, не носят, за исключением…
Картлоз внезапно побагровел. Его пышные усы, без которых огромный крючковатый нос казался бы не на своем месте, взвились чуть ли не к вискам, обнажая длинные белые зубы.
– Не тронь моей одежды! – зашипел он. – Если еще раз услышу, – убью, клянусь честью!
Капитан искренне рассмеялся:
– Наконец-то! Пришел в себя! А то я уж волноваться начал: как же ты можешь быть в таком безмятежном спокойствии? Оно ведь вовсе не для тебя! Но теперь я вижу: ты снова в форме. Ну-ну, желаю удачи!
И капитан приподнял ладонь, собираясь попрощаться с Картлозом. Однако в дверях он остановился.
– Чуть не забыл, – как ни в чем не бывало заметил он, – ты интересовался, что же будет с тем беднягой, который не умеет себя сдерживать? Все очень просто: один месяц поработает на серебряных рудниках, второй же, смотря по тому как пойдет его выздоровление, – уже на поверхности. Рытье канала, например, или строительство какое-нибудь. Не переживай! Это даже не наказание!
У нас все, вплоть до определенного уровня, выполняют такую же обязанность, – и ничего, живы. Правда, этому – он кивнул на уводимого чиновника – предстоит работа вне всякой очереди. Что же делать: сам виноват!
И глаза капитана непонятно блеснули.
Но Картлоз и в самом деле как будто проснулся. Он отдался было неуемной жажде мести, которая была для него, как и для его сородичей, законом жизни: неотомщенная обида ложилась позором на того, кто допускал это. И вот уже перед мысленным взором его рисовались, сменяя одна другую, самые изощренные картины того, что он устроит этому недотепе, который называет себя атлантом. Подумаешь, особенный какой! Да его, Картлоза, предки ни во что не ставили этих северян! Всем известно было, что они ничего в жизни не понимают. А как иначе можно назвать то, что они до сих пор носятся со своей глупой идеей возвышения человеков, этого тупого быдла, до уровня чуть ли не небожителей! Нет, не договориться Картлозу с ними! Они и сейчас, как и раньше, не в состоянии понять ценностей земной жизни. Ногами стоят на земле, а головой-то витают поистине в облаках! Как видно, ничему их не научила и Катастрофа. Мечтатели, одним словом!
Как ни странно, эта мысль успокоила Картлоза: тем легче будет обвести их всех вокруг пальца, подумалось ему. И вдруг снова начала ныть печень.
Он опомнился: на ум ему пришли все указания Эсмона. Неужели правда все то, о чем он говорил, и Картлоз сам же и творит свою болезнь? Но ведь такими же или подобными болями страдают все больше на его родине! Они там уже решили, что это следствия плохой воды или негодной земли. Что же, так они и будут без конца болеть? Ведь уже сейчас век самого выносливого из них не превышает полусотни лет, а если сопоставить этот возраст с тем, как много умирает детей, – это и совсем ничтожная цифра.
И Картлоз по-новому осознал всю меру своей ответственности перед пославшими его сюда. Он раздобудет их тайны у этих проклятых! Чего бы ему это ни стоило!..
Ему и в голову не приходило, что тайн, в его понимании этого слова, и не было. Не было ничего такого, что можно было бы узнать здесь, передать к исполнению там, у себя: для этого требовался всего лишь иной уровень сознания. Впрочем, будь он, этот уровень, у восточников на должной высоте, они не стали бы посылать лазутчика к атлантам, но обратились бы к ним с просьбой о помощи. Но – гордыня, гибельная гордыня! Скольких бед виновницей она являлась и еще явится на земле!
Сама мысль об обращении за помощью у восточников исключалась. Более того, те, у кого она и промелькнула бы, не имели права произнести ее вслух, ибо тотчас были бы заклеймены как предатели. Восточные атланты все еще ощущали себя властелинами мира. И тем безнадежнее было положение их народа, чем беспочвеннее оказывались притязания и амбиции их руководителей, которые унаследовали от своих предков единственно лишь память о собственном превосходстве над всеми остальными обитателями Земли. Память, не подкрепленную ни истинным знанием, ни материальными возможностями. Что и называется гордыней…
Получив пропуск и указания, как им пользоваться, Картлоз вышел из помещения таможни и, оглядевшись, направился к небольшой барке, красной с белым с позолотой парусом. Он помнил, что Ган, к которому сейчас необходимо было попасть как можно быстрее – боль в печени разыгрывалась, – жил где-то на берегу одного из круговых каналов города, так умно и рассчитано разделявших столицу атлантов на практически неприступные части. В прошлый свой приезд сюда, когда он был так ошеломлен всем увиденным, что, к своему стыду, не смог ничего толком понять, а тем более разъяснить у себя дома, он отметил главное: каждая из частей города неприступна, а особенно – Цитадель, Центральный Город, обиталище царей. Он не стал тогда говорить о несказуемой и непревзойденной красоте Атлантиса, чтобы не вызвать к себе подозрения: не обращен ли атлантами в свою веру? Однако эта красота запомнилась ему так сильно, нестираемо из памяти, что иногда, глядя на тщетные старания отечественных строителей найти какие-то особые составы растворов, способные более или менее прочно соединить шершавые и неприглядные камни, из которых они складывали жилища своих повелителей, он вспоминал изумительную кладку домов и дворцов на Посейдонисе, кладку, которая и не требовала никакого раствора: камни были настолько точно и ровно распилены неким образом (составлявшим, кстати, одну из тайн, которые Картлозу предстояло узнать), что прилегали друг к дружке как приклеенные. Правда, был тут еще один секрет. Каменные плиты были не просто прямоугольными, – они имели по сторонам какие-то выступы и углубления, и невозможно было представить себе, что они означают. То, во всяком случае, что Картлоз смог вообразить, было настолько сложным, что не имело и смысла рассказывать об этом у себя дома: это было не под силу никакому, даже самому умелому мастеровому-каменотесу…
Назвав хозяину барки имя Гана, он удобно расположился на корме, оборудованной для пассажиров: барка была наемной, как и другие, не только водные, но также наземные и воздушные виды транспорта, в изобилии поджидавшие всех желающих попасть в любой конец города или даже острова.
Было очень тепло. Хотя, может быть, так казалось Картлозу, который в своем черном шерстяном одеянии – рубахе и штанах, заправленных в мягкие черные же сапоги, – выделялся среди всех, кто его окружал. Он с облегчением подставил лицо встречному ветру, когда барка понеслась по каналу, ловко лавируя между многочисленными суденышками, которыми буквально кишела гавань Атлантиса.
Миновав массивные ворота, как бы закрывавшие вход в прямые и обводные каналы города, повернули налево: поместье Гана, где Картлоз рассчитывал застать если не его самого, то хотя бы кого-то из знакомых по прежнему посещению, находилось за внешней чертой города, в местности, называемой Новым Городом. Этот Новый Город вольно раскинулся, не имея никаких границ, и был по преимуществу застроен домами и поместьями знати. Впрочем, слово «знать» в этом случае обозначало нечто среднее между человеками, познавшими вкус приобщения к повседневной жизни атлантов, и самими атлантами, в той их части, которая по причинам, часто совершенно различным, не гнушалась общаться и даже сотрудничать с первыми. Это взаимовлияние и взаимопроникновение происходило так давно и незаметно, что не вызывало уже противодействия ни в ком. Даже царские братья, оплот, казалось бы, священных заветов о сохранении атлантами неземной внутренней чистоты, находили вполне современным такое общение. Полагая, что выполняют завещанную им миссию помощи человекам, они не замечали, как действует неумолимый закон сообщающихся сосудов. Всеобщий, какой-то туманный конгломерат приниженной, околоземной духовности брал верх над высшими устремлениями, для которых, как оказалось, требовалось слишком много времени и сил. Проще, конечно, было, сняв с себя всякую узду внутренних запретов и указаний, как нужно действовать в том или ином случае, окунуться в жизнь, которую вели человеки…
Но не об этом думал Картлоз хотя бы потому, что он ничего не знал о такой проблеме. Сейчас его не занимали даже красоты проносившихся мимо с непостижимой быстротой берегов, с их разнообразием и многолюдьем. Одна только мысль не давала ему покоя, – мысль об этой скорости. Что это?
Ответить на его вопросы мог только хозяин барки, Картлоз не мог назвать его даже рулевым, потому что и руля-то никакого не было видно. Этот малый, в яркосиней длинной блузе, подпоясанной белым кушаком, и в мягких ременных сандалиях, получив задание, даже не оборачивался в сторону своего пассажира. А тот, между тем, сгорал от любопытства. Если бы не страх оказаться сброшенным в бурлящую воду, своей темнотой напоминавшую Картлозу о бездонной глубине – да еще при том, что он не умел плавать, – ничто не помешало бы ему подняться со скамьи и подойти к этому тупице, который, кажется, вовсе забыл о нем. А вдруг бы он выпал на повороте? Кстати, поворот был такой плавный, а ведь этот мини-капитан даже не сбавил хода, когда приблизились к нему. И никто не попался навстречу, как будто все знали, что сейчас все идут только налево, а затем уже будут пропущены те, кому нужно поперек. Хотя, кто их знает, – эти атланты, похоже, и не на то способны…
И все же Картлоз превозмог себя. Он оторвался от своей, такой мягкой и удобной, скамьи и, цепко хватаясь за любой устойчивый выступ, стараясь держаться точно посередине барки, довольно скоро приблизился к хозяину суденышка. Тот стоял, полностью захваченный моментом, перед небольшим пультом, огражденным полукруглым прозрачным покрытием, – от встречного ветра, понял Картлоз – и лицо его, когда в него заглянул его пассажир, было радостным и даже вдохновенным.
Заметив Картлоза рядом с собой, он нисколько не удивился. Указав подбородком куда-то вперед, он прокричал ему:
– Хорошо?
И сверкнул белыми зубами.
Картлоз вновь поразился красоте здешних уроженцев. Он не сильно разбирался в генеалогии их, различая пока что атлантов и не атлантов примитивно: по росту. Однако, на его взгляд, все они, за самым малым исключением, были красавцами и красавицами. И дело было не только в правильности черт их лиц, – тут, кстати, сколько угодно попадалось и чрезмерно носатых, и курносых, и цвет их кожи разнился от бронзового до лилейно-белого, с румянцем, – нет, что-то другое оживляло их выражение и привлекало к ним взор. Определить это «что-то» было трудно: то ли это веселость, то ли жизнерадостность, бьющая через край, но никогда не выплескивающаяся наружу. Или это просто здоровье, имеющее источником избыток силы? И где же их старики, в конце концов?..
Вопросов было так много, что Картлоз растерялся. Однако он заставил себя вспомнить, для чего находится здесь, чуть ли не поминутно рискуя жизнью, и ответил капитану:
– Мне нравится!
Общий язык был найден, и можно было приступить к тому, что интересовало Картлоза. Он был неплохо подготовлен, не то что в первый свой приезд, когда, понадеявшись на родственность языков, оказался почти совсем немым и глухим здесь. Хорошо, что язык страны Сумер знали многие, на нем и он объяснился тогда… Да, расхождение языков вышло за пределы их понимания.
Капитан, чувствуя невысказанный интерес пассажира, оборотил на минуту свое улыбающееся лицо к нему:
– Скоро будем на месте, господин. Картлоз кивнул и улыбнулся в ответ:
– Мне будет жаль покинуть твое судно… Скажи, ты ведь не управляешь парусом, – да при нем и невозможна такая скорость. Как же мы движемся? – Картлозу стоило труда выказать свое невежество перед этим – кто бы он ни был, он продавал свой труд, – но желание выведать интересующие его вещи победило снобизм.
– Вы у нас впервые, господин? – и, не дожидаясь ответа, поспешил ответить, чтобы не показаться невежливым гостю. – Парус у меня так, для красоты. Нравится мне лодка с парусом. У нас все в семье ходили под парусом. Я же поставил аппаратуру…
И он указал на свой пульт.
Картлоз начал разглядывать панель, на которой мигали три разноцветные точки.
– И что?.. – пожал он плечами. – Что нас двигает? – Слышите гудение? Мне никак не удается довести мотор до полной бесшумности.
– Но где же он, этот… мотор?
Капитан небрежно качнул головой куда-то в сторону и назад:
– Там, под нами.
Картлоз понял одно: так просто, походя, он ничего не узнает, хотя бы потому, что сам в этом ничего не смыслит. Вот если бы ему показали, что это такое, этот «мотор», и разъяснили бы, каким образом он, находясь неизвестно где, двигает барку, да при том, что сообщаются с ним через какие-то светящиеся кнопки, вот тогда он понял бы это, без сомнения. Голова у него работает отлично, недаром именно его выбрали на такое ответственное дело, как поход за знаниями атлантов! Нужен только первоначальный толчок. С другой стороны – не к этому же низкородному простофиле обращаться за обучением!..
Тем временем юноша всецело, как казалось, занятый процессом движения, обратился к Картлозу.
– Простите, господин, – мягко сказал он, – могу ли я спросить вас кое о чем?
– Почему же нет? – удивился Картлоз, не привыкший к подобным церемониям. – Спрашивай!
– Мне показалось, господин, что вы страдаете. Если это так, то не могу ли я вам помочь?
Картлоз был ошеломлен. Что они тут, все провидцы, ясновидящие? У себя на родине он слыхал об одном-двух таких, которые сохранили в себе каким-то чудом эти способности, однако не придавал этим слухам никакого значения: мало ли рождается людей с разными отклонениями от нормы. Но теперь, едва они приблизились к Атлантиде, а ведь он еще не ступал ногой на ее землю, общение с атлантами поражало его тем, что выходило за рамки нормального, на его взгляд, поведения. Что же будет дальше?
Однако он был прав, этот молокосос; печень ныла, не переставая, и от возможной помощи отказываться было бы глупо. Тем более что у него уже был случай убедиться в действенности атлантского лечения. Хотя, с другой стороны, в тот раз это был Эсмон, почитаемый во всем восточном мире за бога, этот же…
– Что, у вас тут все лечат друг друга? – несмотря на все старания, ему не удалось скрыть своего пренебрежения.
Но юноша, казалось, ничего не заметил.
– Когда-то так и было, – ответил он чуть печально, – но теперь, к сожалению, это случается редко. Атланты все больше замыкаются в себе, а человеки так и не научились этому, мне кажется. А ведь в этой открытости – секрет всеобщего здоровья!
Разговор становился интересным, тем более, что коснулся секретов здоровья; Картлоз постарался потуже затянуть узелок связи с этим парнем, который начал казаться ему все симпатичнее. Открытость?.. – подумал он, – нет, простофильство! Он вспомнил своих мудрых наставников там, за океаном. Спроси их – говорили ему, – и они сами ответят и даже больше, чем ты ожидаешь. Они всегда были глупы и открывали душу первому встречному.
– Я что-то с трудом понимаю тебя, капитан, – сказал Картлоз, – впрочем, это, видно, не так просто. Да, действительно, я недавно почувствовал боль. Конечно, я хотел бы от нее избавиться, но почему ты спрашиваешь, а не лечишь меня тотчас же, как заметил болезнь?
– Это запрещено, – серьезно ответил юноша. – Твое тело заключено в невидимую оболочку, которая священна. И если я проникну в нее своей мыслью без твоего согласия, я уподоблюсь самому страшному твоему врагу и могу получить за это ответный удар.
– Но ведь ты лечишь, значит, ответный удар должен быть таким же, исцеляющим, если я что-то понимаю…
– Ответный удар идет как бы сам собой, – живо возразил ему юноша, – и благим может быть только в том случае, если моя мысль просто достигнет твоей ауры и отразится от нее, тогда она придет ко мне обратно удесятеренной. Если я подумал о тебе хорошо, – мне это самое «хорошо» вернется, отскочив от твоей заградительной сети. Но если это что-то худое… Так что невыгодно желать кому-то зла, – сам же и получишь, не дай Единый…
Он посмотрел на Картлоза:
– Ну как ты, лучше?
– Чудеса, да и только, – усмехнулся тот, начиная уже привыкать к быстрым исцелениям, – у вас тут не успеешь соскучиться. А меня вот недавно стращали, что я здесь буду без конца болеть. Какие там болезни, когда рядом сплошь целители! А?..
И он с простецкой фамильярностью, обычно так несвойственной ему, обнял юношу за плечи. Тот отстранился.
– Да-да-да, я и забыл, что вас тут нельзя трогать. Вот только не пойму, как же вы женитесь? Или тоже на расстоянии?
Довольный своей шуткой, Картлоз расхохотался.
– Женитьба – это другое. Не здесь рассказывать, – сухо ответил капитан и добавил:
– Подъезжаем, господин. Не забудь поблагодарить меня…
Чего-чего, а благодарить Картлоз умел. Расстегнув свой кожаный кошель, он, минуту поколебавшись, достал из него серебряное кольцо и положил его на пульт перед капитаном.
– Достаточно? – спросил он, сам довольный своей щедростью. – Если мало, ты скажи, ведь я у вас новичок…
Капитан, мельком взглянув на кольцо, помолчал, занятый тем, чтобы как можно точнее пристать к небольшому причалу, сложенному из красных камней. Остановив мотор и удерживая лодку на месте простым прикосновением руки к причальному крюку, он ответил своему необычному пассажиру, и ответ его прозвучал отнюдь не так, как того ожидал Картлоз.
– Слушай, что я тебе скажу, приезжий. Позволь договорить об ответном ударе, чтобы ты у нас не подвергал себя, не дай Единый, опасности каждую минуту, при твоем незнании основного. Почему я каждый раз у тебя спрашиваю позволения, интересуешься ты? Да потому, что для того, чтобы исцелить или же, наоборот, уязвить кого-нибудь, нужно проникнуть вовнутрь, понимаешь, вовнутрь его ауры. И разрешение дает эту возможность, пропускает мою энергию в твое нутро. Если же разрешения нет, и кто-то захочет проделать это силой, – удар неминуем. Теперь понял?
– Боюсь, что я неспособный ученик, – удрученно закивал головой Картлоз, – вот если бы нашелся учитель, который бы все мне разъяснил более подробно…
– Дальше, – юноша приподнял руку, останавливая словоизвержение Картлоза, – когда я говорил о благодарности, я не имел в виду что-то вещественное, – это кольцо или нечто другое. Есть правило: за все, что тебе дали, надо благодарить. За труд – трудом или результатом труда, за божественную услугу – приношением доброго слова или мысли, которые направлены, – он приподнял глаза к небу и проделал какое-то сложное движение губами наверх. – Тебя исцелили, а ты это принял как должное. В другой раз это уже будет сложнее сделать, имей в виду…
Машинально повинуясь жесту капитана, неожиданно повелительному для его, казалось, бесконечно мягкой натуры, Картлоз перешел из барки на пристань, все еще не разумея, что же произошло, и в чем он ошибся. Он порывался что-то сказать вслед сорвавшейся с места барке, но так и стоял, не понимая сам, что за слова рвутся из его сознания, не в силах прободать какую-то непреодолимую стену.
* * *
Неизвестно, как долго продолжался бы его бессловесный и односторонний диалог с умчавшимся владельцем красивой барки, если бы к пристани не подбежали, низко кланяясь, двое прислужников и наперебой залопотали, прикладывая руки к сердцу и с деланной умильностью заглядывая гостю в глаза.
Это было совсем другое дело! Картлоз словно попал в родную сферу: здесь было все так, как и надлежит тому быть. Слуги здесь были слугами, а не мудрецами, как некоторые, а хозяева – так уж действительно хозяевами. Хорошо, что Ган не послал ему навстречу рабов, подумалось ему. Помнит, значит, что Картлоз брезгует общаться с рабами.
И он с удовольствием позволил слугам подхватить себя под мышки. Ему не приходилось даже перебирать ногами – двое дюжих амбалов на воздусях вознесли его по белокаменной лестнице к великолепному дворцу Гана. Там, на площадке, устланной шелковистым мрамором, между плитами которого цвели кусты роз и неправдоподобно ярко зеленела трава, его уже ожидал хозяин этой роскоши. Одетый в просторные белые одежды – излюбленный цвет высшего сословия, как успел заметить еще раньше Картлоз, – он производил внушительное впечатление и ростом своим, и осанкой. Но первый взгляд наиболее верный, а между тем, едва увидев Гана, Картлоз поразился перемене, произошедшей в нем за эти два года, пока они не виделись. Огромным усилием воли он едва сумел удержать на своем лице радостную улыбку, которой еще издали собрался приветствовать своего друга. И долго еще, на протяжении всего времени, пока тот был с ним, провожая в отведенные ему апартаменты, показывая всякие хитрые приспособления для удобства тела, отдавая распоряжения слугам, причисленным отныне к его штату, неестественное оживление заставляло дергаться Картлоза, удивляя и пугая его самого.
Откуда было ему знать причину столь странного своего поведения, если он до сих пор ничего не понял из того, что втолковывалось ему здесь уже не раз. Взаимопроникновение аур, в которое он не то чтобы не верил, но оставлял под вопросом, как нечто нереальное, играло тут главенствующую роль. С облегчением осознав себя в своей тарелке, Картлоз этим признал своими и все заботы Гана и его дома. Но недаром юноша-капитан предостерегал его. Заботы эти были нешуточными, с какой стороны ни посмотри…
После купания в маленьком, на одного, бассейне Картлозу стало легче. Смуглоликая служанка, поливая его напоследок настоем неведомых трав, улыбнулась ему, пряча, однако, глаза, – и жизнь заиграла новыми красками. Он отогнал от себя мысль, что улыбка крутобедрой красавицы может всего лишь входить в ее служебные обязанности, и с готовностью поверил, позволил себе поверить, что симпатия ее искренна. Это нетрудно было сделать, поскольку девушка, прислуживая ему, льнула к его телу совершенно недвусмысленно.
Не привыкший, по правде говоря, к подобной свободе женского обращения, Картлоз тем более был захвачен новизной ощущений. Отдаваясь ее рукам, нежно и мягко скользившим по его коже, умащивая ее чем-то, что издавало умопомрачительное благоухание, он не в силах был уже ни о чем размышлять. Долгое и стоическое воздержание в течение всего путешествия также сказало свое слово, и он уже не только не сопротивлялся плотскому желанию, какой-то дикой багровой стеной затмившему его сознание, но и сам, с готовностью, окунулся в эти, все более и более нагнетавшиеся волны.
Сначала его еще беспокоила мысль о том, что негоже ему, гостю, платить такой монетой за гостеприимство своему хозяину. У него на родине насчет этого было строго: женщины охранялись пуще глаза, и охранялись более всего ими же самими. Но всякие запреты касались только ареала его племени. Все, что выходило за его пределы, уже не подвергалось никакой вроде бы защите свыше, защите богов его рода, и становилось разрешенным. Никто не думал о том, что и у тех, которые извне, тоже могут быть свои невидимые покровители, способные если не защитить, то, по крайней мере, отомстить за обиду, нанесенную их подопечному. Не думал просто потому, что был уверен: его боги, боги высочайшего на земле племени – сильнее всех остальных, и их могущество перекроет все грехи и ошибки, допущенные картилинами. Поэтому священным почиталось все, относящееся к собственному народу, и второсортным, не обязательным к соблюдению каких-то правил, касающееся других племен. Катастрофа? Наказание?.. Но так сложились обстоятельства. Что ж, бывают и поражения, кроме побед. Надо затаиться, собраться с силами – и тогда…
Мудрецы Картилии тщетно взывали к покаянию нации, к осмыслению происшедшего совсем с других позиций. Их не слушали.
Так и Картлоз отгонял от себя все сомнения, мелькавшие в его голове в то время, пока еще возможен был его отказ от этого сладостного наваждения. Та женщина, такая привлекательная своей доступностью, обладала какой-то особой силой, притягивавшей мужское естество как бы сама собой. И наипервейшим ее действием было накинуть душное темное покрывало на его сознание. Какие уж тут мысли, какое благоразумие, если это сделано, и место разума заступает триллионолетний инстинкт – вечный позыв к продолжению рода, безвинно предаваемый в жажде похоти своим же творением – человеком…
То, что случилось, когда они соединились, нельзя было назвать никаким именем: такого просто не могло быть! Он, повидавший уже довольно на своем веку и втайне почитавший наслаждение в жизни превыше всего, он не понимал, что с ним происходит. В него входила, прорывая его изнутри, сама бесконечность блаженства, которая все возрастала, возрастала… Поистине, не было предела ее росту, – а она, тем не менее, все ширилась и углублялась. И наконец, в тот миг, когда наслаждение готовилось перейти в страдание, в боль, в самоуничтожение – произошел взрыв. Извержение, выброс огромной энергии из каких-то неведомых тайников его существа, для чего-то запрятанных природой в самые сокровенные хранилища, сокрытые под семью печатями тела…
Давно ушла служанка, и мягкий туман теплого вечера спустился на землю, окутав темнотой дом торговца Гана, где, не тревожимый никем, лежал в купальне, отведенной ему, пришелец Картлоз. Пришелец, возвратившийся наконец на землю своей исконной отчизны и испытавший на себе, как привет издалека, влияние ее токов. Он пока не осознавал, что на самом деле значило это потрясение, которое ему довелось пережить, – это было все впереди. Однако необыкновенное чувство покоя, покоя вместе с силой, казалось, навсегда вошедшее в него, убеждало его в том, что никогда прежде, нигде и ни с кем он не испытал ничего подобного.
Он заблуждался в одном. Всю силу и глубину любви, которую может познать человек, лишь находясь на своем исконном, единственном месте на Земле, совокупляясь своими излучениями с ее эманациями, такими родственными, что не приходится и сопротивляться, – всю эту тайну он придал всего лишь смазливой служанке Гана, безотказно оказывавшей такие услуги всем гостям своего хозяина, его домочадцам, и ему самому, когда была в том нужда. Никто не видел в этом ничего особенного: лишь бы девушка сама возымела желание отдаться мужчине, ибо иначе лишался всякого смысла сам этот акт.
Куда ни кинь, а добровольное самопожертвование женщины, способной отдать себя повелителю – без него не обходится жизнь ни одного мужчины, сознает он это или нет. Чувство любви, зарождающееся в женском сердце, способно соединить его или с Небом, или же с Землей. Смотря по тому, к чему повернута его душа.
А женщина – она всегда готова следовать за н и м, если даже это противно ее естеству, направленности. И в каждом, кто овладевает ею, кто возымеет желание, почитаемое ею за веление свыше, готова видеть собственного владыку на всю жизнь. Лишь постепенно, когда уже поздно изменить что-то, когда уже слишком велик груз кармы, набранной ею от множества допускавшихся в сердце прохожих, признаваемых ею за единственного, начинает она понимать, что не все на земле соответствует тому божественному установлению, которое неугасимо теплится в ее душе.
Что ж, иногда она смиряется и становится поистине вместилищем греха, но чаще всего находит в себе самой силы восстановить свою нарушенную целостность, уйти в себя и мир собственных детей, благо они у нее будут. Потому что рождение ребенка – искупление женщиной ее вины перед создателем, вины невольной, но от этого не меньшей. Вины отдачи себя кому попало, прежде чем душа ее соединится со Всевышним.
Недаром атлантские царевны оставались девственницами и бывали избавлены от многих житейских ударов. Тогда как другие, впустившие в собственное священное чрево несвойственные ему энергии, терпели и будут еще терпеть нескончаемый круг обид и унижений, остановить который в состоянии лишь самые сильные из них. Сильные не ратной мышцей, не ударом наотмашь, но такой любовью, таким всепрощением, которые одни и могут погасить черный огонь, питающий «вечный двигатель» этого круга зла, оставив его без всяких средств к продолжению своего ужасного существования. Потому что питается зло не иначе как только злом.
Однако долог путь от первого проблеска до яркого света, который только и может настолько озарить сознание, что понятной станет цель появления на Земле женщины. Почитаемая не просто за равную, но высшую в областях небесных, она все нисходит и нисходит в миры дальние, в этот ад земной своей жизни, желая помочь своему богу – сыну или супругу – собрать воедино его распавшийся на куски отдельных наук разум, очистить благой мыслью тело его, враждующее с самим собой в частях своих. Чтобы смог над ними воцариться дух, защищенный броней тела и действующий посредством разума, слитого с сознанием.
Исполнится ли эта часть Высшего Плана, отведенного человечеству? Устоит ли женщина, не дрогнет ли под неимоверным натиском страстей, сил стихийных?
Должна устоять. Ибо от нее зависит главное – рождение поистине нового человека, с появлением которого закончатся распри в стане человеческом. Ибо каждый тогда соединится сам в себе.
* * *
Благодатное селение Расен находилось в северовосточной части Посейдониса, почти на самом повороте Большого Канала, как раз в том месте, где равнина Э-неа плавно поднималась к горам. Холмистый подъем этот поначалу был малозаметен, особенно для уроженца Расена, привыкшего к подъемам и спадам своей местности: расенцы, казалось, и не смогли бы жить на более разглаженной от всяких складок земной поверхности. Однако же для пешехода, идущего на север, подъем становился ощутим задолго до того, как он входил в лесистую часть горного массива. А ведь это было пока еще предгорье.
Молодая женщина быстро шла по ровной, из крупных белых плит, дороге, которая уже начала делать извивы, чтобы не заставлять идущих по ней утомляться и сбивать дыхание чересчур резким преодолением тяжести на подъеме. Конечно, этот серпантин намного удлинял путь, и женщина как раз раздумывала: не пойти ли ей напрямик, наперерез дороге? Правда, в этом случае пришлось бы карабкаться по склону, поросшему редким кустарником. Но, с другой стороны, она взглянула выше: этот кустарник, весь утыканный шипами, твердыми и длинными, как железные гвозди, уже на следующем повороте спирали становился непроходимой стеной.
Это обстоятельство и само по себе могло бы решить вопрос об избрании пусть длинной, но зато удобной и безопасной дороги. Но молодая женщина, хоть и с запозданием, но вспомнила о том, как некрасиво она бы выглядела, взбираясь по осыпающимся мелким камням и цепляясь руками за ветки кустов…
Впрочем, она и раздумывала-то о выборе дороги не всерьез. Ей надо было отвлечься от размышлений, тщетность которых она, видно, уже поняла, иначе зачем бы ей идти туда, куда она сейчас шла?
Между тем дорога как бы приостановилась перед маленьким круглым храмом. Храм этот был окружен со всех сторон строем изящных колонн, украшенных изображениями цветочных гирлянд. Разлившись перед ним в небольшую площадку, с северной стороны огороженную стенкой все из того же белого известняка, она затем не изгибалась более вверх и направо, но продолжала свое движение. Теперь уже, прямая как стрела, дорога шла вдоль нескончаемой скалы, вершина которой являла с нею удивительный контраст: она вся была покрыта кудрявой порослью светло-зеленого леса, явно природного свойства.
Эта скала была остатком выработанного карьера, хотя никто не интересовался, что именно здесь добывали. Из соображений эстетики и пользы каменный обрыв приспособили для обучения будущих скульпторов и резчиков по камню; пологую же долину, начинавшуюся сразу под этим творческим полигоном, тщательно возделали селяне. Без надзора на Посейдонисе не оставалось ни пяди земли.
Путь, как было заметно, не был в тягость молодой женщине. Лишь ненадолго остановилась она у круглой лестницы в четыре ступени, обвивавшей святилище, чтобы тихо прочитать молитву, и ступила затем, еще более задумчивая, чем прежде, с большой дороги на узкую, но хорошо проторенную тропинку. Тропинка эта вела довольно круто вверх, между стволами крупных и высоких вязов.
Становилось прохладно. Но женщина, разгоряченная движением и, паче того, устремленностью своего порыва, который приближал ее к цели, готова была даже скинуть с себя пеструю, расписную шаль. Эта длинная шаль укутывала ее то ли от утреннего озноба, то ли от посторонних глаз, всю целиком – с головы, покрытой непременным для расенок платочком, до ног, обутых в изящные чувяки с загнутыми вверх носами.
Наконец она добралась до того места, где начиналась обжитая часть этой горной рощи. Тропинка здесь переходила в спокойную и уютную лестницу из теплого, серо-желтого оттенка, песчаника, по сторонам которой стояли большие вазы из того же камня. Гроздья темнокрасных и розовых роз, ниспадавшие из них в нарочитом беспорядке, говорили о том, что за ними ведется тщательный и любовный уход.
Впрочем, эта же мысль должна была посетить каждого, кто всходил по этой лестнице в довольно большую усадьбу, скорее замок. Высокая стена окружала его, начиная от ворот, в которые эта лестница упиралась.
Все здесь, и эта стена, которую, казалось, только что промыли с песочком, и сами ворота, чудо кузнечного искусства, поставленные вроде бы только для того, чтобы на них любовались, и неширокая аллея, усаженная шпалерами диковинных цветов, которая вела к белоснежному зданию, сверкающему радостной радугой узких и высоких окон, – все говорило о том, что это жилище холят и любят.
Сам замок был выстроен тремя уступами, один уже другого, по углам которых, по древнему обычаю, высились круглые башни. Но здесь они не производили впечатления чего-то неприступного или призванного к защите. Увенчанные высокими коническими крышами, они казались ни больше ни меньше как созданиями волшебства. Кто, кроме него, мог задумать подобное? Не говоря уже о том, чтобы вырезать из камня эти сплетения узоров, в которых основная нить, иногда сдваиваясь или даже утраиваясь, шла, не прерываясь, через все узлы и розетки, обрастая по пути все новыми и новыми деталями, вносящими в плавный, певучий ритм узора особую, завораживающую, даже против воли, гармонию.
Захваченная всей этой внезапно открывшейся ей красотой, молодая женщина стояла неподвижно перед воротами, позабыв прикоснуться к массивному кольцу, свисавшему из пасти льва, – это было нужно, чтобы дать знать о своем приходе. Однако створки чугунных, с виду таких тяжелых, ворот вдруг медленно и неслышно разошлись перед ней в стороны, утонув в прорезях стен. Кто-то невидимый приглашал ее войти.
И вот тут наша путница, с таким бесстрашием преодолевшая тяготы горной дороги, не побоявшаяся ни возможных встреч с дикими зверьми, ни всяких ужасов, о которых шла неясная молва в отношении этого замка, тут, когда пришло время ступить ногой в его пределы, она оробела. Тщетно пыталась она вызвать в памяти слова молитвы, обычно защищавшей ее: она их начисто забыла. В полубеспамятстве она повернула уже голову, как бы думая об отступлении, – как вдруг опомнилась. Простая и ясная мысль пришла ей в голову: а чего, собственно, ей бояться здесь, если она сама пришла сюда? И, в конце концов, нужна ей помощь или нет?..
Эта мысль очень помогла ей. Беспокойство ее улеглось, она даже усмехнулась, увидев вдруг себя как бы со стороны: запыленная и взлохмаченная под своей шалью селенская молодуха стоит в открытых воротах, как пень еловый. Она быстро сняла легкую и теплую накидку, стряхнула ее от пыли и повесила на какой-то крючок приворотной башни. Затем оправила светлые и пушистые завитки крупно вьющихся волос, выбившиеся из-под беленой льняной косыночки, завязанной узлом под подбородком, отряхнула свою длинную и широкую юбку и легонько потопала чувяками, сбивая и с них несуществующую пыль: дорога сюда была чистой, как у них, в Расене, площадь перед святилищем, а лесная тропа – сухой и хорошо укатанной. И все же, совершив этот немудреный ритуал, знакомый и обязательный каждой женщине – охорошившись, – она почувствовала себя куда уверенней, чем за минуту до этого. И вот, забыв про свою шаль, незнакомка, как бы показывая самой себе – отступления не может быть, – высоко подняла ногу в маленьком чувячке и решительно переступила невидимую черту, отделявшую ее от неизвестности.
Когда она скрылась в высоких и прозрачных дверях замка, из приворотной башни вышел служитель в рубахе до колен, подпоясанной воинским ремнем с многочисленными металлическими бляхами, и невозмутимо снял с «крючка» шаль, оставленную тут молодухой. Проверив, не сместилось ли устройство, позволяющее видеть во дворце все, что происходит у ворот, он не спеша возвратился к себе, включил аппарат, наглухо запирающий ворота, как те, которые «для красоты», так и вторые, высотой вровень с саму башню. Эти ворота, хоть и казались тонкими по сравнению с массивными стенами, окружающими замок, однако сделаны были из непробиваемого сплава металлов, сплава, который атлантами ценился выше золота, ибо производили они его за пределами Земли…
Поколебавшись, привратник отнес забытую шаль ко дворцу и аккуратно повесил ее на жардиньерку, украшавшую галерею нижнего этажа: кто знает, может, она еще пригодится этой молодой поселянке?..
Ягуна, владетельница этого очаровательного поместья, полулежала в это время на мягкой лежанке, удобно поддерживавшей ее плечи и голову, тогда как скрещенные ноги, покойно вытянутые, усиленно восстанавливали кровообращение: только что их хозяйке пришлось поработать – и поработать основательно. Энергии оказались тяжкими, к тому же и запутанными в труднопонимаемый клубок, но, тем не менее, она с ними справилась. Сын ее племянника (или праплемянника) будет доволен. Правда, сейчас он еще спал – она недавно вновь поглядывала на него, – но через несколько часов он и не вспомнит о былой напасти. Как не вспомнит и о своей спасительнице, – без горечи усмехнулась Ягуна, привыкшая к неблагодарности и скорой забывчивости своих бесчисленных пациентов, многие из которых, кстати, и не знали о ее помощи.
Да, атланты стали не те… Разве в дни ее молодости могло бы прийти кому-нибудь из них в голову не помня себя от страха за свою драгоценную жизнь обращаться за исцелением? Или, что куда хуже, – за приворотом, а то и за отвращением от чего-либо? Неважно, к кому ты обращаешься, важен тот факт, что не можешь справиться сам с собой. Неужели наступает время исполниться ее же пророчеству об истощении атлантского корня? Вроде бы рано…
И тут же она горестно покачала головой, поразмыслив и посчитав века: да, все сходилось. Время-то, раз его запустили, оно скачет быстро, что ему сделается. Нешто приостановить?
Она увлеченно начала было обдумывать эту мысль, поставив для верности на «нуль действия» выход своей силы: неровен час, пока перебираешь варианты, вдруг какой, наиболее приемлемый из них, возьмет да и начнет исполняться. Хлопот тогда не оберешься.
Ее размышления прервал тихий звонок: та молодуха, за которой наблюдали еще от придорожного святилища, была уже здесь, на пороге ее дворца. Ну что ж, пусть входит.
Ягуна имела обыкновение гостей своих – будь то атланты, или, как их теперь старательно отличали, человеки – при их появлении в ее замке предоставлять самим себе. Ей было интересно наблюдать, кто как поведет себя в чужом доме, наедине вроде бы с собой. Разного она навидалась за свою долгую-долгую жизнь, и в последнее время уже почти не делала различия, – так только, для внешнего ритуала, чтобы не обидеть особенно обидчивых, которых много появилось нынче, – между атлантами и «этими маленькими человечками», как она их называла. Временами ей казалось, что, более того, она симпатизирует последним. Впрочем, не всегда, не всегда…
А эта молодуха ничего себе, – думала Ягуна, разглядывая между тем гостью на экране, перед которым лежала. Статная, но не дородная, слава Единому. Впрочем, это просто потому, что она еще не рожала. А вот почему? И муженек у нее имеется, вот он, легок на помине. Э, дорога душа, где ж тебе удержать такую-то красу? Ты и плюгав, и вертляв, и глаз у тебя бегает. Не на месте, словом, человек. Да и то вопрос, – найдешь ли его, свое место, и когда? А молодуха твоя хороша…
Между тем гостья, постояв какое-то время на пороге дома и не видя никого, кто бы ее встретил, с места не сдвинулась, а проговорила голоском, слегка охрипшим от волнения:
– Есть кто-нибудь? Отзовись!
И прислушалась. Но никто не отвечал. Тогда она снова произнесла эти же слова уже погромче. Даже эхо молчало.
Для Ягуны это был самый интересный момент: что предпримет эта, с виду такая скованная женщина, почти девочка, когда осознает, что вокруг никого нет, и она вольна делать здесь все, что ей заблагорассудится. На этом и не такие проявляли себя с самой неожиданной стороны!
– Ну же! Действуй! – приказала ей Ягуна и вспомнила, что сила ее выключена. Однако она не стала подключаться к гостье, когда осознала это, но решила проверить мелькнувшее в ней подозрение: пусть будет свободна, пусть без всякого внушения с ее стороны походит здесь, в сказочном для нее месте, пусть рассмотрит и даже потрогает руками все украшения и сокровища ее дома. Посмотрим, так ли она устойчива, как это обещает ее аура? И вообще, возможно ли?.. Человек, – даже не человек, а женщина! – и вдруг такие возможности? Видно, и впрямь пришло время, и на смену атлантам идет другая раса, если подтвердится то, что ей привиделось. Но когда же ты ошибалась? – спросила она сама себя. Печально иногда убеждаться в собственной незыблемой правоте. И Ягуне искренне захотелось хоть раз ошибиться.
Молодая женщина не двигалась, стоя на пороге. Она примолкла и как бы ушла в себя. Слушает изнутри, – с одобрением признала Ягуна. Однако вскоре лицо ее чуть-чуть, совсем незаметно (только не для Ягуны) исказилось непонятным страданием, она повернулась точно в сторону хозяйки дворца, которую уж никак не могла видеть, и глядя ей, казалось, в самые глаза, прерывающимся голосом произнесла:
– Бабушка Ягушка! Если ты видишь меня, откликнись! Я пришла к тебе в беде моей. Может, ты сможешь помочь. Вот, пирожка принесла тебе, грибочков моченых. Не побрезгуй. Больше ничего не имею, чтобы отплатить тебе за совет. Вот только разве что сердечным словом…
Продолжать опыт дальше не имело смысла: Ягуна увидела все, что ей нужно было увидеть. Поистине, душа этой молодухи созрела, коль уж она поминает о сердце. Да и не только поминает, оно ведь у нее работает!
Молодая женщина вздрогнула, когда откуда-то, со всех сторон, как ей показалось, послышался тихий, но проникающий во все поры голос:
– Стой, где стоишь…
И внезапно все окружающее сдвинулось с места. Дада, все пошло-поехало куда-то назад, быстрее и быстрее. Она не сразу сообразила, что это она сама несется, не двигаясь даже, а мимо нее проносятся какие-то стены, неясные в очертаниях вещи и даже живые существа. Наконец эта гонка плавно завершилась, да так, что ей не пришлось и пошатнуться. Крепко прижимая к груди маленькую плетеную корзинку, где хранился ее гостинец, она стояла посреди огромного покоя, – такого она сроду не видывала! – а у дальней стены, на некотором расстоянии от нее, лежала не лежала, сидела не сидела на золотой кушетке женщина в каких-то многочисленных белых одеждах. Женщина эта была так молода и красива, что гостья ее зажмурилась от удовольствия и благоговения. Чувство это, вполне свежее и искреннее, доставило Ягуне, если не радость – что для нее, праматери атлантов, были какие-то чувства? – то, во всяком случае, удовлетворение: она не ошиблась, и сердечные излучения этой человеческой дочери не уступали силе атлантов. Однако было и еще что-то, неуловимое пока даже для Ягуны, и это «что-то» заставляло ее быть настороже. Она не знала, опасность это или нет, но от ее гостьи, тем не менее, исходил вполне конкретный, резкий и незнакомый ток. Ягуна, прищурив глаза, всмотрелась в то, что едва заметной дымкой маячило за спиной пришелицы, – ей не хотелось в такой момент глубоко уходить в потусторонний мир – и констатировала: эта девочка не так проста, как кажется, иначе ее бы не сопровождал некто из сословия ангелов. Ягуне, правда, ничего не стоит отвести его, если будет нужно, однако это ведь только начало! Что же будет дальше, и кто станет за ее плечами, начни она развиваться?..
Однако не препятствовать же! Это означило бы наихудший из всех грехов: препятствие законной эволюции Божьего дитяти – человека. В каком бы виде это ни выражалось. Впрочем, Ягуна никогда и не имела к этому пристрастия. Ее основным делом было подправлять некоторые неравновесия, которые случались на пути как человеков, так и атлантов. Ведь атланты – тоже дети Бога, только, может быть, чуть постарше и по возрасту и по развитию. И им так же, как и человекам, предстоит бесконечное развитие, но уже в другой сфере…
Нельзя сказать, чтобы Ягуна с восторгом приняла мысль о том, что ей придется взять на себя духовное воспитание этой женщины. Слишком хорошо ей было известно, что это может означать. Это был приказ свыше, хоть и не проявленный персонально. Тут не приходилось думать ни о собственных недомоганиях, которые попытаются перескочить на нее с кармы новой ученицы, ни об отемнении всякого рода жизненных обстоятельств – это не подлежало никакому обсуждению.
Атлант, если ты все еще не оставил свой пост, бери на свои плечи и эту тяготу мира человеческого. И чем больше вас, принявших свою долю груза, тем легче становится он для всех. Не делай скидок ни на личные болезни – у тебя их нет на Земле, ибо карма твоя – уже не от нее, – ни на отягощение семьей или обязательствами перед друзьями – твои долги выше. И горе тебе, если ты позабудешь в упоении земными радостями об уплате этих высших долгов.
Одна рука твоя, атлант, держит руку Бога, другая же – направлена вниз, к человечеству. Ты помогаешь Превышнему пестовать и формировать наивысшее сокровище Вселенной – сознание, только что поднявшееся от земли. Голова человеческая еще тяжела, как у всякого новорожденного младенца, она тянет его вспять, клонит к родимой матушке, вспоившей и вскормившей его. От тебя, атлант, зависит главное в судьбе этого младенца: поднимется ли эта его голова над землей, захочет ли он взглянуть в духовное небо или же останется навеки при своем взоре, опущенном лишь на то, что окружает его драгоценную личность.
В первом случае возрастет он от Земли, оставаясь окрепшим телом на ней же; и вырастишь ты, атлант, себе достойного помощника, который облегчит твой вечный на этой планете труд. Сознание, которое ты, с Высшей Помощью, откроешь к беспредельному развитию, хотя бы даже единственное за все время твоего пребывания в этом горьком мире, – это сознание явится твоим подарком Единому и твоим же искуплением. Той единственной платой, которая только и принимается светлым привратником у Тех, Высших, очередных Врат.
Что же сказать об участи, которую выбирают себе остальные? Долга их дорога, ибо бредут они окольным путем.
Мысли, озарявшие разум Ягуны наподобие этой, были мгновенны и не слишком часты. Зато, как молния, очищающая атмосферу, они оставляли после себя состояние особого просветления и наполненности свежими силами. Ни с чем, ни с какими условными ухищрениями не могло сравниться это чувство наполненности от Высшего Источника, Который только и распределяет эти дары по своей Воле. Если бы у Ягуны и оставались какие-то сомнения в отношении своих действий, касаемых молодой расенки, так неожиданно явившейся к ней, то один лишь этот, вроде бы беспричинный приток светлейшей энергии, должен был разрешить их все.
Но сомнений у Ягуны не было. Был лишь один вопрос: а согласится ли сама эта расенка? Ведь только начни она противиться – и сразу пропадут, как и не бывало их, все заботы о раскрытии ее возможностей. Однако ведь недаром же Ангел привел ее сюда! Не будет она противиться, – теперь Ягуна была уверена в этом.
На нее неизвестно откуда пахнуло ароматом свежих фиалок – привет от Ангела, поняла она и улыбнулась куда-то в сторону своей гостьи. Та приняла это на свой счет – и ответная, заставившая вспыхнуть ее и без того румяное лицо, благодарственная улыбка осветила и совершенно преобразила его.
– Подойди поближе, – проговорила Ягуна.
Гостья подошла, однако тут же упала на колени.
– Как тебя зовут? – спросила ее Ягуна, не обращая внимание на ее позу и давая время ей прийти в себя после массы новых впечатлений.
– Лела, моя добрая госпожа, – несмотря на волнение, голосок ее был ясен. – Не скажешь ли мне, как пройти к бабушке Ягуне?
– Для начала – запомни первое правило: не задавай вопросов, пока не получишь на то разрешения. Спрашивать и говорить здесь буду я, как старшая и как хозяйка. Ты согласна с этим?
– Да, добрая госпожа. Прости меня, неученую.
Ягуна смягчила свой назидательный тон:
– Договорились. Встань теперь с колен, – знаешь, я не люблю этого. Садись вот сюда, – она кивнула на деревянное креслице поблизости от своей лежанки, – и рассказывай, зачем пришла. А я пока полежу, ты не возражаешь? А то твоя «бабушка Ягушка» маленечко притомилась…
Женщина была поражена. Но это тоже входило в своеобразный приемный экзамен, который Ягуна все еще не завершила для собственного успокоения и для знакомства с образом мыслей своей будущей ученицы: как долго она будет поражаться и сможет ли вообще выйти из шока, в который неподготовленное сознание неминуемо впадает при стольких неожиданностях. Однако Ягуна не собиралась ее жалеть – пусть привыкает…
– Что молчишь? Или не веришь, что я и есть Ягуна? Может, позвать кого-нибудь, чтобы тебе подтвердили, кто я такая? Ну же, отвечай!
– Что вы, ба… добрая госпожа! Просто я думала, что…
– Что я – раз уж я «бабушка», – должна быть похожа на твою родную бабку? Да?
– Нет у меня бабки, – отвечала Лела, – и матушки нет. Нет и отца. Никого нет, – сирота я.
– Что ж, по тебе этого не скажешь: вон какая, слава Создателю. Что-то ты разжалобить меня хочешь. Но не удастся: и совсем ты не одна, муж-то у тебя есть все-таки!
– Ах, добрая госпожа! С этим-то я и пришла к тебе, если ты согласна выслушать меня. Муж-то у меня есть, но его как бы и нет вовсе… – и она замолчала, опустив глаза, которые начали было наливаться слезами.
– Э, голубушка, ты это оставь! Слезами еще никто делу не помог! И чтобы я впредь этого не видела, слышишь? Плачешь – значит жалеешь саму себя. А жалеть себя – это грех, знаешь ли ты?
Лела с готовностью закивала головой:
– Да, да, госпожа, хоть я и не слыхала о том, что плакать – это грех. Но ты говоришь – и я не буду больше плакать. Вот, если хочешь, никогда не замочу глаз. Я такая – как решу, так и сделаю, знаешь!
– Однако хвастать ты мастерица! – покачала головой Ягуна. – Так– таки и сделаешь? А если не выдержишь?
– Выдержу! Хочешь, побожусь?
Ягуна предостерегающе подняла ладонь:
– Не вздумай делать этого! Как насчет слез – не знаю, это твое дело, но божиться и клясться ты больше не должна никогда. Решила сама для себя – и довольно этого. Поняла?
– Нет, госпожа… Почему?
– Какая ты… Вас там, в Расене, что, лукумон ничему не учит?
Лела опустила глаза.
– Учит, учит, – торопливо заверила она Ягуну, – это я, видно такая непонятливая. А лукумон у нас хороший… заботливый.
Ягуна поняла все, что не стала говорить насчет их селенского лукумона эта женщина, которая нравилась ей все больше и больше. Вернее, не то что нравилась, как нравится новое платье или цветущий куст, испускающий благоухание: она чувствовала, что с этим юным созданием ей легко. Она говорила с ней, – и будто лесной ручей журчал, освежая и напитывая чистой влагой ее душу, порядком истомившуюся, надо сказать, общением с себе подобными. Малейшее облачко на этой ауре (как, например, некрасивая история с расенским лукумоном, которого надо привести в чувство) было настолько чужеродным всему ее излучению, светлому, с радужным, обычно у человеков не встречающимся, переливом, что вызывало ответное желание наискорейшим образом очистить это затемненное место. Его даже пятном нельзя было назвать, потому что пятно, как трудносмываемую кляксу, без разбору ляпает на чистейшее одеяние своей души сам человек, – здесь же было другое.
– Ну ладно, оставим пока лукумона. Так что же такое с твоим мужем, детка? – голос Ягуны теплел от минуты к минуте, хотела она этого или нет.
– Ты же знаешь наших, расенских… Летают они по белу свету неведомо зачем. Покоя им никак нету, так я понимаю. Возвращается какой из них – так ему должны радоваться все вокруг. А он в то время – вроде как царь, прости меня, Баал-Бог. Куролесит над всеми – и все должны ему подчиняться, а как же… И так без конца, госпожа добрая. Умучились наши женки, что старые, что молодые. Грешница я, что пришла к тебе вроде бы как с наветом, но не считаю я наветом, коли хочется мне помочь всем.
– Но и себе тоже, не правда ли?
– Это уж как получится, госпожа. Будет хорошо всем – и мне получшеет. А уж коли помочь тут нельзя – отвечать должна я одна, потому как придумала идти к тебе сама, сама и пришла. Подскажи, добрая госпожа, как быть? Всемогущий Баал-Бог тебя не оставит за это…
– Да… Хорошенькую награду ты мне сулишь, ничего не скажешь! И давно это у вас в Расене поклоняются Баал-Богу?
– Сколько себя помню, госпожа моя.
– А другие… Другие боги, что же они?
– Они все как были, так и есть. Но Баал-Бог – теперь он наиглавнейший над всеми.
– Вот как… Это что, лукумон ваш так сказал? Как его зовут, что-то я никак не вспомню…
– Алан. Аланом его кличут, матушка.
– Как Алан? Он же не расен! Или я ошибаюсь? Это не тот ли, из чиченов, который не пожелал переселиться со всем своим родом в Старые колонии?
– Да, такое говорят, госпожа, только я не знаю…
– Да не бойся ты! У меня можешь говорить смело, никто тебя не обидит.
Однако Лела опустила голову.
– У тебя-то, конечно, госпожа Ягуна. А вот как вернусь, а лукумон узнает…
– Как же он узнает, – не от меня ли?
– Он все знает, госпожа. Не ведаю, сумела ли я обвести его, но он почему-то не помешал мне дойти до тебя. Не иначе – она вдруг, поняв, прикрыла рот ладонью, – ах, это он тебя, госпожа добрая, испугался! Вот и не посмел меня задержать. А так, поверишь ли, стоит кому только от всех – хоть в поле, хоть в работном доме – отделиться, так он уже тут как тут, и глазами так и ест, так и поедает, прости, Боже! Он все знает, даже то, что не говоришь, а только подумать хочешь!
– На то он и лукумон. Иначе зачем же поставили его над вами? А ты сама, не хотела ли бы ты тоже вот так, – читать мысли? Как ваш лукумон…
– Зачем мне это, госпожа? Даже неловко как-то, люди меня сразу бы дичиться стали.
– Да нет, тебя бы никто не дичился, ты – другая. Ну так что же, никак не пойму я, что там с твоим мужем?
– С моим – ровно то же, госпожа моя, что и с другими мужьями в Расене. Вовсе отбился он и от дома, и от меня.
– За приворотом, небось, пришла? А?
– Упаси бог, – Лела даже приподнялась с места, так не пришлась ей по сердцу эта мысль. – Насильно-то мил не будешь.
– Тогда чего ты желаешь?
Лела снова присела на краешек кресла, все еще держа в руках забытую корзинку. Она вроде бы раздумывала, – а чего же она, в самом-то деле, хочет от этой, по всеобщей молве, всемогущей волшебницы?
– Не знаю, как и сказать, госпожа. Собиралась к тебе долго, шла быстро, а пришла – и просить вроде как не о чем… Получается, что все идет так, как мы сами того желаем?.. Выходит, что надо нам сперва в себе разобраться, так, что ли? А то, в самом деле, время у тебя отнимаю, госпожа моя добрая…
И она вновь поднялась с места, хотя видно было, как ей не хочется этого делать.
– Садись и слушай, раз пришла. И слушай внимательно – повторять не буду. Подумай – и отвечай: есть ли в твоем сердце такое чувство к какому-нибудь человеку, чтобы ты за него свою душу отдала?
– Это как же – душу?
– Ну, скажем, жизнь свою единственную…
– Это кто же может такого потребовать!..
– А вдруг!
– Не знаю, что и сказать, госпожа. Не обижайся на меня, неученая я, одним словом.
– Скажу по-другому: любишь ли кого больше самой жизни?
– Это мужика, что ли?
– Ну, хотя бы…
– Нет и нет, госпожа! Если ты спрашиваешь об этом – так нет же!
Век бы не ложилась я в эту постель постылую с ним!
– А с другим?..
– И того пуще. По мне бы – милее нет, как вековать в избушке лесной, на полянке, зверушек бы миловать да пташек. Грешно, небось, но иной раз, госпожа, и глядеть ни на кого не хочется, не то что… А это самое, про что ты спрашиваешь – так оно и есть главное зло, так я понимаю.
– Отчего же? Другие, смотришь, как пристрастились…
– Я за других не ответчик, госпожа. Что думаю, то и говорю. Не знаю, правильно ли…
– Каждый человек думает правильно – сам для себя. Однако неизвестно, совпадают ли его думы с намерениями Бога, – туманно проговорила Ягуна, – а надо бы, чтоб совпадали.
Она неторопливо опустила ноги, и Лела услужливо помогла ей обуться в мягкие на ощупь, а с виду похожие на резной прозрачный камень туфли без задников, стоявшие подле лежанки. Ягуна, вроде бы и не заметив этого, взяла у нее из рук корзинку и сказала:
– Ну что, попробуем твоих гостинцев? Пошли на балкон, а то я здесь пищу не держу!
И она, величественно покачиваясь, пошла к расступившейся двери, за которой оказался балкон, напоминающий по размерам, скорее, лужок овечек так на сорок. Покрытый поверх блестящего белого камня ковровыми дорожками (наша работа, расенская! – задохнулась от радости Лела), балкон этот был завешен сверху неведомо как державшейся в воздухе ярко-расписной тканью – от солнышка, что ли? – и, выдаваясь далеко вперед от самого здания, заканчивался красивым резным заборчиком из того же камня. Еще не видя в полном объеме того, что было пока скрыто за этим ограждением, Лела почувствовала вдруг какое-то непонятное волнение, – стеснение в груди, которое было неизведанно сладостным. Как бы защищаясь от чего-то, она сложила руки крестом как раз на средоточии этого чувства, усилившегося до степени почти физической боли. Что-то там, в ее груди, все расширялось, расширялось, как бы готовя ее к принятию чего-то огромного и, несомненно, прекрасного, пока она не остановилась у перил ограждения, восхищенная и потрясенная до самых глубин своего существа: ей открылось море.
Ягуна не мешала своей гостье. Она и сама с давно позабытой непосредственностью переживала это же чувство, без сомнения, бывшее лишь отражением священного восторга Лелы, и была ей благодарна за него. Никогда не мешает очистить душу осознанием беспредельной красоты, если ты еще способен на это…
Она взглянула на молодую женщину. Та, молитвенно сложив руки на груди, стояла неподвижно, и по лицу ее лились слезы. Да, дорого бы дала Ягуна за возможность пролить такую слезинку!.. При этой мысли она опомнилась. Протягивая вышитый платочек и улыбаясь, сказала:
– Подобные слезы – единственные, которые я могу тебе простить.
Более того, поощряю их, потому что они освобождают твою душу, очищают ее. Что ж, это хороший знак – великий Посейдон принял твою жертву…
Лела непонимающе взглянула на нее:
– Бог Посейдон?.. Где он, госпожа? И какую жертву я принесла ему?
– Посейдон, он перед тобой. Все то, что видом своим исторгло эти твои слезы, которые есть высшая благодать, – это Он. Посейдон, наш покровитель – это не только каждая волна в море, не только цвет бирюзы и хризолита в ее воде, или разливанное ее обилие – но все разом. Бог – это всегда единство в самом себе. И, чем шире, необъятнее тот круг, который вмещает в себя столько всего, сколько он может вместить, – тем выше и сам Бог.
Ягуна говорила тихо, как бы для себя. Облеченная в слова, ее мысль становилась яснее и понятнее ей самой, ведя цепочку ассоциаций все вверх и вглубь. Лела слушала не столько сами слова, которых она не понимала – не привыкла она к подобным речам, – сколько голос, тембр и необычные вибрации которого заставляли трепетать, в самом прямом смысле, каждую клеточку ее существа, отвечающего с готовностью на долгожданную весть. Конечно, она не могла бы ничего рассказать о своем состоянии, кроме того, что ей было хорошо, но это не меняло сути дела.
Мягкий и звенящий одновременно, всепроникающий голос Ягуны между тем продолжал свою песню:
– Ты видишь перед собою море. Из чего оно состоит? Если начать с маломалейшего – с атомов, которые составляют все то, что существует вокруг нас, – то и они не только неодинаковы, но и само различие их бесконечно. Что же сказать об их сочетаниях друг с другом, которое есть одновременно смысл и плод видимого состояния? Всякое сочетание – это есть Любовь. Любовь же, как достояние Единого и Наивысшего, посылается Им, и только Им – во все безбрежное мироздание: сочетайтесь и творите Моей силой, – говорит тот Бог, который надо всем, и щедрость Его не знает предела. Весь вопрос в том, чтобы принять в себя, в свое сознание этот творящий поток. Он, конечно, и без того льется через тебя, пронизывая насквозь все на своем пути – таково его изначальное, только Ему присущее свойство. Но, непризнанный, не осознанный, этот поток благотворящей силы проходит как бы даже мимо. Расцвет подлинный всякого создания начинается только тогда, когда появляется возможность принять эту, такую неуловимую и желанную для всех, силу. Возможность эта – появление разума. Однако, разум – это только самое начало. Для того чтобы вобрать в себя благодать, будущее ее вместилище должно стать таким же чистым, как все, что прилежит Высшему, иначе бесполезно все: молоко, налитое в неомытую чашку, неминуемо прокисает.
Посейдон – поистине великий Бог. Он соединил в себе самом все стихии, не делая различия внутри себя ни для одной из них. Хотя, по видимости, главной остается в нем стихия воды – море, как-никак! Но в этой воде вполне мирно уживаются и земля, и воздух, без которого не смогла бы осуществляться сама жизнь в толще этой воды, и вездесущий Огонь, видимое и невидимое проявление Бога. Огонь, создающий возможность не только жизни, но и жизни, сознающей себя. Посмотри, как он красив и величественен, наш Посейдон! Разве можно отделить море от берегов, окружающих его, или же неба, которое с ним нераздельно? Нет, так же точно, как нельзя свет Солнца отделить от Земли: даже ночью, невидимое, оно светит отраженным светом через Артемис, воспитательницу человеческих предков. И во всем этом – единственная сила, Которая движет жизнью, – Любовь, изливающаяся от Бога.
А ты говоришь – не знаю любви. Что ж, тебя упрекать нельзя.
Ибо ты не приемлешь любви в земном ее понимании, и не пришла еще к восприятию Любви Высшей. От тебя одной зависит, дитя мое, в какую сторону ты направишься. Ясно тебе должно быть одно: в сторону любви. Без нее теряется смысл всякого существования. Ты отвергаешь любовь плотскую, – это значит, что перед тобой могут открыться знания Высшей Любви. Но выбрать должна ты сама…
Она замолчала. Необходимо было время, хоть самое короткое, чтобы весть вошла в сознание Лелы, если Ягуна не ошиблась, и та действительно готова принять ее. Сомнений быть не могло, – никто из человеков еще не приходил сам, по своей воле сюда, попирая всякие искусственные запреты. Эта же – пришла. За знанием. Что ж, рискнем!
– Лела! – окликнула Ягуна молодую женщину, которая, казалось, позабыла обо всем вокруг. – Ты меня слышишь?
– Да, добрая госпожа, – даже не вздрогнув, та легко возвратилась в земное состояние: «хороший признак», подумала Ягуна. – Я готова тебя слушать без конца, моя госпожа, хоть всю мою жизнь, так это хорошо!
– Ну что ж, если таково твое желание, я могу его исполнить. Ты ведь определенно кое-что слыхала обо мне. Например, то, что я обладаю силой исполнять желания. Правда, я стараюсь не для всех. Ты потом поймешь, почему. Так что можешь остаться здесь, в моем дворце, со мной.
– Госпожа… Благодарю тебя за милость!
Лела опустилась на колени и обняла ноги своей будущей покровительницы. Однако та мягко отстранилась:
– Не надо… Постарайся не прикасаться ко мне, ладно? Хотя мне и очень приятно…
– Прости, матушка! – Лела живо поднялась с колен и, не зная как выразить свою благодарность, оглянулась вокруг. – Хочешь, я вымою здесь у тебя полы, вычищу все ковры? – сказала она. Видя, что Ягуна отрицательно покачивает головой, она смутилась. – Ты скажи сама, госпожа, что я должна буду делать, и я все исполню. Ты не смотри, что я сирота – я все умею по хозяйству.
– Не сомневаюсь, дитя мое. Но… этот дом не нуждается в уборке.
Видя, что Лела не может этого понять и старается изо всех сил представить, по ее мнению, невозможное, она добавила:
– Во всяком случае, уборка эта немного другая. Но оставим это. Если тебе будет необходимо занять свои руки, то работа всегда найдется. Я ведь, знаешь, щеголиха!
И вдруг Лела как-то погасла: слова Ягуны напомнили ей о ее профессии в Расене, о ее настоящем положении и о многом другом. Вернули ее к действительности…
– Ах, госпожа моя! Размечталась я, прости меня! – и она порывисто, чтобы не дать Ягуне увидеть выражения своего лица, подошла к самому перелету балкона. – Благодарю тебя, матушка, за доброту твою к сироте. Но не могу я остаться тут, с тобой. Ты ведь и сама знаешь…
– Знаю, потому и говорю тебе: если желаешь – оставайся. Главное здесь – именно твое бесповоротное желание. Отвечай мне сначала на это: желаешь или нет?..
– Больше всего на свете! – Лела обернулась лицом к Ягуне и впервые осмелилась на то, чтобы взглянуть ей в глаза. Сделать это было непросто хотя бы по той причине, что волшебница была росту немалого; главное же – взгляда ее не выдерживал обычно ни один человек, такой уж в нем был секрет. – Сама не знаю, отчего, но здесь, у тебя, матушка, я словно бы в родном доме. Понимаешь, не в том, где я родилась или куда меня привели после свадьбы, а в том… Я не знаю, как сказать…
– И так ясно. Теперь выслушай меня. Весь ваш род, – человеческий, – он как бы во младенчестве. И выпускать его из-под опеки до поры до времени нельзя. Попробовали уже… Беды не обрались. Потому и нужны эти селения, где вы учитесь всему полезному в жизни. Но некоторые из вас проходят другое обучение, невидимое и неслышное – тут уж все зависит, как и во всем остальном, впрочем, от воли Бога. Ему виднее, кого пришла пора переводить в класс выше. А то, как с тобой, и помочь шагнуть через несколько ступеней. Тогда этот человек как бы выходит из власти прежних законов, которым подчинялся до той поры, но тем самым вводит себя в круг новых обязательств. Подчиняться или нет этим законам и обязательствам – решать человек должен сам, таково божественное распоряжение от веку, но, чем выше он поднимается – и ты должна это знать, – тем обязательнее становится для него выполнение некоторых правил, которые одинаковы и для него и для мира богов.
– Неужели и боги несвободны? – прошептала Лела. – Ничего-то ты еще не знаешь. Но это дело поправимое! Затем и останешься здесь, чтобы выучить хотя бы самые начала, основы того, что есть Общая Жизнь. Что до свободы – запомни: свободны все. Вот только как сделать правильный выбор?.. Но вернемся к тебе, Лела. Ты думаешь, твой лукумон не заметил, как ты ушла из селения? Нет, неспроста он выпустил тебя: он понял, что не в его силах препятствовать тебе; он увидел, что за тобой – Некто, ведущий тебя и поставивший предел его власти над тобой. Да, он подчинился, хотя немало еще будет вредить, такая уж у него натура. Но ты не бойся. Сначала защитим, а после ты и сама обретешь силу, перед которой он увянет.
– А муж мой, госпожа? Ведь нас друг дружке судили…
– Он, твой так называемый муж, решил сам свою участь. Попало ему нежданно в руки такое сокровище, а он этого не оценил. Да и само замужество твое, дитя, незаконно по высшему понятию.
– Как же – перед всеми ведь!
– А! Оставь это для ваших расенских посиделок! Настоящий, законный брак, слыхала небось, совершается на Небесах. Почему это, не задумывалась? Да потому, что в этом случае соблюдены многие условия, необходимые для этой законности, и новобрачным дается принять ту самую искру Высшей Любви, без которой земной, совершенный без этой любви брак становится всего лишь случкой. Не смущайся грубым словом: иначе это не назовешь. К сожалению, давно уже пошло все не так, как было задумано, и не только у вас, человеков.
– И все же… Он ведь может заставить меня вернуться?
– Теперь не может: я не позволю. Он тебя и не увидит. А, кстати, мне кажется, что вы с ним не сами нашли друг друга, но вас… да-да– да, как я сразу не поняла! – вас назначил для брака чиновник! Так ведь?
– Да, госпожа. Но у нас так женятся почти все!
– Знаю, знаю! Это неплохой обычай, конечно, – чтобы все без исключения были в паре. Но не таким же способом! По воле какого– то служки… Ну, довольно говорить на эту тему: у нас с тобой не остается времени. Значит, так: ты желаешь остаться в этом доме, на этом месте, и отдаешься под мое, Ягуны – внучки Атланта – руководство. Так?
Лела кивнула, во все глаза глядя на Ягуну.
– Ты вручаешь мне, по доброй своей воле, все права на твою защиту перед богом и человеческими властями, на твое духовное воспитание, ты доверяешь мне и свое земное благоденствие. Согласна ли ты, Лела, дочь человеческая, довериться через меня Богу, и бесповоротно ли твое решение? Отвечай!
– Да, матушка-владычица, согласна. Навсегда согласна! Пусть великий и прекрасный Посейдон примет мое сердце, если оно только может ему пригодиться…
– Да будет так! Твое человеческое сердце, дитя, которое ты сама, без принуждения, приносишь Посейдону – и есть та главная и единственная жертва, которую ждут от нас всех, живущих на Земле, Боги. Принесенная через Посейдона, эта жертва даст тебе благоволение и защиту всех Богов.
– Но какая же это жертва, матушка? Я ведь не овечка и не бычок. И дым не стелется, и кровь не течет… – и она заметно содрогнулась.
– То все – неверно понятые, искаженные формы жертвы. Их требуют у своих жрецов другие… боги. Но, дитя, идем со мной. Поторопись!
И Ягуна быстрым шагом, за широтой которого не поспевала Лела, вернулась в свой покой, где ее застала Лела впервые, и прикоснулась к чему-то на маленьком столике возле своей золоченой лежанки. Сразу же засветился большой экран на стене, и Лела, вся обомлев от ужаса, увидела своего мужа, который карабкался напролом, без всякой дороги, вверх по осыпающимся под его ногами сыпучим камням. Лицо его было искажено какой-то детски-обиженной гримасой, так что казалось, будто он готов заплакать; руки, уже порядком ободранные, хватались за колючие ветки кустарника, как бы пытающегося отогнать непрошеного и недоброго пришельца. Лела не удержалась и громко вскрикнула. Ягуна спокойно повернулась к ней:
– Что с тобой? Ты, кажется мне, удивлена? – сказала она. – Тебе никто не сообщил, что он, – Ягуна холодно подчеркнула это «он», – вернулся вчера, вместе с капитаном Диреем? Впрочем, кто бы мог и подумать о том, что тебя следовало предупредить! Не говоря уже о том, что любящий муж не стал бы огинаться в притонах Атлантиса, а понес бы свою нетерпеливую любовь первым делом к ненаглядной жене!
Издевка была не в тоне Ягуны, который был вполне благожелателен, но в самих словах. Между тем, она продолжала:
– Ты боишься, Лела? Или, может, тебе его жалко стало? А, может, хочешь вернуться к замужней жизни и жалеешь о данном слове? Отвечай!
– Не обижай, матушка! – почти закричала Лела. – Сейчас, так особенно чувствую: нет мне возврата ко всему прежнему! Если ты, конечно, не прогонишь…
Ягуна затемнила экран, начинающая уже привыкать к чудесам в этом дворце Лела даже не удивилась, когда услыхала вдруг голос, как бы ниоткуда отвечающий Ягуне. Отдав распоряжения привратнику и призвав в свои покои некую Элеску, она повернулась к Леле.
– Успокойся, дитя мое, – проговорила она мягко, – никто тебя здесь не тронет. А будет нужно – мы и до царя дойдем. Сейчас тебя отведут в твою комнату. Не приглянется убранство или еще чем, так ты скажи. Выбирать, слава Единому, есть из чего. Посмотри там, что придется тебе из платья. Конечно, таких красивых нарядов, как на тебе, у нас тут нет, но, коли захочешь, так переоденься. Это не повредит на новом месте. Понимаешь меня?
Лела кивнула:
– Вроде бы старую кожу скину и сразу вся обновлюсь…
– Умница, дитя мое. Иди, и ни о чем не беспокойся.
И Ягуна слегка подтолкнула молодую женщину к распахнувшимся вдруг дверям. За ними ее уже ждала пригожая молодица в диковинном для Лелы наряде: должно быть, это был довольно длинный кусок полотна, да еще такого тонкого, если им можно было обернуть тело неизвестно сколько раз, да еще и остаток небрежно перекинуть через обнаженное плечо. Сама бы Лела не осмелилась показаться на людях в таком виде. Однако ей, принимавшей не раз участие в построении царицыных платьев, нетрудно было оценить изящную простоту одеяния этой Элески, которая и во всех других отношениях была, уж конечно, неизмеримо выше самой Лелы. Недаром она так неприступна: знает себе цену!
Впрочем, превосходство Элески, действительное или надуманное, Лелу нисколько не волновало. Уже в дверях она обернулась к Ягуне, и та, такая большая, красивая и сильная, показалась ей вдруг почему-то беззащитной и нуждающейся в ее дружбе. Она едва сдержала себя, чтобы не побежать туда, в глубь покоя, и не обнять Ягуну. Смутившись от своего порыва, не укрывшегося от невозмутимой с виду волшебницы, Лела сказала как бы про себя:
– Увижу ли тебя еще, матушка? И когда?..
Велика была ее радость, когда она услышала в ответ:
– Увидишь, увидишь! Пирожков-то надо отведать!
Впрочем, может ей это только показалось…
* * *
В то утро Ган проснулся разбитым и усталым. Покрутившись с боку на бок, он с неохотой поднялся с постели, держась за поясницу и сдерживая стоны. Впрочем, подобное состояние не было для него новостью, и он знал, что омовение в бассейне и умелые руки ласковой рабыни сделают свое дело, надо только потерпеть часок. Но как раз терпеть и не было ни сил, ни охоты. Обозленный на весь свет, он наткнулся взглядом на собственное отражение в большом зеркале, занимавшем целую стену в гимнастическом зале, куда он по привычке зашел, чтобы размять мышцы перед купанием. Он едва узнал себя в каком-то взъерошенном, исхудавшем человеке с затравленным взглядом.
Особенно его поразило собственное лицо: он понимал, что это именно его лицо, должно быть его лицом, раз он ощупывает скулы, лоб, дергает себя за уши, и изображение в зеркале повторяет его движения. Однако, и это было не менее убедительно, он в то же время твердо знал, что не может быть этим человеком, который смотрит на него со стены. Разве у него были когданибудь такие ввалившиеся глаза, обведенные широкими серыми кругами, глаза, какие-то тусклые и сонные? Или этот жуткий рот, обтянутый сухими губами и открывший всем напоказ длинные – разве были его зубы когданибудь так длинны? – и желтоватые зубы: казалось, что кожи на его лице не хватает, чтобы прикрыть это безобразие.
Ган долго стоял, всматриваясь в свой новый облик и стараясь к нему привыкнуть. Сперва он не поддавался искушению обнажить перед самим собой и тело: ему стало страшно. Впервые в жизни он испытал самый настоящий страх и, надеясь побороть его, постарался пересилить себя. И все же он не выдержал.
Быстрый взмах широкой белой накидки – и рев, перешедший вскоре во всхлипывания. Ган вдруг понял, что с ним произошло нечто ужасное, и, по всей видимости, непоправимое. Как же он раньше не понимал этого? Ведь еще вчера, когда его брил цирюльник, он не усмотрел, взглянув на себя в его крохотное зеркальце, ничего особенного. Правда и то, что Ган не обращал особенного внимания на свою внешность: не девица же он, в конце концов, чтобы охорашиваться перед куском полированного серебра! Но увидеть сейчас такое…
Гана охватила какая-то лихорадка, позыв к немедленному действию. Надо было что-то предпринять, причем немедленно, чтобы спасти себя, если еще не поздно: его тело, похожее на скелет, обтянутый кожей, убивало в нем всякую надежду на восстановление, возрождение себя самого. Насколько он знал, эти симптомы говорили о полном энергетическом истощении, а, может, и более того… Если процесс, например, перешел черту обратимости…
Он гнал от себя мысль, что его состояние – результат его же неуемной тяги к потусторонним свиданиям, которые заслонили перед ним весь видимый мир и его ощущения. Они казались теперь настолько пресными, как бы пустыми в своей сути, его удовольствия и наслаждения, коим он с таким увлечением предавался еще не так давно, что теперь он не мог без насмешки над самим собой даже вспоминать о бесшабашных попойках в свите Фуфлона, сопровождавшихся непременным соитием с многочисленными почитательницами его царственного друга.
Он не мог больше существовать без этой невидимой, но так остро ощущаемой любви, которая для него уже превратилась в некий чувственный ритуал. Сначала эти акты вызывали в нем огромный подъем всех сил, источаемых им в это время неизбывно на все и вся, как ему казалось. Однако затем он вынужден был заметить, что моменты приливов силы, позывов к действию – все равно, какому, – становились все короче, пока не прекратились вовсе. Этой ночью «она» вновь приходила. Ган вспомнил знакомое чувство всепроникающего объятья, нисколько не зависящего от его воли, вспомнил и впервые проявившееся в нем нежелание этого чуждого вхождения в него чего-то (он уже осознал это) совершенно инородного и даже враждебного ему. Отдача и на этот раз была полной, – настолько полной, что сам он не ощутил не только и тени того наслаждения, погоня за которым составляла смысл его жизни, но более того: долгая судорога, казалось, бесконечно сотрясавшая его тело, принесла ему лишь страдание и желание избавиться от этой муки. Промелькнула даже мысль, тут же заглушенная чужой волей, о том, что пора бы и освободиться…
Теперь он начинал понимать, что, как ни гони от себя пугающих мыслей, а источник, их создающий, продолжает действовать. Он ощущал себя в полной власти этого неведомого женского существа, низводящего его рассудок в какие-то темные глубины. Даже сейчас, когда он всего лишь раздумывал, боязливо и с оглядкой на все то, что с ним происходит, о н а была уже здесь, гдето вокруг него, и пыталась вновь объять его: стихийное, ни от каких разумных условий не зависящее плотское желание начало было подниматься в нем.
В ужасе, не желая больше быть игрушкой чьей-то могучей воли, Ган кинулся, не разбирая дороги, в сад. Он не собирался искать прибежища у своих деревянных божеств, – он даже забыл и думать о них, так богато им самим разукрашенных и составлявших еще несколько дней тому назад его гордость. Готовясь к свадьбе, он выполнил свой зарок: присоединил к мужскому божеству изваяние его подруги, которому резчик придал, вольно или невольно, самые обольстительные, преувеличенные до предела, переходящего в непотребство, черты женственности. Странно, но с тех пор, как эти боги соединились в святилище Гана, он потерял к ним интерес и забросил свои моления на мраморных плитах перед ними.
Нет, не к ним, несмотря на все, странно зовущим, стремился Ган. В самом центре его сада, посреди зеленого газона, обрамленного ровной окружностью самшитовых деревьев, мудрено подстриженных трудолюбивым и затейливым садовником, высился фонтан, изливал и взвивал ввысь многочисленные струи воды из бронзового, с позолотой, хитросплетения разверзнутых пастей, хвостов, крыльев и других атрибутов страховитых существ, долженствовавших охранять дом и весь участок земли, принадлежавшей их владельцу. Таков был смысл этого, в общем прекрасного, произведения искусства, которое было им не так давно, под влиянием советника Азрулы, воздвигнуто перед самыми воротами дома.
Но сейчас Ган не вникал в подробности символизма этой скульптуры, как, впрочем, не делал этого и раньше. Он торопливо перешагнул через низкий парапет бассейна, окружавшего фонтан, и стал под его струи, приблизившись вплотную, насколько мог, к его основанию, откуда вода била вниз, в чашу бассейна, образуя на безмятежно гладкой зеленоватой поверхности ее зеркала ровный белый круг постоянно вскипающих бурунов.
Вода была обжигающе холодной, но он не чувствовал ее холода. Ее плети больно стегали ставшее прозрачным тело, – он не ощущал никакой боли. Одна ярая мысль владела им – смыть с себя, удалить с поверхности своей некую скверну, прилипчивое и вязкое присутствие которой он ощущал теперь настолько явно, что как бы и видел ее. Зеленую, нет, грязно-зеленую слизь оторвать от всех пор и частиц кожи было невозможно: она вибрировала под кинжальными струями воды, но под ее напором вроде бы становилась только крепче и устойчивее.
Ган отчаялся. Ко всему, что он увидел налипшим на себя снаружи, он вдруг подумал о том, что же должно клубиться у него внутри, если такова поверхность, – и тут же ясно увидел картину, которая едва не лишила его последних сил, нечто действительно пожирало его изнутри, и не было у него никакой возможности изгнать его, это безличное «нечто» из себя: он не знал, но смутно понимал, какой огромный вал энергии должен был пройти через всю его сущность, чтобы очистить ее изнутри.
Он уже не думал вовсе и держался только на животном инстинкте, накрепко внедренном в каждую живую клетку; вступила в действие последняя перед гибелью, автоматическая система самосохранения, что в случае с Ганом было очень затруднено.
Каждая система, а самовосстанавливающаяся тем более, черпает свои силы от некоей божественной ниточки, связывающей ее с таинственным и могучим источником жизни, и связь эта осуществляется через посредство сознания. Эта животворящая ниточка есть само творчество, воссоздание, расцвет, – но как же хрупка она в человеке! Забыв о том, что ее, эту божественную нить в себе, необходимо держать в природном, чистом и светлом состоянии, он желает сделать из нее для себя лично рабыню, безропотную служанку земным страстям. Вот и остается в человеке его последняя надежда на крайний случай – воля к сохранению исчезающей в нем жизни, едва мерцающей. И от того, сколько ее, этой скрытой в запаснике воли, сумеет восстать против извечного врага жизни, самой сутью которого является разрушение и разрушение любыми средствами, – зависит главное: возродится ли организм, поддержанный силой своего духа, либо отдаст он себя в жадные руки темных угодников, питающихся разложением всех светлых энергий. Выбор тут совершается как бы сам собой…
Однако сильна была в Гане его внутренняя мощь, коль скоро он сумел прийти в себя. В конце концов удары ледяной воды сделали свое дело: он опомнился от какого-то полусознания и вдруг сразу замерз. Стуча зубами, проклиная все вокруг и себя самого, он, спотыкаясь на каждом шагу, вылез из бассейна и, обхватив себя руками, затрусил к дому.
Между тем вся эта картина не осталась незамеченной: у Гана в доме находился гость, о котором он, надо сказать, совершенно забыл.
Картлоз, поднявшись спозаранок, ибо всласть выспался после вчерашнего купания, вышел на галерею дома, несколькими уступами, по здешнему обычаю, поднимавшегося к вечно синему небу, и стал удивленным свидетелем купания своего друга. Решив, однако, что ему не понять этих странных атлантов, он поспешил навстречу Гану.
Однако дверь его обширного и такого удобного для всех житейских нужд покоя не открывалась. Выругавшись про себя – опять эти их штучки с запорами! – он вернулся к своим заботам.
Здешние привычки и обычаи, к которым он едва начал прикасаться, все больше поражали его: в углу покоя он заметил манекен, сперва напугавший его своим человекоподобием, а на этом манекене – свою одежду, но какую-то обновленную, что ли. Он с подозрением осмотрел, почти обнюхал ее всю, но вынужден был признать, что это именно его рубаха, именно его и ничья больше, облегающие штаны и сапоги, приобретшие за ночь совершенно новые подметки. При виде же своего ремня он не сдержал возгласа восхищения: серебро было неким таинственным образом вычищено так, что сияли и светились на его чеканных поверхностях или впадинах именно те части, которые вдруг выявили в неопределенном рисунке ясную и логически связную цепь. Чем больше Картлоз разглядывал рисунок, тем понятнее для него становился и сам сюжет изображения. С удивлением он почувствовал, что носил на себе с самого дня совершеннолетия подаренный ему дедом не обычный пояс, но вполне определенную, зашифрованную в символах, образах и знаках информацию. К сожалению, кроме странного волнения, никаких ассоциаций это открытие в нем не вызвало…
И тем не менее уже полностью одевшись, он, собираясь застегнуть на себе этот ремень, без которого уже и не ощущал себя привычно подтянутым, задумался, вновь погрузившись в эти непонятные знаки, созерцание которых вдруг обрело такую притягательную силу.
За этим занятием его и застал тихий и мелодичный звонок настенного экрана, неожиданно засветившегося прямо перед ним. Картлоз, уже знакомый с этим приспособлением и не почитавший его уже за чудо, подошел к панели возле экрана и нажал кнопку. Она была устроена здесь, видно, специально для таких, как он: атланты умели обращаться со своими приборами безо всяких устройств, непонятной для Карлоза силой своего пожелания.
Однако с экрана на него глядел не Ган, а его этера, смуглолицый и скуластый, как и сам Ган, Яксув. Впрочем, звали его как-то по-другому, но для непривычного слуха и неповоротливого языка гостя сделали послабление, сократив и упростив неудобопроизносимое и многосложное имя.
Но то, исконное имя, ему подходило гораздо больше: всеми своими повадками и особенно велеречивостью, он оправдывал его. Вот и сейчас, едва он узрел гостя своего хозяина и патрона, которого обязан был уважать и ублажать не менее того самого, он, прежде чем произнести хоть слово, проделал множество странных движений туловищем и руками, которые должны были показать Картлозу, как его здесь ценят и уважают.
Картлоз находил все это смешным. По обычаям своего народа, крайне скупого на жесты, он не признавал этих церемоний и относил их к тем признакам отсталости нации, которых видел здесь тем больше, чем больше желал видеть. Да и как могло быть иначе!
Ведь он давно, с самого рождения, был уверен в том, что принадлежит к величайшему во всех отношениях племени, стать вровень с которым не может никто на всей планете! Однако сейчас он пребывал не у себя дома, и от него требовалось одно: предельная дипломатичность. Приходилось терпеть и не только эти обезьяньи ужимки…
Наконец Яксув закончил свои поклоны, воздевания глаз к небу и немыслимые упражнения с пальцами рук, которые у него казались без костей. Пришла очередь словам.
– Надеюсь, что досточтимый, многоуважаемый, бесконечно достойный наш гость, сын не менее достойных отца и матери, чья добродетель превышает все известные меры, – Яксув, предупрежденный Ганом о необходимости краткой речи с этим приезжим, старался изо всех сил сократить привычные формулы вежливости, но вряд ли у него это получалось: гость начал проявлять нетерпение, и он оборвал сам себя. – Проявите снисхождение, господин, и соблаговолите ответить хозяину этого дома, который интересуется вашим драгоценным самочувствием, а также и тем, как вы приняли сон в его стенах…
– Все прекрасно, дорогой Яксув, – не выдержал Картлоз. – Не скажешь ли, как мне выйти отсюда? – и он кивком указал на запертую дверь, на которой не было ни ручек, ни замков.
– О, высочайшему и любознательному гостю нашему нет необходимости выходить из этого чудного покоя, где есть все, что может потребоваться ему: надо только привыкнуть к изобилию самых разных услуг и освоить для употребления эту небольшую панель, которую наш драгоценный гость, по своей деликатности, не соизволил заметить! Вам надо только обернуться, Картлоз-баяк, и вы увидите ее.
И Яксув умильно закивал головой, приглашая Картлоза последовать его совету.
Надеясь на указанной панели найти кнопку, открывающую дверь, Картлоз отошел к противоположной стене, у которой и действительно увидел нечто вроде маленького столика, поверхность которого состояла из множества разноцветных клавиш. Однако он остановился перед ними в недоумении: откуда ему знать, какую из них нажать! Что они тут, смеются, что ли, в конце концов? Нашли шута, разгадывать их дурацкие значки на этой доске!
Картлоз повернулся к экрану, усы его угрожающе шевелились. Яксув поторопился успокоить гостя:
– Не желает ли дражайший Картлоз-баяк приступить к завтраку? Мы помним вкус гостя, хотя бы он и посетил нас всего однажды, да и к тому же два года назад! Приятного вам аппетита! – и Яксув, все так же умильно улыбаясь, исчез с экрана.
Оторопевший Картлоз, которому не терпелось выйти отсюда, кинулся было включить связь, нарушенную, как сперва подумал, случайно. И чуть не упал. Да, он едва успел остановиться, – ибо перед ним, прямо из-под земли, то есть пола, вырос круглый стол, на белоснежной скатерти которого дымились, источая дразнящие, умопомрачительные запахи жареного со специями мяса, блюда. Эти расписные блюда были обставлены плоскими тальярками со всевозможными выдумками кухни его родины.
Картлоз был покорен. Куда-то делась его обида, начавшая было горячить его неуемную кровь. Пропала и забота обо всем, что его беспокоило только что: угощение было поистине царским. Изголодавшийся по настоящей пище, за которую он почитал, как и все мужчины на его родине, лишь еду мясную, он со вкусом потер руки и сел к столу.
Его душа была довольна: это было настоящее пиршество. Вот только наливать вино надо было самому, а руки были в жире и мясном соке. Ну да ладно! К этому не привыкать! Зато и вино же у этого косоглазого! Надо будет постараться выведать рецепт его изготовления. Впрочем, Картлоз не сомневался, что рецепт не будет сильно отличаться от тех, что употребляют его сородичи. Но вот как бы ему ухитриться вывезти отсюда пару-другую саженцев их винограда! Тогда, в прошлый свой приезд, он столовался в разных харчевнях и кабаках Атлантиса, где придется, и их вино показалось ему также неплохим, – но это! Ах, и мерзавец же этот Ган! Имея такое сокровище, – Картлоз откинулся на своем крепко сколоченном стуле, смакуя вино, – он ему подсунул в тот раз какую-то жидкую водичку. Ну хорошо же, друг Ган, я тебе это попомню, придет срок. Раз ты так поступаешь, – чем я хуже? Ничего, ничего…
Мысли Картлоза слегка мутились: вино было не только вкусное, но и крепкое до чрезвычайности. А он сам был из той малопривлекательной категории мужчин, которые, пьянея, дуреют прямо на глазах. Будто некая заслонка, прикрывающая в них искусственный налет добропорядочности, распахивает в это время широкий выход всему тому, что в обычное время принято глубоко прятать даже от себя самого, если не хочешь, конечно, прослыть невежей, а то и хуже того – уподобиться дикому животному.
Внезапно он тяжело опустил голову, пытаясь разобраться в чем-то. Однако мелькнувшая мысль никак не хотела проявляться. Потребовались значительные усилия, чтобы поймать ее за хвостик. Но уж пойманная, она разрасталась, разрасталась, усугубляемая угрюмой подозрительностью и окрашивая все вокруг в свои темные, как налившиеся кровью глаза Картлоза, тона. Уставившись в одну точку, он долго пытался довести до какого-то конца эту мысль, как вдруг страшно выругался запретными словами и, ухватившись за край массивного стола, опрокинул его.
Он стоял посреди этого безобразия, устроенного им же, и шипел какими-то жалящими словами, распаляя сам себя, пока не дал полный выход своему буйству. Все, что попадалось под руку – благо, что вещей в большом покое было до странного мало, – все корежилось, разрывалось или ломалось. Наконец, так же невнятно проговаривая свои отвратительные фразы, он остановился в поисках чего-нибудь, чем бы можно было запустить в прозрачное стекло, заменявшее здесь одну из стен. Он еще не понял, что случилось, когда вдруг уши ему заложило, и он потерял опору под ногами.
Очнулся он в полной темноте. Ярость его не прошла, она только усилилась от того, что с ним посмели сделать. В своем бессилии что-то изменить он готов был дойти до полного самоуничтожения и бросался с разбегу раз за разом на холодные каменные стены своего узилища.
Остановил его яркий свет, заливший внезапно тот угол, в котором он сражался с неведомым врагом. Закрыв рукой пораженные резкой болью глаза, он и не заметил, как оказался в тесных путах мягкой и почти неосязаемой сети, туго облепившей его и накрепко привязавшей его руки к телу.
Ничего не соображая от гулкого натиска крови, застлавшей ему глаза, Картлоз повалился на пол. Падение было неудачным: он расшиб себе лоб прямо над левым виском.
Яксув, вместе с тремя помощниками наблюдавший эту картину из другого угла подземелья, сделал знак стражнику. Тот подошел к лежащему неподвижно Картлозу, посмотрел на него, после чего взглянул на своего начальника. Яксув слегка кивнул: опасаться было нечего. Кровь, залившая лицо этого бесноватого, в то же время спасла его от неминуемого разрыва сосудов, сняв напряжение.
Яксув был доволен. Он одобрительно посмотрел на одного из присутствующих, который, скрестив руки на груди, не отрывал своего взгляда от Картлоза. Тот поймал его мысленное обращение: «Хорошая работа!» – ослабил напор своей воли на поверженного и окровавленного иноземца. Впрочем, внешне это действие никак не выявилось: лицо его оставалось совершенно бесстрастным, не изменилась и поза. Лишь в длинных и узких черных глазах что-то отступило вглубь.
Стражник тем временем снял с Картлоза такую неощутимую, но прочно сковавшую его сеть. Сделал он это совсем просто: провел вдоль его тела рукой с зажатым в ней небольшим предметом, похожим на блестящий камень, и сеть исчезла, как бы растворившись в ничто. Подошедший лекарь – а в том, что это именно лекарь, не могло быть сомнения, так легки и щадящи были его руки, – прямо тут же, на полу, омыл лицо раненого, осушил его салфеткой, показавшейся Картлозу почти горячей, после чего мягко произнес:
– Откройте глаза. Все в порядке, вам не о чем беспокоиться, вы здесь у своих друзей.
Помогая своему пациенту подняться, он продолжал говорить, и слова его – или голос? – странно успокаивали Картлоза, заставляя послушно переставлять ноги. Он чувствовал приятное умиротворение и благодарность к этому, поистине, другу, которые внезапно исторгли из вечно сухих глаз его влагу.
Картлоз не мог говорить – что-то с силой перехватило ему горло; он ничего не видел из-за слез, катившихся теперь уже ручьем по его лицу, – но ему было хорошо, как никогда. Лекарь, к которому он чувствовал огромное доверие, едва уговорил его сесть в прямоугольное деревянное кресло с короткими ручками по бокам. Картлоз все еще цеплялся за его одежду, когда стражники подняли кресло и понесли его, мягко покачивая, куда-то.
Он незаметно заснул, и сон его был похож на продолжение яви. Не отдавая себе отчета в происходящем, как бы наблюдая за всем со стороны, он не вмешивался ни во что. Лишь временами сознание его ясно включалось, но не для действия, а лишь для того, чтобы отметить какие-то короткие моменты. Волнения и беспокойства не было вовсе, и это забавляло его, знавшего себя совсем с другой стороны.
Несли его недолго. Во всяком случае, он осознал вдруг, что мчится куда-то с большой скоростью, хотя и бесшумно. С усилием он приоткрыл глаза и увидел странно яркую, будто нарисованную резкими красками картину: несколько стражников, во главе с Яксувом, стоят подле него, и лица у них неподвижные, как у изваяний; помещение, где они находятся, какое-то узкое и полукруглое, без окон и дверей, – похожее на водопроводную трубу, виденную им еще накануне, но гораздо большую в размерах.
Следующим включением своего как-то мерцающего сознания Картлоз понял вдруг, что его укладывают на что-то очень твердое и холодное, спиной вниз, отчего у него страшно разболелся крестец – его слабое место. Тут он воспротивился было настойчивым и жестким рукам, намертво вцепившимся в него и неуклонно, хоть и медленно, понуждающим его растечься всем телом по чему-то круглому и колючему под его позвоночником.
На мгновение прояснившееся зрение вновь ярко зафиксировало режущий свет, направленный прямо на него, множество лиц, склоненных вокруг – и среди них лицо человека, возвышающегося над всеми. Это лицо было так же бесстрастно, как лица всех атлантов, которых он знал, но что-то во взгляде его говорило о его внутренней силе, превышавшей силу остальных – чувствовалось, что они лишь выполняют его волю, которая собрала их всех в единый комок зла.
Да, на этот раз он понял, что здесь над ним совершается зло: к чему-то его приуготовляли против его желания. А в чем же основное зло, как не в насилии, и в чем же сущность насилия, если не в попытке силой преодолеть чужое сопротивление – нет разницы, силой мышц или воли.
С этого момента его сознание больше не отключалось, хотя для него было бы лучше оставаться в беспамятстве и дальше.
Тот, главный, стоящий надо всеми, кто копошился вокруг распростертого пленника, заметил, что он пришел в себя, и начал говорить. Длинные разноцветные перья на его голове, спускавшиеся гривой с затылка и сливавшиеся с его пестрым и необыкновенно красивым (Картлоз, несмотря на драматизм минуты, отметил это) плащом-накидкой, – эти многочисленные перья вдруг ожили и как бы задышали в такт его словам.
– Слушай меня, чужеземец, – веско сказал он, – ты должен возблагодарить богов, которые привели тебя сюда, на землю твоих предков, чтобы ты мог принести величайшую жертву, которую только может принести человек своим богам. Ты должен отдать им собственное живое сердце. Твоя душа посредством этой жертвы воспрянет, минуя все страдания промежуточных миров, ввысь и будет наслаждаться вечной близостью к сфере твоих богов. Но если ты к тому же пожелаешь, чтобы энергии твоего сердца были бы отданы частично на возрождение твоего несчастного, отвергнутого высшими божествами, проклятого ими, народа, то и ему будет явлено послабление в его ужасной карме, заповеданной на двенадцать тысячелетий.
Радуйся, чужеземец, ибо ты избран богами. Ты должен осознать, что участь твоя решена ими, и возврата к земной жизни тебе нет. Но во сто крат усилится мощь этой жертвы, если ты ее принесешь добровольно. Для того и возвращено тебе сейчас, в последние мгновения твоей жизни здесь, в этой нижней обители горя и слез, сознание, чтобы ты мог распорядиться своим достоянием, сосредоточенным в величайшем и тончайшем аппарате мироздания – сердце, и перейти в мир иной, сохранив при себе это сознание в полной ясности. Соберись с силами, чужеземец, и внятно отвечай, помня, что тебе внемлют не только те, кто окружают тебя видимо, но и незримые боги: желаешь ли ты принести добровольную жертву богам в виде собственного живого сердца и отдаешь ли его мощь, неведомую для тебя самого, в распоряжение богов, действующих через нас, своих слуг и жрецов?..
Картлоз онемел. Он не мог бы ничего ответить, если бы даже захотел: в напряжении, боясь пропустить или неверно понять хоть одно слово, вылетающее из длинных змеящихся уст этого пернатого жреца, он делал невероятные усилия, чтобы хоть немного приподнять голову, которую намертво припечатывали к камню чьи-то сильные руки, и теперь, когда он собрался испустить громкий и протестующий вопль, из его горла изошло лишь невнятное шипение, перешедшее в хрип.
Такого дикого, абсурдного состояния он не мог бы себе никогда раньше даже вообразить. Где-то в глубине его разума все же теплилась мысль о том, что это сон, ибо не могло быть явью то, что происходило здесь и сейчас. Ни на минуту не собираясь подчиниться, отталкивая от себя изо всей силы то, что навалилось на него извне, он вдруг каким-то невероятным образом почувствовал, что все изменилось. У него не было возможности видеть все помещение, где его собирались казнить, как и ожидать сочувствия от кого бы то ни было из этого звероподобного собрания. И, тем не менее, он уже знал, хотя и не мог пока верить самому себе, что спасение явилось. То ли хватка рук, державших его, ослабла, то ли внимание всех окружающих разом отвлеклось в другую сторону – ясно было одно: в атмосфере этого сборища произошел перелом.
И в самом деле, вдруг раздались звонкие голоса, как-то разбившие всю порочность сгустившегося здесь мистического круга. Голоса отдавали короткие воинственные команды, и слышались уже со всех сторон помещения, гулко отвечавшего им.
Внезапно Картлоз ощутил, что руки, державшие его, все разом отпали. Но, как бы переломленный в пояснице, он никак не мог подняться, как ни старался. Ему не удавалось даже повернуться на бок, настолько сильна была боль, перепоясавшая его тело. Занятый собою, он не прислушивался к происходящему, а все вертелся, стараясь принять положение, более близкое к естественному. Наконец кто-то приподнял его плавно и осторожно за плечи, и он, все еще сидя на собственном эшафоте, который оказался всего лишь огромным валуном, залитым застарелой кровью (так вот откуда исходил этот удушающе смрадный запах, заставлявший Картлоза особенно страдать все это время!) начал заново привыкать к вертикальному положению.
И тут он узрел, уже в его настоящем виде, своего обидчика. «Пернатый» жрец, лишившийся роскошной накидки, придававшей ему некое величие, оказался человеком ростом с Картлоза, с длинными и слегка вьющимися рыжеватыми волосами. Его крупный – даже на взгляд привычного к этим размерам Картлоза – вислый нос как-то особенно зловеще выделялся на побледневшем лице. Двое из атлантских воинов, одетых в легкие доспехи из позолоченного металла, мускулистыми руками, покрытыми лишь воронеными наплечниками, деловито сковывали руки жреца узкой стальной цепью. Их золоченые остроконечные шлемы мягко поблескивали в уже приглушенном свете огромных фонарей, расположенных прямо под потолком помещения, показавшегося Картлозу бесконечным – так далеко во все стороны простирались его пределы.
К нему приблизился один из воинов, одетый в лазоревые юбочки под тускло сияющими золотом доспехами.
– Великий Леф, царский советник, – сказал он, – справляется о твоем самочувствии, чужеземец. Он желает знать также, не соблаговолишь ли ты доверить себя попечению царских этера, и покинуть это помещение вместе с нами?
Этот этера был настоящим исполином. Картлозу для того, чтобы взглянуть ему в лицо, понадобилось запрокинуть голову, от чего он застонал: резкая боль где-то в основании черепа пронзила его. Видимо, давали себя знать последствия недавней экзекуции, когда ретивые палачи распинали на камне его трепещущее тело, не думая, естественно, о том, что оно еще может ему пригодиться и для жизни…
Тут уж было не до церемоний. Его спешно уложили на носилки, покрытые чем-то вроде плотного облака, в котором он сразу утонул, перестав ощущать не то что какую-то боль, но и самый вес своего тела.
Когда его внесли в некую кабину, предназначение которой ему предстояло узнать вскоре, туда же, слегка пригнувшись, вслед за носилками вошел атлант, одеянием своим нисколько не отличавшийся от остальных этера. Однако что-то неуловимое в нем – взгляд ли, или вся величественная, однако живая и подвижная его повадка – говорило, что он из тех, кто повелевает.
Внимательно вглядевшись в лицо Картлоза, бронзовым спекшимся слитком застывшее среди белоснежной исцеляющей пены, лицо, на котором, тем не менее, жили своей жизнью горящие, как уголья, глаза и смешной пучок усов, – лицо трагическое и забавное одновременно, атлант проговорил, стараясь умерить свой зычный и властный голос:
– Ты под покровительством воинов царя Родама. Сейчас тебя отвезут в спокойное место, а после, когда ты придешь в себя, мы с тобой побеседуем. Не думай о побеге, ибо это опасно для твоей жизни. Если ты не хочешь, конечно, снова попасть в руки своих… друзей.
И он усмехнулся.
Странно, но Картлоза он убедил сразу. Его донимала только одна мысль: откуда этот этера знает о побеге, который он только-только еще начал обдумывать?
Да, с этими атлантами надо быть осторожными. Он старался не вспоминать об ужасном событии, невольным главным участником которого ему пришлось быть только что, и, направив свое внимание на одного из сопровождающих его этера, поглощенного управлением их кабиной, он и не заметил, как заснул, хотя именно этого и остерегался…
Руки у служанки были, действительно, ласковые и гибкие. Гибкие настолько, что казались вовсе без костей. Она окунала пальцы в плошку с ароматным жидким маслом и быстрыми, почти невесомыми, движениями втирала его в кожу своего домина. Эта кожа, начисто лишенная жирового слоя, была сухой и ломкой, как, впрочем, и сам Ган, чей неузнаваемо изменившийся вид внушал этому безропотному, но привычно похотливому существу мистический ужас. Ведь перед ней лежал, безвольно распростершись, не ее подлинный домин – хозяин и господин, хоть и грубоватый, ничего не скажешь, зато полный жизни и действия, а всего лишь его тень. Ибо разве то, к чему она сейчас с отвращением прикасалась, можно было назвать живой плотью? Ведь это был настоящий скелет, только обтянутый кожей, что не мешало ей видеть и нащупывать пальцами все суставы, мослы и кости, не говоря уже о вялых и безжизненных мышцах, казавшихся чем-то инородным и ненужным на этом высушенном остове.
О, она знала, что за этим всем таится! Недаром, еще в то время, когда она жила у старухи Кадисы в Старом Городе, обучаясь секретам магии и ворожбы, ее наставница особенно выделяла среди прочих девочек, порученных ей их селенскими родителями, именно ее, Хадизу. То, что другим надо было растолковывать, ей давалось само, по наитию, и она, бывало, загодя знала, что именно будет говорить очередному клиенту Кадисы, когда та привлекала ее для практики к своим занятиям.
Навидалась тогда Хадиза всякого. Но зато и пожинает теперь плоды трудов своих: редко кому из учениц любой ведической старухи – или ведуньи, ведьмы, как их еще называли, – выпадало пристроиться так удачно, как это удалось ей. Правда, она не живет самостоятельным домом (это еще впереди) и не имеет своей школы, однако стать «госпожой купальни» в таком богатом доме, как этот, да еще при неженатом хозяине – мечта любой из чудесниц, что бы они ни говорили. Хадиза с благодарностью вспомнила, как старуха Кадиса резко оборвала одну из таких завидущих выскочек, когда та стала насмехаться над ее званием: «Что? – хихикнула она тогда, – “госпожа купальни”? Да просто служанка, моющая ноги кому ни попадя и подтирающая за всеми! И не говорите мне, что это – хорошая работа. Все знают, что основной заработок у таких прислужниц – не в этом, а совсем в другом: попутно они служат подстилкой для всех, у кого еще не вышел из строя инструмент их наслаждения!..»
Ох, и досталось же ей тогда от старухи Кадисы! Та чуть не обломала о еее спину свой огромный посох, сделанный из сросшихся стволов небольших деревьев, – отучала девку от поганой привычки обсуждать и обсмеивать других, а паче того – от черной зависти. «Каленым железом выжгу из вас всех, негодниц, эту пакость!» – приговаривала она между тем, как клюка ходила по плечам и спинам уже всех ее подопечных, не делая разбору между правыми и виноватыми; чтоб впредь неповадно было! И ведь, действительно, выжжет! Хадиза знала это по себе…
Ган под ее рукой, нащупавшей плотный узелок на болевой точке и пытавшейся размять его, глухо застонал.
– Простите, домин! – проговорила Хадиза сочувственным голосом. – Позволите ли мне убрать боль с этого места или оставить как есть?
Ган поднялся, мотая головой, отчего его связанные в пучок волосы рассыпались по плечам, нависли на лоб. Зябко поеживаясь, он пробормотал:
– Твои руки не приносят мне больше облегчения и удовольствия. Скажи своей старухе, чтобы прислала вместо тебя другую, попроворнее. А ты – пошла прочь…
Спорить было нельзя. Собрав свои плошки и кувшины, Хадиза удалилась, пятясь задом, пока была в виду хозяина. Она была удручена, – надо же, сглазила сама свою удачу! – и в то же время чувствовала облегчение. Сердце ей говорило, и давно уже, что с ее хозяином творится что-то неладное. Она не уточняла даже мысленно, чтобы это значило. Ей было достаточно и того, что она знала, а профессиональный запрет на произнесение имен или даже мимолетный их помин, действующий как вызывание, был вколочен в нее накрепко ведуньей Кадисой.
Более того: уходя из поместья и нагружая своим имуществом, которого оказалось вдруг так много, что оно не уместилось, как ни старались привратники, в небольшую барку, выделенную ей, она не испытывала к Гану ничего, кроме чувства благодарности за… ну, хотя бы за это имущество, которое она вряд ли приобрела бы где-нибудь в другом месте. Она нисколько не вымучивала из себя это спокойствие: дисциплина магов всех степеней крепче всяких искусственных запретов удерживает от посылок недобрых. Ибо кому, как не магу, известно больше всех, чем может, не дай Единый, обернуться нечаянная, шальная мысль обиды или пожелания зла другому…
Поэтому, прощаясь со слугами этого дома, бывшего ей временным пристанищем, она говорила, и слова ее были искренни:
– Желаю домину Гану, а за ним и всем вам, исполнения ваших собственных желаний и надежд. За то, что приютили меня под этим кровом, за то, что любили и лелеяли меня. И пусть великие боги отблагодарят каждого по его нуждам. Не обижайтесь и вы на меня, если и есть и было за что.
Толстый привратник с темным лицом и мясистыми губами ответил за всех:
– Пусть боги и тебе, добрая Хадиза, дадут побольше благ на новом месте, и не вспоминай этот дом кроме как хорошим словом. Ты знаешь, что везде на земле нам уготовано лишь временное жилище. Боги не велят привыкать к земному дому.
Никто не горевал. Хадиза – потому что внутренне была повязана своей волей, не позволявшей ей распускаться; слуги и прислужники – оттого, что знали: завтра же на место этой прибудет другая «госпожа купальни». И, кто знает, может быть, еще более привлекательная и податливая, чем эта…
Радмила гнала ярость.
Ярость заставляла стучать его сердце так, что пульсировали припухшие точки на шее и руках, ярость застилала глаза его алым туманом. Он не размышлял: в памяти остались только слова лукумона Алана о том, что он вряд ли увидит когда-нибудь свою половину, ибо та ушла к волшебнице Ягуне. Да еще, изощренная в своей жестокости, лживая улыбка мнимого лукумонова сочувствия, когда тот начал сокрушаться о непостоянстве расенских женщин.
Радмил знал всегда, хоть и не высказывал это даже самому себе, что чем-то подобным закончится когданибудь этот брак. Чересчур уж разными были они с Лелой – и внешне, и по характерам. Но, пока все шло, как у всех, он и не беспокоился особенно. Да и о чем было беспокоиться, если по заведенному (неизвестно кем и когда) порядку, он, как и остальные парни Расена, проводил в море большую часть своего времени, часть настолько большую, что частенько и сам забывал, где его дом. Что до жен, то о них как-то не принято было распространяться среди товарищей по плаванию. Само собой разумелось, что жена – на то она и жена, чтобы сидеть дома и безропотно поджидать, когда же судьба, наконец, забросит ее благоверного, хоть на несколько деньков, домой. Вспоминая изредка о Расене, моряки с нарочитой бесшабашностью рассуждали о том, что таков уж закон, приданный им, расенам, богами: скитаться по морям, не останавливаясь на приколе надолго нигде. Получалось, что высшей доблестью было для них сгинуть в каком-нибудь морском сражении или, на худой конец, крушении корабля, а уж самым постыдным было доживать свой век в селении, среди женщин и детворы.
Радмил послушно следовал этому кодексу чести расенов, не задумываясь особенно о Леле. Что ж поделать – такая уж судьба у этих бедняжек, женщин, – растить детей и дожидаться в одиночестве неизвестно чего…
Однако известие об уходе Лелы вдруг перевернуло его душу. Он не ожидал, что сама мысль о возможной потере жены – пусть и не успевшей по-настоящему стать ею, но ведь записанной же! – так всколыхнет его обычно легкомысленное и безмятежное сердце. Однако он сразу понял: это навсегда. И вовсе не надежда вернуть непокорную супругу заставила его кинуться сломя голову к замку Ягуны, путь к которому был заказан для любопытных человеков, а всего лишь желание доказать лукумону, что перед ним, расеном, не устоит и сама великанша Ягуна. Может, он и не придал бы уходу жены такого значения и спокойно бы вернулся на корабль, где слишком много дел ждали его наблюдения, если бы не слова Алана, сказанные им Радмилу напоследок:
– И не пытайся вернуть жену. Те, кто уходят в замок Ягуны, идут туда не по своей воле: они призываются. Никто не имеет возможности этому помешать. Иначе, разве я не запретил бы ей выйти за пределы круга, ограждающего Расен?.. Так что смирись, ничтожный, перед могуществом аттилей, ибо что ты есть перед ним? Когда даже я, лукумон, избранный ими, чувствую себя в сравнении с этим могуществом всего лишь ничтожной песчинкой. Смирись и позабудь…
Чем больше лукумон говорил, тем более какое-то странное несоответствие между его словами, которыми он призывал к покорности, и голосом, в котором прорывалось нечто совсем иное, зовущее к бунту, подстрекающее к тому, казалось, чтобы померяться силами с самими богами, заставляло Радмила осознать вопиющую несправедливость того, что произошло. Пока наконец он не сорвался с места и не побежал – мимо всех дорог, прямо по азимуту, к этому проклятому замку, который всю жизнь, сколько он себя помнил, маячил на вершине одного из горных утесов и, тем не менее, окутанный легким облачком, не привлекал к себе внимания ни расенов, ни других обитателей равнины Э-неа.
И зачем, собственно, им, простым человекам, было задумываться над тем, что не принадлежало им и даже краешком своим не касалось их? Жизнь их, благодарение богам, текла спокойно и благополучно: заботиться о пропитании или, скажем, о том, что надеть на себя, во что обуться – не приходилось. Установленный с незапамятных времен и казавшийся неизменным и незыблемым порядок предусматривал малейшие нужды всех, будь то селянин, возделывающий поля, или же мастеровой-ремесленник в великой столице. Все, без исключения, в том числе и чиновники на службе у государства, обеспечивались из поистине бездонных хранилищ, принадлежащих все тому же государству, не только самым необходимым, но даже сверх того. Правда, невостребованные излишки полагалось сдавать обратно – но и сдавали без сожаления: это, уже несколько лежалое, будь то мешочек проса или что из одежды, отправят в колонии, а гражданин Атлантиды получит взамен новую, причем сшитую по последней моде, вещь или же свежий продукт…
Впрочем, ни эти, ни какие другие размышления не обременяли рассудок Радмила, странно затмившийся обычно несвойственным ему чувством обиды на засилье атлантов. Он не думал, – он все карабкался и карабкался в гору, раздирая в кровь руки и лицо острыми шипами будто охраняющих подступы к замку непроходимых зарослей, раз за разом съезжая вниз вместе с осыпью камней и с каким-то механическим упорством вновь и вновь взбираясь по этой же осыпи.
Пока, неожиданно для себя, не оказался на ровных камнях белой дороги, упиравшейся в совершенно глухую стену из какого-то тускло-серого металла. По инерции, все еще готовый бежать куда-то и преодолевать все препятствия, Радмил бросился к этой стене и с воем отскочил, едва прикоснувшись к ней: молния или тысяча молний вошли в его тело, искорежив его судорогой. Отброшенный на полированный камень, он скоро пришел в себя, как бы исцеленный его прохладой. Откуда было ему знать, что вовсе не бесчувственный известняк надо было ему благодарить за возвращенный вместе с силами разум…
Ибо Радмил вдруг как бы протрезвел. Он довольно долго сидел, не вставая с камней и обхватив колени сцепленными руками, пытаясь осознать что-то важное, вспомнить некую тайну. Ведь было же, в конце концов, что-то, что привело его сюда? И что вроде бы как застлало его сознание…
То, что за этими стенами находится его жена, – об этом он помнил. А вот почему он настолько забылся, что посмел приблизиться к замку Ягуны с самыми злыми помыслами – этого он, убей бог, не мог понять. Ведь не дикарь же он какой, в самом деле, вроде тех, с северных земель, чтобы ему в голову могла прийти мысль о мщении – и кому? Атлантам?! Радмил не знал, что и думать обо всем этом…
Вдруг, как бы ниоткуда, раздался голос:
– Можешь войти, Радмил, если желаешь побеседовать с доминой Ягуной…
И в металлической стене прорезалось продолговатое отверстие – дверь…
Поколебавшись, – не вернуться ли, пока цел, восвояси – Радмил решил все же не пренебрегать приглашением. С атлантами надо вести себя вежливо…
Привратник в длинной рубахе, подпоясанной затейливым ремнем, указавший ему головой следовать по тропинке вдоль стены, изнутри оказавшейся обычной оградой каменной кладки, привел его в цокольное помещение башни, одной из многих, встроенных в окружность широкого ограждения. Он без церемоний припечатал Радмила к деревянному сиденью у стены, сам же принялся, как показалось непрошеному гостю, за свои дела, усевшись за стол спиной к нему.
Вдруг в разом потемневшем окне напротив проявилось огромное, в полстены, лицо женщины. Это была, без сомнения, атлантисса: ее белое, с прекрасными чертами лицо было обрамлено туго охватывающей всю голову многослойной повязкой из мягкой и тонкой, ложившейся мельчайшими складочками, белой ткани, укутывавшей также и шею и составлявшей как бы одно целое с белым же, по всей видимости, просторным и длинным платьем. Этот наряд был знаком Радмилу: так одевались лишь высокородные патрицианки царственного дома…
Атлантисса некоторое время молчала, давая возможность Радмилу осознать, кто находится перед ним, затем заговорила. Голос ее, как и лицо, был спокоен, его можно было бы даже назвать бесстрастным, если бы не чуть заметная нотка – не пренебрежения, нет, но – высокомерия, что ли, помимо ее воли улавливаемая Радмилом, ставшим в последнее время что-то уж очень чутким на всякие нюансы в обращении к нему атлантов.
– Зачем пожаловал? – глядя ему прямо в глаза, начала атлантисса.
– Домина Ягуна… – Радмил ухватился было за ручки сиденья, намереваясь подняться, чтобы тут же рухнуть на колени, – так сильно он, обычно презиравший всякие условности, и, может, именно из нелюбви к ним ускользавший в вольное море, – был поражен невыразимым величием этой женщины, – но Ягуна властно проговорила:
– Сиди. Не отвлекайся и говори покороче – времени у меня мало для тебя.
– Не знаю, как сказать, домина… – Радмил заторопился, потеряв и без того неустойчивую мысль, – жену мою не вернешь ли, если будет на то твоя воля, конечно, великая домина?..
– Это кто же твоя жена?
– Лела, расенка. Такая видная, рослая, молоденькая…
– А что же ты ее отпустил из дому?
– Да я и не отпускал. Меня самого дома не было.
– Вот как! И долго?
– Что «долго»?.. А… Так я же моряк. С капитаном Диреем плаваю, знаешь такого, домина?.. Вот как раз сегодня и вернулся, – вернее, вчера пришли, ну, а сегодня я улучил минутку показаться домой…
– Да, не повезло тебе. Ты в кои веки вернулся на минутку, а твоя женушка-то и упорхнула! Так, что ли?
– Прямо ума не приложу, что это с ней приключилось. Такая смирная да покладистая всегда была…
– И что же ты думаешь теперь делать?
– Так вот же… Прошу тебя, домина, возврати мне супругу-то.
– Да супруга ли она тебе, Радмил?
– А то как же! Прости, домина, не сдержался. Супруга, конечно, и запись есть.
– И что же за запись такая, если не секрет?
Радмил начинал уже понимать, что Ягуна вроде бы как посмеивается над ним, – но другого выхода, как истово и почтительно отвечать, у него не было.
– Как у всех, домина, – играя в простодушие, молвил он, – в моей домовой башне, в красном углу, всем напоказ висят узлы, нанизанные на основу брачным чиновником: пять узлов его, а остальные два – нашего лукумона… Все как надо, а как же…
– А любишь ли ты ее, Радмил?
– Жена же…
– Это не ответ!
– Ну, у нас, расенов, нет этого: сю-сю да ку-ку. Но обижать я ее не обижал, упаси бог!
– А она, – она тебя любит? Как ты понимаешь сам?
– Ну это уж, прости, великая домина, совсем ни к чему! Об этом и речи-то не бывает никогда! Не знаю, может, среди вас, аттлей, это принято, однако у человеков про то и не говорится сроду!
– Ты уверен, Радмил?.. Ну ладно. А как насчет детей, – дети есть у вас?
– Да вот как раз я надумал: пора, пора бы ей, женкето моей, потетешкаться бы с малыми. Заимела бы эту заботу – глядишь, и не стала бы дурью маяться…
И он потешно прихлопнул себе ладонью рот, произнесший слова, которые запрещалось произносить в присутствии атлантов, дабы не утруждать их слуха, чуткого к красоте и безобразию. Но Ягуна, по счастью, не обратила внимания на неизящное выражение Радмила. Казалось, нечто совсем иное занимает ее мысли. Она помолчала, так и сверля глазами Радмила, который уже и не знал, куда и деваться от этого допроса, затем медленно и как бы неохотно проговорила:
– Так ты думаешь, что дети твои задерживаются только по причине твоего нежелания? Не слишком ли высоко ставишь себя, Радмил-непутевый?
Радмил молчал, не зная, что отвечать. И Ягуна вроде бы сжалилась над ним, совсем уж сбитым с толку необходимостью размышлять о вещах, недоступных его пониманию.
– Хорошо, – все так же неопределенно сказала она, – теперь спросим у твоей жены, захочет ли она… Но если только она не пожелает вернуться к прежней жизни, тогда уж не обессудь, друг милый. Придется тебе тогда начисто позабыть о своих правах на нее. Тем более что и прав-то никаких у тебя нет.
– Как же так?..
– Изволь, я поясню. По-нашему, законный брак – единственно лишь тот, которым сочетаются по обоюдной любви. У вас же все по-другому: вы даже не выбирали друг друга по своему желанию. И если та, которую ты зовешь женой, откажется от тебя в моем присутствии – я, силой, данной мне свыше, разъединю вас, дабы не нарушался более величайший закон Свободной Воли…
– Я не согласен, домина!
– Молчи, человек! Молчи и смиренно подчинись неизбежному. Говорю же тебе: я не вмешиваюсь. Она вольна решить сама свою судьбу.
– Но как же я? Ты все время говоришь о ее желании. А мое, мое желание ты учитываешь, домина?
– Опомнись, дерзкий! Не забывай, с кем говоришь! Набрался вольницы в своих блужданиях? Забыл, что основа вашего же блага – послушание?
– Такое благо мне и даром не нужно. Бери его себе и пользуйся на здоровье! Мне же возвращай то, что принадлежит не тебе, а дано мне судьбой!
– Было дано, да ты не удержал своего счастья. Не оглядкой на подобие чужой жизни надо жить, а привлекая доверенное тебе сердце любовью и лаской. Ты же получил сам лишь то, что дал женщине, порученной тебе. И пеняй теперь только сам на себя. В другой раз, может, поступишь умнее.
– Какой-такой другой раз, домина! Я ведь навеки повязан!
– Не тужи, бесценный мой. Говорю же тебе – ты забыл, с кем имеешь дело. Если Лела откажется от тебя – я развяжу все узлы. Именно так: придешь домой – а там, вместо вековечного документа, висят веревочные куски. Ну, заговорилась я с тобой. Прощай, Радмил, и пожелай ей, утерянной для тебя жене, выдержать в ее нелегкой доле…
– Какой доле? – пробормотал Радмил, уже подавленный всем сказанным.
– Ну наконец-то уразумел. А то все о себе, да о себе. Так знай же, что Лела, одна из очень немногих, теперь будет учиться. Нелегко ей будет, – это только издали вам кажется, что так уж легка и завидна участь атлантов. А на самом деле…
– Атлантов, говоришь? Но Лела – человек, да еще и женщина, ко всему. Ты что, хочешь сказать, что будешь учить ее премудростям атлантов?
– Вот именно. А на этом пути, дружок, нелегко даже нам, божественно рожденным. Потому и прошу пожелать ей стойкости и непоколебимости. Пусть выдержит все…
– Но… Для чего все это, домина? Если она может не выдержать?
– Для вашего же блага, неразумный. Пришло время. Ничто не вечно, – вечен лишь круговорот всего… – туманно заключила Ягуна свою речь и скрылась из поля зрения Радмила.
Он опустил голову, потерянно перебирая в руках ленты круглой морской шапочки. Неожиданно голос Ягуны призвал его к действительности:
– Будь мужчиной, Радмил. Возьми себя в руки и не поддавайся внушениям своего лукумона, – они тебе только во вред, как и всем другим в Расене…
Радмил взглянул прямо перед собой – и натолкнулся на взор Лелы. Она, как бы задернутая легкой фатой, смотрела на него с беспокойством, и видно было, что она боится, не осознавая еще в полной мере своей защищенности от чего бы то ни было. Радмила поразила в самое сердце эта ее боязнь. Он уже знал, даже не спрашивая, каким будет ее ответ.
Они долго молчали. Затем Радмил поднялся и низко, касаясь рукой каменного пола, поклонился этой, отныне далекой и чужой для него женщине.
– Прощай, Лела, – тихо сказал он, – и прости меня, неразумного…
Ее взгляд, когда Радмил поднялся от поклона, был уже совсем другим. Она не понимала – он ли это, ее скорый на кулаки супруг? Ее лицо как-то даже подалось ему навстречу, так что Ягуна насторожилась: выдержит ли?
Однако она напрасно тревожилась. Порыв со стороны Лелы был всего лишь признательностью за непривычно добрые слова…
– Да сохранит тебя великий Посейдон… – проговорила она и замолчала. Потом добавила:
– И ты прости…
Радмил, чувствуя, что теряет что-то настолько драгоценное, что и не опишешь никакими словами, глядел в постепенно исчезающее лицо Лелы, пока на его месте не оказался вновь прямоугольник высокого окна.
Привратник, растворив перед ним отверстие невидимой глазу двери в стене, ограждающей замок, не удержался, чтобы не проводить взглядом его поникшую фигуру, такую маленькую и потерянную на фоне широкой и ровной белокаменной дороги.
Впрочем, самому Радмилу отчего-то было не так уж плохо и бесприютно, как этого можно было ожидать. Он вдруг заметил, насколько красива окружающая его местность: вокруг был ухоженный парк, постепенно переходящий в не менее чарующий дикий лес. И, хотя он намеревался спуститься вниз по дороге, – ибо спешить теперь ему было некуда – он, поддавшись внезапному порыву, ловко перемахнул через низкое ограждение и, не удержавшись, заскользил вниз по осыпи.
Он засмеялся от какого-то радостного, мальчишеского чувства, овладевшего им, казалось, совершенно внезапно. Странно, – но и кустарник вроде бы не царапал, и камни, осыпаясь вместе с ним, не били, а лишь плавно несли его от одного поворота дороги к другому.
Он подумал было, что тут не обошлось без чудес Ягуны. Может, он и был прав, – но только лишь отчасти. Откуда ему было знать, что в нем только что зародилось то непонятное ему чувство, которое Ягуна настойчиво называла любовью?..
Поистине, чудеса внутри нас самих…
Неспроста Ягуна торопилась отпустить Радмила – ей нужно было сосредоточиться. Беспокойное чувство приближавшейся опасности заставляло ее принять необходимые меры.
Она поднялась на самую верхнюю башню своего дворца, устойчивым кубом венчавшую все строение. Собственно, это не было башней, как не было и каким-то иным помещением, так как не отвечало главному для них требованию: здесь не было стен. Двенадцать узких колонн, облицованных порфиром, поддерживали округлую крышу, изваянную из орихалка в виде распустившегося цветка с неисчислимым количеством лепестков. На колоннах, сплошь устилавшими их узорами, были вырезаны священные имена и формулы, непонятные для непосвященных и так много говорившие сердцу атлантамага. Цветок этот сверкал и сиял над дворцом Ягуны и, благодаря его возвышенному местоположению, был заметен с любой точки Посейдониса. Впрочем, это означало, что, в свою очередь, вся долина вместе с прилегающим к ней портом в искусственном озере, при желании, могла быть видна Ягуне как на ладони.
Под крышей-цветком, в самом центре пола из теплого белого ракушечника, находилось круглое углубление, внутрь которого вели четыре ступени. Это и был храм волшебницы Ягуны, храм, открытый небу, горам, ветрам и океану, не загроможденный и не оскверненный ничем, что бы могло препятствовать его единственной жрице сообщаться со стихиями.
Опасное то было могущество: вольные силы стихий признают отношения только на равных. Горе тому земному существу, которое возомнит себя достойным такого сотрудничества – растерзают его невидимые энергии. И не по злому умыслу, а только в силу самой своей природы, не плохой и не хорошей, – в корне другой, несовместимой пока что с земной плотью.
Однако это все не относилось к бессмертной Ягуне. Облеченная высшим знанием, она не опасалась стихийных ударов. Впрочем, с некоторых пор и у нее появились некоторые затруднения, – совсем незначительные, на неискушенный взгляд, но ей самой говорившие о многом. Например, о том, что эфир ближайшего к земному миру измерения как бы перенаселился элементами, слишком тяжкими не только для него, но и для самой Земли как планеты. Теперь, переключаясь от своего плотного состояния в любую из иных сфер сознания, доступных ей, она старалась миновать эти, прилегающие земной тверди, области: они кишели самыми невероятными созданиями. Разные по форме, отвратительные или же довольно привлекательные, они все были едины в том, что носили в себе темную сущность, порождение человеческого зла…
К сожалению, сейчас Ягуне предстояло окунуться именно в эти темные волны. Ибо то, с чем она инстинктивно не желала соприкоснуться воочию, исходило откуда-то из вполне земного источника, отягощенного, как ей представлялось, привнесением огромной, чисто атлантской энергии. Сила этой энергии, направленная не по своему естественному назначению – ввысь, а в прямо противоположную, земную сторону, придавала небывалую мощь всей этой нечисти, которая свилась клубком вокруг источника света – редкого, но чрезвычайно желанного гостя в этом царстве мрака.
Ягуна и не пыталась бы прикасаться мыслью к этому темному шевелящему нагромождению, если бы не ощущала исходящих из его центра явных призывов к себе. Кто-то, одолеваемый врагами невидимыми, но от этого не менее – а, пожалуй, и более сильными, имел определенное намерение обрести в ней, Ягуне, защиту и помощь. Все бы ничего – не впервые ей оказывать подобные услуги атлантам, свернувшим с пути истинного, – но на этот раз, кажется, дело зашло далеко, если даже одно прикосновение к ауре этого несчастного вызывало в ней не только отвращение, но и непреодолимое чувство брезгливости.
И в самом деле, думала она, почему это «они», доводящие свою душу до полного уничтожения, в последний момент вспоминают о ней и требуют спасения, исцеления и Бог знает чего еще! Как будто она сама не обладает таким же точно, уязвимым и ранимым телом, как и они. Доколе же ей очищать и очищать эти бесчисленные отемнившиеся ауры на том только основании, что ей это дано. И почему никто из них не думает о сверхзаразительности этой клоаки нечистот, которую с готовностью и облегчением все стараются переложить на ее плечи! Знали бы они…
Но что это она?! Кому это нужно знать, что она, всесильная Ягуна, все с большим и большим трудом, одолеваемая взятыми на себя чужими недугами, – которые есть не что иное, как чья-то карма, итог грехов и преступлений Законов высших – очищает свое собственное естество от их вязких и прилипчивых, как черная смола, воздействий? Ведь, не будь ее каналы связи с Высшим Источником чисты, никто и не получит избавления. Но, конечно, так легче и проще: наворотил на себя всякого, что и лопатой не разгребешь – и сдал, как подарок, Ягуне! Вместо того чтобы самому, собственной чистой жизнью, сохранять в неприкосновенности свое главное сокровище – дух, заключенный в седмерицу девственных своих оболочек.
Она невольно усмехнулась: о какой девственности она говорит? Из всех аур атлантов вряд ли найдется теперь дюжина цельных, не тронутых темными пробоинами. Ягуна знала их все наперечет.
Однако она отвлеклась. И совсем не вовремя, – когда все ее силы должны быть направлены на отражение натиска. Эта ее эмоциональная вспышка, так несвойственная ей в обычное время, – она ведь уже сама по себе не что иное, как влияние этого низшего слоя, астрала. Как, с легкой руки кого-то из придворных царицы Тофаны (тут Ягуна осенила себя защитным знаком равностороннего креста, присоединив к нему, для верности, еще и круг, замкнутый руками) назвали в последнее время ближайшее к Земле измерение.
Невольно ей вспомнился брат и соратник великого атласа, один из титанов, изменивших своему же роду, чтобы поддержать народившихся тогда новых богов. Ибо, в своей наивности, вообще присущей благородным сознаниям, предполагал (как и Атлас с Океаном), что всему новому, как более перспективному, надо помогать, расчищая старые нагромождения. Она вспомнила некого иного, как титана Прометея.
Но недаром само упоминание этого имени было под запретом. Ягуна содрогнулась от невыносимой тягости и боли, которые вошли в ее нечеловечески чуткое на страдания всего живого сердце. Да, Прометей нес кару за неповиновение Высшим Силам. Вновь нарожденному, мало еще о чем ведающему человечеству он, руководствуясь лишь собственным разумением, доверил божественную искру Огня, – дар настолько же великий, насколько преждевременный.
Ведь все пошло на Земле наперекор Плану именно с этого. Огонь, который должен был быть обретен человеками естественно, в процессе их постепенного развития, – только опалил их душу, вместо озарения разумом. Обрывки сознания, вошедшие в эту душу, разгорячили ее – не создав в то же время прочной основы для восхождения этого, такого еще примитивного и туманного, сознания, – и силы его хватило только на то, чтобы, вырвавшись в сферу неземную, так и остаться на уровне все той же Земли.
И начало человечество с великим усердием и с помощью незадачливого титана и его команды, осваивать эту, ближайшую к тверди, область – астрал, по-нынешнему (Ягуна снова открестилась от привлечения этих сил). Ихто понять можно: вырвавшись за пределы видимого, они в восторге вообразили, что это и есть тот самый высший мир, мир богов. Переучиванию эти человеки не подлежали, ибо бесполезно было бы тут любое переучивание. Вот и пострадали все…
Да, погибла основная часть великой Атлантиды, где стихии, возбужденные страстями астрала, разрушили само основание ее, насквозь пронизанное разнородными вибрациями. Сам Прометей, один из всех, может быть, и осознавший причину катастрофы, загодя сумел увести в более безопасное место небольшую часть человеков и атлантов. Тем самым он спас от гибели тех, кто смог сохранить в себе неподатливость к низшим влияниям. Но огромна и велика вина его, как неизбежна и неотвратима даже богами карма за содеянное им. Тяжко он расплачивается собственными невыносимыми страданиями за то, что вышел из пределов, порученных ему: никому не дано, – ни богам, ни ангелам, ни титанам, вносить в Высший План собственные поправки.
Всей силой воли Ягуна отогнала от себя мысли о Прометее, а сделать это было нелегко, ибо он, ко всему, приходился ей кровным родственником. Однако ее печень, в той своей доле, которая отвечала за связь с астралом, разболелась настолько сильно, что казалось, будто ее ударили копьем или дергали за веревочку. Поистине: породивший зло от зла и погибнет. Ягуна знала, что сочувствием опальному титану привлекла к себе часть его мучений.
Она вновь занялась тем, что стала пытаться разглядеть расплывчатую и какую-то испоганенную личность того, кто взывал к ней из темного клубка, – и вскоре о боли в печени пришлось забыть. Не веря своим глазам, она осознала, тем не менее, что к ней приближается Ган, этот торговец, в котором и атлантского-то почти ничего не удержалось!
Однако это было именно так, и приближался он не просто мысленно, а именно во плоти и даже в сопровождении своего ужасного эскорта. Было ясно, для чего он летит сюда на своем тихоходе, жужжащем и фыркающем, как огромный и простуженный шмель: он желал бы избавиться («бедняжка», – Ягуна не чуждалась иронии) от своих наваждений, и не мудрено! Ведь он находится на последнем пределе…
И все же у Ягуны не было никакого желания иметь дело с подобным исчадием зла. Ган, вместе со своими двумя телами, которые только и успел приобрести за время земной жизни, подлежал отнюдь не ее заботе, – это было делом других сил. И, как бы отрешаясь от забот Гана, она резко стряхнула что-то невидимое с кистей рук.
Надо было действовать. Не имея возможности подсоединиться к любому из видеоканалов, во множестве и незаметно устроенных повсюду в ее поместье, она включилась напрямую – надо было торопиться. Хорошо, что начальник стражи понимал свою госпожу с полуслова: силовая защита над замком и окрестными горами, на всякий случай, была включена, а сам он выслушал подробные указания своей домины о том, что именно надо внушить этому горе-пилоту, добивающемуся у нее как бы насильственного приема.
Нет, никакого вреда Гану не было нанесено. Куда уж больше того, что он сам себе доставил?..
Все было очень просто. Пытаясь посадить свой мобиль, из той серийной категории, которая только и полагалась ему по рангу, и раз за разом отталкиваемый не только от самой посадочной площадки, а от всей этой местности, Ган вдруг подумал, что нечего ему терять время здесь, у этой надутой атлантиссы. И с чего это он взял, что только она одна сможет ему помочь? Найдутся и другие!
Сделав крутой вираж, от чего у него сильно и очень неприятно закружилась голова, Ган направился обратно, к Атлантису. Там, в одном из битком набитых кварталов Старого Города, он знал, обитала старуха Кадиса. Вот кто ему был нужен сейчас!
Он, в своей обычной спесивости, и не подумал о том, что велика вероятность ему встретиться там с незаслуженно обиженной им девушкой, ведь она определенно уже явилась к Кадисе. А куда иначе она могла податься, как не в этот дом, где воспитывалась с самого раннего детства.
Как, впрочем, и многие десятки других девочек. Не все они были сиротами – многих приводили к кудеснице сами родители, в надежде на то, что та возьмется за их выучку. И платили за это! А как же: стать ученицей Кадисы – значило обеспечить себе безбедное и благополучное существование на всю жизнь. К тому же – работа не грязная. Это тебе не копаться в земле или стирать чужое белье.
Да, старуха Кадиса была уважаемым человеком в припортовом квартале…
* * *
Еще в воздухе Ган выбрал стоянку поближе к тому месту, где, как он предполагал, должен был находиться дом, нужный ему: силы его таяли на глазах. Оставив подбежавшему к мобилю служителю серебряный диск, он вышел на шумную улицу, все еще недовольно ворча о том, что скоро, видно, придется платить даже за ходьбу на своих двоих.
Но вскоре он остановился. Во-первых, что-то неладное случилось со зрением – глаза словно застилало густой темно-серой пеленой, так, что сквозь нее лишь смутно проглядывали неясные силуэты прохожих, заполнивших улицу чуть ли не битком: был предполуденный час, – самое благоприятное для дел время дня. Кроме того, он не знал, куда идти. Да и того не знал, сможет ли вообще дойти куда-нибудь в этом состоянии.
Он испугался при этой мысли. Недаром он предчувствовал: надо было взять с собой кого-нибудь из охраны. Но решение обратиться к волшебнице явилось внезапно, так что он не успел загодя предупредить Яксува. А когда он был готов к вылету, и нетерпение обрывало все его мысли, и без того малопоследовательные, того и след пропал. Конечно, Ган раскаивался в своем легкомыслии, стоя сейчас в водовороте прохожих, которые немилосердно толкали его: он всем мешал.
Вдруг он почувствовал, как крепкая рука вывела его из толпы: сразу стало прохладнее, исчез тот жар, который неприятно напитывал тело Гана, пока он, словно сухая щепка на ветру, мотался по тротуару, загораживая его. В Атлантисе было строго насчет правил уличного движения, и пешеходов это касалось не меньше, чем ездоков.
Постепенно прояснилось в глазах, и даже глухая головная боль, сдавливавшая его голову с самого утра, начала проходить. Он увидел возле себя темнокудрого крепыша в форме надзирателя за порядком: тот все еще не оставлял руки Гана, считая его пульс.
– Вам нужна помощь, господин? – спросил он вежливо, но достаточно отрешенно. – Назовите адрес, и я отправлю вас домой.
– Нет, нет, – поспешил отказаться от его участия Ган, сам не зная почему не торопившийся открывать свое имя. – Все хорошо. Минутная слабость, знаете…
– Но это очень опасно, господин. Этого вообще не должно быть, вы же знаете. Разрешите вам посоветовать: немедленно обратитесь к лекарю. И лучше вам не находиться сейчас среди человеков: не каждый выдержит, знаете…
– Да, да, благодарю вас, – Ган старался быть изысканно вежливым, как это было принято вообще в Атлантисе, он не желал привлекать к себе излишнего внимания. – Конечно, я так и поступлю. Не могли бы вы для меня сделать кое-что: найдите, пожалуйста, повозку или амбала, на крайний случай…
Надзиратель кивнул. Без лишних слов он звонко просвистел в серебряный свисток, висевший у него на груди. Как из-под земли, рядом появился человек богатырского сложения, с головой, повязанной куском черной ткани – знак наемного работника.
– К вашим услугам, господин, – сказал он и, не теряя времени, стал на одно колено перед Ганом, – садитесь, господин, вам будет удобно.
Кивком поблагодарив надзирателя, Ган с трудом, будто суставы его потеряли естественную смазку, закинул сперва одну, а затем, уже с помощью амбала, и вторую ногу за плечи дюжего парня, представлявшие собой как бы естественное седло с мягкой подушкой, и тот, осторожно поднявшись, спросил своего седока:
– Куда бежим, господин?
– Давай прямо, – уклончиво ответил ему Ган, которому не хотелось, чтобы надзиратель слышал имя Кадисы.
Амбалу было не привыкать к капризам клиентов. Готовясь получить адрес поточнее, он не развивал пока полной скорости, – и не ошибся. Вскоре Ган, наклонившись к его уху, – ибо на улице было довольно шумно – сказал:
– Где-то тут живет старуха… Кадиса, кажется. У нее, говорят, замечательные массажистки. Хочу попробовать, ох…
Он мог бы и не играть комедии – никого в Атлантисе, тем более, наемных работников, не касалось, по каким надобностям и куда именно направляется кто бы то ни был. Крайней степенью невоспитанности считалось интересоваться чужими делами и вообще совать свой нос куда не следует. Однако у старухи Кадисы была столь многогранная, и не менее сомнительная, репутация, что Ган, с его потугами на высшее происхождение, стыдился сам своего намерения. Тем более что он начал понимать: к Ягуне его просто не допустили…
– Мигом домчу, господин, это рядом, – обрадовался амбал.
Они свернули в переулок, прямым углом пересекший главную улицу, и тут уж скороход показал, на что он способен. Но, справедливости ради, надо сказать, что и седок-то у него оказался легким, почти невесомым.
Жаль было и расставаться с таким. Может быть, поэтому амбал, получив свою плату, сказал Гану, когда тот уже стучал в резные ворота бронзовым красивым молоточком:
– Если желаешь, господин, я подожду тебя.
Поколебавшись, – не в его правилах было хоть как-то зависеть от другого, Ган кивнул:
– Ладно. Только… Может, ждать придется долго.
– Не беда! Отдохну.
И он, аккуратно подвернув полы рубахи, присел у ворот на мягкую травку.
Тем временем Ган уже входил в низкую калитку, открывшуюся в створке ворот. Для этого ему пришлосьтаки преклонить голову, и довольно низко…
Старуха Кадиса ждала его, сидя в беседке, увитой вьющимися розами. Тут у нее был устроен вроде бы как даже трон. Именно таково было первое впечатление, которое создавалось у любого, кто видел это внушительное сооружение из резного кедрового дерева, покрытого серебряными и золотыми пластинами, повторявшими оттиск узоров явно магического содержания.
Гану уже не хотелось говорить с этой ведьмой. Да и голова снова разболелась, как нарочно. Однако было бы смешно теперь отступать…
– Иди, иди ближе, сынок, – заворковала Кадиса, – ближе, вот сюда. Садись, не побрезгуй.
Одна из черномазых, но одетых ярко и чисто, девчонок подскочила к Гану и ловко подставила под его колени табурет. Ничего не оставалось, как присесть.
– И кто это довел до такого состояния нашего могучего господина? – с легким оттенком сочувствия, не жалости, в голосе продолжала напевать Кадиса. – Вижу, вижу… О, великая наша Матерь, помоги!
Она протянула руку к треножнику возле себя, в чаше которого тлели, испуская ароматный дымок, какие-то сухие листья и коренья. Бормоча невнятные слова, старуха пошевелила пальцами, – и струйки дыма, вдруг разделившись, словно они и в самом деле понимали приказы своей повелительницы, направились в сторону Гана и окутали его легкими панцирем с головы до ног.
Ган ясно видел это, но пошевелиться, так же как запротестовать, не мог. Словно завороженный, глядел он прямо перед собой, в сероватую муть, пока не разглядел вдруг на дымчатом фоне неясный образ своей неземной возлюбленной. Он дернулся, пытаясь избежать наваждения, которого уже боялся, – как внезапно все исчезло. В глазах его прояснилось, и он первым делом посмотрел на кадильницу: из нее исходила ровная и прямая, как свечка, единственная струйка, точно такая же, как и во всех домах и дворцах Атлантиса.
– Ты чего-то испугался? – спросила его Кадиса. – Чего здесь, у меня, бояться? Это я, старая и беззащитная женщина, должна тебя опасаться! А я вот беседую с тобой, ибо знаю: все в воле богов, и все будет так, как они распорядятся. Я же стараюсь не гневить никого из них, и только прославляю их денно и нощно. Поэтому и уверена в их защите, что не преступаю их повеления. Помогаю ближним, как умею, – хотя что я, немощная старуха, могу? Деток вот воспитываю, которых доверяют мне, слава богам, их родители, – тем и кормлюсь. Да, да, другого дохода мне не дано…
Она явно ждала, чтобы Ган сам объявил ей о цели своего прихода, а он все молчал. Вновь объятый непонятной тягостью, отошедшей было от него в уличной сутолоке при соприкосновении с пышущим силой амбалом, он сидел, вяло следя за словами старой женщины и не желая уже ничего менять.
Однако Кадиса забеспокоилась. Отослав прочь всю дюжину девчонок, окружавших ее плотным кольцом, она в последний момент задержала одну из них и чтото долго шептала ей прямо в маленькое ухо, приподняв над ним красный платок. Затем, подтолкнув и ее к выходу из беседки, кудесница взглянула на безучастного ко всему Гана и сказала ему строго:
– Чего пришел, господин? Коли есть у тебя дело к старухе Кадисе – говори, нас никто не слышит. А просто так, без дела, ты не мог бы прийти сюда: не подружки ведь мы с тобой, чтобы попусту болтать!
Ган опустил голову, стараясь побороть сковавшее его безразличие. Мысли, какие-то неопределенные, скачущие и мелькающие отрывками, никак не желали остановиться, чтобы он мог хоть как-то сосредоточиться на одной из них и ответить этой старухе, которая, уж, конечно, была права: зачем-то ведь он пришел к ней, причем с таким трудом добравшись сюда. Он вспомнил про амбала, ожидающего его за воротами, потом с усилием двинулся в мыслях еще более вспять. Неясно проявился надзиратель улицы, и лишь затем Ган пришел в себя. Он наконец осознал все, что с ним случилось ранее: где он был с утра, в неуемной жажде избавиться от чего-то, имени чему он не знал, но столь сильно призывал еще совсем недавно.
– Ягуна… – произнес он и осекся.
– Я – не Ягуна, благослови ее Единый, – веско сказала Кадиса и стукнула посохом по деревянному полу, – ты явился ко другому двору. Посмотри-ка на меня, господин: узнаешь ли? Как-то я, по твоему желанию, приводила в твой дом девицу для работы и для внутреннего очищения тебя и твоего окружения. Как она, хорошо ли ей у тебя, и доволен ли ты ее услугами?
От недавнего воркования Кадисы не осталось и следа. Она говорила тяжело и веско, припечатывая свои слова гулкими ударами клюки, ударами, которые болью отзывались в висках Гана. Он обругал себя: как можно было ему идти за одолжением сюда, когда он выгнал Хадизу из своего дома, тем самым лишив ее пропитания и дальнейшей работы. А ведь он знал, что никто из приличных граждан Атлантиса не возьмет к себе «госпожу купальни», потерявшую девственность в другом доме! Не то чтобы он раскаивался, – этого чувства он не знал вообще, – но он корил себя за неосмотрительность.
Однако надо было как-то выходить из положения, которое все более для него запутывалось.
– Э-э, уважаемая Кадиса, – промямлил он, – вот я и пришел сюда, проведать тебя и сказать, чтобы твоя воспитанница, Хадиза, возвращалась в мой дом. Утром я немного погорячился. Но ты должна меня простить. Видишь, я чего-то не в себе…
– Так бы сразу и сказал, – смягчилась Кадиса, хотя глаза ее продолжали сверлить Гана, как буравчики, которыми ювелиры просверливают даже алмазы, – а то молчишь, как колода. Теперь-то понятна твоя выходка. Насчет же того, чтобы Хадизе вернуться – не знаю, не знаю… В наших делах, драгоценный, возврата нет. А тем более, что это касается такой девицы как Хадиза: видишь, я и имя ей дала подобное своему. А это значит, что сила в ней особая и путь у нее свой. Хотя, может, и пришло ей время закончить одну дорожку, и перейти на другую, – если будет на то воля богов. Мы об этом спросим ее саму. Но не сейчас…
У Гана отлегло от сердца, он решил, что провел старуху. Откуда ему было знать, что его темная душа была у нее вся на виду? Ведь она и виду не подавала об этом!
Ободренный ее кажущимся прощением, он взмолился:
– Милостивая госпожа Кадиса! Скажи мне, что со мной происходит? Тебе ведь ведомо все…
Кадиса, однако, не торопилась с ответом. Она долго молчала и не отрывала своих глаз от пространства вокруг Гана: то она глядела поверх его головы, то внимательно всматривалась во что-то вокруг него или даже в нем самом. Этот осмотр, как-то странно беспокоивший Гана, сопровождался ее плавными и осторожными телодвижениями: однажды, как бы отвечая на наклон ее корпуса назад, Ган едва не упал, притянутый неведомой силой.
Наконец ведунья остановилась. Закрыв глаза, она какое-то время размышляла, помогая себе негромкими и односложными восклицаниями. Затем вдруг закашлялась, да так сильно, что ей пришлось подняться со своего кресла и выйти из беседки.
Однако Ган недолго оставался в одиночестве. Вскоре послышались легкие шаги – едва слышное шуршание мягкой обуви по каменной дорожке. Нервно обернувшись, ибо ожидание чего-то неизвестного довело его до предела, который разрешается лишь слезами или смехом, одинаковыми в этой степени истерии, он увидел приближающуюся к нему Хадизу. Она была одета, вернее, укутана тщательно и плотно в черные покрывала, своим цветом гасящие все живое.
У него не было сил подняться или что-то ей сказать. Он предчувствовал, что каждое его действие или даже самое простое слово могли обернуться неким взрывом. Ибо то, что копилось в нем уже давно, сейчас, в эти минуты пребывания в особой атмосфере колдовского дома, готово было вырваться наружу. Пусть даже для этого потребовалось бы разрушить самое оболочку, – тело Гана.
Хадиза, будто не замечая своего недавнего хозяина, плавно обошла по кругу беседки и проделала это трижды. Ган, поневоле оказавшийся в центре этого круга, ощутил вдруг знакомый с детства аромат курений, особо почитавшийся в его отчем доме. Конечно, в его поместьях, как в Атлантисе, так и в Азии, постоянно курились, тлея дымками, кадильницы. Считалось, что они освежали воздух, хотя запах, исходящий из них, заставлял его порой уходить вовсе из дома. Но этот аромат, являвшийся сочетанием особых каких-то компонентов для воскурения, вызывал к себе доверие полное и несомненное. Ган вдруг почувствовал, что по щекам, независимо от его желания, текут слезы, – слезы успокаивающие, омывающие его как бы изнутри…
Окончив каждение, Хадиза остановилась за его спиной и проговорила:
– Встань и иди за мной.
Ган безропотно повиновался, не утирая слез, которые сами собой высыхали на его худом лице, принявшем за последние дни коричневато-серый оттенок. Он позабыл даже обуться в свои легкие, без задников, туфли, расшитые драгоценными камнями – они так и остались стоять, задрав носы, перед порогом беседки. Не думая ни о чем и не имея никакого желания думать о чем бы то ни было, он следовал даже не за Хадизой, а за этим божественным ароматом.
Не оглядываясь, она привела его в самый конец маленького сада, где стоял крохотный домик, почти конура. Сколоченный из почерневших от времени досок, он почти завалился на один бок, – непонятно было, как же в него входить, и кто же может обитать в этом, совершенно непригодном для жизни, сарае. Но, едва протиснувшись вовнутрь, чтобы пройти под матерчатой занавеской, которой было завешено дверное отверстие, – ему потребовалось склониться в три погибели – Ган понял, что здесь никто и не думает жить. Это помещение имело особое назначение: и многочисленные пучки трав по стенам, горшки с отварами и ступки, рядами стоявшие на полках, также как и низкий столик в углу, столь неожиданный во всем этом убожестве, со столешницей из драгоценного нефрита, – лучше всяких слов говорили об этом.
– Уф, уф, ну и тяжкий вокруг тебя дух, – послышался пронзительно-скрипучий голос старухи Кадисы, которая внезапно вздымая ветер своими многочисленными одеждами, появилась в хижине. – Ну да ладно. Это дело поправимое. Лишь бы ты сам попросил об избавлении. А ты и просишь. Правда? – и она строго приподняла свою клюку.
– Зачем бы иначе я пришел к тебе? – едва слышно промямлил Ган, доведенный, казалось, до крайности и своим состоянием, и этой, столь же долгой, сколь и ненужной, увертюрой к чему-то, что должно было произойти. – Не тяни, госпожа Кадиса!
Но Кадиса лишь пристукнула посохом.
– Лишних слов не говори! – прошипела она. – Скажи одно, ясно и отчетливо: просишь ли ты меня и эту женщину, – она кивнула в угол, на Хадизу, – о помощи в защите богов? Да или нет? – и она, подчеркивая торжественность момента, снова приподняла своей маленькой и темной рукой огромный витой посох.
– Да, да, да! – Гану пришлось не однажды повторить свое согласие, ибо, как нарочно, вначале голос его не был слышен даже ему самому. – Сделай же чтонибудь, чтобы вернуть меня к жизни! Освободи меня от этого рабства, Кадиса! – этот патриций, еще недавно такой высокомерный, он позабыл о своем былом достоинстве, а ведь оно, казалось, было для него неразделимо с самым строем жизни.
Кадиса, как бы припечатывая выраженное им пожелание, освобождавшее, кстати, ее саму от множества неприятностей, гулко стукнула трижды в небольшую каменную плиту, вделанную в земляной пол, как оказалось, именно для этой цели. Воздев руку высоко к потолку, который заменяла круглая крыша, покрытая соломой, она невнятно забормотала заклинания и не прекращала этого до самого окончания очистительного ритуала.
Ган почувствовал, как к нему кто-то осторожно прикоснулся. Наэлектризованный, как громоотвод в грозу, он вздрогнул. Хадиза, это была она, приложив палец ко рту в знак молчания, протянула ему какое-то черное тряпье. Одевайся, – мысленно приказала она, и Ган понял.
Уйти, чтобы уединиться, было невозможно. Да и к чему было стесняться, и перед кем? Не перед Хадизой ли?..
Он разделся, под пристальными взглядами обеих женщин, и неловко натянул на себя все, что было в этой черной кипе, не соблюдая никакой последовательности в надевании вещей и торопясь скорее покончить с этим. Первым ему попался черный чулок, дошедший ему до колена и странно задержавшийся там; потом он вытянул длинную рубаху и, не попадая в рукава, – не привык он одеваться сам! – кое-как протиснулся в ее узкое горло. Он уже надел и застегнул штаны, когда вдруг обнаружил оставшийся предмет: это была набедренная повязка. На его недоуменный взгляд Хадиза ответила непреклонным знаком. Пришлось подчиниться. Сняв просторные штаны, он тщательно укутал, как это ему показала Хадиза, наиболее священную часть своего тела…
Готовый к действу над собой, Ган стоял, ожидая распоряжений. Он все так же находился в состоянии как бы отрешенности, не думая ни о чем. Мысли, конечно, мелькали какие-то – например, о том, что одежда, данная ему, не надевана, и за это следует отдельно отблагодарить своих попечительниц, – но они вовсе не касались глубины происходящего.
Наконец Хадиза, опасливо приблизившись к нему, – ее губы также беспрерывно шептали какие-то непонятные слова – подставила под него низенький стульчик и знаком велела сесть на него. Он повиновался – и даже закрыл глаза, – сам уже не ожидая приказа.
И тут же как бы потерял сознание.
Это было непонятное и необъяснимое никакими логическими доводами, о которых он, в своем неверии, так много разглагольствовал раньше, в кругу друзей и собутыльников, – состояние. Он твердо, выпрямив туловище и чуть опустив подбородок, сидел на неудобном стульчике, пригодном разве что ребенку, и не падал. Более того – он не ощущал вовсе своего тела. Мало-помалу он начал как-то мыслить, однако вскоре заметил, что мысли эти совсем не похожи на его обычные, нестройные и комковатые. Теперь же все, о чем бы он ни пожелал помыслить, мгновенно составлялось в его разуме во всей своей последовательности, так что он ясно видел начало и конец каждой вещи, каждого происшествия. Главным результатом этого откровения было то, что он вдруг осознал – если не в полном, то, во всяком случае, во всем доступном ему объеме – случившееся с ним. Осознал начало этого явления, его «расцвет» и – ожидавшую его в скором времени мучительную гибель, если он не сумеет освободиться от некоего рабства, опутавшего его существо. Он не думал обо всем этом по очереди, не рассматривал каждый этап своего падения в отдельности. Самое удивительно – и он осознавал, насколько это удивительно, – что все представлялось ему разом. Не существовало ни времени, – а ведь многие события, развертывавшиеся перед ним, протекали в последовательности именно временной – ни, поистине, пространства: оно отступило перед калейдоскопом событий, совершавшихся, тем не менее, в часто весьма отдаленных его точках. Ни страха, ни раскаяния, ни радости желаемого избавления Ган не чувствовал. Он просто знал то, что ему дано было узнать, и увидел часть того, что можно было увидеть, не нарушая равновесия сознания…
…Ему показалось, что прошло много – неизвестно сколько – времени. Велико же было его удивление, когда он, открыв глаза, увидел, что свеча, зажженная Хадизой, как только он устроился на своем детском сиденье, не успела оплавить своего вершинного конуса. Это могло значить только одно, а именно то, что не прошло и пары минут, как он ушел в себя.
Он перевел взгляд на старуху Кадису. Та стояла на прежнем месте и смотрела на него. Смотрела не строго, не требовательно, не как иначе, но совершенно равнодушно. Гану стало даже обидно: как же так, только что проявляла к нему такой повелительный интерес, держала все его существо под таким страшным накалом своей воли – и вот, на тебе! Он не знал о том, что в нем говорит все еще не растворившаяся ниточка связи с темным духом своей недавней повелительницы, – ниточка, через которую та управляла его безвольной душой, позволившей опутать себя ее одержанием.
Не знал он и того, насколько тяжела была работа по его освобождению, хоть и длилась она, по земному времени, несколько коротких мгновений. Кадиса стояла неподвижно и безмолвно и, не проявляя ровно никаких чувств к своему пациенту, не потому что тот был ей безразличен, – она, израсходовав огромный запас личных сил, находилась чуть ли не в прострации…
Вот тут и пригодились знания Хадизы и ее живость. Приказав Гану раздеться догола и, омывшись в бронзовой чашке, вновь надеть свое платье, она подхватила старую женщину под руки и почти понесла ее к дому. Хорошо еще, что предупрежденные заранее служанки и неизменный рой нарядных девчонок высыпали из дома и переняли ее ношу, – хоть и худа и тоща была Кадиса, а, лишенная жизненной энергии, она весила не меньше, чем любая из каменных плит, с которыми шутя управлялись атланты, но сдвинуть с места не мог ни один человек…
…Стараясь не прикасаться руками к снятой и теперь уже страшно ядовитой и заразной, одежде, – ибо впитала она в себя все смертельные излучения его тела, недавно еще безжизненного, Хадиза все так же безмолвно позвала Гана за собой.
Она шла впереди, вытянув далеко перед собой руки с завернутой в травяную бумагу черной одеждой. Все в этом крохотном дворе было рядом, идти пришлось недолго; у самого забора, свитого из хвороста и гладко обмазанного раскрашенной поверху глиной, она остановилась. Здесь был мистический центр этого дома – манда, круглая и глубокая яма, непременный атрибут не только каждого жилища, но также и селения и города.
Это таинственное и столь необходимое в повседневной земной жизни место служило для человеческих сношений с силами подземного мира. Никто не считал их однозначно злыми или нежелательными, – не было размышлений на эту тему, ибо все в мире принималось как данность, устроенная Высшей Силой, и потому не подлежащая обсуждению со стороны жителей срединного земного мира. И как ни велика могла быть гордыня отдельного человека, он, тем не менее, без возражений принимал главенство над собой невидимых сил. Правда, в своем неразумии – не мог его ум пока принять в себя очень уж многое – часто, очень часто смешивал он в своем почитании эти невидимые силы, отдавая равную дань как богам высшим, так и низшим, подземным. Но смешивал их именно в равности почитания, а отнюдь не в их принадлежности к тому или иному миру. Культ этих сил был строго разделен.
Манда, непременное место освобождения от всех темных неравновесий, служила ни в коей мере не мусорной ямой, как можно было бы подумать: с богами подземными, для своей же пользы, надо было ладить. Поэтому в нее складывались и непременно, как обычные пожертвования богам, так и первины от всего, что сопутствовало жизни человека: часть урожая, первая миска из котла или кое-что из обнов. Как ни странно, к утру все бесследно исчезало. То ли место выбирали особое, то ли…
Впрочем, никто не занимался этим «то ли». Всем было понятно и без всяких дополнительных объяснений, что жертва угодна подземным духам, и за свое благополучие какое-то время можно не беспокоиться. Боги Высшие – они, конечно, велики, но жить-то человекам приходится на земле…
Произнеся определенные слова, Хадиза со всеми предосторожностями передала ношу Гану и чиркнула над нею огнивом, загодя припасенным для этой цели. Одежда горела плохо, но жар уже начал опалять руки Гана. Выждав какое-то время, Хадиза ловко подставила под сверток большой жестяной совок, и вовремя: Ган выпустил его из рук, не в силах больше терпеть жар огня.
Она держала этот костер, разгоревшийся вдруг сильным пламенем, яркие сполохи которого обрамляли языки густого и черного дыма, не торопясь сбрасывать его вниз. И лишь когда догорел последний комок ткани, дольше других сопротивлявшийся уничтожению, а это был один из чулков, Хадиза с ликующим возгласом вытряхнула пепел вместе с хлопьями сажи в ритуальное отверстие, разверстое в земле. Склонившись, она долго наблюдала за тем, как они падают, затем выпрямилась и, не глядя на Гана, произнесла:
– Слава богам, все прошло лучше для тебя, господин, чем можно было ожидать. Отблагодари же их, пекущихся о нас, золотом или чем-нибудь другим, что ты припас для них.
С сомнением Ган вытащил из кошеля золотой диск и посмотрел на Хадизу. Однако та демонстративно отвернулась: никто не должен был оценивать жертвоприношения, совершаемого другим, – оценка эта была не в земных мерах.
Ган, повинуясь порыву, собрался было вытряхнуть все содержимое своего кошеля, как всегда набитого золотом и серебром. Однако что-то удержало его: он подумал о том, что негоже будет уйти из этого дома, не отблагодарив этих женщин, которые столько возились с его немощами. И вот, вспомнив подземного бога, имя которого он давно не произносил, находясь постоянно в чуждой для себя атмосфере атлантов, – он попросил его принять свой скромный дар.
Два золотых диска, довольно увесистые, тускло мелькнули на солнце и сгинули в темноте манды, вглубь которой нельзя было даже вглядываться. Делать это могли лишь те, облеченные особым знанием сокровенных слов – магических заклинаний, оберегающих от вредного влияния вечно голодных нижних духов…
Тем временем Хадиза приготовилась совершить заключительную часть ритуала, без которой очищение человека не могло быть полным. Она принесла из хижины, в которой совершались всевозможные обряды, плошку с растопленным и влитым в воду воском. Перевернув плоскую сверху лепешку, она задумчиво начала разглядывать неимоверное сплетение мельчайших и более толстых нитей, спиралей и витых змей, спаянных воедино силой всемогущего огня. Ган начал уже несколько тяготиться всем этим, затянувшимся, по его мнению, процессом. Он и не обратил внимания на то, что вновь обрел прежний интерес к жизни, который, впрочем, становится заметен лишь при его утрате. Наклонившись было через плечо Хадизы, он хотел не столько увидеть то, над чем она задумалась, сколько поторопить. Но та неожиданно резко отвела в сторону плошку, отчего всколыхнулась, едва не пролившись через край, вода, в которой плавал воск.
– Не смотри! – воскликнула она. – Не то снова примешь в себя все то, что окаменело в этом воске! Закрой глаза и читай молитву…
Ган закрыл глаза и начал вспоминать одну из молитв, которым его пытались научить еще в детстве. На ум не шла ни одна – он, казалось, начисто забыл все, что относилось к прежней вере, не воспринятой сердцем и потому как бы посторонней. Хадиза, видно, почувствовала пустоту его души, так как начала ему подсказывать, в то же время ломая на мелкие куски скрученный и перевитый воск:
– «Живу с помощью Вышнего», – нараспев произносила она, – «в крови Бога Небесного водворившись…»
Ган, машинально повторявший вслед за ней эти слова, с удивлением заметил, что дальше говорит все сам, опережая даже Хадизу:
– «Заступник ты мой и прибежище мое, Бог мой – и уповаю на Тебя …»
Молитва была длинной, но произносилась легко и без всякого затруднения, – казалось, будто кто-то внутри Гана читал эти слова по писаному. В эти минуты он осознал наконец, что исцелился. Впрочем, эта мысль, мелькнув, тут же исчезла, ибо Ган теперь боялся вспоминать о том, что с ним было.
Он открыл глаза как раз тогда, когда Хадиза далеко перед собой вытянула руки, готовясь вылить содержимое плошки в ритуальную яму. Она прошептала:
– Смотри, это все твои грехи, они навсегда застыли в этой форме! Матерь-материя согласилась перенять с твоего тела те энергии, которые оно впитывало из твоих мыслей, чувств и поступков. Она перевела их в новую форму, ибо без формы они уже не желают существовать. А теперь этот воск, послушный воле очищающих стихий – огня и воды, – принял в себя все твои немощи, беды и вредные потусторонние привязки. Восхвалим же Великую Матерь всего существующего!..
И она медленно перевернула плошку над ямой, громко произнеся:
– Прошу милости, боги подземные, для раба вашего, произошедшего от земной плоти, Гана! Примите эти энергии, запечатленные в изменчивой форме, и распорядитесь ими, как желаете. Ибо таково повеление Великой Матери, что освобождается отныне Ган от их засилья. Повторяю трижды сказанное именем Непроизносимого! – и она, сложив в колечко губы, тут же развела их, сомкнутые, в подобие улыбки.
Это был священный знак. Ган повторил его, как повторял до этого все, что она велела, и искоса взглянул на Хадизу, которая так неожиданно для него проявилась в новом качестве.
Он вдруг заметил то, чего никогда раньше не отмечал: лицо ее имело черты нежные и в то же время четкие, будто вырезанные искусным резцом. Сейчас, открытое взору Гана, – шапка ее буйно вьющихся волос была тщательно убрана под плотную черную повязку – это лицо, побледневшее до того, что потеряло свой обычный смуглый румянец, обрело полупрозрачность слоновой кости. Глаза, прикрытые усталыми веками, не излучали больше того притягательного блеска, которому не мог противиться ни один мужчина. С удивлением Ган понял, что совсем и не знал этой женщины. Да и к чему это было ему, аристократу, заглядывать за преграду смазливой внешности какой-то «госпожи купальни»? Он всегда был уверен, что за ней нет ничего, кроме пустоты. Сейчас же Ган вдруг понял, что желает взять ее на руки…
Хадиза, словно почувствовав нечто не совсем обычное в состоянии своего бывшего домина, пугливо закрылась рукой и, опустив голову, торопливо пошла к большому дому. Перед крыльцом ее ждали две служанки, поверх пышных складчатых юбок закутанные в тонкие черные покрывала, которые сняли с нее верхнее одеяние. Ган наконец понял весь смысл этой черной одежды: с ней вместе, по завершении магического действа, уходила и вся вредоносная сила, – недаром ее же эмблемой была угольная чернота.
Как он и предполагал, служанки, скомкав длинный кусок ткани, обертывавший Хадизу только что, понесли его вместе со своими накидками, которые они также с видимым облегчением сняли, в угол двора. Однако, не к манде, как был уверен Ган, почувствовавший интерес к магии. Нет, они просто сунули черный комок в корыто с водой, где одна из них, не теряя времени, начала яростно тереть их щелочной глиной и бить деревянной лопаткой.
Гана отвлекла девчонка в красном платье, с обилием золотых (или золоченых) кружков на голове и груди. Показавшись в проеме двери, она крикнула:
– Господин! Идите сюда! Вас желает видеть домина Кадиса! Я провожу вас!
Девчонка приплясывала от нетерпения, и Ган, поддавшись ее очарованию, даже развеселился. Он обернулся было, чтобы позвать с собой Хадизу, но ее нигде не было видно…
Схватив гостя за руку, пышущая энергией девчонка потащила его куда-то высоко, – они преодолели несколько лестничных поворотов, прежде чем маленькая провожатая остановилась перед тяжелым куском ткани, закрывавшим вход. Пригладив свои волосы, заплетенные в четыре косы, – по две на спине и груди – она критически осмотрела Гана, явно желая найти непорядок в его одежде. Пораженная богатством и великолепием его наряда, она недоверчиво хмыкнула, после чего наконец потянула за веревку, управлявшую матерчатой дверью. Занавес пополз по обе стороны проема, открывая вход, и Ган ступил за порог.
Круглая комната, представшая перед его глазами, удивила его прежде всего аскетичностью обстановки. В Атлантисе никто не знал нужды в той мере, в какой это было дано любому из сословий. Конечно, сами атланты, к которым по закону рождения принадлежал и Ган, в счет не шли: их возможности материального состояния обычно равнялись тем духовным, не равным человеческим, силам, которыми они были в состоянии управлять. Те же из них, кто, по разным причинам, утеряли в себе способность творить материальную вещь лишь своей творческой мыслью – а это случалось с атлантами теперь все чаще и чаще, – безбедно проживали родовые накопления в виде несметных богатств, да еще, все большее число, отбыв обязательную службу, – миту – которая для них, высшего сословия, состояла обычно лишь в общей планировке работ или, в крайнем случае, в руководстве издалека через целый ряд посредников всевозможными конкретными делами и производствами, выполнявшимися человеками, – изъявляли желание оставаться и дальше на государственной, теперь уже оплачиваемой службе. Конечно, это было решением проблемы для них, но в то же время все более снижало планку уровня служителей государственного аппарата. Постоянно вращаясь в кругу уже немногих истинных, эти «атланты» стремились подражать им не в приобретении потерянных качеств, дающих всемогущество, но всего лишь подобием внешней роскоши. Однако если у настоящих по духу атлантов эта роскошь была только спутницей красоты жизни, без которой не обойтись, то низведенная с высот и начавшая самостоятельное существование роскошь превратилась лишь в тягу к показному богатству…
Поэтому-то Ган, представитель второй категории, и не смог понять строгой простоты, представившейся ему во всем. Стены комнаты, прорезанные большими окнами на все четыре стороны, по кругу, были выкрашены гладкой, безо всякой росписи, белой краской; потолка вовсе не было, или же он был настолько прозрачен, что не выделялся на фоне яркого неба. Мебели – почти никакой, не считая табурета, поставленного посередине комнаты явно для Гана, и деревянного, грубо, на его взгляд, сколоченного кресла, в котором сидела Кадиса, как-то опустившись в комок жестких белых тканей, из которых выглядывало ее темно-красное лицо и такие же, словно вырезанные из древесины сапотеки, кисти рук. Позже он заметил в стороне, между окнами, которые ничем не были завешены, тахту, без изголовья и всяких подушек. Однако именно эта тахта и говорила о том, что помещение было жилым. Покрытая поверх довольно тощего тюфяка полосатым домотканым рядом, который своей радужной расцветкой только и оживлял какую-то отрешенную настроенность комнаты, она одним краешком белоснежной простыни, небрежно оставленным для обозрения, говорила красноречивее многих слов: здесь кто-то спал, жил, – думал, наконец.
Тем временем старуха Кадиса громко проскрипела, обращаясь в открытый проем двери и не обращая внимания на оторопевшего в непривычной обстановке Гана:
– Мотья, негодница, ты слышишь меня?
– Да, баба Кадиса… – отвечала ей провожатая Гана, высунув голову, вернее, половину ее, с одним глазом, изза притолоки двери.
– Пойди, присмотри, чтобы Хадиза не забыла выкупаться и надеть все чистое. Ты меня поняла?
– Да, баба Кадиса, – тихим и ясным голоском ответила девчонка, и Ган поразился несоответствию ее теперешнего тона тому, которым она разговаривала с ним самим только что, – но не беспокойтесь: Хадиза уже вымыла руки, я видела.
– Я тебе что сказала?! – голос старухи приобрел грозные интонации. – Руки мыть надо и без того часто! Просто так, едва подумаешь о чем-нибудь, чего вспоминать негоже. Или не знаешь?
– Как не знать, – боязливо закивала головой ученица.
– Смотри же у меня!.. А тут совсем другое… Поторопись, беги и передай мой приказ: вымыться не просто над кадкой, а с паром. Скажи – «с паром», слышишь! Она поймет.
– Ладно, баба Кадиса, – было ответом, и частые негромкие удары рассыпались вниз по лестнице.
– Сама же возвращайся обратно, слышишь? – вдогонку ей прокричала Кадиса.
Усмехнувшись чему-то, лишь ее одной известному, она оборотила свой взгляд на Гана.
– Чего стоишь? – удивилась она. – Садись, вот, – она кивнула на табурет, – долго не задержу.
Ган, сунув руку в кошель, оглянулся, ища место, куда бы можно было положить плату за проведенный сеанс. Старуха с прямотой, свойственной ее возрасту, указала на порог:
– Туда… – видя, что Ган не понимает, она пояснила, – у порога оставь. А сам иди ближе, не бойся.
Ган, зачерпнув сколько мог, вытащил горсть ценностей и положил на деревянный настил из полированных неокрашенных дощечек, затейливо уложенных в порядке, обозначающем определенное понятие: здесь все, как он понял, имело свое глубинное значение. Однако, еще не выпрямившись, он увидел эту жалкую кучку как бы со стороны – и, повинуясь порыву, высыпал, перевернув кошель его вверх дном и встряхнув все его содержимое, которое все же показалось ему самому недостаточным. Однако больше у него с собой ничего не было. Собираясь сказать об этом Кадисе, он выпрямился и обернулся к ней.
Но она опередила его:
– Долго мне ждать тебя? – проговорила она, и костлявый ее палец властно указал Гану на табурет.
Он вновь повиновался, уже не удивляясь собственной странной покладистости:
– Готов выслушать тебя, госпожа Кадиса.
– Слава громовержцу Ильяпе! Наконец-то! А то я уж думала, что ты так и покинешь нас, не поблагодарив…
Ган не был скупцом, но такая явная жажда оплаты несколько покоробила даже его, – а ведь прибыль для Гана была профессией, делом его жизни.
– Но мы ведь не первый день знакомы, – отводя глаза, заметил он, – если бы я и ушел, – то не навсегда же…
– Ну-ну, не обижайся, – примирительно буркнула старуха, – тебе теперь нельзя обижаться. И радоваться сильно нельзя и печалиться. А уж особенно – нельзя гневаться.
– Ты уж лучше сразу скажи, а что можно? Того нельзя, этого! Глядишь, и жить не захочешь!
– Неужели и впрямь не захочешь? – старуха Кадиса сверкнула глазками. – А ну-ка, подумай!
– Что это ты начала так привязываться к каждому моему слову? – заерзал на енепривычном ему сидении Ган. – Говори, что нужно, и…
– Вот как ты теперь заговорил, высокородный домин Ган! – с каким-то даже удовлетворением сказала, перебивая его, Кадиса. – А ведь недавно, и часу-то не прошло, ты был совсем другим… Ну что ж, я рада, ибо твоя обычная заносчивость доказывает, что ты полностью исцелился. Но если ты так уж спешишь – иди. Дело твое. Нет на то твоей воли – и разговора не будет. – И она громко повторила: – Иди же!
Ган, которому то ли его любопытство, то ли спесивость не позволили подчиниться приказу, столь недвусмысленно выраженному, примирительно сказал:
– Ну что ты, госпожа Кадиса! Разве я не доказал тебе свое полное доверие, придя именно сюда? Даже после того, как… ну, ты знаешь.
– Хадиза, да? Ты говоришь про нее? – ухватилась за его невысказанную мысль старуха.
– Да… – нехотя кивнул головой Ган, смотря в окно, – сама ведь говоришь, что ведаешь обо всем…
– Ну и что с того, что я ведаю, – вполне резонно отвечала ему Кадиса, – а сказать иногда про то, что он чувствует, человек должен сам. Запомни это.
– Человек? В своем ли ты уме, старуха?
Но она смотрела на него совершенно ясным и трезвым взглядом. Что-то в этом взгляде заставило его, сорвавшегося было с места, снова сесть.
– Или ты будешь сидеть спокойно, или… – она насмешливо цокнула языком, – мне придется утихомирить тебя.
Вспомнив о том, чему он недавно был свидетелем, Ган поспешил заверить Кадису в своем послушании.
– То-то, – сказала она, опуская тихо и осторожно свой знакомый Гану посох, которым она, как было видно, вознамерилась припечатать какое-то мысленное повеление, – обещай и дальше вести себя тихо. Мало ли что я скажу, а ты все равно не шуми. Ибо знай: отныне для тебя наступает другая жизнь. И не я виновата в этом, а ты сам. Боги велят мне предупредить тебя и наставить. А ты уж дальше – как сам пожелаешь. Так как же – продолжать ли мне?
У Гана, независимо от его воли, колкие мурашки поползли по спине; он притих, предчувствуя неотвратимое приближение чего-то, что должно было сокрушить его, казавшийся еще совсем недавно таким прочным и устоявшимся образ жизни.
Он кивнул, не в силах говорить.
– Так слушай. Начну с далекого. Знаешь ли ты, что в твоих жилах течет кровь человеческая, ярко-красного, а не голубого, как у атлантов, цвета?
– Моя мать имела такую же кровь…
– Это могло бы ничего и не значить, если бы ты своим сознанием не уродился в человеческую сторону.
– Откуда тебе это знать, ты ведь и сама из человеков!
– Будешь меня перебивать – мы никогда не доберемся до конца. А тебе надо бы поторопиться. До моей особы речь еще дойдет, сейчас же – о тебе. Уродиться человеком может каждый, и бог, и герой … И в этом – великое испытание, даруемое нам свыше. Но, я вижу, ты знаешь о себе еще меньше, чем я ожидала. Как же ты учился? А ведь ты должен был обучаться в Академии для атлантских отпрысков?
– Ты забыла, старая, что я не так давно прибыл сюда с востока. И воспитывали меня материнские родичи. Один из них даже хотел усыновить меня, но отец, прилетев однажды, забрал меня от них.
– А мать… Она осталась там?
– Нет, ее он тоже привез сюда, только…
– Она здесь скончалась?
– Совсем недавно… И как-то странно, знаешь…
– Знаю. Постарела вдруг – и как высохла. Так? – Именно! Откуда ты знаешь?
– Говорю же тебе – я все знаю! Но – царствие Небесное твоей матушке! – Пожелаем ей того, чего единственно и должны желать сами себе… Это очень долгий разговор, о причине смерти твоей матушки. Впрочем, это касается и тебя самого. Ведь ты недавно чуть было не погиб, – ты заметил это?
Она настороженно глядела на Гана, будто испытывая его, и он поспешил ответить:
– О да, госпожа Кадиса… Как было не заметить…
– Но ты хоть понял, что все началось с того, что ты, ни во что и ни в кого не верующий, стал подражать неким… в общем, здешним доминам? В их отрицании высшего, будто и вовсе не существующего.
– Да, именно так.
– Впрочем, для того, кто не верует, Высшего и действительно нет…
– Не пойму.
– Ну и не надо. Дальше – они стали убеждать тебя, что наступила эра других богов, и раз за разом вводили тебя в соприкосновение с ними. Так?
– Ты как в воду глядишь…
– Вот ты и соприкоснулся. Не обученный там, на востоке, хотя бы примитивным началам защиты от невидимой силы, – она неслышно произнесла охранное заклятие, – ты, открывающийся, под влиянием твоих покровителей, тут же стал добычей того мира, который и есть твое истинное пристанище.
Лицо Гана потемнело от прилива крови. Кадиса насмешливо заметила ему:
– Говорила же тебе – нельзя гневаться. Помереть можешь. А главное, такими взрывами чувств ты можешь снова привлечь к себе тех же… нежитей. Они, дружок мой, только и питаются энергией недоумков вроде тебя.
Видя, что Ган готов вспылить не на шутку, она, вздохнув, начала подниматься с жесткого кресла.
– Не получится у нас разговора, домин Ган. Уж больно ты обидчив. Однако ты совсем не учитываешь того, что я и сама такая…
Ган сидел, уперев руки в колени, и его тяжелый взгляд исподлобья не отрывался от старой женщины.
Она неожиданно хихикнула, показав молодые зубы. Ее черные глаза, живые и выпуклые – почти вровень с линией лба и щек, – блеснули, когда она сказала Гану, подбоченясь:
– Что это ты засмотрелся на меня, а? Разглядел наконец, что я вовсе и не старуха? То-то же!
И она, быстрым жестом смахнув с головы свой затейливый и громоздкий головной убор, сверху покрытый огромным платом, выпрямилась и предстала вдруг перед изумленным гостем совершенно в другом обличье. Теперь это была женщина средних лет, не первой, конечно, молодости, но и не древняя старуха, как, не задумываясь и не приглядываясь, привык думать о ней Ган. Лицо ее, цвета кедровой коры, неузнаваемо изменилось от внезапно открывшегося блеска очей, которые все привыкли видеть в прищур и как бы подслеповатыми. Но главным чудом была усмешка, явившая напоказ ровные и белые, крупные и округлые жемчуга зубов. Темные, с неожиданными русыми прядями, волосы ее, не заплетенные в косы, а стриженные до плеч, рассыпались тугими кудрями, когда она тряхнула головой…
Наслаждаясь произведенным впечатлением, Кадиса все глядела на молодого мужчину, который онемел от изумления. Наконец, желая вконец подчинить его своей воле, показав силу собственного чародейства, она медленно сняла с себя бесконечной длины покрывало, которым ее тело было окутано и заверчено в бесформенный кокон, и выпрямилась во весь свой немалый рост. Ее платье цвета малины, расшитое по вороту, подолу и рукавам широкой полосой золотого узора, в который были вкраплены сияющие глазки драгоценных камней, переливавшихся всеми цветами при ее малейшем движении, подчеркивало статность фигуры, хоть и ниспадало свободным каскадом мелкой сборки сразу от плеч.
Насмеявшись вдоволь, Кадиса вновь уселась в свое кресло и, утирая кружевным платочком увлажненные смехом глаза, заговорила:
– Не обессудь, драгоценный мой. Люблю вот так потешить свое сердце, старая, показав себя настоящую. Жаль, что это можно делать очень и очень редко…
Ган продолжал молчать. Еще раз бегло взглянув на него, Кадиса заметила:
– Ну что, так и будем молчать?
Ган был в затруднении большем, чем это можно было бы описать. То, что было явлено перед ним, не могло им быть воспринято иначе как чудо. Причем, едва ли не самое большое из всех чудес, которые он успел повидать здесь, на Посейдонисе. Но, с другой стороны, это чудо ясно показало ему, что он, несмышленыш в этом всеобщем чародействе, может плохо кончить. Ган не считал себя трусом (хотя кто же себя им считает?), однако невольный страх объял его.
– Что же здесь можно сказать? – развел он руками, пытаясь выиграть время, чтобы успеть обдумать положение. – Много чудес я повидал на этом поистине неземном острове, но такого… Чудо, которое передо мной сейчас – не сравнимо ни с чем…
Кадиса сидела, прямая, как статуя, умиротворенно улыбалась.
– Понял ты теперь, кто я такая? – спросила она.
– Только одно понял я: ты – величайшая из самых великих волшебниц, добрая Кадиса.
– Ну, это ясно и так… Ладно: все-то тебе приходится разжевывать, будто птенцу. Но жаль мне тебя, уж поверь мне, старой!
Ган запротестовал:
– Прошу тебя, Кадиса, не наговаривай на себя! Не произноси больше слова «старая». Ты, знаешь ты это или нет, но моложе многих молоденьких. И это тебе говорю я, Ган, который знает в женской красоте толк!
Ничего вроде не изменилось в выражении лица Кадисы, однако каким-то неуловимым чувством Ган понял, что нашел верный путь к ее сердцу. Волшебница ли, или простая селянка, – женщина остается женщиной. И слово похвалы в ее адрес, сказанное с жаром, всегда найдет благодарный отклик в ней…
– Что ты, что ты, домин Ган… Это все пустяки. Однако – позабавились, – пора и честь знать. Вон, уже вечер на дворе. Можно бы и закончить нашу беседу. Что ж, я не держу тебя. Желаешь, – так можешь идти…
Несмотря на то, что именно таково и было наибольшее желание Гана, он предпочел и на этот раз прислушаться к некоему своему внутреннему чувству, которое сегодня уже не раз выручало его. Разрываясь между страхом и любопытством, он решил продолжить эту опасную игру.
– Если я не слишком утомил тебя, прекрасная Кадиса, – подобострастно произнес он, – удели еще немного времени твоему подопечному, который за это будет тебе благодарен всю жизнь. И объясни этому неразумному, что такое с ним приключилось, отчего он едва не покинул лицо Земли? И почему боги велят тебе пожалеть его, хотя он мало этого достоин?
– Красиво говоришь, цветисто. Научился здесь, у нас?.. Впрочем, за это хвалю. Что же до твоего вопроса… Объяснить тебе все так, чтобы ты понял – твоей жизни не хватит на это, а в пару слов уложиться невозможно.
– Почему?
– Что ж, ты думаешь, напрасно у меня девчонки живут с малых лет? Нет, дорогой! Только так и можно понять что-то в той истинной жизни, какую должен был бы вести человек, впитывая по малейшей крошке знания, которые есть величайшая тайна для любого. И открыть ее неподготовленному – значит убить его. Эти девчонки на повседневном примере учатся соблюдению в жизни всех Законов…
– Что же тут необычного? Законы должны все почитать…
– Кроме законов земных, есть еще и Законы Высшие. Хоть это тебе ведомо?
– В общем, – да. Но ведь и одни, и другие законы говорят об одном и том же!
– Смотри-ка! Разглядел самую суть!.. Да, – с малыми различиями. Но соблюдаем ли мы их сами для себя, а не напоказ?
Ган молчал, и Кадиса продолжала. Будто не имея в виду своего собеседника, она говорила о ком-то неопределенном, казалось, не делая различия меду богами, атлантами и даже человеками.
– Как яйцо в скорлупе своей едино, так едино и мироздание. Яйцо состоит из самых различных частей – и Вселенная так же. И объединением, сдерживающим и связующим все – той скорлупой, которая видна снаружи, но незаметна, если смотреть на нее изнутри яйца – является Высшая Сила. Мы не имеем права даже говорить о ней, чтобы не потревожить Ее равновесия своей неустойчивостью, не замутить Ее идеального покоя своей вспыльчивостью. Обращение к этой Высшей Силе – удел небожителей и атлантов.
– Почему же я не имею этой возможности? Почему? Ведь я – тоже атлант!
Кадиса помедлила с ответом, задумчиво глядя кудато мимо Гана.
– Ты не атлант, – мягко сказала она наконец, – ты – человек.
Как ни странно это было даже для самого Гана, но воспринял он эти слова на этот раз совершенно спокойно. Может быть, тут имело место внушение – эта мысль промелькнула в его голове, – а, может, и сам он был давно готов к такому выводу.
– Видишь, ты испытал даже облегчение, когда принял это, – продолжала волшебница, – ты подумал, что так тебе даже легче будет жить. Да, ты прав, – но с одной стороны. Жить так, как ты жил до сих пор – это значит не только убить в себе атланта, что ты так успешно проделал, но и обречь самого себя – свое второе, невидимое глазу существо, которое, тем не менее, более живо и разумно, чем видимое, – на немыслимые муки. Муки эти тем ужаснее, чем дальше жизнь человека от того, чтобы следовать божественному образу жизни, к которому должен стремиться человек. Уже не земле он часто обрекает себя на всякие беды, болезни и несчастия, потому что сам выбирает для себя именно такую жизнь…
– Не пойму тебя, Кадиса. Человек – он и есть человек. И жить должен по-земному: зачем же тогда его создали?
– Смотря что подразумевалось под этим «земным». Вот ты, например, считаешь, что атлант, полубог, не может соврать – ему это грозит всякими карами, – а ты можешь. Ты знаешь, что святые боги не велят портить Жизни, которую Они сотворили на Земле, а сам спокойно убиваешь…
– Это не я! Я не убивал! – почти выкрикнул Ган.
– …Ягнят, телят, и прочую живность, до которой ты так охоч.
– Но это ведь жертвы богам!
– Да, лишая жизни, которую не ты вдохнул в любое существо, ты отговариваешься именем бога. На любого бога ты стараешься переложить свою вину за этот самый большой грех во Вселенной. Ибо говорено уже: бог дал, бог взял. И это касается не только какой-то вещи, которую ты потерял, но, в первую очередь – самого дуновения жизни в живом существе. Ты говоришь – жертвы богам… Но ешь-то эту, убитую тобой плоть, ты сам… Бог, он только смотрит в это время на тебя и диву дается твоей неразумности.
– Но он ведь сам…
– Не кощунствуй!
– Но, действительно, ведь бог велел отдать первину ему! Или это тоже не так? И велел пожертвовать ему сердце? Может, я неправильно понял?..
– Это не ты неправильно понял, а те, кто убеждали тебя в таком именно понимании жертвы, – но они заблуждаются. И горе нам всем, ибо это давнее заблуждение – оно не искреннее, не случайное. Оно пришло с другой стороны, от врага Бога. Этот враг желает извратить в разуме человеков все, что было им когда-либо заповедано. Ты понимаешь, Бог – он не повторяется. Сказано – значит исполняйте. Кто не желает или неразумен настолько, что не может отличить Божьей заповеди от вражьей, – что ж, он выбирает сам себе путь…
Кадиса говорила со скрытой страстью, сама не замечая, как углубляется в сферы, недоступные пониманию его собеседника. Гана же странно волновал вопрос жертвы.
– Погоди, Кадиса, – перебил он ее, – ответь насчет жертвы сердца…
– И ты втянулся в эту мерзость, из которой нет выхода, кроме как полное ее уничтожение… Это общее несчастье, что некоторые неправильно поняли призыв Всевышнего отдать ему свое сердце – именно свое, заметь, – живое, наполненное священным соком, кровью, для того, чтобы Бог мог распорядиться им по своему усмотрению. Отдача эта должна произойти не телесно, но в духе. В этом, дружок, вся разница.
– Я утомил тебя, Кадиса, но разъясни мне, коль уж начала: что значит «в духе»?
– Объяснять очень долго придется. Одним же словом – мысленно. Это значит, что, когда придет кому время, чтобы Бог услышал его, станет тогда этот человек перед Богом и обратится к Нему со всей искренностью: «Боже, – скажет он, – возьми мое сердце, это самое дорогое, что у меня есть, и владей им. Мне неведомо, – далее скажет он, для чего Тебе понадобится оно, и есть ли у Тебя, Который Владеет всем, нужда в моем сердце. И не спрашиваю, на что направил Ты силы моего сердца, ибо знаю, что вольются они в русло Общего Блага». Вот что скажет человек, когда он дорастет своим разумением до этого. Пока же темен его ум, и спит его сознание. И долго ждать придется его пробуждения. Понятно тебе, Ган?
– Не знаю. Ты говоришь – спит. Но ведь можно и разбудить? Чего проще?
– Уже попробовал один… Разбудил. Теперь никак не может никто успокоить.
– Темно говоришь…
– Разве? Ах, да, я забываю все время, что ты – как с другой планеты. С виду – так ты атлант, и говорить с тобой хочется, как с равным…
– Что ты сказала? – изумился Ган. – Ты, Кадиса?..
– Долго же ты соображаешь! – ворчливо заметила Кадиса. – Да, я. Моя история очень схожа с твоей, но я вовремя остановилась. Хотя, конечно, можно было и пораньше.
– Так почему же ты в этой клоаке, вместе с человеками и их отпрысками?
– Потому и здесь, что таков мой путь искупления. Возврата к прежнему не может быть, пока не кончится само в себе то зло, которое я принесла в эфир.
– Но ты, с твоей всемогущей силой, Кадиса…
– Всемогущим позволено называть лишь Всевышнего, не забудь об этом. А зло, о котором я говорю, оно тем сильнее, чем больше знания и энергии в него вложено.
– Если бы я мог что-то сделать для тебя…
– Этими словами ты уже сделал многое. Благодарю тебя, – тон Кадисы заметно потеплел. – Однако договорим о сердце и остальном. Не возражаешь?
– Да-да, – пробормотал Ган, у которого в голове заметно мутилось.
– Эти жуткие кровавые убийства, которые и сейчас называют жертвоприношениями, служат вовсе не Небесной Силе. Кровь, отворенная насильно, наполняет своей священной мощью подземную рать, умножает ее темные возможности и тем самым все больше отдаляет бедных человеков от их законного развития.
– Как же могло произойти такое?..
– По ошибке, – пожала плечами Кадиса. – Из самых лучших, по отношению к человечеству, побуждений. Один из Титанов, великий Прометей, решил ускорить их развитие. Пожалел человеков. И принес им небесный Огонь…
– Ну да, все знают эту историю. А ты еще говоришь, что богам неугодно, чтобы мы ели живность! Кто же научил нас греться у очагов и готовить пищу, вкуснее которой, наверно, только райская еда!
– Я говорю не об этом, проявленном огне, на котором вы зажариваете мясо. Этот, земной огонь, как и все, что мы видим, впрочем, имеет свой потусторонний источник. Огонь Небесный разлит во Вселенной, от атома до величайших светил… Ты хоть знаешь, что такое атомы? – с подозрением спросила она у Гана.
– Откуда?.. – только и ответил тот.
– Вот этот самый Огонь и внес Прометей в человеческий разум. Но преждевременный и несогласованный с Планом Создателя этот подарок оказался для человеков разрушительным. Он открыл в них один из начальных приемников высшей энергии, которая и есть этот Огонь. Но человек просто по своей природе не мог воспользоваться им, а не то что развивать в себе неземные силы. Однако топка уже была подожжена. И этот тлеющий, чадящий и постоянно гаснущий огонек внутри человека ввел его в иной мир, однако этот мир, находящийся, в сущности, здесь же, на Земле, не доставил ему радости; более того, человеки быстро населили его своими же порождениями, от которых теперь и сами не знают, куда деться. Как и ты, например…
– И что же теперь? Где же выход?
– Ты не очень расстраивайся, если я тебе скажу, что выхода нет. То есть, нет – пока. Набравшись опыта и набив себе множество болезненных шишек, человеки все-таки поймут, что им не следует привязываться только к Земле. Да, они родились здесь, но как покидает родительский дом юноша, достойный прекрасной перспективы, чтобы обрести все счастье мира, так и человечество, повзрослев, придет к пониманию той Истины, которой им никто не может навязать насильно: ее должны осознать все. Не только один какой-нибудь святой, но именно общее человеческое сознание, оно должно возрасти, чтобы с пользой для себя прорваться в миры высшие. Теперь ты понимаешь, что атланты отделяются от человеков не по зазнайству, а по необходимости? Невежество ведь очень заразительно. Знаю по себе. Атлант же, который помнит о цели своего появления на этой планете, должен хранить в чистоте свои каналы для связи с Высшим.
Ган машинально кивал головой, пытаясь уразуметь хоть что-то из сказанного Кадисой. Она опомнилась.
– Боже Единый, – пробормотала она, – что я делаю?! Возможно ли так увлечься?..
Она на минуту обратилась к восточному окну и закрыла лицо руками. Затем, как ни в чем не бывало, подошла к Гану.
– Прости меня, дорогой Ган, – просто сказала она, теперь ты видишь, насколько сильна во мне человеческая природа. Не могу я уже так владеть собой, как это необходимо. Захотелось мне помочь тебе – и спешу я рассказать тебе обо всем за раз. Забыв, что это не под силу никому…
– Я и в самом деле малость очумел, Кадиса, – признался Ган, пожимая ее руки. – Боюсь, что я ничего не понял. А главное – то, как же мне жить дальше?
– Если ты просишь совета, я тебе его дам, – серьезно произнесла Кадиса, заглядывая в его беспокойные глаза. – Для начала ты должен знать, что над тобой нависла большая опасность. Твои единомышленники…
– Какие еще единомышленники? – буркнул Ган.
– Надеюсь, ты не станешь отрекаться от Азрулы и прочих, с кем общался с таким упоением в последнее время? Так вот. Их заговор раскрыт, и сами они, почти все, уже находятся в подземных казематах Цитадели, откуда нет спасения.
– Заговор? – Ган соображал действительно с трудом. – Ты имеешь в виду то, что они хотели сместить царя…
Прежде, чем он успел произнести имя, Кадиса закрыла ему рукой рот.
– Прости, что я так груба, – с легкой укоризной сказала она ему, – но ты бы уже должен знать, что имен атлантов нельзя поминать. Тем более – царя. Не понимаешь?.. Тогда возьми просто это на веру, пока узнаешь, в чем суть.
– Ну и денек, – мотнул головой Ган и сел на свой табурет. – Но я должен… Что же я должен сделать? – потерянно спросил он. – Надо идти домой… У меня там гость, почти земляк…
– Твоего земляка чуть было не заклали на жертвенном камне, как овцу, – усмехнулась Кадиса, – а ты и не знаешь, кому доверил свою честь.
– Что такое? – выпрямился было Ган. – Что ты болтаешь?
– Я думала, что мы уже договорились: или ты мне веришь, – или нет. Если нет – говорить не о чем.
– Кадиса! – взвыл Ган. – Ты же видишь, что я вообще не пойму, где я и что со мной! Уж не перешел ли я в тот самый мир иной, о котором ты мне толковала? Откуда столько напастей на меня? И как же мне быть? Будь неладен тот день, когда я согласился приехать сюда! И зачем только я оставил свою прекрасную, такую простую и незатейливую родину?..
– Хватит причитать. Возьми себя в руки. У вас там, на твоей прекрасной родине, небось, тоже не уважают мужчин, которые ноют. Это вообще противно природе, потому и непозволительно! Слушай меня, если уж боги привели тебя ко мне, то обещай повиноваться.
– Да-да, а как же иначе? – бормотал Ган, хватая ее за руки, которые он все пытался поцеловать.
Кадиса наконец оторвалась от его цепких пальцев и заговорила, стоя перед ним, как воспитательница перед младенцем.
– Главное – не теряй головы. Вот подумай: скрыться от Лефа, который желает с тобой побеседовать, ты не можешь. Да и ни к чему тебе это, ведь Леф, посмотрев на тебя, сразу разберется, что ты в этом деле – сбоку припек. Но, пытайся ты избежать разговора, а тем более, говорить неправду – Леф тебя не пощадит. Он не из киселя сделан, знаешь ли, этот Леф. С ним следует быть прямым и открытым, – тогда ему не придется прибегать к малоприятным для него и для тебя мерам, чтобы прочесть в твоем сознании все, что ему нужно по его службе знать. Ты понял? Что тебе следует предпринять?
– Я пойду сейчас к нему, этому Лефу, будь он неладен, – Ган сплюнул через левое плечо, – и расскажу ему все, что со мной произошло с тех пор, как я приехал сюда… Внезапно Ган вздрогнул: – Но ведь он уничтожит меня! – взвизгнул он.
– Уничтожит? Леф? – удивилась Кадиса. – Гм… Но, если это даже и так, – есть ли у тебя другой выход? Ведь подумай: если тебе, предположим, каким-то чудом и удастся улизнуть с Посейдониса, что совершенно невероятно, – то ведь в таком случае ты потеряешь все свое богатство. А ты им так гордишься!
Кадиса, скрестив руки на груди и опустив подбородок, затаенно улыбалась, наблюдая за этим жалким человеком. Действительно, последний ее довод оказался для него самым убедительным.
– Ты права, Кадиса, – прошептал он в ужасе, – я потеряю все и не только здесь, но и у себя дома. Они найдут меня везде! Но что я скажу Лефу? Почему же я не доложил о заговоре, как только узнал о нем?
– Ты здесь почти иностранец. Да, к тому же, прости меня, но в царском окружении считают тебя неатлантом. Вбей это себе в голову, веди себя нужным образом – и наказание тебя не коснется.
– Но как же так?
– У атлантов есть закон, по которому наказание за преступление, если в нем замешаны и человеки, несут, как более сознательные, именно атланты. Конечно, здесь есть одно щекотливое условие… Но я думаю, чтобы спасти не только свою жизнь и жизнь своего отца, но и все ваше состояние, ты пойдешь на это.
– Говори же!
– А я уже сказала, – Кадиса вновь пожала плечами, – тебе всего-навсего придется публично признать, что ты – не атлант. И что эти все атлантские премудрости – не для твоего человеческого ума. Только и всего!
– Но как же так? Ведь мой отец – атлант. Как же он посмотрит на это? Да и сам я столько раз дрался, если кто смел усомниться в том, что я – атлант… А там, дома, там меня ведь засмеют…
– Смотри сам.
– А невеста моя, Хитро? – встрепенулся было Ган. – Как же теперь со свадьбой будет?
– Забудь о свадьбе. Хитро тебе отказала еще раньше, только Азрула все скрывал от тебя это, чтобы ты не ушел из его рук. Очень ты был ему нужен, дорогой…
– Но для чего?
– Это другой разговор. Однако время идет. Если ты решил, – то надо поторопиться и открыть Лефу свое местопребывание.
Кадиса не стала говорить Гану, что Леф и без того давно знает, где он находится. Нисколько не опасаясь за себя, ибо бояться ей было нечего, она, тем не менее, предприняла кое-какие охранительные меры: окутала себя и своего собеседника густым облаком тумана, похожего на серебристый дым.
Ган, занятый своими мыслями, похоже, ничего не замечал. И Кадиса решилась. Она наклонилась к самому уху молодого мужчины, сидевшему на табурете, как пустой мешок, потерявший опору в себе самом, и тихо сказала ему:
– Если пожелаешь, Ган, я помогу тебе. Не только сейчас, но и в дальнейшем.
Он поднял голову на нее и часто-часто закивал:
– Да-да, Кадиса… Сделай милость!
Она продолжала:
– Но ты должен будешь уехать отсюда.
Он с готовностью снова кивнул.
– Мало того, ты должен будешь забрать меня с собой. И знаешь в каком качестве?
Он отшатнулся, подозревая неладное.
– Это небольшая уступка общественному мнению… Ты должен будешь предоставить мне обязанность давать тебе советы!
– Советы? Какие советы?.. Моя жизнь закончена…
– О, это не так, Ган! С моей помощью ты можешь обрести невиданную силу. Вместе мы сможем горы свернуть, а не то что избежать каких-то мимолетных трудностей. Ну же, решайся!
Ган не спускал с нее умоляющего взгляда. Он, казалось, не в состоянии был избрать никакого решения. Однако Кадиса поторопила его:
– Быстрее, Ган. Они могут прийти сюда с минуты на минуту. Если уж я могу видеть их, то они тем более знают, где ты находишься. Не хотела бы тебя пугать, но… Так решайся же!
– Да, да, да! Спаси меня, Кадиса! И я согласен на все, что бы ты ни пожелала…
Кадиса выпрямилась. Она медленно отошла в середину круглой комнаты, повернулась в ту сторону, где за окном возвышалась белая громада неприступной Цитадели и приподняла руки, молча взывая к неведомому божеству. Шепча заклинания, она обошла трижды вокруг Гана, затем остановилась за его спиной и, как бы оборачивая его голову чем-то невидимым, неосязаемым, но плотным на ощупь – так, что невозможно было ему теперь даже пошевелиться, – громко произнесла несколько фраз на языке, неизвестном Гану. Трижды повторенное имя, состоявшее из единственного слога, завершило это действо.
Как только Кадиса резко опустила руки, к Гану вернулась живость его членов. Он поднялся, готовый немедленно начать действовать, но не зная, в чем же должно выражаться это его действие. Кадиса пришла ему на помощь:
– Теперь иди. У ворот тебя заждался твой амбал. Он домчит тебя к твоему мобилю, а если пожелаешь – и прямо к Лефу, уж будь уверен.
– Он, что…?
– А как ты думал? Но не бойся теперь ничего. Часа три тебя, правда, покрутят в Цитадели, – но спать ты будешь дома. Утром, после того как Хадиза вымоет и отобьет твои косточки, пришлешь за мной.
Видя, что он повинуется беспрекословно, она остановила его на пороге:
– Золото свое забери… А то нечем будет расплатиться с амбалом…
Не говоря ни слова, он опустился на корточки и сгреб кучку ценностей в свой кошель. Ощутив привычную тяжесть на поясе, Ган приободрился: ничто так не дает уверенности в себе, как деньги…
КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Хрустальный дворец источал тихую музыку.
Его сверкающие в лучах утреннего солнца чистопрозрачные стены, высокие стрельчатые наличники узких окон, покрытые алмазной гранью, тонкая резьба многочисленных розеток и трилистников, украшавших и скрывавших перекрытия между этажами – все, казалось, пело само по себе, отвечая звуками на нежные переливы яркого света. Свет этот, – свет Животворящего Светила, – такой незаметный и обыденный в своей жертвенности всему земному, сиял высшей радостью, встретив на долгом пути космическом – материю, способную не просто впитать или даже отразить его, но и заставить его разделиться на собственные составные части – цвета радуги.
Гермес медлил, охваченный упоением, которое стало для него, увы, таким редким. Он совсем позабыл про Лефа, которого привел с собой, – но тот неожиданно подал голос:
– Чудо! – убежденно произнес Леф. – Истинное чудо!
Гермес, не отрывая карих глаз от необыкновенного явления, столь поразившего его, и стараясь как можно дольше продлить это хрупкое состояние наслаждения Красотой во всех Ее сочетаниях: форме, цвете и звуке, – ответил, но ответ был предназначен не столько Лефу, сколько самому себе.
– Да, – чудо. Одно из тех, что рассыпаны во всей жизни, и которых никто не замечает. Вот, от нас все требуют и требуют чудес. Эта жажда сверхъестественного стала для человеков чем-то наподобие одуряющего напитка Фуфлона: чем больше они его потребляют, тем больше привыкают к нему, пока дозы для хоть какогото удовлетворения не превысят допустимого. Да, они уже и не просят – они требуют, угрожая в противном случае, что перестанут верить в нас. Что это, как не леность чувств и разума?.. Ведь для того, чтобы заметить, просто заметить вот это чудо, которое у нас перед глазами, надо сначала хотя бы подумать: что это, откуда берется эта радуга? Конечно, проще валиться на колени перед материализацией духа, чем употребить свою голову на то, к чему она предназначена! – в голосе Гермеса проскользнула горечь, и он, заметив это, постарался ее сгладить. – Хотя, конечно, им, беднягам, и в самом деле трудно представить, что радуга – это не мост, по которому шествуют боги, а луч света. Ведь свет для них не имеет окраски, тогда как радуга – она многоцветна…
– …И, к тому же, играет своими цветами на гранях хрусталя, как Аполлон на своей арфе, – закончил его мысль Леф.
– О, да ты поэт, друг Леф! – с удивлением взглянул на него Гермес.
– Впрочем, чему я удивляюсь: ведь так о многом нам приходится забыть, что еще недавно было неотъемлемой частью жизни атлантов. Но неужели мы навсегда позабудем о красоте? И сможем заменить ее в своем сознании этим уродством, которое наступает? Не верю!
Леф, этот неприступный, твердокаменный Леф молчал, и Гермес ощутил, что он слушает. Слушает так, как могут это делать только атланты, наделенные от Бога способностью слышать не только слухом, но и всеми остальными органами чувств, в своем синтезе доведенными до совершенства.
И в самом деле, было от чего впасть в чистый экстаз! Дворец Аполлона, выстроенный им как-то в порыве вдохновения (не без помощи пространственных элементалиев, стихийных духов), – был сам по себе явлением поразительным, даже для Атлантиды. Вполне приспособленный для жизни тела, – это был один из земных домов Апплу – он, в то же время, отвечал, насколько это было возможно, потребностям его в ясности и свете. Недаром ведь Аполлона почитали по всему населенному миру именно как Бога Солнечного Света.
– Кому, кроме Апплу, – тихо сказал Леф, – под силу превратить дневной свет в музыку? Да еще сопроводить каждый звук ее цветом…
Гермесу не хотелось отвечать, нарушая этим сладостное чувство покоя, проникшего в его душу. Но он не был бы Гермесом, если бы отвлекался дольше, чем можно, от своей цели. Он с улыбкой взглянул на Лефа, который, казалось, позабыл обо всем, окунувшись в незримое море благодати, и произнес:
– Гармония… Вот она, перед нами, а мы – в ней. Когда-то, еще задолго до нас, атланты, говорят, владели ею и жили в таком вот состоянии, как мы с тобой, Леф, сейчас – постоянно. Это и было то самое прекрасное равновесие, которое мы давно утеряли, хотя никак не хотим признаться самим себе в этом.
– Однако, в этом состоянии, – покрутил головой Леф, приходя в себя, – невозможно ведь ничем заниматься! Век бы наслаждался покоем, который несет эта благость… А как же быть с делами? Ведь нужно же комуто на земле и дело делать!
– В том и секрет, друг Леф, – ответил ему Гермес, и улыбка его сделалась печальной, – что мы, атланты, разделились сами в себе: одна наша часть тянется к высшему, другая же, – другая занимается делами земными, как ты говоришь. А ведь этого разделения не должно было быть. Ты что, думаешь, таков был изначальный План? Многого, конечно, мы не знаем, но уж, поверь мне, разделения не предусматривалось. Да, впрочем, что я тебе говорю? Ты и сам знаешь. Не будь того предательства, из-за которого нарушились все ожидаемые следствия, и жизнь на планете вдруг ускользнула в сторону от Пути, предназначенного ей… Но что же мы стоим?.. Идем, по пути договорим…
– Кому, как не мне, знать лучше всех о том, к чему привело то предательство. Иногда мне кажется, что все настолько повернулись лицом к тем предателям, что ничего уже сделать нельзя. Не хочется так думать, но…
– Понимаю тебя, Леф. И все же мы должны работать, пытаясь вразумить всех, чье сознание затемнилось.
– Но если оно затемнилось бесповоротно?
– Будем надеяться, что эти случаи редки. И на них не надо надолго останавливаться. Подумаем о тех, кого еще можно спасти, уберечь…
– Поработал бы ты со мной рядом хотя пару деньков…
– Что ж, это мысль, – легко согласился Гермес. – Вызови меня, когда пожелаешь – я приду.
– Что ты, – испугался Леф, – тебе нельзя! Это я так, к слову. Ты не выдержишь.
– Вот-те на! Ты выдерживаешь, а я, выходит, из другого теста сделан?
– Вот именно. Из другого. Ты еще Апплу позови с собой.
– Апплу нельзя.
– И тебе нельзя. И другим, кто еще сохранил себя в чистоте. Такого налипнет, что и не отмоешь!
– Оно налипает и так… Благодарю тебя за заботу, Леф, но с этой нашей «чистотой», как ты выражаешься, или обостренной чувствительностью, прямо беда, признаюсь тебе. Завидую иногда тем, кто закрыт, – так донимает порой это общее неравновесие, что, кажется, терпения больше нет выносить все это. И ведь что интересно: самые сильные удары от тех, кого привык считать своим. Понимаешь, какой это угрожающий признак?
– Удивляешься? Ты, Гермес?.. А я вот не удивляюсь. Перестал удивляться. Долго не мог понять, что происходит, пока не догадался.
– Поделись со мной…
Леф недоверчиво взглянул на Гермеса: не шутит ли. Однако светлое лицо Герму было непривычно серьезно.
– Будто сам не знаешь… Ну, ладно, скажу. Кто такие эти «свои» для нас? Те, кого мы привыкли считать таковыми. По рождению, по воспитанию: с кем-то вместе росли, с кем-то учились в одной Академии. В Академии, где, кстати, до сих пор еще учат, что атланты – отпрыски божественной расы, ровно на семь порядков опередившей земных человеков…
– Я этому не учу…
– Так другие учат. А ведь на самом деле все это давно уже не так. Причин не берусь указывать, но мы стали другими. Большинство из нас, во всяком случае.
– Привнесение человеческой крови, так?
– Конечно. Хотя и не это главное, по-моему. Ведь в нас всех, не надо забывать об этом, тоже течет изрядная толика этой самой крови.
– Половина на половину…
– Ну вот! Скажешь тоже! Такое соотношение было верно для самых первых, которых родились на Земле, чтобы ей было от этого больше пользы. Но после, – сколько поколений наших предков сменилось, наполняя и наполняя Землю своими отпрысками от земных женщин? Их-то уж никак нельзя считать атлантами! Однако – сами они ставят себя на одну доску чуть ли с царем Родамом! Хотя в душе их – тьма…
– Ты прав, Леф. Но, именно эта самая малая толика атлантской крови и оставляет наши сердца открытыми перед ними. И тогда уж ничто не мешает яду в виде неприемлемых излучений проникать в нас. Хуже всего то, что поражается наше самое слабое звено – земной организм. Замечаю, как он становится все проницаемей для болезней. А ведь что такое болезнь? Разрушение равновесия в теле, каким бы оно ни было. И все больших усилий стоит нам восстановить в себе его. Боюсь, что не всегда это нам удается в полной мере, – и тогда накапливается этот остаточный яд в наименее совершенном из тел – земном, плотном.
– И что же, нет никакого лечения?
– Лечение одно. Та самая гармония, равновесие всего организма в его полном сочетании, видимом и невидимом, которое мы с тобой только что восприняли. Поблагодарим же за это Апплу!
– За что это вы меня собираетесь благодарить? – раздался голос, который вывел наконец Лефа из состояния задумчивости. – Что-то вы задержались. Смотрю на вас, смотрю, а вы все беседуете. Интересная тема, должно быть? – обратился Аполлон к Лефу, делая, в то же время, приглашающий жест в сторону открытого входа – арки, ведущей в парк.
– Приветствую тебя, высокородный Апплу! – со всей торжественностью произнес Леф, опускаясь на одно колено перед Аполлоном не только в знак ритуальных условностей перед сыном и братом царей, но, скорее, в силу искреннего преклонения, переходящего в восхищение. – Прости, что нарушаю твой неприкосновенный отдых своим вторжением. Прошу выслушать мое сообщение. Его государственная важность настолько велика, что…
– Ты знаешь, Леф, в узком кругу, как сейчас, например, я не склонен соблюдать все придворные церемонии, – мягко остановил его Аполлон, – поэтому благодарю тебя за то, что ты ограничился лишь мимолетным коленопреклонением. Сегодня я говорил уже Герму, что помню о своей обязанности замещать брата Родама в его отсутствие. И вообще – о каком это неприкосновенном отдыхе может идти речь среди атлантов?
Леф, к которому непосредственно были обращены эти слова, осмелился наконец встретиться глазами с Аполлоном – и дрогнул. Вибрации высшего порядка, словно молния, пронзили его тело, и глаза мгновенно переполнились слезами. Однако Леф мужественно выдержал испытание и не отвел своего взгляда, пока Аполлон не отвернулся сам. Как гостеприимный хозяин, он пошел впереди гостей, и шаг его был широк и волен, вздымая просторные длинные одежды лазоревого цвета: бог Света никогда не обнажал перед другими своего тела. Не все, подобно Лефу, могли бы выдержать мощь его излучения.
По этой же причине они расположились для беседы не в доме, хрустальные стены которого были наэлектризованы в огромной степени и могли бы представить собой опасность для более приземленной энергетики Лефа, а на зеленой лужайке в саду, со стороны дома, обращенной к востоку. Здесь на золоченых шестах уже был раскинут легкий шатер, подобранные цветными лентами и кистями полы которого давали простор ветру, очень кстати охладившему вдруг разгоревшееся лицо Лефа. Вокруг маленького резного столика из слоновой кости были приготовлены три мягкие лежанки с высоким изголовьем, покрытые белоснежным льняным полотном.
Гермес сразу же растянулся на ложе, с видимым удовольствием потягиваясь всем телом. В отличие от него, Аполлон, как и Леф, не возлегли, а лишь присели на сиденье, и хозяин дома наполнил кубки.
– Пусть этот нектар, секрет которого дарован нам свыше, – сказал он, – просветлит наши тела, как и души, и даст поистине неземную ясность нашим мыслям. Да воссоединимся мы на сей час с Высшим Источником Мудрости, ибо, чувствую, великая забота предстоит нам. Без Его Помощи нам не разрешить ее.
Они пригубили напиток, и Аполлон слегка откинулся на изголовье. Его прекрасная голова покойно опиралась на пальцы левой руки; светлые, с золотистым отливом, волосы, сложенные на затылке в тугие локоны, надежно удерживавшие обычную среди атлантов прическу, увенчивал венок из темно-зеленых душистых веточек лавра. Голубые, все просвечивающие до самых глубин, глаза смотрели настолько ясно, что Леф понял: Аполлон знает все. Нечего перед ним пытаться как-то связать упорно расходящиеся нити отдельных тревожных сведений, – он это сделает сам.
Воцарилось молчание. Нарушить его, как старший, мог только Аполлон, а он не спешил это сделать. Леф, упершись взглядом в носки собственных каучуковых сандалий, напряженно ожидал распоряжений; Гермес задумался, поигрывая золотым кубком и весь уйдя, казалось, в созерцание его резьбы.
Наконец Аполлон отнял руку от кифары, струны которой, как бы в рассеянности, пощипывал.
– Так в чем же вопрос? – спросил он, не обращаясь ни к кому в отдельности.
Упруго, словно мячик при настольной игре, Гермес вскочил с места.
– Постой, Леф, – выставил он руку вперед ладонью, – разреши мне сказать.
Леф, и без того не имевший намерения говорить первым, только кивнул головой.
– Если тебя интересуют подробности, – быстро заговорил Гермес, – Леф тебе выдаст их с три короба. Но сейчас – о главном. Как только из поля всеобщего зрения исчез царь Родам – Гермес, в присутствии постороннего, хотя бы им и был Леф, приближенный его брата, не позволил себе вольности по отношению к титулу, – тотчас в стране началось непонятное движение. Эти недоумки, о которых ты знаешь, Апплу, решили, что настал самый подходящий момент для воплощения в жизнь их планов: они начали готовиться к захвату власти. Но они забыли, против кого идут – Гермес усмехнулся без тени самодовольства, – ведь мы… – он быстро взглянул на Лефа и поправился: – Леф, я хотел сказать, знает свое дело. Они все давно у него как на ладони…
– Не сомневаюсь, – дождавшись короткой паузы в речи Гермеса, спокойно произнес Аполлон, – ведь Леф – известный мастер порядка. Но… Скажи мне, Леф, – Аполлон тепло улыбнулся Гермесу, и тот понял, что брат желает выслушать подробности именно из первых рук, – зачинщики заговора взяты под стражу, очаги бунта погашены, – что же тебя беспокоит настолько сильно, что аура твоя притушена коричневыми бликами?
Леф при первом к нему обращении поднял голову.
– Аура?.. – удивленно повторил он. – Я и забыл думать о цветах своей ауры.
– Напрасно, – мягко укорил его Аполлон, – наша аура – основа нашей жизни. И если мы не будем поддерживать ее постоянным мысленным очищением, – то сильно рискуем оказаться вскоре на одной доске со своими противниками. Те и без того уж так расстарались, что многих атлантов и не отличишь по излучению от самых преданных слуг зла.
– Ты прав, как всегда, великий Апплу, – печально сказал ему Леф, – но их действия настолько изощренны, что все чаще приходится пропускать удары. И очиститься становится все трудней и трудней…
– Это не по твоей ли части, Герму? Надо провести с воинами и, в первую очередь, со славными этера, цикл бесед о том, как обезопасить себя от приемов черной магии. Ведь именно ею враги только и могут бороться с нами, призывая на помощь свою темную рать. Они не думают о том, что сами себе роют могилу, ибо предпочтя однажды предательство всего светлого в самих себе, тем самым они исключают себя из эволюции.
– Но это их самостоятельное решение, – заметил Гермес, – хотя неизвестно, почему они так крепко держатся за него. Видно, очень привлекательны обещания всяких благ, которые им сулят, иначе что же?..
– Не стоит много говорить на эту тему, Герму. Они сами выбрали свой путь, ты прав, и Бог с ними.
– Так что же, поддаться им и смотреть, что же будет дальше, не противясь им, что ли?
– Ну уж нет! – Аполлон взял на кифаре звучный мажорный аккорд, который многократным мелодичным звоном отозвался в стенах дворца. – Разве я когданибудь учил тебя поддаваться вражьей силе?
Гермес перевел сияющие глаза на Лефа, как бы передавая ему частицу гордости за своего поистине божественного брата, и Леф понимающе кивнул ему.
Между тем Аполлон продолжал:
– Кстати, о вражьей силе… Как она, Вражина, себя проявляет? Помнится, у нее было и другое имя: Ворожея, если я не ошибаюсь.
Отвечать на этот вопрос пришлось Лефу. Ибо Гермес, неунывающий и бесстрашный Гермес, вдруг опустил глаза и замолчал, как бы отстранился.
– О, имен у этой дамы предостаточно, – охотно поддержал тему простодушный Леф, – сейчас она, например, выступает под именем Кадиса. У нас зарегистрирована ее школа по обучению оздоровительному массажу.
– И вы разрешаете ей это? Массаж, прикосновение к энергетическим точкам, означает овладение и всеми тонкими каналами тела. А ведь ей запрещено все, что хоть как-то касается влияния на ауру!
– Но у нее имеется золотая пластинка с разрешением на открытие такой школы, – слегка растерялся Леф, не ожидавший никаких проблем там, где наличествовала обладавшая непререкаемым для него авторитетом золотая пластинка царского Совета. – И работает Кадиса, в основном, среди человеков. Лечит их.
– При помощи своей же силы, которую то отпускает на волю, то отзывает снова на цепь, когда за это платят. Разве это лечение? К тому же, сомневаюсь, чтобы она ограничилась человеческим материалом…
Леф, озадаченный, потер затылок.
– Ты прав, светлый Апплу. Она и в самом деле обслуживает дома тех, кто называет себя атлантами. Правда, сюда, в Цитадель, она ни под каким видом не вхожа, – заметил Леф, начиная кое-что понимать.
– Зато некоторые из атлантов сами ищут ее общества, – нарушил свое молчание Гермес. – Кадисе вовсе не нужно появляться на всеобщее обозрение в Цитадели: после скандала с ее изгнанием из сообщества атлантов никто открыто и не осмелится общаться с ней. Но зараза нижнего астрала настолько глубоко проникла даже в наши слои, что бороться с ней, наверно, уже невозможно.
– Ты хочешь сказать, что время упущено, и это так. Но борьба все равно не должна ослаблять своего накала. Ведь темнота пользуется любыми трещинами и щелями, чтобы только вползти и потушить свет. Человеческое сознание, пока еще темное само по себе, не столь привлекательно для наших противников, как сознание атланта. Завладев им, они бы приобщились к бесконечному Источнику знания и силы…
– Меня ты можешь не убеждать в этом, Апплу! – кивнул кудрявой головой Гермес. – Я весь внутри этой борьбы и навсегда останусь в ней. Но я неспроста сказал: «зараза». Именно, как мертвящая эпидемия, расрастается стремление атлантов к проявлениям низшего мира. Тебе, брат, не все еще ведомо из того, что у нас тут делается…
– Хотя пришлось уже слегка прикоснуться, – вскользь обронил Аполлон.
– И случай с царицей, на который ты намекаешь, это также результат такого бездумного, любопытства ради, нисхождения в нижние, непереносимые для атлантов, слои астрала.
– Но почему пострадала только царица Тофана? – не удержался Леф. – Ведь при ее дворе давно уже развлекаются подобным образом – щекочут нервы. И ни с кем еще ничего подобного, как с царицей, не происходило!
– Видишь ли, верный Леф… – Аполлон призадумался, подыскивая слова, которые были бы по сознанию этому доблестному защитнику царской семьи как оплота дела атлантов. – Целью натиска тех, с темной стороны, является, конечно же, тот, кого ты чтишь (и правильно делаешь!) превыше всего и всех – царь Родам. Но царь наделен такой мощью, что никакая фронтальная атака его не возьмет. Вот и приходится им действовать обходным маневром. С фланга, так сказать. Царица где-то дала слабинку, это надо признать. Может быть, дело в ее неистинном происхождении. Ведь недаром все же, под номером первым в наших законах, которые касаются продолжения царской династии, стоит непререкаемый запрет на брак царя с женщиной не его единокровного происхождения. Все знают, что этот запрет касается только личности царя. Остальные атланты вольны в своем выборе, хотя для продолжения чистого рода так же точно должны были бы соблюдать эти правила. Но общение наше с человеческими дочерьми нисколько не ущемляет природы. Скорее, наоборот, улучшает ее.
– Вот только моя супруга никак не желает этого понять, – вставил Леф, – послушала бы она тебя, великий Апплу, так, может, и ослабила бы немного поводок…
– Это говорит только о том, что ты перебираешь, дорогой Леф, – не принимая шутки, заметил Аполлон. – Любовь – священное чувство. И если оно есть, то оскорблять его нельзя.
– А как же быть, когда много женщин ждут твоего взгляда, как подарка?
– Трудно сказать, чем вызван такой призыв. Земные женщины – они от земных чувств. И любовь с ними неизбежно превращается в коловорот страстей, если им не поставить заслона.
– Прости, Апплу, но ты говоришь, как истинный небожитель! – улыбнулся брату Гермес. – Нашему другу, думаю, не все понятно из твоих наставлений.
– Разве?.. По-моему, все достаточно ясно. Если ты атлант и не снизошел духовно, то твоей сферой остается соединенная воедино сфера Земли – и Огненного Плана. И никаких промежуточных остановок, вроде этого ужасного астрала. Потому что именно там все чувства, которые являются драгоценнейшим достоянием как атланта, так и человека, превращаются в нечто уродливое – то, что уже привыкли называть приземленными чувствами. Так любовь стали делить на земную и неземную. Под первой подразумевают некое постыдное, прямо скажем, некое торопливое действо, которое совершают тайком, под покровом той же темноты. А вот скажите мне: разве не ясно, что дети, которые появляются на свет в результате «земной» и «неземной» любви, – эти дети отличаются и внешне и по своим способностям, поистине, как машина от разумного создания?
– Но это и понятно! Ведь земные женщины, восприняв божественное семя атлантов, и детей производят природы высшей, чем собственная!
Аполлон посмотрел на брата, затем перевел взгляд к Лефу. Тот уже не встревал в разговор, затеянный им же, но слушал внимательно.
– Что скажешь, Леф, – обратился Аполлон к воину, – знаешь ли ты разницу между истинной любовью и земным влечением, которое так мимолетно?
– Как не знать, – смущенно улыбнулся Леф, – знаю, конечно. Только, уж не осуди меня, светлый Апплу, кажется мне, что это чувство, которое ты зовешь истинной любовью, я испытал не к собственной супруге, хоть она и высокого атлантского рода, и люблю я ее также по сей день… Наверно, я ошибаюсь, и не стоит на мои выдумки тратить времени…
– Ну же, не тяни, Леф, – подбодрил его Гермес.
– В общем, о том, что означает слово «любовь», я узнал с простой сельской девушкой! – выпалил Леф и засмеялся, довольный.
Гермес похлопал его по колену, поощряя его откровенность; Аполлон молча глядел на этого светлокудрого красавца, мощные мышцы которого, казалось, не умещались в его доспехах. Наконец он затаенно улыбнулся и проговорил:
– Да, это, конечно, тоже любовь. Хотя она и отличается несколько от той, которую я имел в виду. И, тем не менее: как ты поступил в своем случае?
Леф пожал плечами.
– А ты, великий Апплу, прости меня, как бы ты поступил?
– Вот это ответ! – удивился Аполлон. – Ну хорошо, я тебе скажу, как я поступаю в случаях, сходных с твоим. Первое мое слово: я всегда владею собственными чувствами, а не наоборот.
– Неужели ты хочешь сказать, что не признаешь любви с земными женщинами?
– Признаю. Но, пока не окончилась одна любовь, пока не растворились ее волшебные нити, я никогда не завязываю новой, каким бы заманчивым ни был призыв. Это, знаешь, совсем нетрудно: надо только принять такое решение для себя раз и навсегда. И в этом нет разницы для женщин, какого бы происхождения они ни были. Любовь должна приносить радость не только плотскую. Она должна становиться основанием для дружбы во все последующее время. Это закон, которому не все мы следуем…
Он посмотрел на остроконечную верхушку солнечных часов: та почти не отбрасывала тени.
– Однако мы сильно отвлеклись, – сказал Аполлон, и взгляд его, упершись в Лефа, сверкнул неожиданной льдинкой. – Несчастье с царицей – оно предвещает нам всем, всей Атлантиде, большую беду. Ее человеческая природа оказалась, как и было предсказано уже давно, сильнее небесной. И царица стала тем входом, через который в наш общий дом проник целый легион невидимых врагов. Атланты, которых Высшие Силы пытались спасти, удержать от соприкосновения с околоземным астралом, видимо, не могут дальше исполнять ту миссию, с которой они в свое время были посланы на Землю. А ведь цель была велика: помочь понять их высшее назначение, направить и организовать их разумную деятельность, чтобы ее, в виде чистых земных энергий, вливать в Единый Космический Источник. Этот Источник и без того не оскудеет, конечно. Но Земля!.. Земля может выпасть из круга общих энергий. Можем ли мы это допустить?
Гермес отрешенно заметил:
– Иногда не мешает трезво соизмерять свои силы.
Аполлон быстро взглянул на него.
– Что мы и делаем. И не только в этот момент. Предстоит полная перегруппировка сил, с тем чтобы в будущем оказалась возможной сама победа.
Леф, казалось, еще не понимал, к чему клонит Аполлон, но флюид опасности, который им воспринимался безошибочно, уже проник в его разум.
– Ты сомневаешься в конечной победе, великий Апплу? – спросил он, выпрямляясь.
– Конечная победа так же несомненна, как то, что мрак рассеивается светом и ничем другим. Но бывают моменты, когда неизбежно отступление, хотя бы и временное, все в целях той же победы. Кому, как не тебе, Леф, знать об этом!
Леф, глядя в землю, кивнул, напряженно обдумывая слова Аполлона. Угрюмо он спросил:
– Так что же мне делать? Не вообще – а конкретно. С моими пленниками, к слову сказать. Судить их – это все равно, что рыбу отпустить в виде наказания обратно в море. Ведь вся управляющая верхушка Атлантиды, я не преувеличиваю, предана измене. Можно, конечно, запугать их, издав разные указы, – но это не даст ничего. Так же, как не дало результатов и запрещение черной магии под водительством Вражины. Сама она напоказ перестроилась настолько, что стала громко провозглашать здравицу светлым силам и послушанию законам, тогда как деятельность ее подопечных расползлась по стране подобно вязкой паутине. И за руку их не поймаешь: поди докажи, что это не поклонение дозволенным богам! У них даже молитвы и мантры, известные всем, обращаются в злую силу, ибо мысленно направляются в черный канал, будь он неладен! – и Леф скрестил на обеих руках по два пальца…
Аполлон не стал на этот раз увещевать преданного этера, – он только молча обменялся взглядом с Гермесом. Леф, между тем, продолжал:
– Мы знали, конечно, что в подземельях не все чисто. Слишком большое движение там происходило. Поздно каяться, но это, в первую очередь, моя вина. Я проглядел начало, а теперь этот комок змей настолько разросся, что не знаешь, как к нему и подступиться!
– Очень просто: надо его разрубить! – быстро вставил Гермес, сопровождая свои слова выразительным жестом.
– Заденешь двоих-троих, остальные же расползутся, – отпарировал Леф. – Да оно так и получается: уже начали спешно снаряжаться корабли, а один из царских советников зафрахтовал даже космический лайнер…
– Для чего? – удивился Аполлон.
– Собирается, как мы понимаем, перевезти на новое место обитания все свое племя, – усмехнулся Леф, – да не все поместятся даже в нем зараз. А второго рейса, это они понимают, не будет. Помнят опыт переселения Каци-Картилинов. Представьте себе, что творится сейчас среди бесов!
– Кто это такие? – переспросил Аполлон. Я, признаться, не силен в человеческих племенах…
– Это, великий Апплу, как раз близкие родственники тех самых весей и дарданов, которых ты своим высочайшим разумением переселил в свое время в любезную твоему сердцу Трою.
– А куда направляются эти?
– Вроде бы на материк, в ту его часть, которая открылась после таяния льдов. Капитан Дирей привез нам полное описание этих земель, с прибрежными лоциями и документальными съемками.
– То-то долго они ходили! – не удержался Гермес. – Всего – плавания туда и обратно – девять дней, полмесяца, а они сильно задержались…
– Таково было распоряжение царя Родама: помимо карт, составленных по результатам космической съемки, подробно обследовать открывающиеся земли также и визуально.
– Ну и как, пригодны они к жизни? – в голосе Аполлона ясно слышалась печальная нота.
Леф живо повернулся к нему:
– Пригодны-то пригодны, однако… Боюсь, что наших тепличных человеков, изнеженных в климате постоянной весны Посейдониса, нельзя будет селить в тех местах. Климат там все еще очень суров.
– Но так было и раньше. Еще до гибели Гипербореиматерик, ей противолежащий, постоянно был скован панцирем льда. Однако схиртли колонизировали его еще в те времена, когда ничто, казалось, не угрожало ни им самим, ни их стране. И колонизировали удачно, надо сказать.
– Ты знаешь все, великий Апплу. Должен тебе сказать, что схиртли и сейчвс живут там.
– Это новость для меня, Леф. И новость благая, ибо доказывает именно то, что я предвидел: человек может приспособиться к любым земным условиям!
– Только бы ему не мешали, – тихо прибавил Гермес.
– Да-да! – воодушевленно продолжил Аполлон, и, почувствовав некий подвох, искоса взглянул на брата. – Что ты, собственно, имеешь в виду, Герму?
– Да все то же. В последнее время особенно сильно во мне чувство какого-то отталкивания, противодействия со стороны этих маленьких созданий, человеков. Они и прислушиваются к нашим советам и признают наше главенство, – а все как-то вроде бы нехотя, по принуждению. Хотя мы знаем, что…
– …Насильно мил не будешь. Старая и верная истина. Великий всеобщий Закон: каждый, наделенный искрой разума, будь то человек или могущественный архангел, развиваться должен сам, своей неудержимой волей к совершенствованию. Может, и в самом деле мы напрасно так тесно опекаем человеков? И они, действительно, желают выйти на самостоятельную дорогу? Над этим, знаешь ли, стоит подумать… Хотя, с другой стороны, готовы ли они?
– Ты рассуждаешь, как слишком заботливая мать, не желающая отпустить сына от себя. Конечно, человекам с нами легче: и обеспечены всем необходимым, и ответственности почти никакой, – за них все решаем мы. Даже их ошибки и вечная леность, приводящие к тупикам развития, – и те приписываются зловредному руководству атлантов! Что, разве не так?
– Похоже, похоже, Герму. Но не в нашей власти решать, – уходить нам с лица Земли или нет.
– Но ты же сам говорил не так давно, что мы, атланты, исчерпали себя и не можем больше выполнять свою миссию здесь. Разве это не одно и то же?
– Нет. Потому что – одно дело предчувствовать свою наступающую несостоятельность в порученном деле, и другое – сознательно отстраниться от исполнения порученного долга.
– Что ж, будем ждать. Какое-то разрешение этого узла проблем должно прийти. Недаром же так долго отсутствует брат Родам, благословен будет его образ, – сказал Гермес и сложил вместе кончики пальцев в ритуальном жесте.
Аполлон и Леф, по обычаю, повторили этот маленький обряд, посылая через его посредство помощь – в виде частицы собственной силы – названному лицу. Затем Леф, не смея нарушить общее молчание, поднял правую руку.
– Слушаем тебя, достойный Леф, – обронил Аполлон.
– Не желаешь ли, великий Апплу, выслушать мой рассказ о некоторых последних событиях?
– Чтобы сократить время, которое мы не пощадили в нашей беседе, – улыбнулся Аполлон, и прекрасное лицо его осветилось, будто скользнул по нему солнечный луч, – я задам тебе, Леф, если ты разрешишь, несколько вопросов, которые для меня остались неясными во всем происходящем.
Леф дал такое разрешение со всей серьезностью, и Аполлон начал свои расспросы.
– Неясен для меня облик того картилийца, который сыграл роль неудавшейся жертвы. Как он мог попасть на Посейдонис? Ведь всем, кому дано было спастись с гибнущей Атлантиды, заказан путь сюда.
– Это наш недосмотр, великий Апплу, – опустил крупную, всю в золотистых кольцах коротких волос, голову Леф, – мой, как предводителя ведомства. И должен тебе признаться, что прибыл он сюда не впервые…
– И когда же мы научимся осторожности?! Когда наконец перестанем доверять, открывать душу нараспашку всем подряд? – задумчиво сказал Аполлон, ни к кому не обращаясь… – Наша неразборчивая доверчивость уже привела страну к гибели. И что же? Мы чуть ли не сразу после этого с готовностью нарушаем запрет, наложенный свыше, на вредное общение. Не думая о том, что запрет этот – не жестокость по отношению к тем, кого оставили в живых, но акт милосердия: зараза грозит распространиться на всю планету.
– Но этот картилиец глуп, как человеческий детеныш, – казалось, Леф пытается оправдать не себя самого, а этого пришлого чужака. – Он не знает ничего из того, что необходимо знать любому живущему на Земле! Достаточно сказать, что он не признает существование невидимого мира вокруг него…
– Ты забыл, очевидно, верный Леф, – с горечью продолжал Аполлон, – что именно таково было решение Космического Совета: оставить в живых тех, кого можно еще спасти, но начисто стереть из их памяти – слышишь меня? – все познания, всю информацию, которые они обратили во зло. Ты забыл, наверно, что весь народ погибшей Атлантиды наказан вечной изоляцией, и даже места его поселения выбраны наиболее удаленными от торных дорог мира. Условия жизни им даны достаточно благоприятные – но и только. Лишь они сами, своей долгой и праведной жизнью могут искупить те беды, которые принесли и себе, и Земле, и человечеству. Ведь его развитие пришлось после Катастрофы начинать чуть ли не с нуля. Неужели ты забыл?..
– Но, великий и милосердный Апплу, – голос огромного Лефа был непривычно тих, – прошло уже столько времени… Мы и подумали: раз уж этот картилиец сподобился прибытию на Посейдонис, значит, хвала Единому, кончается их изоляция. Чего же народ томить? Знали бы вы, – он повернулся к Гермесу, как бы ища у того поддержки, – насколько темен этот, как он представляется, один из потомков царских кровей! Что же говорить тогда о человеках, которые пострадали вместе с ними? Они-то были и остаются все под тем же водительством…
– Ты сомневаешься в правомочности Высшего наказания? – голос Апплу был ровен и невыразителен, однако именно в этой невыразительности, как знал Леф, и таилась опасность взрыва.
– Упаси меня Единый от сомнений в том, что исходит от Него! – воскликнул Леф.
– Тогда вопрос исчерпан! – Аполлон точно припечатал свои слова, опустив два пальца на край стола. – Значит, отныне ты и действовать будешь соответственно, не так ли, Леф?
– Да, великий Апплу! – внезапно у него вырвалось: – Вот, если бы только царь Родам не покинул нас так надолго!..
– Да, это большое испытание для каждого из нас, – вставил Гермес, подливая в кубки божественного напитка.
– Испытание?..
– А как ты думал? Испытание, без сомнения. Испытание не только для царя Родама, но и для всей оставшейся Атлантиды. Впрочем, все и всегда на испытании, от малейшего атома, до целых миров… Чего же нам бояться, тем более что бояться вообще нечего? – и Гермес, приветственно приподняв чашу, пригубил из нее.
– И что же, если не выдержим? – осторожно выговорил свою мысль Леф.
– Начнем сначала, мой друг, начнем сначала! – тон Гермеса был неподдельно жизнерадостным, хотя Леф не мог себе представить, как можно веселиться, произнося подобное. – Нам ли привыкать к этому, так ли, брат Апплу? Ну-ка, ударь по струнам, повелитель Муз, а мы спляшем! Как ты, Леф, не разучился еще в своих казематах танцам под божественную музыку?
Гермес, казалось, забылся. Он вскочил с места и протянул уже руку к сидевшему горой Лефу, чтобы растормошить его, – как вдруг вяло осел на мягкое ложе. Рука его непроизвольно защитила сердце…
Леф так ничего и не понял. Он переводил взгляд с одного царственного брата на другого, и слова их проходили как бы мимо его сознания.
– Как ты? – голубые глаза Апплу лучились неподдельным участием.
– Нормально. Но ты силен, брат Апплу! – ответил Гермес, и в его восхищении сквозила легкая укоризна.
– А как иначе? – пожал плечами Аполлон. – Надо ведь проверить твою защиту на готовность отражения. А ты и поддался. Можно ли так?
– Не хватало еще, чтобы я окутывался броней в присутствии своих!
– Иные «свои» для нас горше чужих. Не забывай этого. Ты открылся, да еще развеселился не в меру. Моя стрела поразила не тебя, а темного гостя, вырвавшегося из ближайшего измерения.
– Ты хочешь сказать, что и во мне образовалось астральное тело? – ошеломленно проговорил Гермес.
Аполлон кивнул:
– Да, брат. И в тебе, и во мне, и во всех нас. Мы этого стараемся не замечать, – только это и спасает нас…
– Но я не признаю для себя существование нижнего мира! Я не вхож в него, и не желаю…
– Не суетись. Что, в сущности, такое – этот астральный мир, или астральное тело, через посредство которого наше естество может ощутить этот мир? Это всего-навсего наличие в каждом тех чувств, которые направлены не наверх, – Аполлон слегка приподнял палец, – но ко всему земному. А разве мы все чураемся этого? Да добро бы все зависело на земле только от нас. А то ведь, ты и сам знаешь, хозяева здесь другие… Или считают себя таковыми. Вот и получается, что, стоит кому-нибудь в своих чувствах перейти меру – и он автоматически как бы открывает дверь в астрал. Вот тебе и был урок: не забывайся!
– Но ведь никогда раньше…
– Времена настали другие. Человеки в своем развитии восходят, образуя в себе астральное тело. Много горя это им принесет в будущем, – но таков Путь, и другого не дано. А мы, атланты, – нам суждено на Земле только нисходить, теряя в себе самих те духовные достижения, которых мы когда-то добились. Понятна тебе моя мысль?
– Выходит, мы скоро встретимся с человеками примерно в одном и том же месте? На одном духовном уровне? Но это же смешно! Этого не может быть!
– И, однако, это именно так. Мы, к сожалению, проходим тот отрезок пути, который оказался гибельным для наших предшественников. Ты прав: это испытание. Пройдем ли мы его, не поскользнемся ли?..
Гермес постепенно пришел в себя. Члены его вновь обрели гибкость, и он отнял руку от груди.
– Ух, отпустило! – проговорил он с облегчением. – Однако ты ведь едва не полностью разрядил меня, Апплу!
– Что поделать! Отрицательная энергия, которую иногда приходится снимать – та же самая, что и высшая энергия, к которой мы привыкли. Только с другим знаком. Потому так тяжко нам от одного присутствия носителей этой энергии: ведь мы, в сущности, антиподы. Но, лишаясь этой энергии, пришедшей к нам по закону обмена, мы лишаемся и силы, которую несет в себе любая энергия. Хорошо, что это явление временное, и мы можем быстро восстановить свое энергообращение. Если, конечно, каналы не засорены безвозвратно…
Аполлон взглянул на Лефа. Тот сидел, словно в трансе, и даже слегка покачивался.
– Леф, с тобой все в порядке? – спросил его Апплу.
Не меняя положения и не прекращая едва заметного кругообразного движения корпусом по оси, Леф ответил:
– О да, великий! Мне хорошо! Как никогда. Благодарю тебя за это…
– А как же безопасность государства?.. Вот и работай после этого с вами!
И Аполлон развел руками. Широкие лазоревые рукава его хламиды мягко разошлись, обдав волной все бесчисленные складки его прекрасного одеяния…
Они говорили еще долго и успели затронуть много разных нитей, всколыхнувших новые дела и имена.
Довольный и умиротворенный вернулся Леф к своим верным этера. Но как же велико было его удивление, когда он, взглянул на часы, стоявшие у сводчатого входа во двор Цитадели, увидел, что его отсутствие длилось всего-то полчаса.
Зря, выходит, он так торопился. Можно было бы еще с часок побыть в обществе Аполлона и Гермеса.
Но не таким уж неведающим был царский этера Леф. Упругим шагом проходя по двойной колоннаде, ведущей к царскому дворцу, где возле каждой из белоснежных колонн стояло по воину-этера, вышедших встречать своего доблесного командира, он громогласно провозгласил:
– Как сто пудов сняло! А как вы думали!..
Троекратное «Хурра!» было ему ответом.
Леф сиял радостью. Его сердце было переполнено любовью к родной земле и всем, кто его окружал…
Атлантида!.. Ярко-синие небеса, сливающиеся на горизонте с морем, легкие, взвивающиеся ввысь громады белых дворцов Верхнего Города, окаймленных строго распланированной, но такой привольной зеленью садов и газонов. И Солнце. Не жгучее, но ласкающее всех, почитающих его. Солнце, щедро изливающее свои теплые, животворящие лучи на все вокруг: на цветы, одним видом и ароматом способные успокоить и исцелить душу, на женщин, занятых своими, самыми важными на свете делами, на отважных этера, золоченые доспехи которых особенно привлекательны для Светила.
О Атлантида, сладкозвучная родина моя! Тебе одной принадлежат все силы и все достояние сынов и дочерей твоих вовеки!
Так, или почти так, пело сердце Лефа, и сам Аполлон не отказался бы от авторства этих строк, если бы, конечно, Лефу пришло в голову записать их…
Вряд ли можно было бы себе представить, чтобы слоноподобная Изе могла бегать. И, тем не менее, это было так: толстуха Изе бежала. Ее неестественно раздутые телеса тяжко сотрясались при каждом шаге, и спазм удушья уже перехватил горло, совершенно неразличимое в складках жира.
Она бежала по коридору царского дворца в Цитадели, и одетые в бирюзу и золото этера, стоявшие в нишах с пиками наизготовку (таков был приказ Лефа), невозмутимо переглядывались. Совсем не их делом было бы интересоваться столь странным способом передвижения этой почтенной придворной дамы, однако, с другой стороны, они находились тут не по мимолетной прихоти их начальника, а по вполне конкретному заданию.
Во всех отношениях оказалась очень болезненной замена преданными царю Родаму воинами-этера живых роботов, столь излюбленных царицей Тофаной, и все же Леф пошел на это. Биороботы были, все до единого, отправлены в имение, принадлежавшее царице, под личную ответственность тамошнего управителя. Они усердно занимались там вспашкой и перепланировкой усадебных земель, очисткой непременного в каждом хозяйстве озера и всей дренажной и мелиоративной системы. Леф полагал – и он был не так уж далек от истины, – что биороботы отслужили свое. Их системы не воспринимали отличия истины от подделки и прямого обмана: биороботы были созданы еще в ту эпоху, когда этих различий не могло существовать…
Усиленный караул охранял теперь все подступы к круглой башне, в которой уединилась царица. Эта башня заканчивала собой западное, принадлежащее царице, крыло дворца, четырьмя рядами своих окон, сейчас наглухо закрытых и даже зашторенных, смотревшее в парк. Еще не так давно этот парк, предмет гордости царицы, в создании которого она принимала самое деятельное участие, был свидетелем как шумных придворных увеселений, так и интимных свиданий и прогулок царской четы. Теперь же, по-прежнему ухоженный и омытый до глянца, он затаился в неопределенности, чуя беду.
А Изе бежала. Если бы не крепчайшая каменная кладка (ибо в Атлантиде всегда строили так, чтобы ремонта не требовалось вовек), ни одно здание не выдержало бы столь тяжелой поступи. Дежурным этера, несмотря на все их самообладание, казалось, что содрогается пол, покрытый бесконечным, во всю длину коридора, цветистым ковром, и дрожь эта передается стенам, расписанным фресками из жизни вольной природы.
Конечно, это все только так казалось. Ибо не было на земле силы, способной всего лишь поколебать, а не то что сдвинуть с места хоть единую плиту, вложенную в основание или стены любого из строений Верхнего Города в Атлантисе. Ведь каждая из этих плит составляла иногда добрую половину всей протяженности дворца, и замок, их сцепляющий, был крепче и надежнее любого другого замка. Однако флюид беспокойства, распространяемый вокруг себя непривычной к подобному способу передвижения матроной, дал о себе знать. Один из этера, старший по караулу, подал неслышный знак тревоги.
А ведь, между тем, не случилось ничего особенного. Просто царица Тофана, проснувшись ото сна и не найдя подле себя никого, на ком бы ей можно было выместить злость, невесть откуда налетавшую на нее все чаще в последнее время, сдвинула до отказа рычажок инфразвука, приемник которого был вделан в браслет, никогда не снимавшийся с руки Изе.
Именно Изе, верная и безотказная, взяла на себя после болезни царицы – а вернее, после ее воскрешения из мертвых, всю сомнительную привилегию служения Тофане. Ни одной служанки не могла переносить царица, разгоняя их всех, (да и не только их), едва только они попадались ей на глаза. Одна Изе, силой своего исконно атлантского духа, только и могла еще выдерживать капризы своей любимицы. Изе не смела признаться сама себе, что капризы эти становились день ото дня все изощреннее и даже безумнее…
Вся распаренная, с багровым лицом, по которому ручьями катился пот (явление, до сих пор не известное никому из атлантов), Изе с разбегу стукнулась о невидимую преграду, заменявшую дверь. От удара у нее позеленело в глазах, и она, схватившись за грудь, упала навзничь, оглушенная и подавленная невидимым силовым полем. Двое из этера подбежали к ней. Бегло осмотрев снаружи – нет ли каких повреждений, они осторожно приподняли огромную женщину и поставили ее на ноги. Один из этера провел перед ее лицом, сверху вниз, ладонью, в которой был зажат небольшой сверкающий предмет, – и Изе понемногу пришла в себя.
Поблагодарив этера признательным взглядом, она отвела их от себя рукой и с сомнением посмотрела в сторону непроницаемо свинцового проема двери. Этера отступили, не будучи вправе прикасаться ни к чему, что касалось личной жизни царицы, и Изе подала мысленную команду, о которой позабыла только что. Свинцовое ограждение исчезло, чтобы тут же, вслед за вошедшей в царицыны покои Изе восстановиться в своей невидимой тверди.
Изе со смешанным чувством (приемник, неслышимый для остальных, невыносимо буравил ее мозг) оглядела полукруглый покой: верхний этаж башни был разделен посередине. Здесь было тихо и пусто. Она, приподняв расшитый шелком занавес, вошла в спальню царицы. Та, разбросавшись, лежала на широкой низкой постели, и ее нагота больно ударила по глазам Изе, столь приверженной традициям. Царица спала.
Переведя рычажок зуммера в нижнее положение, отчего сразу отступили эти живодерские вибрации, корежившие ее душу и тело, Изе прикрыла свою подопечную простыней, стараясь не глядеть на ее вольно раскинутые ноги. Затем, потянув за витой шнур, она освободила полукружье окон от затемнения, после чего направилась в маленькую купальню, оборудованную здесь же, за загородкой. Наполнив широкую и низкую деревянную кадку водой, настоянной на душистых луговых травах и сдобренную парным молоком, опробовав еще раз воду, не горяча ли слишком, Изе от неожиданности вздрогнула: из царицыной спальни донесся вдруг грубый окрик. Не спеша Изе взяла расшитое полотенце и направилась к постели, спокойно вытирая руки.
Тофана, между тем, визгливо кричала:
– Кто разрешил тебе входить сюда? Да знаешь ли ты, что я с тобой сделаю за непослушание?!
– Светлого тебе утра и доброго дня, матушка царица! Ненаглядная красота наша, заступница и дароподательница! – Изе степенно ворковала своим негромким и нежным, не соответствующим ее громоздкому сложению, голосом, и казалось, что ее нисколько не трогает неподобающее поведение царицы. – Что кричишь? Этера услышат, – неловко будет…
– Да как ты смеешь, мне, царице, напоминать… Да еще какие-то этера! – едва не задохнулась от гнева Тофана. – Да я вас всех, знаешь… Погодите, вот вернется царь Родам…
– Да уж, скорее бы, – согласилась Изе, – вот только не знаю, обрадуется ли наш царь, застав тебя в таком вот состоянии…
– Замолчи! – взвизгнула царица. – Убирайся отсюда! Слышишь? И духу твоего чтоб здесь не было!
– Ладно, ладно, молчу уж, – миролюбиво отвечала ей Изе. – Пойдем-ка, омою тебя душистой водицей, потру тело твое корешками, – глядишь, и легче тебе станет…
Так приговаривая, она потянула на себя царицу за руку, прикрыла ее измятой простыней и повела в купальню. Та не сопротивлялась. Безвольно навалившись всем телом на свою высокородную прислужницу, она позволила ей довести себя до кадки с приготовленной водой и, даже не попробовав ее температуры, – настолько она была уверена в благонамеренности Изе, тяжело опустилась в белую жидкость, подняв тучу брызг.
Изе молча уложила голову царицы на деревянную подставку, удостоверилась в том, что ничто не мешает телу всемирной повелительницы, и лишь затем отряхнула воду со своего подола и промокнула ноги чистым полотенцем, бросив его после этого в специальную урну.
Тофана подняла восковую руку к виску. Не открывая глаз, она проговорила тихо, будто вся сила ее ушла на недавние выкрики:
– Никого видеть не могу, Изе… Будто весь свет закрылся для меня…
– Что ж, не впервой. Небось, и сама знаешь, отчего это так. Что скажешь?
Невидимый обруч, стягивающий голову царицы, вроде бы ослабил свою жесткую хватку. Но царица знала, что, стоит ей выйти из воды, из этого чудного благоухания, – все возобновится с прежней силой.
– Что ты там бормочешь все, бормочешь, – прошелестела она, едва не плача. – Позвала бы кого, одеть меня и причесать… Вдруг царь Родам прибудет…
– Нету никого что-то, матушка моя. Распустила ты слуг, а, может, и сама прогнала их, – отвечала Изе легко, несмотря на свою комплекцию, снуя между спальней и туалетной, раскладывая на деревянном топчане части сложного царицыного наряда и успевая походя взбалтывать флакончики с протираниями. – Вчера, ой и грозна была, вспоминать не хочется…
– Поди с глаз долой… Нет, чтобы снять с меня тягость, так ты еще выговариваешь!
– Не взыщи, матушка, – после недолгого молчания проговорила Изе, отвернувшись от царицы. – Снять тягость не могу. Не взыщи уж, – повторила она.
– Это почему же?
– Могу пояснить тебе, что к чему, если сама не можешь уразуметь. А вот помочь себе можешь ты сама, матушка, и никто, кроме тебя, этого не вправе сделать.
– Ты что это, – серьезно? – и царица даже приподняла голову, уставившись широко открытыми глазами на изменившую своей обычной покорности Изе.
– Да уж серьезней некуда. Сама чувствуешь, до какой крайности ты дошла. Это мыслимое ли дело – распускать себя до крика! Да еще при подданных! Которые любят и лелеют тебя, неблагодарную!
Тофана медленно опустила голову снова на подставку и, глядя в покатый потолок, сцепила руки.
– Ну, подожди же, – прошипела она сквозь зубы, – отплачу тебе, язва негодная, за все!
– Да я уж давно готова к расплате. Не испугаешь тясячелетнюю Изе, милостивая царица! Только ты вот подумай малость, с кем останешься?
– Никто мне и не нужен! Не забывай, что я – первая, божественная супруга самого царя! А понадобится кто – уж найду, будь уверена!
Видно было, как старалась сдержать себя Изе. Но забота о царице, а с ней вместе и обожаемом ею царе Родаме, восходящая безошибочным провидением в ту тьму напастей, которую обещает неразумие Тофаны, не позволили ей смолчать.
– Давай, зови своих шабашников! – проговорила она в сердцах. – Мало они тебя испортили, – пусть добавят еще!
– Кто испортил? Чем испортил?
– Не играй в непонятливую! На других, небось, прекрасно замечаешь порчу, самую что ни на есть легкую. А вот на себя оглянуться…
– Порча?..
– А ты что думала? Порченая ты!
Жестоко звучали слова Изе, только этой жестокостью и можно было сейчас пробиться к сердцу царицы, закрытому коростой наваждения, к ее разуму, огражденному черными крыльями демонов. Это был крайний способ, и Изе надеялась, что он подействует.
– Вот сейчас, например, случай самый удобный. Сидишь ты в водице омывающей и очищающей, снимающей все напасти. А толку-то и нет. Почему, спросишь? А ты подумай-ка сама. Небось, вспомнишь, что первое дело для очищения и души и тела – это поговорить сама с собой. Так и поговори, милая. Кто, кроме тебя, откровеннее ответит тебе же? Кто, как не собственное сердце, скажет тебе, где ты сошла с дороги, покривила путь свой. Где найдешь ты друга, который бы сказал ту полную правду о тебе, которую знаешь лишь ты сама?.. А ведь для этого надо так немного! Тихо, в молчании, осмотри себя изнутри, назови все увиденное, хорошее или плохое, своими именами – и не жалей себя. Сумеешь совершить это – очистишься. Нет – воля Единого!
– Что ты меня все учишь? Или не знаю я сама, что надо делать, да что думать?
– …Да не забудь главного, – будто не слыша того, что сказала Тофана, продолжала Изе, – все это надо сделать искренно, от всего сердца. Иначе – все попусту. Пока не выбьешь из себя чистую слезу, не останавливайся, хоть сколько на это потребуется времени.
– Еще чего! – засмеялась царица, и Изе неприятно поразили два ее потемневших зуба, так изменившие вдруг ее некогда прекрасную улыбку. – Ну и отстала ты, Изе, от жизни! А ведь тоже посещала наши собрания. Могла бы и сообразить уже, что незачем обращаться к таким древним способам очищения, как тот, который ты предлагаешь. Есть и поновее. А главное – быстрее и с куда большим толком!
– Что же это за новости такие? – в голосе Изе слышалось подозрение.
– Стану, как же, я с тобой обсуждать свои проблемы! Хватит уж, помогли вы мне все! Только и мечтаете, как бы извести меня, царицу!
– Опомнись, матушка! – строго произнесла Изе. – Что молвишь, неразумная? Давай-ка лучше замолчим, чтобы не увеличивать греха!
– Не смей мне приказывать! Действительно, распустила я вас! И не только слуг, но и весь царский двор! Но теперь, дай только срок, я быстро наведу порядок. И во дворце, и во всей стране! Узнаете еще, как вредить своей царице!
– И кто это тебе вредит, госпожа моя? Уж не твоя ли верная Изе, которая день и ночь не спит, тебя оберегая?
– Толку мне от того, что ты оберегаешь. И нечего больше мозолить мне глаза. Говорю же тебе: надоела ты мне так, что терпеть тебя близко не могу. А ты все трешься тут…
– Вот как… Чего же ты зуммеришь беспрерывно? У меня, поди, от этого инфразвука уже не нервы, а пустые ниточки остались, а ты все изводишь меня.
– Что ты выдумываешь?!
Изе только взглянула на царицу. Она сумела промолчать, поняв, что та и в самом деле, видно, в беспамятстве нажимает этот рычажок у своего изголовья, инстинктивно обращаясь как бы за помощью именно к ней, чуя защиту. Однако Тофана еще не скоро угомонилась.
– Знаю, знаю, что вся ваша чистокровная царская семейка ненавидит меня, – исходила царица злостью, и вода в кадке вскипала то там, то тут, когда ноги и руки ее непроизвольно дергались. – Так и норовите изжить меня. Но ничего у вас не выйдет! Царь за одну мою слезинку вас всех…
Она остановилась, задохнувшись и сильно закашлялась. Изе обернулась – и увидела, что царица, схватившись рукой за горло, царапает его длинными крашеными ногтями. Недолго думая, могучая женщина выхватила ее, как пушинку, из ванны и чуть ли не швырнула на мраморный топчан. Не обращая внимания на хрипы и стоны своей клиентки, она торопливо промокала ее полотенцами, как вдруг под тонкой тканью ощутила нечто инородное, – какую-то шероховатость. Она всмотрелась: ранка, небольшая царапина. Оно бы ничего не значило, если бы Изе не знала того, что она знала. Это был знак враждебного когтя…
Безмолвно Изе совершила то, что должна была бы проделать последняя служанка: она одела царицу с ног до головы, переворачивая ее с боку на бок, со спины на живот – и обратно. Затем усадила в кресло, повернула его к окну, чтобы не скучно было, и, не слушая больше монотонного верещания больной, решительно удалилась.
Она не стала запечатывать дверь. Подозвав ближайшего этера, тихо сказала ему слова мысленного кода. Потом сняла с руки серебрянный литой браслет, в котором в виде бесцветного камушка был вмонтирован приемник, и передала его воину.
Спускаясь в ажурной медной кабине в нижний этаж дворца, к выходу, Изе с облегчением подумала, что царские этера – поистине кладезь сокровищ: им ничего не надо объяснять, они все понимают без слов…
Изе не выбирала потайных ходов, она просто двигалась, занятая единственной мыслью. И тем удивительнее было то, что ее никто не заметил. Позже, когда хватились наконец наперсницы и добровольной покровительницы царицы Тофаны, оказалось, что последними из тех, кто видел Изе и говорил с ней, были царские этера, охранявшие вход в верхний этаж западной башни. Этера, которым она передала дальнейшее попечение над царицей.
После этого она как в воду канула. А ведь, куда бы она ни направилась, ей непременно пришлось бы пройти по обширному дворцовому вестибюлю, занимавшему все основание первого этажа, помещению торжественному и помпезному в одно и то же время. У его красноватых колонн, как и в уютных уголках возле маленьких бассейнов с диковинными рыбками, постоянно встречались для беседы атланты, живущие в Верхнем Городе. Однако Изе никто не видел.
Как нож сквозь масло, прошла она по дворцовому парку, никого не встретив, – а ведь она не пряталась. Настолько сильна была мысль, которая ее вела, столь твердо и непоколебимо было принятое ею решение, что препятствий к его выполнению просто не могло быть…
…Изе вступила в полумрак Башни Уединения и невольно поежилась от влажной прохлады. Запечатав проем двери, она, даже не взглянув на то, свежи ли съестные припасы в кладовой, есть ли льняные простыни и другое белье в настенных шкафах, поднялась выше. Там, в круглой, чисто и просто выбеленной комнате она огляделась – и как будто опомнилась: негоже, да и невозможно было бы ей приступить к тому, что она собиралась совершить, не постаравшись достигнуть всей мыслимой чистоты.
Чистота же духовная начинается с самого физически необходимого: с телесной опрятности. И, хоть ежедневные многоразовые омовения были для нее привычны, как и для всех на Посейдонисе, пришлось Изе спуститься обратно, через нижнюю комнату, в подвальное помещение. Здесь, кроме кладовых, была оборудована и купальня.
Она совершила свою обязанность истово, как священнодействие. Да, собственно, все, что бы она ни делала теперь, когда поняла, что ей предстоит, – все и являлось священным.
Облекшись в длинный и широкий кусок льна, на котором отсутствовали какие-либо швы, и который оставил ее левое плечо обнаженным, Изе, распустив для просушки длинные светлые волосы по спине и плечам, подошла к деревянной панели и открыла ее створки: за ним было зеркало.
Здесь, под уровнем земли, было место, где она должна была оставить все земное, что так крепко наслоилось на ее существо за десятки веков. И зеркало должно было ей в этом помочь. Она посмотрела на себя сначала издали, как бы оценивая взглядом эту женщину, стоявшую напротив, со знакомыми чертами правильного лица. Это лицо могло бы быть названо даже красивым, – не будь оно так деформировано излишним жиром, не расплывись оно, как перестоявшее сдобное тесто, толстыми складками на шею и грудь. Вот только глаза, пожалуй, остались прежними. Хотя их уже не назовешь молодыми и полными огня. Что ж, зато в них теперь светится мудрость – дитя опыта.
Хорошо, что одеяние ее было так просто. Иначе Изе пришлось бы покраснеть от стыда за свою фигуру, вернее, полное отсутствие даже намека на некое подобие женских форм. Но и это надо отметить, – сказала про себя Изе.
И все же, – где и в чем таится причина того, что ее некогда прекрасное тело, своей непередаваемой женственностью пленявшее поэтов, слагавших о нем целые поэмы, которые распевались потом по всей Атлантиде, это тело так изменилось, стало таким уродливым, что его невозможно открыть ничьему глазу? Ведь, в сущности, любая одежда нимало не прячет форм тела, и всякие ухищрения в ней тем скорее выдают все его недостатки – отход от пропорций. Толк же в пропорциях знает любой, даже самый далекий от искусства человек: именно это врожденное чувство красоты и гармонии во всем он получил в наследство от атлантов.
Изе смотрела на себя. Она не вспоминала сейчас ни насмешливых взглядов, ни хохотка вдогонку, которые ее, впрочем, никогда и не трогали. На то она и была «вечная тетушка» атлантов, чтобы оберегать их от всех посягательств на чистоту, – чистоту не только линий и цветов одежды или жилищ, но, главное, чистоту всех их помыслов и чувств. Не это ли ее всегдашнее беспокойство обо всех своих бесчисленных родственниках (ведь оставшиеся в живых атланты – это, в сущности, единая царская семья), привело к засорению, а в конечном итоге, полному нарушению функций ее энергетических каналов? У всех оно выражается по-разному; у нее же – в виде избытка шлаков, вовремя не выведенных из организма командами давших сбой желез.
А в последнее время – услужливо подсказывала ей память – она и вовсе поддалась общему настроению, новой моде на острые переживания в нижнем астрале. Что из того, что Изе вроде бы трезво относилась к таким сборищам, где один, особенно «вхожий» в те слои, начинал, а остальные ему подыгрывали, как и другие, она с удовольствием отдавала свою энергию в ненасытную воронку нижнего мира, находя в этом своеобразный вид опьянения: ведь обессиленный, лишенный источника жизни мозг начинал работать вполканала, затуманивая сознание и ввергая его во власть чудовищ тьмы.
Сначала Изе, надо отдать ей должное, сидела в таком кругу как бы подчиняясь долгу, не желая оставить тех, кого любила, и в первую очередь, царицу Тофану, без поддержки в трудный миг. А он, Изе знала, мог наступить неожиданно. И, конечно, энергетический мощный ее аппарат не раз спасал все собрание, отдавая из себя каждому по мере потери сил. Ведь кто, как не Изе, знал, насколько слабеют атланты в каждом поколении!
Затем, как-то незаметно, вроде по обязанности, она втянулась в это общее для малого – царицыного – двора, занятие. Более того, изо всех сил старалась скрыть все, что творилось под крышей дворца, от самого царя Родама. А ведь он так ей верил.
Грех-то какой…
Изе взялась было за створки зеркала, чтобы закрыть его, – не любили в Атлантиде открытых зеркал – как вдруг вроде какая-то тень мелькнула за ее плечами. Она чуть прищурила глаза, всматриваясь, и вдруг наконец различила того, о чьем присутствии за своей спиной давно догадывалась.
– Что, ждешь? – произнесла она мысленно.
Тень чуть колыхнулась в ответ.
– Долго тебе придется ожидать. Разговор-то у меня, – она взглянула наверх, – непростой. И неизвестно еще, как он разрешится.
– Подожду, – хохотнул Кечкоа, ибо это был он, – куда мне спешить? Да и добыча ценна необычайно!
– Ты что же, надеешься…
– Почему же – надеюсь? Я знаю точно. Куда она денется, коль уж ты так решила?
– Вот испугаешь меня, так могу и перерешить…
– Как же! Испугаешь тебя. Ты камешек твердый, старой породы: назад ни шагу. А, впрочем, если и перерешишь, так обратно пути у тебя все равно нет!
– Это как же? Ты что же, не думаешь блюсти закон свободной воли? Он-то, не забудь, равен для всех: и для Высших, и для тех, кто вроде тебя…
– Не беспокойся. Не выйду я из рамок закона. Не хуже тебя знаю, чем это грозит. Только не придется мне насиловать ничьей воли – ты все сделаешь, как надо, сама. Да ты не бойся, дорогая Изе: во тьме – но мы ведь тоже живем. Не хуже, а может и получше, чем вы тут, на земле. Имеем от вас, живущих, все, чего и при жизни не имели. Стоит только забраться в душу какую-нибудь – и наслаждайся себе! Главное, – это выбрать объект с хорошими возможностями, пусть у него будет все: богатство, еда, питье до отвала. Пусть будет золота вдоволь, чтобы мог он содержать для себя целый гарем. Вот это мне по нутру!
– Ну так это же «он» живет, а не ты.
– Ошибаешься. Вот тут ты сильно ошибаешься, а еще думаещь о себе кое-что! Раз «он», как ты говоришь, допустил меня в свое естество, значит, там уже приготовлено для меня уютное жилище: астральное тело, которое находится вроде бы и в нем самом, а на самом деле – в другом измерении, которое вы также называете астральным. Так что я в каждом из вас, живущих чисто по-земному, могу находиться как у себя дома! А уж после, как вышли ваши ресурсы, так мне в вас удовольствия нет.
– К чему же тебе ждать тогда?
– А в этом моя работа. Сдаю я вас, которых веду иногда всю вашу жизнь, начальству, дальше они там уж сами распределяют, кого куда.
– Хороша же работа…
– А особенно любо моему покровителю, – продолжал темный дух, увлекшись без меры, – это если кто из нас приведет к нему неминуемо душу, отродясь нам не принадлежавшую. То-то праздник в подземном царстве наступает, скажу тебе!
– Но ты-то, какую ты сам корысть в этом имеешь?
– Я?.. Неужели не понимаешь?..
– Видит Единый, не понимаю.
– Но-но! Ты бы еще крестом себя осенила. Уж и живешь столько, что и забыла счет годам, а того не соображаешь, где что пристойно молвить. Меня этим не отгонишь, – я привычный, да и слово знаю. А вот себе окончательно навредишь.
– Скажи, какая забота!
– А как же! Мне тебя надо довести в целости и сохранности. При всем твоем свете. А иначе стал бы я стараться…
– Выходит, света у вас маловато?
– Да уж, огня хватает, а света вот…
– Так если огонь есть – светите огнем.
– Ты что, разницы не знаешь?
– Какая может быть разница! Огонь везде один, во всем Космосе.
– Это вы так считаете. Потому что не принимаете вовсе в расчет ничего противоположного. Нос только кверху и тянете. «Сила в нас, сила! – передразнил кого-то воображаемого Кечкоа. – Огонь носим в себе всемогущий!» А того не соображаете, что огонь этот, на самом деле единый для всего и всех, можно обратить на разные полюса!
– Ну и что же?
– А то, что ваш огонь, светлый, при некоторых наших усилиях, легко превращается в черное пламя. Опаляющее и разрушающее. Замечаешь разницу теперь?
– Замечаю. Только не пойму я все же, зачем вам всем это? Лично тебе, например.
– Лично я должен делать так, как мне велят. У нас дисциплина, знаешь, – ого! Не так, как у вас: все плачете, стенаете, – темные вас задавили. А кто же мешает вам не поддаться? Так для этого же надо подчиниться вашему Высшему, и все, что Он ни прикажет, – выполнять беспрекословно.
– Да мы и выполняем…
– Ой, насмешила! Да вы только и делаете всю жизнь, что ждете, когда вам Свыше дадут приказ к выполнению: «Поди, мол, сделай то-то и то-то». А такого приказа все нет и нет, великого и несравнимого ни с чем. Проходит жизнь, а вам и невдомек, что Приказ, он дается лишь однажды. И давно-о уже дан – только выполняйте! Это после его уже повторяют вам ваши жрецы, цари, святые или кто там еще. А вам все непонятно, зачем же вы жизнь прожили? Ха-ха! Да еще лучше того: чуть забрезжит в вашем разуме, не приказ ли это Оттуда? – так вы начинаете сомневаться. Как же! Соблазнитель и искуситель вам везде и во всем мерещится!
– Но это действительно так!
– Так, да далеко не всегда. Чаще всего вы сами работаете на нас и вместо нас. Так что, видишь теперь…
– Не хочешь ли ты сказать, что вы непобедимы?
Кечкоа опомнился. Темнота за спиной Изе задрожала, и она услыхала его ответ:
– Иди, иди, не задерживайся. Заканчивай свои небесные счеты – и не забудь про царицу. А я уж не замедлю.
И тень истаяла.
С тяжелым чувством Изе закрыла зеркало, привела в порядок все вокруг себя – это было старинным обычаем, которого она не гнушалась никогда, и медленно, едва переставляя ноги, начала подниматься по винтовой лестнице наверх.
Она катастрофически быстро теряла силы. Казалось, что независимо от ее каких-то усилий, начало действовать само ее решение уйти из жизни. Однако ей предстояло еще нечто столь важное – без совершения чего потерял бы смысл сам переход, – что Изе, остановившись передохнуть на маленькой ступеньке, постаралась собраться с духом.
Ей это удалось, хотя и пришлось полностью сосредоточиться на своем нижнем центре, – ноги отказывались служить прежде всего остального. Наконец она, держась уже обеими руками за перила и приставляя ставшие совсем чужими бревна недавно еще таких легких ног друг к дружке, как это делают дети, достигла уровня верхней комнаты.
Пустая и светлая, как все молитвенные помещения, наполненная вековыми излучениями тех, кто пытался здесь сблизиться с Высшим, эта комната одним видом своим говорила об отрешении от интересов плоти, вечно волнующих всех, в ком бьется земное сердце. Лишь тростниковая циновка у круглой стены отдаленно напоминала здесь о кратком отдыхе для бренного тела.
Прошло еще немало времени, пока Изе смогла опереться руками о теплый и мягкий ракушечник, служивший настилом для пола. Это послужило как бы сигналом для того, чтобы нижняя часть тела полностью отказала ей в повиновении. Упав грудью на острый край последней ступени, она не почувствовала боли: сейчас главное для нее было – вынести свое тело, все, целиком на верхний уровень. И это не было пустым символизмом.
Раз за разом она останавливалась на какой-нибудь определенной цели, направляя слабеющую мысль на ее преодоление, – и продвигалась к задуманному. У нее не было возможности думать сейчас о ком-то или о чем-то помимо покорения каждого сантиметра пространства. Это и было высшей экономией сил.
Да, она понимала теперь, как бездумно и во многом бесцельно источала из себя раньше драгоценную энергию – ту самую неведомую жизненную мощь, которая так неравномерно распределена в живых существах, – расходуя ее, особенно в последнее время, вовсе не по назначению. Ибо, если бы ее мысль неотрывно следовала Высшему Плану, целесообразность была бы соблюдена, и источник вечной жизни и молодости не закрылся перед ее замутившейся душой. Но поздно было сожалеть об ошибках. Надо было, сколько возможно, исправить их следствия…
Что-то случилось с глазами – она, как в тумане, нашарила широкую педаль, на которую обычно наступала ногой, и с трудом, навалившись чуть ли не всем телом, нажала на нее. Беззвучно выдвинулась каменная плита и закрыла лестничный проем. Изе прошептала: «Благодарю тебя, Всевышний!» – она решила, что, коль скоро ей удалось отсечь себя от всего земного, с чем она связывала перекрытие пола, то это добрый знак. А на это она уже и рассчитывала, по правде говоря. Однако рано она обрадовалась. Попытавшись продвинуться чуть дальше, к середине комнаты – ее заветному центру, обозначенному синим кругом, – она обнаружила, что подол ее одеяния наглухо зажат каменной плитой.
Изе не сопротивлялась больше. Она бы могла, конечно, попробовать вновь открыть плиту, чтобы освободить себя, – но это было бы непростительной тратой времени, которого оставалось все меньше. О том же, чтобы снять с себя кусок льняного холста, не могло быть и речи: Высшее Общение, в отличие от темных вызываний, немыслимо при телесной наготе.
Да, это был ясный и непререкаемый знак. Ей дозволялось ее обращение, – но без обратной связи…
Однако Изе, казалось, вовсе забыла, с чем она добралась сюда. Слезы текли из ее ослепших глаз, заливая ее руки, полотно на груди и даже белый камень, на котором она лежала вниз лицом. От рыданий крупно сотрясалось все ее тело; невнятные стоны гасли в пористом ракушечнике, а мысли все путались в голове, пока не исчезли вовсе.
Затихнув, она лежала, неловко вывернув шею в попытке поднять голову, косым крестом раскинув ноги и руки.
Да, она ни о чем не думала. Даже о том, что умирает, не совершив задуманного. Так продолжалось несколько минут, долгих, как вечность. Сознание ее постепенно прояснялось, очистившись потоком слез. Именно они растопили прочный панцирь, запаявший ее дух, – ровно настолько, сколь велика была мощь ее жертвы, – и Изе увидела вдруг в закрытых своих глазах мягкий оранжевый свет. Свет этот все разгорался, словно лампу внесли в комнату, где до этого было темно, пока наконец не стал голубовато-белым. Со странным спокойствием Изе наблюдала за разрастанием внутреннего свечения, которого не ощущала уже так давно, что и не чаяла его вновь увидеть. Покой, величественный и ясный, постепенно и незаметно наполнил ее существо. Отодвинулись прочь все мелкие желания, наполнившие суетой ее мысли, а с ними вместе будто бы исчез некий занавес, освободив место чистому сознанию, истинному сокровищу Высшего Разума. К нему и обратилась Изе.
Ее мысли не облекались в слова, как это им привычно в земных условиях, они не были даже отдельными, разграниченными помыслами. Это была поистине единая, цельная мысль, само построение которой, уж не говоря о всевместимости и вневременности, так трудно и неохотно признается приземленным интеллектом. Эта Мысль, которой была сейчас объята атлантисса Изе, вернувшаяся к преддверию своего духовного дома, не принадлежала ее телу или чувствам, ни даже разуму. Она, свободная, неслась туда, куда направлялась волей, посылавшей ее, и исполняла силой этой воли все, к чему была предназначена.
Господь Всевышний, – было в этой мысли Изе, – смиренно благодарю Тебя за то, что Даруешь мне, столь виновной перед Тобой, возможность очистить душу.
Вижу и знаю, что нет мне места на земле, ибо не выполнила я главного Твоего Наказа – не сберегла чистоты сердца своего. Нет мне места и в светлых областях, принадлежащих верным сотрудникам Твоим, потому что знаю: не преодолеть мне главного препятствия, ведущего в те области – темного и вязкого пояса надземного астрала.
Ясно осознаю, что добровольно, своей волей допустила в себя проникновение силы, властвующей в околоземной сфере. Не буду оправдываться слепыми пожеланиями блага, расточавшимися мною без разбора, кому же они достаются. Превысила дозволенное Тобой, Господи, не по гордости своей, но только сочувствуя близким своим, кои не замечают сами, Господи, что все дальше уходят с Пути.
Расточила ценности, заслуженные мной в столь тяжких трудах эволюции, и спокойно принимаю – не наказание, нет – то, что сложила для себя в этом, самом трудном из всех прошлых испытаний, – испытаний земной жизнью.
Тяжела эта жизнь, Господи. Нет в мироздании отдыха, и велики и непомерны заботы и подвиги Твои и соратников Твоих. Но в борьбе с равной мощью стихий крепнет светлая сила, и легко различимы в Твоих Областях все тени, которым некуда деться от уничтожающего их света.
Здесь же – поистине, Господи, закрывается всякий вход добру и благу, затмевается сознание темной сенью черных крыльев, заслоняющих неземное Солнце. Не отличить иногда Твоих посланцев от тех лазутчиков, орудующих Твоими же словами и Законами в своих темных целях.
И соблазнов не счесть, Господь мой. Соблазнов, которые раскидывает щедро на пути духовном тот, кто есть противник Твой. Отвлекает он разум наш на прелести земные, чтобы не дать никому помыслить о вечном, которое лишь в Твоих Сферах, Владыка.
Впрочем, Ты знаешь обо всем лучше меня и кого бы то ни было, Господь Великий.
Перед тем, как расстаться с Тобой на долгие эоны лет, – ибо знаю, что заново совершу восхождение, – прошу Тебя, Всемогущий, разрешить мне некое действие.
Прошу Тебя, Всемилостивый, измени течение Всесильной Кармы, ибо моей волей вырывается из ее тугого сплетения мохнатая нить дочери атланта, избравшей для себя нижний путь, – освобождая место для светлого вливания в ткань, составляющую карму царя Родама, от которого зависит благоденствие не только Атлантиды, но и всей Земли.
Да, Господи, прошу за всех. Ибо Ты, допустив соединение атлантов с человеками, образовал тем самым новое человечество. Так дай же ему эту возможность подняться еще на одну ступень!
И пусть исполнится Твоя Воля, Господь мой любимый…
Изе замолкла, ибо сознание ее отлетело.
Долго еще рука ее скребла камень, подтягивая что-то невидимое к себе, пока наконец не замерла, сжавшись в крепкий кулак.
Именно в это самое мгновенье в царицыном тереме случился переполох. Окно в светлице, верхней комнате, со звоном разбилось, а на узкую дорожку, недавно, по желанию царицы Тофаны, вновь вымощенную красным гранитом, упало ее тело. Дикий визг, сопровождающий это падение, долго звучал в ушах не только всех, кто был неподалеку. Его леденящий отзвук пронесся далеко за оградой царского дворца.
По какому-то странному совпадению, платье с утра царица пожелала надеть на себя тоже красное. Так что и крови почти не было видно, – так, самую малость…
Геракл уже совсем оправился от теплового удара, полученного им на священной горе. На здоровых селенских харчах он окреп, хоть и не раздобрел, – подвижный образ жизни, принятый на Посейдонисе, и сама пища здешних жителей, в корне отличавшаяся от той, к которой привык Геракл, не располагали к полноте.
Нельзя было сказать, что Геракл был очень уж доволен этим обстоятельством. Мысли его, особенно в последние дни, когда так резко усилился его аппетит, постоянно блуждали вокруг бревнышка, на котором бы зажаривалась тушка молодого бычка или барашка, на худой конец, хоть бы аппетитной свинки. По временам ему казалось, что он слышит потрескивание углей в костре и даже обоняет аромат изумительного дымка, исходящего от сока, стекающего в жар сизых головешек, отчего (он и это видел) они то тут, то там взвивались мгновенно гаснущим огнем, рассыпающим вокруг себя снопы искр.
Так и сейчас – ощущение реальности его видения было таким сильным, что Геракл невольно застонал.
– Что, Херкле, подвигаются дела? – раздался вдруг голос лукумона Иббита, и Геракл от неожиданности выронил из рук нож, которым он очищал молодые ивовые плети, наваленные возле него целой грудой. Лукумон, между тем, продолжал: – Всего две корзины?.. Не маловато ли, дружочек? Солнце уже, вон, пошло по четвертому кругу, а ты…
Геракл насупился. От непреходящего чувства голода, позывы которого изводили его быстро восстанавливающийся организм, он теперь был недоволен всем, а недовольство это носило какой-то постоянный и все расширявшийся характер. Вот и сейчас при словах лукумона красный туман начал заволакивать его сознание, а в глазах зажегся тот бегающий огонек безумия, который был так пугающе знаком всем, кто знал его в той, прежней его жизни…
Лукумон Иббит вроде бы ничего и не замечал. Подойдя ближе, Он присел на корточки возле своего подопечного и начал перебирать прутья очищенных Гераклом ветвей. Влажные и гибкие, они будто сами просились в руки, оставляя на них свой запах свежести и первозданной чистоты.
– Смотри, Херкле, на эту сердцевину дерева, – задумчиво сказал лукумон, – обнажил ты ее – и делай теперь с ней, что желаешь. Это хорошо, что ты, с твоимито сильными руками, не погубишь ее, не переломаешь понапрасну. Ты умеришь мощь свою, приспособишь ее к нежности этого материала и создашь нечто полезное для всех, да и глазу приятное. Ведь что, казалось бы, такое эти прутья? – лукумон рассуждал как бы сам с собой, хоть и обращался к Гераклу. Он вроде бы совсем не замечал ни увеличивающейся его агрессии, ни того даже, что нож, выроненный незадачливым потомком богов, вновь оказался в его широкой ладони. – Неразумные деревяшки, скажешь ты?.. Однако, ведь именно они, как видишь, вместе с тобой создали эту красоту, – и он одобряюще кивнул на две небольшие корзины с высокими округлыми ручками, сплетенные Гераклом. – Да-да, дружочек! Один бы ты, без этих прутьев, ничего бы и не сплел! Ведь так?
И он весело засмеялся. Маленький и круглый, с короткими ножками и ручками, он был похож на колобок, который Геркулесу приносили трижды в день для еды, такой же смуглый и румяный. Однако смеялся он заразительно, – если даже Геракл, неулыбчивый и вечно хмурый, поддался его настроению. Медленно и нерешительно, словно с непривычки, дрогнула одна половина его лица: словно судорога тронула прямую линию его жесткого рта, не знавшего улыбки, – и вот уже мягкие рыжеватые усы героя поползли к вискам, а глаза превратились в щелочки, искрящиеся синим светом, который один только и мог погасить тот безумный отблеск, который исходил из самых темных, хаотически беспорядочных импульсов его мозга. Наконец тихий и хриплый короткий смешок вырвался из недр когда-то мощной, а ныне ввалившейся в саму себя груди Геракла. Не понимая, что с ним происходит, – да и не раздумывая об этом, ибо не имел такой привычки, – он, тем не менее, смеялся от души. И уже слезы появились на его ресницах, уже заболели щеки, а он все заливался смехом и нисколько не желал остановиться.
– Вместе!.. Конечно, вместе! – вытирая глаза, успевал он произнести, как тут же новый приступ смешливости заставлял его пригибаться чуть ли не до земли. – Один бы я и не сплел этих корзин! Конечно! И как это я сам не догадался?!
Наконец лукумон Иббит решил, что лечение можно и заканчивать. Он постепенно свел свои вибрации к покою и остался доволен тем, на каком уровне остановились эти вибрации у Геракла: шкала, к счастью, повышалась.
Геракл отсмеялся. Теперь он сидел покойно, но воспоминание о недавно пережитом нет-нет, да и давало о себе знать беспричинной улыбкой. Даже лицо его изменилось: как бы высеченное из гранита до той минуты, теперь оно утеряло свою неподвижность. Однако взгляд…
Взгляд оставался тяжелым. Да, много работы еще предстояло лукумону Иббиту. Но он знал, что время, в сочетании с некоторыми специальными приемами – лучший лекарь, и не торопил события. Да и как их можно торопить, если они идут, направляемые Волей, Которой он сам лишь более или менее понятливый исполнитель. И вся его роль в этом деле, как и во многих других – это предоставить свой энергетический аппарат в безраздельное пользование Разуму Высшему, Который сам знает, что и как надо сделать в каждом отдельном случае.
Впрочем, лукумон Иббит излишне скромничал. Он хорошо знал, какова истинная ценность его работы. Ему было ведомо, что без его помощи на Земле не может быть проведено в жизнь почти ничего из того, что Задумано, Выстроено на умственном Плане. Что из того, что «там» уже существуют великолепные, сверкающие разумом и красотой человеческие создания, облеченные в форму мысленной Материи? Претворить ее в физическую форму – вот задача…
Пристукнув короткими ручками о мословатые колени, лукумон Иббит поднялся.
– Ну, заговорился я тут с тобой, Херкле, – сказал он, сияя добрыми черными глазками, – а дел у меня еще – о-го-го! Хотел, правда, взять тебя с собой, посмотрел бы, как мы живем. Да тебе, видишь, надо сплести еще корзину.
– Да я быстро, я сейчас, – заторопился Геракл и начал прилаживать прутики для основания дна, – ты уж подожди меня, лукумон.
Судя по тому, как прутики не слушались Геракла, выпадали из его пальцев и скользили вовсе не в нужную сторону, ждать лукумону Иббиту пришлось бы долго. Не показывая вида, что и сам не подумает уйти отсюда без него, лукумон как бы неохотно вновь присел на корточки перед грудой очищенных прутьев и поскреб бритую голову под плоской шапочкой, чудом державшейся на гладком, словно полированном, черепе.
– Ну ладно, – произнес он, – так и быть, помогу тебе. Не оставлять же работу несделанной! Да и прутья эти, раз они уж очищены от коры, должны быть пущены в дело: к завтрашнему дню их уже не употребишь ни на что, кроме метлы. Должно быть, ты и сам знаешь, как быстро они дубенеют.
Геракл кивнул, машинально наблюдая, как ловко пальцы лукумона справляются с тем, что для него самого было почти неразрешимой задачей: плетением донышка будущей корзины. Основа, как-то незаметно сложенная маленькими смуглыми руками лукумона, обрела вскоре плотное ядро в круг двенадцати палочек, концами направленных строго симметрично в разные стороны. Лукумон что-то приговаривал своим мягким голосом, тогда как пальцы его виртуозно крутили дно корзины по оси, все прибавляя и прибавляя на ней слоев безупречно ровного плетения. И прутья основы уже не казались Гераклу, как прежде, враждебными колючками, ощетинившимися против него своими остриями, – нет, теперь это было нечто веселое и доброе, беспрестанно крутившееся, вертевшееся, словно маленькое солнце.
Казалось, лукумон читает мысли Геракла.
– Да это и есть солнышко, – ворковал он, переходя к стенкам своего изделия, видишь, какое круглое да ясное. Посмотрит кто, так сразу и вспомнит про солнце.
Да как же и кто увидит его на дне корзины?
– А это неважно, на дне или на крышке. Вон, – лукумон, не отвлекая взгляда, кивнул в сторону лежащих корзин, – ты их перевернул – и гляди на дно, сравнивай его с солнышком.
– Да что же в них общего? – пожал плечами Геракл.
– А то и общего – что образ. Образ у них един. А это – главное. Вспомнишь образ – считай, что призвал к себе саму сущность.
– Скажешь тоже…
– А ты, дружочек, пока не успел кое-чего понять, лучше промолчи. А то можешь и оконфузиться впоследствии, когда дойдешь своим разумом до этого. Знаешь, бывает так: кричат, насмехаются над чем-то, что выше их разумения. Оно ведь и в самом деле часто кажется неправдоподобным. А потом, смотришь, время пришло, набрался каких-никаких знаний, – оказывается, всето и возможно. Ну, может, другими словами сказано, а суть-то одна. Понял?
– По правде говоря – не очень-то.
– Ну, ничего. Не расстраивайся, если что и кажется тебе сейчас непонятным. А как же! Ты ведь попал совсем в другую жизнь, чем раньше. Конечно, мы живем не так, как другие – там, на остальной Земле. Мы здесь, слава великим аттили, ограждены от многого. Можно сказать, как в теплице живем, где выращивают самые нежные растения. Видел такие?
– Ты прав, лукумон. Там, – Геракл резко мотнул головой в сторону востока, – там все по-другому.
– И все же, видно, сильно тебе насолило, что ты…
– Что это все мне стараются напомнить, что я продался в рабство? Или я ради этого несчастного серебра, которое в тот же вечер и пропил с такими же двумя?..
– Ну-ну, не заводись. Никто тебе не желает здесь плохого. Просто это и в самом деле у нас не часто увидишь, как человек добровольно отдается во власть другим. Вот и дивятся. А ты должен это понять.
– Прожили бы они с мое, да прошли бы хоть малую толику этих бесконечных несчастий и унижений! Сразу бы поняли.
– Это мы уже слыхали. Непонятно только, для чего все же продавать свою свободу? Ведь, понимаешь, чего нам никак не уразуметь тут: свободная воля – это единственное из того, что на самом деле принадлежит самому человеку. Остальное все дано нам как бы на время. Дома, утварь, одежда, жены, дети и даже само это тело – лукумон потрепал себя за руку, – в которое облечена наша душа, все это мы получили в пользование просто потому, что земное бытие немыслимо без земных атрибутов. Оттого мы так ценим свободу нашей воли, нашего желания, что остальное все получаем вроде как готовенькое: что тебе дали, тем и владей.
– И почему же тогда одним – дворцы, как атлантам, а другим – шалаши, крытые листьями пальмы?
– Ты перескакиваешь на десять уроков вперед, дружочек, – серьезно ответил ему, после недолгого молчания, лукумон. – Кого-нибудь из наших, селенских, я бы наказал за нетерпение. Потому что ученик, да еще начинающий, должен лишь слушать и размышлять про себя об услышанном, а не мешать процессу учения своими недисциплинированными мыслями. Но тебя, Херкле, я вынужден простить.
Лукумон, это было видно по всему, заметно огорчился. Корзина, почти готовая, уже не так бойко вертелась в его руках, да и голос как-то сник. Геракл, искренне расположенный к этому человеку, тем не менее, не мог остановиться.
– А ты меня не прощай, – драчливо выставил он вперед руку, – ты меня накажи. Не впервые мне это, знаешь ли. И стоит это твое прощение дешево, – миску похлебки, небось, да колобка в придачу? Так я обойдусь уж как-нибудь, не привыкать. И так голодаю без конца…
Лукумон аккуратно поставил корзинку на место и искренне – или деланно – залюбовался ею.
– Ну, как? – спросил он Геракла, хотя тот и не думал отвечать, отвернувшись в сторону. – Хорошая работа? Жаль, что прутьев ты мало очистил, а то бы я закончил ее. Видишь, что означает пустая болтовня? Вместо того чтобы пререкаться с учителем, ты бы занял свои руки. Была бы польза, по крайней мере. А теперь – эту корзину, дружочек, я тебе не засчитываю. Закончишь ее завтра. Ну, пойдем, что ли?
И он поднялся с травы, на которой, сооружая корзину, сидел со сложенными в замысловатый крендель ногами, – Геракл знал этот способ, ибо перебывал чуть ли не во всех странах обжитого мира, но сам никак не мог приспособиться этак заплетать свои могучие когда-то конечности.
– Идем, идем, – скороговоркой повторил лукумон, – там и поедим. Мне, правда, нельзя есть при всех-то, но тебя уж угостим на славу!
– Нужно мне твое угощение, – не сдержался Геракл, – отдай его своему псу на дворе, то-то он доволен будет. А я могу и перетерпеть, раз заслужил наказание.
– Чего ты ломаешься? – голос лукумона был так же тих и приветлив, как всегда, – он, видно, переборол свою обиду (да это, собственно, и не было обидой в том понимании, как ее представлял Геракл). – Не хочешь – не надо. Насильно не повалим и не заставим есть, не бойся! – И он снова засмеялся, довольный своей шуткой…
Они шли прямой тропинкой, по обе стороны которой колосились какие-то злаки, – Геракл не знал их. Шли довольно долго, с тех пор, как оставили подворье лукумона, выйдя не через ворота, красивой аркой смотревшие на улицу селения, но другим путем, мимо огромного дуба, раскинувшего свои бесчисленные ветви чуть ли не на всю поляну, окружавшую его. Геракл молчал, после замечания лукумона демонстративно выказывая свое чинопочитание. Его спутник также притих вдруг, уйдя в свои мысли.
Поле было огромно, Геракл таких отродясь не видел. Привыкший к крохотным делянкам, на которых бесконечно копались поселяне, желавшие получить хоть какой урожай, он не мог поверить собственным глазам. Вдруг он заметил, что с дальнего конца нивы к ним быстро приближался некий корабль. У Геракла не было другого слова, чтобы обозначить то сооружение, которое неуклонно, по прямой, мчалось на них, оставляя за собой ровную полосу странно голой, будто обритой земли: ни колоска, ни соломинки не было на ней. Приглядевшись, он на другом конце поля увидел большой прямоугольник такой же лысой, готовой к принятию новых посевов, земли, и понял, что «корабль» мчится именно к ним.
Так оно и было.
Приблизившись, громоздкое сооружение остановилось с разбега, и водитель, презирая узкую металлическую лесенку, спрыгнул с высоты.
– Все играешь? – неопределенно спросил его лукумон, когда маленький и юркий парнишка подскочил к нему. – Мало ты ломал себе рук-ног? Еще хочешь?
– Твоими молитвами, о наш отец, ничего со мной не случится, – скороговоркой отвечал ему малец, и Геракл поразился смелости его обращения с главой клана. – Услыхал, что призываешь меня – и тут я. Вели, что надо, отец.
Лукумон не торопился. Долгим взглядом он обвел поле, на котором, послушная западному ветру, дружно колыхалась пшеница, и, разминая колос за колосом в пальцах, спросил наконец:
– Все пропало?.. Или осталось что-то?
– Солома, мой отец. Только солому и можно использовать. Остальное – приходится уничтожать.
– Ты хоть проверяешь машину-то?
– А как же! Лента, она ведь у меня перед глазами. Приборы исправны.
Лукумон, у которого эти слова отняли последнюю надежду, ничем не обнаружил всей силы своего переживания.
– Ну, что ж, – спокойно сказал он, – такова воля Всевышнего. И не нам обсуждать Ее. Ты понял?
Последние слова лукумона относились к юноше. Тот вместо ответа повалился на колени, – привычным каким-то способом, отметил про себя Геракл. Он коснулся лбом земли, затем с достаточной долей благоговения поцеловал протянутую ему лукумоном руку, не притрагиваясь к ней, и только после этого воздел сложенные вместе ладони высоко над головой, подняв туда же лицо.
Это был настоящий ритуал священнодействия, хотя, по мнению Геракла, и слишком мимолетный. Он привык к другому в подобных случаях – к многословию, плаксивым взываниям, даже сетованиям, похожим на выговоры богам. Впрочем, все это не особенно интересовало его и раньше, – тем более, теперь. Чужая земля, непонятные боги…
Они пошли дальше. Лукумон, строгий и подтянутый, в своей длинной льняной рубахе, подпоясанной витым золотым жгутом, и высокий, на три головы выше, тощий Геракл. Оба долго молчали, но молчание это не было тяжким – мысли наполняли его.
Свернули на боковую тропинку – здесь, на Посейдонисе, все было распланировано под прямым углом, – и вскоре подошли к маленькой рощице, которую Геракл приметил издалека. Однако роща оказалась вовсе и не рощей – это был всего лишь тройной круг деревьев, окаймлявших некое белое строение. В темноизумрудной зелени хвои оно взвивалось ввысь частыми узкими колоннами, соединенными навершием, похожим на цветок. Все было предельно просто, и все же от вида этого храма у Геракла захватило дух.
Он повидал многое на своем веку, а уж храмовто… Но то были все громоздкие постройки, давящие на смертных своей мощью, выражавшейся в размерах общего плана, квадратного по преимуществу, в чрезмерной, даже нарочитой роскоши их внутреннего убранства, а, главное – в изображениях божеств, изображениях огромных или же крохотных, но везде одинаково безразличных к человеческим чувствам, а то и угрожающих.
Здесь же было нечто иное. При одном взгляде на это белокаменное чудо, со всей своей природной силой отражавшее сияние солнечного света, человек понимал, что здесь сосредоточено Нечто, идущее сверху, от света. И что именно здесь, в этом зримом символе храма, сочетающем в себе земной материал постройки и высокий полет творческой мысли, задумавшей и рассчитавшей его, встречаются и соединяются воедино земное с Высшим, хотя непонятным и незримым, но, безусловно, существующим. Ибо порукой этому служил тот душевный трепет, который неизменно охватывал всякого, что, сам того не осознавая, носил в себе зародыш будущей божественности.
Лукумон Иббит не мешал Гераклу. Он подошел к каменному алтарю, одному из четырех возвышений, обточенных в виде сужающегося кверху цилиндра, соединенного с едва заметно вогнутой широкой чашей, и, негромко произнося священные слова, подложил в тлеющий огонь жертвенника несколько сухих ароматных веток, сложенных чуть поодаль, в некоем подобии каменного шкафа. Огонь не разгорелся сильнее, и не стала явственнее тонкая струйка почти неразличимого дыма, – лишь аромат его усилился, дойдя наконец до границы небольшой поляны, на которой стоял Геракл. Он вздрогнул и невольно прикрыл глаза, ощутив этот поистине неземной запах. Ему стало так хорошо, безмятежно, что он подумал: «Век бы остаться таким, как теперь…»
Что-то заставило его открыть глаза. Он увидел, как на нижней ступени храма, стоя лицом к северу, молился лукумон Иббит, а каменный цветок на верхушке храма горел, точно объятый белым огнем. Глаза Геракла также словно загорелись, и он, не сдержав вскрика, прикрыл их рукой. Инстинктивно он отошел назад, за деревья, нащупывая их рукой, пока не остановился возле одного из них, припав к нему всем телом. Он, казалось, искал защиты, – и она не замедлила появиться.
– Что, помогает тебе кедр? – услыхал он голос лукумона, который, без сомнения, вынужден был прервать свою молитву, чтобы поспешить на его возглас. – Не понимаешь?.. А ты прислушайся. Да не к кедру, – к себе. Слышишь, как словно бы тоненькие иголки колют тебя изнутри? Это сила кедра входит в тебя, раз уж ты обратился к нему, попросил помощи. Скажешь, не просил?.. А зачем же тогда обнял дерево? То-то же! То не разум твой, а душа ищет поддержки в сильнейшем. А кедр – он и есть сильнейший изо всех растений. И естество у него чистое, – вот он и стремится помочь всем, кому может, не требуя ничего взамен. Пропускает свою силу в тебя и забирает твою, больную, испоганенную твоим темным человеческим умишком. Сколько хватит ему сил – а кедр почти бессмертен именно по причине своей бескорыстной отдачи, – столько и будет он очищать человеков и все, что они порождают. Ну, полегчало тебе?.. Конечно! Нужно только взять в свой разум, то есть подумать и понять, что происходит – тогда только и ощутишь то, что не видно глазом. Ну, пойдем теперь дальше.
Геракл с трудом оторвался от теплого, чуть шершавого ствола, испытывая странное чувство родственности к этому гиганту, наполнившему его своей силой. Будто уходил он от близкого друга, оставляя того на произвол судьбы.
Да, поистине невероятным и необыкновенным было все здесь, в Атлантиде. Подумать только – даже деревья здесь могут сопереживать, сочувствовать человеку. Что же тогда можно сказать о самом человеке? Насколько его сила чувств может усилиться здесь?..
Но лукумон вел его дальше, как бы не позволяя надолго останавливаться на одной мысли, додумывать ее до конца. Если бы Геракл мог это осознать, он понял бы, что не хочет этот мудрец, к которому Геракл относился хоть и неплохо, но все же с некоторым пренебрежением (из-за его роста и невзрачной наружности) не желает он до времени слишком напрягать разум героя, разум, не привыкший к процессу думанья. Ибо тяжко для человеческого мозга, погрязшего в тине бездействия, вдруг начать работать со всей мощью, заповеданной ему. Надо сперва очистить его от тины невежества, омыть чистой водицей ясного знания – только тогда можно будет пустить по его тонким проводам огонь истинно божественной способности, способности мыслить самому, без подсказки. А то ведь можно и пережечь драгоценный орган – где тонко, там, поистине, может и порваться.
Их путь лежал теперь в обратном направлении, к селению. Но на этот раз пшеничное поле осталось где-то в стороне; они шли по большой и ровной дороге, выложенной белыми плитами, по которой, как прикинул Геракл, свободно бы прошли человек двадцать в ряд. Зачем была нужна такая великолепная дорога в таком небольшом селении, он не знал, но очень любопытствовал. Однако какая-то непонятная робость, невесть откуда взявшаяся, не давала ему возможности прервать молчание своего спутника. Раз за разом он пытался открыть рот, чтобы задать свои вопросы, и даже набирал в легкие воздуха, чтобы тем сильнее был его голос. А голос вдруг начисто пропал, хоть Геракл уж и откашливался, думая этим прочистить горло. Наконец он взглянул на лукумона: тот шагал невозмутимо, поглядывая на зеленеющие вокруг участки с редкими фигурами работающих селян, – и сам не поверил своей мысли. Он остановился и упрямо топнул ногой.
Лукумон повернулся к нему, и детски удивленным голосом сказал:
– Чего тебе? Говори!
Словно водопад, с которого сняли затвор, Геракл разразился бурной речью.
– Так это твои проделки, куриная твоя стать! – кричал он, и селяне вокруг поднимали головы, непривычные к такому способу использования своих голосовых связок. – Ты, что ли, играешь со мной в свои колдовские игрушки? Да я тебя, знаешь, в следующий раз…
Внезапно он осекся: рот его, еще по инерции, некоторое время продолжал раззеваться, однако звук исчез полностью.
Лукумон смотрел на него, даже не улыбаясь.
– Ну что же ты, – сказал он, – продолжай! Что говоришь? – он со всей серьезностью повернул ухо в сторону Геракла, будто пытаясь расслышать неслышимое. – Не слышу. Не слышу, и все тут! – и он пошел дальше, не обращая внимания на остолбеневшего в нелепой позе героя.
Да, положение у Геракла было не из приятных. Мало того, что он потерял голос, – он утратил и всякую возможность двигаться. Селяне, начавшие понемногу собираться в кучку, поближе к тому месту, где их всесильный лукумон приводил в разум этого, должно быть, зарвавшегося, чужака, молча ждали, чем же все закончится, и только переводили взгляды с одного на другого.
А лукумон, между тем, отошел уже довольно далеко. Наконец, когда он, по-видимому, решил, что мера, достаточная для урока, уже достигнута, он стал посередине дороги, скрестил на груди короткие ручки и, чуть исподлобья, взглянул на Геракла. И тут случилось то, чего так ждали селяне вокруг – произошло чудо. Этот рыжий великан – хотя Геракл, в представлении атлантов, был едва-едва среднего роста, – он даже не покачнулся, когда сдвинулся с места. Все набирая скорость, он скользил по-над дорогой, и уму непостижимо было, как ему это удается: ведь белые плиты, это видно было всем, оставались неподвижными. Дотошные наблюдатели из числа суритов, почитателей талантов своего лукумона, заметили только неясное колебание воздуха, похожее на марево, вокруг фигуры чужака. Остальные же ничего, ну совершенно ничего не увидели необычного во всем происшествии, кроме того, что, оставаясь недвижим, тот мчался, как кукла на колесах, пока не остановился, без всяких качков, перед лукумоном. «Как вкопанный», – говорили потом очевидцы этого чуда своим сородичам…
Единственное, что можно было назвать живым в теле Геракла, были его глаза. Эти глаза, смотревшие на крохотного чудодея, изливали на того всю гамму чувств, обуревавших его жертву. Лукумон, в свою очередь, не только не отводил взора от этих глаз, – напротив, своими черными буравчиками он так и впивался в самое нутро Геракла.
Безмолвный поединок взглядов был видимой частью более глубинной схватки. Дело было в том, что лукумону наконец удалось не вскользь, но вполне ощутимо пробиться в святая святых – в сознание Геракла. И молчаливый диалог между учителем и учеником явился достойным завершением долгого и трудного этапа обучения.
– Видишь ли теперь малейшие из тех возможностей, которые под силу достигнуть человеку? – так, или почти так, обратился лукумон к Гераклу.
– Вижу. Но не принимаю той формы, в которую ты облек их преподнесение мне.
– Не было другого пути, чтобы обойти твою гордыню. еЧерез нее, столь сильную в тебе, пришлось идти напролом.
– Гордыня ли это – то, что я ощущаю в себе, или же достоинство, без которого не может жить человек?
– Ты еще сомневаешься!.. Конечно, это гордыня, ибо достоинство свое ты продал, обратившись в раба.
– Опять?..
– И много раз еще! Пока не поймешь, что человек должен быть свободным внутри себя, в своем сознании. Тогда только он обретет истинное достоинство. Все же остальное, если сознание накрепко связано, есть не что иное, как только гордыня. Самомнение человека, которое не согласуется с истиной, с тем, что есть на самом деле.
– Но зачем же так унижать, перед всеми?..
– Да не унизится тот, кто понимает цену мимолетным чувствам и держит их в крепкой узде своей воли! Переступи эту грань – и ты победишь в себе мелкого человека, ставшего рабом ничтожных личностей еще там, на Востоке. Любой мог приказывать тебе, посылать тебя на невообразимые трудности, которые в действительности оказывались твоими подвигами. Хотя это тебе и не приходило в голову никогда, не так ли? Однако все, что служит Общему Благу, так и называется – подвиг.
– Ты прав, я об этом не думал. Исполнял, что говорили – и все. Но не значат ли твои слова, что и теперь, на этой земле, я останусь всего лишь исполнителем чужой воли, хотя бы и светлейшей?
– Все зависит от тебя самого, Херкле. Если ты просветлишься разумом, поднимешься до таких его высот, чтобы стать вровень с Теми, Кто слагает судьбы мира, станешь их полноправным сотрудником, а не слепым и немым орудием; если ты осознаешь, хотя бы в пределах, отпущенных земному разуму, строение Мироздания и великую роль человеческого существа в нем – ты станешь поистине Строителем Мира.
– Но я ведь по-прежнему буду всего лишь выполнять чьи-то повеления?!
– И, однако, с той большой разницей, что выполнять их ты будешь сознательно, отдавая отчет самому себе в том, что делаешь. И в том, что иного пути нет.
– Пойму ли я эту разницу?..
– Ты ее уже понял, коль скоро задумался над ней. Помни главное – ты должен искоренить в себе раба, то есть внутреннее подлое чувство услужить всякому, кто имеет возможность приказывать. Осознать то, что является для всех Высшим Благом, и всю свою силу отдать на его достижение. А не просто в угоду отдельным жалким личностям.
– Что ж, я готов…
Жители селения Сури разошлись по своим местам, довольные той демонстрацией своего могущества, которую произвел перед ними их почитаемый лукумон. Однако, как ни странно, ни тени превосходства не обнаружили они в дальнейшем своем обращении к пришельцу. Была ли тут врожденная доброжелательность суритов, как и всех человеков на Посейдонисе, или же и тут не обошлось без направляющего влияния лукумона Иббита, – но факт был налицо: к Гераклу с того случая стали относиться даже лучше, чем прежде, хотя бы, казалось, и так лучше некуда…
Геракл двинулся – и спокойно пошел рядом с лукумоном. Все происшедшее отодвинулось в «другое» сознание, где оно будет осмысливаться, пока не придет время ему выступить во всеоружии осознания.
– Что-то я хотел у тебя спросить, лукумон, – потирая лоб, произнес он, – да позабыл…
– По-моему, это касалось нашего урожая, – как ни в чем не бывало, поддержал тему лукумон.
– Да-да, точно. Если я правильно понял, хотя и сам не знаю, что я должен был понять в вашем разговоре, когда не знаю здешнего языка, – у вас какие-то неполадки с урожаем?
– Ты правильно понял, Херкле. И не надо удивляться тому, что ты начал все понимать. Открылось нечто в тебе – и теперь не обязательно знать какой-то определенный язык, чтобы понимать другого человека.
– Но ведь ты-то говоришь на моем языке…
– И, однако, я ему специально не учился. Но это уже немного другая история, сынок, – лукумон впервые назвал так Геракла, и тому отчего-то это показалось приятным. – Не спеши, придет срок, и ты заговоришь на всех языках, не такое это уж трудное дело. Гораздо труднее научиться понимать другого человека изнутри. А ты к этому, кажется, пришел. Так что не ломай голову понапрасну над тем, чего все равно не понять до времени. Иди дальше, – а понимание придет само собой.
– Ладно, – Геракл стал на удивление покладист. И все же, что там с урожаем?
– Хочешь и здесь помочь?.. Хорошо бы, но только это не в наших, Херкле, силах. Ни в моих, ни в твоих, – изменить что-нибудь в том, что надвигается.
– Обратись к моим братьям. Они-то всемогущи!
– Да будут благословенны и твои братья, Херкле, и ты сам! Но в этом случае даже они бессильны. Когда приходит нечто предопределенное, не следует дрожать от страха и показывать ему свою незащищенную спину. Надо сохранить разум и, не обманывая себя, оценить собственные возможности во избежание худшего.
– Что, нам грозит голод?
– Если бы… – лукумон и виду не подал, как его обрадовало это «нам», которого сам Геракл и не заметил. – Голода не будет на Посейдонисе! Подземные закрома его полны и не только зерном. Так что дело не в голоде.
– Зачем же ты так печалишься?
– Неужели заметно? – встревожился лукумон. – Ай, как нехорошо! Никому не говори об этом, ладно, сынок?
И лукумон просяще, снизу вверх, взглянул на Геракла. У того сердце мягко сжалось – и вдруг как бы остановилось. Через мгновение все пришло в норму, однако Геракл запоздало схватился-таки за грудь.
– Что с тобой? – всполошился лукумон. – Постой спокойно, сейчас все придет в порядок!
Они направились дальше. Лукумон не стал говорить своему выученику, что мнимые остановки и падения сердца – всего лишь показатели подъема его на некую духовную ступень. Не стал говорить потому, что не хотел излишне фиксировать его внимание на ощущениях физического тела, которое до недавнего времени еще служило герою, как хорошо отлаженный автомат. Зачем было отвлекать растущее сознание на то, как борется плоть с проникающим в нее духом? Тем более что процесс, раз начавшись, уже необратим.
Лукумон не горевал об испытаниях, которые предстояли Гераклу. Он и сам прошел когда-то через все мыслимые и немыслимые встряски, и хорошо знал, что скоро все это пройдет. Зато явится совершенно новое и никаким способом не достижимое состояние физической неуязвимости, без которого просветление ума – излишне и даже опасно. Это было подобно закалке стали, рассекающей металл и камень, изготовлять которую суриты были такие мастера!
– И все же, что тебя беспокоит, лукумон? – вернулся к прежнему Геракл.
– Видишь ли, об этом можно или говорить часами, или надо молчать. Зачем тебе знать? Живи, как живешь, твое время еще наступит.
Геракл отвернулся.
– Не доверяешь, – сказал он, – или считаешь меня глупым, чтобы понять твои заботы?
– А если просто не хочу обременять тебя ими?
– Сам же сказал, что я тебе как сын…
– Уговорил! Так слушай же: забота в том, что исчез с поверхности Посейдониса наш царь.
– Родам?
– Какой ты все же!.. Неужто у нас есть другой царь, упаси Господи!
– Прости, забыл, что имен нельзя называть.
– Разве дело в том, чтобы сказать «прости»? Сказанное обратно не воротишь, а навредить оно может ой как сильно. Тем более, сейчас, когда неизвестно, где царь и что с ним.
– Так, выходит, он с тех пор не вернулся? Лукумон печально покивал головой:
– Да, родной, не вернулся. А без него, – он ведь поистине наш царь земной, – все идет прахом.
– Непонятливый я, лукумон. Все-то мне приходится растолковывать, как маленькому…
– Царь над живущими на земле имеет особую власть. И дается эта власть не как-нибудь, а небесным решением. Потому воля царя земного нерушима для его подданных, что в руке его сосредоточены молнии, с помощью которых он управляет всеми стихиями. Они же без этого управления есть тьма, хаос.
– Что-то я, прости меня, лукумон, не заметил в руке царя никаких молний, когда шел за ним в гору!
– Он их с собой не носит на всеобщее обозрение! – почти рассердился лукумон. – Толкую тебе, толкую, а ты никак в толк не возьмешь, что не все то истинно, что видно человеческому глазу! Есть и кое-что другое. Тот свет, например, который ты узрел над храмом!
– Но мои глаза чуть не ослепли тогда! Значит, я видел именно человеческими глазами, а не какими-то другими!
– Нет, дорогой мой, – лукумон взял себя в руки, и голос его вновь зазвучал безмятежно, как всегда, – дело в том, что у тебя открылось как раз «другое» зрение. А оно связано, тут ты прав, с обычным нашим видением. Но «тот» свет настолько ярок и непереносим для земных глаз, что с непривычки можно и ослепнуть. Ты ведь помнишь: это длилось какое-то мгновение, не больше. А теперь представь себе, что было бы, продолжись оно немного еще? Ведь это Высший Свет, – не чета земному!
– И почему это так?
– Не нам судить об этом. Мы можем только преклоняться перед подобными явлениями. К тому же я, человек, рассказываю тебе обо всем со своих, человеческих позиций. Придет время, может, ты станешь равным своим братьям. Они тебе объяснят все так, как оно есть на самом деле.
– Но молнии…
– Мы, человеки, так видим и понимаем то всемогущество, которым одарен свыше наш царь. Однако, и это уж точно, что волен распоряжаться царь только одной из своих трех молний. Каждую из других он может употребить в дело только с разрешения Совета. Настолько они сильны.
– Час от часу не легче!
– Да… По моему слабому разумению, наш царь пошел на священную гору испросить именно этого дозволения – дозволения пользоваться и второй своей молнией. Наверно, той, что всегда в его распоряжении, он уже не мог управиться с хаосом, который обступил землю.
– Какой хаос? О чем ты говоришь, лукумон! Где ты его видишь? Покажи его мне! Выдумал тоже! Солнце светит, все цветет, благодать одна вокруг, а ты – хаос!
И Геракл пренебрежительно махнул рукой.
Лукумон печально молчал. Он знал, что возражать сейчас Гераклу бесполезно. Однако не в его характере было долго предаваться грустным мыслям.
Геракл с удивлением оглянулся, услышав откуда-то сзади голос зовущего его лукумона. На дороге никого не было. Геракл, начавший уже привыкать к проделкам своего учителя, нашел того сидящим на удобной развилке низкого и широкого дерева, крупные листья которого заботливо прикрывали от постороннего взора сочные плоды. Деревья эти, как и многие другие, Геракл замечал и раньше – они правильными квадратами обрамляли огородные участки, – но ему и в голову не приходило, что они плодоносят, да еще так обильно. Лукумон, между тем, сделал приглашающий жест и звонко прокричал Гераклу:
– Иди сюда, сынок! Отведаешь такого, чего ни в одной кухне тебе не приготовят! Даю слово, это одно из лучших творений бога, созданных им для нашего насыщения и удовольствия! На, бери. Вместе с этим листом бери – и подставляй его под свою бороду, когда будешь есть этот плод. А то зальешь соком рубаху, а это – негоже. Нам еще идти и идти до дома, можем и повстречать кое-кого, так что они скажут, увидев на тебе грязную рубаху? Скажут, что ты недостоин общения, так как твое нутро – на твоей одежде!.. Геракл хотел было снова поспорить с лукумоном, как вдруг, при виде золотисто-желтого с темноватой сердцевиной, плода, всякое желание не то что спорить, но и просто говорить у него пропало. Он взял в руки, как ему было велено, темно-зеленый мягкий лист, на котором, как на тарелке, лежал большой, с его ладонь, фрукт, и, недолго думая, отправил его целиком в рот.
Ощущение было поистине непередаваемым: ничего похожего Геракл не ел в своей жизни. Не слушая лукумона, который все балагурил, сидя на ветке, он неспешно ходил вокруг дерева, выбирая плоды поспелее, и глотал их, позабыв про совет лукумона насчет листа-салфетки. Под конец он, уже насытившись, начал пережевывать то, что попадало ему на язык, и даже откусывать от слишком больших экземпляров по кусочку. Вот тогда-то он, действительно закапал и залил соком и рубаху свою, и бороду. Сок лился на грудь, стекая по шее, и мгновенно высыхал, оставляя на коже густой и липкий след.
Наконец, когда рука его потянулась к очередному плоду, чтобы сорвать его, он понял, что не может проглотить больше ни единого куска. Оторопело оглянулся он на лукумона – и засмеялся вместе с ним.
– Ну что, довольна ли теперь твоя душа? – выговорил лукумон сквозь смех. – А то угощайся еще!
– Не пойму я только, ответил ему Геракл, поглаживая себя по животу, – зачем это вы страдаете о пшенице, ломаете спины на огородах, когда у вас есть даровое пропитание. Да еще такое, как это, не знаю, как его звать-величать!
– Понравился тебе инжир? – вкрадчиво переспросил его мудрый собеседник. – А если так, я велю своим приносить тебе по корзине трижды в день. Договорились?
Но Геракл внезапно выставил ладонь, как бы отгораживаясь от чего-то невидимого.
– Нет-нет, благодарю тебя, лукумон, – сказал он, и гримаса удержанной отрыжки исказила его лицо, – пока не надо. Я наелся, кажется, надолго…
– Но ведь вкусно же, верно?
– Вкусно до того, что забываешь все на свете. Однако – слишком сладко, скажу я тебе. Особенно, как начнешь разжевывать. Да и сока уж очень много – смотри, я весь облился, даже ноги липнут одна к другой…
– То-то же. Вот тебе и ответы на все твои вопросы. Человек никогда не может быть доволен, мой дорогой. Он голоден – ему плохо, и весь свет не мил. Дают поесть вволю – он не может остановиться, ибо не знает внутренней узды над своими желаниями. А как насытился – еще хуже! Тут и липкий сок, и одежда, которую надо стирать, и ко всему, глядишь, еще и живот заболит от того, что превысил меру. Ведь, если бы ты послушал моего совета, и съел бы один – всего один! – плод, да тем способом, который я тебе предложил, разжевывая каждый крохотный кусочек этого поистине богоданного чуда, – ты был бы полностью сыт, без пресыщения, доволен едой и самим собой. И одежда твоя не потребовала бы, как и тело, чистки и мойки, на что должны теперь уйти понапрасну твои силы. Да и к тому же, сладкое – это ведь тот же яд!
– Что ты тут говоришь опять? Какой яд, когда всем известно, что слаще сладкого ничего нет!
– Видишь ли, дружочек, дело в том, что человеческий организм рассчитан на определенную меру во всем. Это как, к примеру, налить в ведерную бочку хотя бы два ведра воды. Что получится? Ничего не получится, ибо выльется излишек. Но бочка – она деревянная, то есть не такая чувствительная, как человек, по своему строению. Однако нечто общее у них есть: и бочка, и человек, – оба не принимают в себя выше меры. Только бочка выливает из себя, тогда как человек силится переработать в себе все, что попало в утробу. Но откуда же возьмутся эти силы? Вот и работают его органы сверх всякой возможности, на износ.
Геракл раздумывал над словами лукумона недолго.
– Как бы не так! – сказал он, радуясь возможности взять верх в споре с всезнающим учителем. – А я? что ты скажешь про меня? Мне недавно сказали, что я выгляжу, как юноша. А как же мои дети, которые давно состарились, а многих так и вовсе нет – он суеверно приложил ладонь ко рту, – внуки, которых постигла та же участь?.. Это означает, что я живу долго. Не могу только сказать точно, сколько именно. А ведь я всю свою жизнь только и делал, что ел без разбору все, что попадало под руку. И причем, не в пример вашей похлебке и каше – все больше мясного да зажаренного! И – ничего, как видишь. А уж про силу мою тебе, как я вижу, кое-что известно…
Лукумон, казалось, был озадачен. Он неясно улыбался, крутился на ветке, словно выбирая место поудобнее, и покряхтывал. Ясно было, что он в затруднении.
– О, мой дорогой, но неразумный ученик! – начал он наконец. – Не знаю, даст ли мне Единый те слова, которыми бы я мог, понятно и без обиды, ответить тебе. Ведь вопрос, коего ты коснулся, есть один из наитруднейших для человеческого понимания. Но я все же попытаюсь тебе помочь разобраться и в этом. Однако для начала пойдем-ка с тобой к нашему благословенному каналу, возле которого, в отведенном для этого месте, ты омоешь свое тело и одежду, ибо невозможно беседовать о высших идеях, то есть очищать свою душу, не очистив предварительно того, что для нас внешне.
И он, отвергнув протянутые руки Геракла, легко спрыгнул на землю и, не останавливаясь, бодро засеменил по мягкой дорожке между плодовыми деревьями – под прямым углом к белой дороге. Геракл, слегка поглаживая живот, неохотно последовал за ним, его мутило…
Лукумон не обращал на него никакого внимания – его полностью поглотило созерцание аллеи, по которой они проходили. Он то пристально вглядывался в какоето дерево издали, то срывал на ходу мягкий и чуть шершавый лист, рассматривая его с изнанки: казалось, что он читает некие таинственные письмена, молчаливо посланные ему. Наконец шаг его замедлился, пока не замер вовсе; впрочем, они пришли.
Хоть и занятый своими мыслями, лукумон все же не забыл о первоначальной цели, с которой они завернули в эту аллею. Перед Гераклом был узкий ручей, явно искусственного происхождения: его дно было выложено разноцветной галькой, являвшей взору всю чистоту струившейся над нею воды.
– Раздевайся, – велел лукумон.
Однако Геракл не спешил это сделать. Тогда предводитель племени, перед которым падали ниц, прося благословения, его подданные-селяне, нисколько не гнушаясь прислужить какому-то чужаку (во всяком случае, так это выглядело бы в тех местах, откуда явился сюда Геракл), поднял с земли один из лежавших тут и там на берегу ручья ярких кубиков, – тот вдруг превратился в непроницаемый для постороннего взгляда маленький шатер. Лукумон уже было поднял легкий занавес, прикрывавший вход в эту временную купальню, как вдруг взгляд, брошенный им на своего спутника, заставил его повременить с приглашением к воде. Геракл стоял бледный до синевы, и испарина крупными каплями выступила на его лбу.
Реакция маленького человечка была мгновенной. Он подхватил героя, вдруг разом обмякшего, и повернулся, держа его на одном плече, туда и сюда. Он нашел взглядом небольшую манду, обозначенную красным флажком, чтоб видно было издалека. Подбежать к ней, откинуть бронзовую крышку и поставить перед отверстием уже исходившего позывами рвоты Геракла было делом минуты…
Позже, сидя перед омытым и спеленутым, как младенец, – а он снова превратился в такового, Херкле, который спал на тонком мате, вынутом из шатра-купальни, лукумон Иббит, в ожидании помощи, о которой он послал уже сигнал, задумался. А думать было о чем…
На Посейдонис, – по крайней мере, на селение Сури, – надвигалось нечто непонятное, и этой своей непонятностью тем более грозное. Лукумон чуял это уже в течение нескольких дней, но не сеять же ему панику среди суритов! Да и в Атлантис по рангу обращаться было почти не с чем, разве что со своими предчувствиями? Но, хоть он и верил себе, надо сказать, беспрекословно, однако, делать этого не полагалось. Было бы что серьезное, утешал сам себя лукумон, так господин Гермес не замедлил бы сообщить ему об этом. А раз никаких известий от него нет – значит, все спокойно…
Однако не слишком ли много совпадений, говорящих о каком-то свехкризисе, судороге природы? Пшеница, превратившаяся сама в себе в черную труху, теперь вот, фрукты, в которых, так же сам по себе, зародился яд? И как это он не распознал, со своей хваленой интуицией, что неспроста разглагольствовал он перед Гераклом о сладости, имевшей свойство претворяться в свой антипод, отраву! Это ведь и было то самое предостережение, которое через него, единственного, кто на всю округу только и может принять в сознание внешнюю мысль, посылалось всем.
Он сосредоточился. Такое привычное /(если все вокруг спокойно и прекрасно), это действие вдруг оказалось для него чуть ли не непосильным. Ведь надо было полностью изгнать из сознания все мысли: и о земном, и о надземном, – потому что только на чистейшей поверхности освобожденного сознания может проявиться лента Агаси, или Акаши, эфирного информатора, несущая направленный ответ тому, кто послал запрос.
Теперешнее состояние лукумона Иббита мало способствовало выходу в эфир. Однако он хорошо знал, что стоит ему только поддаться волнению, как все пропало, Тогда сознание сдвинется с точки равновесия, дающего ему ясность, и покатится, лавине подобно, к своему противоположному концу – хаосу. Хаос же, допущенный в сознание – это полное безволие и смятение мыслей.
Но лукумон преодолел этот враждебный натиск, который, надо признаться, закружил и едва не захватил с собой его разум, стоило только ему пробиться к оболочке, граничащей с ментальной сферой Земли. Были моменты и раньше, когда прорвать это невидимое заграждение удавалось не сразу, но сейчас густая сизая мгла с нечастыми яркими всполохами, похожими на молнии, оказалась непреодолимой. В огромном напряжении воли, влекущем его умственное существо ввысь, лукумон, чувствуя, что силы его иссякают, воззвал:
– О, господин Гермес, помоги и поддержи!..
Он крепко сжимал кулаки, как бы удерживая именно в них всю мощь своего сознания, рвущегося через преграду, и терпеливо ждал, когда придет помощь. Ибо ведал о том, что ничего не проявляется на земном плане мгновенно: то, что совершается молниеносно наверху, в измерении, где отсутствуют время и пространство, при вхождении в нижние сферы, подлежит этим, уже чисто земным проявлениям.
И вдруг – напряжение как рукой сняло. Отпустило в пупке, объятом спазматической болью; руки перестали крупно дрожать, успокоились и мягко легли одна на другую. Пояс низкочастотных вибраций, самых тягостных для разума, был преодолен.
Лукумон оставался недвижим, весь отдавшись ожиданию. Ни единая мысль не тревожила ровного белого света в его закрытых глазах, – доказательства того, что рубеж пройден. И вдруг он почувствовал: опасность!..
Любой другой на его месте решил бы, без сомнения, что это его собственная мысль. Однако лукумон Иббит кое в чем был умудрен своим происхождением от гиперборейского корня, воздействием атлантов и огромной практикой. Он умел, слава Единому, отличать земные мысли от Тех, которые Посылаются в ментальный план. Знакомый холодок пробежал по позвоночнику и расцвел в основании черепа влажным теплым цветком. Лукумон входил в область вибраций, высших из тех, что доступны уровню человеческого сознания, – без разрушения клеток его тела. Мысль, между тем, обретала все большую ясность и широту.
– Опасность! Опасность! – неслось отовсюду. – Всем, кто допущен в Высший Круг Сознания, необходимо принять меры наибольшей защиты. Личная защита да претворится во всеобщую. Посейдонис становится местом локализации сил, враждебных прогрессу, и нуждается в особенном привлечении всего, имеющего позитивный импульс. В соответствии с Законом, гласящим, что тенденция Природы направлена к доминированию позитивного полюса над отрицательным…
Это, как и многое другое, что удалось уловить лукумону, было всего лишь одной безвременной мыслью, и не выражалось в словах каких-либо человеческих языков. Однако с этой мыслью пришло понимание происходящего, как и всех возможных грядущих бедствий.
Он открыл глаза и посмотрел в сторону дороги. Помощь запаздывала, а это значило, что его поселяне – народ, не особенно способный к восприятию высших, мысленных вибраций. Конечно, это было так, потому что тяжка и инертна человеческая природа, и инстинктивно тяготеет она к кажущейся нерушимости и незыблемости материи грубой, – к покою. Но, с другой стороны, лукумон винил и себя в отставании своих выучеников. Себя, который не сумел до сих пор втолковать им, что этого, так излюбленного ими покоя в природе вовсе не существует, ни в одном из миров…
Геракл застонал. Забыв на этот миг обо всем, лукумон встал перед ним на колени и, обнажая части его тела по мере надобности, начал обеими руками нажимать на некие точки, местонахождение и значение которых было ведомо лишь ему одному. На некоторые он давил сильно, к другим едва прикасался; одни он с ожесточением крутил большими пальцами рук в направлении против солнца, тогда как очень редкие из точек подвергались мягкому воздействию осолонь.
Геракл изредка покряхтывал, но продолжал спать, – это тоже было условием исцеления.
Когда лукумон закончил сеанс (длительность его не должна была превышать нескольких минут), небольшая группа его суритов уже была подле них. Он внимательно оглядел всех, кто прибыл первыми: все знали, что лукумон Иббит спросит потом с тех, кто не внял его призыву, – и не стал пенять им за опоздание. Он сообразил: о каком опоздании могла идти речь, когда и всего-то, со времени подачи им мысленного сигнала, прошло не более четверти часа. Вон, солнышко, как стояло, так и стоит по-прежнему над дальним тополем…
Один из складных шатров быстро трансформировали в удобные крытые носилки, и все споро затрусили, подхватив их, в направлении селения.
Лукумон один не бежал. Он спокойно шел за процессией, и все же временами опережал ее. Тогда он останавливался, поджидая носилки, чтобы взглянуть в прикрытое от лучей солнца лицо больного, – в общем, возвращался к действительности. Он корил себя за невнимательность к человеческому брату божественного Гермеса, ибо знал, что Гераклу тому сейчас было необходимо именно физическое присутствие лукумона, – но через некоторое время все повторялось сначала.
Селяне бежали, солнце палило все сильнее, а лукумон Иббит, который на время решил отказаться от своей способности регулировать силу гравитации, ковылял на коротеньких, мало приспособленных к быстрой ходьбе, ножках и все размышлял, размышлял…
Ему не давало покоя одно: почему это солнце зависло над тем тополем и не собиралось, по всему было заметно, шествовать дальше? Какая сила могла препятствовать исполнению извечного космического действа?
Однако жара становилась все сильнее, пока наконец не перешла грани переносимого. Вся процессия, растянувшись в длинную цепочку, медленно тянулась к спасительной прохладе селенских построек. Один из носильщиков, сменившись, отошел в сторону, чтобы освежиться в воде ручья. Его пронзительный возглас заставил всех вздрогнуть: лукумон оцепенел в ожидании самого худшего. Горестные крики вскоре подтвердили его опасения: ручей обмелел почти совершенно.
Необходимо было взять в свои руки ситуацию, овладеть ею. И лукумон забыл про то, что эти вопящие и стенающие человеки вокруг него – суть его нежно любимые чада. Никакие окрики здесь не возымели бы действия, да их просто и не было бы слышно в общем гаме. Оставалось применить лишь силовой метод через общее поле – эфир.
Это был крайний случай. Единственный раз в жизни ему пришлось-таки применить этот жестокий и, в общем-то, запрещенный способ к человеческому стаду. Да, это было именно стадо. Сейчас это сборище двуногих ничем не отличалось от стада овец, охваченных непонятным им самим ужасом. Все, что с таким трудом и долготерпением насаждалось в этот неокрепший, еще полуживотный разум, чтобы приобщить его к истинно человеческому – все вмиг исчезло, оставив лишь нечленораздельный вой, визг сбившихся в тесную кучку дрожащих от испуга созданий.
Лукумон, призвав к содействию Волю более мощную, чем его собственная, произвел необходимое…
Через несколько минут все продолжали свое движение вперед; никто и не вспоминал о неприятном событии, которое только что их взбудоражило. Каждый исполнял свой священный долг перед Тем, Кто явил милость и позволил его душе проявиться на Земле в виде ее высшего создания – человека: трудился на этом отрезке времени, в этом месте и именно в данной ситуации, выправляя ее, по возможности, к лучшему. А то, что ручей высох… Что ж, пока неизвестно, что там могло произойти. Может, реконструкция канала, а может… Впрочем, зачем гадать? Это все не их ума дело, на то есть лукумон и все, кто повыше. Вот они пусть и ломают головы, которые у них от этого вовсе и не болят. Не то, что у бедных человеков, прости нас, Боже Великий, и убери эту боль, которая вдруг словно расколола череп…
И это еще наилучшие из вновь созданных человеческих экземпляров – с горечью думал лукумон, поглядывая на своих суритов, – умнейшие и добрейшие, на воспитание и обучение которых положено столько трудов и душевных забот. Что же говорить тогда о других, – там, за пределами Посейдониса? И что будет с этими, когда они, что неминуемо, будут переселены в другие края земли, на вольную жизнь? А, может, слишком они привыкли к опеке, и самостоятельность действительно явилась бы для них трудным, но необходимым уроком?..
Так, или почти так, размышлял лукумон Иббит, отставив на время в сторону проблему всего того непонятного, что неуклонно совершалось во всей атмосфере Посейдониса. Между тем этот колоссальный сдвиг равновесия коснулся уже и самой Земли: внезапно пророкотал неясный, по всей видимости, подземный гром.
Лукумон украдкой оглянулся на северную гряду гор: именно оттуда, как ему казалось, шла опасность. Ничего не было видно, – только земля под ногами идущих вдруг мягко всколыхнулась, будто поплыла на несколько мгновений неизвестно куда.
Это было страшно! Вот уж что действительно могло вызвать самопроизвольный ужас, так это проявление вырвавшейся из повиновения стихии, какой бы она ни была: огонь, вода, воздух или же земля, как в этом случае. Земля родная и незыблемая, уходящая вдруг изпод ног…
И, тем не менее, суриты, как ни в чем не бывало, продолжали свое шествие. Они обливались потом, готовы были бы скинуть с себя всю одежду, если б не строгое запрещение лукумона, – но не останавливались ни на секунду при довольно ощутимом подземном толчке, сопровождавшимся, к тому же, сильным гулом. Лукумон Иббит не удивлялся самообладанию своих селян, оно было не чем иным, как все еще длящимся воздействием на крохотную и такую незаметную точку в самой сердцевине мозга каждого из них. Делом, собственно, его мысли, соединенной с хорошо обученной и натренированной душевной волей.
Потому и относилось подобное воздействие к запрещенным, что, подавляя свободную волю, заложенную в человеке как венце земной эволюции, являлось страшнейшем насилием над ним. Без сомнения, это предприятие относилось к самым темным сторонам магии. А ведь сам лукумон к магии имел отвращение как человек знающий и понимающий что к чему. Но, в подобном случае, во имя конечной цели Общего Блага…
Впрочем, лукумону еще предстояло держать ответ за свое самоуправство. И он знал об этом. Но это было впереди, сейчас же ему нужно было одновременно решать множество задач. Питьевая вода, провиант стояли на первом месте, ведь неизвестно было, что, собственно, надвигается, и какова будет его сила и продолжительность. Надо было также укрепить все дома и подземные этажи в них, сделав их непроницаемыми, – на всякий случай.
Много чего предстояло предпринять лукумону для сохранения драгоценного фонда, доверенного ему семени человеческого разума, не успевшего пока набрать нужную для самообороны мощь.
И обособленным, отдельным заданием стояло в ряду прочих спасение Геракла. Мало того, возвращение его к присущей лишь ему одному телесной силе. Эта сила, как чувствовал лукумон, в сочетании с совершившимся духовным открытием, скажет еще свое слово тогда, когда придет ее час. Господин Гермес – он видит далеко, и не лукумону Иббиту, из гиперборейцев, соперничать с ним. Но иметь собственные предчувствия, как и собственное мнение – никому не возбраняется, не так ли?..
* * *
Хитро, после духовного разрыва со своим названным отцом, день ото дня все больше претерпевала огромные внутренние перемены. После некоторого болезненного состояния, к счастью, продлившегося недолго, она будто очнулась от какого-то вязкого, годами непрекращавшегося сна.
Этот полусон заставлял ее постоянно пребывать гдето между небом и землей, погружаться в неясные, а иногда и пугающие реальные видения, так что она порой не могла определить сама для себя, где же, собственно, находится в данную минуту ее разум. Земное до того переплеталось с потусторонним, что она порой и не замечала, где человек из плоти и крови, – где его эфемерный, однако в своей жизненности ничем не отличающийся от него, двойник.
И вдруг – будто от нее оторвали какого-то спрута, гнусную пиявку или какую-то иную, невыразимую словами, тварь, питавшуюся ее соками и не оставлявшую ей самой почти никаких сил для реализации ее земного назначения. Боль в солнечном сплетении, правда, еще давала о себе знать (раны в тонком теле заживают не быстрее физических), но радостное ощущение полноты жизни, стремление к действию, пока что неопределенному, удивительно быстро овладели ею. Вот уж, поистине, будто закрылась пробоина в худом кувшине, и целебный нектар заполнил его до краев!
Надо было как бы заново входить в жизнь, а это оказалось не таким простым делом. По той веской причине, что его дочь беспрерывно «витает в грезах», советник Азрула уже давно взял в свои руки все, что ее касалось. Будь то малейшие жизненные потребности или даже такой переломный в судьбе каждого момент, как выбор спутника жизни.
Еще недавно Хитро была ему благодарна за это: она, в тогдашней своей апатии, не в силах интересоваться чем-либо, с облегчением сняла с себя груз повседневных забот.
Часто, слишком часто она восхищалась его неуемной, деятельной энергией, казалось, неиссякаемой вовек. Конечно, она знала о принципах переноса на себя чужой жизненной силы. Но не относить же эти вампирские, а потому совершенно неприемлемые в стане атлантов, приемы к близкому человеку! Да еще такому заботливому, как Азрула. Откуда ей было знать, что отток знергии подразумевает и лишение вампиром своей жертвы каких-либо движений собственной воли: на то, чтобы проявить ее, свою волю, нужна сила…
Теперь она понимала, что неспроста все это произошло: ей удалось, словно в каком-то озарении, осознать подлинную суть происходившего с ней. Это и было, без сомнения, неким озарением: Хитро помнила, что в тот день, когда она наконец объяснилась с Азрулой, с утра ей несколько раз показывалась тень ее ушедшей матери. А кто, как не мать, имеет возможность более всех остальных защитить собственное дитя, на каком бы из планов это ни происходило!
Ее мать… Хитро смутно помнила ее, так как была ребенком, когда та оставила Землю. Но в последнее время, связывая обрывки воспоминаний, которые вдруг все чаще стали посещать ее в трансцендентальных видениях, она начала понимать, что та испытывала перед кончиной те же ощущения, что и сама Хитро: вялость, отсутствие интереса к происходящему, физическое бессилие, наконец. Пока в один момент вся цепочка событий не соединилась воедино и не произвела открытием истины свое очищающее и освобождающее действие. Оттого и сумела Хитро прозреть, что не обошлось здесь без вмешательства матери.
Не дано никому на Земле познать цену такой помощи. Ведь надо сначала разрушить поистине нерушимую преграду между мирами видимым и незримым, чтобы затем произвести действие чисто физическое – сам акт немедленной и вполне ощутимой телесно защиты. И даже более того – освобождения дорогого существа от того кукушкиного яйца чужой мысли, которое, внедрившись в сознание, стремится уничтожить в нем все исконно ему принадлежащее, пожирая его и разрастаясь таким способом до невероятных размеров силы. Испив до дна всю жизненную мощь одного существа, такой гигантский «кукушонок» переползает в другое гнездо, ибо не имеет иной возможности жить. Раз опробовав не принадлежащего ему сока, он отказывает себе навсегда в энергетической подпитке от космического Луча, такой естественной для остальных: сам будучи изначально светлым, этот Луч привлекается только лишь себе подобным. Он как бы не замечает того, что по уровню и частоте вибрации с ним не сходно.
Простой закон, один из великих законов мироздания. Поняв его, не надо искать никаких происков врагов среди причин своих препятствий. Поистине, все в нас самих…
В то утро Хитро проснулась в бодром и деятельном настроении. То не было ни беспричинной радостью от ощущения полноты жизни, ни беспокойным и неосознанным позывом к неопределенному действию, – нет, она, как бы продолжая начатое еще во сне, определенно знала, что ей предстоит сделать сегодня.
Собственно говоря, само понятие «утро» для Посейдониса было условным: атланты довольно пунктуально подчинялись ими же установленной временной шкале, которая определяла часы для активной работы, как и отдыха. Рассвет, в точном понимании этого слова, длился здесь в течение тридцати суток, непрерывный и неуклонный. А дальше – дальше наступал день, почти отличимый от ночи, ибо ночь тогда обозначалась недолгой тенью, легкими сумерками, намеком на саму себя. Что ж, Великая Катастрофа не прошла бесследно для Земли. Кроме собственно Атлантиды, пострадал еще один материк: Гиперборея. Впрочем, название «Гиперборея» почти ничего не говорило ни о самом материке, ни о его обитателях, оно просто означало землю за северными пределами…
И действительно, окруженная по внешней своей границе почти непреодолимым кольцом заснеженных гор, оледеневшего моря, редко, всего на несколько месяцев в году оттаивавшего четырьмя протоками (по числу теплых, никогда не замерзавших рек), и далее сплошным панцирем материкового льда, Гиперборея для теплолюбивого человечества всегда была чем-то вроде сказки, в которую и верилось, и не очень. Исключение, как и во всем остальном, составляли лишь атланты, которые знали все, и для которых не имели значения ни расстояния, ни атмосферные условия, как и любые мыслимые земные преграды. Особенно тесными были сношения между гипербореями и северной Атлантидой – Посейдонисом. И неудивительно: Гиперборея, словно шапкой накрывавшая полярную часть Земли, отделялась от него всего лишь неширокой полоской воды, великого и благодатного атлантического теплого течения. В свою очередь, вливаясь в самое средоточие полярного материка, оно омывало и согревало его почву, – да что почву! Весь климат, благодаря огромному соленому озеру, сообщавшемуся с Океаном, был до неправдоподобия смягчен этим естественным калорифером. Правда, не до такой степени, как на острове великого Посейдона, где о резких колебаниях температуры вообще не знали, – и все же…
До сих пор гиперборейцы: и схиртли, и арья, – молчаливо горевали о своей прекрасной, и, как они считали, без вины погибшей земле. Хорошо еще, что не ушла она в небытие внезапно, в одночасье, как это случилось с Центральной Атлантидой. И что проку разбирать теперь, чьей вины больше в случившемся: правителей Каци или же Тин? И те, и другие одинаково не пожелали смирить гордыню свою, все доказывали друг другу собственное первенство. Ну и что? Доигрались до того, что их обездоленные народы пошли по миру, в поисках новых мест, пригодных для жилья. Некогда могучие и сплоченные, они разбились на крохотные племена, или даже на отдельные семьи, пытавшиеся сохранить, тем не менее, все отличительные особенности своих исчезнувших с лица земли предков. Ввергнутые их преступлениями в самоизоляцию и позабывшие волей Небес все, кроме своего былого величия, они на тысячелетия остановились в собственном духовном развитии. А что это значит для эволюции, которая не признает задержек в движении даже малейшего атома? Застой, гибель, возврат к одичанию…
Миролюбивые схиртли, арья и отчасти народ каралов, так и не сумев повлиять на гонор и воинственность своих соседей по Гиперборее, тинов, в предвидении катастрофы отошли на близлежащие материки. Жизнь их была спасена, – но цивилизация, увы, исчезла. Ибо сильна каждая цивилизация именно своим монолитом, слиянием и единством всех, даже противоположных, частей. При условии, конечно, что проникнуты они все одной Идеей, наиболее могущественной Мыслью. Однако знания гиперборейцы сохранили. Бесценные знания, накопленные опытом предшествующих человеческих рас (ибо все гиперборейцы были происхождения именно человеческого), вмещающие в себя Систему и методику духовной эволюции человека – взращиваемого на поле Земли будущего небесного сотрудника. Правда, носителей этих знаний осталось немного, – тем более и берегли их. Атланты Посейдониса весьма ценили посвященных Гипербореи. Недаром все лукумоны, воспитатели местных человеческих родов были выходцами именно с той земли.
Вроде бы что-то негромко стукнуло в соседнем покое, и Хитро отвлеклась от своих мыслей. Она не пошла, как сделала бы это еще совсем недавно, проверять, что именно стучит или кто, вопреки запрету, смеет нарушать тишину: с тех пор, как исчез Азрула, их дворец постепенно и как-то незаметно опустел. Раньше само собой разумелось, что вся обслуга во владениях советника должна быть с ним одного роду-племени. Кому же еще мог доверить Азрула собственную безопасность, как не своим родным бесам? И вот теперь, когда произошел его разрыв с мнимой дочерью, все слуги покинули дом. Неизвестно, сделали они это по приказу самого советника или по другой причине, – однако день за днем Хитро убеждалась в отсутствии кого-то из привычных, ставших почти незаменимыми, лиц. Дольше всех не оставляла свою хозяйку тихая и незаметная Пай, старая девушка, взятая в дом еще ребенком. На днях Хитро спросила ее, заметив, что они остались совсем одни в большом поместье:
– Что же и ты не уходишь, Пай? Ты свободна, следуй за своими!
Тогда ответом ей был лишь неопределенный, такой по-человечески невыразительный взгляд серых глаз, утонувших в темных морщинах. Не поверила бы Хитро, даже если б ей и сказали, что не уходит Пай единственно из привязанности к ней, подле которой прошла вся ее жизнь, вытекла по капельке. Привязанность? У кого? У этой корявой человечки?.. Нет, это полностью расходилось с укоренившимся в среде атлантов представлением о том, что человеки бесчувственны, – во всяком случае, что высшие эмоции им недоступны. Разве что корысть или похоть…
Впрочем, пришло время, когда Хитро не дозвалась и этой своей служанки…
Она прислушалась снова. Нет, все тихо. В этом непривычном одиночестве и не то может почудиться, – а тут всего лишь какие-то шорохи да стуки. Зря ей понадобились долгие сборы. Надо было, как то и положено, следовать первому душевному порыву, а он подсказывал ей отъезд в Скит, материнское имение, налегке. Да вот, послушалась охов да вздохов своего теремного окружения, молодых и старых девушек-прислужниц, позволила задержать себя в этом месте, ставшем вдруг ей ненавистным. Да и в сборах-то ей не было никакой нужды участвовать: ей, как оказалось, было все равно, что брать с собой из «отчего» дома.
Теперь же (так, видно, тому и быть), полусобранные сундуки и непокрытые тюки с постелями приходится оставлять в этом разоре. Все раскидано, разбросано так, что и двери невозможно открыть: драгоценные ткани и расшитые шелком и золотом платья путаются в ногах. От любимого ее сервиза на сорок персон, непревзойденной работы мастеров селения Бески, осталась едва ли половина. Хитро взяла в руки уцелевшее блюдо: видимость изделия из золота, а ведь это тончайший фарфор, покрытый позолотой поверх лепных картин из жизни зверей, растений и птиц. Недаром и ценится эта работа вдесятеро против настоящего, красного золота!
Она перебралась на эти дни из привычной и когдато любимой круглой башни в две смежные комнаты неподалеку, – все в том же верхнем уровне, но уже в самом теле дворца, построенного крестом. Пустой это был жест, никому не нужный: необжитые комнаты эти были холодны и неприветливы, и единственным достоинством имели, пожалуй, свои небольшие размеры и малую парадность.
Однако что же это, в самом деле?..
Звук крадущихся шагов, остановившихся перед дверью, которая не заперта ни словом, ни мыслью, ни хотя бы простым запором – от кого же запираться в своем доме? – заставили Хитро насторожиться. И вовремя.
Обе остроконечные створки овальных поверху дверей медленно разошлись, и в пустом проеме показался человек. За ним, голова в голову, прятался другой, помельче. То ли не хватало ему храбрости, то ли, наоборот, совести было поболе, чем у того, что шествовал впереди, но он сразу остановился, едва Хитро негромко произнесла:
– Стой!
Тот же, что был первым, сверля ее наглым взглядом маленьких светлых глазок, кинулся неуловимым движением, и шелковый веревочный круг взвился в воздухе, готовый стянуть Хитро тонкой сетью, уже распустившейся в полете.
То, что случилось затем, исторгло крик ужаса у человека, который был сзади, и заставило его повалиться на колени, словно пустой мешок. Увиденное им никак не укладывалось в узенькие рамки человеческого разумения, которое всегда ищет для себя объяснения всему, что бы ни происходило вокруг. Непонятное же, то, что не вмещается в разум, вызывает леденящий душу и парализующий тело страх.
Он как никогда ясно видел, что величественная девушка, сидевшая в легком кресле перед металлическим зеркалом, даже не пошевелилась. Только средний палец ее правой руки, легшей на подлокотник, когда она повернулась в сторону вошедших, слегка вытянулся. Из него – было ль это или нет – взвилось крохотное быстрое пламя, с тихим хлопком взорвавшееся вдруг над головой того, который набрасывал сеть.
Да, взрыв был тихим, – но зато ослепительным. В полном смысле этого слова, ибо незваный гость, оставшийся невредимым, потерял возможность видеть. Он тихо взвыл, обнаружив это, и тоненько запричитал, прижимая руки к ставшим вдруг незрячим глазам.
– Замолчи! – приказала ему Хитро, и парень затих. – Ты и сам знаешь, что виновен! Не меньше, чем этот… твой спутник. И, по правде, отвечать должен той же мерой. Но за твое послушание моему слову, за то, что теплится в тебе совесть, есть следование Высшим Законам – за это ты получишь прощение и исцеление. Скажи мне, как тебя зовут, и кто ты есть?
Голосом, прерывающимся от страха, благоговения и недоверия, ее гость и пленник ответил:
– Беско, о высокая госпожа… Зовут меня так, – Беско…
– Не повторяйся. И обращаться ко мне надо: «Великая Госпожа». Повтори, если понял.
– О Великая Госпожа! О Мать милосердная! Прости меня, если можешь!
– За что же тебя простить? За то, что задумал уничтожить меня, свою Владычицу?
– Не задумывал я ничего, о Милостивая! И не уничтожить вовсе тебя было нам велено, а лишь связать и доставить туда… – юноша, почти мальчик, он, тем не менее, уже неплохо владел даром речи.
– Вижу, что говоришь правду, – задумчиво сказала Хитро, не спуская с него взгляда. – И где же ты научился так складно говорить? Отвечай!
– Но… Я ведь Беско, Великая Госпожа!
– И что с того?
– Ты права, как всегда, Великая Госпожа! Это ничего не значит, кроме того, что я – сын вождя бесов. И его наследник в правах. Поэтому и образование я получил в Академии.
– Вот оно как! Вместе, значит, с отпрысками великих атлантов?
– Воистину так. Но только на первоначальной ступени.
– Понятно. То-то я смотрю, – незнаком ты мне.
– Если позволишь, Великая Госпожа… Я только вчера вернулся из Атлантиса.
– И тебя сразу послали на предательство?
– Они назвали это испытанием моих мужских качеств.
– Кто – «они»?
Но Беско промолчал.
– Ладно, можешь не отвечать, – сказала Хитро, – и так ясно. Скажи, твоего отца ведь тоже, кажется, зовут Беско?
– Да, Милостивая. Я – просто «Беско», отец же – Беско-Старший. Это так со вчерашнего дня, как я вернулся: чтобы не путать нас. Такова традиция.
– Ладно, Беско, – в голове Хитро сложился определенный план, и разговор дальнейший стал ей явно неинтересен. – Теперь иди вниз, к своим. Небось заждались…
Легкая тень разочарования легла на лицо юноши. Его мягкие черты как-то сразу заострились, и тонкая вертикальная складка, появившаяся между бровями, выявила строгую, затаенно жесткую срединную линию: тонкий, даже хрящеватый, нос с горбинкой, борозда на подбородке. Маленький узкий рот, плотно сжавшись, стал вовсе незаметен, зато глаза, широко раскрытые серые с голубизной глаза – они горели, уставившись невидящим взором куда-то мимо Хитро.
– Ах, да, – досадливо поморщилась она. – Ты уж подумал, что твоя Госпожа могла забыть про твое исцеление? Но ты должен помнить всегда, что госпожа Хистара ничего не забывает. Ты понял меня?.. Посмотри мне в глаза и отвечай!
Что-то неуловимо изменилось в лице юноши. Напряжение, что ли, спало, радость ли облагородила его, – но Хитро невольно залюбовалась этим, вдруг открывшимся ей новым обликом ее недавнего супостата.
– Что же ты молчишь? – чуть смягчилась она, уже зная причину этого молчания.
– Как ты прекрасна, моя Госпожа! – едва не задохнувшись, вымолвил Беско. – Отныне жизнь моя и все мое достояние принадлежат тебе, о Прекраснейшая! Если, конечно, они могут понадобиться тебе…
– Хорошо, Беско. Я принимаю твой дар. Но это должно остаться нашей тайной!
Юноша с достоинством наклонил, в знак согласия, светловолосую голову, и прямые пряди стриженых волос прикрыли его глаза. Он отвел их со лба назад крупной красивой рукой, – Хитро внимательно следила за каждым его жестом, – и ответил:
– Как прикажешь, Владычица. Благодарю тебя.
И он сделал шаг назад, отступая к дверям.
– Но подожди же! – воскликнула Хитро. – Не оставишь же ты мне это?
И она указала взглядом на почти незаметную среди замысловатого коверного узора кучку пепла…
Самообладание этого молодого человека было на должной высоте. Не дрогнув и не раздумывая ни секунды, он методично сложил толстый и тяжелый ковер со всех четырех сторон вовнутрь, плотно скатал его – и водрузил этот импровизированный саркофаг себе на плечо. Выходя, он не взглянул на Хитро, – только низко наклонился, чтобы пронести свой груз, не задев притолоки. Впрочем, это вполне можно было принять и за поклон.
Внутренним видением – ей не было нужды включать экран наблюдения, – Хитро проследила за юношей вплоть до его встречи с галдящими соплеменниками, гурьбой обступившими его сразу же от высокого крыльца. Отдав свою печальную поклажу, Беско, не обращая больше ни на кого внимания, вскочил на подведенного ему коня в богатой сбруе и, гарцуя, выехал из открытых настежь ворот поместья. За ним потянулись и остальные, обступив закрытый темный возок, запряженный четверкой вороных. Груз, который он вез внутри себя, явно не соответствовал первоначальному намерению, и сумятица их мыслей была невообразима.
«Что ж – подумала Хитро, – по крайней мере, война объявлена в открытую. И твой дар, милый мальчик, понадобится мне, похоже, в очень скором времени».
Она спокойно повернулась к зеркалу и всмотрелась в свое отражение. Да, он прав, этот юноша, – она действительно прекрасна. Настолько прекрасна, что нет нужды ей прятать свое совершенство под какими-то вуалями и накидками!
Поднявшись, Хитро окинула взглядом на прощанье стены комнаты, ее пристанище в когда-то родном доме, и, не оглядываясь более, пошла прочь.
В своем бледно-розового цвета пеплуме из тончайшей, однако совершенно непрозрачной ткани, пеплуме, обычно подвязываемом ею под поясом, а сейчас отпущенном во всю длину, почти до самой земли, она ничем бы не отличалась от любой жительницы Атлантиса, если бы не ее особенная, такая простая в своем совершенстве, красота.
Впервые Хитро шла по улицам родного города одна, без всякого сопровождения, да еще пешком. Ей был от природы неведом страх, – и все же что-то мешало, что-то сковывало ее натуру, вдруг познавшую прелесть полной свободы. Что это было? Взгляды прохожих, оторопело-восхищенные, или естественное замыкание ауры для защиты от постороннего проникновения?..
Она не стала над этим долго задумываться. Надо чуть приобвыкнуть, – пришла мысль, – а там все устроится.
Так и шла она в сопровождении уже целой толпы уличных зевак, всегда охочих поглазеть на что-то необычное. Она не придавала столь причудливому вниманию к себе никакого значения, – и ей было хорошо.
Дорогу она знала. Ведь бессчетное количество раз ее проносили в паланкине из обособленного пригородного Зумрада (Изумруда), яркой зеленью садов и парков отвечавшего своему названию, через уютный и простецкий Нижний город, пристанище ремесленников, торговцев и всех прочих, кто допускался к обслуживанию аристократии, обретавшейся как в Зумраде, так и в Верхнем Городе. Вся деловая, официальная жизнь Атлантиса протекала именно здесь, на высоком холме, обнесенном каменной стеной, покрытой золотой пленкой. Средоточием же Верхнего города, как и всего Атлантиса, а если брать глубже, то и всей страны, самой Империи и целого мира – была Цитадель, Жилище Богов.
Середина холма, на котором было выстроено это колоссальных размеров сооружение, – состоявшее из многих совершенно различных зданий, и в то же время монолитное, слитое в единстве всех своих частей безупречным архитектурным замыслом, – окружалась также высокой стеной, но уже меньшего диаметра. Стена эта, как и весь Атлантис, впрочем, являлась настоящим чудом, о котором по населенному миру бродили всякие россказни и сказки, но видеть которую из ныне живущих человеков никому, по сути, так и не пришлось, пока не начал ходить в свои рейсы капитан Дирей.
Чудо это сверкало и сияло, словно миллиард алмазов. Именно такое впечатление, будто в поверхность огромной стены вделаны блистающие радужными лучами адаманты, оставалось у каждого, кто любовался ею издали. Впрочем, никому из простых смертных еще не удавалось прикоснуться к этой твердыне или хотя бы подержать в руках орихалк, которым была покрыта ее поверхность. Все подходы к Цитадели охраняли не только преданные царю этера, но и всевозможные невидимые приспособления, которые бы оставили бездыханным любого, кто вздумал бы прикоснуться к ним. Пока что, кроме случайно забредших сюда домашних животных или диких птиц, жертв не было. И слава Единому, думали все, – этера в том числе.
Цитадель и стена из орихалка, окружавшая ее, были в полной неприкосновенности еще и потому, что никому, ни атлантам, ни их подопечным, – не пришло бы в голову делать то, чего делать не положено. Существовали прекрасные белые дороги, которые неизменно приводили всех, у кого в том была нужда, к девяти воротам Цитадели. Их впускали без задержки. А без нужды, – кому же вздумается идти напролом в святая святых атлантов? Если он, конечно, не враг сам себе…
Но путь Хитро лежал ближе, – пока, во всяком случае. Она, выйдя из ворот поместья Азрулы, пошла по красивой тихой улице налево, к мосту, разделяющему и соединяющему одновременно Зумрад и Нижний город.
Когда-то, – казалось, что это было невыразимо давно, – она вольно бегала здесь, одна или со сверстниками: детей своих, до четырнадцати лет, атланты не держали взаперти. Да и позже, когда приходило время занятий в Академии, никто их также не принуждал. Само собой у подростков являлось понимание ответственности, и тогда время начинало, с трудом, конечно, но укладываться в нужные рамки: пробегаешь или увлечешься чем-то одним, на остальное его не хватит. Кому же охота выглядеть посмешищем в глазах серьезной аудитории? Ведь учебные дисциплины в Академии, не считая ее высших классов, не разграничивались возрастными рамками: в течение всего периода обучения контингент слушателей свободно переливался, оставаясь, в сущности, почти однородным. Старшие шли выше, юные же после начального обучения вливались свежей неиссякаемой, казалось, струей, – Академия была вечной. И сомнения в этом ни у кого не возникало…
Хитро не стала останавливаться на первом мосту. Ей отчего-то захотелось быстрее пройти Нижний город. В ширину, по диаметру, он был очень велик; напрямую же, пересекая концентрическую окружность по ровной, как стрела, дороге, изредка прерываемой мостами через каналы, его можно было пересечь за несколько минут.
Эти зеваки!.. Если б не они, ей бы не пришлось так торопиться, подумала Хитро. Конечно, интересно было бы побродить по Нижнему городу, наполненному своеобразной жизнью, такой отличной от ясной и определенной жизни атлантов. Но не сегодня.
Сегодня ее ожидают важные вопросы. Как они будут решены, и придет ли вообще их решение, – загадывать она не хотела. Смутное беспокойство, вестник энергетического неравновесия, охватившее ее еще там, во дворце, давало о себе знать то уколами в разные точки, то мимолетными болями.
Да отстанут ли они, наконец? – почти с раздражением подумала Хитро про свой импровизированный эскорт, состоявший преимущественно из местных мальчишек, – и оглянулась. К ее удивлению, позади никого не было. Один, правда, сидел у парапета моста, схватившись за массивную завитушку ограды, голова его как-то странно свесилась наружу сквозь замысловатые прорези узора. Приглядевшись, Хитро поняла, что его рвет.
Она не стала возвращаться к этому человеческому детенышу: дела, более важные, чем это, ждали ее. Да и из башенки, со стороны Нижнего города, уже торопливо спускался постовой в полосатой, белой с синим, тунике, – он поможет мальчишке…
Что ж, не будет впредь так пристально глазеть на атлантиссу, наука ему, думала Хитро, и раздражение ее во всю мощь вылилось на постового этера, вздумавшего было обратиться к ней с вопросом.
– Прочь! Как ты смеешь расспрашивать меня, дочь советника Азрулы! – почти выкрикнула она ему в лицо, и молодой этера, набиравшийся опыта здесь, на совершенно бездельном посту, отпрянул.
– Прости, домина, – ответил он этой, никогда прежде им не виданной девушке, – хотел лишь поинтересоваться, не могу ли помочь тебе чем-нибудь?..
Последние его слова обращены были уже в спину Хитро. Не слушая его, она уже почти бежала, – цель была близка. Хорошо, что никто не меняет ни планов построек, ни их назначения, подумалось ей, а то бы пришлось ходить неизвестно сколько, разыскивая того, единственно близкого. По правде говоря, она уже раскаивалась в том, что не воспользовалась каким-либо из предлагавшихся ей видов передвижения, а пошла пешком, да еще вот так, налегке…
Но, слава Единому, вот и ограда храма. За ним, совсем недалеко – монастырь, где живет и работает Искар, единственный брат ее покойной матери. Хитро уже завернула было за ограду, как вдруг внезапная мысль о том, что надо бы подойти к храму, остановила ее.
Азрула верно заметил – она недолюбливала жрецов. Их, как считала она, надуманные и закоснелые ритуалы – лишь для начинающих, но никак не для нее, истинной атлантиссы. Обучение в Академии, оставлявшее свободу мышления неограниченной, подкрепив ее знаниями, не разуверило в обратном. Но сейчас…
Она вернулась к высоким и строгим воротам, украшенным, по полированному красному дереву, лишь большими медными заклепками, сходящимися в центре, в изображении вечного символа Жизни. Всегда распахнутые, они и сами являлись как бы условным знаком, приглашающим войти. Но приглашающим не любого…
Мысль, заставившая Хитро вернуться сюда, была о том, что негоже ей являться к своему дяде Искару в таком сумбурном состоянии духа, в каком пребывала она сейчас. Если не для успокоения кипящей бурными волнами души, – то для чего же тогда должен служить весь этот грандиозный комплекс с его многочисленными храмами, разными по цвету камня, архитектуре, но едиными в том, что все простиралось ввысь, к белому Солнцу…
Почему – белому? – подумала она, но отвлеклась, увидев перед собой, сбоку от входа в храм, небольшой, по грудь ей, бетил. Вытесанный из черного базальта, он был гладко отполирован ладонями верующих в его космическую, возрождающую дух и тело, силу. Сама не ожидая от себя ничего подобного, Хитро прикоснулась вдруг пальцами к его священной части – верхушке. Она и не заметила, как рука ее легла затем всей ладонью на чуть заостренный кверху и покрытый натуралистически точно переданными штрихами каменный фаллос.
Ничего не изменилось. Не исчезло и ее неестественное беспокойство, – только отодвинулось огромным кругом могучей силы, начавшей овладевать ею. Эта сила, добрая и уверенная в самой себе, властно и нежно обнимала Хитро все настойчивее и настойчивее. И вот уже дотоле никогда не испытанная ею сладостная истома готова была охватить ее всю, целиком, – с такой безвозвратностью увлекая девушку за собой, будто она и сама только этого и желала всю свою жизнь!
Огромным усилием воли Хитро удалось придти в себя. Что это? Что может вот так подчинить себе мое сознание, неподвластное ничему на свете? – думала она, между тем как волны неизведанного ею блаженства нисходили, оставляя о себе радость и сожаление. Будто кто-то, бесконечно любимый, прощался, не сводя с нее взгляда и не отнимая руки.
– Неужто Твоя благодать коснулась меня? – вопрошала она Небо. – Подай знак, Единый, если я удостоилась Твоего внимания…
Кто-то негромко кашлянул вблизи от нее. Хитро открыла глаза и, не поняв еще, то ли это знамение, которого она ждала, или просто случайность, пошла к выходу. Заходить в храм уже не хотелось. Она чувствовала, что должна сама разобраться в том, что с ней произошло.
– Единый да охранит тебя, молодая госпожа, – произнес низкий мужской голос, и Хитро встретилась глазами с коренастым чернооким жрецом в запыленной белой одежде. – Если я не ошибаюсь, домина, ты пришла сюда одна?
– И что в этом необычного? – неохотно вступила в разговор Хитро. – Так уж мне захотелось!
Намек был прозрачен, но жрец не собирался покидать ее.
– И все же, домина Хитро, – с мягкой настойчивостью продолжал он, – разреши мне проводить тебя. Не дело девушке твоего уровня…
– Да что это все сегодня вздумали меня опекать! – как ни старалась сдержать себя Хитро,е все ее накопившееся раздражение прорвалось-таки наружу. – Тебе ясно сказано: оставь меня!
И она, резко повернувшись, зашагала к воротам. Она уже не думала ни об удивительном происшествии возле бетила, ни о том, к кому и зачем она направляется. Какие-то обрывки мыслей, явно чужих, неясные лики, наплывающие из пространства, – все вдруг смешалось в сознании Хитро. Она остановилась, нащупав рукой каменную опору ворот, и прижалась к ней для устойчивости всем телом.
Она стояла неподвижно, с повернутым в профиль лицом и руками, словно бы воздетыми в каменном объятии. Искару, поспешившему сюда на зов коренастого жреца, показалось, что он видит перед собой изваяние: настолько бледно-розовая одежда Хитро сливалась с почти того же оттенка туфом, мягким камнем храмовой ограды.
Искар, умудренный возрастом и уединенной жизнью, сразу понял, что произошло, и что надо сделать в первую очередь – предвидение не обманула его, когда он воспринял сигнал помощника. Мысленно проведя стрелой-радиусом очищающий круг над головой Хитро, он накинул на нее плат из прозрачного, почти невидимого шелка. Остальное было несложно: уложить податливое тело девушки на свою правую ладонь той точкой на позвоночнике, что повыше крестца, и повлечь его за собою, уже не прибегая к помощи рук. Редкие встречные (ибо в эту пору дня в Атлантисе были заняты каждый своим делом) не удивлялись, завидев широко шагающего атланта в белоснежной длинной тоге и едва поспевающего за ним гиперборея, раза в три ниже его ростом. А уж то, что между ними безо всякой опоры плыло в воздухе женское тело, накрытое магическим платом – на это, было видно по спокойному мерцанию аур, имелись свои причины. Оставалось только вознести Единому просьбы о помощи своим ближним. Просьбы, которые затронут ответным благом и самих воссылающих такие моления…
Идти было недолго: за поворотом ограды храма, на зеленом лугу расположились постройки монастыря, места объединения тех, кто достиг степени углубления в сознание. Великая это степень, знак того, что душа окрепла и смогла вырваться из вязкого теста общеземного умственного плана. Но и трудная. Как трудно, впрочем, всем, кто опережает свое стадо.
– Ступай вперед, Карал, – велел приземистому жрецу Искар, его наставник, – и приготовь место в целебном покое. Да укажи там, пусть принесут золотой ларец.
– С амброзией?
– Он самый.
– Но кто же позволит…
– Верно. Тогда пойдешь за ним ты и моим именем откроешь стены вплоть до четвертого нижнего уровня. Там, в кладовой Золотых Ларцов, ты и отыщешь один, с овальным синим ягунтом (яхонт, древнее название рубинов и сапфиров) на крышке. Да захвати с собой пару рабов: ларец тяжел.
– Все сделаю, как велишь, Учитель! – Карал низко наклонил голову, и его волосы, желтые, как спелая солома, качнулись вперед. Перехваченные на уровне лба узким деревянным обручем, который был обвит красной шелковой нитью, они не закрыли его лица.
Затем он остановился, подвязал повыше полы своей длинной и просторной хламиды, сосредоточился. И вдруг, – ожидавший этого атлант Искар и тот восхитился, чему свидетельством стал едва дрогнувший уголок его губ, обычно строго сложенных, – вдруг Карал зашагал. Да так споро, что и не различить было его ног, обутых в мягкие открытые сандалии. Между тем, поймав взглядом ритм его шагов, легко можно было убедиться, что ступает он самым обычным образом, – вот только скорость, с которой монах удалялся от своих спутников, была чрезвычайно высокой для пешехода…
Искар на ходу приподнял край плата, закрывавшего лицо плывущей рядом с ним в воздухе девушки. Одного взгляда ему было достаточно, чтобы понять: надо поторопиться. Бледность, обычная для беломраморных атлантских лиц, начала уже отдавать голубизной под глазами и вокруг рта Хитро. Означало это только одно, – то, что кровообращение нарушено в степени, угрожающей уже не только здоровью, но и самой жизни его племянницы.
Нельзя сказать, что Искар был сильно привязан к своим родственникам. Как и все атланты, он не особенно задумывался над этой частью своей жизни, считая наличие родных по крови всего лишь некоей данью правилам земного воплощения, – правилам, вовсе не обязывающим отдавать предпочтение тем, кто связан с ним семейными узами перед другими, быть может, более достойными. Кроме того, он считал себя не вправе растрачивать впустую данные ему свыше чрезвычайные возможности – духовную силу, которую каждый должен стремиться использовать по максимуму. А по той причине, что выше Знания нет ничего, именно служение ему и стало целью и основанием жизни премудрого Искара.
Информация самого разного толка стекалась к нему в монастырь отовсюду, скрупулезно сортировалась его трудягами-помощниками, а уж затем, переданная самому Искару, обобщалась в его разуме мгновенным прозрением. Впрочем, не всегда так просто совершался тот изумительный синтез бесчисленных отрывочных сведений, иногда слишком уж узкоспециализированных, – синтез, которым был знаменит Учитель Искар. Порой требовались многие сутки бессменной работы мозга, перебирающего бесчисленные миллиарды различных сочетаний, прежде чем они сложатся в прекрасный узор мозаики, открытые, поистине подобные удару молнии.
Кому как не Искару, атланту, когда-то имевшему мать из смешанного племени, и по этой причине рано, по сравнению со своими детьми и супругом, ушедшую из земной жизни, – было знать, что такое родная кровь. Общая аура, распахнутая для проникновения и пользования силами мощнейшего; светлая энергия, автоматически переходящая на замещение кем-то из близких загубленной животворящей силы; вязкий туман в голове и, одновременно, избыток каких-то бешеных и дурных желаний, требующих для себя немедленного, без раздумья, исполнения. Или же, что бывало хуже всего, – полное опустошение, прострация физическая, эмоциональная, и уж, конечно, духовная. Ведь о какой духовности, о каком прозрении в сферы высшие может идти речь на Земле, если выработаны чуть ли не до конца внутренние силы, – самое драгоценное и наиболее таинственное достояние земного разумного существа. Достояние, которое является единственной вещью, поистине ему принадлежащей от начала до скончания веков – и дальше…
Осторожность атлантов в общении как друг с другом, так и с человеческим материалом вовсе не была проявлением эгоизма. Все представляется иначе, если осознать один из Законов мироздания: для того, чтобы соединиться, необходимо разойтись. Еще один из многих парадоксов, которые каждый должен домысливать сам, – но отнюдь не из труднейших: отъединиться, отпочковаться от общей безликой массы, образовать, а затем и укрепить собственную ауру с совершенной системой защиты от любого вида энергетического вреда (чтобы земное тело не кидало то в жар, то в холод от пойманной на лету мысли или в сердцах сказанного слова), каждому в отдельности достичь взаимодействия с высшими силами, – и только тогда начать постепенное объединение сознаний. Ибо уровень их, этих вполне индивидуализированных сознаний, будет на несколько порядков выше того, с чего начинали. Тогда уже можно будет не опасаться открыть ближнему свое не защищенное от убийственной молнии сердце…
Пока же, в силу необходимости, эта молния была всегда наготове. Она составляла естественную реакцию защитной сети любого, кто сумел воспринять при своем зарождении эту уникальную черту существ, прошедших несравненно долгий и высший путь, сравнительно с человечеством, духовной и физической эволюции. Однако недаром же это сильнейшее оружие давалось лишь тому, кто уверенно прошел через все испытания на пути восхождения по этой золотой лестнице: всякий, получивший возможность поражать, знал о том, что не может посягнуть на слабейшего без особой на то причины. Или же прямого приказа.
Искар, следуя за неподвижным, несмотря на плавный полет, телом Хитро, отнюдь не терялся в догадках о причине странного и внезапного недомогания девушки. Он редко прибегал к приемам ясновидения, предпочитая им точную и наглядную картину, выдаваемую научными приборами. Поэтому его единственной заботой на время пути было проследить, чтобы ничто не помешало ровному движению спящей. Впрочем, была еще одна трудность: несмотря на свое полное спокойствие, он все норовил ускорить шаг. Этого же делать было никак нельзя, потому что увеличение скорости на физическом плане могло бы плохо повлиять на состояние больной в ее эфирном теле. Когда организм выведен из равновесия, первым правилом всех лекарей является обеспечить ему полный покой. Только он дает возможность воссоединиться всем оболочкам, невидимым земному глазу голограммам, заключенным в видимое тело. Ни рывка, ни встряски, ни громкого слова, а, в идеале – и ничьего присутствия. Кроме врача, если он обладает умением держать самого себя в равновесии, чтобы не усугубить уже имеющего место поражения ауры своего пациента…
Наконец путь был завершен. Хитро, все так же бездыханную, поместили на узкий и подвижный стол, который, казалось, сам собой начал проделывать все предварительные манипуляции. Девушку не раздевали, не докучали ей прилипчивыми взглядами и прикосновениями. Автомат ввел ее в несколько цилиндрических прозрачных емкостей, – этим и завершились все процедуры, от внешней стерилизации до полного внутреннего осмотра. Искар, за стеклянной перегородкой, терпеливо ожидал его результатов.
Здесь была его научная лаборатория. Мало кто знал о ней, еще меньше – бывали. Разве что в качестве пациентов, – так это, слава Единому, случалось не часто. Праздных же гостей монахи, работавшие под началом Искара, не привечали. Да и что было тут делать невеждам? Знающие же не приходили именно потому, что знали, – знали о том, что не следует тревожить без особой нужды ученого во время его работы. Ведь эдак можно и перебить его собирающиеся в гармоничный строй мысли своей энергией, настроенной далеко не всегда на столь же высокие по уровню вибрации…
Искар оторвал взгляд от бесшумно движущегося манипулятора и оборотился вместе с креслом к широкому, в полстены, экрану. Послушный его мысленному приказу, автомат начал выдавать интересующие ученого сведения о пациентке, вверенной провидением его попечительству. Но не раньше, чем Искар набрал на пульте код, известный ему – «Спасение жизни», – проставил свой личный глиф. Код этот, распространенный в среде лишь особо посвященных атлантов, а таких было немного, давал им право вторгаться в святая святых каждой мыслящей сущности, в его ауру, его тело и даже в сознание.
Как ни странно это было, но Искар не мог понять причины столь сильного шока, вызвавшего почти полную потерю жизненной силы, – а именно такой диагноз был поставлен врачом-компьютером. Тронув несколько клавиш, он уточнил задание, и на экране туманно высветлилось эфирное тело Хитро. Первое, что бросилось в глаза, было темное пятно на месте солнечного сплетения, важнейшего для физической жизни организма эфирного центра, обычно сверкающего и сияющего, как солнце. Подобно ему, в своем неуловимом для глаза вращении, оно рассылает свои лучи как вовне, так и вглубь тела, – по каналам-проводникам, которые сообщаются не только с ним, но со всеми остальными центрами.
Однако сейчас картина была удручающей. Пять энергетических центров едва тлели, шестой – солнечное сплетение, был погашен или преступно закрыт. Слабо светилась лишь корона – венчик, окружающий головной центр на месте детского родничка. Это значило, что жизнь поддерживается лишь притоком высшей энергии.
Искару пришлось увеличить силу лучей, выявляющих тонкое тело. Это было опасно, но состояние Хитро было еще опаснее. И вот – никогда не терявший самообладания Искар не удержал тихого возгласа изумления – постепенно из темноты закрытого центра начали вырисовываться все яснее контуры совершенно черной, как бы сведенной мертвой судорогой, руки, ухватившей его в кулак. Сам центр, сотканный из светящейся материи, материи Люцида, являющий собой настоящее чудо неведомо чьей ювелирной работы, был весь искорежен и смят. Он не мог больше работать. Даже если бы можно было убрать эту ужасную руку, поистине намертво схватившую его, требовался сложнейший восстановительный ремонт, – и неизвестно еще, к каким результатам он мог бы привести.
Но – рука! Откуда она взялась, и кто возымел право на такое действие? Именно право: чья это низшая вибрация, будь то человеческая или же астральная, может проявить силу действия в ауре атланта, отражающей все вредящие ей излучения? Если сам атлант не открылся поражению своим же противозаконным поступком…
Ответный удар – подумал Искар, – однако чей он, и какова его причина?..
Снова легкое касание клавиш, – и на экране быстрой, мелькающей чередой стали проноситься какие-то картины. Искару пришлось вернуть их к началу и снизить темп частоты кадров.
Машина воспроизводила, по просьбе Искара, снятые с ближайшей памяти Хитро события, не успевшие еще уйти в глубинные хранилища, – откуда их достать было бы сложнее. Мелькнуло лицо Азрулы, с не присущим ему обычно выражением злобы. Он шевелил змеящимися губами, что-то говоря, и Искару захотелось, хоть общее выражение было понятно и так, услышать его слова, и, главное, голос. Однако подстройка никак не удавалась: очевидно, в памяти девушки остались не столько земные выражения этого, снявшего наконец маску, многоликого существа, сколько сам факт, поразивший ее. Факт, оставшийся за кадром, ибо Искару так и не удалось вернуть предыдущие картины.
Но несколько неясных слов ему все же удалось разобрать. И этого оказалось достаточно, чтобы уловить смысл происшедшего между Хитро и Азрулой, которого все имели основание считать ее отцом.
Несколько минут он пропускал ускоренным темпом малозначительные эпизоды частной жизни племянницы, как вдруг остановил аппарат, пытливо вглядываясь в лицо человека, появившегося в фигурном проеме двери. Нет, он был незнаком Искару. Впрочем, разве мог он знать в лицо всех человеков, размножившихся невероятно споро в течение последнего времени? Искар, бывший еще свидетелем Великой Катастрофы, не вел счета векам и тысячелетиям…
Он перевел взгляд на другого, как бы остававшегося в тени того, который был впереди, и напряг фокус изображения. Этот, без сомнения, был ему хорошо знаком. На вверенных ему курсах занятий в Академии Искар невольно отмечал этого человеческого отпрыска, явно стремившегося к познанию. Во всяком случае, он всегда приходил на занятия одним из первых, чтобы не упустить места поближе к преподавателю – из тех мест, что были в любом общественном помещении отведены для человеков.
Никто из них, надо сказать, не думал роптать на подобное неравенство. Человеки знали, что все законы и предписания, указывающие им как жить, как вести себя в самых разных случаях и даже как питаться, даны им их земными божествами единственно для их же пользы. Редкие ослушники были наглядным и пугающим примером того, откуда берутся как бы сами собой неудачи и бедствия. Потому и предпочитали человеки оставаться в русле данных им правил. Тем более что от интенсивного близкого общения с атлантами больше пострадать могли все-таки они. Атланты умели, в случае надобности, приводить свои вибрации к высшему порядку. Тогда как человеческое естество, буде оно поражено энергиями, к которым не приспособлено пока его материальное тело, действующее, в основном, на принципе земных низких колебаний, может и сгореть. Сгореть так, как сгорает дом, где огонь разводят не в обдуманно защищенном камнями и огнеупорной обмазкой очаге, а прямо на дощатом полу…
Что же делали эти двое здесь, в покое атлантиссы Хитро? Искар, медленно запустив изображение, увидел ее строгие глаза на бледном высокомерном лице, исполненном чарующей красоты, а затем…
Он просмотрел весь эпизод с участием незваных гостей и поблагодарил свою разумную машину, которая затем сама и выключилась. Повторения не требовалось: все было ясно и так. Время было дорого как никогда, ибо ниточка, соединяющая высшую Монаду Хитро с ее земным телом, не могла бесконечно поддерживать в нем жизнь. Необходимо было как можно скорее задействовать срединный центр, вышедший из строя по причине кармического удара, действующего автоматически.
Он уже собирался поторопить Карала, когда тот подал у входа в лабораторию, всегда закрытого, мелодичный сигнал.
– Слава Единому! Тебя, действительно, только за смертью и посылать! – в ворчании Искара прорывалась радость оттого, что явилась наконец возможность действовать. – Ставь ларец сюда.
Карал повиновался. Он не стал оправдываться, хотя оправданий к задержке (если это вообще можно было назвать задержкой), было предостаточно; осторожно обтер вынутым из-за пазухи вышитым платком поверхность ларца, всю испещренную золотыми лепными изображениями картин жизни атлантов, и темные глаза его, обратившись к Учителю, затеплились благоговением, когда он сказал:
– Зато все сделал сам. Как ты велишь, Владыка. Только своей энергией.
– Ну и зря, – попенял ему Искар, никогда не упускавший случая поучительствовать. – Мог и надорваться. Недаром же тебе было велено взять с собой рабов. Они – сильные.
– И когда только я достигну подлинной силы, – смиренно продолжал Карал. – Не той, что у рабов, как бы ни были раздуты их мышцы…
– Небось, снова ходил к Каменщикам? – Искар поддерживал разговор, хотя руки его были заняты приготовлением чудодейственного напитка для больной, а сознание методично искало наилучших путей к ее полному и безвозвратному исцелению. – Все надеешься, что, глядя на их работу, и сам научишься заставлять камни летать. Торопишься, хотя знаешь, что знание высших законов вряд ли сейчас может быть даровано тебе. Хоть ты и опередил, и намного, свой род.
– Владыка! Не отнимай у меня надежды!
– Ни в коем случае! Надейся, Карал! Но не пеняй ни на кого, если исполнение твоей мечты задерживается.
– О, Владыка! Знаю, знаю… Все зависит от меня, от моего полного очищения, – достигну ли я его когданибудь?
Что-то в голосе ученика насторожило Искара. Он, не поднимая взора от кубка, в который медленно, по каплям, вливал густую жидкость, ответил ему:
– Достигнешь, как же иначе? Или ты начал сомневаться, а, Карал?
– Сомнений нет, Учитель. Знаю я, что путь долог и труден. Сам же выбирал.
– Не только труден, – опасен. Любая ошибка грозит разрывами равновесия. А это – неудачи жизненные, недомогания, а то и болезни. Бывают удары и похуже. И не только у вас, человеков. Вот, посмотри, к чему приводят самоуверенность и недомыслие даже у нас, аттили…
И Искар мысленным включением экрана показал Каралу тот, поразивший его самого, кадр с черной рукой на солнечном сплетении.
– Велика воля Твоя, Единый! – только и выговорил монах. Искар, ожидавший другой реакции, вскинул на него глаза поверх кубка с драгоценным питьем.
– Можно подумать, что подобное ты видишь чуть ли не каждый день, Карал!
– Так что же! Случается, и похуже что видим.
– В самом деле? – Искар продолжил свое занятие, и рука его не дрогнула, когда он услыхал от собеседника нечто совсем для него неожиданное.
– Давеча вот земляка своего, парнишку, пришлось выручать. От такой заразы только и спастись, как отодравши эту лапу!
– Так прямо и отдерешь!
– Ну, с молитвой, конечно. Самому-то разве осилить эту нечисть!
Искар не на шутку заинтересовался, однако старался не показывать этого, дабы не уронить достоинства атланта и Учителя человеков, всегда и все знающего.
– А ну как я попрошу сейчас тебя проделать это с ней? – он кивнул за прозрачную перегородку. – Сумеешь?
Но Карал молчал.
– Чего испугался? Думаешь, шучу?
– Какие уж тут шутки… Но не могу я этого. Не имею права.
– А, вот оно что! Так я ведь, ее ближайший родственник по крови, даю тебе разрешение прикоснуться к ее тонкому телу. Мало того, – проделать в нем то, что ты считаешь нужным для ее освобождения. Что скажешь теперь?
– Так все то же… – Карал побледнел, и какая-то неподвижность сковала его тело. – Видишь, я уже вроде как окаменел. А что же будет, если не мысленно, а напрямую я посмею прикоснуться к неприкосновенному? К телу богини?
– Какой богини?! Перестань выдумывать! Сам знаешь, что это все детские сказки! Ведь, мы уже почти подобны вам. Хоть это и великий секрет!
– Подобны, да не все. Есть среди вас и подобные нам, человекам, есть и потемнее, – прости меня Единый! Есть и выше нас, – но она!.. Она – богиня. Говорю это только тебе, а ты уж смотри, как желаешь.
Искар задумался. Он вполне доверял знаниям и мудрости этого своего ученика, хоть и не распространялся об этом ни ему, ни кому другому. Что-то во всеобщем, едином для всех знании Истины нашло для себя в человеческом, едва народившемся сознании особую линию, легко сочетающую это Космическое, несколько абстрактное для него, Знание с самыми насущными земными нуждами. Атланту Искару трудно было это понять в начале его общения с человеком, хоть и прошедшим цикл предыдущей расы в Гиперборее, но теперь ему все чаще приходилось напоминать себе о том, что не следует жестко принуждать Карала (так все называли этого, чуть ли не единственного в монастыре, сотрудникачеловека: по самоназванию его племени). Ибо он видел, что механическое выполнение тем всех упражнений и поз, наиболее способствующих ускорению духовного совершенствования, выработанных монахами в помощь человечеству, не дает, в случае с Каралом, ничего, кроме потери времени. Карал шел своим путем, не совсем ясным для его наставников, темноватым и извилистым, – но он неизменно приходил к ошеломляющим результатам. Именно там, где высшее сознание атлантов терялось в непосредственном соприкосновении с земными и подземными энергиями.
Так было и на этот раз. Не задумываясь, Искар отдал спасение Хитро в эти маленькие человеческие руки.
– И почему ты решил, что атлантисса Хистара, дочь моей сестры, – богиня? – продолжил он разговор.
– Хистара?.. Ты говоришь – Хистара, не Хитро? – вопросом на вопрос ответил Карал.
– Настоящее ее имя – Хистара, что означает «владеющая мудростью». Хитро – так стали ее звать с легкой руки отца, наполовину беса по происхождению.
– Ты желаешь сказать, Владыка, что твоя племянница несет в себе человеческую кровь? – в голосе Карала звучало сомнение, и видно было, что он одновременно не желает оспаривать утверждения Учителя, слова которого для него – закон, и, в то же время, уверен в правоте собственной интуиции, говорящей ему обратное. Искар помолчал.
– А ты, как думаешь, Карал? – неохотно проговорил он затем. – Что подсказывает тебе твое знаменитое чутье?
– Я и без его подсказки знаю, что это не так. Человеческая кровь?.. Не больше, чем ее примешано к любому из вас. Но зато потенциал древней атлантской божественности в ней выше. Преклоняюсь перед твоей силой и мудростью, Владыка, но – ты спросил, и я ответил.
Карал на гиперборейский манер сложил ладони вместе и поклонился Искару. Тот стряхнул с себя задумчивость и кивнул монаху:
– Хорошо, Карал. Ты, как всегда, видишь невидимое и чувствуешь несказуемое. Богиня так богиня… Хотя я, по правде, не пойму все же: почему?.. Что в ней такого, чего нет, к примеру, у меня?
– У нее есть испепеляющая молния.
Ответ Карала был краток, но тему он исчерпал. После того, что видел Искар на ленте ближней памяти Хитро, он ничего не мог возразить своему собеседнику, – тем более что правду о племяннице он знал.
– И, тем не менее, приходится ее спасать, есть у нее такая молния или нет, – снова заворчал он, пытаясь таким образом прикрыть свои мысли. – Я тут вот что решил, пока мы с тобой беседовали. Ты, Карал, раз уж именно ты – а не я – имеешь опыт по «отдиранию» этой лапы, все проделаешь сам. И никаких возражений!
– Повинуюсь, Владыка, – снова поклонился Карал, но голос его сник.
– Что такое? – грозно сдвинул брови Искар. – Или ты думаешь, что твой Учитель уже ничего не понимает, и пошлет тебя на верную гибель? – Сверкнув на Карала длинным разрезом чуть приподнятых к вискам синих глаз, Искар сменил притворный гнев на милость. – Все будет хорошо, Карал. Ты даже не прикоснешься к Хистаре. Вот послушай, как мы это проделаем…
И он рассказал монаху свой план. После того, как Карал уяснил досконально свою долю участия в общих действиях, – а получалось это у него далеко не так быстро, как рассчитывал начинавший уже терять терпение Искар – он наконец коротко кивнул:
– Ладно. Я согласен.
Между тем, короткие его пальцы все шевелились, как бы тренируясь в предстоящей работе. И стоило того: риск был велик. Но и победа обещала превзойти все, что он совершил до этого в своей жизни.
Было неимоверно тихо. В помещении, не имевшем окон, Искар опустил между стенами специальные прокладки из сплавов металлов, не пропускающих излучений, пусть даже самых проникающих. На месте дверного проема тускло светилась гладкая серая плита.
Карал не смотрел за стеклянную перегородку. Он стоял, оборотившись к ней боком и, щурясь, вглядывался в живой экран, на котором не было ничего, кроме мелькающих разноцветных искр. Оба лекаря-мага только что приняли очищающую процедуру: душ, насыщенный излучениями. Их одежда была одинакова, – хламида, льняное мягкое полотно которой обезвреживало бактерии, называемые атлантами элементалиями. На Карале ее пришлось подвязать едва ли не вдвое: впервые человек надевал платье, скроенное на божественного отпрыска. Они стояли рядом в минуте сосредоточения.
Наконец Искар повернул голову и взглянул на своего помощника. Их глаза встретились, и каждый прочел во взоре именно то, чего и ожидал: готовность и уверенность.
Слова были не нужны. Карал поднял руки на уровень груди: Искар остался недвижим, – его орудием была мысль.
Черная рука, появившаяся вдруг на экране, – она жила. За время, пока шли разговоры и обсуждения, эта рука даже вроде как изменила свой оттенок: ее чернота, недавно еще бархатистая, похожая на налет сажи, теперь налилась красноватым оттенком. К тому же, она казалась уже не столь напряженной, – судорога в пальцах сменилась твердостью: рука з н а л а, что она держит…
…Карал легко вошел в тело атланта Искара, распахнутое ему навстречу. Теперь он видел глазами Искара, ощущал его нервами, чувствовал эмоциями атланта. Первые мгновения были самыми трудными, хоть он знал об этом и, казалось, был готов. Он едва устоял под огромным давлением качественно новой для себя энергии, – между тем как Искар притушил ее в себе, насколько это было можно.
Голова – чья же это голова? – гудела, словно колокол, в который бьют со всех сторон. Руки были тяжелыми и совершенно не желали подниматься. Карал потужился-потужился, затем бросил это занятие. И вдруг он почувствовал свои пальцы легкими и проворными, даже более умелыми и гибкими, чем обычно. Тут же рассеялась и мгла в глазах, – он увидел поле своей будущей операции.
Боже мой – вопрошал Карал про себя, тогда как руки его методично делали свое дело, – со мной ли Ты в этот, самый трудный час моей жизни? Некогда мне искать в полумраке своего сознания Твой светлый Образ. Но, если Ты покинул меня, – так ведь Ты оставил без помощи не меня, а ту Небесную Деву, которую Сам же и ниспослал на землю. Неведомы никому из живущих здесь, внизу, Твои замыслы. Не пытаюсь и я, скромный Твой служитель, которого Ты, неведомо за что, удостоил хоть малейшего приближения через великих Учителей человеческих, проникнуть в них. Но, если верно я понимаю то, что Ты позволяешь мне уразуметь, в эти минуты происходит нарождение истинное нового бессмертного божества в земной плоти. Проделай Сам, Боже Единый, посредством моего естества то, что Ты желаешь проделать в земном теле, как видимом, так и невидимом, этой невинной голубицы. Благодарю, Всевышний…
Моления Карала витали в неизведанных высотах, тогда как его эфирные руки осторожно и мягко освобождали нить за нитью лучи пораженного солнечного сплетения от уже начавших прорастать в них черных пальцев. Велика же была Сила, стоявшая за ним и его несвязными бормотаниями, если чернота все поддавалась, поддавалась его неслышным прикосновениям, – пока вдруг не истаяла враз совсем.
Но это было еще полдела, если не меньше. Главное было впереди: энергетический центр надо было привести в первозданный порядок. А это было потруднее, чем работа микроювелиров, собирающих трехпалубное судно в стеклянном наперстке!
Для начала Карал заделал отверстие в эфирном теле, стараясь не заглядывать самому в темноту астрала, зияющего в рваном проеме. Ему нравилось работать в тонком теле: стоило лишь подумать о том, что надо сделать то-то и то-то, как под руками все само собой и совершалось. Легче легкого было, по его мнению, исправлять все разрывы и устранять посторонние внедрения в материи этого вида, такой пластичной, поддающейся умелым рукам. К сожалению, Каралу и в голову не приходило в этой работе забыть про свои руки и довериться всемогущей мысли…
Впрочем, у него это было впереди, – в его духовной учебе. Здесь все было наготове, нужен был лишь некий толчок, который бы сам сдвинул его сознание на качественно новый уровень. Его мудрый наставник терпеливо ожидал этого, зная, как опасно бывает подгонять события.
Вот и готово!
Ан – нет. Карал поспешил обрадоваться. Маленькая черная точка, как раз в том месте, где в физическом теле желудок соединяется с печенью посредством трубки в двенадцать пальцев. Карал заделал и эту крохотную дырочку. Предчувствуя неладное, он решил понаблюдать, не прорвется ли снова здесь чернота.
О, эта точка была ему хорошо знакома! Излюбленное место вторжения темных, загрязняющих любой, самый чистый организм, энергий! Здесь – конец той самой эмоциональной ниточки, которая соединяет два полюса человеческих желаний: желаний низменных, эгоистических или попросту плотских, открывающих это отверстие в нижний астрал, и взвившихся ввысь тончайшими вибрациями чувств возвышенных. Открывает же в себе любой из этих каналов не кто иной, как сам человек, по собственному выбору. К печали Карала (и не только его), человечество, открыв для себя астральный канал, все увеличивает свое пристрастие к плотскому ублажению: тут и недозволенная еда в непомерных количествах, и секс, исказивший самое святое. А уж о питье – разговор особый… Не пугает человеков даже загрязнение печени, которая, как заградительный форпост, стоит на границе, стараясь не впустить вражеские орды в земное тело. Сдала, не выдержала печенка – пошло раздолье болезней по всему организму…
Взять хотя бы того парнишку: половое созревание, неправильное воспитание, которое должно в этом возрасте отвлекать, а не усиливать наплыв чувственных эмоций, неизбежный при избытке детородных гормонов. Слишком размечтался парень о какой-нибудь красавице и допустил в себя темного гостя, который не знает жалости: раз дорвавшись, он может истерзать человека до конца. Если, конечно, посвященный в Знание ему не поможет.
Тут Карал остановился. Как же так? Это ведь он размышляет о человеке и о теле именно человеческом! А перед ним – кто? Сам же сказал: богиня. Что же получается? Допустить, что богиня-девственница совершила нечто такое, что сумело прободать подобную защиту?
Карал беспомощно оглядел еще раз мелкоячеистую сетку, сверкающую багряными бликами, – она, казалось, предупреждала: не подходи! И такая заградительная сеть при том, что сам организм почти уже и не жив?!
Карал запросил помощи. В растерянности он позабыл о своем самом надежном прибежище, – молении, и обратился к ближайшему высокому сознанию – сознанию Искара.
…И в самом деле – подумалось ему вдруг, – что это я так отвлекся от главного? Все эти вопросы можно будет выяснить и потом, когда Хистара поднимется на ноги. Да и вопросов-то никаких нет. Видел же я, как она прикоснулась, во дворе храма, к священному бетилу. Не успел остеречь ее: девушке – нельзя… Тем более, девушке с нечеловеческой степенью чувствительности. Но причина не только в этом. Священное изображение может лишь поднять вибрации организма, открыть его…
Вот! Наконец все и сошлось. Открытие-то произошло сверху донизу. А тут, у черты нижних центров, обрабатывающих земные энергии в более светлые, для того, чтобы их можно было предложить выше, – только этого и ждал тот черный гость из ада, земной тени. А уж откуда он взялся, – ты прав, Учитель, я не должен спрашивать. Что? Испепеляющая молния?.. Да, это причина для ответного удара. Но ведь и она была законной защитой от нападения!..
Оба сознания слились в поиске пути спасения Хитро. Карал уже не различал, где его собственные мысли, а где он воспринимает мышление боготворимого им Учителя. В свою очередь, Искар вовсе не навязывал одаренному человеку готового решения, – он просто следовал мысли его и подправлял ее течение, когда это было нужно, в главное русло.
Если бы Каралу сказали, что он оперирует на ментальном плане, – он бы отверг это предположение как невозможное. В своей скромности этот труженик, вечный искатель Истины, не видел себя выше земли. А между тем, он давно и свободно работал именно в сфере умственной. Не всегда, конечно, это получалось достаточно уверенно, но сейчас, с помощью атланта Искара, его ментальные изыскания выглядели достаточно профессионально. Все решалось в эти минуты именно здесь, в умении правильно и убедительно обосновать случившееся с Хитро, понять как мотивы ее поступков, так и причины неожиданного появления черного гостя в ее ауре. Ментальные превращения ведь и состоят в том, чтобы проследить явление, выявить допущенные нарушения Закона или его искажения и постараться, непременно с соблюдением всех Правил, привести все в норму. Да будут благословенны понимающие это…
На мгновение Искар перевел взгляд на изображение физического тела. Как он и ожидал, ауры вокруг него не было. Даже голова, средоточие высших излучений, была темна и пуста без привычного глазу золотого венца круговой атлантской ауры.
Таинственная и неуловимая всякому взору аура…
Увидеть ее может только тот, кто и сам, хотя бы в начальной степени, духовно просветлен, чьи мысли уже не бродят, как на привязи, вокруг собственного тела и его потребностей, но делают вполне самостоятельные вылазки в сферу размышлений о материях высших. Закон о ментальных превращениях проявляет себя и тут: как только ты начинаешь обращать свою мысль на чтото, это самое «что-то» раскрывается вдруг, повернувшись единственно к тебе множеством прекраснейших граней. Так и с тайной видения ауры, которая, собственно, не что иное, как эфирное тело любого живого существа.
Собственно, оно само и есть то, что называют «жизнью», – жизненная сила в плотном теле. И, чем больше этой силы в организме, тем ярче и светлее его аура, тем шире ее видимый край, выходящий за пределы физической формы.
Отсутствие же хотя бы самой узкой светящейся полоски, обводящей тело, говорит если не об окончательном уходе из него жизненной силы, то уж наверняка о ее уменьшении.
Именно так и обстояло дело в случае с Хитро. Ее эфирная голограмма сжалась, как бы высыхая на глазах; похоже было, что она растворяется, – настолько размытыми стали очертания, обычно четко повтояющие формы физические. Жизнь, сама жизнь уходила из цветущего тела, – и никаких внешних признаков, ни единой причины, которая бы хоть как-то могла объяснить этот уход!
Надо сказать, что Искар дрогнул. Еще бы мгновение, – и он отказался б от помощи человеческого сознания, на почти еще животную приспособляемость которого к земным условиям он так понадеялся. Время уходило – его уже, считай, не осталось вовсе, – а Карал, между тем, все топтался на одном месте, не в силах решить эту задачу.
Как и было условлено между ними, Искар не вмешивался в действия на астральном плане. Он предоставил себя во внешней форме для того, чтобы его ассистент мог свободно прикасаться к естеству высшему, не боясь ответного удара в виде хотя бы той же «испепеляющей молнии». Однако теперь он решил размежеваться с ним и прибегнуть в лечении Хистары к верному атлантскому средству – божественному напитку, амброзии. Он уже собирался предупредить Карала, чтобы тот успел остановить свою деятельность (внезапный разрыв слитых сознаний может быть гибельным для слабейшего), когда вдруг неожиданно яркая мысль человека прорвалась в его сознание.
Я понял! – настойчиво билась высокой вибрацией эта мысль. – Мне дано навечно обезопасить человеческое тело богини от наскоков что-то уж сильно осмелевшего астрала. А раз так – то действия мои должны быть такими же, как всегда в подобных случаях. Ведь тело-то человеческое… Обычное. Ну, не совсем, конечно, обычное – такое тело будет иметь человек, когда он тоже пройдет, как и атланты, весь долгий-долгий путь совершенствования. Для этого же тела я не стану применять воск, как для какого-то селенского мальчишки. Я возьму золото, которое так любит наша Хистара…
Искар слушал это мысленное извержение, а руки, – его руки! – послушные воле Карала, уже умело и споро клепали аккуратную золотую заплатку на ауре атлантиссы. Вот неуловимое отверстие, вход для вражеских нашествий, уже и закрыто накрепко!
Но этого Каралу было еще мало. Слушаясь своего, одному ему слышного внутреннего повеления, он заставил Искара взять засиявший под его пальцами конец нити, проводящей в организм чувства и эмоции, и осторожно отвел его к сердцу девушки.
Искар не мог не отдать должное великолепному замыслу: это сердце, соединенное с Великим Мировым Сердцем, одно оно навсегда защитит Хистару от влияния губительного астрала. Что теперь?.. Пожалуй, можно и убрать руки, а, Карал?
Но Карал молчал. Искар осмотрел центры Хитро: ток пошел по каналам сразу же, как только восстановилась замкнутая цепь. Мощь его нарастала, – вот уже вращение «солнца» достигло обычного желтого канала, когда скорость его неотличима от неподвижности, за ним начал набирать обороты пупковый центр, дрогнул и медленно двинулся коренной…
Слава Единому – подумал Искар, и от сердца его разлилась по телу теплота, – знак того, что искренняя его благодарность принята. Хорошо бы сейчас полностью отдаться этому ощущению, как высшая награда, оно наполнит тихой чистотой все естество разом, но… Мысль о Карале не позволила расслабиться.
Все еще соединенный со своим могучим наставником в сознательное целое, Карал стоял на месте, хотя и покачивался слегка. Осторожно уложив его, как и Хитро до этого, на воздушную подушку, Искар проделал необходимое, – это было не так уж сложно.
Вдруг кто-то тронул его за плечо.
– Что с ним, дядя Искар? – услыхал он.
Искар, не оборачиваясь, бросил мимолетный взгляд на стеклянную перегородку – она была невредимой – и кратко ответил:
– Перенапряжение.
Он был все еще занят обособлением в прежних границах сознания Карала. Хитро, почувствовав важность момента, замолчала. Наконец Искар отошел к пульту управления и набрал программу. Стекло двинулось, освобождая проход, по которому в стерильную кабину, где распоряжались автоматы, послушный велению атланта, вплыл спящий человек.
– Ну вот, пусть он теперь отдохнет от нас, – усмехнулся Искар, – восстановится в своем человеческом виде. Не шутка ведь: творил богиню!
– Зачем ты повторяешь его слова?
– Чтобы ты отнеслась серьезно к ним. У человеков ведь свой подход к теме божественности. Они безошибочно чуют высшее, пусть оно даже заключено в тела, им подобные. Отсюда их безоговорочное почитание и послушание, которых невозможно добиться никаким приказом.
– Если так, то откуда у них это предпочтение низшей силе? Они ведь не делают различия между подземными богами и нами, – а ведь мы – от Неба…
– Не торопи их. Сами разберутся. Но в основном ты права: в этом смешении и коренится вся проблема. Сейчас, когда в них все более проникает своими эмоциями астрал, – их не удержишь от этой двойственности.
– Но ведь неудержимые страсти – это как раз то самое, что усиливает наших антагонистов. Темперамент, дошедший до степени необузданности, – разве не он явился внутренней, то есть истинной причиной краха атлантов Каци? Кто теперь разберется, – титан ли Прометей виноват в том, что открыл подопечных им человеков не с того конца, или же сами Каци, допустившие в себя низшие чувства? Ведь в горниле внутреннего огня атланта все усиливается до предельной степени. Как светлое, так и темное.
– Ты права, Хистара. Тот черный огонь, который вырвался тогда из-под контроля – результат прорыва подземного астрала, чрезвычайно усилившегося в то время. Невежи будут искать лишь внешних причин Катастрофы. Землетрясения, подвижки земной коры, сдвиг полюсов… Они также не появляются на пустом месте: что-то должно же их породить! А такая крайняя вещь на материальном плане, как распыление целых материков или хотя бы их оснований – она уж конечно, останется за пределами их понимания. Потому что неизвестно, когда еще человеки осознают силу Вселенского Огня, двуединого в своей сути…
– Но ведь сейчас, – не идет ли все к тому же? Выходит, мы поощряем поклонение человеков демоническим, низшим сущностям, да еще сами склоняемся к общению с ними. Так ли это безвредно, дядя Искар?
– Спроси чего полегче, умница моя. Все так, как ты замечаешь, но на эти вопросы нет ответа. По крайней мере, у меня. Кто знает, может так надо?..
– Как это может быть «надо», когда Закон гласит, что эволюция мироздания тяготеет к полюсу света, положительному направлению ее движения? А катастрофа – это ведь зло!
– Может быть это так, а, может, и иначе. Ты забываешь о том, что целью эволюции является направить Свободную Волю, то есть добровольное и вполне сознательно совершаемое действие любого существа, одаренного способностью мыслить, именно к этому полюсу. Времени, по земным меркам, на это свершение отведено достаточно, Единый не торопит никого. Что ж, мы здесь, на Земле, все ошибаемся, – не будем сваливать всю вину на одних человеков. Если бы они могли пойти с самого начала по прямому пути, нам, атлантам, нечего было бы здесь делать. Да, поначалу, наверно, все казалось проще: пришли, взяли за ручку, повели, научили всему, что знали. На деле же – сами и поддались очарованию ощущений, которые может предоставить одна только плоть.
– И это говоришь ты, Учитель человеков?
– Надо же кому-то и правду выговорить в пространство. А то все живем прошлой славой и чистотой, которой уж давно нет. Да и говорю я это не кому-нибудь, а Хистаре, получившей сегодня свое рождение в божественном, неуязвимом теле.
– Так уж и неуязвимом…
– Все будет зависеть от тебя. Но ты знаешь Закон: самопроизвольно ничего не происходит. Так и с тобой… Ты все видела сама.
– Да, видела. Я вышла менталом из тела еще там, у храма. Все понимала лучше, чем здесь, сейчас, но повлиять ни на что не могла. Настолько крепка граница между наземным и надземным. К тому же, ты попрежнему не желаешь использовать свое ясновидение, дядя Искар. Не слишком ли ты полагаешься на аппаратуру, которая бездушна?
– Зато объективна. Но не будем об этом. У каждого свой путь. Мой – именно таков. Подумаем лучше, Хистара, о тебе. Ведь ты в эту минуту, действительно, как наново родилась на Земле. Все, чем ты жила до этого, ушло в прошлое, и ворошить его незачем, не так ли?
– О, как ты верно все понимаешь! Я чувствовала это, – иначе зачем бы мне так спешить именно к тебе, дядя Искар!
– И какой помощи ты ждешь от меня?
Хистара слегка пожала плечами. Ее ответ был неожиданен для Искара:
– Возьми меня к себе, дядя.
– Это в каком же смысле? – спокойно отреагировал мудрый атлант.
– Вот так, как есть: чтобы я жила возле тебя, училась у тебя. Работала бы с тобой наконец. Если ты этого захочешь, конечно. Как оказалось, я ничего не понимаю в практической жизни. Видно, засиделась в своей башне…
Искар опустился в свое вращающееся кресло и отвернулся от девушки, лицом к пульту. Нажав наугад клавишу, он разглядывал, не видя, таблицы, которые мелькали перед ним на экране, не зная, может быть, впервые в жизни, что отвечать.
Несмотря на неисчислимые года, прожитые им на планете, Искар имел внешность молодого и очень привлекательного мужчины. Атланты все имели эту особенность, – выйдя из детского, затем юношеского возраста, возмужав, они не менялись более. Пожалуй, отличить юношу от зрелого мужа помогала лишь брызжущая весельем порывистость первых и мудрая уверенность в движениях и глазах – вторых.
Отдавшись науке, Искар вовсе не обрубил своих контактов с сообществом атлантов. Более того, его поприщем, похоже, становилась чуть ли не вся планета: так диктовали условия жизни, которые развивались все чаще совершенно непредсказуемо. И все же он имел некую особенность, если не ставившую его отдельно (потому что это была особенность атлантов прежней формации), то уж, во всяком случае, отличавшую его от других неуловимым налетом странности. Этот красавец с телом, тренированным на игровых площадках Атлантиса, и золотыми кудрями, которым могла бы позавидовать любая девушка (когда б он не стриг их так коротко), атлет, от которого так и веяло молодой силой и мужественностью – игнорировал телесные контакты в любых видах. Секса для него, казалось, не существовало вовсе…
Да, Искар продолжал исконную линию, которая предлагала поддерживать гармонию в самом себе путем Высших Начал, приведенных в полное равновесие. Впрочем, это относилось к эмоциональной жизни неземного порядка, и потому было, увы, недоступно более многим атлантам. Особенно повлияла, надо сказать, на всю их сферу чувств женитьба их духовного водителя, царя Родама, на прелестной, но вполне земной Тофане, в которой человеческая натура значительно преобладала над божественной. Недаром чистоту атлантского рода принято было наблюдать по происхождению матери: именно мать формирует своими соками и частицами тело своего будущего дитяти…
Да, с этим браком все вроде бы опьянели, кто больше, кто совсем слегка. Настолько велика была сила влияния царя, в духовное ведение которого отдавалась общая аура его подданных, что хмель плотских вожделений, удушающе сильно исходивший от царицы, возымевшей над супругом, посредством обряда, непререкаемую власть, распространился повсеместно, охватив туманом сверчуткое естество атлантов.
Лишь самые сильные, а их оказались единицы, устояли перед этим духовным нисхождением. Хотя сделать это, в общей круговерти Желания, низведенного в область секса, было не так просто. Был в этом небольшой (или огромный) секрет, знание которого позволяло хранящим его завет оставаться изначально чистыми, несмотря на рождение ими детей. Секрет этот ведали все атланты, но соблюдение его оказалось слишком трудным. Тем более после того, как последовал пример самого царя, увлекший за собой всех, готовых к нисхождению…
Среди немногих устоявших был и Искар. До сего часа он надеялся, что и племянница его Хистара, несмотря на то, что жила она под бесовским именем Хитро и окружена была в повседневной своей жизни такими соблазнами, которых сам Искар и не видывал, принадлежит к этой когорте избранных, для которых жизнь не кончается с пребыванием на Земле. И вот теперь… Неужели он ошибся?..
– Что же ты молчишь, дядя? – прервала его раздумья Хитро. – Разве я так много прошу? Мне нужно для себя очень мало, вот увидишь. Только одну мою просьбу попрошу тебя исполнить: не пытайся никогда выдать меня замуж…
У Искара отлегло от сердца. Старый глупец – корил он себя, – который позволяет называть себя мудрецом! Как он мог подумать, что это чистое создание чуть ли не преллагает себя ему в жены! И хорош бы он был, вздумай открыть рот еще минуту назад! Слава Единому, что девушка его опередила!
Может быть, и права была Хитро, предлагавшая своему достойному во всех отношениях дяде не отвергать такого бесценного дара, как ясновидение (под одним этим словом, кстати, подразумевалось все мироощущение на планах видимом и незримом). Обратись он сейчас к нему, и не пришлось бы ему впадать в заблуждение насчет планов своей родственницы. Между тем, она поступила именно так – открылась чувствам Искара – и благодаря этому смогла вовремя поставить все на свои места.
– Об этом можешь не беспокоиться, – все еще не оборачиваясь, с готовностью ответил Искар, – я сам такой, любитель неограниченной свободы. Меня занимает другое.
Он поднялся наконец от своего пульта и, все еще не глядя Хистаре в глаза, продолжал:
– Ты привыкла жить в обычной для нашего рода роскоши. Не прерывай меня, я знаю, что говорю. Это тебе только так кажется, что для повседневной жизни такой девушке, как ты, нужно очень мало. Да и стоит ли ограничивать себя в этой жизни дополнительными и ненужными трудностями? Я говорю о всяких мелочах быта, о которых ни одна атлантская женщина не должна думать. На то есть другие…
– Ты считаешь это в порядке вещей?
– Несомненно. И порядок этот, кстати, установлен не нами. Сознание, сумевшее подняться до поисков Истины, а затем и абстрактного ее осмысления, не должно отвлекаться ничем низменным.
– Как же быть тогда? – Хистара улыбалась, и видно было, что она чуть подтрунивает над дядюшкой.
– Придерживаться в этом, как и во всем остальном, каждой буквы атлантских законов. В них предусмотрено все. И не отступи мы от них уже давно, кто знает, скольких бед удалось бы избежать всем! И человечеству в том числе.
– Согласна с тобой в том, что это малоприятное занятие, – копаться в чисто земных заботах. Требовать идеальной чистоты в быту – это мы все мастера! Но вот самим поддерживать ее… Ты прав, дядя, я не смогу быть служанкой самой себе, если ты это имеешь в виду. И еще более ты прав в том, что не мне, изнеженной выскочке, недоучившейся в свое время, приближаться теперь к науке. Но неужели мне остается только отдаться под надежное крылышко какого-нибудь супруга? Конечно, он будет заботиться о том, чтобы у меня имелся полный набор обязательных в быту вещей, и за это потребует малейшей платы: всего лишь безропотного подчинения ему. И заметь, ему будет мало подчинения физического. Он потребует, чтобы я приспособила и свое сознание к его сонному умишку!
– Остановись, дитя мое! – прервал ее Искар. – Ты ли это, или тебя подменили? Где ты нашла, в каком страшном сне, подобные образы?
– К сожалению, именно таким становится теперь супружество, дорогой дядя. К сожалению, об этом узнаешь лишь тогда, когда столкнешься вплотную. До этого все скрывают.
– Вот как… Я, действительно, как-то далек от всего этого, знаешь ли… Но это ведь отвратительно! Катастрофа ждет нас и с этой стороны. Куда ни глянь…
– Не отчаивайся, дядя. Так легко мы не сдадимся!
– Умница, детка! Но нас мало.
– Если одного считать за тысячу…
– Пожалуй, ты права. И все же, возвращаясь к твоей просьбе, предлагаю нечто иное.
– Не представляю, – насторожилась Хитро.
– Жить здесь, в монастыре, ты не можешь. Это место населено мужчинами, а никто еще не отменял этого неравенства, насколько я знаю. И хоть помещения отдельные у каждого, но все равно энергии разноначальные смешивать в быту нельзя. И не спорь: это тебе не семья!
– Не томи!
– Возвращаться тебе некуда, – все размышлял Искар, который, действительно, не имел представления, что же делать с этой девушкой, свалившейся ему, вот уж поистине как с неба на голову.
– Можно бы приобрести для тебя тихий дом в предместье. Но ведь это опасно, пожалуй!
– Неужели ты понял, дядя?..
– Ты еще и непочтительна, ко всему. Так что же, определить тебя в семью кого-нибудь из близких?
Хитро отрицательно покачала головой.
– Зачем рисковать еще кем-то? Найдут ведь…
– Есть одно надежное место. Самое надежное для тебя сейчас: стены там высотой в стадию. И охраняются как надо. Не догадываешься? Я говорю о Храме Невест.
От Искара не укрылось, как вздрогнула Хитро.
– Что я там буду делать, дядя? – с печальной улыбкой ответила она. – Сидеть взаперти и читать их глупые молитвы?
– Не говори так, дорогая. Каждый обращается к Небу по своему уровню сознания. Только бы обращался…
– Я надеялась, что ты позволишь мне работать с тобой. Мне надо учиться. Я ведь потеряла так много времени!
– Что-то говорит мне: твой путь иной. И последние события подтверждают это. Так что готовься к большим переменам в своей судьбе. В тебе открываются огромные силы, – это неспроста. Надо ли торопиться?
– А знания? Что, кроме общения с себе подобными, даст мне возможность Знать, что ответит на мои вопросы?
– Все придет. Не само собой, не сразу, но придет. И путем самым неожиданным для тебя, естественным. Тебе останется только осмысливать каждое новое явление, которого ты достигла.
– Как это?
– Вот скажи мне: ты обдумала уж то, что произошло с тобой и теми двумя?.. Например, откуда ты взяла ту молнию, которая сожгла беса?
– Сама не знаю… Все получилось как-то непроизвольно. Я только успела почувствовать угрозу, причем особенную какую-то. Затем помню длинную дрожь, охватившую мое тело. Дрожь, которая все никак не желала утихнуть.
– Ты испугалась?
Хитро спокойно вскинула на собеседника длинные глаза, опушенные загнутыми ресницами:
– О чем ты, дядя?
– Все правильно. Атланты не ведают, что такое страх. Ведь он – достояние темного астрала. И, тем не менее, ты допустила в себя смертельно опасного гостя. Почему? Что ты сама об этом думаешь?
– Действительно, надо разобраться… Молния, как ты ее называешь, исторглась из моей руки сама, определенной мысли об этом у меня не было. Значит, это законная самозащита ауры. Тут придраться не к чему, правда ведь?
Искар утвердительно кивнул.
– Однако эта молния все же на какое-то время обесточила меня: слишком велик оказался выброс энергии, да еще наивысшего напряжения. Автоматического воспроизводства такой затраты не бывает, это всем известно. Нужно было немедленно обратиться за помощью… – Хитро замолчала.
– Ты сделала это? – потребовал ответа Искар.
– Нет… Но как же я могла забыть об этом, дядя Искар? Я, которая не отрывалась от Общения всю свою жизнь? Ведь только этим и можно объяснить то, что я выстояла до сего дня в постоянном и близком общении с человеками!
– Ты забыла о наших извечных противниках, укрывшихся в тени и потому как бы незаметных. Они не упускают ни малейшей возможности нанести по комунибудь из нас удар. Как только мы начинаем думать, что неуязвимы в собственной высшей силе, мы тут же ослабляем себя этой самоуспокоенностью. И коварство «их» в том, что первым делом покрывают они мглой разум, допустивший это. Затемненное же сознание и не вспомнит, что надо осветлять себя, поднять свои вибрации, обратившись к Высшему. Потому ты и забыла…
– Выходит, я отвергла Руку Помощи? – Можно сказать и так.
– И ведь даже сейчас, не понуди ты меня к анализу, я бы и не вспомнила о самом нужном. Будет ли мне прощение?
– Ты знаешь, что осознанием ошибки мы заслуживаем того, что ее последствия как бы сглаживаются. Или даже стираются вовсе, – но это уже редко.
– Как же теперь?!
– Не надо бичевать себя. Осознала, сделала выводы – и живи дальше; только обещай себе не повторять ошибки. А стенаниями ведь не исправишь ничего!
– Благодарю тебя, дядя. Я словно начинаю прозревать наново. Позволь, раз уж тебе довелось возвращать меня к жизни, рассказать тебе и еще кое о чем, произошедшем со мной сегодня.
– Не слишком ли много для одного дня?
– Что ж, зато предыдущая жизнь была вовсе без всяких событий.
Она задумалась.
– Что остановилась? – напомнил о себе Искар.
– Не знаю, как и сказать об этом…
– Наши женщины не знают в беседе запретных тем. Впрочем, если есть сомнение – отложим до другого раза.
– Нет, тут дело не в сомнении, – она отошла к пульту и начала в рассеянности гладить клавиши белыми тонкими пальцами. – Одним словом, я сегодня, кажется, потеряла свою знаменитую девственность.
Искар окаменел. Что же это такое?! Что за день такой безумный? А он уже было решил… Вот тебе и богиня!
– Ну и что в этом особенного? – только и нашелся сказать он.
Хитро быстро повернулась к нему.
– Ах, ты не понял, дядя, – живо проговорила она, и улыбка тронула ее изогнутые (как у всех Сварожичей, – подумал Искар) губы. – Тело мое нетронуто. Но в духе…
– Вот как, в духе! – успокоился Искар. – И как же это тебе пришло в голову назвать подобное явление потерей девственности? Ты что, не различаешь одно от другого?
– Не сердись, дядя, а то я не стану продолжать.
– Действительно, что это я?.. Продолжай, родная. И прости старого глупца.
– Но какой же ты старый, дядя? Посмотри на себя сам: моложе тебя и не бывает.
– Да вот ты все «дядя» да «дядя»…
– Если разрешишь, буду звать тебя просто по имени.
– Почему бы и нет?..
– Ну вот, Искар. В том моем истощенном состоянии я сделала еще одну ошибку: не оделась, как это предписано канонами для наших женщин, выходящих в смешанную жизнь. Я помнила только одно: мне необходимо поскорее найти тебя, потому что только ты смог бы помочь мне…
– В чем?
– Об этом я не думала, как и вообще ни о чем. И почему-то чувствовала какой-то подъем. Однако не такой, как обычно, спокойный, ровный, а другой…
– Когда все раздражает, все не по тебе…
– Ну да! И тут я увидела, подойдя ко храму, бетил. Ты знаешь, как я обычно отношусь ко всякого рода материальным символам. Но в тот момент что-то вдруг толкнуло меня подойти к нему.
– Понятно. Не мучайся! Ты прикоснулась к бетилу – и получила давно уже причитающийся тебе заряд Мужской энергии.
– Как все просто, – сникла Хитро.
– Да нет. Не так и просто. Это в физической жизни все проще простого. А тут… Не знаю вот, по-прежнему ли ты сильна в Космической теории, или давно все забыла?
– Кое-что помню.
– Принцип двух Начал, Мужского и Женского, например?
– В самых общих чертах…
– Придется обновить. Этот принцип, как ты догадываешься, существует не только на Земле, – ведь все устроено в мироздании подобно и соответственно Основному Идеалу. Не будем сейчас вдаваться в детали. Охарактеризуем лишь сами эти энергии, взаимодействием которых создается все, от мельчайших частиц до грандиозных планетных систем, и так до Бесконечности: в одну ли, в другую ли стороны.
– Ты со мной уж совсем как с начинающей, – отвернулась Хитро.
– Хистара! Повернись ко мне и слушай!
– Извини, Искар.
– Вот точно так же, как я ввел в тебя сейчас импульс определенного действия, так же точно мужская энергия в своем принципе понуждает энергию женскую к творчеству.
– Выходит, если я родилась женщиной, то мой удел лишь принимать и выполнять чьи-то приказы без рассуждений?
– А ты думала?!
– Но я с этим не могу согласиться. Что тогда?
– О, здесь и начинается самое интересное. Два Начала – это всего лишь сам принцип. Но в действии, повсюду в жизни, он проявляет себя очень необычно.
– Так Закон это или нет?
– Закон, дорогая. Незыблемый Закон. Который состоит в том, что Мужской Принцип направляет врожденную энергию к Женскому Принципу, запуская в действие творческие процессы. Ты должна быть довольна: Женский Принцип – это именно то, что совершает активную работу.
– Ты хочешь сказать…
– Я был уверен, что такая умная девушка, как ты, поймет все с полуслова.
– Напротив. У меня все запуталось в голове. То неописуемое ощущение, которое объяло и пронзило мое сердце… И при чем здесь каменный бетил?
– При том же, при чем каждый символ священной идеи. Можно было бы изобразить Всемогущий Созидающий Принцип в любом виде, лишь только условиться о его внутреннем содержании, и воздействие было бы тем же, уверяю тебя. Ты знаешь, что нам, атлантам, никакие символы или бетилы не нужны. Но человеки, – они воспринимают любую отвлеченную идею легче, если видят ее изображение, осязают его пальцами. Тогда эта идея для них становится действительно существующей и не требует себе никаких иных доказательств.
– Но я, – я ведь не человек… И, однако, я испытала такое, о чем до физического прикосновения к этому заостренному куску базальта я не могла предполагать. Хоть то, о чем ты сейчас говоришь, безусловно, знакомо мне по курсу Академии.
– Видно, пришло твое время, Хистара, – мягко улыбнулся Искар. – Не забудь только, что оба Начала недееспособны одно без другого. Поэтому в совершенном организме оба Принципа и совмещены. Но эта – величайшая из тайн…
– Надеюсь, ты не имеешь в виду тех несчастных, которые несут в своем теле признаки обоих полов?
– Зачем же так! То, о чем ты говоришь – уродство, искажение генетического кода. И, как любое уродство, должно быть изъято из воспроизведения. Недаром племена, в которых начинают рождаться неполноценные дети, вырождаются, сходят с лица Земли. Освобождают место, скажем так, для нового, более приспособленного к изменившимся условиям, рода.
– Как жестоко, – тихо сказала Хитро.
– Да. Но что поделать? То, что кажется злом для отдельного индивида, в перспективе всего человечества видится движением к совершенству. Смотря как подходить к этому вопросу.
– Теперь я понимаю, почему нас, атлантов, так опасаются человеки! Мы для них – бесчувственные великаны, да и только. Боги, испепеляющие их…
И она закрыла лицо руками, вспомнив о своем недавнем поступке. Искар сочувственно смотрел на нее.
– Вот ты и поняла, – тихо проговорил он, – что не на всякую защиту мы имеем право, хоть она и считается законной. Тот Закон, выше которого нет, – он внутри каждого. И это является величайшим чудом. Жаль, что его – это чудо – не замечают.
– Никогда, – подняла голову девушка, – никогда больше я не использую своего Огня на убийство. Ты прав, Искар, очевидно, я испугалась, хоть и не знаю до сих пор, что это такое. От кого я защищалась? От этого неразумного, которому приказали пленить меня? И что бы они могли со мной сделать? Со мной, которая может проходить сквозь стены?.. А что, кстати, я еще могу, Искар?
– Узнаешь сама, дитя мое. Разве я могу рассказать тебе, принявшей могущество, равное царскому, о твоих истинных возможностях?.. Ты, Хистара, единственная дочь моей сводной сестры, осознала сегодня, не на словах, а на деле, что это значит, – быть дочерью Бога на Земле. И тем осчастливила мое сердце, живущее радостями неземными. В добрый час, родная, иди. Я всегда с тобой!
– Благодарю тебя, – Хитро вдруг улыбнулась. – А куда идти-то, дядя?
– Как куда? Разве я тебе еще не сказал? – ответил Искар, между тем как пальцы его порхали над клавишами пульта. К Гермесу пойдем. К кому же еще? Вот отыщем его сейчас и двинемся с высшей помощью…
Но Хитро вдруг вся сжалась. Предчувствие близкой беды заставило ее закричать. И как раз в тот момент, когда на осветившемся экране появилась кудрявая голова Гермеса. Он хмуро смотрел куда-то мимо Искара, – на Хитро, и молчал. В этот момент стены монастыря качнулись.
Землетрясения не были в новинку для обитателей Посейдониса, давно уже ставшего островом. Его материковая основа помогала всем чувствовать себя вполне уверенно, несмотря на качки и вздрагивания поверхности. Однако этот удар выходил из ряда обычных…
Хитро крикнула Гермесу:
– Беги, Герму! Взлетай, если можешь! Где бы ты ни был сейчас, – торопись к брату Родаму! Он в большой опасности…
Обменявшись взглядом с Гермесом и уловив несколько его слов, Искар отключил аппаратуру и, подхватив Хитро, уже собирался вывести ее наружу. Как вдруг она, вытянув белую руку, указала на перегородку, за которой безмятежно спал Карал.
Мысленно обругав себя, Искар для скорости стал искать наощупь запор, открывающий вручную стеклянную стену лечебного отсека. Хитро молча наблюдала за ним.
– Иди отсюда прочь, Хистара! – приказал он. – Будь осторожна и ожидай меня…
Вдруг Хитро, будто и не слыша его слов, подошла к довольно толстой стене и, даже не приостановившись, прошла сквозь нее. Вибрации, низким гудением наполнявшие помещение, – что они значали для нее?..
Она выключила приборы, просто лишив их питания.
Выкатила одним движением стол, на котором протирал глаза Карал, не успевший даже подняться, – и приостановилась перед непробиваемым стеклом. Искару было интересно, как же проведет девушка вместе с собой еще и материальный предмет? Это было невозможно по всем законам, коих такой знаток был Искар.
Но Хистара поступила столь же просто, сколь и остроумно. Не задумываясь, она приподняла одной рукой всю объемную массу, оказавшуюся вдруг почему-то совершенно пластичной (видно было, как она собралась в толстые складки), и стол как бы сам собой вытолкнулся на другую сторону.
– Поднимайся! Хватит спать! – строго и внятно сказала она пялившемуся на нее с удобной лежанки пациенту и для наглядности вытряхнула его на пол. Найдя взглядом Искара, она кивнула ему и побежала к выходу.
Вторичный удар настиг всех троих уже на воле, когда они вбежали на монастырскую лужайку для игры в мяч. Карал обернулся.
– Смотрите! – крикнул он, не скрывая ужаса.
На земле ощущение толчка было не таким заметным: она, матушка, все уходила и уходила из-под ног, словно при неровной езде на движущейся ленте, – точно так же хотелось соскочить на твердую почву. Но, взглянув туда, куда указывал палец Карала, атланты поразились: монастырь, огромное, в девять высоких этажей, и протянувшееся в три собственных высоты, здание, весь как бы извивался. Сложенный из массивных блоков белого известняка, неподъемных для любого количества человеков (это уж Карал знал доподлинно), он, безусловно, нес в себе точный рассчет гениальных зодчих и не мог развалиться в никчемную груду камней, пока под ним не разверзлась сама земля. И все же, впечатление было угнетающее…
Какая-то неопределенность, ожидание смертельной опасности, которая может подстеречь и настичь в любое мгновение, невозможность предугадать и избежать ее – вот что было, пожалуй, хуже всего.
На лужайку постепенно сходились монахи, а некоторые и сбегались, – они отличались от прочих лишь каймой из пары голубых полос на подоле хламиды: одной широкой и второй поуже. Служилый народ из человеков для нужд монастыря и его обитателей, занятых всецело науками, жался отдельной кучкой на краю поля; Карал с состраданием взглянул на них: сам, в силу устройства своего организма, приспособившийся к общению с атлантами без видимого вреда для себя, он прекрасно знал, что значит для человека страх перед атлантамиполубогами, которые могли походя, сами того не желая, уничтожить каждого из них. Особенно, если ты согрешил и не покаялся своему лукумону… А кто в человеческой жизни свободен от греха?
Впрочем, сейчас эта опасность как-то отошла на задний план по сравнению с главной бедой – землетрясением. Податься больше было некуда; тут же, по крайней мере, эти боги что-нибудь да придумают.
Хитро уловила взгляд Карала и, что было внове для нее, отблеск чистого человеческого чувства в нем. Ей захотелось поддержать своего спасителя, и она мягко обратилась к нему.
– Карал! – позвала она, и тот с готовностью повернулся к ней, впрочем, он тут же опустил голову: ни один человек не мог выдержать взора атланта.
– Слушаю тебя, о Светлейшая! – торжественно провозгласил он, сложив ладони вместе.
Хитро помолчала. Затем она все же продолжила, решив, что не должна запрещать этому человеку называть ее так, как он считает для себя приемлемым.
– Благодарю тебя, любезный моему сердцу человек. Ты помог моему возрождению в земной жизни, рискуя своею. За это отныне и до веку, ты сам, Карал, и твое потомство, будете находиться под моим покровительством. Запомни это.
Искар, невольно услышавший эти слова, не удивился ни их возвышенному складу, ни чуть звенящей, металлической нотке, прозвучавшей в них. Он с удовлетворением констатировал, что богиня вступила в свои права и полностью справляется с ролью. Карал же, – он так и застыл в полупоклоне. Упасть ниц перед божеством ему не позволяло лишь опасение, что это не понравится Хистаре. Она, между тем, спешила закончить свою тираду:
– Есть ли у тебя заветное желание, Карал?
Тот в растерянности поднял голову. Искар, опасаясь, что его помощник истратит подарок судьбы на какойнибудь бытовой пустяк, уже хотел его опередить, – как вдруг Карал, темные глаза которого загорелись в предчувствии исполнения давней мечты, воскликнул:
– О да, Сиятельная! Даруй мне возможность преодоления силы тяжести!
Хистара прикоснулась кончиком своего большого пальца к его средостению энергий, расположенному точно между бровей, – и быстро отвела руку, зажав чудодейственный палец в кулаке: она опасалась превысить допустимую дозу огня. Ведь Карал был все же человеком, хоть и продвинувшимся в своем развитии.
– Будь по-твоему, – сказала она. – Закон гравитации подчинен тебе, Карал, ибо ты осиян теперь Законом более высоким. Но не забудь: пользоваться высшими дарами можно только во благо! При том, что личное благо надо оставить на последнем месте, то есть позабыть о нем…
– Благодарю тебя, Иштар Великая, – неожиданно на свой, привычный ему, говор перевел имя возрожденной им же самим богини Карал, – владей и ты моим достоянием во все дни и ночи, в любое мгновение моей жизни!
Искар все же вмешался, дабы пресечь уже начинавшееся беспредельное почитание новой человеческой богини, которое могло бы завести Карала невесть куда.
– Теперь ступай, Карал, – вернул он на землю воспаривший было разум своего ученика, – приведи в чувство вон то человеческое… – он чуть было не сказал «стадо», что было бы, кстати, верным в тот момент, – …сообщество. Успокой их, насколько сможешь, и пусть до конца дня не расходятся отсюда.
– Почему, Учитель? – тон Карала, обращавшегося к Искару, был заметно иным, чем к Иштар. – А мне как раз показалось, что надо их отправить по домам. Ведь каждый беспокоится о своей семье. У всех дети…
Искар об этом и не подумал.
– Поступай, как знаешь. Тебе виднее, – не стал он спорить. – Я думал об их безопасности: уйдут в город, а там могут начать рушиться дома…
Вслед за своими словами он и сам понял, насколько прав был Карал. Он обратился к Хитро:
– Побудь тут, Хистара. Пойду взгляну на экране, что делается в Атлантисе.
– Зачем же тебе ходить, Искар? – ответила ему вдруг побледневшая Хистара. – Если хочешь, я тебе покажу все и без всякого аппарата. Прикрой только на время глаза и не выпускай своего видения дальше собственного третьего глаза.
И Искар увидел…
Цитадель была в порядке. Монументальные дворцы ее и храмы нисколько не пострадали, – казалось, что никто из ее обитателей и не почувствовал подземных толчков. Предместье Зумрад, похоже, также продолжало жить своей жизнью: разрушений не было видно нигде. Искар хотел уже было восхититься мастерством Великих Каменщиков – построенное ими, действительно, способно было выдержать все катаклизмы, – как вдруг все существо его словно бы пронзилось множеством стрел и пик, неизвестно откуда взявшихся. Оглушающие удары по голове и всем остальным частям тела, непрекращающиеся крики о помощи, стоны раздавленных осыпавшимися постройками, – все это слилось в его ушах в один вопль, полный невыразимой муки. Этого невозможно было вынести. Искар открыл глаза: больше его никакими просьбами нельзя было заставить закрыть их.
– Что?! Что это? Что ты сделала? – срывающимся голосом произнес он, обращаясь к Хистаре. – Отвечай сейчас же!
Хитро внимательно глядела на него. Во взгляде ее, он был уверен в этом, проскальзывала усмешка.
– Я только показала тебе то, что ты увидал бы и на своем экране, – спокойно ответила девушка. – Извини, но я не могла знать, что твоя реакция будет такой сильной.
– На своем экране я видывал вещи и похуже тех, что видел сейчас, – Искар все еще бурно дышал, – однако никогда – слышишь, никогда! – я не проникался такой болью. Не делай этого больше, Хистара. Это может и убить.
– Хорошо, Искар, я скажу тебе, в чем тут разница. Твоя аппаратура, показывая тебе все, что тебя интересует, отсекает от твоего восприятия главное: чувства и эмоции, исходящие от каждого, кто мыслит и действует. Потому ты и воспринимаешь все, что видишь на нем, так отстраненно: ведь все происходит с кемто, кому ты абстрактно сочувствуешь, но не с тобой же. Ты даже готов прийти на помощь, ибо в этом твой генетический, если хочешь, долг. Но я, Искар, я подключила тебя напрямую, ввела в события как непосредственного участника. Прости, если превысила меру твоих сил. Но я сама теперь переживаю непосредственно. И, не покажи я тебе этого воочию, ты бы никогда меня не понял.
– Я благодарен тебе, дорогая, – сказал, после недолгого молчания, Искар. – Конечно, я не решусь больше повторить этого опыта! Но зато я теперь знаю, что это такое – быть человеком, беспомощным перед стихиями. И можем ли мы тут чем-либо помочь, – затрудняюсь сказать…
– Пока что наша помощь должна выразиться в самом простом виде: надо идти туда и спасать тех, кого можно спасти, успокоить по возможности их разум, смятенный этим сильнейшим подземным выбросом. Собери своих монахов, пусть потрудятся.
– Ты права, Хистара, – в голосе ее дяди слышалось удивление, смешанное с почтением. – Ты знаешь, я передам это всем, как твое, великой матери Хистары, повеление.
– Матери?.. О чем ты?
– Вот оно и сказалось, твое недавнее восприятие энергии Высшего Потенциала. Будь ты обычной земной женщиной, неспособной к иному, ты бы восприняла Его лишь физическими органами, этот позыв к активному действию, – и зачала бы дитя. Но, такая, какой ты создана, с неприятием плотской чувственности, ты удержала в себе этот Импульс и передала его выше, в открывшиеся для полноценной работы головные центры. Это и называется словом «Матерь». Матерь земных детей – земная женщина, но Матерь, породительница мыслей, которые ведут к их воплощению через возвышенные чувства – это уже земная богиня. Ты, например, Хистара. Осознай же всю ответственность перед нами: ведь отныне ты оплодотворишь всякий разум, который обратится к тебе за помощью. Направь же всех, кого еще возможно, по пути наиболее благотворному, – может быть, мы сумеем избежать катастрофы…
– Ты думаешь, это предупреждение? – Так же все начиналось и тогда…
– Может, ты ошибаешься? – на лбу Хитро выступила едва заметная испарина.
– Тебе жарко? Идем отсюда, в тень деревьев. И активизируй свой терморегулятор.
Хитро пошла за ним, не вытирая лица, – слишком много глаз наблюдали за нею.
– Я уже дважды включала его, – отвечала она, – режим приходится усиливать, а результатов нет. Что могло случиться со мною?
– С тобой все в порядке, – сказал ей Искар, когда они сели на резную мраморную скамью в тени огромной пальмы. – Дело не в нас. Усиленно возрастает температура. С утра, со времени первой молитвы воздух нагревается все быстрее с каждым часом. Ты понимаешь теперь мою тревогу…
Хистара во все глаза смотрела на ученого.
– Но неужели это все так внезапно? – спросила она. – Что же твои безошибочные приборы? Или они не делают никаких прогнозов?
– Они, действительно, не делают прогнозов, – отпарировал, защищая своих любимцев, Искар. – Это не их забота. Их безошибочные показания, как ты верно отметила, дорогая, снимают операторы. А уж мое дело – синтез. Я как раз был занят этим, когда…
– Когда пришлось оставить все и возиться со мной, да?
– Не так грубо, – посмотрел на нее Искар, – и где ты научилась таким выражениям?
– Ты забываешь, что я только что как бы вернулась после очень и очень долгого отсутствия. Только так можно представить мое освобождение от власти Азрулы. Кстати, надо ведь сообщить ему о беде в Нижнем городе, – он как царский советник…
– Никому ничего не надо сообщать, – назидательно проговорил Искар, – государственная машина работает безупречно. Все, кому нужно знать, оповещены, помощь уже оказывается. Посмотри сама, если сомневаешься.
Хитро не стала отвлекаться.
– Я знаю, что мы не в бездействии. Иначе разве бы могла я так спокойно беседовать с тобою тут? Но как же твой призыв к монахам?..
– Смотри сама…
Давно уже Хитро ощущала этот чуть колющий холодок всеобщего внимания, который обступал ее со всех сторон. И вот, проследив движение его руки, она увидела перед собой, всего в нескольких шагах, ровный полукруг рослых мужчин. Эти здоровяки, одетые одинаково просто (от ярко-голубых полос у нее в глазах зарябило), стояли в несколько рядов, а сзади еще подходили и подходили. Где-то сбоку почти терялся среди них приземистый Карал, и, заметив его, Хитро поняла, кто виновник этого сбора. Однако ничем, ни движением, ни малейшим чувством ей теперь уже нельзя было воспользоваться бездумно, – кто знает, во что ее эмоции могли бы превратиться, отраженные в столь великом множестве душевных зеркал. Тем более что среди них могли оказаться и кривые…
Она продолжала сидеть, не зная, что ей надо делать. Выручил Карал.
– Сиятельная Иштар, – выдвинулся он на пару шагов из общей шеренги, – да будет благословенна твоя божественная сила вовеки. Доверши, о Великая, начатое тобою. Позволь при всех опробовать дар, полученный от тебя.
– Да будет так, – милостиво разрешила Хитро с уверенностью, сделавшей бы честь и куда более опытной богине.
Карал поклонился ей, затем для чего-то развел в стороны руки и крикнул:
– Смотрите все! И преклонитесь перед мощью Иштар, даровавшей мне, человеку Каралу, это!..
Все смотрели на него, как он и просил. Время шло, а он все так же стоял, раскинув руки: ничего вроде бы не менялось. Вдруг кто-то тихо сказал:
– Он поднялся!
И тут, действительно, все увидели: монах стоял в воздухе, оторвавшись от земли дюймов на пять. Зрители стояли спокойно, зная, как сильно можно повредить действующему лицу в подобном случае, если проявить несдержанность. И в самом деле, Карал, поняв по возгласу, что его достижение замечено, плавно опустился. Он для верности притопнул сперва одной ногой, обутой в коричневую сандалию, потом другой. Затем он подпрыгнул, счастливо смеясь.
– Благодарю Тебя, о Иштар Великая! – воскликнул он, усилием воли обретя наконец самообладание, приличествующее монаху, который удостоился чести общения с богиней. – Позволь мне, в ознаменование моих новых способностей, выстроить храм в твою славу и оставаться в нем священнослужителем. Дабы все человеки узнали о твоем высочайшем покровительстве…
– Нет! – решительно подняла руку новоявленная Иштар. – Никаких храмов! Никаких священнодействий в мою честь! – она поднялась во весь свой немалый рост, и монахи склонили головы перед ней, прижав, как по команде, правые руки к сердцу. – Будем следовать велению Единого, Который желает, чтобы храмом ему служило лишь сознание каждого, будь это человек, атлант или архангел. Ибо мертвы храмы из камня, наполненные земными сокровищами, когда молчит сердце, закрытое лля Высшего.
Искар, поднявшийся с места вслед за девушкой, с изумлением вслушивался в эти слова и не мог поверить сам себе: ее ли он слышит, тихую и почти безгласную в обществе Хистару? Та ли это Хитро, забитая Азрулой? Ведь он долгие годы свел на нет ее общение с атлантами, окружив девушку своими бесами…
Воистину, велика воля Твоя, Единый, – истово подумал он, – только ей подвластно такое преображение…
Между тем, Хитро продолжала. Ее мягкий и мелодичный голос был слышен всем, – а ведь зеленое поле лужайки уже все сплошь было заполнено стоявшими поодиночке или собравшимися в небольшие группы монахами. Появились здесь и жрецы, резко выделявшиеся своими длинными – фиолетовыми и багряными – ризами. Их высокие, заостренные кверху тюрбаны все чаще, то там, то здесь склонялись друг к другу: жрецы совещались.
– Атлантиду, нашу общую и любимую родину, ожидают тяжелые испытания, – говорила Иштар. – Все мы, легкомысленные ее дети, виновны в бедах, которые могут вскорости последовать. Не время считаться, кто более достоин и кто менее согрешил. Подземный огонь готов вырваться наружу, чтобы соединиться с огнем пространственным. Не допустить этого взрыва, нейтрализовать его – в наших силах, ибо владеющие мыслью да обратят ее во благо. Нет узкого, личного блага, но есть Благо Общее: когда хорошо всем, хорошо и тебе. Сумеем ли мы восстановить этот великий Закон в своих сердцах?
Едва слышное колебание почвы было ответом на ее слова. Она не замедлила воспользоваться этим:
– Слышите?! Сама Мать-Земля просит о помощи. Мы – дети не только Неба. Мы также и ее дети. Дети, которые зазнались. Занятые своими «великими» делами, мы оставляем мать на погибель от жары и от голода, от безводья и… холода. Да-да, вы не ослышались: холода, – она быстро вскинула вверх белую руку. – Взгляните сюда. Кто видит единственное солнце, пусть скажет об этом. Я же вижу их девять…
Как по команде все вскинули головы вверх, сосчитывая солнца в небе. И в этот момент Хитро ясно услыхала мысленный призыв.
Осторожность и тайна! – билось в ее голове, – немедленно оба отступайте вглубь парка, к фонтану…
На мгновение мелькнул образ Гермеса – и связь прервалась. Но и этого было достаточно. Хитро и сама чувствовала приближающуюся опасность, хотя и не могла уловить, откуда она грозит. Сделав знак Искару, что пора отступать, она поторопилась закончить свою мысль:
– Обилие разноцветных солнц, видимое посвященным, означает, как известно, потерю межпространственного равновесия. Это может означать и приближение катастрофы. Не потому ли, что наш царь, великий Родам, находится в неведомой нам беде? Если мы все своим согласием не облегчим его тягости, выдержит ли он один? Царь изнемогает… Вы знаете, как оказать ему помощь… Не медлите…
Последние слова прозвучали уже издалека. Занятые осмыслением феноменального и страшного небесного знамения, монахи не смотрели больше на Иштар, им довольно было слышать ее голос. Когда же дюжие молодцы в серой одежде низших жрецов бросились, по немому приказу своих повелителей, на ее поимку, – оказалось, что ее и след простыл.
– Где здесь фонтан? – только и спросила Хитро, увлекши Искара, за высокую куртину из рододендронов.
Но Искар вместо ответа схватил девушку за руку и побежал с нею вместе: он заметил преследователей. Слава Единому, бежать пришлось недолго. На одной из многочисленных парковых дорожек, звездообразно сходившихся к фонтану, скульптурно изображавшему трех играющих дельфинов, подрагивал в воздухе от нетерпения вездеход Гермеса. Внешне спокойный и собранный, его хозяин стоял тут же, – однако для Искара не составило труда по состоянию мобиля определить степень внутреннего напряжения царевича. Ведь все знали, что этот аппарат управлялся его мыслью и волей.
Готовясь к посадке пассажиров, Гермес позаботился о расширении его вместимости. Хоть снаружи мобиль и оставался вроде бы прежним, однако, заняв места в салоне, на этот раз защищенном легким покрытием (которого, впрочем, почти не было видно), Искар с удовлетворением заметил:
– Однако ты его усовершенствовал, и неплохо.
Уже в воздухе, куда они взвились свечкой, Гермес ответил, в крутом вираже ложась на одному ему ведомый курс:
– Мобиль есть мобиль. И места здесь куда больше, чем может показаться. Всем хватит, – если понадобится…
Что касается Хитро, то ее занимала однаединственная мысль. Она прервала светскую беседу мужчин, столь неподходящую к моменту:
– Герму, нам надо поговорить.
– Вот долетим…
– Ты знаешь, что с твоим братом?
– Какого из семи ты имеешь в виду?
– Ты знаешь.
– Сейчас нам лучше помолчать. Надо исчезнуть из поля зрения твоих преследователей. И что это они так взъелись на тебя? Интересно!
– Послушал бы ты, что Хистара преподнесла сегодня жрецам! Я – так диву давался, слушая ее: она ли это, моя тихоня-племянница. Да, надолго они все запомнят Хистару!
– Лучше бы они забыли о ней, хотя бы на какое-то время. Пока мы не окажемся в надежном месте.
– О чем ты, Герму? – Хитро думала совсем о другом.
– О тебе, Хитро…
– Герму! Прошу тебя, не называй никогда больше так эту девушку. У нее есть настоящее имя, родовое.
– Понял. Извини, Хистара.
– Кстати, если услышишь среди человеков молву о богине Иштар – знай, что это также о ней.
– Неужели свершилось? – Гермес обернулся на Хистару. Мобиль тут же сделал немыслимый курбет.
– Осторожно! – в один голос закричали его пассажиры.
– Говорю же вам, лучше помолчать. Пилота нельзя отвлекать… Но что это?.. Вы видите?
Он перевел свое внутреннее видение на экран, вмонтированный в приборную доску – для Искара; в способностях Хистары он не сомневался. Экран какое-то время был пуст.
– Чуть левее, – подсказала девушка. Гермес кивнул.
Хистара поняла, отчего ей там, в лаборатории Искара, лицо Гермеса показалось хмурым: с него исчезла его обычная улыбка, придававшая такое очарование всему облику царевича. Однако теперь сосредоточенность и спокойствие нисколько не повредили обаянию всеобщего любимца. Ей, например, таким он нравился больше.
– Хистара, ты мне мешаешь, – мягко напомнил ей Гермес о правиле, по которому запрещались пристальные взгляды среди атлантов: можно было нарушить внутреннее равновесие.
– Прости, я виновата.
И она постаралась сгладить ауру Герму, заволновавшуюся было мелкой рябью: настолько сильны были флюиды, исходившие от богини Иштар.
– Смотрите! – сказал Гермес. – Вот они!
И тут Искар наконец увидел то, о чем иносказательно толковали эти двое: в левом нижнем углу экрана появилось несколько темных точек. Они росли с огромной быстротой, – и вот уже одна из них заняла весь экран.
– Не наводи фокуса на лицо! – быстро проговорила Хистара. – Он нас не видит.
– И не увидит в любом случае, – ответил ей Гермес, корректируя изображение. – А взглянуть, кто же, наконец, проявил себя, очень интересно.
И он показал крупным планом голову пилота. Искар не сдержал возгласа:
– Не может быть! Он же в каземате Лефа!
– Значит, случилось нечто невероятное, – лоб Гермеса прорезала вдруг вертикальная линия, – раз из застенков Цитадели объявился выход. Что ж, хорошо хоть то, что мы узнали об этом. Вы готовы? – обратился он к Искару и Хистаре. – Меняем курс, держитесь!
– Но это ничего не даст! – запротестовал Искар. – Он тем легче нас догонит!
– А мы сменим не только курс, мы сменим измерение, – сказала Хистара.
Гермес улыбнулся, и лицо его обрело прежнее, несколько мальчишеское выражение: эта девушка удивляла его сегодня все больше. Менять пространственные сферы мог далеко не всякий атлант. Богиня Иштар?.. Но почему? При таком-то отце?!
Гермес пока еще ничего не знал о подробностях преображения Хитро в Иштар. Но раздумывать об этом сейчас было не время: за ними гнался не кто иной, как бывший царский советник, а ныне человек вне закона – Азрула.
– Ты читаешь мои мысли, Хистара, – одобрительно проговорил Гермес, – раз так, давай вместе: три, четыре!..
И огромный серебристый мобиль вдруг как бы истаял в воздухе.
Хистара вела себя так, будто становилась невидимой каждый день. Жаль, но могучему Искару стало дурно: он забыл расслабиться…
Лела привыкла подниматься рано, задолго до предрассветной молитвы. Их нынешний лукумон, Алан, был очень строг, особенно во всем, что касалось соблюдения расенами молитвенных ритуалов. От него невозможно было утаить ничего, а уж небрежения к божественному предстоянию – тем более. По части же наказаний он был неистощим на выдумку; изощрялся в них так, что его сразу стали бояться. Даже прежний лукумон (тоже арьянского племени – из колдов), отставленный от должности из-за своей приверженности дарам Фуфлона, ничего не мог придумать, чтобы хоть как-то ослабить невидимый, но от этого не менее тяжкий надзор Алана над расенами. Более того, новый лукумон и его, колда Маруна, заставил почитать своих богов. А их у него было такое множество, что бедные расенские женки, составлявшие большинство в селении, совсем запутались в их именах и чинах…
Никому не приходило в голову роптать. Да и что толку? Раз доверили лукумону неразумных человеков, значит, он и волен в их жизни и смерти, наказании или поощрении. Именно так, и это было хорошо ведомо в Расене, ответил бы царский чиновник, изредка навещавший селение для надзора и соблюдения разного рода формальностей. Он записывал новорожденных или, наоборот, вычеркивал из списка перешедших в потусторонний мир; в его обязанности входил также подсчет размеров урожая тех или иных культур, которые были предназначены для выращивания на полях селения, снабжение его жителей всем необходимым для повседневной жизни: расены и питались неплохо, да и одеты были, пожалуй, наряднее других человеков. Сказывалось тут, конечно, их прирожденное умение как-то по-особенному приладить каждую часть одежды к другой, а затем и ко всему целому, да их любовь к украшательству одежды. Их знаменитыми вышивками не гнушались пользоваться самые высокопоставленные патрицианки из атлантских родов, а уж по части парадных одеяний, в том числе царских и жреческих, сплошь расшитых золотом, орихалком и драгоценными камнями, – тут они, по молчаливому общему признанию, были на первом месте.
Там, в Расене, Лела была одной из таких искусниц. С самого детства она не расставалась с иглой: днем – в работном доме, после захода солнца – в своей избушке. Хотелось ведь и себя принарядить. Да и какой расенский обиход может обойтись без вышитого постельного белья или полотенец?..
Теперь она часто вспоминала свою работу. Невиданные раньше узоры, которых она насмотрелась здесь, в новом своем месте обитания, восхитили ее и дали направление ее неуемной фантазии по совершенно неожиданному пути. Занимаясь в замке Ягуны самыми разными делами (все больше по хозяйству), Лела не переставала мысленно плести такие чудесные узоры, что и сама поражалась их красоте и доходящей до степени подлинной гармонии согласованности их красок.
И вот, как раз сегодня ей предстояло говорить с самой Ягуной. О чем должен был быть этот разговор, ей не сказали, но она предчувствовала какой-то перелом: ведь недаром со времени их первой встречи Ягуна до сих пор так и не вспоминала о ней…
Иногда, проснувшись и еще не открывая глаз, Лела думала: а не сон ли все то, что с ней происходит?.. Но снов она никогда почему-то не видела, тогда как явь, обступавшая ее сразу же, как только она взглядывала на светлую комнатку, на диковинную, почти игрушечную в своей изысканности обстановку, на всякие приспособления, так облегчавшие жизненный обиход, – явь с легкостью убеждала ее в том, что это не сон.
Так, с радости, и начинался каждый ее день здесь, у Ягуны. Правда, в самом замке ей не приходилось больше бывать, но Лела не огорчалась: она знала свое место. Проще говоря, ей так было лучше (подальше от всяких чудес), и она не забывала про себя благодарить волшебницу за ее неожиданную чуткость. Как ей было не понять, что ее, несмышленную, оберегают, дают возможность привыкнуть к новым условиям в более привычном и понятном ей окружении: во владениях Ягуны, как оказалось, жила маленькая человеческая колония.
Собственно, они почти и не общались друг с другом. Хотя и были спаяны каким-то особенно доброжелательным отношением, пронизывавшим, казалось, саму здешнюю атмосферу.
Элеска, которая, надо сказать, очень ответственно отнеслась к данному ей поручению опекать и наставлять новенькую, – конечно, в пределах, не выходящих за рамки бытовых правил, – постепенно ввела Лелу в круг девушек, с которыми теперь ей приходилось жить бок о бок.
А жили они все в длинном невысоком строении, задней стенкой примыкавшем к высоченной ограде замка. Его односкатная крыша, покрытая крупной красной черепицей, радовала глаз, выделяясь на фоне монолитов белого камня. Строение это было поделено на жилые помещения, имевшие снаружи округлый дверный проем, он занавешивался плотной тканью, – цвет ее согласовывался со вкусом хозяйки квартиры, ибо помещения эти были настоящими отдельными квартирами. Вот только входная дверь здесь не запиралась. Но зато, войдя через нее в переднюю комнату, нельзя было бы застать врасплох владелицу квартиры, если она находилась в это время в своем укромном спальном покое. Нельзя было потому, что правила не позволяли, этого было достаточно…
Отдельные помещения, разграниченные между собой каменными стенками, были снабжены и совершенно необходимыми в обиходе жителей Посейдониса водопроводом с холодной и теплой (из подземных источников) водой, а также крохотными, почти со шкафчик размером каморками, имевшими сток в канализацию. Эти «шкафчики», кстати, были особым предметом гордости своих владельцев: мозаика их внутренней поверхности, особенно это касалось пола, целиком отдавалась художественной фантазии хозяина или хозяйки. И, несмотря на то, что никто из посторонних не входил в эти тщательно скрываемые от чужого взгляда «места уединения», красота их отделки могла соперничать лишь с их чистотой.
Этот общий жилой дом начинался недалеко от привратной башни.
Женщины обитали влево от ее, мужчины – с правой стороны, в таком же точно строении, однако покрытом не красной черепицей, а густо-синим шифером. При взгляде на эту крышу сразу же на ум приходило море, с его крупными и спокойными ритмичными волнами. Дверные же проемы здесь прикрывались золотистыми циновками из тростника вперемежку с пшеничной соломой, циновки, плести которые умели на Посейдонисе все: и мужчины, и женщины.
И в самом деле, что может быть лучше, чем плетение этих завораживающе простых изделий! После трудового дня можно и отдаться воле свободного творчества и, одновременно, поразмыслить кое о чем из того, что ускользает от рассудка и сознания в веселом напряжении труда. Ведь от него здесь не был освобожден никто: ни атлант, ни человек. Разница заключалась лишь в том, кто на что был способен. Атлант, который мог мыслью сооружать прекрасные здания или держать в уме все состояние хозяйства в том доме, который ему был поручен – конечно же, не посылался на ловлю певчих птиц для царского дворца! Или, скажем, на обязательные для любого человека общественные работы, по три месяца в году: хочешь сразу, хочешь – частями. Каждому, как известно, свое…
Лела отвлеклась от своих мыслей: послышался тихий и мелодичный перезвон бронзовых колокольчиков, язычки которых, из мягкого дерева, приглушая звук, придавали ему особенную задушевность. Это был знак, что наступало время встречи Солнца.
От порога, уже откинув тяжелую ткань, Лела обернулась и придирчиво оглядела свое хозяйство: порядок в доме, личные чистота и ухоженность прививались человекам с младенчества. Многое утеряют они с тех пор, как покинут свою колыбель – чудесный остров в синем море-океане, – но что-что, а требовательность к первозданной чистоте останется на многие времена отличительным признаком принадлежности, драгоценной причастности к миру атлантов…
Можно было идти, все было в порядке. Однако Лела отчего-то медлила. Предчувствие чего-то нового и огромного, бесповоротно увлекшего ее в иную жизнь, не волновало более ее души: раз став на этот путь, она знала, что не вернется к прежнему и не терзалась сомнениями. Однако сегодня какая-то непонятная тяжесть лежала на ее сердце. Так и хотелось отодвинуть ее от себя, увести в никуда плавным движением руки. Она вздохнула и уронила завесу, каменные складки которой как бы отсекли от нее вход в это жилище.
Идти к ритуальной площадке, где собрались на моления все обитатели замка, было довольно далеко: она находилась с другой стороны ограды, и чтобы попасть туда, надо было обойти чуть ли не половину всей усадьбы, причем все вдоль стены. Вторгаться же в парк, прилегающий к замку, не полагалось, – дабы не потревожить ненароком Госпожу. Впрочем, это нисколько не ущемляло достоинства Лелы (если бы она даже могла знать о таковом). Дорожка по-над стеной нравилась ей больше, чем благочинная разлинованность ухоженного сада: во всю свою протяженность она была обсажена невысокими, но прекрасными деревьями с иголками вместо листьев на ветвях. Лела никогда прежде не видывала таких. Впрочем, много ли она могла повидать за время своей «закрытой» жизни в родном селении?..
Уже почти совсем рассвело, короткая ночь отошла в свои пределы. Впереди себя Лела ясно различала фигуры идущих в том же направлении, что и она, – мужчин и женщин. Все шли как бы обособясь один от другого: ведь нельзя было потревожить молитвенный настрой, такой хрупкий и так необходимый в предстоящем всем вскорости высоком Общении. Каждый собирал в себе, накапливая по крупицам, ту радость чистого экстаза, на которую способен в своей собственной степени.
Лела также попыталась направить мысли к высшему, но отчего-то ей это нынче не удавалось. Беспокойство не отступало, оно, казалось, приняло какие-то другие формы. То ей виделся человек под густой и низкой кроной дерева, то неведомая тень делала ей какие-то знаки рукой, – знаки, от которых она старательно открещивалась, как научила ее многоопытная Элеска.
Внезапно чья-то рука схватила ее руку и с силой увлекла ее в непроницаемую тень деревьев. Лела не испугалась, – чего ей было бояться здесь, под крылом самой волшебницы Ягуны?! Она собиралась уже громко задать вопросы, которые следует задавать в подобных случаях, – как вдруг оторопела, признав в мужчине, все крепче сжимавшем ее руку, Радмила.
Да, это был он, ее незадачливый «законный» супруг. Он во все глаза глядел на Лелу, будто с трудом узнавая, а сам все подрагивал мелкой дрожью. Лела собиралась позвать на помощь или просто вырвать свою руку из его цепких пальцев, или… Но вместо этого она шепотом спросила:
– Чего дрожишь? Знобит тебя, что ли?
– Ага, знобит, – прошептал в ответ Радмил и вдруг мягко, но властно притянул ее к себе. По обычной своей привычке Лела уперлась было ему в грудь свободной рукой, как бы отталкивая от себя, – и обомлела. Мягкая волна непонятной нежности – к кому? к этому обидчику? – затопила вдруг ее тело, разливаясь откуда-то из груди, и в этой жаркой волне утонули все ее мысли, все ее укоры самой себе. Радмил жадно целовал ее лицо, а руки его, между тем, уже не удерживали, а ласкали это тело, такое мягкое и податливое, как никогда прежде. Ибо удерживать Лелу силой не было надобности: она сама льнула к Радмилу.
Губы их встретились – и свет померк для обоих…
Их, по какой-то странной случайности, никто так и не заметил. Дорожка вдоль стены все еще была пуста, когда Лела опомнилась. Оправляя растерзанную юбку и пытаясь придать своему нарядному еще недавно корсажу, с которого теперь были сорваны все пуговицы, хоть на что-то похожий вид, она шептала, мимоходом отвечая на легкие поцелуи Радмила:
– Что ты наделал?!. Зачем ты явился?.. И что же я теперь скажу? В таком-то виде?!
Все еще не выпуская ее из объятий (без которых теперь, как ей казалось, она не могла бы существовать), он отвечал, на минуту отстранившись:
– Мы сейчас уйдем отсюда вместе! Привратник подкуплен, он нас выпустит. Бежим же!
И он рванулся было к воротам, увлекая ее за собой. Однако Лела с неожиданной силой удержала его:
– Постой! Так негоже. Я должна повиниться…
– Перед кем? – приподнял ее подбородок Радмил, заглядывая в глаза. – Перед кем ты виновата? Передо мной? Отвечай! Так вот почему ты скрылась тут!
С тихим смешком Лела погладила его по щеке:
– Много ты знаешь!.. А повиниться я должна перед Госпожой. И уйти никуда с тобой я не могу: слово я давала…
– Слово!.. Это, конечно, другое дело… – задумался Радмил. – Можно было бы укрыться на корабле, капитан бы помог. А там, в открытом море, нас бы никто не догнал! Но слово…
Лела прильнула к плечу вновь обретенного мужа и разрыдалась.
– И что же это такое! И почему ты раньше не открывал мне своего сердца? – тихонько причитала она, слегка потряхивая его при каждом слове. – А теперь вот, когда поздно, когда нет ничему возврата – так оказывается, что дороже человека, чем ты, для меня и нет! И должна тебя оставить – и не могу сделать этого! Будто без моего призора ты пропадешь.
– Пропаду, точно пропаду, милая ты моя, – отвечал ей растерянный Радмил.
– Да нет! Это я так, – отмахнулась Лела, – знаю же, что не пропадешь, как не пропадал и до этого. А вот только что-то случилось во мне, – она осторожно тронула себя между грудей, – вот тут. И будто ниточкой неразрывной я привязана теперь к тебе, ненаглядный мой.
– А мою, мою ниточку ты видишь? – жарко шептал Радмил ей в маленькое ушко (и как только раньше он не замечал этой красоты?..). – И в моем сердце такая же, к тебе навек привязанная! Значит, нельзя нам больше разлучаться.
– Что же, будешь ее с собой на корабле возить? – грому подобный, раздался вдруг над ними голос. – Или сам на берег сойдешь, на вечный прикол? Отвечай же, Радмил!
– Госпожа! – ахнула Лела и закрыла лицо руками, не отрываясь от Радмила. – Ты все видела!
– Знала ведь, что от моего взора ничто не может укрыться. Знала – и все же забылась. Как теперь сама думаешь, что мне с вами обоими делать прикажешь?
– Виновата, Госпожа. И сама не знаю, как что вышло. Не думала я и не гадала, – верное мое слово, матушка. А только случилось что-то, и я согрешила. А теперь что ж? Теперь я в полной твоей воле. Что хочешь, матушка, то и соверши надо мной. Только одна у меня к тебе просьба будет: отпусти ты его, Радмила моего, живым и невредимым на все четыре стороны. Он-то не виновен ни в чем…
– Это как так не виновен? – заметно тише, будто успокоившись, проговорила Ягуна. – Пришел, как вор, в чужой дом, замутил в нем покой, – и не виновен? А твои, Лела, будущие страдания – в них он тоже не виновен?
– Я одна виновата, матушка. Меня и казни…
– Вот уперлась: казни да казни. Никто тебя казнить и не собирается, дитя мое! Просто я хотела тебе показать, что такое эта любовь – чудо земное и надземное.
– Любовь?.. Это и есть та самая любовь?.. – Лела остановилась на полуслове.
– Но, к тому же, ты неплохо выдержала испытание. И потому я отпускаю тебя, Лела, на волю. Вместе с этим человеком, который отныне желает делить с тобой не только постель, но и всю жизнь свою, – не правда ли, Радмил? Ступайте, куда ноги понесут и сердце подскажет. Ворота открыты.
Лела и Радмил радостно схватились за руки. Внезапно лицо молодой женщины исказилось страданием.
– Матушка! Не гони меня от себя! – взмолилась она, не отрываясь, однако, от Радмила.
– Я и не гоню. Ты должна выбрать сама, – голос Ягуны был ровен и тих, – идешь ли ты с ним, – последовала пауза, за которой Лела уловила мимолетную улыбку, – или… Впрочем, о чем это я? Никакого выбора, моя дорогая. И будь довольна, что я выпускаю вас обоих с миром!
– Разреши мне сказать, высокородная Ягуна, – вступил в разговор Радмил, – и напомнить тебе твои же слова при нашей прошлой встрече.
– Говори, – милостиво согласилась волшебница, – только не кричи. Можешь вообще не произносить слов, а только думать. Мне и этого будет достаточно.
– Как так?..
– А ты разве не понял, что я с вами беседую беззвучно? Мой голос вы слышите разумом, а не наяву…
– Но ты так громогласно, прости меня, высокородная, «беседовала» с нами поначалу…
– Это вам только показалось, с перепугу. Теперь вы оба несколько успокоились, вот голос мой и утих. Все дело в нервах, знаешь ли, моряк.
– Не пойму я что-то твоей премудрости. Однако ты меня не сбивай, будь так добра. И говорить я буду всетаки своим собственным голосом, а не думами. Так вот, – я хорошо помню, как ты сказала в тот раз: «Брак считается законным, если он совершен по обоюдной любви». Разве он незаконен теперь? Или ты не веришь нашему чувству?
– Верю, как же, – успокоила его Ягуна, – оно до того сильно, что теперь не чаю, как и выпроводить вас отсюда. Такой ядреный дух стоит здесь от этой вашей любви, что чистка мне предстоит большая!
– Чистка?..
– Конечно! Вот выпровожу вас и начну. Как вы оба уйдете отсюда, нужно мне будет пройтись здесь с ветерком. Чтобы и духа вашего в этом месте не осталось! Ну, это уже, не в обиду будь сказано, не вашего ума дело.
– Раз уж ты признаешь рождение нашей любви, высокородная, – гнул свое Радмил, – тогда почему ты не хочешь признать ее законной?
– А, зацепило тебя все же тогда… Не желаешь, значит, жить и любить не по истинному Закону?
– Да словно разбудили меня твои тогдашние слова, матушка. Словно что разожгла ты во мне. Места себе не находил, пока не надумал поговорить с ней, ласточкой моей трепетной…
– Поговорил…
– Да уж, прости нас. Не удержались. Зато теперь сомнений нет ни у нас, – он любовно прижал Лелу к себе, – ни у тебя, матушка.
– Неужто так и нет сомнений?
– Ты права, как всегда, высокородная. Лела вот страдает. Как сделать, чтобы соединить ее любовь – и то, зачем она пришла сюда?..
– Это несоединимо.
Голос Ягуны прозвучал сухо и отрешенно. Лела рванулась было из объятия Радмила (молодец, парень, так и держи ее всегда, не отпускай от себя ни на минуту! – уловил он мысль волшебницы). Будто почувствовав ее боль, она добавила, желая хоть как-то смягчить каменную непререкаемость своих же слов:
– Во всяком случае, несоединимо оно сейчас. Время течет, а с ним изменяется многое из того, что нынче кажется незыблемым… Что же, вижу, цель моя достигнута. Вас, поди, теперь и водой не разольешь!
– Цель?.. Неужели ты знала…
– А как же! Не только знала, но даже задумала ваше соединение. Если бы успокоились оба на свершившемся – так бы оно и осталось. Теперь же вы запустили в действие новые события вашей жизни. Посмотрим, что они вам принесут.
– Ты говоришь так, матушка, будто не силы Небесные, а мы сами, ничтожные человеки, распоряжаемся своей судьбой, – прошептала Лела.
– Не такие уж вы и ничтожные. Уберите эту мысль из своего разума!
– Но как же… Лукумон наш так велит думать…
– Мы уговаривались с вами не упоминать больше о вашем злосчастном лукумоне! – жестко проговорила Ягуна. – Тем более что место его скоро будет свободно, – уберут его о вас! Что же до силы или ничтожества человеческого, – это и в самом деле зависит только от каждого из вас. Беспрестанно предоставляются вам возможности, но они всегда являют собой как бы развилку, указывающую в разные стороны. По какому пути пойти? Каждый раз выбор за вами.
– Значит, не предопределено все заранее?..
– Предопределено. Но своим свободным желанием человек часто идет наперекор этому высшему предопределению.
– Так надо приказать нам! Если сами не понимаем, который путь ведет к добру, а который – наоборот! Для чего же это «свободное желание», если человек без конца спотыкается, выбирая не то, что следует!
– Не гневи Единого, несмышленыш! Свободное желание, или свободная воля – это наивысший дар! И удостаивается его не все живое, но лишь достигшие степени разумности. Мыслящие, то есть. Вот и мыслите, к чему может привести ваш каждый шаг и поступок. Конечно, так легче: получил приказ – и выполняй, безо всяких обсуждений. А вот собственное разумение, понуждение себя самого к действию наиболее разумному – тому, что должно привести ко благу и тебя, и всех вокруг, – это очень трудно. Тем и отличаются человеческие сознания: одно есть рассудок раба, другое же – свободное!
– Так выбирают же все больше себе во вред!
– Такой выбор бессознателен. Сознательно же если и избирают сотворение зла, то уж будьте уверены, что не себе, а другому. Но об этих не стоит и говорить: их судьба плачевна. Вот так и отсеивает человечество само себя понемногу. Пока не уяснят себе, что злые, вредящие мысли и желания – себе же дороже. Но понять это должны не иначе, как все, скопом!
– Как же, жди от нас этого!
– Всевышний не спешит. Времени у него достаточно, ибо все время – Его. Но вы, человеки, конечно, могли бы и поспешить с осознанием собственной же пользы.
– Но что толку спешить с этим, если придется потом дожидаться остальных? Говоришь же, – «скопом»…
– Тут самое интересное. Дожидаться, пока остальные придут к той ступени, которой ты успел уже достичь, тебе придется ведь не на земле, но в пределах куда более привлекательных!
– А потом – снова сюда же?
– Да, мой понятливый новый ученик.
– И так без конца?
– К счастью, конца совершенствованию нет. Достигнешь предела, установленного для Земли, – перейдешь в иные миры, где место только очищенным сознаниям.
– И буду я там, словно тень безгласная?.. Зачем мне это? Вот бы на Земле, такому, как я есть, достичь этой силы! Правда, Лела? – шепнул Радмил.
Но Лела молчала, опустив голову ему на плечо.
– И что бы ты сделал, дай Всевышний тебе сейчас ту силу, которой ты возжелал?
Радмил задумался.
– Да, – протянул он наконец, – сразу и не скажешь. Наверно, разобъяснил бы, поначалу, всем своим: не будьте, мол, дурнями, не вредите сами себе. Ну, и дальше бы рассказал все так, как ты, матушка, все нам представила. Спасибо тебе, высокородная! За науку…
– Прямо слово в слово бы и повторил все, мною сказанное? Уверен ли ты?
– Конечно, слово в слово – не обещаю. Но рассказать своими словами, как сам понял, – это могу.
– Главное, чтобы понял ты правильно, – едва слышно донеслась до Радмила мысль Ягуны, как бы и не ему предназначенная. Он не успел переспросить, как голос ее окреп. – А то знаю я вас, человеков. Говоришь вам ясно и понятно, уж, кажется, куда понятнее. Так нет! Вы все переиначиваете на свой, земной лад. Все идеи, даже наивысшие, перекраиваете на свою, человеческую фигуру. Нет, чтобы самим возрасти до данного вам образца!
– Как это? – растерялся Радмил.
– Как сказано. Повторять не буду, – и запомни это правило навсегда.
– Неужто, матушка, удостоишь еще разговором?
– Не торопись. Всему свое время – увидишь сам. Чтото жена твоя приумолкла. Утомили мы, должно быть, ее своими рассуждениями. Что скажешь, Лела?
Молодая женщина, не поднимая головы, слабо улыбнулась куда-то в пространство.
– Да она вроде бы и не слышит, матушка. Может, заснула? Лела, очнись! – Радмил легонько потряс вновь обретенную супругу за плечи.
– Да не спит она, успокойся! – поспешно урезонила его высокая наставница. – Объясню тебе, раз сам еще не понял: весь наш разговор проходит – от меня к тебе и обратно, – через ее восприятие. А на это идет много сил!
– Зачем же ее так утруждаешь, матушка?
– А затем, мой милый, что иначе к твоему разуму мне не пробиться.
– Вот оно что… Не дорос еще, значит!
– Не огорчайся, Радмил! Таких, как Лела – среди человеческого племени раз, два – и обчелся. Понимаешь теперь, какое сокровище принимаешь в свои руки? Будешь ли беречь ее пуще собственной жизни?
– Обещаю, матушка.
– Этого достаточно… Что ж, силу, о которой ты мечтал недавно, ты получишь. Но – не возгордись этим! Помни, что многие начинали так же прекрасно, но конец их был жалок. Ибо забывали они, что сила, даруемая свыше – не их собственная, и начинали помыкать ею. Обязуешься ли свято выполнять только то, что тебе будет велено?.. Свою же самостоятельность, которая есть двигатель земной жизни, приводить в соответствие с высшими планами?
– Обязуюсь, Владычица.
– Тогда получишь то, чего искал. И в мирах иных, кстати, не будешь тенью безгласной. Вовсе нет. В тех мирах такие же зримые и осязаемые тела, как и в этом, только более прекрасные и совершенные, потому что сотканы они из другой материи. Не понимаешь? Из другого вещества, которое само собой светится. Ну, это так, к слову. Теперь – основное на этот час. Слушайте меня оба.
Лела подняла голову и улыбнулась Радмилу, чуть отстранившись от него. Так, взявшись за руки и глядя в глаза друг другу, они и выслушали до конца этот удивительный монолог Ягуны, круто изменивший их общую жизнь. Это напутствие они выслушали молча, не прерывая великую волшебницу ни единым возгласом.
– Ты, Лела, сейчас же пойдешь туда, где жила, и оденешься, как одеваются в дальнюю дорогу. Старого платья не надевай, – ты знаешь, почему, – голос Ягуны звучал четко, будто вколачиваясь в разум. – И с собою не бери ничего. Не забудь негодную одежду заложить в печь и уничтожить, – нажмешь красную кнопку. Затем включишь озонатор, который очистит от твоих эманаций помещение. Выключится он сам.
Лела согласно кивала головой, давая понять Ягуне, что понимает все, что ей говорится. Между тем бесстрастный голос, пронизывавший все ее существо, продолжал:
– Затем вы оба спешно покинете замок. Но выйдете в восточные ворота, что справа от главного входа. Радмил найдет за ними тропинку. Эта тропинка довольно крута, зато ведет она к морю.
У пристани (это моя личная пристань) вас будет ждать мой подарок: корабль со всем, что на нем находится. Не теряй тогда времени, Радмил, и выходи в море. О курсе не тужи: отныне всегда, когда ты будешь плыть на этом корабле, ветер будет попутным, стоит тебе только мысленно обратиться ко мне и представить нужное направление. На этот раз ваш путь будет лежать в гавань Атлантиса, и домчитесь вы туда скоро и благополучно, – и все же, Радмил, не покидай своего капитанского поста. Привыкай отдавать команду, а не исполнять ее! И пусть разбором гостинцев займется женщина…
Тут Радмил не удержался: он улыбнулся и подмигнул жене, – мол, как же иначе?..
– Швартуйся не к молу и не к пристани, Радмил, – продолжала Ягуна, вроде бы ничего не видя, – швартуйся к большому судну капитана Дирея, на котором ты до этого служил.
Лицо Радмила выразило протест, затем недоумение, но волшебница не оставляла возможности для вопросов.
– «Великий Посейдон» теперь уже вышел в открытое море и бросил якоря в виду Атлантиса. Почему? Они пока и сами не знают… Но возле него вы будете в полной безопасности. Ровно три дня и три ночи не покидайте вашего укрытия, – с голоду не помрете, не бойтесь. После этого, вместе с судном Дирея, – и где его все носит! – туманно заметила Ягуна, – вернетесь к главной пристани. Тогда смело оставляйте свой корабль и отправляйтесь в благословенное селение Расен.
Да-да, дорогие мои, именно в ваше родное селение. Там тебя, Радмил, встретят как вождя, и ты примешь это с достоинством. О жене твоей поговорим позже. Место лукумона после смещенного нами Алана останется незанятым до тех пор, пока Лела не разрешится от бремени…
Идите же! И помните, что старая Ягуна всегда с вами. Твоя «бабушка-Ягушка», Лела, надеюсь, оправдала надежды? То-то же.
Как бы ни повернулась ваша судьба – не удивляйтесь и не противьтесь переменам. Для вас они неизменно будут к лучшему. Слышу, Радмил, слышу твой вопрос, который рвется из тебя. Ягуна ничего не забывает. Ваша веревочная грамота, удостоверяющая законность брака, целая и невредимая, качается себе на стене корабельной каюты. Рядом с ней еще одна: разрешение вам обоим на покупку дома в Атлантисе. На это потратишь часть золота из меньшего сундука. Покажешь жене столицу, но не води ее в Нижний город. В Зумраде она укажет на усадьбу – ее и покупай, не ошибешься…
Как будешь править расенами, Радмил, не забывай прислушиваться к тому, что чувствует твоя супруга. Помни, что племя твое хоть и мало, но родит из себя со временем великий народ. Драчливые и строптивые, твои сородичи обладают одним незаменимым качеством: они безмерно терпеливы. Это качество поможет им сохранить божественную искру, полученную ими на этой земле, и пронести ее сквозь долгие тысячелетия. Будут меняться одно за другим места их обитания: на множество самых разных названий разделится само коренное имя вашего рода – лелеги, ибо произошли вы от благородных журавлей, – оно не только разделит единый род, но и само видоизменится до неузнаваемости.
Много славных побед впереди у твоего народа, но не меньше и горьких поражений. Не в нашей воле, Радмил, обсуждать Высший План, неведомый нам. Придет время, и оно само раскроет то, что было в вас заложено. Ибо не разовьется ничего, если нечему развиваться…
Ягуна говорила, а дело делалось, незаметно и споро. Вот уже и Лела вышла из двери, низко поклонилась, благодаря за приют. Радмил впервые увидел ее в наряде городской жительницы – и восхитился. Она оделась в голубой – цвета надежды – хитон, так отличавшийся и кроем своим, и мягкой тканью от ее прежней селенской одежды. Эта ткань, почти невесомая с виду, в то же время позволяла собирать платье из пяти объемов в один. Складки тяжело ниспадали, повторяя каждое движение женской фигуры с некоторым замедлением, отчего эти движения казались особенно плавными, как бы летящими. Пеплос, вышитый серебром, довершал ее наряд, выработанный неисчислимым Временем вкупе с гением женщин Атлантиды.
Подарок был непростой: получив право надеть его, женщина тем самым переводилась в разряд свободных гражданок Атлантиса, вольных распоряжаться собственным имуществом. Ибо платье это означало, что таковое имеется…
Радмил уже ничему не удивлялся. Голос Ягуны умолк, но все, сказанное ею, не исчезло, – оно претворилось в ясное, собранное состояние его ума, состояние, которого так не хватало ему раньше. Он чувствовал себя сейчас как бы единым сгустком силы, перед которым не устоит никакая преграда. Ибо владела им Мысль, ведущая к Цели.
Взявшись за руки, они торопливо пошли. Лела срывалась на бег, – надо было спешить. Все вокруг оставалось по-прежнему тихим и пустынным. А ведь недавняя беседа должна была занять немало времени, и работе замковых общинников полагалось бы уже кипеть ключом. Они одновременно подумали об этом и переглянулись на ходу…
Ворота, едва успев выпустить гостей, сомкнулись за ними гладкой и неприступной стеной. Их встретил первый луч солнца, острый и яркий, как сурийский клинок. Лела воскликнула:
– Смотри, Радмил! Солнце! Значит, времени, действительно, прошло очень мало…
– Я думаю, что оно не задержалось.
– Выходит, оно разное, время?..
– Так получается. Или, скорее, Ягуна умеет им повелевать, – говоря так, Радмил вглядывался в заросли густого леса, пока рука его не указала на что-то, видное только ему. – Вот она, тропинка, о которой говорила Матушка. Идем же!
– Постой немного. Мы должны встретить Солнце и поблагодарить его…
Лела плавным движением покрыла голову пеплосом и чуть воздела к небу кисти рук.
– Великий Ур, повелевающий жизнью и смертью всего живого! – негромко, но ясно и певуче заговорила она. – Прими нашу благодарность за любовь, ниспосланную нам. И прошу тебя об одном: дай познать хотя бы искорку такой любви каждому человеческому существу! Ибо напрасно и тускло без нее существование на земле…
Радмил, унявший свое нетерпение, вдруг увидел, как из-за края моря вырвался сноп ярких лучей, заливших все светом. Однако тот, первый, луч не оставлял, как это ни было странно, фигуры Лелы. Поистине, словно подтверждая избрание своей жрицы, он все держал ее в указующем точном жесте, и режущий глаза свет его все смягчался, смягчался, пока не слился совсем с сиянием наступавшего дня.
Радмил, наблюдавший этот божественный луч, осиявший его супругу, запомнил его теплый оттенок. Велико же было его изумление, когда он, отведя глаза от Лелы, отметил какой-то небывалый цвет, который приняло вдруг все окружающее.
– Что это? – он повел рукой вокруг. – Смотри, все стало красным. Или мне кажется?
– Мне страшно, Радмил. Солнце предупреждает нас о большой опасности.
– Но тот луч, с которым ты говорила, он-то был совсем другим?!
– Да, он был белым и теплым, как молоко…
– И Ягуна намекала о чем-то, помнишь?
– Как бы не опоздать!..
Тропинка была крута, но, к счастью, не осыпалась под ногами. Бежать по ней было невозможно, да и к лучшему. Радмил, веря и не веря известию о будущем «разрешении от бремени», тем не менее, берег уже каждый шаг своей ненаглядной.
Из лесу они вышли как-то сразу. Перед ними, за узкой полосой желтого песка, где-то в середине белой стрелы каменного мола покачивался на разыгравшихся волнах корабль. Покрытый густо-синей и блестящей лаковой краской, с белыми и золотыми обводами вокруг корпуса и тремя парусами разных цветов, на главном из которых, пурпурном, было выбито символическое изображение Солнца: белый круг с золотым крестом внутри. Цвета ура, с которым они только что встречались воочию, придали обоим уверенности, превратив нереальность всего с ними происходящего в чудесную действительность.
Не сговариваясь, они побежали к пристани. Приходилось торопиться: море, пока еще бирюзовое, покрывалось уже белыми венчиками все быстрее несущихся волн…
* * *
– Ты звал меня, о Власть Имеющий?..
Леф не стер со стены изображение карты. Войти к нему мог лишь тот, кого он ждал, значит, таиться не было надобности. Он повернулся в своем вращающемся кресле к вошедшему и указал ему на массивный резной стул:
– Садись, капитан. Поговорим…
Капитан Дирей, громогласный и шумливый, как всегда, и не подумал притихнуть здесь, в этом средоточии государственного порядка. Толстые ковры, устилавшие каменные перекрытия пола (ибо было это глубоко под землей), почти не заглушили его тяжелых шагов. Капитан привык к морским сапогам, добротно сшитым из кожи гиппопотама, которые безотказно служили ему во все дни, а иногда и ночи его насыщенной активной деятельностью жизни, и не собирался менять их на чтолибо другое даже на такой случай, как визит в Цитадель, к самому Лефу. Пусть даже подошвы этих сапог, подбитые для крепости металлом от алеппов, металлом не стирающимся и не изнашивающимся, производили некоторое сотрясение в этих стенах. Это сотрясение, легким гулом отдававшееся в голове самого Дирея, говорило всего лишь о полной замкнутости подземного помещения.
Подняв левой рукой стул, он повертел его со всех сторон перед глазами, как бы сомневаясь в его прочности.
– Каменное дерево? – переспросил он, для чего-то заглянув на нижнюю сторону стула.
– Каменное, каменное, – успокоил его Леф, который с интересом наблюдал за этим не совсем обычным экземпляром атланта, – как раз для таких, как ты.
Дирей с силой припечатал стул к полу, покачал его на ножках, удостоверяясь в его устойчивости, после чего наконец осторожно уселся.
– Ну вот, – удовлетворенно произнес он, – теперь можно будет и поговорить. А то, знаешь, Леф, намаялся я в Атлантисе: куда ни приду, везде мебель какая-то игрушечная. Разлетается подо мною, веришь ли! То ли разучились делать вещи как надо, то ли сами атланты полегчали.
– А может, это ты подрос? – серьезно, в тон собеседнику, проговорил Леф.
– Скажешь тоже! – вскричал польщенный Дирей. – Но силы, могу сказать, во мне, конечно, прибавилось. Вот, вчера, например, на играх в Зумрате, равных мне не оказалось никого…
– Слыхал, как же! – поспешил остановить его Леф. – Однако, если позволишь, перейдем к делу.
Дирей, с его чуткостью, не заглушенной пока еще массой плоти, мгновенно перестроился на деловой лад призвавшего его начальника всех капитанов:
– Слушаю тебя, о Леф! – только и сказал он.
– Взгляни на эту карту, капитан, – Леф указал ему на играющую всеми цветами и светами стену, которая изображала в его кабинете огромный экран, – узнаешь ли ты эти места?
Капитан Дирей поерзал на месте:
– Трудно сказать, – уже заметно тише ответствовал он, – надо бы сосредоточиться. А у меня с этим, признаться, плоховато в последнее время. Так… Ну что же… Нет, не узнаю, – констатировал он свою неудачу.
– Но как же так? – Леф чуть расширил объем территорий, захватываемых картой. – А теперь?
– Ну ты, словно со школьником, играешь со мной, Леф, – обиделся капитан, – так бы сразу и показал! Выходит, это новый участок, из тех, что мы разведали?
– Он самый, – подтвердил Леф.
– В этом разноцветье его сразу и не признаешь, – попытался оправдать себя Дирей, – мы-то работали всего с контурными картами!
– Ты говоришь так, будто я обвиняю тебя в профессиональной несостоятельности. Будь это близко к истине, мы бы сейчас с тобой не беседовали здесь, Дирей. Позволь мне уклониться от славословий в твой адрес, – они не по моей части, – и задать тебе несколько вопросов.
– Буду рад ответить.
Леф еще более увеличил обозреваемую зону на экране. Теперь она включала в себя огромный квадрат: от Столбов Мелькарта на юге он шел в направлении Северного Полюса, захватывая и край Туле; обширные территории и акватории к Востоку были показаны как-то схематично, будто нарочно заштрихованные волнистыми полосами или же черно-белыми прямоугольниками в строго определенном порядке.
– А это еще что за шахматная доска? – удивился Дирей, указывая на эти места. – Можно было бы и сыграть, да уж больно велики должны быть фигуры для таких клеточек! – и он улыбнулся до ушей, довольный своей неуклюжей шуткой.
– Об этих «клеточках» речь пойдет позже. Сейчас же хочу тебе сказать, что ваши изыскания уточнили некоторые неясности, в какой-то мере прояснили их, – я говорю о данных космической и аэровизуальной съемки. Однако до полной и вполне понятной картины еще далеко. Так что придется тебе, капитан, снова брать на свой борт изыскателей.
– Что ж, – пожал плечами Дирей, – с ними даже веселее. Хоть словом будет с кем перекинуться в плавании. А то ведь мой контингент сам знаешь какой. Ни единого разумного существа! До того все сонные, что диву даешься, как же они живут под солнцем?
– Ты имеешь в виду пассажиров-торговцев?
– А кого же еще! И чего это только сам царевич Гермес так им покровительствует? Было бы с кем возиться…
– Думаю, что не нам с тобой, капитан Дирей, обсуждать действия царевича Гермеса, – сухо произнес Леф, – тем более что глубинные его замыслы от нас, к счастью, скрыты. А торговля – что ж, это дело неплохое и нужное. Человеки, благодаря ей, не сидят сиднем на месте, а осваивают новые земли. Понемногу и знания разносятся по всему обжитому миру. Очевидно, с этой точки зрения и надо рассматривать всякие благоприятствия, которые наш великий и достойный во всех отношениях царевич находит нужным оказывать купцам. Признаем, что и им нелегко: дома, под боком у супруги, спокойнее…
– Да разве я!.. Да для меня царевич Гермес, знаешь, кто?.. – Дирей даже вскочил с места, уязвленный до глубины души подозрением в нелояльности к Гермесу. – Вот только обидно бывает, знаешь, когда те, которым он, можно сказать, дорожку мягкую проложил, – иди и только не падай – обманывают на каждом шагу и себе подобных, и его самого!
– Ты что же, думаешь, что царевич Гермес ничего не видит? – спокойный и размеренный тон Лефа вразумил Дирея и заставил его опуститься на место. – Не забыл ли ты, почтеннейший, о его высшем происхождении?
Дирей встретился взглядом со своим патроном и невольно вздрогнул. Он знал, что с начальником ведомства охраны порядка в Атлантиде (включая и ее колонии шутки плохи. Но не ожидал от него, по крайней мере, по отношению к себе такой подозрительности. И все бы ничего, – но этот пронизывающий взгляд! Он словно бы раздевал капитана, докапываясь до самых низменных глубин его сущности!
И Дирей притих. Что-то будто сломалось в его внутреннем аппарате, который был, казалось, сродни тем «вечным двигателям», что увеселяли детвору в парках Атлантиса. В голосе его вдруг проявился некий надлом, когда он сказал:
– Ты прав, Имеющий Власть. Я провинился, осмелившись обсуждать действия царевича, приближенного к Богам. Накажи меня, о достойнейший…
– Успокойся, мой капитан. Ты если и виновен, так только в том, что не умеешь держать в узде свои эмоции. Ограничимся на первый раз тем, что мы оба, и ты, и я, заметили это. И оба сделаем для себя нужные выводы. Не так ли?
Взгляд Лефа нисколько не потеплел, хотя в голосе его и проявилась какая-то живая нотка. Он, между тем, продолжал, крутанувшись вместе с креслом к экрану:
– Твои сведения, записанные и расклассифицированные специалистами, внесены в картотеки. И все же, Дирей, я попрошу тебя рассказать мне лично, – если тебя это не затруднит, конечно, – подчеркнутая вежливость шефа произвела в капитане едва заметную конвульсию, не ускользнувшую от взора его собеседника, – о своем впечатлении. Впечатлении от тех земель, по которым ты ступал, о том, что за чоколаи, – Леф воспользовался старинным словом, перешедшим позднее в слово «человек», – там обитают. В общем, расскажи еще разок все! Но только самое главное из того, что отметило твое внимание.
Однако Дирей не отрывал глаз от созерцания ковра. Выждав с минуту, Леф напомнил ему о своем присутствии.
– А не подкрепиться ли нам божественным напитком? – сказал он, вдруг оживившись. Из стенной панели сам собой бесшумно выдвинулся серебрянный столик о трех вертлявых колесиках и остановился подле хозяина, как послушный пес. На столике стояли два высоких кубка филигранной работы и хрустальный флакон с притертой пробкой из синего яхонта. Недовольно крякнув, Леф поднялся и, подойдя к стене, вытащил из-за потайной дверцы круглый кувшин с высоким и узким горлом, оканчивавшимся устьицем наподобие клюва диковинной птицы. Кувшин был из глины, но совершенная его форма и мастерство росписи – многоцветные лаковые фигуры по блестящему черному фону – яснее всяких слов говорили о его не сравнимой ни с каким золотом цене. Леф нажал большим пальцем на хохолок, увенчивавший голову птицы, и из клюва ее полилась густая и темная жидкость, от которой по всему помещению повеяло чудным ароматом, терпким и каким-то нездешним.
Леф, поглядывая на неподвижного Дирея, наполнил кубки до половины. Затем он неторопливо открыл сверкающий гранями флакон и по несколько раз капнул в каждый кубок крупными бесцветными каплями. Завершив это священнодействие и тщательно укупорив сосуды, он взял кубки в обе руки и подошел к капитану. Как бы само собой под ним оказалось и его удобное кресло, которое он придвинул так, что ноги его сошлись колени в колени с ногами Дирея. Вдыхая из своего кубка его аромат, он заговорил, протягивая другой капитану:
– Ну же, дорогой Дирей! Не грусти и не томись ненужными печалями! Ты ведь сегодня гость у меня, не так ли? И дорогой гость! Смотри, я в твою честь распечатал подарок, который берег для встречи самого царя. Правда, я усугубил его действие, прибавив в него бесценной амброзии, – но не будешь же ты отказываться от нее, а?
Говоря так, он все совал и совал кубок в руки Дирея этаким простецким жестом рубахи-парня. Наконец капитан понял, что от него хотят.
– А?.. – как бы очнувшись, проговорил он – и тут же сильно и хрипло закашлялся.
Леф невозмутимо наблюдал за корчами исходящего в пароксизме кашля капитана, пока тот не затих.
– Успокоился? – спросил он и протянул Дирею серебрянный кубок. – Ну и кашель у тебя! Не кашель, а прямо лай какой-то. И давно это у тебя?
– Что? Кашель?.. – оторопел Дирей. – Да впервые в жизни! Даю слово!
– Успокойся, говорят тебе. Будто я тебе не верю. Выпей вот нектара с амброзией, как рукой все снимет.
Капитан послушно выпил содержимое кубка, вытащил огромный платок и начал старательно вытирать глаза, заслезившиеся от кашля. Леф, пригубив напиток, молча наблюдал за своим гостем. Он размышлял о том, насколько ослаб атлантский корень, если даже такой здоровяк, как капитан Дирей, столь легко и быстро поддается силе внушения. Покашлял, правда, немного, – и все! Не понял, что это ведь его тонкий аппарат послал ему весть о привхождении в него чужих и вредных для него энергий, – его собственный горловой центр никак не желал брать на переработку искусственно внедряемую в мозг мысль. Однако, печально успокоил себя Леф, по-другому нельзя. Ни в этом случае, ни во многих других, когда приходилось действовать вот так же. Единственное утешение и оправдание, так это твердая уверенность в том, что это делается во имя Общего Блага, – а, значит, для блага и самих реципиентов, не догадывающихся ни о чем. И в самом деле, разве будет легче Дирею, например, если он будет знать, что денно и нощно находится под недреманным оком службы Лефа? Начнет нервничать, оглядываться на невидимых руководителей, – словом, поступки его и помыслы потеряют самое ценное в любом сознании – естественность. Постоянное же наблюдение, не влияя на ход событий, позволяет расширить картину в их совокупности: то, о чем невдомек одиночке, яснее ясного для владеющего набором информационной мозаики. Профессиональные секреты святы для любого специалиста. А уж в его, Лефа, деле – так особенно. Вот уж поистине – Атлантида превыше всего…
Вдруг Леф насторожился: что-то было не так, как должно было быть. Он посмотрел на широкий оловянный браслет, надетый на левое запястье, – так и есть! Прибор показывал сброс объектом импульса. Это, само по себе, было невозможно, – но сейчас не время было искать причины неудачи. Надо было попытаться еще раз подсоединить тонкий пучок невидимого излучения к одной из точек в мозгу этого недалекого матроса. Вышло ведь до этого, выйдет и теперь. Жаль только времени, потраченного впустую. Да и не только времени!
Леф заставил себя успокоиться. При потере равновесия следует немедленно отказаться от любого начинания – можно только испортить дело. Это был закон, и кому как не Владыке Порядка было следовать ему?
Дирей, между тем, балагурил:
– Ух, и хорошая вещь – эта амброзия! Век бы и питался только ею. А вот напиток этот, хоть ты и назвал его нектаром, – нет, извини, но не могу никак признать. Что-то знакомое, но не нектар же!
– Не знал, что ты такой любитель амброзии, Дирей. А как же в плавании? Поддерживаешь себя ею или вынужден отказаться, дабы не смущать свое окружение? Там, на корабле, небось не скроешь ничего, так ведь?
Между делом Леф вновь наполнил бокалы, себе меньше, гостю – больше, почти до краев. Нужно было выбрать момент, когда он расслабится, и тогда уж пускать в ход поражающую стрелу. Вот именно что поражающую: неожиданное слово, которое отвлечет внимание и оставит сознание беззащитным, внезапное событие, например, гром с ясного неба…
Леф усмехнулся, подходя к Дирею: и что не придет на ум при такой работе! Однако капитан принял подношение с искренней благодарностью.
– Ты принимаешь меня по-царски, Леф! Смогу ли и я одарить тебя подобающе?
Он поднялся со стула и взял в руки вместительный кубок. Поглядев в его непроницаемую влажную глубину, сказал:
– Да исполнятся все твои, патрон, благие задумки! Ты знаешь: сказанное от чистого сердца имеет силу наивысшую. Таковы и мои слова! – и выпил до дна.
Леф был непонятно смущен. Как же так? Неужели это возможно, и не только в атлантских узаконенных правилах, в которые уже давно никто и не заглядывает, но и на самом деле, в обыденной жизни, – чтобы слово, идущее от сердца, перекрыло путь наиболее изощренным психическим достижениям атлантской мысли? Но Дирею сейчас было не до того, чтобы оценивать душевное состояние кого-либо, а тем более – Лефа, своего тороватого хозяина.
– Ты спросил, Леф, – я отвечаю, – Капитан, умиротворенный и довольный, вновь опустился на свой широкий стул. – В плавании, действительно, ничего не скроешь, потому никто ничего и не скрывает. Что до амброзии – тут и скрывать нечего: ни для кого не секрет, что мы, атланты, подкрепляемся именно ею. Нектар, правда, не тот уж стал в последнее время. Вот и твой, он также не отвечает высшим требованиям. Да ты и сам, должно быть, знаешь это, а?
Время шло, а болтовня этого бесчувственного бегемота (Леф с неудовольствием взглянул на сапоги капитана), не прекращалась. Делать было нечего. Незаметно вздохнув, – этот гость вывел-таки его из себя – Леф отвечал:
– Знаю, знаю, капитан. Но угостил тебя именно этим нектаром, признаюсь, не без умысла.
Подойдя к креслу, он внезапно повернулся к собеседнику и, сделав грозные глаза, рявкнул:
– А как ты думал, несмышленыш! У нас тут все с умыслом! Иначе нельзя…
Последние слова Леф произнес уже обычным голосом: он убедился в том, что его замысел вновь не удался. Внезапно он потерял интерес и к этому непробиваемому моряку и к самому этому разговору. Но, с другой стороны, нельзя же было вот так, сразу, взять и выпроводить его восвояси, не придав хотя бы видимости дела самому его вызову сюда. Кроме того, деловой интерес тут тоже был, – помимо первого, взятия сознания под контроль.
Решив оставить, по крайней мере, на сегодня капитана Дирея в покое, кроме всего другого, дальнейшие попытки могли бы, не дай Единый, плохо сказаться на его здоровье, Леф спокойно сел в свое кресло и тихо заговорил, будто и не он только что тут крутился и кричал. А именно так думал Дирей, во все глаза глядя на проделки Лефа, обычно такого уравновешенного и немногословного: вот что может с любым сделать нектар, если он не того качества!
– Мне хотелось посмотреть, как ты оценишь этот напиток, Дирей. Ведь его – и целый мех, заметь это! – преподнес мне не кто иной, как тот твой пассажир, который пытался взять тебя на испуг. Помнишь? В самом конце вашего плавания.
– Ну-ну, как не помнить, – пророкотал Дирей, – ведь такое со мной случилось впервые в жизни. Чтобы я когда-нибудь растерялся?.. Да, умелый он злыдень, скажу я тебе!
– Слыхал что-нибудь о его приключениях здесь, в Атлантисе?
– Ничего не слыхал. Да и дел было слишком много, чтобы прислушиваться к тому, что говорят.
Леф удовлетворенно кивнул: это было еще одно подтверждение идеальной работы его службы.
– А как насчет того, что царский советник взят под стражу? Что слышно об этом?
Дирей вытаращил глаза. У Лефа не было выбора, верить капитану, или нет: у того все было написано на лице.
– Какой советник? – только и спросил он.
Леф помолчал, поигрывая невесть откуда вдруг взявшимися на обычно округлых щеках жесткими желваками. Наконец он выговорил:
– Слушай, капитан. Что это ты так распустил себя?.. Не понимаешь, о чем я толкую?
Честные и широко открытые глаза этого огромного младенца чем-то раздражали его.
– По правде говоря, не понимаю, достойный Леф.
– Да ты посмотри на себя как-нибудь, – недобрая ирония, прозвучавшая в голосе обычно бесстрастного начальника этера, больно уколола его гостя, и он заметил это, – надеюсь, зеркалом не гнушаешься, как некоторые! Зеркало – оно ведь штука очень полезная иногда. Например, когда надо проследить за тем, чтобы лицо твое не изображало собой экран, на котором послушно вырисовывается все, что спрятано в глубине думающей машины. Атлант ты или уже вовсе позабыл об этом?
Не отрывая глаз от Лефа, капитан Дирей поднялся во весь свой немалый рост. Он сунул большие пальцы рук за широкий, тисненый металлом пояс, отчего тот зазвенел всеми бубенчиками и бляшками, нацепленными не него, и неторопливо заговорил:
– Ты спрашиваешь, о Леф, почитаемый мною не за свою должность, но за многочисленные достоинства, атлант ли я? Что ж, это важный вопрос, и я постараюсь на него ответить. Но говорить я буду не по-вашему, не по придворному обычаю, который, как я смотрю, превзошел уже самые древние законы, завещанные атлантскому роду его зачинателями, славнейшими титанами. Я скажу тебе то, что велит мне сердце.
Леф сидел, как пригвожденный к месту. Ни осадить капитана, ни заставить его замолчать он не мог – слишком большим оскорблением чести было бы это для Дирея. Но и подняться самому, чтобы стать вровень с ним, не позволял этикет: это значило бы, что он, Леф, Имеющий Власть, признает свое подчиненное положение перед этим атлантом-недоучкой. Стараясь сохранить незамутненное спокойствие, которым он так славился во все времена, повелитель стражей порядка не шевельнулся, слушая капитана, хотя выдержать его взгляд, взгляд поистине свысока, было для него очень тяжко.
– Я пришел к тебе, о Леф, с большими надеждами, – продолжал Дирей, – и принес я сюда свою безмерную благодарность за разбуженное во мне осознание того, что я принадлежу к некоему высшему роду. Однако недавняя встреча с картилином, давшая мне повод воспользоваться мысленной связью с твоим, Леф, ведомством, открыла мне также и самую суть нашего пребывания здесь, среди человеков. Конечно, мы должны быть едины и сплоченны, чтобы едиными и сплоченными смогли стать те области земные, которые нам будет дано охватить своим вниманием и нашей деятельной энергией. Прав ли я в этом?
Леф медленно наклонил голову в знак согласия и скрестил руки на груди – на всякий случай, – подумал он. Разговор принял неожиданный оборот, и кто мог знать, чем он может закончиться? Конечно, любые защитные жесты – всего лишь одна видимость, но и она не помешает сейчас, эта видимость. Дирей уже настолько очеловечился, что с ним и обращаться надо только как с человеком…
– Хорошо. Но это – лишь одна сторона вопроса, как я его понимаю.
Дирей сделал несколько шагов по направлению к Лефу. Тот бесстрастно наблюдал за ним, – никакой угрозы от капитана не исходило. И действительно, подойдя к столику с нектаром и амброзией, он налил себе полный кубок картилинского вина и приподнял его, вновь обернувшись к хозяину кабинета.
– Да утонут в этом кубке все твои невзгоды, о Леф! – невыразительно сказал он и опрокинул с себя весь кубок одним махом. Интерес взметнулся и погас во взгляде Лефа, не отрывавшемся от своего непредсказуемого гостя.
– Что, удивляешься? – спросил Дирей, тщательно отерев рот платком, который он вытащил из какой-то прорехи в своих широких штанах, заправленных в сапоги. – Да, по всему свету, где только проявилась милость великого бога Фуфлона, научившего человеков взращивать виноградники; вино, то бишь нектар, пьют теперь именно так. Не то, что здесь, на Посейдонисе – глотками и каплями! – и он невесело усмехнулся.
– Фуфлон, однако, царский сын, – подал голос Леф. – Не забывай этого, Дирей…
– А я что? – округлил глаза капитан. – Я – со всем почтением. Видишь, отдаю дань по новейшему ритуалу.
– …И виноград надо расценивать, как чрезвычайно питательный пищевой продукт. А уж если человеки решили переводить его на вино, которое разрушает их сознание и, в конечном счете, губит физическое тело, – вина ли в этом царевича Фуфлона?
– Да… – протянул Дирей. – Впрочем, не мне судить о таких вещах. Мое дело – плавать, слава Единому, по вновь открывшемуся морскому пути. И наблюдать. Что я и делаю.
Он пошатал рукой огромный стул, с сомнением обошел его вокруг и, решив остаться на собственных ногах, широко их расставил. На этот раз руки он сунул в глубокие прорехи по бокам штанов (их оказалось две, к удивлению Лефа, ничего подобного до сих пор не видывавшего), в то время как глаза его вновь тяжелыми буравчиками впились в патрона.
– Но я отвлекся, – сказал он. – Итак, другая сторона нашей темы – это то, какими средствами мы должны достигать этого желанного единения. Я вынужден вновь вспомнить о наших предках-титанах, потревожив их покой, ибо помощь их в этот час мне необходима: не так уж силен я в том, что вы называете философией. Итак, каковы были заветы тех великих из величайших, которые вынуждены были оставить Землю, уйдя в недра своей Матери? Они недвусмысленно завещали нам, атлантам, беречь согласие Земли и Неба. Понять это можно по-разному, однако я лично главный из священных заветов понимаю как разумное совмещение плотской жизни, в планетном ее аспекте, с жизнью духа.
По себе знаю, насколько трудно это совмещение, ведь дух каждого из нас – это существо в высшей степени капризное. Иначе, впрочем, и быть не может: разве он, обитатель светлейших сфер, может выдержать надолго пребывание в приземленных областях нашего сознания? А ведь мы без конца бытуем именно тут, в своих заботах о красоте и довольстве тела, об ублажении его и только его. Где же здесь место высочайшим энергиям? Вот дух наш и воспаряет в привычные ему слои. Я понимаю это так, как, например, меня опустили бы в море безо всякого приспособительного аппарата, – долго ли я выдержу в воде? Конечно же нет! Это не моя среда для жизни. Так и для того, чтобы дух наш мог занять свое законное место в каждом из нас, надо ему создать для этого условия. А условия эти простые. Даже, может быть, слишком простые – будь они посложнее, глядишь, мы бы и дорожили связью со своим духом больше. Ведь и надо-то всего-ничего: соблюдать самые элементарные правила, которые и повторять-то неудобно. Да и кто признается в том, что он отвергает начисто доброту или честность, или, скажем, зазнайство? Ты вот, Леф, отвергаешь ли эти качества в своей жизни?
– Упаси, Единый, – ответствовал Леф.
– Я и не сомневался. Так почему же тогда ты не обратился ко мне, как полагалось бы брату-атланту, с прямым и честным словом? «Нам необходима твоя помощь, – сказал бы ты мне. – Отдай Атлантиде свое сознание на время, ибо оно нужно ей сейчас. Будет трудно», – заметил бы ты. Еще бы! Разве легко знать, что все, с тобой происходящее (даже любая твоя мимолетная мысль), фиксируется где-то, кем-то просматривается. «Но зато – это были бы твои, о Леф, слова – ты, Дирей, будешь под могучей защитой объединенного Сознания великих атлантов. Зато, – и это бы окрылило меня, мой бедный брат, – никакое бедствие, или неудача, а может, и внезапное, самое страшное, что может быть, нападение сил видимых или невидимых, ничто тебе не будет грозить более. Ибо мощь Атлантиды – это не просто слова, это прекрасная и чудесная действительность». Я понял это, Леф, когда позволил себе обратиться к ее помощи, тогда, на корабле, в трудный для себя час…
Услыхав эти слова, Леф приподнялся, взявшись обеими руками за подлокотники кресла, – однако тут же опустился на место. Костяшки его конвульсивно сведенных пальцев побелели.
– …И не жалею об этом. Скажу тебе больше: я счастлив от этого приобщения и благодарен тебе за это счастье. Будто я долго спал, и все, что ни делал, о чем ни думал, все было во сне, – как вдруг меня разбудили. Хочу, чтобы ты меня понял, Леф. Я появился в этом мире, как и все, со всем комплексом возможностей, высших и низших, какие только предусмотрены в принципе для разумного создания. Однако уж не знаю, почему так случилось, но я не дал воли роста высшему. Хотя и не погряз беспросветно в пропасти чувственности земной. И вот – это внезапное, будто открылось окно и впустило в темную комнату солнечный свет, – пробуждение! Осознание того, что ты, оказывается, можешь! Можешь, – даже если пока и не все то, что доступно другим атлантам. Не беда, у тебя все впереди!
И Дирей победно потряс в воздухе сжатой в кулак рукой.
– Значит, ты знал?.. – с трудом разжав губы, выговорил Леф.
– Знал с самого начала. Но не придал этому значения. Просто выбросил из головы.
– Как так?
– И сам не знаю, – признался Дирей. – Как только я, выйдя отсюда в тот раз, почувствовал что-то инородное в себе, – знаешь, будто какая-то мошка зудит и не дает сосредоточиться, все отвлекает внимание на себя, – так сразу и выбросил эту воображаемую мошку из головы.
– Так просто…
– Так я ведь атлант, Леф. А ты забыл об этом.
– И другие – тоже атланты. Казались почище тебя, однако подчинялись безропотно.
– Может, и они, как я, только делали вид, что терпят ваше вмешательство?
– Нет… Те – безотказны. С тобой же получился сбой.
– Потому вы и вознамерились снова пристегнуть меня к своей машинке?
– Называй это, как хочешь, Дирей, но это и в самом деле было вызвано необходимостью. Мы рассчитываем на твою работу, а от нее, особенно на этот раз, слишком многое зависит, чтобы понадеяться только на твое личное разумение. Не знаю, как и говорить с тобой теперь – извинения тут никакие не помогут. Поверишь ли…
– Поверю, однако. Потому что вижу и ощущаю с некоторых пор многое, что было от меня закрыто. Прошу только не повторять ошибки, допущенной со мной: не насиловать более ничьего сознания. Поверь мне, Леф, чувство единения так прекрасно, что от него не откажется ни один атлант!
– Ты и в самом деле большой младенец, Дирей, когда можешь так говорить! К счастью, в твоем случае произошло открытие сознания, – это доказывает лишь то, что оно у тебя не было укупорено наглухо смоляной пробкой чувственного пристрастия к «радостям жизни». Открою тебе тайну, которая, быть может, уже и не тайна вовсе: большинство из тех, кого мы привыкли считать атлантами, со всеми атлантам присущими способностями, давно их потеряли. Так, ходят по Земле, как живые гробницы… Небо коптят, испуская из себя дымный туман вместо ясного и быстрого, как стрела Аполлона, сверкания мыслей.
– Не пугай меня, Леф. Если уж я, наиболее безнадежный изо всех…
– Кто это тебе так сказал?
– Да хоть бы и ты. Не словами, так отношением. Об этом-то я и хочу тебе напомнить: не ставь глухую точку там, где еще может продлиться крылатая фраза. Не забывай о том, что наше сознание, сознание атлантов, не умирает. Оно может быть приглушено и даже задавлено целыми горами земных условностей, которым поддалось, но оно живет в нас. И может возродиться в любой момент, – стоит только пробиться к нему.
– Вот мы и пытаемся пробиться…
– Э, нет! К высшему дорога только через высшее! Низменными путями попадешь знаешь куда?
Леф поглядел на капитана. Что такое случилось, что он, безгрешный повелитель Атлантиса – или кажущийся таковым, – выслушивает простого моряка, проводящего свои дни в бесконечном кружении по открытым морям, чье общение не превышает потолка человеческого разума? И выслушивает, как какого-то пророка… Да, видно, придется на досуге крепко поразмыслить. Кудато не туда завела его, Лефа, привычка всегда оказываться правым. Обожание верных этера – вещь, конечно, хорошая, но гордыни она не преуменьшает!
А капитан продолжал:
– Ну ладно! Заговорился я с тобой, Леф. Значит, решим так, если ты не против: ставлю тебя в известность, что наша привязка, или как там вы ее называете, у меня на месте. Возобновлять ее нет надобности. Но вам придется смириться с тем, что подключать ее я буду именно по своему, а не по вашему приказу. Если возражений нет – закончим с этим.
– Погоди, Дирей, – остановил его Леф и задумался. Наконец он поднял голову, и в глаза капитана брызнуло словно голубым светом: так сиял и искрился давно забытой улыбкой взор Лефа, которого за глаза называли «каменным». Надо и мне сказать кое-что, хоть и трудно: отвык я выговаривать некоторые слова. Все больше приходится мне приказывать, а привычка к точному исполнению твоих приказов, она ведь коварна. Потому что раз за разом уводит тебя от истины. Стоит хоть раз допустить малейшее отклонение от внутреннего своего Закона, как оно тут же превращается в уклон. Уклон же, как известно, всегда противоположен направлению вперед и вверх, указанному нам.
– Как и человекам, – заметил Дирей.
– Да. Но с ними дело несколько иное: им только предстоит еще пройти начальные шаги того Пути, которые мы уже преодолели. Они, по самой своей сути, пока не могут выйти за пределы круга, жестко очерченного духовной эволюцией для каждого из разумных сообществ.
– Ты говоришь так мудрено, Леф, вроде как наставник из Академии. Но тогда я не захотел доучиваться – скучно мне было, да и не понимал я ничего, честно сказать, из тех речей. А тебя вот слушаю с удовольствием. И даже вникаю во все. Или мне так кажется?
– Говорю я плохо и понимаю также далеко не все из того, что должен был бы знать как настоящий атлант, – сурово отмел славословия в свой адрес Леф. – Хоть и выдержал учение чуть дольше, чем ты, Дирей. Теперь же обучение мне дается с трудом, хотя я и стараюсь не отрываться от общего уровня знаний. Видно, существует какая-то граница – возрастной уровень, занимающий очень малую, по сравнению с физическим протяжением нашей жизни, ступеньку, в пределах которой каждый разум должен успеть познать все, что только может вместить из Великой Сокровищницы Знания. Пусть это будут даже поверхностные сведения, лишь бы ареал их был как можно шире. Потому что, по достижении этой границы ворота как бы закрываются. Правда, тут же открываются другие, – и ведут они уже к систематизации, осмыслению и внутренней переработке того, что было заложено в период естественного обучения. Который, к сожалению, так короток…
– Ты хочешь сказать, что девизом каждого юноши должны быть слова: «Хватай, сколько можешь!»?
– И каждой девушки также. Но только ты уж слишком грубо выразился, Дирей. Хотя, конечно, применительно к знаниям можно сказать и так. Лишь бы то, чего в юности «нахватаются», не осталось на всю жизнь в сознании только вершинами айсбергов. Знание, оно ведь подобно именно этим глыбам: чем дальше вглубь, тем огромнее объем. С той разницей, что заинтересованному сознанию предела нет, тогда как айсберг, по счастью, конечен.
Дирей усмехнулся и присел на стул.
– Кстати, об айсбергах, – живо проговорил он, словно торопясь сменить тему разговора. – Это походит уже на бедствие, столько их появилось в океане. Если бы не наша техника – ко дну можно было бы пойти на другой же день от начала плавания. Конечно, это обнадеживающий признак: ледовый панцирь раскололся окончательно! Однако хлопот с ними много.
– Не жалуйся. Впервые, что ли, тебе проходить по льдам? Или западные пути легче, чем эти, восточные?
– Как тебе сказать… Везде непросто. Планета стала совсем другой, а ведь я колесил по ней немало когдато. Теперь же нельзя ничего узнать, везде мелководье, банки, – того и глядишь, сядешь на киль. Там, где была привычная, устойчивая суша – плещется море. Единый монолит материка, хоть и обуженный местами соленой водицей, теперь разделен широкими проливами. Иногда это просто затопленная суша, пологий материковый шельф. Но кое-где – жуткие провалы.
– Ты имеешь в виду Атлантику?
– Не только. Точно на месте Северного полюса – глубочайшая впадина.
– Гиперборея… Но вы там не должны были находиться!
– А мы и не приближались к тем местам. Но карты космической съемки, а также наши приборы дальнего зонтирования океанского дна, – ты забываешь об этом?
– Как печально, Дирей! Приходится говорить о прекрасной стране в прошедшем времени. Кто бы мог ожидать, что на месте цветущей Арьяны окажется океан?
– Времени прошло немало. Пора бы и привыкнуть к этой мысли, патрон.
– И не только к этой. И все же иногда что-то накатывает: перед глазами встают, как наяву, один за другим, Семь Городов великолепной Арьяны…
– Ты, Леф, как и я, так и не научился правильно выговаривать арийское название Гипербореи. Ну и ладно, – главное, что арьи нас и так понимают.
– Хочу поговорить с тобой, Дирей, о предстоящем маршруте. Он будет несколько иным, нежели предполагалось.
– Слушаю, о Леф!
И Дирей, как бы подчеркивая свою сугубую внимательность, вместе со стулом придвинулся к Лефу поближе.
– Доверяю тебе тайну, капитан.
Дирей кивнул, – и этим было все сказано. Тайна, доверенная с глазу на глаз, не подлежала разглашению. Это было правилом, само собой разумеющимся, и никаких иных подтверждений, кроме уведомления о секретности, не требовалось.
Атланты, жившие как бы одновременно в двух мирах, земном и общекосмическом, знали, что есть данное слово; чуть ли не с самого рождения они усваивали нерушимость его. Ведь слово, как и звук, нематериально, то есть запечатлевается оно не в земном выражении, но, и это главное, на невидимых, потусторонних скрижалях пространства, которое, как в огненном зеркале, отражает все, происходящее в мире действия. Знали они и о том, что наказание, неминуемо следующее за каждым нарушением истины, ложь – это отнюдь не кара злого божества, но автоматическая реакция на несоответствие материально проявленного поступка идее, прототипу, несмываемыми огненными знаками впечатавшимся в его личную электромагнитную ленту. Великую и всеобъемлющую ленту Агаси…
Обманутое же доверие – один из худших видов этого несоответствия. Любая ложь, таким образом, полностью исключалась из обихода небесных потомков, – во всяком случае, тех, кто нес в себе моральный Закон.
– Атлантида не вечна, – прямо глядя в честные глаза Дирея, начал, после некоторого раздумья, Леф. – Все мы знаем об этом, и, однако, оказываемся одинаково беспомощны тогда, когда страшный момент приближается.
Дирей не шевельнулся, слушая.
– Ничто не проходит бесследно, – продолжал Леф, – это также истина, давно всем известная. Но осознать ее, принять как естественное следствие закона – задача каждого из нас, и задача трудная. Да, искажение околопланетного пространства, приведшее к Великой Катастрофе, не восстановилось с гибелью основной массы материка. Больше того – оно, подобно огромной язве, исподволь распостраняется по всему Атлантическому бассейну, разъедая все на своем пути, нарушая равновесие миров, – плотного и невидимого. А ведь без этого равновесия жизнь очень осложняется.
Дирей поднял руку, прося разрешения прервать Лефа.
– Прости меня, патрон, – сказал он, – но раз уж ты открываешь мне картину мира, прошу тебя не посчитаться со временем и прояснить мне причину гибели основного материка. В общих чертах мне кое-что известно: наши двоюродные и троюродные, если так можно выразиться, братья-атланты в какой-то момент истории возомнили о себе невесть что и поставили себе целью достигнуть мирового господства…
– Эта цель, сама по себе, не так уж страшна, – понял его с полуслова Леф, – если бы для достижения ее не использовались негодные и даже запрещенные средства.
– Ты имеешь в виду черное колдовство?
Леф усмехнулся краешком губ.
– Если бы только это… Да, они начали засорение эфира, используя его как некое невидимое пространство, очень удобное для сброса всевозможных отходов. В том числе и отходов психической деятельности. Они не посчитались с тем, что эфир – живая, священная сущность так же, как остальные стихии: огонь, вода, воздух и земля, – все они не подлежат загрязнению. Отойдя от незыблемых принципов соблюдения чистоты основ жизни, они осквернили сам ее корень.
– А взрыв, – в чем, все-таки, его причина?
Ударив руками по коленям, Леф поднялся.
– Ну все! – сказал он. – Мы заходим слишком далеко. Не забывай, Дирей, что Великая Катастрофа – тема запретная, и недаром. Негоже ворошить энергии, еще не устоявшиеся и далекие от состояния не то что гармонии, но хотя бы спокойствия. Придет время, не нами исчисленное, и начнут открываться тайны прошедших страшных бедствий. Дабы не повторились они вновь.
– Разве оно не наступило сейчас? Если ты говоришь о «страшном моменте»…
– Тем более опасно сегодня вызывать в памяти тяжкие столкновения стихий. И без того мы на шаткой грани исчезновения. Наша благословенная земля, к несчастью, может не избежать участи всей Атлантиды. Сейчас Посейдонис окружен почти таким же темным и вязким слоем атмосферы.
– Но ведь он так светел! Ты, Леф, давно, видно, не приближался к нему со стороны моря. Иначе тебе не пришло бы в голову говорить о какой-то темноте атмосферы вокруг Посейдониса!
– Слушаю тебя, Дирей, и поражаюсь! – угрюмо прервал излияния капитана начальник Этера. – Рассуждаешь, словно какой неразумный человек, прости меня. Разве речь идет о видимом свете? Хотя и он уже заметно затмился: в телескоп невозможно ничего разглядеть с Земли. Приходится перегружать работой космическую станцию, а ведь она у нас осталась единственная. Но – и не о ней речь. Дело же в том, что стараниями некоторых сильно активировался астрал в его нижних слоях.
– Говори прямо, Леф! Что за «некоторые»? Я ведь в последнее время вроде как гость на своей земле, – ничего не понимаю!
– Ладно, Дирей! – Леф, скрестив руки за спиной, начал отмеривать квадратный покой по диагонали. – Пока ты плавал, Атлантис весь оплелся сетью заговоров.
– А ты?! – вскричал Дирей. – Ты-то куда смотрел, Леф? Не в твоих ли руках сила и власть?
– Погоди кричать, словно на пристани, – утихомирил его Леф, – сила и власть в таких делах, знаешь, еще не самое главное. Они-то, заговорщики, тоже, небось, себе на уме. Прячутся, будь они неладны. То, что на виду – все благопристойно. Слова?.. Так слова они произносят все правильные! О соблюдении единства. О незыблемости атлантских устоев. О необходимости очищения, – духовного, заметь, в первую очередь.
– Так, может, тебе все привиделось, Леф? Я – так ничего такого не заметил…
– Привиделось… Когда повсюду возобновились человеческие жертвоприношения, – этого тебе мало?
Дирей примолк. Его глаза, глубоко посаженные, в густой поросли загнутых ресниц и широких бровей, смотрели на Лефа растерянно и как-то жалобно.
– Это когда же у нас такое бывало?.. – только и промолвил он.
– Вот именно, – кивнул головой Леф, – ты попал в самый корень: это все не наше. Как невидимая зараза, проник дух Каци и в нашу среду. А мы-то были уверены, что это невозможно! Как же: ведь так ясно, кажется, яснее и некуда, что мы все должны следовать законам высшим, отвергая все низменное. Ведь на нас смотрят, нам подражают во всем, в чем могут, эти бедные маленькие человеки!
– Да, Леф, что-то слишком мы доверчивы… От силы это, что ли?
– Но так и должно быть, по-настоящему если. А вот когда тебе начинают, глядя в глаза, вместо правды говорить нечто совсем обратное – тогда уж терпение кончается. И пощады этим исказителям истины не может быть!
– А ведь у нас и слова-то такого нет, чтобы определить подобное, – удивился Дирей. – Придется взять из расенского обихода: они говорят про таких – врун.
– Как ты сказал? Врун? – Леф даже остановился ненадолго, как бы осваивая новое слово. – Подойдет! Значит, «врун», говоришь? А как же будет само это действие?
– Само действие? Вранье, вот как!
И Дирей пристукнул кулаком о ладонь. Он был очень доволен: как же, – угодил патрону, а, главное, отвлек его от мрачных мыслей. Его веселость чуть перехватила через край, когда он продолжил:
– А ну их, всю эту черноту, вместе с их Каци-Кащеем! Давай лучше запьем эту нечисть твоим нектаром. Хоть он и не наилучшего свойства, но все же сгодится.
И, не дожидаясь согласия, он вновь наполнил свой кубок, после чего вопросительно взглянул на хозяина. Однако Леф коротко мотнул головой.
– Мне не наливай, – сказал он, – я взял свою норму на сутки вперед. А вот ты… Не слишком ли ты часто осушаешь свой кубок? Ведь это даже и не нектар, капитан. Это – просто перебродивший виноград, к тому же не очищенный, как надо. Сам ведь говорил о его некачественности. И вызывает он не прояснение сознания и прилив сил (как наш поистине божественный напиток, соединение нектара с амброзией). Его действие как раз обратно: мутит разум, активизируя области мозга, связанные с низменными инстинктами. Поэтому воспламенение от вина подобно безумию, несущему за собой полное бессилие. Тогда как божественный нектар, очищая тело от всего темного и вредоносного, чем переполнена Земля, дает возможность сознанию, воздействуя опять же через мозг, но уже в высших его центрах, обычно бездействующих, – он несет не просто соединение с Единым, но и обновление физического тела. Но и здесь нужна норма: это тот порог, за которым наступает обратное действие. Не забыл ли ты об этом, Дирей?
Капитан, глядя в кубок, задумчиво крутил его в могучей руке. Медля с ответом, он пригубил вина, посмаковал его, и решительно прошел в угол помещения, к аннигилятору.
– Все! – сказал он, вылив содержимое кубка в прозрачную воронку и, для верности, вытряхнув его. – Благодарю тебя, о Леф, за напоминание. Это все мое общение с человеческим муравейником, знаешь ли…
– Только ли это? – Леф продолжал, желая закончить прояснение сознания своего, так нужного его ведомству, сотрудника. – Человекам ведь и вовсе запрещено употреблять веселящие средства. Не готовы они пока к благотворному их воздействию, не готовы просто физически. Даже самые подвинутые из них, – те, кто ближе всех подошли к грани духовного открытия, – и они, желая ускорить свое вхождение в «мир богов», как они это называют, впадают в буйство, или, того хуже, оргиазм, приняв даже незначительную их дозу. И не более того. Но их можно извинить – они заблуждаются, следуя, так сказать, лучшим порывам души, принимая повышенную чувственность, которая приходит с употреблением вина и других подобных средств, за соединение с небесной силой. Увы, они лишь исчерпывают до дна все ресурсы своего организма, вплоть до самых неприкосновенных, и очень скоро оказываются ни к чему не пригодными, трясущимися развалинами. Повторяю, – даже те, у кого энергетический потенциал при вхождении в жизнь был повышен.
– Да-да… – грустно кивал в такт его словам Дирей, обдумывая что-то свое. – Ты говоришь так, Леф, будто это не я, а ты сам путешествуешь по свету и общаешься с человеками. Только мне это почему-то не приходило до сих пор в голову, тогда как ты сразу вводишь все в стройную систему. Эх, и долго ли я буду еще жалеть о своей недоученности? Чем дальше, тем больше я осознаю собственную ущербность. Прямо хоть не встречайся с такими, как ты, Леф!
Однако этера не принял открытой лести.
– Признаюсь тебе, Дирей, – усмехнулся он, – твои чувства мне знакомы.
– Тебе, о Леф?..
– А что же ты думаешь! Росту сознания, или его расширению, говори, как хочешь, предела нет. Я вот тут, перед тобой, выкладываю то, что знаю, и тебе мои познания кажутся всеохватывающими. Но поговорил бы ты с кем-нибудь повыше меня, – ведь должности-то, они не напрасно даются, но по этому самому уровню разума…
– Э, нет! Тут ты хватил через край!
– Может быть, – пожал плечами Леф. – В наше время, когда все так искажено нами же самими, встречается и такое, что кто-то занимает место, ему не принадлежащее. Но ведь очень легко распознаваемо, – и потому – временно. Я же говорю о Законе. Чем выше сознание, тем более велика его ответственность, которую оно, надо сказать, берет на себя добровольно. Ответственность, распостраняемая и вверх, и вниз.
– Понятно…
– Так представь себе, каким невеждой я должен ощущать себя в присутствии высочайших сознаний нашего времени! И ощущаю, – с грустью констатировал Леф. – Игра ума, при которой нет нужды в объяснениях, а иногда и в самих словах. Обмен понятиями и категориями, недоступными твоему бедному интеллекту, который кажется тебе самому в этот момент неповоротливым и тихоходным, как скрипучая повозка селянина перед мобилем Гермеса Великого! И в этом сверкающем молниями обмене мыслями ты стоишь, не успевая оборачиваться от одного к другому, и ничего, кажется, не понимаешь. Только позже, много позже, оказывается, что какая-то малая толика из всего сказанного осталась в твоем сознании. Затем, в нужный момент, всплывает вдруг решение труднейшего вопроса, – тут, если ты не слишком самовлюблен, ты сообразишь, что это – не твоя личная гениальная мысль, а результат того, что глубинный твой разум успел принять и переработать от тех сознаний, которые поистине подобны солнцу.
– Как это – переработать? Если я не понимаю сейчас, когда ты мне что-то говоришь, разве пойму я это потом, когда уже некому будет мне дать разъяснение?
– Дорогой мой. В том и секрет нашего сознания, что оно не все на виду. Надо только, чтобы оно было открыто к восприятию, – и тогда оно работает уже само в тайниках своих. Случайное слово, сказанное вроде бы и не к месту, способно иногда вызвать на его поверхность наилучшее разрешение самых трудных вопросов. Задача лишь в том, чтобы сокровищница знаний, их банк, были по возможности более наполнены. Тогда и выдача результатов становится быстрее, тогда и встречаются те, для которых «нет проблем».
Дирей покрутил головой:
– Очевидно, и мне все это придется понять когда– нибудь потом, ибо сейчас в голове у меня настоящая каша, – признался он. – Хотел бы только попросить тебя рассказать мне об истинном происхождении человеков, – да нет! Я уже ничего, кажется, не усвою. Не привык я, знаешь, к обучению.
– Сделаем так, – ответил ему Леф, – сейчас мы займемся нашим прямым делом, – (хотя этот урок был именно делом, да еще наиважнейшим для тебя, – подумал он между тем), – обсудим твое задание. А насчет человеков… Что ж, это тебе знать нужно. Прошу твоего согласия на подключение твоего сознания к воспроизводящей дискете.
Дирей слегка насторожился.
– Что это значит? – как бы нехотя спросил он.
– Это значит, во-первых, экономию твоего и нашего времени. Смотри: ты будешь гулять, или заниматься любыми своими делами. А между тем, пройдет какое-то время, и окажется вдруг, что ты знаешь. Понимаешь? Просто знаешь о чем-либо, что интересовало тебя, – в данном случае о происхождении «человеческого муравейника», как ты выразился, – и все тут.
– Не может быть! – воскликнул Дирей. – Если это так, тогда зачем все лицеи и академии? Давай подключай всех к машине – и не надо раздумывать! – капитан загорелся новой для себя идеей: – Слушай! А человеки? Они ведь сразу станут гениями. Не хуже тебя, Леф! Что же мы держим в секрете такую возможность? Где же наша первейшая забота – развитие человека?
Леф выслушал эту тираду со снисходительным сожалением и ответил:
– Все не так просто, Дирей. Если даже тебе, атланту, невозможно было до сих пор применить этот способ… Развитие, эволюция не приемлют для себя никакого насилия, в том числе и с самыми благими целями.
– Но разве это насилие, если я сам желаю научиться чему-то или подняться над своим уровнем?
– Насилие в том смысле, что весь организм существа в целом должен отвечать некоторым очень высоким требованиям, прежде чем к нему можно будет безнаказанно прикоснуться подобным методом. Мы снова приходим к тому, что сознание должно быть готово к принятию высшего дара. И если у тебя оно оказалось готовым, то это означает твою природную причастность к роду атлантов. Человеки же должны пройти еще долгий путь развития, прежде чем их мозг окажется в состоянии без болезненных последствий для себя выдержать груз информации, которая иначе легко может разрушить хрупкие ткани их нервных сплетений, что означает для них гибель. Любая информация есть энергия, со всеми ее качествами…
– Темно говоришь. Но – тебе виднее, мой патрон. И, если ты считаешь, что во мне уже образовался приемник для твоего включателя – что ж, я не против поучиться даром. Надеюсь, что и в дальнейшем ты не забудешь про неуча-капитана, когда он будет в плавании, и подучишь его кое-чему еще!
– Дай срок, – улыбнулся Леф, – посмотрим, как ты воспримешь первый негласный урок. Он-то ведь не из самых трудных.
– Ты уж совсем плохо думаешь обо мне!
– Вовсе нет, – отпарировал начальник этера. – Но не забывай, что информация – это энергия высшего накала, из разряда световой. Мысль, потому она и сильна, что обретается в сфере Материи-Люсиды. Многим, к сожалению, недоступны эти высшие материи. Ведь мозг их в силах освоить информационную энергию лишь определенного уровня. Однако, Дирей, перестань сомневаться в себе. Ты – атлант, и доказал это.
Капитан уже безо всякой рисовки посмотрел в глаза Лефа долгим и изучающим взглядом.
– Ладно, – промолвил он наконец. – Сдается мне, что на этот раз ты говоришь то, что соответствует истине. Знаешь, поблажки мне не нужны.
– Вот и хорошо.
Леф обернулся к стене и мысленно откорректировал на ней карту: увеличилась и осветилась на ней некая область, из тех, что привлекли вначале внимание Дирея своей «полосатостью». При детальном рассмотрении эти полосы, располагавшиеся в шахматном порядке, следовали всем неровностям ландшафта, не меняя конфигурации…
– Знаешь, что это такое? – спросил Леф.
– Не представляю.
– А ведь мы не по своей прихоти так разрисовали эту землю, – заметил Леф, – она именно такова на всем протяжении этого материка по направлению к востоку.
– Откуда такая уверенность?
– Разве не достаточно того, что исследователи вашего судна осмотрели участок наиболее характерный? Космическая съемка же показывает: то же самое продолжается и далее.
– Что же это такое?
– Это удивительно, как и многое на Земле, Дирей! И однако то, что мы видим здесь – всего лишь почва, перемежающаяся со льдом. Причем лед уходит на глубину до плетра.
Дирей отреагировал неожиданно.
– Ну и что здесь удивительного? – сказал он. – Просто едомы. Так их зовут аборигены.
– Кто именно?
– Все больше схиртли. Но попадаются и тины. Мало их там, – тех и других. Да и одичали сильно.
– Одичаешь, живя на вечной мерзлоте…
– Даже и не верится, что это родственники тех гиперборейцев, каких мы знаем. И не уходят, заметь, от места гибели своей земли. Помочь им мало чем можно: так, дали кое-что из провианта да увеличительное стекло.
– Вот это уже напрасно.
– Почему? Оставили за собой след?.. Так выпросил один огонь разжигать из собранных травинок.
– Основательно вы поработали в тех местах, вижу. Что же касается помощи – скоро, скоро они ее получат!
– Что, едомы растопим?
– Нет. Эти ледяные столбы в мягком мерзлотном лессе растопит только время, оно сейчас работает на отепление всего материка. Но нас интересуют места, где можно высадить наших, посейдонских человеков…
– Что?! Не ослышался ли я?
– Пришло время, Дирей. Такова необходимость, и мы все должны с ней смириться. Больше того, надо для них подобрать условия, если не подобные здешним, то хотя бы приемлемые для жизни. Во всяком случае, вижу, что ближайшие области материка для этого не подходят.
Однако Дирей не отступал от своей мысли, – неразрешенная, она не давала ему покоя.
– Прошу тебя, патрон, ответь мне прямо, – сказал он и уставился на носки своих огромных сапог.
– Эти намерения… о переселении человеков… Значит ли это, что ожидается… – видно было, как тяжко ему выговорить нужные слова, – нечто вроде…
– Да, капитан Дирей. – Леф был лаконичен и сух. – Можно ждать катастрофы.
– И когда?
– Если бы кто мог назвать день и час…
– И все же?
– Главное, что мы предупреждены. Кем, как – это не столь важно. Предупреждение – это данная нам всем возможность принять нужные меры и спасти, в первую очередь, тех, кто сам не сможет о себе позаботиться – человеков.
– Бедные мои расены, бедные…
– Только ли расены? Что ж, они сейчас действительно едины: и в языке, и в культурных навыках.
– Но они так мало еще знают! Так плохо приспособлены к дикой жизни! Посмотрел бы ты, во что превратились наши же колонисты, еще не так давно заселившие Троаду.
– Недавно сам Апплу показывал мне своих подопечных. Так что видел я их.
– Летал в Трою? – чуть насмешливо поинтересовался Дирей.
– Когда имеешь дело с царевичами, это вовсе не обязательно. Апплу развернул перед нами с Гермесом картины жизни троаков, или траков, как они сами стали себя называть.
– Значит, такое все же возможно… – задумчиво сказал капитан. – Иногда жалею, Леф, что эта духовная сторона жизни атлантов не коснулась меня…
– …Или ты сам не пожелал затронуть, – поправил собеседника Леф. – Но твое возрождение идет такими темпами, что, я думаю, в самом скором времени и перед твоим внутренним взором откроются целые картины. Однако – берегись подделки.
– Какая же может быть подделка, если видение – внутри меня? – удивился Дирей.
– В потустороннем мире – о, там много шутников, – веско произнес Леф, – которые могут заморочить голову и не такому… как ты. Так что до времени не торопись со своим «видением». Подожди, пока оно придет само. А пока – размышляй, ищи себе покровителя, в истинности которого ты бы не сомневался.
– Такого, как ты, например?
– Э, нет. Я не гожусь. Меть повыше.
Дирей не настаивал. Он потер лоб рукой, как бы раздумывая, о чем бы еще спросить Лефа, но тот опередил его.
– Как бы ты, Дирей, ни прятал голову в песок вроде той знаменитой птицы, а вернуться к нашей теме все же придется. Что касается троаков, – они, на мой взгляд, живут вполне нормально. С поправкой на то, что они человеки, но пытаются обойтись собственным разумением. Апплу, хоть и наблюдает за ними, однако дает им почти полную самостоятельность. Конечно, смрадно там. Клубятся они в своем мирке, и даже такому мощному лучу, как свет великого Аполлона, с трудом удается пробиться в ту чадную клоаку.
– По мне, так у них даже темнее, чем у остальных колонистов, переселенных во внешний мир.
– Ну уж нет! Не могу согласиться с тобой в этом. Возьми хотя бы этого твоего пассажира, картилина, как его…
– Картлоза? – сразу вспомнил его имя капитан. – Занятный такой парень. Не пойму – то ли больной он разумом, то ли прикидывается зачем-то.
– Все проще. Гордец он, каких мир не видывал.
– Так ли? Ты считаешь, Леф, что на его родине положение хуже, чем в Трое? А можно ли вообще ставить тех и других на одну доску?
– Почему же нет?
– Да потому, что картилины, во-первых, вовсе не посейдонские колонисты. Во-вторых же – они, насколько я понял из речей самого Картлоза, считают себя потомками атлантов.
– А ты сам как думаешь?
– Много я знаю! До сего часа я верил всему, что мне говорили. Теперь же, наученный кое-чему, – он хитровато взглянул на патрона, – я начинаю все услышанное как бы заново варить в собственном котелке, чтобы не проглотить отравы. Во всяком случае, верно то, что они – последыши Каци.
– Этих осталось уже ничтожно мало. Как и их непримиримых противников, из стана Хмерта.
– Кого-кого? Хмерта, говоришь? Но, если я не ошибаюсь, Картлоз упоминал это имя, и не раз, в смысле своего божества. Точно!
– Тогда еще не все потеряно, и он может на что-то надеяться. В дальнейшем.
– Так вот в чем была проблема Центральной Атлантиды! – догадался Дирей. – Ну и клубок! Помимо соперничества с Тинами, еще и внутренняя распря. Да, такого не выдержит никакое государство. Шутка сказать!..
– Прибавь сюда и злоупотребление темными магическими энергиями. Никто из противников не сдерживал себя в проявлениях злобы и непримиримости. А ведь оккультная сила их была огромна! Этого не выдержало не только государство, – не снесла этого и сама Земля.
– Ты хочешь сказать, что она как бы разорвалась на части от диаметрально противоположных желаний и стремлений собственных неуступчивых детей?
– Очень поэтично. Хвалю, капитан, – растешь на глазах. Но мы договаривались: тема эта запретна, и касаться ее небезопасно. Что до картилина… Ты видел сам, насколько велик груз заносчивости, зазнайства, отяготивший этого человека, – именно человека, потому что ничто в нем не напоминает о величии его предков по месту перворождения. Он был бы смешон, если б не вызывал чувства горечи и опасения за судьбу своих сородичей. Впрочем, нам не следует сейчас так разбрасываться. Собственное будущее должно нас беспокоить в первую очередь, а не осуждение других. Они-то приняли свое наказание и несут его. Наше – не за горами. Как-то мы сами примем его?
Взгляды их встретились. Пристальные и суровые, ибо нечего больше было скрывать друг от друга, эти взгляды проникали до дна и сущность каждого, не оставляя места сомнениям и домыслам. Наконец Дирей произнес:
– Нам остается теперь, подражая ритуалам братания у тех же троаков, скрепить свои узы кровью!
И усмехнулся.
– Увы, Дирей! – с нарочитым сожалением ответствовал ему Леф. – Нам и этого не дано: кровь наша, в отличие от человеческой, не проливается из раны, даже если бы мы и захотели, упаси Единый, сделать надрез на своем теле.
– Хоть это преимущество еще осталось…
– Да… Ну что ж, в основном мы все решили. Детали задания будут уточняться по мере плавания. Подробности ты найдешь на экране компьютера в своей капитанской каюте.
– Еще вопрос, Леф.
– Опять?.. Время приближается к полудню. Удивлен сам собою: никому я не уделял до сих пор стольких часов!
– Мы все смотрим с тобой на восток от Посейдониса, Леф. А западный материк? Разве не легче всего перенаправить народ туда? И ближе, и безопаснее. Что скажешь?
– Скажу то, что не нашего это ума дело. Сказано – выполняем. Но ты прав – все должно быть понято, прежде чем браться за что-то. Западный материк, во-первых, так же закрыт для активного действия, как и все места, связанные с Великой Катастрофой. Во-вторых, где, собственно, ты предлагаешь поселить «наших» человеков, уж не в соседстве ли с Посейдонисом? Это исключается по понятным причинам. Дальше. Почти весь материк заселен тинами с Гипербореи, – не изгонять же их оттуда, в конце концов. Тем более что для проживания им остается там не так уж и много места: с шестидесятой по сороковую параллель северной широты.
– Почему так мало?
– Выше к северу все будет объято вскорости холодом, Дирей. Климат меняется, как ты знаешь. Тридцатая же параллель, – она и есть та самая «закрытая» зона. Последствия взрыва еще слишком явны в окружающей среде. И пройдет немало времени, прежде чем они будут изжиты. Тогда только, – и не раньше, – будет снято незримое и неслышное запрещение, и жизнь понемногу начнет возвращаться в те места…
– И последнее, Леф. Где наш царь, великий держатель мира? Где Родам?
Леф не успел ответить, если бы даже он и пожелал это сделать. Сильный гул, приближаясь откуда-то снизу, наполнил подземное помещение, казалось, до отказа, – Дирей даже крепко стиснул уши руками, пытаясь спастись от все нараставшего грома.
Все продолжалось считанные секунды, хотя длилось до невероятия долго. Томительное ожидание, сковавшее всякую инициативу, завершилось тем, что земля под ногами у атлантов вдруг как бы ушла вниз. Экран на стене погас, и жалобно звякнул крышкой серебрянный кувшин, упавший с резного столика.
Неуверенность метнулась в глазах Дирея, обратившихся к патрону. Да Леф и сам заколебался: бежать ли наверх, на спасительную открытую площадь, или оставаться на месте? Но привычка разумно оценивать обстановку взяла свое.
– Здесь нам ничего не угрожает, Дирей, – спокойно произнес он, поднимая кувшин. – Эх, жаль дареного вина! Но ничего: твой пассажир уже на месте, в своей каюте. На обратном пути уж он попотчует тебя вдоволь!
Леф пытался шутить, но капитану было не до этого. Беспокойно глядя в потолок, – не сыплется ли оттуда пыль, предвестница обвала, – он сказал:
– Идем-ка отсюда, Леф! Береженого бог бережет, говорят расены.
– Что ж, идем, Дирей, – согласился Леф. Достоинство его было соблюдено – не он первый выразил желание ретироваться из подвала, – а правила дворцового распорядка, да и собственное благоразумие повелевали начальнику этера во время любых экстраординарных событий, в том числе и стихийных происшествий, находиться в месте, откуда открывается наибольший простор для действия. – И поспешим, – добавил он.
Пропустив гостя впереди себя, Леф обвел взглядом свой кабинет. Архивы находились в другом, недосягаемом ни для каких катаклизмов месте, и не о них он беспокоился. Просто ему надо было удостовериться, по извечной привычке атлантов, что после себя он оставляет полный порядок…
Правила запрещали в таких случаях пользоваться механическими подъемниками, и они оба побежали по лестнице.
Внезапно Леф остановился: надо было снять караулы со всех подземных комнат, включая и узилища. Мысленный приказ был короток, – исполнение его отдавалось под ответственность начальника стражи.
Тот, как по мановению волшебной палочки, явился в миг перед Лефом.
– О Власть Имеющий, – сказал он и запнулся. Почувствовав неладное, Леф, чего с ним никогда раньше не бывало, схватил этера за грудки: тонкий шелк туники скрипнул, но выдержал натиск могучей руки.
– Говори, – почти шепотом сказал он.
– Азрула… Советник Азрула… – этера, казалось, задыхался. – Он…
И рука его протянулась в конец длинного коридора. Леф за это время успел прийти в себя и охватить ситуацию в целом, безо всяких объяснений со стороны этого заики. Нет, он нисколько не принижал своего подчиненного, чьи доблесть и сообразительность были им испытаны не раз, – просто по опыту Леф знал, что заикание, запор речи, никогда не бывает без причин. И причины эти, увы, надо искать в невидимом мире.
– Дивон! – строго и внятно сказал он начальнику стражи и заглянул в его испуганные глаза. – Забудь о происшедшем. Снимаю с тебя на время твои обязанности. Сейчас ты поднимешься на поверхность и, не останавливаясь ни перед чем, не отвечая ни на какие вопросы, пройдешь в Асклепейон. Там уже знают, что надо сделать. Побудешь какое-то время под целительным оком, примешь энергетический душ. Эх, дорогой мой, я бы и сам не отказался затвориться сейчас в Асклепейоне! Да мне нельзя, а тебе вот необходимо. Вогнали тебя, Дивон, в минус четвертый ярус. Но это дело поправимое. Однако поспеши!
И он проводил взглядом этера, который, едва переставляя ставшие вдруг непослушными ноги, двинулся наверх, исполняя приказание, накрепко засевшее в сознании его двигательного аппарата.
Дирей, начиная что-то понимать, спросил:
– Что это с ним? Порча?
Не спуская глаз с Дивона, Леф ответил:
– Да. Удар отрицательной энергии. И такой силы, что почти полностью выключил общение сознания с внешним миром. Команде Эсмона придется поработать основательно, чтобы привести Дивона в норму. Но не беспокойся за него. Эндокринный канал прочистят, – он только укрепится от этого.
Между тем, как он беседовал с капитаном, мысли его были заняты совсем другим. Дирей, к его удивлению, уловил их направление.
– Азрула? – неуверенно сказал он. – Но причем здесь Азрула? Азрула – здесь, у тебя, Леф?..
– Похоже, что уже нет! Птичка упорхнула, Дирей. Вот только каким это образом, желал бы я знать!
Быстрым шагом он подошел к одной из запечатанных дверей в конце каменного коридора. Здесь, в сумраке, едва освещенном тусклой желтой лампой, он чуть не споткнулся о тело стража. Сжавшись в комок, тот лежал на боку, обеими руками прижав к себе стальную пику. Леф сел перед ним на корточки, вглядываясь в черты молодого лица, открытые позолоченным шлемом.
– Что ты смотришь?! – укорил его подоспевший Дирей. – Его надо…
– Ничего ему уже не надо, – ответил Леф, и безразличие в его голосе не обмануло Дирея, который и сам был мастер скрывать таким образом свои истинные чувства. – Этого беднягу загнали уже туда, откуда нет возврата. Впрочем, не буду предсказывать. Эсмон частенько проделывает настоящие чудеса.
И он, нажав большим пальцем правой руки свой массивный браслет, который он не снимал со шуи ни днем ни ночью, проговорил в него несколько слов, призывая подмогу.
– Первым делом, что бы ни произошло – помощь соратникам, – как бы извиняясь за промедление, сказал он, поднимаясь во весь рост.
– А теперь взглянем-ка, Дирей, каким способом советник вышел отсюда!
Повинуясь его мысленному приказу, дверной проем раскрылся. Леф вытянул руку, загораживая Дирею вход.
– Стой! – сказал он. – Ты что, не понимаешь, что здесь не обошлось без черной магии? Куда тебя несет, если двое уже выбыли из строя! Закройся, говорят тебе, и причем самой крепкой броней!
Слава Единому, Дирей не спорил.
– А смотреть можно? – только и спросил он.
– Смотри! – разрешил Леф. – Но только через ионизированный кристалл.
Дирей только хотел переспросить, что это за кристалл такой, ибо он начисто позабыл все защитные премудрости, не считая нужным прибегать к ним в своей обыденной жизни. Как вдруг увидел прямо перед собой нечто искрящееся, хоть и совершенно прозрачное. Зрение обострилось, и капитан стал видеть, похоже, чуть ли не позади себя.
Кристалл! – ахнул он про себя, – ну и Леф! Молодчина, патрон!
Не опасаясь уже ничего, Дирей взглянул в камеру, осветившуюся вдруг ярким светом. Обернувшись на Лефа, капитан запнулся, и готовый вырваться вопрос остался невыговоренным: глаза этера сияли, сверкали целым снопом исходящих из них лучей, высвечивающих неимоверным по яркости светом каждую трещинку в кладке стен, каждую соринку на поверхности пола, мебели, тканей, почему-то разбросанных тут и там.
Искать долго не пришлось. В монолите внешней стены ясно вдруг вырисовался круг, небрежно заложенный имитирующим камень покрытием, – при наведении на него яркого луча Лефа оно легко вспыхнуло и исчезло, воспламенившись. Под ним зияло круглое отверстие, ровные края которого поблескивали в непереносимом свете.
Оплавлены! – подумал Дирей, – но какая сила, кроме жреческого огня, может проделать это извне, не приближаясь к Цитадели?..
Дирей вдруг осознал, что он, до сих пор и не слышавший ни о каком «жреческом» огне, прекрасно знает, что это такое. На вопросы, которые возникали один за другим в его мозгу, он как бы сам себе и отвечал, – спокойно и веско. Получалось, что нечего и некого спрашивать, раз ответы заготовлены в самом себе. Однако, разум Дирея, стоящий как бы в стороне от всего происходящего – в качестве наблюдателя, дал ему понять, что не следует это всезнание приписывать самому себе. И Дирей с готовностью согласился с этим, восхищенный теми возможностями, которые открылись перед ним с приобщением к сознанию Лефа.
Между тем прибыли этера, вызванные своим начальником. Бесшумно двигаясь вокруг посторонившихся атлантов, они сделали все, что требовалось. Безжизненное тело стража унесли, а в проеме двери поставили аппарат, узкое жерло которого, равномерно вращаясь, погудело несколько минут в направлении камеры. И только после этого, как все ушли, захватив с собой и прибор, – лишь одному из этера Леф сделал незаметный знак остаться – начальник порядка сказал:
– Останься здесь. Ни с места, капитан!
И его густой бас металлом отозвался в темных базальтовых стенах…
Дирей понимал, что профилактика, проведенная только что, на его глазах здесь, в месте, откуда было совершено дерзкое похищение преступника (еще не вдаваясь в подробности, он знал теперь, что Азрула, недавно почитаемый им как видный чин государства, совершил нечто такое, что выключило его из числа законопослушных граждан), позволяет не опасаться никаких вредных последствий неизвестного излучения, примененного похитителями. И все же что-то в нем восставало против долгого пребывания там Лефа. Он так явно порывался войти в камеру, что невозмутимому этера пришлось выставить правую руку, загораживая таким образом вход. Дирей демонстративно вздохнул и, как обиженный ребенок, уже было отвернулся, когда вдруг услыхал неожиданный призыв Лефа.
Мгновение – и капитан был уже возле своего патрона, который склонился над грудой тряпья, лежавшей на полу.
– Смотри, Дирей, – констатировал тот, медленно выпрямляясь, – это все, что они оставили здесь после Азрулы.
– Ты хочешь сказать, что эти дырявые лохмотья – одежда царского советника? – недоверчиво хмыкнул Дирей. – Вот уж никогда бы не подумал…
– Что Азрула – изрядный щеголь, об этом и мы наслышаны, – отвечал ему Леф, – однако эти «лохмотья», как ты выразился, не просто дырявы – они разъедены.
– Чем же? Не облил же сам себя советник кислотой, прежде чем покинуть эти покои?
– Сейчас ты все поймешь. Идем отсюда, нечего время терять. Да и небезопасно тут…
Оставив этера на посту перед наглухо замурованной дверью, – кладка из ровных каменных квадратов мгновенно выросла в до того пустом проеме – Леф спорым шагом пошел к выходу из подземелья; капитан едва поспевал за ним.
– Надо отдать им должное, – негромко говорил Леф, как бы подводя итог увиденному, – достать из Цитадели своего соучастника они могли только этим способом и никаким другим. Однако излучение, которое здесь применили – смертельно для органических клеток; шелковая ткань, остатки которой мы видели, свидетельствует об этом.
– Так советника что, уничтожили? – попробовал догадаться Дирей.
– Пока еще он жив. Пытаясь ослабить силу эманаций, ему велели скинуть одежду. Что ж, может, это и вправду смягчило удар. Советник ведь всегда кутался в шелка, словно в кокон. И, тем не менее, время его сочтено.
– Неужели его приятели не могли выбрать другое какое средство? И вообще, что это такое, если не секрет, – то, что способно проделать в базальте дыру, словно это не облом океанической коры, а кусок коровьего масла?
– Для этого «средства» нет разницы, что плавить, – то или другое. Хотя ты и прав, названные тобой материалы – антиподы по твердости.
– Я понимаю, Леф, что это – тайна. Но… если ты знаешь о действии этого оружия, значит, мы им также владеем?
– О чем ты думаешь, капитан! – отмахнулся этера, продолжая думать о своем. – Мы– то уж, во всяком случае, сумели бы вытащить из каменного мешка любого, не причинив ему никакого вреда. Это и вызывает беспокойство…
– Почему? Если доказывает лишь, что они слабее!
– Но не останавливаются перед уничтожением живого. Тем более – одного из своих сподвижников. Значит, они обладают только этим оружием, как ты верно назвал излучение, которое убивает вернее всякого меча. Будь у них другое, более совершенное, они бы, думаю, не пожалели его для советника. Хотя кто их знает…
– Но ты упоминал еще и о магии, Леф. Где же ты ее здесь видишь?
– Насильственная черная магия – в том, что разум земной задействовал стихии во исполнение собственных, низменных целей. Тогда как стихии должны работать только лишь на благо: упорядочение Космоса земного и надземного.
– Они скажут: это благо наше, значит, земное. Поди докажи, что это не так!
– Тут и доказывать ничего не надо. А главное – некому. Все плюсы и минусы в таких делах складываются сами собой. И счет этот вернее верного.
– Значит, если я вздумаю заняться черной магией…
– Упаси тебя Единый! Дирей! Перестань шутить тем, чем шутить нельзя!
– Но я же так, к примеру…
– Ты забываешь о том, что все сказанное подхватывается на лету служителями Друга, которых у него тьма-тьмущая. Оттого он и силен, что мы сами выбалтываем ему свои намерения. Чаще всего эти самые служки и портят все вокруг нас.
– Так что же, надо набрать в рот воды и молчать? Но для чего же тогда нам дан язык?
– Чтобы говорить. Но помнить при этом, что все, исходящее из твоих уст, не должно быть использовано против тебя самого, так же как и против кого бы то ни было.
– Но разве возможно все время помнить об этом? Наше сознание, действуя в земных повседневных условиях, оно ведь как бы закрывается от всего высшего!
– И, тем не менее, Дирей, настало то время, когда мы, если хотим выжить, должны постоянно держать в уме ниточку, связывающую нас с Небом. Иначе мы никогда не вырвемся из оков Земли. Более того, сами и отдадим ее во власть хаоса.
– Ясно пока что одно: мне надо держаться, Леф, твоего сознания.
– Это, конечно, легче всего – ехать на чужом горбу. Но знай, что так будет не всегда. Я вовсе не собираюсь постоянно тащить тебя за собой, у меня, знаешь ли, и собственных дел хватает. Сегодняшний урок, Дирей, он особенный: это помощь тебе, капитан. Мне же он – наказание за то, что отошел от истины, работая с тобой. Дальше пойдешь сам, не обессудь.
– А если не туда забреду?
– Может и такое случиться. Но тут уж надо самому смотреть в оба. Размышляй. Сила в тебе природная есть, только надо ее теперь умом направить в нужную сторону.
– Погоди, Леф, куда же ты…
– Еще увидимся!
Последние слова патрона донеслись до Дирея уже издалека. Он и не заметил, что стоит на площади перед дворцом, обиталищем царской четы. В другое время капитан не упустил бы возможности детально рассмотреть все сказочные подробности этого места, – кто знает, доведется ли ему, рядовому капитану Атлантиды, побывать еще разок в этом недоступном для простых смертных святилище Посейдониса?
Но, охваченный какой-то непонятной истомой, Дирей оставался недвижим. Он стоял, широко расставив могучие ноги, и со стороны было вовсе не заметно, что сердце его гложет тоска. Не знал капитан, что такая печаль, сродни вселенской, наступает тогда, когда сердце освобождается от земных привязанностей, давая возможность сознанию воспарить ввысь, чтобы тем шире охватить круг забот вселенских.
Дирей переворачивал в своей жизни новую страницу – она называлась служением человечеству. Не человеку конкретному, но всему роду в целом.
Но где ему было знать о таких возвышенных вещах? Забыв про свой платок, похожий на простыню, он отирал пушистые ресницы рукавом непривычного для Посейдониса вышитого кафтана, и мысль его была о Лефе:
– Прощай, патрон. Зачем вынимаешь ты стрелу свою из моего сердца? Устою ли без нее?
Раздался дикий и протяжный визг, ни на что не похожий.
Мимо, не обращая внимания на Дирея, пробежали нестройной стайкой несколько этера, и он задохнулся, охваченный их волнением. Машинально он шагнул было за ними, но тут же остановился, услыхав внутри себя безмолвный голос:
– Царица Тофана погибла…
И увидел на гранитных плитах парковой дорожки женское тело. Алое платье не скрывало неестественности положения его членов.
Яркое видение исчезло, едва появившись, заставив капитана забыть о своих недавних стенаниях.
Дирей прозрел.
_____________________
Задумчиво рассматривал Аполлон кристалл горного хрусталя, поворачивая его в пальцах. Общение с чистым, незамутненным сознанием высших минералов всегда доставляло ему радость: ясные формы, четкие грани, прозрачность или наполненность любыми оттенками цвета каждый раз соединялись для него в бесконечно разнообразные, все новые облики красоты, которые несли свежесть и обновление всему его естеству.
Однако сегодня созерцание кристалла не приносило ему желанной концентрации: отточенные сверкающие грани не помогали заострить лезвие мысли…
События, тайные и явные, свидетельства о которых ему регулярно доставляли служба Лефа и собственная интуиция, эти события, понятные каждое само по себе, никак не желали складываться в стройную систему.
– Что это? – спрашивал Аполлон себя. – Исчезла способность к синтезу?.. Этого не может быть: он молод и силен, как юный атлет, впервые домогающийся звания настоящего мужчины.
Он вспомнил вчерашние игры, в которых он участвовал лишь как почетный гость: ему по-прежнему не было равных ни в одном состязании, и не хотелось отнимать лавры победителей у подростков. Хотя – какие они подростки? Увенчивая их головы лавровыми венками, право носить которые даровалось лишь из его собственных рук, Аполлон приметил, какие они все рослые и красивые, – а ведь, в сущности, почти дети: не больше девятнадцати.
Да, молодая поросль северных атлантов явилась во всем своем блеске перед собственным кумиром, – он представил их горящие восторгом глаза и сдержанные возгласы: «Эвоэ!» Что ж, они понравились взаимно, а это хороший признак, – признак благотворного и обоюдного умножения энергий. Хотя уж чего-чего, а энергии ему не занимать, слава Единому…
Он бережно вставил кристалл в специальный паз и огляделся. Вокруг все было неизменно. Свет Солнца, многократно усиленный внутренними свойствами хрусталя, наполнял покои, чье убранство составляли созвучные ему материалы: прозрачный пластик, эфемерный, почти невидимый белый шелк и украшения, лишь изредка, и то самым тонким обводом, оправленные в золото. Аполлон залюбовался стоящим на полированном серебрянном блюде алмазным убором, творением сурийских мастеров. Пришлось, правда, с ними вместе покорпеть над точным воплощением его замысла, но зато изделию этому, поистине, нет равных в мире.
Алмазы он подбирал самолично, не пропуская ни одного с малейшим изъяном. Можно было бы их, конечно, отгранить и отшлифовать, но Аполлон признавал лишь природное совершенство. Так что ни один из камней не был тронут рукой человеческой. Высочайший замысел остался неоскверненным. Кропотливый труд состоял только в создании оправы, достойной соединить воедино разновеликие и разноблещущие камни. И суриты сделали невозможное, поднялись до высот Аполлонова идеала: платина и золото, раздельно сливаясь в прихотливом и в то же время простом узоре, придавали алмазам ту завершенность, которая и есть не что иное, как гармония.
Но зачем нужен был этот драгоценный, даже по понятиям привыкших к роскоши атлантов, убор? Ведь сам Аполлон никогда головы не покрывал: его достоинство было выше всяких корон. Лишь лавр, очищающий ауру, прикасался к его кудрям, да и то лишь в моменты, когда предстояли отягчающие общения.
Мысль создать подобную вещь возникла в нем неожиданно, под влиянием зародившегося вдруг желания. Красота предстала перед ним сразу, в законченном виде, – осталось лишь запечатлеть ее образ в памяти и, не откладывая, тут же сделать набросок. Конечно, что-то было упущено. Но – не без этого. Аполлон, умудренный собственным опытом, уже смирился с тем, что при переносе из мысленного, идеального мира любое земное изображение или же воплощение в предмете неминуемо теряет в выразительности. В чем здесь секрет, гадать можно было бы долго, – но факт оставался фактом.
И на этот раз, стараясь наглухо закрыть от себя мысленное изображение идеала, Аполлон искренно восхищался чудным изделием. Убор на самом деле был великолепен, объединяя в себе вершины планетной сущности – царственные минералы и металлы, человеческое мастерство – с художественным гением высшего духа. Недаром этот венец горел почти осязаемым пламенем, – огонь ювелирного горна, скрепивший неопалимые алмазы, соединился в нем с огнем творчества. И застыл…
Невольно вздохнув, Аполлон оставил свою новую игрушку, так и не признавшись самому себе, для кого или для чего он поспешил приготовить ее. Его одолевала другая забота, на этот момент куда более важная, чем его личные проблемы. Эта забота была настолько не сопоставима ни с чем иным, что светлого бога взял мгновенный озноб. Это был верный знак, что он попал наконец в нужную частоту: ведь подобным образом тело реагировало на совпадение с вибрациями Высшего Разумения…
Аполлон воспрянул духом, решив, что пришла Помощь. Однако время шло, а контакта все не было. Он опробовал уже, казалось, все: сидел, с глазами открытыми и распахнутыми настежь, погружался в глубину магического сияния камней, истово призывал к себе Руководителей. Даже попробовал было прилечь, чего никогда не позволял себе в духовной практике. Все было напрасно. Оставалось признать, что помехи, создающие такую непреодолимую преграду в его сознании, как отсутствие способности к сосредоточению, коренятся в нем самом.
И доля правды в этом была, надо сказать. Аполлон излишне отвлекся, не желая обидеть невниманием никого из близких, обрадованных его появлением на родине. Правда, он позволил себе немного, самую малость – спортивные игры, посещение частных домов. И один-два взгляда украдкой. Не так уж это и преступно, попытался было он оправдать себя. Однако сам же и вознегодовал тут же: как это так?.. Именно тогда, когда все его мысли, чувства, само физическое уединение должны быть сведены воедино, чтобы помочь сознанию достичь высшей оккультной мощи, – в такой момент он предается развлечениям! Ему ли не знать, что отвлечение, рассеивание – есть не что иное, как бесконтрольная, а потому и преступная выдача энергии. Самоценность собственной силы, уникальность своего внутреннего аппарата, способного аккумулировать и преображать нейтральные, а чаще откровенно отрицательные пространственные токи в поистине живительную благодать, – во всем этом он прекрасно отдавал себе отчет. И дело здесь было не в отсутствии скромности, но в реальном взгляде на соотношение вещей.
Ибо беречь силу должно все живущее. Но, чтобы это делать, надо знать, что беречь и как. Трезво просчитать ресурсы, чтобы не остаться в один прекрасный день при пустом кошельке, то бишь иссякшем роднике жизненной силы. А уж коль скоро ты обладаешь способностью щедро одарять ею и других, так опасаться бесполезной траты этого сокровища из сокровищ тебе придется тем паче, что охотников поживиться божественным лакомством всегда найдется больше, чем можно себе представить. И порой эти «охотники» по-настоящему, очень целенаправленно и умело, как истинные профессионалы, охотятся за такими светочами, привязываясь к ним душой и телом. И горе тем, кто не отличит вовремя искреннюю расположенность от темной зависимости – хотя это просто: сердечная боль, или короткий укол в сердце дают весть о злом неприятеле, тогда как спокойная радость скажет о благотворном взаимном обмене…
Но как же быть, если это один из собственных братьев?!
Аполлон инстинктивно скрестил руки на груди. Что бы ему поступить так во время вчерашней встречи с Другом? Так нет же, – это бы выглядело демонстрацией неприязни к нему и могло бы послужить недобрым примером для многих в Атлантисе. До поры, до времени Аполлону не хотелось выносить семейные разногласия на общий суд. Впрочем, этот суд и так уже вершился: атланты, к сожалению, первым делом переняли у человеков любовь к сплетням. Нет бы к чему другому: усидчивость и трудолюбие, например, или скромность только украсили бы их, все порхающих по верхам. Да вот и сам готов осудить даже брата, если тот действует вразрез с его концепцией и планами.
В сопровождении невеселых мыслей Аполлон вышел в сад, надеясь, что его благодатная сень обновит и омоет отягченную душу, укрепит тело. Да, только здесь, в окружении молчаливых и безраздельно преданных существ, он мог открыться, не опасаясь предательства: в его семье было неблагополучно.
Царская семья, со стороны представлявшаяся единым организмом, спаянным не только общей кровью, но и наличием в нем одной направляющей цели, организмом, не просто вознесшим над самим собой главу, царя, но и прилагающим все свои объединенные усилия к тому, чтобы она, эта глава, могла хорошо соображать и крепко держаться на теле, – семья царя уже давно являла собой лишь видимость того, чем должна была быть.
И добро бы эта видимость сохранялась хотя бы внешне, на тех сторонах жизни атлантов, которыми они соприкасались с человеческой общиной. Аполлон никак не мог согласиться с тем, что разногласия между царевичами, к примеру, давно вышли за пределы укромных покоев Цитадели. В форме легкой перебранки они стали предметом подражания для всех вокруг: излишне самолюбивые царские братья не считали нужным сдерживаться перед кем бы то ни было. Тем более, перед человеками, – ведь те, по устоявшемуся мнению, едва начали выходить на разумный уровень. А, между тем, это было огромной ошибкой. Именно человеки, природой своей настроенные на считывание информации со своего эталона, образца и идеала, более всего другого воспринимали приземленный образ их действий. Что путного из этого могло получиться?..
Словно в кривом зеркале отражались атланты, привыкшие считать себя богами на Земле, в поведении своих подопечных. Возвращаясь временами на Посейдонис после работы с чисто человеческими, тяжкими для него энергиями, Аполлон больше надеялся найти здесь отдохновение и духовное очищение, так необходимые каждому для восполнения своих физических сил. Словно в вязкую тину, погружался он здесь в нескончаемую череду взаимных обид, претензий и раздутых амбиций. И все это при почти полной амнезии, которая, похоже, все больше завладевала сознанием его сородичей. Мало кто помнил уже себя прежнего, – а уж о первоначальном высшем назначении атлантов неприлично стало само напоминание…
Аполлон и не заметил поначалу, как анализ, предшественник синтеза, методично заработал в его сознании. Да и когда понял, не стал обращать на это чрезмерного внимания, – не утерять бы нить, которая только и может привести к охвату ситуации в целом, к ясному видению причин происходящего. А уж там и до изыскания способов борьбы недалеко!
Он еще верил в то, что гармония на Посейдонисе восстановима…
В голове вдруг явственно прозвучал сигнал вызова. Частота его была приемлемой для общения, и Аполлон откликнулся. Это была Туран. Легкая на помине, она первой откликнулась на мысли брата о царской семье.
Аполлон неплохо относился к этой своей сестре, – может быть, тут играла роль непобедимая женственность ее естества, а, может, дело было просто в незлобивости Туран. Как бы то ни было, а она оставалась одной из немногих, с кем здесь, в Атлантисе еще желал говорить светлый бог.
– Приветствую тебя, сестрица, – послал ей улыбку Аполлон, – что скажешь?
Он увидал Туран полулежащей, по своему обыкновению, на софе с высоким изголовьем; одна нога ее была вольно вытянута на белом шелке, другую царевна согнула в колене, как бы непроизвольно покачивая ею из стороны в сторону. В ее черных, как смоль, прелестных кудрях красовалась свежая роза; другим таким же цветком, но уже на длинной ножке, она гладила себя в ложбинке между белоснежными тугими грудями.
Аполлон и бровью не повел.
– Ты по делу или просто так? – спросил он, хорошо зная нрав Туран. – А то я занят…
– Ну вот, – чуть покривила крохотный ротик юная красавица, – ты всегда занят, когда бы я к тебе ни обратилась. А сам, так ни разу не удосужился узнать: жива ли твоя сестра Туран, не остыло ли ее сердце, не увяла ли, не дай Единый, ее несравненная красота?
– Сердце твое, о любвеобильная, не может остыть вовеки: что будет тогда с нами, твоими поклонниками? Что же до твоей красоты, то о ней нет надобности справляться. Весь Атлантис, – да что Атлантис! – весь мир наслышан о ее дивной силе.
– Ловлю тебя на слове, дорогой брат, – не упустила момента Туран, и искрящийся взгляд ее синих глаз проник Аполлону прямо в душу. – Коль уж ты признаешь себя моим поклонником, так изволь прибыть ко мне. И немедленно. Желаю видеть тебя воочию, а не так…
Сладкая немощь обволокла Аполлона. Он прекрасно знал, чего от него добивается Туран: ей и жизнь не в жизнь, если кто-либо из мужчин, достойных ее внимания, не падет к ее ногам, чтобы навек уже остаться там, у подножия ее трона, пресмыкаясь в надежде вновь вкусить блаженство обладания самой богиней. Аполлон же был как раз из числа тех, кто предпочитал оставаться на расстоянии от ее всесильных чар, – но и не отвергал ее грубо и недвусмысленно. Сейчас все было сложнее: едва только собралась с силами его мысль, обесточенная накануне общением с Другом, как это наваждение!
Усилием воли Аполлон остановил в себе поднимающееся желание, обращая его к той цели, которая ему предстояла. Сделать это было нетрудно, – он владел своими энергиями, а преобразовать одно в другое было лишь делом техники. Тем более что никогда нельзя уничтожать самую плодотворную из всех сил. Ведь сила взаимного тяготения женского и мужского, в своих бесчисленных выражениях, есть поистине животворящая мощь Великих Начал, – основы мироздания…
– Туран, дорогая, – ласково произнес Аполлон, – что для нас обоих расстояние?..
Однако Туран почуяла натяжку.
– Ты предлагаешь мне звездный секс? – томно протянула она, поднося розу от тела к губам.
Аполлон содрогнулся – ничего подобного у него и в мыслях не было. Между тем, Туран продолжала развивать свою мысль, – в энергиях наслаждения, пусть даже косвенных, как сейчас, она находила постоянное возрождение. В отличие от остальных, не владеющих секретом привлечения к себе сердец.
– Но я, знаешь ли, отказалась от этого. Конечно, в особых случаях приходится довольствоваться старым, порядком надоевшим способом любовного удовлетворения тонкого тела. Но теперь, когда я могу сравнивать, скажу тебе, с теми ощущениями, которые дает земное тело, нельзя и близко поставить никакие другие!
– Туран, сестричка! – попробовал остановить водопад льющихся на него откровений Аполлон. – Вспомни, милая: ты говоришь со своим братом, который не разделяет этих новомодных увлечений. Можно ли так впадать в сферу земных чувств? Не боишься ли ты огрубления духа?
– Вот еще! – засмеялась Туран, обнажая ряд ослепительных в своей красоте зубов. – Огрубление духа, говоришь ты? По мне – лишь бы не тела! – Она протянула к нему руки, обнаженные, гибкие, и, послушная ее движению, легкая ткань туники открыла нежно-розовый сосок. – Сама Туран, владычица любви, зовет тебя, Апплу!
Браки между близкими родственниками были обычным делом в среде атлантов и даже поощрялись, как сохраняющие чистоту крови. Мимолетные соития также не являлись чем-то из ряда вон выходящими, хотя сам Аполлон не был сторонником их. Так что дело состояло вовсе не в этом. В чем же?..
Аполлон, не только не отвергавший женской любви, но и сам беспрестанно домогавшийся ее, не пытался найти ответ на этот вопрос, – сейчас ему было не до того. Натиск Туран, на сей раз решившей, по всему было видно, добиться победы над недоступным ее чарам богом, все усиливался. Для него же главным было избежать обиды Туран, которая неминуемо настигнет его, если он не сумеет сгладить отказ. А в том, что здесь кроме отказа ничего и быть не может, он не сомневался: какая-то неясная ему самому пелена, нечто вроде брезгливости, стояла между этой обольстительной женщиной и его мужским чувством, не давая им сблизиться.
– Брось дурачиться, сестра, – с мягкой укоризной попенял ей Аполлон, – видишь, мне недосуг. Ты отвлекла меня от важного дела.
– Ах, да, – вновь засмеялась Туран, и этот смех, так волновавший многих, опечалил ее брата. – Я и забыла, что ты у нас нынче вместо царя. Вот незадача! Сейчас тебе недосуг, а ночью – законное время Мариса. Может, завтра?..
Но Аполлон не мог обнадеживать женщину – тем более, родную сестру – попусту. Сдерживаясь, ибо мысленный процесс в нем продолжался, и что-то брезжило уже в нем от искомой истины, он ответил, стараясь не выдать своего нетерпения:
– Вряд ли, – и повторил, подчиняясь внутреннему чувству, вынесшему на поверхность его разума некий результат его ментальных поисков. – Вряд ли, сестрица, можно будет меня застать завтра, и не только дома – он кивнул на дворец, – но и вообще на Посейдонисе. Так что – давай отложим нашу встречу. До лучших времен.
– Чем же эти времена нехороши? – надула розовые губки Туран. – По мне, так лучше и не бывает. А, понимаю, – ты имеешь в виду возвращение Родама? Но что-то мне сдается…
Она замолчала, пристально уставив взгляд куда-то вдаль. Потом взглянула на Аполлона и неуверенно улыбнулась.
– Впрочем, меня это не касается, – сказала она, и его поразила внезапная усталость в ее тоне, – скажи лучше, где ты будешь? Может, вдали от стоокой родни к тебе будет легче приблизиться? Что ж, я прилечу, если попросишь…
Но Аполлон не собирался оставлять каких-либо недомолвок во всем, что касалось царя Родама. Тем более что исходили они не от кого-нибудь, а от самой царевны Туран, законной дочери теперь уже небесного царя Сварга. Тут без особой на то причины не произносилось ни слова. Аполлон улыбнулся и сказал:
– Но сначала ты закончишь то, что хотела мне сообщить, хорошо?
Он мысленно протянул руку и погладил ее по чернокудрой головке.
– Как давно мы с тобой не виделись, Туран, дорогая, – сердечность в его тоне не вызывала сомнений, – а помнишь, как в детстве… Впрочем, о чем это я!
Однако было поздно: Туран вдруг расплакалась. Всхлипывая, как ребенок, она с готовностью отвечала брату, размазывая слезы по щекам:
– Помню ли я, Апплу?! Да ты всегда был самым любимым из братьев! И ты защищал меня, как лев, ото всех. Помнишь, когда застукали нас с Марисом под лестницей?..
– Как же, огромный скандал был, – усмехнулся Аполлон, – жрецы сразу потребовали твоего заточения в монастырь. Хорошо, что отец, слава ему в веках, нашел другой выход, поженил вас с братом…
– Давно это было, – улыбнулась Туран, уже несколько успокоившись, – вот и мучаюсь с десяти лет в браке. И Марис никак не уймется: все так же пламенеет любовью ко мне. А ревность, знаешь, она отвращает женщину, надоедает ей своей навязчивостью. Вот у нас и возникают проблемы.
– Ваши бы проблемы, да мне, – как бы про себя сказал Аполлон, – я бы их мигом решил! Зато ты, сестричка, единственная из царевен замужняя домина.
– Чему тут радоваться, – пожала плечами Туран, – если подумать, что отец наш прочил меня в жены своему наследнику. Не будь того случая с Марисом, так была бы я сейчас вашей царицей, вместо этой…
Она снова запнулась. Аполлон и сам уже чуял неладное, но отчего-то хотел слышать подтверждение из уст Туран, забыв обо всем другом.
– Договаривай, – сказал он.
– Надо ли произносить вслух то, что я всего лишь предчувствую? – задумчиво ответила Туран. – Так оно, может, и обойдется, но, узаконенное моим словом, уже обязано будет исполниться. Нет, брат, я не хочу выговаривать того, что ты ожидаешь услышать. Тем более что событие приближается. Скоро, скоро…
Вдруг она широко распахнула глаза, уже полузакрывшиеся было в легком трансе. Аполлон, внимательно наблюдавший за сестрой, заметил испуг, метнувшийся в них.
– Что, Туран? – снова спросил он. – Может, зная заранее, мы сумеем предотвратить нечто страшное, что грозит всем? Не таись!
– А ты не знаешь? – Туран взглянула на Аполлона, и в ее взгляде уже не было прежнего кокетства. – Ты, великий и всевидящий Апплу, хочешь уверить меня в том, что ни о чем не догадываешься?
– Когда тебе ведомо будущее, хотя бы и ужасное, надежда все равно должна вести тебя в твоей борьбе, – прямого ответа ему удалось избежать, но Туран и так было все понятно. – До конца. И даже после.
Туран опустила ноги, сев на своей софе и обеими руками опершись о ее край.
– Но что же может быть после конца? – вопрос звучал иронично, но глаза ее, в упор нацеленные на брата, глядели непривычно серьезно. – И что ты вообще считаешь концом?
– Эх, сестричка! Об этом бы нам с тобой поговорить как-нибудь в другой раз, на свободе!
– Нет уж, отвечай, раз начал.
– Но ты же знаешь, что вся жизнь состоит из этапов, она не однородна в протяженности. И каждый этап – это конец чего-то, отжившего к этому моменту, но одновременно и начало нового. Именно это я и имел в виду, когда говорил о конце. И о том, что после него.
– Так, значит, наступает конец? – почему-то тихо переспросила Туран.
– Взгляни на происходящее с астрологической точки зрения, Туран!
– Будто я понимаю что-нибудь в астрологии!
– Умница! Вот если бы тебе в этом следовали наши горе-мудрецы, скольких несуразиц мы бы избежали!
– Скажешь тоже…
– Но я серьезно! Ведь что такое астрология – это величайшая из всех наук! Она вбирает в себя, можно смело сказать, все составляющие тело мироздания законы, – из тех, конечно, которые доступны нашему пониманию. Потому без полного знания любой отдельной науки – ты не астролог; но и без умения соединить их все вместе тебе лучше не приближаться к живому Богу. Ибо что такое мироздание в целом, как не Единый?
– Но наши мудрецы, они ведь так много знают, – задумчиво протянула Туран, – и говорят так загадочно. Не то, что ты: сказал, и мне все ясно!
– Однако я вовсе не претендую на звание мудреца! Тем более, астролога.
– Ты, Апппу, который может все?..
– Не преувеличивай. Однако то, что я и «могу», идет во мне от чего-то врожденного. Сила, например, которая не приходит ни с какими учеными степенями. Или способность предвидения. Как и у тебя, Туран, это ведь то, что существовало еще до нашего рождения.
– Так ты думаешь, что и я что-то «могу», кроме легких побед над мужскими сердцами?
– В этом нет никакого сомнения! Твои же знаменитые чары – что это, как не неведомая внутренняяя сила? Хоть и проявленная в повышенной сексуальности…
– Выходит, чтобы употребить ее на что-то другое, я должна лишиться своей женской привлекательности?
– Хотя бы ее части.
– Ну уж нет! Зачем мне тогда эта сила, если я стану никому не интересной?
– Этого не может быть, Туран. Сейчас, например, ты интересна только для тех, кто ищет в тебе бесконечный источник, из которого он может черпать свое наслаждение. Но, стоит тебе обратиться к другой стороне своего естества – к знанию или чему-то другому, неважно чему, – как ты привлечешь не меньшую (а может, и лучшую) часть мужчин. Именно тех, кому станешь вдруг интересна своим широчайшим кругозором или познаниями в одном из видов науки. Ведь женская твоя привлекательность – она остается при тебе, она не убывает с приобретением знаний. И лишь дополняет их. Знаешь ли ты, что женщина, направленная к познанию, да к тому же и красивая – это сила, выше которой нет!
Туран деловито уточнила:
– Нет на Земле или вообще в Космосе?
– На Земле, на Земле! И что только ты так прикипела к Земле, не пойму. А вообще, чтоб ты знала, и в Космосе также. Ведь что в малом, то и в большом, что внизу, то и наверху, – этого ты еще не забыла?
– Конечно же, забыла! – удивилась Туран. – Я както совсем отошла от ваших, – она так и выразилась «ваших», – идей, проблем. У меня свой мир, приземленный, правда, но зато такой понятный и уютный. Ты вот все говоришь о мужчинах вокруг меня, – а знаешь ли ты, что женщин я одаряю даже больше, чем ваше мужское племя?
– И чего же они, если не секрет, просят у тебя? Не иначе, небось, как омоложения!
– Во-первых, они жаждут любви, и любви взаимной. Детей просят. А уж молодости, – об этом не осмеливается никто из них говорить вслух. Знают, что не во всем властны боги…
– Тут мы опять приходим к той же астрологии. – Старение и астрология?..
– Вот именно. В организме человека старые, отжившие клетки активно заменяются новыми, но такими же. И вдруг этот процесс замедляется, а затем и вовсе останавливается. Почему? Ты, например, знаешь секрет своей вечной молодости?
– Так же, как и все мы…
– Но мы – не человеки. А разница, хотя бы в этом случае, состоит в нашем умении избавиться от этого страшного механизма старения. В нас это заложено, и происходит само собой. И если при этом даже нам приходится прибегать к укрепляющим напиткам и очищающей пище, то что же говорить тогда о них, этих маленьких наших подобиях?
– Какая несправедливость, – затуманилась Туран, – жаль, что не призвали меня при их сотворении. Я бы их не обделила молодостью.
Аполлон усмехнулся:
– Успокойся, дорогая, – сказал он, – в деле сотворения человека никто из нас не участвовал. И не нам с тобой обсуждать плюсы и минусы того, что получилось в результате этого акта. Однако наши с человеками различия говорят лишь о совершенно обособленных астрологических структурах. О том, например, что при нашем первоначальном вхождении в физическое тело были задействованы одни соотношения звездных миров и сопутствующие им физические и химические законы, действовавшие на тот момент; создание же человека произошло при совсем иных условиях, и изменить их не может никто, кроме самого человека. Понимаешь?
– Не-а, – мотнула головой Туран, – но это неважно. Ты так красиво говоришь, что остальное не имеет значения. Прошу тебя, продолжай!
– Раз тебе интересно, значит, понимание придет позже. Человек… Громадную тему я затронул, и лучше не продолжать сейчас.
– Но почему – «кроме самого человека», Апплу?
– Потому что каждый из них будет проходить свой индивидуальный путь развития, помимо общего для нас всех. И на этом пути не возбраняется опережать других. Пожалуйста! Этим ты только поможешь остальным. А что такое «путь» – это нам знакомо. Мы этот отрезок уже прошли когда-то. Потому и оказались хоть и на Земле, но в физическом состоянии высшей, по сравнению с ними, эволюции. В мироздании ведь все живое. И влияние отдельных излучений надо понимать как то, что тебя понуждают претворить худшие и вредоносносные аспекты этих излучений в самые благотворные.
– Как красиво! – восхитилась Туран. – И себя улучшаешь, и вокруг делается лучше!
– Закон Пользы, дорогая моя. То, что отсеивает все ненужное и дает рост благу.
– С другой стороны, Апплу, – Туран умнела на глазах, – выходит, что и нас теперь «отсеивают», так? Чем же мы провинились? Скажи!
– Законы Космоса жестоки к отдельным личностям, Туран. Они не щадят никого и ничего.
– Но ты говорил об Общей Пользе… Польза – это благо. Это – когда хорошо. Так я понимаю.
– Снизу, с Земли, нам понятнее боль каждого создания. В этом, быть может, и состояла главная причина нашего нисхождения в плотный мир, – чтобы мы прочувствовали на себе все тяготы жизни, которую предлагаем человекам. И чтобы облегчили им, по возможности, пребывание здесь. Однако Высший План, он настолько велик, он предусматривает такие космические масштабы, в которых мы, вместе с человеками, вовсе и не заметны.
– Иду я вчера по дорожке сада, – задумчиво и вроде бы не к месту промолвила Туран, – вдруг смотрю: муравьи! По муравьям иду. Хорошо еще, что заметила вовремя. И то потоптала невесть сколько…
Аполлон замолчал. Он с новой нежностью глядел на сестру, которую, как оказалось, совсем не знал. Что все ученые знания, подумалось ему, перед этим умом сердца, бесценным поистине сокровищем, данным не кому иному, как именно женщине!
– Туран, драгоценная моя! – произнес он наконец. – Не надо тебе ничему учиться! Ни астрологии, ни чему другому. То, чем ты владеешь, дороже любых изысканий. Я, неразумный, взялся тебя наставлять, тогда как должен был смиренно просить у тебя совета. Что я и делаю…
Туран восприняла перемену в брате как должное. – В чем совет-то? – невозмутимо спросила она. – Дело непростое, в двух словах и не скажешь.
– Так говори в трех или больше. Я послушать люблю! – Ты все шутишь, а мне вот стало не до шуток. Речь пойдет о брате Родаме.
Он произнес это имя и остановился, чтобы оценить реакцию Туран. Однако та хранила молчание.
– Вначале, когда я вернулся на Посейдонисе, – продолжал Аполлон, – я не придавал большого значения его уходу.
– Исчезновению, – поправила его Туран.
– Какая разница! Главное, что он решил уединиться. А это всегда у нас считалось священным таинством, привилегией царя. Общение с Высшими Энергиями, которое под силу только ему, облеченному Божественной властью, должно было принести обновление ему как духовному естеству, и силу – как существу физическому. Однако…
– Последнее, видимо, беспокоило его самого даже больше, чем тебя! – не удержалась Туран.
– Однако, – не обратил внимания на ее вывод Аполлон, – вскоре после его… исчезновения тут случились некоторые события.
– Так вот почему ты в неурочное для себя время появился в Атлантисе! – ахнула Туран. – А я-то голову ломала! Значит, это ты вернул царицу с того света! Впрочем, непростительно, что я не догадалась об этом раньше: кто бы еще, кроме тебя, мог проделать такое!
– Туран! – укоризненно произнес Аполлон. – Мне становится все труднее говорить с тобой. Не узнаю тебя: откуда такая неприязнь к царице? Это тем более удивительно, что вы обе, и ты, и она, имеете много общего.
Аполлон говорил, а сам уже знал, что Туран с ним не согласна. Не желая ее сердить, он добавил:
– Так мне показалось…
Туран молчала, опустив глаза и перебирая лепестки роз на коленях. Аполлон поторопил ее:
– Что же ты молчишь, сестрица?
Туран отшвырнула от себя растерзанный цветок, отряхнула подол, и только после этого подняла глаза на брата.
– Ну, во-первых, дорогой братец, – сказала она, и нежность ее голоса странно не соответствовала колючему тону, – давай, наконец, выясним степень нашего родства.
– Время ли сейчас?..
– Когда-нибудь же надо это сделать! А то все «сестричка», да «братец»! Может, ты и вправду этому веришь?
– Ах, Туран! Ну, что это на тебя нашло? И как раз тогда, когда…
– Да, я знаю, ты всегда спешишь. Особенно, если надо оделить своим вниманием меня. Но все же ответь мне: ты и вправду считаешь меня сестрой, если не родной, то хотя бы сводной? Или же знаешь истину о моем рождении?
Туран побледнела, ее всегда широко распахнутые глаза чуть прикрылись густыми черными ресницами, отчего лицо ее приобрело обычно несвойственное ему высокомерное выражение. Аполлон поспешил заверить ее:
– Знаю, Туран. И не только я. Ни для кого не секрет, что прекрасная Туран – поистине, а не на словах, неземного происхождения.
– Что это значит? Говори, я хочу слышать это. Аполлон готов уже был подчиниться.
– Но не могу же я произнести Имя, – вдруг опомнился он.
– Говори, – повторила Туран, – я отвечаю за все!
– Дело не в ответственности, а в том, что вряд ли стоит сейчас, когда так напряжена атмосфера, рисковать проявлением в ней высочайших вибраций! Но я отвечу тебе, – он решил, что одно не лучше другого: сердить женщину, да еще такую! – Твой отец – божественный Уран…
– Дальше!
– Родилась ты в море. Пенистые волны вынесли тебя на берег, и нимфы, по велению великого Посейдона, отдали младенца моему отцу, открыв ему и тайну: он должен воспитать истинную богиню, чистотой происхождения превышающую любого из атлантов. Ну, теперь ты довольна?
– А сейчас скажи мне вот что, – будто не слыша последней фразы Аполлона, велела ему Туран, – и в чем же ты видишь «общее», как ты выразился, между мною и царицей?
– О, прости меня, драгоценная моя, – с облегчением вздохнул Аполлон, – я наконец понял! Но и ты должна поверить мне: я не имел в виду что-либо общее в вашем происхождении. О сравнении здесь не может идти и речи! Дело в другом. Ты давно задаешься вопросом, почему твой брат Апплу сторонится тебя, так ведь? Изини за прямоту.
– Ну да! – чуть удивленно произнесла Туран.
– Что ж, я признаюсь тебе. Что касается царицы (не будем усугублять ее состояния произнесением звуков ее имени), то здесь все понятно: земная часть ее естества преобладает, ведь материнская кровь – главное в потомстве. И это в какой-то степени извиняет ее тяготение ко всему, что от стихии Земли. Ты же, Туран, в своей сущности не несешь ничего от планеты. Даже удивительно, как стихиям огня и воды удалось не только соединиться воедино, но и совершенно преобразиться, чтобы создать тебя. Ведь по всем канонам твое тело должно быть чем-то эфемерным, текучим, а оно проявлено, видимо!
– Слава Единому, – проговорила защитную формулу Туран.
– И вот теперь ты, именно ты так возлюбила Землю, что вдруг окунулась в ее, – он запнулся, чтобы не сказать лишнего, – не самые высокие проявления. Почему ты забыла свое прежнее занятие, Туран?
– Какое же? – удивилась она.
– Ты одна изо всех нас в детстве могла летать. Неужели ты не помнишь, как прямо с места свечкой поднималась вверх, в Небо?
– О, это я помню, – живо подхватила Туран, – чудное ощущение! Особенно мне нравилось шевелить облака и тучки, – из них тогда лился дождик. Селяне, заметив это, начали присылать своих лукумонов с просьбами полить посевы в одном месте или осветить солнышком – в другом. Ах, как это было прекрасно! Ты не знаешь, Апплу, как я благодарна тебе за то, что ты напомнил мне о моих детских полетах!
– Так куда же все подевалось, Туран? Отчего ты сразу вдруг опустилась с неба да на землю?
– Ну, не совсем уж и сразу, – как-то поугасла Туран. – Но с того случая, – ну, с Марисом, – мне стало все труднее и труднее подниматься ввысь. Да и охота понемногу пропала… Ах он, злыдень! – в голосе ее послышались неподдельные слезы. – Уверил меня, что это просто игра, уговорил, что так и взрослые балуются. А когда пронзил меня, словно мечом, так, что я от боли света белого не взвидела – было уже поздно. И мой крик ничему не помог. Только ославила я сама себя.
– Марис, конечно, болван, каких свет не видывал, – попытался успокоить ее Аполлон, – но от этого тебе не легче. Что ж, сделанного не воротишь, однако не стоит и отчаиваться. Зачем так уж поддаваться внешним ударам и нагромождениям? Ты должна понимать, что есть силы, которым очень и очень хочется привлечь дочь Света к себе, в темноту. Но отнюдь не просветиться этим они желают (их уже вряд ли что просветит), а лишь отемнить ее саму.
– Слыхала уже об этом, – отвела глаза Туран. – Гермес мне уже надоел этими проповедями.
– Ну, тогда дело твое, – омрачился Аполлон, – и все же мне жаль. Не тебя, – ты сама себе хозяйка, – но того, что мы все теряем в твоем лице значительную силу.
– Кто это «мы»?
– Все те, кто трудится над просвещением человечества. Нести свет ему – как раз то, ради чего мы здесь. А ты, Урания, плоть от плоти Света, ты уклоняешься от своей прямой функции! Что ж говорить тогда об остальных?
– Каждый отвечает только за себя. Но ты меня задел за живое, Апплу! Живу, как умею. С дворцовой кликой, во главе с царицей, не близка. А выходит, что нахожусь наравне с ними: они признают лишь мир околоземных чувств и ощущений – и я, в своих чисто земных наслаждениях. Это сравнение меня не устраивает, брат. Наравне с царицей я не желаю быть ни в каком отношении. Так что мне делать?
– Ты посмотри, как мы столкнулись с тобой на этом вопросе: «что делать?», – усмехнулся Аполлон, – но я отвечаю тебе первым. Природа так распорядилась, Туран, что ты обладаешь мощными космическими функциями. Это – любовь, пронизывающая весь мир, многоликая и единая одновременно. И от тебя зависит, останется ли эта любовь приземленной, на уровне нынешнего человека, или охватит своей огромной сферой всю беспредельность его сознания. Это – дело далекого будущего, – но будущее, оно ведь творится постепенно. Светлая мысль, загорающаяся в нас однажды, заставляет все вокруг подчиниться ее исполнению, – затем другая, пятая, десятая. А представь, что нас много таких? Насколько тогда ускорится общее движение к лучшей устроенности жизни!
– Ну, ты известный идеалист, Апплу! И следовать за твоими установками я не смогу, предупреждаю сразу.
– Какие же у меня особенные установки, хотел бы я знать, – пробормотал Аполлон, отворачиваясь от Туран.
Но от той нельзя было скрыться.
– Они не особенные, Апплу, – начала она толковать ему своим завораживающим голосом, – но они очень суровы. Ты стоишь на крайних позициях: это хорошо, а это – плохо. И никаких средних, оправдывающих некоторое колебание, позиций ты не признаешь. Верно?
– Но это не мои установки! Это – Вечный и Единый Закон, Туран. Все имеет свои два противоположные полюса. И я предпочитаю, знаешь ли, придерживаться всегда того из них, который повыше. Потому что эволюция мироздания отдает преимущество ему, который означает благо. А я только следую за эволюцией.
– Но мои земные приключения – это тоже благо, Апплу.
– Сомнительное и очень временное благо, дорогая. Раз отрывает тебя от твоей исконной космической семьи и заставляет зарываться лицом в землю, ничего кроме нее не видя. Это непростительно, знаешь ли. Даже человеков мы учим, и они пытаются это понять, что наша планета – всего лишь часть общего. Для них она – вроде нулевого класса первоначальной школы; для нас, атлантов – экзамен, испытание перед выпуском на более квалифицированный уровень. Кто-то из нас подтвердит свое право подняться выше, но кое-кому придется покрутиться здесь еще немало времени, чтобы пройти весь курс заново…
– Страшная перспектива, – передернула плечиками Туран, – но тебе она не грозит. Ты-то уж, со своей праведностью, заслужил, небось, небесных степеней!
– Не уверен, сестрица. И вовсе я не праведен. Если покопаться в моей жизни пристрасно, так для очищения наберутся целые вороха! Да и сам я, признаюсь тебе, не готов к тому, чтобы оставить Землю, если это и будет мне предложено сейчас: дело ведь только начинается.
Туран весело расхохоталась. Аполлон не перебивал ее, хотя, непривычный к смеху, с трудом переносил его.
– Вот это да, – сумела наконец произнести Туран, – наш светлейший братец Аполлон, оказывается, вовсе не так уж и чист! Вот это признание! Да за него кое-кто, ты знаешь, выложил бы мне гору золота!
– Уймись, Туран, – опомнился Аполлон, – а то пожалею я, что открыл перед тобою душу.
– Что ты, что ты, Апплу, родной мой, – отвечала та, искренно встревоженная поворотом дела, – я ведь все шучу. Но ты должен знать: что бы ни случилось, как бы я себя ни вела, в глубине сердца я – всегда на твоей стороне. Кроме тебя и Герму, мне не на кого и положиться в этом мире, знаешь ли…
Она встрепенулась, словно яркая птичка, и подняла руки, охорашивая свою и без того прелестную головку.
– Благодарю тебя, – серьезно воспринял ее слова Аполлон, – хотя не знаю, отдаешь ли ты себе отчет в том, что твоя помощь и в самом деле может мне понадобиться. И скоро.
– Знаю. Потому и говорю, – ответила Туран. – Так в чем же состоит твой главный вопрос ко мне?
– Вопрос мой очень сложен. Если бы ты могла мне ответить, я бы спросил тебя: Туран, как спасти Атлантиду? Но я и сам знаю, что ответа не может быть. Потому скажи мне хотя бы о том, все ли в порядке с моим братом Родамом, и не должен ли я спешить ему на помощь.
Туран задержала свои руки на пышном узле волос, что-то там перевивая и подкручивая. Лицо ее так долго оставалось опущенным, что Аполлон наконец понял: она не может взглянуть ему в глаза. Сердце его сжалось тяжким предчувствием, хоть и он был уверен, что давно готов ко всему.
Но вот она подняла голову. Впервые, кажется, он видел свою названую сестру такой серьезной, хоть губы ее и пытались улыбнуться.
– Это и в самом деле вопрос не ко мне, – тихо сказала Туран, – где уж мне, глупенькой потаскушке, заниматься делами целой империи!
Аполлон попытался было возразить, но богиня остановила его едва заметным жестом маленькой руки.
– Ты спросил, – строго сказала она, – я отвечаю. Изволь уж выслушать меня до конца. Или ты, создатель этикета, указывающего, как подобает себя вести в каждом отдельном случае, и что делать пристойно, а что непристойно среди цивилизованных атлантов, – ты сам же и нарушаешь его?.. Ну ладно, это я к слову.
Ее многословие было явной отсрочкой ответа. Аполлон понял это и не торопил, даже когда она замолчала.
– Не знаю, надо ли мне говорить то, что мне открылось, – ты ведь у нас и сам знаешь будущее получше всякого, – усмехнулась она, – но я скажу. Скажу, чтобы облегчить тебе твое собственное знание и разделить с тобой твой груз. Твоего брата спасти нет возможности, Апплу. Он, царей царь, не удержал свою силу, а это значит – потерял власть над миром. Облеченный высшим знаком, тремя молниями, он не управлял ими, и теперь они же своим огнем грозят сжечь его самого. Атлантида пришла в упадок, и теперь уже вряд ли что спасет ее: враги царя Родама слишком набрали силу, для того чтобы можно было разрешить дело миром. Ты вправе спросить, в чем причина? Их множество, этих причин, и все они важны. Так бывает всегда, когда в одну точку упорно нагнетаются вещества, опасные взрывом. Взрыв все откладывается, а нагнетение все усиливается, и кажется, что так может продолжаться до бесконечности…
Странно, но Туран нисколько не походила на обычных прорицательниц, которые непременно начинали кликушествовать, едва только приступали к прочтению будущего. Она сидела спокойно, и голос ее был тих и печален. Вот только глаза, слегка прикрытые веками, что притушило их яркий блеск, говорили о том, что эта женщина говорит не своими словами, – она повторяет истину, начертанную на невидимых страницах.
– Но неравновесие опасно тем, что стремится к равновесию. И взрыв, в какой бы форме он ни произошел, а должен явиться, чтобы стать источником для установления баланса, хотя бы и самого шаткого и непрочного. Правда, на этот раз баланс будет не столько шатким, сколько… темным. Ибо равновесие после вскрытия нарыва окажется явно не в пользу сил света. Тьма окутает разум на Земле. И надолго, – пока не придет час и не явится Тот, для кого окажутся приготовленными хоть несколько ушей, способных Его слышать. Я сказала.
Аполлон прослушал прорицание, не спуская глаз с лица Туран, как будто пытаясь прочесть по нему что-то невидимое – то, что осталось скрытым между ее словами. Да так оно, собственно, и было: он вызвал откровение богини, главным образом, для того, чтобы ярче осветить именно те страницы Сокрытой Ленты, которые интересовали его сейчас более всего. Ведь то предвидение, которое давалось ему, мужчине, было неполным, поверхностным, без тончайшего и всепроникающего качества женской энергии, присущей только ей: активно производящего творчества. Без этого качества самый мощный мужской, понуждающий импульс всегда останется лишь бесплодной мечтой…
Аполлон не задавался вопросом о правомочности использования им сокровенной силы Туран. Ее готовность помочь – уже одно это являлось позволением воспользоваться своим достоянием, осознавала она это или нет. Да его, в сущности, и не волновало сейчас ничего, кроме самого насущного на сей момент вопроса: какова истинная судьба Атлантиды, ее царя и горстки его все отдалявшихся друг от друга соплеменников, по давней привычке продолжавших именовать себя гордо атлантами.
Он ничем не выдал себя. Его лицо оставалось, как всегда, когда он этого желал, прикрытым непроницаемой маской доброжелательного спокойствия, а чувства… О, чувства свои Аполлон держал в крепкой узде собственной воли. Недаром его главным символом во все времена оставалась квадрига коней, управляемая прекрасным возничим: с четверкой бешеных лошадей на всем скаку справиться так же трудно, как и с собственными страстями.
Туран помогла ему сверх всякой меры; не желая отягощать ее еще более, он ласково кивнул ей:
– Сумею ли когда-нибудь отблагодарить тебя, сестрица, за помощь? Будь благословенна в сердцах человеческих, родная, и да не оставит тебя Высшая Благодать!
Туран удивленно взглянула на него:
– Такому пожеланию светлого бога может позавидовать любая женщина, даже более достойная, чем я. Что это ты так расщедрился, Апплу?
Поняв, что перестарался (хотя плата в действительности не превышала цены), Аполлон постарался исправить положение шуткой.
– Ах, так ты отказываешься? – протянул он. – Что ж, могу взять обратно сказанное.
– А вот и не можешь! – подхватила Туран, и непонятно было, то ли она развеселилась искренно, сняв с себя непривычный ей груз общеклановой тягости, или же она просто-напросто ловко подыгрывала Аполлону, оберегая, в свою очередь, его. – Забыл, что ли: «сказанного не воротишь»!
– А у меня есть секрет, как его вернуть, – улыбнулся Аполлон, решив про себя, что Туран все же напрочь забыла о своем недавнем экскурсе в трагическое будущее. – Будешь меня слушаться, научу тебя этому!
– Будто я и сама не знаю, как с этим справляться, – чуть пренебрежительно заявила Туран и деловито осведомилась: – ты, сдается мне, спешил куда-то, братец?
Аполлон не переставал поражаться быстрой смене ее настроений. Что за нею крылось? Обычное легкомыслие (в которое он, кстати, вообще не верил) – или тонкий и уверенный расчет? Ведь почему-то, не видясь с ним невесть сколько, Туран вызвала его на связь именно в тот момент, когда он был на перепутье?..
Однако ему некогда было разбираться во всем этом… Благодарно спохватившись, он сказал:
– Да-да! Лечу! И, знаешь, куда?
– Догадываюсь. Не иначе, как к отшельникуПосейдону.
– А что, и к нему тоже надо? – округлил глаза Аполлон.
– На мой взгляд, если у кого просить помощи, так это именно у него. Если уж великий Посейдон не наведет порядка на собственной земле, то кто же?..
– Пожалуй, пожалуй, – как-то неохотно согласился с ней Аполлон. – Правда, давненько мы с ним не виделись. Захочет ли владыка Посейдониса говорить со мной, который, в сущности, уже и не здешний обитатель!
– Это ты-то? Будто не вся Земля – твой дом!
– И все же… Все меняется со временем. Вот и моя дорога свернула в сторону от Посейдониса, хотя я и люблю эти места больше всяких других. Здесь я оживаю, набираюсь новых сил для работы с переселенцами. Правда, в этот раз все отчего-то по-другому…
– Сказать тебе, отчего? – Не дожидаясь ответа, Туран, будто она давно искала возможности высказаться на эту тему, живо заговорила: – Не стоило тебе, Апплу, вмешиваться в эту историю с царицей! Дело прошлое, конечно, но итог подвести все же надо. А итог этот неутешителен: вернув ее к жизни, ты нарушил Высшую Волю, Которая одна только и может распоряжаться нашей жизнью и смертью. Тем более что ты имел дело в этом случае с человеческой кровью. Царица, она ведь имела выбор, обратиться вверх, по данному ей Проводу, или же… Она выбрала второе. Это ее право, но одновременно и ее погибель, потому что теневая сила не упускает никогда возможности прибрать к своим рукам то, что идет в них само. Видишь, чем все закончилось? Ты ослабил себя, выдав на ее спасение почти весь свой огромный запас жизненной энергии. А итог? Царица, хоть и двигает руками и ногами, но как разумная личность – деградировала окончательно. Печально, но этого надо было ожидать. Теперь вопрос – как привести тебя, Апплу, в твое обычное состояние, состояние переполненности светом.
Аполлон промолчал. Туран, в своей женской непосредственности высказала то, что он прятал от себя в глубине души, не решаясь признаться самому себе если не в полном бессилии, то в приобретении им нового качества – неуверенности. Эта неуверенность проявлялась во всем: в его мыслях, поступках, в невесть откуда вдруг взявшихся сомнениях насчет своей правоты. Он поначалу не придал этому большого значения, решил, что такими, наверно, бывают признаки усталости: с обустройством Троады хлопот, действительно, было немало. Но сейчас, когда Туран преподнесла ему безжалостный диагноз, его словно молния озарила. Да, она была права, и права тысячу раз! Но ведь, с другой стороны, ее правота означала не что иное, как полную отставку Аполлона от всех дел. О каком спасении когото или чего-то может идти речь, когда при малейшем напряжении может оказаться, что спасать-то надо самого спасителя…
Все его существо, весь его могучий разум восстали при этой мысли. Как?! Отступить сейчас, оказаться не у дел, когда все нити заговора сошлись в его руках, когда очищение Атлантиды казалось ему таким близким и, в сущности, совсем нетрудным делом? Ведь у него намечены уже пути к этому, – он только все никак не мог выбрать, с чего начинать…
Туран почуяла эту бурю в душе Аполлона, которую сама же и вызвала. Однако, на удивление самой себе, она не стала ни утешать его, ни успокаивать обычными женскими приемами, до которых ее любвеобильное сердце было ох как охоче. Напротив, она вроде бы даже порадовалась проявлению страсти в этом боге, постоянно невозмутимом и отрешенном от земных проблем, которые так волновали саму Туран.
– Что ты так взволновался, бедненький? – жалостливым голоском, в котором, тем не менее, чуть-чуть, совсем немного, но проглядывала насмешка, протянула она. – Обидно тебе, что я заметила твою слабость? Да уж! Ты прости, но по-родственному я признаюсь тебе: теперь я успокоилась. Причина-то, оказывается, вовсе не в том, что ослабли мои любовные чары. То-то я и так с тобой, и эдак, а все напрасно. Что такое? Этого ведь не может быть, чтоб кто-нибудь, хоть бог, хоть смертный, отказался от нежной игры, коль уж я зову. Но теперь я все поняла, – и не таю на тебя обиды, Апплу. Не падай духом, братец! С кем не бывает!.. Но придется все же тебе навестить меня, хоть ты и отказывался: дам тебе кое-какого волшебного питья, да сама приласкаю впридачу – твою немощь как рукой снимет!
Аполлон разъярился. Непривычный для него красный туман застлал ему глаза, которые перестали различать и Туран, все продолжавшую говорить и говорить свои ужасные слова, и сам белый день вокруг. Он схватился рукой за тонкий шелковистый ствол березки, оказавшейся рядом, и так рванул его, что вырвал дерево с корнем. Однако это не привело его в себя: размахивая неожиданной булавой, с комля которой осыпалась земля, он начал крушить вокруг себя все, что ни попадало под руку. Неизвестно, чем бы закончилось это неравное побоище, если бы не комочки земли, запорошившие ему глаза. Только тогда, когда боль сделалась нестерпимой, Аполлон остановился.
Большой и сильный, он ожесточенно тер глаза, отчего резь в них только усиливалась. Ощупью, по памяти, ему удалось добраться до мраморного бассейна, окруженного стайкой блестящих дельфинов, искусно выточенных из цельных кусков драгоценного лазурита. Обняв одного из них, он окунул голову в воду, мягко пенившуюся под непрестанной струей, и отдался на волю очистительной стихии. Боль утихла, и Аполлон выпрямился.
Поглаживая статую, – а дельфин, как живой, ластился к его руке – он задумался, сидя на парапете бассейна. И странное дело! Мысли его были далеки от недавнего происшествия, – он заставил себя начисто забыть о нем…
Вода стекала с мелко закудрявившихся от нежданного купания волос Аполлона на его лицо и одежду, но он не обращал на это внимания, стараясь не упустить пришедшую ему в голову мысль. В нем, несмотря на все, – даже на пророчество Туран – крепло ощущение единения с Родамом. И чувство это никак не было похоже на ту унылую безысходность, которую он на какое-то время ощутил, беседуя с богиней земной плоти.
Он вызвал в памяти те мелькнувшие на ленте Агаси эпизоды, которые заинтересовали его еще тогда, но осмыслить кои он и не пытался: лента прокручивалась, как всегда, с неимоверной быстротой, и останавливаться на частностях не было возможности; главное, что требовалось в момент видеозаписи, так это максимальное внимание и, конечно, чтобы потом, при повторном воспроизведении ее, каждый кадр явился бы в наиболее ясном и четком изображении.
Перед Аполлоном, призванный его волей, стоял, как живой (да он и был живым, только еще не проявленным из будущего), могучий человек со шкурой леопарда, наброшенной на одно плечо. Застывший в кадре бросок его правой руки с огромной булавой в ней напомнил Аполлону о его сиюминутном долге, и, попрощавшись с ласковым лазуритовым дельфином, он поднялся с теплого мрамора парапета и возвратился в сад, на место своего недавнего буйства.
Дело было даже не в раскаянии (таких пустых, ничего не значащих слов Аполлон не имел в своем лексиконе); просто нужно было привести все в порядок, сделав это собственными руками. Что ж, он никогда не чурался физической работы. Атлант прежней, не нынешней школы, он мог с одинаковым достоинством и внешним блеском класть каменные монолиты в стены Трои или же быть украшением народного праздника, одаряя всех лучами своей красоты, сиянием доброжелательства и безбрежностью талантов, которых в нем было не счесть. Ведь не само занятие унижает личность, считал он, а отношение к нему. Если ты что делаешь с удовольствием, от того радость и тебе и другим; коли же стыдишься работы – сам же себя заставишь презирать…
Да, наворочено в саду было здорово! Пришлось потрудиться, чтобы расчистить завалы, причесать измятую траву и подрезать надломленные ветви растений. Но зато и пользы принесла эта работа немало: руки делают, а голова-то думает!
Снова и снова возвращаясь мыслью к человеку в леопардовой шкуре, Аполлон пытался определить его место в судьбе Родама, а, быть может, и всей Атлантиды, коль скоро он оказался на этой странице Агаси, – странице, которая отвечала на вопрос о будущем и того и другой. Когда вдруг что-то неясно забрезжило в его памяти.
– Не Мелькарт ли это? – сперва не поверил он себе. – Но что ему здесь делать? Ведь он обретается на другом конце света. Хотя и там его что-то долго не было видно…
Аполлон вновь вгляделся в лицо человека. Это лицо уже одно говорило о необычайной силе, даже могуществе его носителя. Если бы не средний рост (на полубоге любая звериная шкура выглядела бы недомерком), то можно было бы с уверенностью отнести его к атлантскому племени. Или даже к предкам-основателям всего живого на Земле – незабываемым титанам…
Решив, что никем иным, кроме как Мелькартом, этот человек не может быть (уж с кем, а с Мелькартом Аполлону пришлось в Азии расхлебывать вместе не одну кашу в свое время), Аполлон перенес свое внимание на другой персонаж из картин будущего – женщину. Тут, однако, его ждал успех куда меньший, чем в первом случае: незнакомка, будто нарочно, все время прятала свое лицо. Иногда Аполлону казалось, что еще немного стоит ей повернуть голову, вот хотя бы в этом полуобъятии с Родамом, или же в кадре, где она опустилась на колени у изголовья царя, то ли спящего, то ли…
Аполлон чуть не выронил бедную березку, которую уже собрался поместить в вырытую для нее просторную ямку: при мысли, что Родам может умереть, как и любой другой, носящий физическое тело, он ощутил страдание. Однако эпизод с недавним буйством научил его кое-чему, – Аполлон отставил в сторону мысль о брате и привел в порядок собственные ощущения.
Кому-то или чему-то, – было очень нужно выбить его из состояния обычного равновесия, его единственной и главной защиты во всех случаях жизни, ожидаемых, планируемых или неожиданных, и потому самых страшных. Ведь нервная система, которая есть не что иное, как посредник между телом эмоций, или так называемым астральным телом, и физическим организмом, при внезапном прорыве чувств, приходящих, как правило, из того же, прилегающего непосредственного астрального мира, – эта система, если она не защищена природно, может не выдержать внезапного натиска. Удар есть удар, радостное или горестное чувство его доставило. И последствием этого удара непременно является сбой всей тонконалаженной системы, питающей своими секрециями нервные центры и все клетки системы эндокринной. А уж эта последняя работает на астральном плане даже больше, чем на физическом. Именно она, такая незаметная, ни за что вроде бы не отвечающая в организме, снабжает человеческое тело той таинственной жизненной силой, без которой оно прекращает свою деятельность.
Эманации соков и гормонов, которые источают из себя железы, питают все ниточки и сплетения нервов. А что, собственно, может представить из себя человек без нервной системы? Известно, что: массу растущей протоплазмы, да и только.
Однако протоплазма, содержащая фосфор и являющаяся частью нервной клетки, – это тайна из тайн эволюции человеческого организма. Как магнит, притягивает этот фосфор жизненную силу из космического светоносного Излучателя. С течением эпох развития увеличивается и радиация этих лучей, и человек должен успевать со становлением в себе все новой и новой защиты от их опасного, в случае неприятия, действия. Выход один: увеличить содержание фосфора в своей нервной системе. Но как же это сделать? Произвольно, за просто так, ничего не свершится. Потому что, как ни странно это на первый взгляд, но фосфор в мыслящем организме вырабатывается в единственном случае: в случае обращения своего сознания, или менталитета, на духовный аспект жизни, фактически же процесс обратен, чему услужливо помогает все возрастающий интерес к прелестям земной жизни. Организмы же, не подготовленные к естественной эволюции, то есть неспособные принять с пользой для себя поток радиации, вынуждены сойти с арены общего развития, отступить на несколько шагов назад…
Все это, как и многое другое, было хорошо известно в среде атлантов. Аполлону же, удостоенному высших отличий – скипера, эгиды и лабриса, приходилось сталкиваться с противодействующими силами не в переносном, умозрительном, а самом прямом смысле: в виде персонифицированных сил зла.
Да, шла нескончаемая борьба противоположностей. На земном плане это была борьба за человека: кому он отдаст предпочтение. И тут надо было победить! Ибо и сами атланты имели тело человека, правда, тело несравнимо более совершенное, способное выдержать борьбу со стихиями, с Хаосом, – но, как оказалось, все же пасующее перед изощренными уловками темных.
Трудность была в том, чтобы сохранить возможность действовать на проявленном, земном плане: плоть замыкает дух и сковывает его энергии. Но цель состоит именно в этом – преодолеть сопротивление плоти и вывести космические, духовные энергии в себе на простор активной земной работы.
И вот, в то время, когда новая человеческая раса, с таким трудом выпестованная общими усилиями всего Космоса, только еще готовилась к выходу на самостоятельное поприще, в широкий мир, ее учителям и наставникам грозила опасность ухода из этого мира. Ибо угрожавшее атлантам замыкание духа – или перерыв связи с Высшим – было равноценно для них потере всех своих духовных привилегий.
Мысли о предстоящем поражении Аполлон не допускал, – а может, просто отгонял ее от себя. Во всяком случае, он был не из тех, кто сдается еще до боя. Теперь же, разложив все по полочкам и определив, откуда идет наибольшая опасность, он ощутил в себе желание немедленно действовать.
Это было упоительное, ни с чем не сравнимое ощущение собственного всемогущества – того, что ты все можешь. В другое время он бы его и не заметил, – но не сейчас, после долгого периода метаний и сомнений. Сила вернулась к нему в полном объеме, он был уверен в этом. И теперь уже ничто не заставит его упустить из рук эту свою бесценную спутницу!
План его действий вырисовывался перед ним сразу и целиком, причем сопровождался он таким ярким свечением, что сомневаться в успехе не приходилось. Предстояла лишь небольшая задержка: перед тем, как ринуться в атаку, пока еще дипломатическую, нужно было возместить урон, нанесенный им же самим своему живому саду. И с новым рвением он продолжил дело: бедные корешки у долготерпеливой березки совсем уже засохли. Опустив их в яму, обильно политую водой, он перебирал руками эти живительные для дерева каналы, сейчас безжизненные и сухие. Под его чудотворными пальцами корни, словно слушаясь его мысленного повеления, начали вбирать в себя воду.
Так он и сидел на корточках, одной рукой держа ствол дерева, другой посыпая мягкую землю, – он как бы просил прощения у дерева и пытался загладить свою вину перед ним, делясь жизненной мощью. И березка, листья которой уже было поникли, ожила. Аполлон еще немного ускорил поднятие воды через ствол – и только тогда, когда услыхал шелест листьев на слабом дуновении воздуха, он засыпал яму до самого комля и плотно утоптал землю.
Окончив приборку, он омывал уже руки в ручье, который прихотливо обегал весь сад в своем желобке из пестрого мрамора, когда вдруг какой-то непонятный, ни с чем не сравнимый шум заставил его поднять голову. И что же он увидел?..
Такое поистине могла позволить себе только Туран, – ей прощалось все. Над зеленой оградой сада, распластавшись о невидимую силовую стену, трепетали сотни воробушков. Они оглушительно чирикали, не в силах ни прорвать стену защиты, ни разлететься во все стороны: это была знаменитая упряжка богини сладострастия, о которой Аполлон был много наслышан, но видеть не удосуживался до сих пор ни разу.
Владелица ее, поистине сияющая Туран, поняв, что Аполлон онемел надолго, сама своей чудной ручкой открыла дверцу легкой летучей повозки и выпорхнула из нее, не хуже всякого воробья, на землю.
– Принимай гостей, хозяин! – весело произнесла она.
Спохватившись, Аполлон открыл внешнюю защиту и улыбнулся, глядя на то, как стая крохотных птиц засуетилась, рассаживаясь на плоской кроне облюбованного вожаком дерева. Повозка богини, вся сплошь украшенная росписью символической вязи, в которую вплетались разноцветные искры посверкивающих на солнце камней, оставалась на своем воздушном приколе.
Туран, отклоняя от своего лица ветви цветущих кустов, вошла в сад. Словно красуясь перед Аполлоном, она долго стояла на месте, поворачиваясь, кружась и меняя позы. Аполлон и в самом деле залюбовался ее прелестью, слитой воедино из великого множества отдельных признаков. Невозможно было определить, что же именно так привлекает в этой женщине и взгляд, и сердце: то ли совершенная красота ее черт, смягченная легким налетом земной неправильности, то ли плавные линии ее нежного тела, в которых, без сомнения, присутствовала мистическая притягательность. Сюда же вкладывали частицы своего участия и убранство головы Туран, и крой ее на этот раз тяжелого, расшитого золотыми цветами и листьями, платья, и легкая подсветка ее лица, усиливавшая и без того неописуемое его обаяние. Словом, всем своим обликом Туран подтверждала высокое звание богини Красоты, через ее посредство вызывающей в сердцах Любовь…
Она рассматривала сад, Аполлон же глядел на нее.
– Однако и быстр же ты на работу, братец! – нарушила она наконец молчание. – Не думала я застать тут порядок. Ну, это и к лучшему.
– Ты разочарована? – разгадал тайный смысл ее слов Аполлон. – Прости, что поторопился и не дал тебе возможности насладиться последствиями своего буйства.
– Ах, когда же ты оставишь эту свою прямолинейность? – чуть покривила Туран губы, тронутые краской. – Мог бы, кажется, и помягче, с женщиной-то…
Аполлон принял это замечание серьезно, как предупреждение к дипломатической миссии, предстоящей ему.
– Ты прав, Туран, – ответил он, – максимализм – моя слабейшая сторона.
– Это твое «или-или», Апплу, вряд ли доведет до добра, – на правах извиняющейся стороны не упустила случая наставить его Туран, – пора бы тебе если не смириться, то просто согласиться с тем, что на свете существует, кроме «хорошо» и «плохо», еще немало другого. И это другое часто готово бы стать на твою сторону, когда бы не твоя однозначность.
– Приму к сведению, сестрица, поспешил остановить ее Аполлон, – однако отойти от своих позиций не обещаю. Для меня, как и для той Иерархии, которой я служу, нет иного пути, как ясный и понятный Свет. Вот, Солнце жжет сейчас, – он невольно взглянул в небо, – но без него – тьма…
– И правда, что это сегодня так горячо? – удивилась Туран. – Ведь кажется, час еще совсем ранний!
Аполлон не сводил глаз, словно окаменевших от напряжения, с Солнца.
– Что ты там разглядываешь, Апплу? – встревожилась за него Туран. – Нельзя так! Опусти глаза! Забыл ты, что ли, – Солнце не позволяет, чтобы на него так пристально смотрели. Прошу тебя, дорогой брат, отведи глаза от него и взгляни лучше на меня. Вернись на землю, Апплу!
Но он и сам чувствовал, что еще немного – и он переступит черту дозволенного, – хотя бы для него эта черта и отстояла далеко впереди кого бы то ни было: медленно прикрыв глаза, он ощутил в них резкую боль.
Туран с тревогой смотрела на него.
– Чем помочь? – спросила она.
Аполлон слегка приподнял ладонь, как бы призывая Туран к спокойствию. Она поняла и, взяв его за руку, подвела к широкой скамье, укрытой в густой тени плюща, обвившего навес над ней. Она не знала, какие меры нужны, чтобы смягчить возможный ожог глаз, но интуиция ее была безошибочна.
– Давай присядем, – чуть подтолкнула она затихшего Аполлона к удобному сиденью, а то дурно мне от этой жары.
Они сели, и Туран начала что-то рассказывать брату: не могла же она, в самом деле, безмолвным истуканом сидеть, когда тут представился такой редкий слушатель, как Аполлон, погруженный в молчание. Ей было невдомек, какие молниеносные просчеты всего увиденного на Светиле и в областях, к нему прилегающих, производит в эти мгновения его мозг. Он позволил женщине говорить, ибо вовсе и не слышал ее.
Наконец он открыл глаза, но взор его оставался невидящим. Лицо его осунулось, и под глазами, по направлению к щекам, появились две глубокие борозды – след проникновения пространственного огня в живую плоть…
Туран, мимоходом взглянув на него, оборвала свою речь на полуслове. Вглядевшись повнимательнее в его лицо, она почувствовала, как легкая дрожь, знаменующая передачу неземных вибраций, коснулась ее.
– Братец! – произнесла она почти шепотом, забыв о том, что могла бы сообщиться с Аполлоном и без слов. – Ты прекрасен, как никогда! И я рада, что смогла помочь тебе вернуться к прежней силе. Ты ведь не в обиде на меня за это, правда? Да, я по своей женской вредности больно ущемила твое мужское достоинство. Но что, кроме этого, могло заставить тебя вызвать в себе то напряжение твоей мощи, которое и прорвало наконец опутавшую твое сознание пелену? Что бы могло помочь тебе воссоединиться с Духом, как не подобный взрыв энергий, призванный к действию тобою же самим? А теперь я довольна. И могу, пожалуй, оставить тебя… На время…
Она замолчала, ожидая от Аполлона того, на что могла бы рассчитывать и менее обольстительная женщина на ее месте: по крайней мере просьбы остаться, не говоря уже о приглашении в дом. Однако Аполлон молчал.
Долго размышлять было не в привычках Туран. Она поднялась с места, правда, несколько более порывисто, чем это сделала бы в другой раз. Аполлон тут же встал, готовый к услугам своей гостьи.
– Прости меня, сестрица, – как ни в чем не бывало, сказал он, – но мне необходимо остаться одному. Перед тем, как отправиться в путь. Благодарю тебе за то, что помогла мне. Думай обо мне почаще – твоя энергия поддерживает меня, словно мягкая опора – с Земли.
– А, прочувствовал все же, – потешила Туран свое уязвленное самолюбие, – без земной опоры никаких небесных проявлений не может случиться! Хотя, конечно, не будет и обратного, – уже куда более миролюбиво закончила она, смирившись, по видимости, с тем, что Аполлон вновь остается для нее недосягаем. Все же она сделала еще одну попытку: – А я так мечтала увидеть твой дворец не издали, а изнутри. Чтобы было о чем рассказать при случае…
Она испуганно вскинула на него глаза, нечаянно признавшись в истинной причине своих домогательств. Но Аполлон, наученный уже опытом обращения с земной богиней, не подал вида, что понял ее. Незаметно, шаг за шагом понуждая женщину следовать к тому месту сада, где в воздухе маячила ее повозка, он был одолеваем единственным желанием: желанием немедленного действия. Однако женщине надо было отвечать, и не просто из вежливости, а потому что она этого заслуживала…
– Надеюсь, Туран, что ты увидишь мой дом в другой раз, – сказал он, и внезапная мысль пришла ему в голову, являя собой разрешение проблемы. – Постойка, взял он ее за круглый локоть, – а почему бы тебе не прийти сюда самой, хотя бы завтра? На свободе все рассмотришь, походишь везде. А смотреть есть что, уверяю тебя. Ну, как?
– Это в твое-то отсутствие? – Туран была явно неприятно поражена. – Кто же так делает? Врываться в чужой дом, без хозяина… Нет, пожалуй…
– Но мы-то не чужие, Туран. Если брать хотя бы формальный закон, то мой отец, слава ему, удочерил тебя. Да к тому же, я сам вручаю тебе право входить в мой дом, когда тебе этого захочется!
– Но, говорят, никто не выдерживает там напряжения энергий, – в голосе Туран на этот раз слышалась неуверенность. – Кто тебя знает? Войдешь в твой хрустальный Дворец, да не выйдешь. Может такое случиться?
– Если и может, – улыбнулся Аполлон, – то уж никак не с тобою, моя дорогая сестричка.
– Это почему же?
– Сердце у тебя золотое, вот почему.
– Такое же, как у всех!
– Не скажи. Твое сердце изначально предано добру. Это значит, что оно и излучает добро. Как солнце, которое не шлет преднамеренных лучей. Каково бы ни было твое истинное происхождение, Туран, несомненно одно: ты – из Солнечной династии.
– Значит, ты не веришь в то, что я – дочь Урана? – вновь насторожилась Туран. – Я знаю, злые языки утверждают, будто бы я и в самом деле родилась от твоего отца и одной из нимф. Или даже океанид.
– Ну ты и колючка, Туран, – сжал ее руку Аполлон, – слова тебе нельзя сказать! Впрочем, прости меня, – он озадаченно посмотрел на две розовые вмятины на ее предплечье, быстро наливавшиеся синевой. – И как это я мог?!
Туран опечалилась. Она подняла большие синие глаза на брата, и неподдельные слезы, стоявшие в них, укололи его больнее всяких попреков.
– Сейчас, моя родная, – попытался он загладить свою невольную вину, – смотри, как рукой сниму…
И он, для наглядности, провел ладонью над тем местом, где насильственно было нарушено кровообращение. Туран внимательно наблюдала. Вот рука Аполлона открыла пораженное место, – но что это? Кожа здесь, как и на всей остальной руке, была ровной, гладкой и идеально белой, цвета молока.
– Ах, как хорошо, Апплу, – улыбнулась Туран сквозь еще не просохшие слезы, – а то знаешь Мариса… Он бы меня со свету сжил! И, главное, безвинно…
Да, Туран была поистине прелестна. Равно и в красоте, и в наивности. Аполлон, взяв ее за трогательно тонкую талию, чтобы водрузить в летучий ковчег, ощутил даже нечто вроде мимолетного сожаления. Прав ли он, отвергая любовь этой женщины, пусть даже незаконную? Каждая возможность ведь дается в одномединственном числе, и упущенная не повторяется более. В любом другом виде, – но только не в том, в каком она была однажды явлена.
Стая воробьев уносила Туран вдаль, и тоска вдруг сжала его сердце. Да, тяжко ему было следовать своим незыблемым принципам, особенно когда на пути их исполнения становилось такое искушение, как всевластная Туран.
Сборы были недолги. Да и какие тут могли быть сборы! Аполлон не проводил никогда утомительных ритуалов, не читал написанных кем-то долгих молитв. Он чтил древнейший завет, воспринятый еще пра-предыдущей расой гиперборейцев: «И храм в духе, и оправдание в духе, и победа – в духе». Ему, сохранившему в неприкосновенности огневой канал связи, не требовалось ничего из тех насильственных приемов, которыми все омрачившиеся пытались воссоздать эту видимость общения в Высшим. В этом вопросе и был корень расхождения между Аполлоном и кланом набравших огромную силу жрецов, которые чуяли именно в нем главного противника и под маской благоговения к его божественному происхождению скрывали ненависть, до сих пор благополучно разбивавшуюся о его мощную защиту.
И надо же было так сложиться, что именно к жрецам, в самое средоточие их главных сил вел путь Аполлона. Он не раздумывал, зная, что не кому-то другому, но ему самому придется своими руками прощупывать все горячие узлы судьбы Атлантиды. Здесь же таилось и разрешение кармы его брата Родама, энергетически напрямую повязанного со своей страной. В который раз приходилось ему убеждаться в верности правила не менее древнего, чем первое:
«Желаешь победить, создай победу сам, своей силой. Никому ее не доверяй, – только собственной энергией победишь». Пример, и который уже! – перед глазами: не передоверь Родам управления государством жрецам и советникам, не пришлось бы сейчас ему очищаться, готовясь к страшным испытаниям, которые неизвестно чем еще могут закончиться…
Да, Аполлон теперь знал, в чем загадка столь долгого отсутствия Родама. Жаль, конечно, что он не поставил в известность его или Гермеса, – многих неприятностей удалось бы избежать! Но в этом – весь Родам. Скрытность его, доведенная до предела осознанием своих ошибок, желанием исправить самому их все разраставшиеся последствия, – эта скрытность и была виною того, что теперь он заточен неизвестно где. Хорошо еще, если б по своей воле.
За то, что Родам находится в закрытом пространстве, запечатанном тайным знаком, говорило полное, внешнее и внутреннее, несмыкание его ауры с окружающей средой. Да, это было некое священное пространство, скорее всего, находящееся внутри горы Мери.
Сам по себе прием очищения царя в каменных стенах особых пещер не был новым для кого бы ни было на Посейдонисе. Да и у себя, в Трое, Аполлон велел сыну своему Эсмону построить Асклепейон, куда и сам уже спускался не раз для отдохновения в тиши и уединенности.
Лечение это обладало поистине чудодейственной силой, не требуя, к тому же, никаких усилий и затрат ни от кого. Однако, в случае с Родамом… Нет, здесь все не так, все по-иному…
Что-то заставило Аполлона перенести свое внимание на другое, и он, обтеревшись после жестокого душа, занялся одеждой. Что ж, высшим велениям он не противился никогда: если не надо тревожить более эту тему – значит, так будет лучше для всех, в том числе и для царя Родама.
Он тщательно окутал чресла куском тончайшего белого полотна, который и завязал запретительным узлом. В свое время он выдал секрет этого узла Мелькарту, с которым тогда вместе отрабатывал в Азии некоторые провинности. Мелькарт, негодник, расхвастался им по всему свету…
Конечно, вовсе не приоритет авторства волновал Аполлона. Ему было непонятно, как можно так бездумно разбрасываться доверенным, да еще выдавая его за собственную выдумку. Но какие же это все мелочи, мелочи!..
И Аполлон велел себе не отвлекаться. Начиная с этого времени, все мысли, намерения, поступки – все должно было быть нацелено в направлении его миссии. Малейшее отступление уже могло ослабить общий накал.
Когда трепещет пространство – вспомнилось ему, – нужно очистить чувства свои: как с острия стрелы снять пушинку…
Он не раздумывал в выборе одежды. Само собой было понятно, что облачиться надо в доспех этера, верных защитников царя и Атлантиды. Аполлон накинул длинную, почти до колен, бирюзовую рубаху – шелк ее приятно охолодил кожу, – после чего застегнул на боках кожаные ремешки золоченых лат. Осталось опоясать бедра массивным воинским поясом и повесить через плечо огнемет в форме натянутого лука.
Взяв в руки шлем, украшенный плюмажем из пушистых и развесистых перьев, он однако не стал его надевать. И не только из-за все усиливавшейся жары: ему вдруг не захотелось слишком подчеркивать воинственного характера своего визита. Но тогда зачем ему огнемет?.. Выходит, не нужны и латы. Однако как будет смотреться рубаха защитника отечества без личного доспеха? И может ли он произвольно менять форму, установленную временем? Вопрос был не из легких.
Но сегодня Аполлону удавалось все. Он не стал погружаться в долгие схоластические рассуждения, которые могли завести кого угодно в тупик сомнений, прекращающих само действие. Сняв с себя все бойцовские регалии, он замкнул прямо на тонкой шелковой рубахе стальную застежку пояса и четким жестом провел большими пальцами под ним, расправляя складки ткани. Ему не нужно было зеркало. Он посмотрел на себя как бы со стороны и остался наконец доволен своим внешним видом.
Да, он шел во владения противника безоружным и чуть ли не обнаженным. Но разве сила его окрепшего духа не укрывала внешне беззащитное тело панцирем, крелче которого нет ничего на свете, – сознанием правоты своего дела? И разве яркая бирюза его одежды не говорила всем о том, что за ним стоит все воинство Атлантиды? Тем более что рубаха у Аполлона была именная, как у всех царевичей: с узором из двенадцати главных, сильнейших камней вокруг ворота и на концах свободных оплечий…
Он шел к жрецам не с угрозой. И без желания крушить их твердыню и испепелять нечестивых, хотя они, без сомнения, именно так и воспримут его появление у себя. Нет, он полон решимости найти какое-то решение, могущее на время отсрочить открытое пламя войны.
Время! Всей Атлантиде нужен был выигрыш во времени. Удастся Аполлону притушить уже тлеющий пожар – он успеет спасти и царя Родама. А там уже – посмотрим…
Кнопка, утопленная в специальном щите, вывела на поверхность земли, через раздвинувшиеся пазы ангара, его всегда готовый к полету бронированный мобиль. Путь, по земным меркам, был не ближний, тратить же силу на переброс своего тела на такое расстояние сейчас было нельзя.
Он немного подумал и забросил на сиденье шлем и латы, тускло сверкнувшие на солнце. Туда же последовал и огнемет. Кто знает, может ведь случиться и так, что единственным доводом для этих недоумков – Аполлон никогда не стеснялся в выражениях – окажется сила божественной молнии, которой владел не только Родам, но и другой царственный отпрыск, способный вынести ее.
Он не стал на прощанье оглядываться на свой любимый хрустальный дворец. Что он ему, если может рухнуть главное? Путь лежал вперед, в будущее, откуда к прошедшему нет возврата. Он легко вспрыгнул в открытую кабину и взвился ввысь.
Аполлон летел на северо-восток, к Алатарь-Острову, сосредоточившему на себе не только главную часть храмовых построек и святилищ, но и наибольшую ценность последышей атлантической расы – Кристалл. С огромным трудом восстановленный северными учеными, он, являя собой почти неистощимый источник энергии, потребляемой атлантами со временем все в больших и больших количествах, работал на основе живой духовно-пространственной (или психической) силы. Недаром жрецы, игнорируя даже опасность постоянного излучения, незаметно окружили своими храмами сам это Камень, названный ими Священным, и заполонили, к этому времени уже окончательно, весь остров.
Теперь было ясно, что царь Родам, а с ним и они, царевичи Аполлон и Гермес, излишне понадеялись на то, что способ управления силой Кристалла находился всецело в их ведении. И в самом деле, Кристалл отзывался лишь на духовную мощь, равную божественной, – это было истиной и удостоверялось не одним испытанием. Однако царственному триумвирату не могло прийти в голову, что существует еще нечто, и вполне реальное, что может овладеть ключом к Кристаллу, хотя и находится оно вне сферы их сознаний: обман, подделка, ложь…
Кристалл стал управляем жрецами. Пусть и не в полную силу, но он работал теперь по приказу недоброй воли, изменяя этим собственному естеству и идя вразрез со всеми построениями Космоса, даровавшими атлантам тайну его создания. Однако так не могло долго продолжаться, и жрецы, упоенные своим успехом, должны были понять приближение опасности, которую трудно чем-то ограничить. Но смогут ли они осознать, что означает нарушенное равновесие отрицательноположительных энергий в этом колоссальном Трансформаторе эфира?..
Аполлон завершал уже плавную дугу, облетая Посейдонис, когда вдруг мягкая, но сильная волна качнула его чуткий ко всем проявлениям пространства корабль. Уши его заложило, и, наклонившись через борт, он увидел горы в пляске. Да, несдвигаемые громады каменных массивов колыхались, волны судорожными очередями заставляли их извиваться. Сверху это было видно ясно, и потому особенно жутко.
Началось – подумал Аполлон и включил себя напрямую в пространство, прослушивая его. Да, подземный удар, спровоцированный нескоординированностью внешнего и внутреннего огня, был силен. Но не настолько, чтобы пострадали строения Атлантиса или его пригородов, рассчитанные на подобные толчки. Разрушения, если они и будут, не выйдут за рамки тех, которые могут быть устранимы обычными средствами специальных служб. О селянах же в этом случае беспокоиться вообще не надо было: единственное, что их поразило, так это, определенно, страх перед стихией. Но от этого быстрого лекарства нет. От страха лечиться надо только знанием, знанием, еще раз знанием…
Он уверенно вышел на прямую, оторвавшись от Посейдониса. На кого оставался остров? Гермес не появлялся в поле видимости, Леф суетился, отдавая приказы по своей службе. Но ведь он сам, успокоил себя Аполлон, он вовсе не собирается отлучаться надолго! И к тому же продолжает держать весь пучок энергий, перенятый им, по давнему велению Родама и с подачи Гермеса, с пульта царского управления.
Аполлон убеждал себя в предстоящем успехе, ибо он был полон сил. Он устоял перед сильнейшим из всех желаний – желанием плотской любви, и теперь мог видеть, насколько эта победа укрепила его. Как последний скупец, распластался он над своим сокровищем, ограждая его от посторонних посягательств, чтобы ни один сверкающий камушек, ни единая золотинка не уплыла бы в чужие руки, нарушив этим целостность достояния…
Он невольно усмехнулся, поймав этот образ во впечатлениях красавицы Туран. Но делать было нечего, тем более что образ этот вполне отвечал действительности. Аполлон и в самом деле сейчас лелеял в себе все без исключения силы. В особенности же самую главную, – ту, которая дает возможность творить…
Великая Творящая Сила…
Все наполняешь Ты собою, пронизывая материально существующее так же, как и непроявленное, не имеющее пока себе места в мире. Твой понуждающий к радости принцип эволюции, от малейшего атома до венца творения, земное имя которому – человек, а высшие имена непроизносимы.
Трудная доля у человека, поднявшегося до своего состояния. Именно здесь, на своей планете предстоит ему сделать окончательный выбор. Ведь, как и во всем, в предстоящем развитии есть два пути. Один, доставляющий ему наслаждение и боль собственного воспроизведения, и другой – сразу, скачком, могущий дать ему обновленное, не знающее болезней и старости, тело, но требующий для этого просветления, то есть бесконечного наполнения себя знаниями.
Первый путь привычен, деды и прадеды шли той же дорогой. Но он замыкает круг, из которого нет выхода: воспроизведение – это бесконечное рождение себе подобных, которые лишь в ничтожно малой степени улучшают весь род. А иногда и наоборот, ведет его вспять.
Второй путь связан все с той же земной силой, получаемой человеком, как это и положено ему, от материЗемли. Есть лишь одно расхождение. Силу эту, поистине всемогущую, надо обратить не на зарождение жизни, но на ее возрождение.
Но как передать созидательную энергию Земли и Космоса от ее низших форм выражения – детородности, к высшим, открывающим перед человеком возможности, которых ему даже не осознать на данном этапе? И вообще, не сказка ли все это?..
Нет, это не сказка, но тщательно скрываемая до времени Истина. Во имя блага самого же человека, эта Истина скупо даруется лишь немногим, тем, которые ценой невероятных напряжений сумели подняться на эту, иногда неожиданную даже для них самих, ступень. Тем, на плечи которых возложена тягота Атласа – подтянуть до собственного уровня все остальное человечество. Потому что сказано было: не иначе, как всем вместе…
Так в чем же секрет?
Получаемая от Земли энергия, все скапливаясь в отведенной на это части человеческого тела, имеет пока что лишь один выход, по которому и отдает эту мощную, сродни атомной, силу: вниз, к детородным органам мужчин и женщин. Однако чем дальше идет развитие, тем эта энергия становится разрушительнее для самого же человека. Являясь все той же созидательной силой, она, употребленная на деторождение, разряжает его творческий потенциал, не оставляя запаса для восхождения силы к его, уже готовым открыться, высшим энергетическим центрам. Таким образом, физическое тело, через астральные возбудители, поглощает энергию, которая по своей мощи даже вредна для него на данном уровне, – так оно до времени стареет и гибнет…
И, однако, эти же энергии, направленные в духовнотелесные центры (ибо природа уже позаботилась об их приуготовлении в эфирной сфере человека), найдут здесь достойное их славы применение.
Так в чем же задержка, коль так велика цель? Кто или что смеет помешать человеку обрести наконец бессмертие вечной юности, сопровождаемое его истинной гениальностью?
Остановка за самим человеком. Изменить направление скрытой энергии на противоположное, – вверх, превратить тем самым ее из детородной силы в силу возрождающую – сделать это может лишь сам человек. Через свои личные мыслительные усилия.
До тех пор, пока духовное развитие задерживается, откладывается и физическое возрождение человека, поднятие в нем внутреннего огня. Вот он и бушует в ставших ему тесными рамках половой, сексуальной системы, приковывая человека, словно титана Прометея, к пустынным скалам земных страстей.
В совершенном же человеке священная сила, не утратив присущей ей изначально сладостности, но лишь обогатившись высшими эмоциями, проявится наконец в своем истинном виде: как Великая Творящая Сила…
Секрет прост, как просто все в мире.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА
ПРИМЕЧАНИЯ
Полярный праматерик – гиперборея
Эфирное тело – так же, как и остальные невидимые «тела» – современная физика начинает объяснять как квантовые голограммы, вставленные друг в друга и копирующие геометрию и структуру тела. Каждая голограмма содержит всю информацию о теле, являясь его «информационным двойником».
Древнее понятие «эфир» получает, наконец, права на гражданство в лептонно-электромагнитной теории о материальных носителях физических полей в виде лептонов (лептоны – легкие элементарные частицы, начиная с электронов; микролептоны – начиная с нейтринов), согласно которой окружающий мир пронизан микролептонными волнами, передающими движение мирового лептонного газа. Вокруг всех тел существуют «стоячие лептонные волны», – те самые квантовые голограммы. Чем не описание эфира в древнейших источниках?
Лелеги – древнейшее племя; то же что пеласги (греч.), пелешет (др. – евр.), пельше и др. Прародители этрусков (греч. наименование), самоназвание которых – расена. По правилам лингвистики позже перешло в «рарог», «рерих», «рюрик». «Лелека», так же, как «пеласг» по-гречески, на современном украинском и белорусском означает «журавль».
Фуфлон (-с) – этрусский бог вина и виноделия, владеющий также жизнью и смертью. Эквивалентен богу Дионису у др. греков и Вакху римлян.
Агаси – «лента Акаши» в ведическом знании.
Плетр – 25 м.
Друг – демон лжи и обмана в ведической (арийской) культуре.
Туран – богиня любви плотской у этрусков; тождественна Афродите греков.
Лабрис – двойной топор, дающий его обладателю магическую силу над жизнью и смертью.
Эсмон, Эшмун – Асклепий др. греков, Эскулап римлян.
Узел Геракла – прямой узел, также используется как элемент орнамента в античном искусстве.






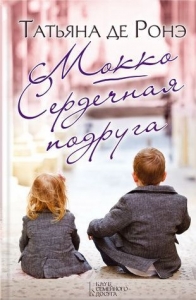
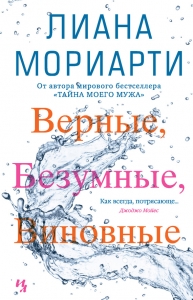



Комментарии к книге «Атлантида священная (из действительности доисторических времен)», Алсари
Всего 0 комментариев