Анатолий Курчаткин Стражница
© А. Курчаткин 2017
* * *
Вере, подарившей мне этот роман, посвящаю
«…иногда имеют место явления, которые субъективно могут казаться нарушениями законов природы «высшими силами». Это называют чудом. Но там, где такие явления действительно совершаются, а не оказываются аберрациями, там происходит вовсе не нарушение естественных законов «произволом» высших сил, а проявление этих сил через ряд других законов, нам еще неясных.»
Даниил Андреев, «Роза мира»«Жизнь – это судьба.»
Х. Ортега-и-Гассет1
Ей запомнился этот сон с такой внятностью, с какой сны никогда не сохраняются в памяти. Даже те, что снятся по многу раз, повторяясь в микроскопических деталях, – и пойди объясняй, что это значит, такая их неотвязность.
Ей снилось, будто она стоит на каком-то выпуклом, похожем на воинский шлем холме, на самой его вершине, вознесясь над окружающими лесами, небо в плотных мглистых облаках, краски земли блеклы и тревожны, она стоит, оглядывая весь мир, оказавшийся у ее ног, а изнутри холма, словно он полый, как колокол, и там бьется в его стенку тяжелый колокольный язык, гудит, проникая в нее через босые ступни, могучий торжественный звук, смысл которого отзывается в ней словом «убереги». УБЕРЕГИ! – раскатисто ходит звук по ее телу, сотрясая его и наполняя восторгом и счастьем, она поворачивается туда и сюда, пытаясь понять, с чем связано это слово, однако ни в блещущих зеркальцах озер и реки, ни в смирном покое полей, ни в глухом молчании лесов, кольцом замыкающих холм по линии горизонта, не находит отклика. Но вдруг вдали, на проселочной дороге, вьющейся тонкою бечевой, возникает, будто из воздуха, туманная поначалу, человеческая фигурка, движется там, в немыслимой, невероятной дали, плотнея понемногу, шаг от шагу делаясь все более отчетливее для глаза, и она понимает: ее, эту фигурку, должна уберечь. Фигурка идет, идет по дороге, сделавшись совершенно реальной, ясно видимой глазом, она смотрит на нее со своей высоты, вглядываясь в нее, чтобы понять, кто это, кого должна уберечь, но такое смертельно громадное расстояние между ними – не понять, кто это, мужчина или женщина, не различить лица и не разобрать даже, в какую сторону движется: уходя от холма или, наоборот, приближаясь к нему…
Ей было тогда пять лет, когда ей приснился этот сон. И никогда больше не снился, но странным образом она помнила его все последующие годы своей жизни. Он было уходил из нее, не всплывал в памяти долгое время и вдруг, в какой-нибудь самый неожиданный, а то и просто неподходящий момент – когда, скажем, была с мужем, – как что-то взрывалось в сознании, разверзалось пространство, и она ощущала себя стоящей на вершине того холма с такой явственностью, с такой осязаемой чувственной силой, будто сон этот снился ей не в пять ее лет, а только вчера.
Впрочем, она не придавала тому никакого мистического значения. В юности, заканчивая школу и еще года два после, она хотела быть врачом, поступала в медицинский, читала всякие популярные книги и по физиологии, и по человеческой психике и знала, что какие-то детские впечатления совершенно необъяснимо застревают в памяти на всю жизнь, и почему одним из таких впечатлений не быть сну? Еще, например, ей помнилось, как она сосет у матери грудь. Сосет, тяжело работая губами, устает, разжимает губы, выпуская тугой сладкий сосок, поворачивает голову и видит молодое лицо матери над собой, а дело происходит в доме родителей матери, мать сидит на табуретке, прислонившись спиной к открытой двери между комнатами – нелепое, с одной стороны, место для кормления, чтобы воспоминание было истинным, а не примнившимся после, но, с другой стороны, в подобной нелепости – лишь подтверждение реальности воспоминания, потому что, желая обмануться, сознание подсунуло бы себе что-то более убедительное.
Единственно, что воспоминание о себе девятимесячной у материнской груди, как и все другие воспоминания подобного рода, никогда не бывало неожиданным, непременно ассоциативным – всегда можно было отыскать в себе толчок к нему, побудительную причину, а воспоминание о сне всякий раз, без исключения было беспричинно, именно как взрыв, так что его в полном смысле слова нельзя было и назвать воспоминанием, скорее уж – напоминающей о себе внезапной болью.
Но и этому она тоже не придавала никакого значения. Она не была мистическим человеком. Она была человеком очень даже реалистичным. Не в смысле, что приземленным, а – земным. То есть, если и не очень практичным, расчетливым – чего за ней не водилось, – то трезвым и весьма разумным.
2
Весной, когда сошел снег, днем стало печь солнце и земля начала прогреваться, колебля над собой текучую стеклянную массу поднимающегося от нее водяного пара, в дальнем конце участка, в дренажной канаве, обнаружилась сдохшая собака.
Участок был большой, и в том конце был нехоженый край, все лето там стоял, едва не в человеческий рост, бурьян, сейчас, к весне, полегший над землей мочальными гривами, оставив торчать над ними высохшее будылье зонтичных; трава в том конце рождалась и умирала сама по себе, без всякого вмешательства человеческой руки, новая задавливала собой старую, а старая просто сгнивала на корню, никто бы там и не обнаружил собаки, если б не запах. Сладковатый этот, вызывающий тошноту запах преследовал Альбину несколько дней, особенно сильно она чувствовала его вечерами, распахивая окно для ночного сна – будто волна ударяла в лицо, – она не понимала, откуда он, этот запах, пока, наконец, ноздри не привели ее в тот угол, где, разведя руками полегшее бурое мочало прошлогоднего бурьяна, и увидела в канаве собаку, едва не ткнувшись пальцами в ее мертвое тело. Собака была обычной дворнягой той распространенной белой масти в рыжих подпалинах, каких полно бегало осенью по поселку после уехавших дачников, пока их не переловят, не затащат на проволочной петле к себе в машину собачники, которых ей же, Альбине, как секретарю поселкового совета, и приходилось вызывать. Она лежала на дне канавы, запрокинувшись на спину, вытянув по склону торчащие палками лапы, карий стеклянный глаз был мутно приоткрыт, пасть раздвинута, словно б в улыбке, и в обвисших черных закраинах губ, кажется, что-то копошилось, хотя мухи еще не появились. Бесшерстное брюхо все было объедено грызунами, и кожа там висела лохмотьями. Должно быть, собака околела перед самыми холодами и пролежала здесь под снегом всю зиму. То ли была больна и выбрала их участок, этот глухой угол, для смерти, то ли, спасаясь от собачников, была так ранена ими, что забравшись сюда, уже не смогла выбраться.
Желудок у Альбины сдернуло спазмом, ком его прокатился по пищеводу, ударил в гортань, но тут, в гортани, судорожно сглотнув, она сумела погасить комок и, торопясь, бегом, кривясь лицом от кислотного желудочного вкуса во рту, бросилась вон из этого заросшего бурьяном угла. Спазм сжал ей желудок еще раз, но она уже отбежала от канавы на изрядное расстояние, запах ослаб, оставаясь лишь в ноздрях, и кислотный ком не докатился до гортани, только обжег пищевод над ложечкой и вышел наружу толчком неприятного воздуха.
Она остановилась и огляделась. Непонятно, зачем ей это понадобилось – оглядываться, будто она была не на собственном участке, знакомом до каждого кустика, до каждой грядки, до каждого комка земли, а в некоем неизвестном месте.
Но, к собственному изумлению, она действительно находилась в неизвестном ей месте. То есть это был ее дом – вот там, в двадцати метрах от нее, с большими высокими окнами, впускавшими внутрь много света, которыми она всегда гордилась, поляна перед ним – это была та самая поляна, которую она собственноручно выхаживала много лет, чтобы превратить ее в настоящий газон, лиственница, около которой остановилась, – это была та лиственница, что сажал, привезя ее откуда-то, муж в самом начале их жизни здесь, и она прекрасно помнила, как он опускал в вырытую яму тоненький прозрачный саженец, то есть все это вокруг было ее, родное, но что-то сделалось с ее глазами: она смотрела каким-то таким образом, что все казалось иным. Она ощущала, что все это: и дом, который они с мужем построили здесь с котлована, и поляна, которую она превратила в газон, и плодовые деревья в два ряда по ее краю, на которые она положила столько сил, чтобы осенью под их дарами прогибались ветки, – это не ее жизнь, она была слепа, принимая эту жизнь за свою, ее жизнь совсем не здесь, не в этом, и только начинается. Сейчас, с данного момента. Вернее, уже началась, уже идет некоторое время, и вот ей это открылось.
Ознобный холод пробрал Альбине спину. Пузырчатая его наждачная волна прокатилась от крестца к плечам и, расплескавшись там, медленными струйками побежала по лопаткам обратно вниз.
Ей стало страшно. Это ощущение предназначенности к иной жизни и начала ее было странным образом связано с мертвой собакой. Собака улыбалась, и от нее шел сладковатый, удушающий запах разложения.
Не помня себя, не отдавая себе отчета в своих действиях, Альбина бросилась к сараю, отыскала в куче всякого полунужного хозяйственного хламья пустой бумажный куль от цемента, схватила из груды садового инвентаря штыковую лопату, подумала и вытащила из завала широкую фанерную лопату для снега и со всем этим, чавкая и оскальзываясь на непросохшей земле, метнулась напрямик, через грядки и кусты, в тот, заброшенный дальний угол.
У нее сейчас был перерыв в поссовете, она закрыла его на ключ, так чтобы всякий пришедший сразу бы видел, что внутри никого нет, и прибежала домой встретить младшего сына из школы, покормить его обедом и пообедать самой, зашла на участок, завернула за угол дома к крыльцу – и ее опахнуло. Ее опахнуло – и она, будто разозлясь на кого-то, решительно пошла на этот запах… собаку надо было убрать с участка немедленно, не откладывая дела, до того, как вернется сын из школы, – так ей что-то диктовало внутри.
Штыковой лопатой она разметала мочало травы над канавой, порубила у корня, отбросила в сторону и, вонзив штыковую в землю, взяла фанерную. Положив ее черенком на край канавы, она подперла черенок ногой и штыковой лопатой, как веслом, стала тащить собаку на фанерную лопату. Запах разложения ударил в самые ноздри, вызвав в желудке новый спазм, она преодолевала его, отворачивая лицо в сторону, косясь на собаку одним глазом, собака оказалась тяжелой – и не сдвигалась с места.
Альбина напрягала все силы, у нее задрожали руки от приложенного усилия, было мгновение – ей показалось, собака двинулась, но это, оказывается, поползла под железной лопатиной шкура, обдираясь волнистым узким шматом, под которым открылся сахаристый желтоватый жир, – и тут ее, наконец, вырвало. Желудок выкатился наружу стремительным неудержимым толчком, и струя из него, переполнив рот и ударив в уши, пробарабанила по мертвому собачьему телу. От этого звука желудок Альбине стиснуло новым спазмом, и, выпуская из себя на землю новую порцию желудочной массы, она услышала забитым ухом стук ботинок на крыльце: вернулся сын.
Собаку убрал вечером муж. Машина его зафурчала на улице около дома, Альбина, пока муж не отпустил машину, выскочила ему навстречу, застала его как раз закрывающим дверцу и замахала рукой: задержи! Днем, собираясь сама убирать собаку, она не шла в намерениях дальше того, чтобы затолкать ее в куль и вытащить в нем за участок; прожив день, она додумала все до конца. Просто вытащить за участок – этого было, разумеется, мало, от собаки нужно было избавиться совсем, она должна была исчезнуть, а значит, ее следовало отвезти за поселок, в лес, и там закопать.
– А чего в лес, чего не здесь, где сдохла, яму поглубже – да и зарыть? – недовольно спросил муж. Ему не столько не хотелось тащиться куда-то, уже приехав домой, сколько посвящать во все это шофера, принимать неизбежно помощь – и тем самым, делая одно дело, как бы уравнять себя с ним.
– Нет, не здесь, еще не хватало – здесь! – Собака должна была исчезнуть, духа ее здесь не должно было остаться, и Альбина не желала знать, что там стесняет мужа.
И когда муж с шофером – шофер, таща по земле выхлопывающий из себя остатки цемента плотный бумажный куль с собакой внутри, муж с двумя штыковыми лопатами в руках, – когда они вышли за калитку, она высыпала, вытрясла в дренажную канаву, где лежала собака, целую литровую банку хлорки, специально для того выпрошенной сегодня в детском саду. Трясла, отвратительный, едкий запах хлорки раздирал ноздри, слезил глаза, но в груди было словно бы победное – злорадное и победное одновременно – чувство: вот, на тебе!
К кому было обращено это «на тебе!», она не знала, но от его безадресности ничего не менялось, – она испытывала самое глубочайшее торжество. Перед тем она провела несколько кошмарных часов, вернувшись после обеда в поссовет: она боялась, вдруг сын, оставшийся дома один, забредет в тот угол по ее следу и увидит. Почему-то это невыразимо ужасало ее: забредет и увидит; и больше всего ужасало то, что увидит не собственно собаку, а приволоченные ею и брошенные там лопаты и цементный куль. Словно эти лопаты и куль являлись некой уликой против нее. Чем-то вроде прямых и откровенных следов совершенного ею прелюбодеяния, о котором он, сын, никак не должен был знать…
Хотя надо отметить, чувство было для нее диковатое. Потому что ей не было ведомо, что такое прелюбодеяние. Она не имела никого в своей жизни, кроме мужа. Прожив с ним ровно половину своих тридцати девяти и родив двух детей, она все эти годы спала только с ним. Она была девственной, выходя за него замуж, и так в некотором смысле девственной и осталась. При том, что в физиологическом плане все обстояло с нею благополучно, и никогда у нее не было никаких проблем с оргазмом.
Но эта необходимая часть жизни совершенно необъяснимо всегда оставляла ее равнодушной. Женщины вокруг, дай лишь повод, тут же начинали говорить, что они чувствуют и не чувствуют, чего им не хватает, а чего в избыток, ей же все это было абсолютно неинтересно. О чем было говорить? Ухо предназначено слышать, глаз видеть, и если с ними все в порядке, что за резон думать о них?
И точно так же была она равнодушна к изменам мужа; а он изменял, она знала. Но без этих измен невозможна была его работа, потому что там, где он работал, положено было иметь любовниц, потому что там, взойдя на определенный уровень, любовниц имели все, так нужно было – иметь, чтобы удержаться на том уровне, иначе ты был не «свой» и тебе не было доверия. А если бы муж не взошел на этот определенный уровень, с которого, собственно, и начиналась власть и открывались возможности для достойного устройства жизни, тогда бы она не имела ни этого просторного, светлого, с большими высокими окнами двухэтажного дома, ни этого громадного земельного участка, на котором он был построен, ни своей необременительной должности поссоветовского секретаря, она понимала все это – и потому принимала его измены как должное, хотя другая на ее месте, и понимая, кипела бы ревностью и желанием отмщения. Но для нее – нет, не имели его любовницы никакой важности. Разве что она несколько опасалась дурной болезни, но он же и сам, наверное, не хотел подобного, подстраховывался, надо полагать? А зато дети всегда были хорошо одеты и хорошо обуты, всегда ели хорошую еду, ездили летом отдыхать на Черное море, и старший сын прошлый год поступил в институт – как по маслу.
Впрочем, и к детям всю свою жизнь она тоже была довольно равнодушна. Не в том смысле, что не любила. Любила, конечно. Но в ней никогда не было той безудержности любви, что свойственна большинству любящих матерей, той безоговорочности этого чувства, когда им перекрываются все остальные и заслоняется все прочее в мире, делаясь малосущественным. Она была и заботлива, и внимательна и в раннем их детстве, когда болели, просиживала около них целые бессонные ночи, но в любви ее к ним была некая вялость, тусклость, это, пожалуй, можно было бы сравнить с угасающим костром: внутри еще жар и огонь, а сверху уже мертвый серый пепел. Разве что костер знал иную пору – со взметывающимися языками пламени, а она была такою всегда. Во всем. Ей и работать было все равно кем. Хотела тогда в юности поступить в медицинский, читала всякие книги, но не поступила два раза, вышла замуж – и не поступала больше ни туда, ни куда еще, и желания больше такого не возникало. В ней было нечто от сомнамбулы. Словно бы что-то в ней не проснулось до конца, не выказало себя, не вышло из глубины в повседневную ее жизнь.
3
Впервые она увидела его 9-го мая. Уже два месяца, как это имя повторялось везде и всюду, и, наверное, телевидение показывало его и прежде, но она впервые увидела его девятого мая. Все было, как и со всеми другими, предшествовавшими ему: стоял на трибуне, с массивной, тяжелой глыбой президиума за спиной, уходящего многорядными ярусами наверх, к нечеловечески гигантской белой скульптуре Ленина, указывающего куда-то рукой, президиум сидел, он стоял под ним на трибуне, словно на малом осколке этой гранитной глыбы, и читал текст доклада, глядя в бумагу перед собой, поднимая от нее глаза, чтобы договорить схваченный уже конец фразы, простершаяся перед глыбой президиума молчащая чаша зала выносливо и терпеливо внимала произносимым словам – все было, как всегда, как долгие годы до того, но она, едва услышала его голос, увидела лицо и встретилась, когда он поднял их, с ним глазами, вдруг испытала непонятное и удивительное чувство полета, обжигающего радостного вдохновения[1].
Это было то самое чувство, которым неожиданно и странно вдруг охлестнуло ее в тот день, когда обнаружила в дренажной канаве дохлую собаку, – она узнала его; только тогда оно было в образе новой жизни, что начинается для нее, с примесью горести и разочарования в жизни прежней, а сейчас – в образе чистого восторженного счастья. Но она узнала это чувство: оно было то же самое; сменив облик, оно не изменилось в сути.
Однако, вознесшись в своем ощущении полета на неимоверную, какую-то космическую высоту, так что земля почудилась маленьким голубым шаром внизу, в следующий миг, как тогда, в прошлый раз. она испугалась посетившего ее чувства. Она испугалась, потому что оно тотчас вызвало в памяти тот день, рука ее разгребала увядшие шуршащие стебли травы – и глазам предстали вытянутые палками лапы, ощерившийся, словно в улыбке, рот, ударило в ноздри сладко-тяжелым, тошнотворным запахом… О, ей было невыносимо это воспоминание, оно было ужасно, чудовищно, она не могла выдержать его.
И потому она быстро, судорожно шагнула к телевизору и выключила тот.
– Ты что?! – вскричал муж, его подбросило с кресла, в котором сидел перед экраном, слушая произносимую речь, и он снова включил телевизор. – Мне это все читать потом? Еще не хватало! Дай послушать!
Она пошла из комнаты, чтобы не видеть этого человека по телевизору и не слышать его, забыв, зачем зашла сюда минуту назад, и не сделав того, что собиралась, но некая сила, как бы накатившая откуда-то изнутри и вмиг переполнившая все тело, вдруг завернула ее на пороге и повела обратно к экрану. И глянув на стоявшего за листками бумаги, читавшего напечатанный на них текст человека вновь, она с удивлением открыла для себя, что в ней больше нет не только картины того дня, но нет больше и страха, только что с такой силой душившего ее, она полностью чиста от страха, он будто вымылся из нее, – как если бы вся грязная, сальная от пота хорошенько отпарилась в бане. О, оказывается, ей хотелось слушать этого человека в светлых, вправленных в тонкую металлическую оправу очках, с просвечивающим сквозь редкие волосы непонятной формы большим родимым пятном рядом с теменем, хотелось смотреть на него, что-то ее притягивало к нему, – словно бы когда-то, очень давно, она знала его, но не была уверена в том и вот пыталась найти в нем черты того, прежнего, обнаружить в голосе знакомые интонации.
Наваждение длилось несколько, наверно, минут. Потом она очнулась – даже вздрогнула – и, увидев себя вперившейся, подобно мужу, в экран, сочла необходимым высказаться по поводу своего поведения:
– Бред какой-то!
– Какой бред?! Ты что говоришь?! – рявкнул на нее с кресла муж. – Что ты понимаешь? Очень важная речь, не смыслишь ничего – иди, не мешай!
Теперь она ушла. Но после праздников, на работе, когда почтальон принесла в поссовет газеты, неожиданно для себя, чего никогда не делала со всеми предшественниками этого человека в светлых очках, она взяла газету с его докладом и прочла доклад с первого слова до последнего.
Ничего такого, что бы заинтересовало ее, в докладе не было. Лились, перетекая одно в другое, привычные пустые слова, войну выиграл народ, не кто другой, как народ, страдания принял народ и победил народ, а во главе победившего народа стоял генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Виссарионович Сталин. После имени Сталина, названного именно так, с подчеркнутым почтением, с именем и отчеством, молчавший до того зал обрушился долгими бурными аплодисментами. Об аплодисментах в газете не упоминалось, но Альбина слушала как раз это место доклада по телевизору и помнила, что произошло, когда он назвал имя своего далекого предшественника. К концу чтения она испытывала нечто похожее на отвращение к самой себе: зачем она читала все это, зачем ей это было необходимо, что за нужда непременно дочитать до конца.
Второй раз она увидела его совсем скоро, спустя несколько дней: почему-то он очутился в Ленинграде, опять выступал там перед каким-то залом, с молчаливым благоговением внимавшим ему[2], – но этого выступления она не слышала, только схватила глазами коротенький минутный репортаж о нем в информационной программе «Время», а что видела – так его разговор с людьми прямо на улице: стоял в тесном людском кольце, улыбался, отвечал на вопросы, – никогда еще на ее памяти не случалось, чтобы кто-нибудь из них столь запросто оказался в обычной уличной людской толчее. Но в этой толчее вокруг него, среди обычных, любопытствующе-расслабленных, восторженных, ротозействующих лиц сразу выделялось для глаза несколько совсем других: напряженных, колюче-безжалостных, как бы пружинно сжатых изнутри, и лица эти сразу выдавали профессию их обладателей: то были охранники.
О чем он говорил, она не очень-то слушала. Уловила только, как на чей-то вопрос, построжев голосом, ответил, что завтра вот будет опубликовано постановление, очень жесткое, которое решительно ударит по пьяницам, – и это все, что поймал ее слух. Почему-то все ее внимание сосредоточилось на людях с напряженными лицами вокруг него. Смотрела на одного, другого, только на них смотрела, больше ни на кого, как только глаз выловил их в толпе, и думала об одном: ослы, плохо охраняют, не так надо, кто так охраняет, так не уберегут! И в какой-то миг почувствовала, что и сама вся так же напряжена, как они, вся перекручена, пружинно перевита внутри, натянута, как тетива у лука, готовая выпустить стрелу, и взгляд затвердел в металлической безжалостной сосредоточенности.
Назавтра отчет в газетах об этой его поездке и то постановление, о котором он поминал, вновь были прочитаны ею от первой строки до последней, – чего в отношении ни одного из его предшественников опять же никогда она прежде не делала.
Вечером муж только и говорил о вышедшем постановлении.
– Ну вот, наконец, добрались. Начали, наконец. Взялись за дело. Теперь видна рука. А то не разбери что. Теперь пойдет. Раскрутим кампанию на полную мощность. Завернем гайки, чтоб неповадно. Укоротим руки сукиным детям. А то им все нипочем. Спаивают народ, до чего довели – стыдища! Всю Россию споили!
– Кто спаивает-то? – спросила она.
– А не знаешь?
– Евреи, что ли?
– Кто же еще? Они, сионисты! Продались Америке, разлагают страну, их не остановить, еще десяточек лет – и полетели бы в тартарары, Америка полная хозяйка на всей земле!
Разговор происходил за поздним ужином, уже прошло «Время» по телевидению, стрелки старинных часов в темном деревянном футляре около камина показывали почти десять, и он как раз принял свои вечерние «двести грамм», рдяно заполыхал лицом, и движения его, как всегда после принятой порции, приобрели чугунную медлительную тяжесть. Он любил «принять» и принимал регулярно, через каждые день-два, и ему нужно было не просто пропустить рюмку-другую, а «нагрузиться».
– А сам чего пьешь? – не удержалась, спросила она.
– Я что, пьянь, что ли? Под забором валяюсь? У меня работа такая – мне необходимо. Расслабиться я должен? Должен. Какое другое средство предложишь?
Пил он обычно коньяк, приносил на пробу из своего буфета и всякие «Камю» с «Наполеонами», но всем им предпочитал отечественные армянский с молдавским.
– Кто умеет культурно пить, пусть пьет, – добавил он через некоторую паузу. – А русский народ пить не умеет, ему пить нельзя. Понятно? Будет народ трезвым, сразу в стране все дела на лад пойдут.
– С чего это он пить бросит? Постановление приняли – и бросит? Вели тебе: не дыши, – и ты дышать перестанешь?
Она проговорила это – и удивилась самой себе. Она никогда раньше не перечила мужу в подобных вещах. Это все, что происходило в его сферах, на любом уровне их, ее не касалось, это все не было ее жизнью и оттого не интересовало ее.
– Не лезь судить, в чем не соображаешь, – сказал муж. – Постановление – это тебе бумажка, подотрись и выброси? Это приказ, иди и действуй. А не хочешь – секир башка, вплоть до камеры! Дошло?
Они сидели за столом вдвоем – сын поужинал много раньше и уже с полчаса как лег спать, – он и она, без нескольких месяцев двадцать прожитых вместе лет, и, глядя на его полыхающее ублаготворенно-чугунное лицо, она ощутила, что ее заливает ненависть к нему. Выкатывает откуда-то из глубины ее естества и разливается в ней горячей, обжигающей волной. Рука просилась размахнуться и дать изо всей силы по его рдяной мясистой щеке, нет – не ладонью, не пощечину залепить ему, а кулаком, что есть мочи…
Она рывком поднялась из-за стола, схватила с него две опустевшие тарелки, составила одна в другую, бросила туда вилки и быстро вышла на кухню. Поставила там тарелки в раковину и с минуту стояла около нее, опершись одной рукой о холодный бело-эмалированный отлив, другой ухватившись за изогнутый носик крана, крепко сжав его в кулаке, закрыв глаза и мотая головой, – остывая. Подобного с ней тоже никогда не случалось. Никогда не было в ней ненависти к мужу. Ни в каком виде. Что бы он ни говорил, что бы ни делал. Обижаться на него, злиться, возмущаться им – это все было ей ведомо, но испытывать ненависть – такого она никогда не знала.
А на следующий день она не смогла удержать в себе эту свою ненависть.
Муж приехал совсем поздно, уже совсем под ночь, улица мутнела сумерками, сын спал, а она, клюя носом, сидела перед телевизиром и пробудилась в очередной раз от фурканья машины, донесшегося в открытое окно. Она встала с кресла, подошла к окну, – муж шел от машины к калитке той особой грузно-твердой походкой, по которой она безошибочно могла определить, что нынче он принял не «двести грамм», а ощутимо больше.
– Есть не буду. Сыт, – поведя рукой, объявил он с порога. Скрылся в туалете, прогремел там упавшим на унитаз стульчаком, который, должно быть, вырвался из его неверной руки, тяжело осел на тот, громко выпустил газы и закряхтел, тужась.
Альбина пошла в столовую убирать со стола приготовленный прибор, уносить еду в холодильник, сделала все это, – и, низвергнув в унитаз ревующий поток воды, муж вывалился из туалета. Она пошла в спальню расстилать постель, переодеваться на ночь – и услышала оттуда, как в ванной открылись на полную мощность, гулко захлестав струями о загудевший чугун, оба крана, – муж решил принять душ.
У, сообразил, нашел время, подумалось ей, разбудит сына сейчас… Спальня сына находилась на втором этаже, но перекрытия в доме были железобетонными и не гасили громких звуков, а резонировали. Она уже лежала в постели с детективом, когда дверь ванной приоткрылась, выпустив наружу многоструйчатое шипение душа, и муж позвал ее. Ох, чтоб ты, снова сказалось в ней, но она послушно отбросила детектив, откинула одеяло и, надевая на ходу тапки, зашаркала к нему в ванную.
Сдернув цветастую полиэтиленовую занавеску, защищавшую пол от воды, в сторону душа, муж сидел в ванной на подвесном деревянном сидении и ждал ее.
– Потри-ка мне! – подал он ей густо, пенисто намыленную мочалку.
Грудь, плечи, живот в бело-фиолетовых клочьях пузырящейся мыльной пены – все у него было в крутой волосатой кипени, едва лишь более редкой, чем на лобке, разросшийся живот мохнатым бурдюком свисал на колени, скрывая собой его мужскую принадлежность, и она, с неведомой до вчерашнего дня, той же самой кипящей ненавистью подумала, глядя на этот его мохнатый бурдюк: тер его сейчас о какую-то бабу. Лежал своей волосней на ее животе, ездил по нему, потел, потому и полез под воду – смывать чужое. Она не сомневалась, что он вернулся из чужой бабы. Так поздно и так нагрузившись – всегда означало, что от другой бабы. Она давно уже знала это, высчитав по всяким косвенным обстоятельствам: по запаху, шедшему от него, по особой грубости его голоса, по неуловимой сальной скользкости взгляда. Только всегда раньше ей это было все равно. Сейчас же… О, как ненавистен был ей мохнатый его живот, мокро поблескивающий сквозь кипень волоса тугой, натянутой кожей, как ненавистно было невидимое, скрываемое бурдюком живота мужское хозяйство, которым он вовсю трудился на стороне…
– Ну?! Возьми! – устав ждать, сунул муж ей в руки мочалку.
Она положила мочалку ему на спину, хотела начать тереть и, неожиданно для себя, переняла ее другой рукой, чтоб было удобней, и той, освободившейся, в мыльной пене, нагнувшись, скользнула ему под живот, в теснину между ногами. В ладонь сразу же угодил обмягший толстый пест, но он ее не интересовал, и она лишь слегка защемила пальцами пустую остроконечную складку кожи. Целью ее была мошонка. Она ухватила в горсть катающиеся в распаренной торбе мошонки овальные мячики и крепко, заставив его дернуться на сидении, сжала пальцы.
– А оторву? Чтоб не млядовал! – сказала она, глядя ему в глаза, зрачок в зрачок, и, к собственному удивлению, увидела в них страх. Он и в самом деле боялся, что она может сделать подобное! Распущенная жарким паром в кисетный мешок торба мошонки начала стремительно сокращаться в ее ладони и во мгновение ока, толсто поплотнев, подобрала свободно висевшие в ней мячики к самому корню.
– Ты… чего это… ну-ка ты!.. – потянулся он к Альбининой руке и, лишь дотронувшись до запястья, схватил со всей силой и надавил на сухожилия, чтобы разжала пальцы. – Охренела?.. Ты что? Совсем?.. – шепотом почему-то, а может быть, внезапно осипнув, выдавил он из себя.
Она выдернула свою руку из его, ударилась с размаху локтем о стену, удар пришелся на нервное сретение, и ее всю изогнуло от жуткой боли, и из глаз брызнуло.
Когда боль начала отпускать и в глазах прояснело, она увидела, что муж стоит в ванне в рост, смотрит на нее сверху этим перепуганным взглядом, и широкая толстая его рука с растопыренными пальцами лежит на песте, прикрывая тот.
– У, падло! – вырвалось у нее, и она, размахнувшись, хлестко ударила тяжелой мокрой мочалкой по этой прикрывающей его хозяйство толстой руке. Выпустив мочалку, мочалка упала на борт ванны, перевесилась – и скользнула на пол. – Сам потрись! Еще звать меня! – сказала она в дрожащие страхом глаза мужа и вышла из ванной.
Впрочем, затворив дверь за собой осторожно и тихо.
4
Лето было дурное: весь июнь и июль, едва не каждый день, лили дожди, солнце грело словно бы нехотя, с ленцой, в огороде на клубнике сидело полно мокриц, ягода гнила, не успев созреть, огурцы в парнике никак не могли пойти в завязь, малина червивела. Впрочем, может быть, во всем этом была и ее вина: она мало нынче занималась и садом, и огородом, вернее, не занималась совсем. Прежние годы, едва свободная минута, словно какая сила вела ее к грядкам, и руки, будто сами собой, пололи, рыхлили, обрывали, подкармливали, спина уже не сгибалась, а просилось сделать и то, и еще вот то, и еще вот это, а нынче руки ничего не хотели, на все нужно было себя поднимать; клубничные усы вылезали на межи, укоренялись, отнимая у кустов соки, она никак не могла собраться общипать их. То ощущение некой новой жизни не оставляло ее, и она жила в состоянии постоянного ожидания, как бы прислушиваясь и приглядываясь ко всему, что совершалось вокруг, но ничего, что бы смогло означать эту некую новую жизнь, ни вокруг, ни с нею не происходило.
Хотя вместе с тем устоявшееся течение повседневного существования изобиловало странными мелкими изменениями привычного жизненного порядка. Странными они неизбежно выгляели по той причине, что все, одно к одному, были примерно одного характера.
Сначала отказалась носить яйца Татьяна-птичница. Она носила им яйца лет четырнадцать, круглый год, всегда в точно назначенное время – какая бы погода ни стояла: хоть дождь, хоть снег, хоть буря, – кроме поры, когда куры совсем не неслись, это стало укладом, по-другому не представлялось, и Альбина сначала решила, что Татьяна хочет поднять цену. Хочет поднять цену, но не решается сказать прямо и вот придумала фокус с отказом.
Татьяна объявила о своем решении, принеся яйца в последний обусловленный срок, Альбины не было дома, чтоб тут же выяснить что за причина отказа, и пришлось после работы пойти к Татьяне домой. Идти к ней домой было не очень приятно, в некоторой степени даже унизительно, но делать нечего, не пойти – значило покупать яйца в магазине, а там за ними мало что приходилось гоняться, подлавливать момент, когда завезут, но постоянно имелся риск купить тухлые, здесь же, у Татьяны, была полная гарантия свежести, качества – совсем другой продукт, какой разговор.
Татьяна жила не очень далеко – минут пятнадцать ходьбы, всего какие-то четыре квартала от дома Альбины в сторону леса, но это был уже другой поселок. Район, где стоял дом Альбины, называли Дворянским, поселиться в нем просто так, по своей воле, не мог никто, здесь в свою пору строились по специальному разрешению, и район этот по прописке относился к городу, а весь остальной поселок, хотя практически и смыкался с городом, городом уже не считался, отчего и имел самостоятельный поссовет. Там, где жила Татьяна, поселок походил уже на обыкновенную деревню, дома – почти сплошь деревянные, чаще бревенчатые, рубленые избы, и были деревянными изгороди, когда штакетниковые, а когда и горбылевые, асфальт здесь кончался, и разбитая гравийная дорога вся блескуче пестрела глазками луж, чавкала под ногами непросыхающая из-за нынешнего лета жидкая грязь.
– Нет. все, относилась, – сказала Татьяна, когда Альбина стуком в окно вызвала ее на крыльцо и спросила, что случилось. – Старая стала, ноги устают лишнюю дорогу топтать, а у вас вон младшой подрос, чего ему не сбегать туда-сюда.
Младший сын как раз уезжал завтра в Крым, в пионерлагерь, чтобы все же побыть на солнце, принять ультрафиолета на зиму, ходить за яйцами этот месяц предстояло бы самой Альбине, но и после, когда сын вернется, вовсе не хотелось ей гонять его сюда. Здесь был другой мир, чужой, чуждый тому, в котором жили они, и ни ей, ни кому другому из семьи нечего было здесь делать.
– Цену, Татьяна, хочешь поднять? – понимающе спросила Альбина.
– Так цену – в любом случае, – отозвалась Татьяна. – С водкой-то что вон, не достать. Устроили что с этим постановлением. А без водки как? Доски купить – деньги да бутылку. Машину достать, доски привезти – деньги да бутылку. Водка теперь двойную цену стоит, как я могу не поднять.
– Достану я тебе водки, не волнуйся, – сказала Альбина. – За нормальные деньги. А за яйца – назови цену, я согласна, поднимай, но только уж давай как прежде: домой.
Она полагала, что после этого ее предложения Татьяна точно согласится вернуться к прежним условиям, и реакция Татьяны оказалась для нее совершенной неожиданностью.
– Ой, да идите вы все к лешему, барыны епаны – ни с того ни с сего, ведь не было к тому никакого повода, взорвалась Татьяна, и странно было слышать от нее мат, никогда раньше, за все четырнадцать лет, ничего подобного она себе в общении с Альбиной не позволяла. Сухая, жердястая и в свои неполные пятьдесят, когда начала носить яйца, морщинистая, а сейчас совсем высушенно-сморщенная лицом, она всегда была улыбчива, приветлива, даже угодлива и подобострастна, как бы признавая перед Альбиной свое более низкое жизненное положение, и к такой к ней Альбина привыкла. – Барыни-растабарыни! Задницы свои геморройные боитесь от кресел оторвать. Присохли они у вас. Не хочешь ходить – не надо, лучше на рынок свезу!
– Да ты что, ты что!.. – попыталась урезонить ее обескураженная Альбина.
– А то! Надоели мне все, терпежу больше нет! Сидишь там у себя в Совете… Хуй твой в городе тоже… Надо же, что придумали: водку не продавать! Тютюрли-матюрли епаные!
– Да ну ты что, какие-такие тютюрли-матюрли, ты мне хоть расшифруй, – насилуя себя на смех, попробовала Альбина еще раз обуздать расходившуюся Татьяну.
Но ничего у нее не получалось, пришлось отступиться, согласиться и на новую цену, и на условие Татьяны ходить за яйцами к ней домой.
А вслед за Татьяной точно тот же фокус выкинула молочница.
Правда, от молочницы, от той Альбина всегда ждала чего-нибудь скверного. Молочница была мордатой угрюмой бабой, старше ее совсем ненамного, но именно бабой: квадратной телом и будто безъязыкой – до того трудно давалось ей каждое произносимое слово. Ее Альбина и побаивалась. Галя, как звали молочницу, могла вдруг и перестать приносить молоко, не появлялась и полнедели, и неделю, а возникнув, спрашивала со своей угрюмой усмешкой: «Так надо молоко, нет?! – будто это не она же по своей воле и исчезала.
Но тут она исчезла, минула и неделя, и вторая, а она все не объявлялась, и Альбине, как ни воротило с души, пришлось идти к ней.
Молочница жила в той же стороне, что и Татьяна-птичница, но еще дальше к лесу. И дом у нее был уже совершенно деревенский – с низкими потолками, с низкой дверной притолокой, с маленькими, крохотными окнами без форточек, – и совершенно деревенским был двор: огородный плетень – из редких полусгнивших, черных жердей, дорога от ворот в глубь двора, к хлеву – растоптана, разбита коровами в грязное месиво, и такая всегда, в самую сухую погоду, и всех фруктовых деревьев на участке – две яблони с вишней, а вся остальная земля – картошка да картошка.
– О! – сказала молочница, увидев ее. – Молоко понадобилось?
Так, словно это не она исчезла, а Альбина. Исчезла и не возникала, а вот подперло – и появилась.
– Ты где же это, Галя? – спросила Альбина как можно непринужденнее, улыбаясь и стараясь, чтобы в голосе ее не было упрека. – Что случилось?
– А чего долго шла? Недели две, поди, – не отвечая, сказала молочница.
– Как это я «шла»? – не поняла Альбина. – Это ты где? Вдруг – на, нету и нету, как это так…
– Теперь так, теперь, значит, все сами за молоком ко мне ходить будут, – усмехаясь своей угрюмой усмешкой, прервала ее молочница.
– А что такое… – снова начала было Альбина, и снова молочница не дала ей договорить.
– Так то, что нас с коровами совсем никого не осталось. Вон лето-то. Напасись-ка сена по такой мокряди. А комбикормов не напокупаешься. Никто и не носит теперь. Это я тебе, дура… А чего я буду, как дура. У меня нарасхват. Надо – сама приходи.
Не случись того же с Татьяной совсем недавно, вот только-только, так что Альбина не успела смириться до конца со своим новым, унизительным, как она ощущала, положением просительницы, она бы, наверное, удержалась, не дала воли своей амбиции, но Татьянин отказ еще горел в ней жаркой пощечиной, и второй она не снесла.
– Что, водку трудно покупать стало? – язвительно спросила она. – Много сил на добывание уходит?
Она уколола молочницу таким образом, вспомнив нелепые доводы Татьяны-птичницы, но она забыла, что для молочницы любое прикосновение к этой теме было все равно, что иголкой в гноящуюся рану, потому что муж ее уже дважды сидел в ЛТП – вполне, конечно, бессмысленно, умудряясь регулярно напиваться и там, а уж по выходу устраивая такие загулы, в которые спускал с себя все до трусов, – пил уже вчерную и старший сын, влетев по пьянке в какое-то уголовное дело и отбывая сейчас срок в лагере. Они разговаривали на крыльце – Альбина взошла на него, собираясь постучаться, занесла руку, и тут дверь распахнулась, выпуская из себя молочницу с подойником в руках, – крыльцо было широкое, большое, метр, не меньше, разделял их, – это и спасло Альбину. Лицо у молочницы, едва Альбина помянула про водку, густо налилось кирпичной кровью, и она, размахнувшись, мотнула перед собой подойником, целя Альбине в голову. Но Альбина отшатнулась, и, тускло блеснув, металл ведра промелькнул у нее перед глазами.
– Ах, ты, сука такая! – глухо выдавила из себя молочница, снова занося руку с подойником для размаха, и Альбине, на ощупь, перехватываясь руками по скользким после дождя перилам, вперед затылком, чтобы не выпустить молочницу из поля зрения, пришлось скатиться по ступенькам вниз. – Ты, сука, еще в мою жизнь будешь лезть?!
Ни о каких дальнейших переговорах после подобного не могло быть и речи. Теперь – только разорвать отношения. Разом и навсегда.
– Дуй свое молоко сама! Залейся им! – выкрикнула Альбина с земли, отпуская в себе все стопоры и вкладывая в свои слова все наслаждение ответной ярости. – Тощее молоко, тощее год от году! Разбавляешь почем зря, наживаешься!
Это было истинной правдой, пенка на молоке, когда вскипятишь и дашь затем отстояться, поднималась прежде в палец толщиной, потом стала с каждым годом все утоньшаться и утоньшаться, и последние года два так и просилось упрекнуть молочницу в этом.
– Наживаюсь, нет – не твое дело! – тяжело забухала сапогами вниз по ступеням молочница, ожидать от нее сейчас можно было чего угодно, неизвестно чего, и Альбина предпочла убраться восвояси: повернулась и, оскальзываясь в грязи, пошла как можно быстро к воротам.
Молочница своим угрюмым, тяжелым голосом прокричала ей вслед что-то еще, – она уже не вслушивалась и не разобрала что.
Но теперь нужно было найти ей замену.
Так их молочником стал Семен.
О Семене она слышала и раньше. Что появился у них в поселке настоящий куркуль, бывший заместитель директора строительного техникума из города, держит трех коров разом, несколько телят да еще чуть не гурт овец, – целую ферму устроил у себя на участке, соседям от него никакого покою нет. Место Альбины в поссовете было самым широким перекрестком в поселке, и через день после скандала с Галей она уже знала, где он живет. То, что о нем рассказывали, делало его личностью во всех смыслах примечательной. Прежде в поселке были только молочницы. То есть, разумеется. в домах, где держали коров, непременно имелись мужчины, держать корову без мужской силы было б немыслимо, но мужчины там, без исключения, находились в тени, рабочая сила – и все, а собственно всеми молочными делами заведовали женщины. У Семена же торговые дела вел именно он. Жена доила корову – и ни во что дальше не вмешивалась, а уж он вел все переговоры с покупателями, самолично наполнял банки и бидоны, делал отметки в тетради о долге. И кроме того, у него была самая высокая цена в поселке. «Не хотите – не берите, на творог перетомлю и на рынке продам», – говорил он, и у него брали: молоко его, по отзывам, было не похоже ни на чье другое, душистое по-особому, роскошный букет ароматов, будто бы бархатное на язык, чем он, интересно, говорили о нем, и кормит коров, если они доятся у него таким молоком.
Семен оказался лысоватым человеком лет сорока пяти, с круглым пухлым лицом и круглыми, светлыми шильцами смотревшими глазками, донельзя говорливый и прилипчивый – прилипчивее банного листа.
– Ой, кто пожаловал, кто пожаловал! – встретил он Альбину, взяв ее руку словно бы для приветствия, и тер ее, мял в своих руках с полминуты, не давал отнять. – Власть к нам пожаловала, вот те нате вам. Молочко понадобилось власти, молочка Семенова, не иначе, а?
– Да, хотела бы о молоке договориться, – сказала Альбина.
Она вспомнила Семена. Года три назад это было. Он объявился в поссовете с документами на покупку дома в поселке, и шли эти документы, разумеется, через нее. Через нее шло много таких документов, и спустя месяц она уже могла не узнать человека, но Семена она тотчас узнала. Семен хотел обойти закон. Хотел стать владельцем сразу двух жилищ: и квартиры в городе, и дома здесь, в поселке. Так, чтобы и квартиру в собственно городе, и дом здесь, не получилось в свою пору даже и у них с мужем. Пришлось выбирать. А у Семена, выходит, получилось. Она тогда остановила его документы, он ходил скандалил, и длилось это и месяц, и другой, и третий, она ушла в отпуск, уехала вместе с детьми в семейный пансионат в Судак, на Черное море, а когда вернулась – он уже больше не возникал, и она о нем забыла. А оказывается, у него все получилось, и Семен-молочник и тот Семен – это было одно лицо!
– Молочка все хотят, все хотят молочка, как же без молочка! – сказал Семен, отпуская, наконец, ее руку. – Хлеб да молочко есть – все, дело в порядке, сыт будешь. Молочко – это ведь не водица, это тебе и творожок, и сырок, и маслице, режь хлеб, намазывай, хлеб с маслицем – что ж лучше-то, а?! А? Что власть-то думает? – потребовал он от Альбины ответа на свою бурную тираду.
– Да, разумеется, – коротко согласилась с ним Альбина.
– Что разумеется, что разумеется, что это за ответ – «разумеется»? – Голос Семена построжел – будто он был на экзамене, и Альбина отвечала ему на отметку. – Вы мне скажите по-человечески, ясно, четко и внятно: нельзя без молока, хана без молока, капец и капут, а?
– Да ну что же, конечно, – только и смогла выдавить из себя Альбина.
Неприятен ей был Семен, и если бы не нужда, ответила ему совсем по-другому, а приходилось вот и терпеть его словесное извержение, и еще вести с ним разговор.
Семена на этот раз устроил все же и такой ее ответ.
– Нельзя без молочка, никак нельзя, правильно, – резюмировал он. И спросил: – А сколько надо? Литр? Два? Три? Каждый день, через день?
Альбине было б удобнее через два дня, взять сразу побольше, чтоб пореже ходить, но, выслушав ее пожелание, Семен отрицательно помахал рукой.
– Нет, так не пойдет. Молочка хотите – давайте по-моему: через день. Через два дня – такой практики у меня нет. Через день. Или каждый день. Хотите каждый день? У меня многие каждый день ходят. Довольны! Как клуб здесь у меня. Пока коровы там доятся – посидят, поговорят, пообщаются, Где еще общаться? Вот у меня!
– Да чем вас через два дня не устраивает? – попыталась настоять на своем Альбина.
– Я сказал. Через день. Или каждый день. Так – пожалуйста. По-другому – нет. – В голосе Семена была непререкаемая твердость, которой, казалось бы, при такой его говорливости неоткуда было и взяться.
Потом, позднее, Альбина поняла, почему его не устраивало, чтобы она брала молоко так редко: большими порциями слишком сложно было равномерно распределить молоко среди многочисленных покупателей. Но сам Семен объяснить ей это не мог. Не то что не хотел – не мог! Против его естества было объяснять кому-то что-либо.
Но о том, что занимало и заботило его, об этом как раз он очень любил поговорить, и «клуб», о котором Семен поминал Альбине в первый ее приход к нему, был нужен, собственно, ему самому.
– Ага, ну так готовьтесь, готовьтесь, припасайте в кошельках, я посмотрю-посмотрю и подниму плату за литр еще на полтинник, – говорил он, прохаживаясь по дорожке перед бревнами у него во дворе, на которых, в ожидании, пока коровы будут подоены, сидели, с бидончиками и банками в руках, его покупатели. – Я мини-трактор себе, чтобы сено возить, вынужден был купить? Вынужден. Косцов мне нанимать пришлось? Пришлось. Это все, как говорится, производственные расходы. Мне их кто возместит? Как нас учит политэкономия, возместить их мне должен потребитель. Потребитель – это кто? Это вы! Значит, я посчитаю, посчитаю – и подниму.
– На полтинник, Семен, это же дорого, ты что! – непременно говорил ему кто-нибудь с бревен.
– Полтинник? Дорого?! – останавливаясь, изумлялся Семен. И соглашался. – Вообще дорого, конечно. Но куда денетесь, будете брать. Другие все следом за мной поднимут, Куда денетесь.
Голубоватые шильца его глаз светились довольством и истинным наслаждением, которое он получал от своего «выступления».
– Альбина Евгеньевна, дорогая моя, куда же вы, стойте, не уходите! – говорил он Альбине, налив ей молока и занимаясь следующим покупателем. – Стойте-стойте, у меня к вам вопрос, так просто вы от меня уйти не можете. – И, наполнив банку другому покупателю, подпихивал того рукой к выходу с веранды, где обычно разливал молоко, а Альбину брал за локоть и придвигался к ней поближе: – Ну-ка вы мне расскажите, у вас муж такой человек, он с вами делится, что же, значит, с нами будет, куда мы движемся?
Альбина старалась уйти от таких разговоров. Достаточно было того, что она сама ходила за молоком. И за то, что ходила сама, еще платить беседами с ним! Жевать с ним всю эту жвачку, которую беспрерывно жевал и не мог пережевать муж! Еще не хватало.
Ее занимало собственное. И если все же не удавалось уклониться от разговора, старалась перевести его на темы, которые волновали ее.
– Так вы, Семен, как с квартирой в городе поступили? Кто-то в ней остался прописанным? Жена? Но у вас тогда там площади много лишней, вам бы не разрешили.
Семен, однако, только отмахивался от ее вопросов. Он вообще, лишь речь заходила о неинтересном ему, сразу же увядал, взгляд его терял возбужденный блеск, тускнел, – острые шильца как бы затупливались в одно мгновение.
– Ой, Альбина Евгеньевна… ну нашли о чем, охота вам тоже! – говорил он.
Так она и не выяснила, как ему удалось сохранить и квартиру и купить дом, как не выяснила, почему он оставил свое вполне приличное место заместителя директора, дававшее ему какое-никакое, а положение, перевелся на некую полуфиктивную неприсутственную должность для сохранения стажа и стал, в общем-то, никем, потому что вообразить себе человека, занимающего более ничтожное положение, чем то, в которое поставил себя он, сделавшись кем-то вроде крестьянина-единоличника, выражаясь старым языком, было невозможно.
– А потому что вам всем жрать скоро нечего будет! – с каким-то особым довольством говорил он в ответ на ее вопрос.
– Как это? При чем здесь еда? – не понимала она его. Она не видела совершенно никакой логики в его ответе. Когда он не отвечал – в этом была логика, но в том, как он отвечал в данном случае, она никакой логики не улавливала.
– И тогда я вас всех буду держать в кулаке! Все у меня будете в ногах и в кулаке! – Он воодушевлялся, глаза его начинали остро светиться, вместо того, чтобы увясть, он расцветал. – Будете приходить ко мне: Семен, дай молочка! А я буду решать: этому дам, а этому не дам. А чего? Мое дело. Мое молочко, мне решать!
– В магазин пойду, – говорила Альбина, негодуя на себя, что вынуждена все-таки разговаривать с ним на его темы.
– А что в магазине? В магазине ничего не будет! – восклицал Семен. – Все у меня только. Я вот, овечки подрастут, стричь их буду, я уже деда нашел, он мне валенки катать станет. Я ему двадцатку, с вас – сто. Раздену вас, бездельников. Ведь вы кто? Бездельники! А бездельников наказывать надо.
Подобного Альбина уже никак не могла выдержать. Семен как бы балагурил, говоря все это, как бы все это не всерьез у него было, шутейно, но и шутейно не желала она слушать его.
– Не порите вы чушь! Перестанут завтра покупать у вас молоко – и куда вы с ним денетесь? Всё, позвольте! – решительно отстраняла она Семена с дороги.
И новый день возвращал ее к прежней, привычной, шедшей до нынешнего лета жизни. Но следующий, наступавший за ним, вновь переносил в жизнь реальную, вновь нужно было идти с белым эмалированным бидончиком по улицам, слушать Семена, гуляющего по дорожке перед бревнами, пока жена его доит коров.
Хорошо, жил Семен совсем не в той стороне поселка, где Татьяна-птичница и Галя-молочница. Хотя тоже почти у леса, но в другом конце. Слишком болезненны были для нее происшедшие изменения жизненного уклада, слишком жали душу, заставляя ощущать себя униженной, – недоставало только, чтобы еще Татьяна с молочницей видели ее шлындающей за молоком.
Впрочем, все эти изменения уклада не имели никакого отношения к тому ощущению новой жизни, в ожидании которой она теперь жила. Та, новая жизнь должна была принести ей некую громадную, сверхмерную, беспредельную радость, – она знала это, и ждала именно ее, по ней и должна была опознать наступившую новую жизнь.
5
Непонятная апатия, напавшая на Альбину нынешним летом, к середине августа перешла в ясную, отчетливую тревогу. Теперь она совсем ничего не могла делать, запустив всю свою работу в поссовете, документы, которые необходимо было оформить в день-два, лежали у нее в ящиках стола и не двигались с места, посетители приходили и уходили несолоно хлебавши, не разрешив никаких своих проблем, – мозг ее был не в состоянии ухватить сути их дел, и она сочиняла всякую нелепицу, чтобы только отделаться от чужого присутствия в своей комнате. Председатель поссовета уже несколько раз осмелился на откровенные замечания ей и даже выговоры, что свидетельствовало о его величайшем неудовольствии, а то и ярости. Потому что за все годы, что он был председателем и они работали вместе, он никогда не решался ни на малейший упрек ей – положение мужа охраняло ее надежней всякой брони, – и если уж решился, то значит, его достало по-настоящему.
Но то, что происходило с нею, было совершенно неподвластно ее воле. Тревога ее все нарастала, все нарастала, она не могла уснуть вечерами, просыпалась среди ночи, а утром вставала с таким колотящимся, бешено работающим сердцем, словно провела несколько часов темноты не в постели в расслабленной недвижности, а в непрерывном, безостановочном скором беге. Тревога эта не имела отношения к сыновьям, у нее было твердое ощущение их полного благополучия: и младшего, продолжавшего отдых в Крыму, и старшего, только что завершившего свою летнюю студенческую практику в стройотряде и без заезда домой рванувшего прогуливать заработанные деньги в Сочи на Кавказское побережье. На всякий случай, однако, она связалась и с тем, и с другим, до младшего дозвонилась сама, старший позвонил по ее телеграфному вызову, – всё с обоими обстояло в высшей степени нормально.
«Трагедия в Сочи», – сделав особую, продолжительную паузу после предыдущего сообщения и закаменев лицом, произнес диктор во «Времени», уже под самый конец передачи. Вчера вечером на Сочи обрушился страшный шквал… река Хобза, в обычное время представляющая собой обыкновенный ручей, разлилась на десятки метров и неслась бурным потоком… снесены в море десятки машин туристов, отдыхавших неорганизованным способом, сорваны палатки, люди остались без одежды и документов, по предварительным данным, около ста человек погибло…[3] Диктор договорил, поднял лицо от текста на столе к зрачку телекамеры, – и из Альбины бурно, неудержимо, с клекотом, раздирая горло тугим воздухом, вырвались рыдания, ее всю крутило, вертело, перегибало в пояснице, бросало по комнате от стенки к стенке, она задыхалась, хотела остановиться, прекратить рыдания – и прекратить не могла.
И опять все это не было связано со страхом за сына, который находился не где-нибудь, а именно в Сочи. Наоборот, каким-то таинственным, непонятным образом она знала, что сына происшедшее там не коснулось ни в малейшей степени, и слезы ее были вовсе не слезами горя, а облегчения. Слезами разрядки. Словно бы не разразилась – опахнула дыханием, но не произошла – трагедия куда большая.
– Ну ты что, ты что!.. – ходил вокруг нее, пытался зачем-то взять ее за плечи муж. – Там тысячи отдыхают… тысячи тысяч… и он же в доме, не в палатке, почему обязательно думать…
– Ой, иди отсюда! Отстань! – оттолкнув его, выговорила она, когда, наконец, к ней вернулась способность издавать членораздельные звуки. – Утешитель тоже!..
В ней теперь всегда, постоянно где-то на дне ее существа кипела разрушительная ненависть к нему. Она не ощущала ее в себе каждую минуту своей жизни, но та могла всколыхнуться в ней по самому незначительному, самому невиннейшему поводу.
От сына утром пришла телеграмма: жив-здоров, не волнуйтесь.
А из нее, будто ожидание случившегося в том курортном городе на Черноморском побережье и было причиной, ушла, исчезла напрочь, будто выпарилась одномоментно, та, мучившая ее тревога, заменясь чувством, похожим на счастье. Это было стыдно, даже ужасно, потому что там погибли люди, сто человек, а может, и больше, тысячи попали в беду, едва уцелев, – но она ничего не могла с собой поделать: как не вольна была в своей тревоге, так была не вольна и в этом чувстве. Ощущение некой легкости, невесомости, как бы полета сошло на нее, и так, с ним, она прожила оставшиеся дни августа и начальные дни сентября. Все в руках у нее начало ладиться, лежавшие в ее столе документы в подготовленном виде перекочевали на стол председателю, и даже сад с огородом дождались, наконец, ее внимания: проредила, прорыхлила клубнику, удалила слабые кусты, обрезала малину, заставила мужа сделать то же со смородиной.
И тут она снова увидела его.
Его не было нигде весь август[4]. То есть где-то он был, жил и занимался всякими делами, в том числе, наверно, и государственными, но в жирокой жизни, для всех, он отсутствовал. А тут все газеты напечатали его громадное интервью, данное американскому журналу «Таймс»[5], а спустя еще несколько дней он появился и на экране телевизора. На интервью в газетах она не обратила внимания, умудрилась элементарно не услышать о нем, хотя муж за ужином два вечера только и пережевывал его содержание – прочитала позднее, задним числом, – но едва он возник на экране – ее тотчас притянуло к телевизору, и она просидела перед ним, не отрываясь, все те десять или пятнадцать минут, пока он был на экране.
Теперь он поехал в Западную Сибирь, в Тюмень[6]. И снова, выступив с трибуны в каком-то мертвом, глухом зале перед послушно внимавшими ему людьми в темных пиджаках и темных галстуках под воротничками белых рубашек, оказался посреди рабочей толпы в монтажных металлических касках на головах. Глаз ее тотчас выловил в толпе тех, кто, даже будучи с каской на голове, не имел никакого отношения к этим рабочим-нефтяникам, с которыми он разговаривал, отличил среди них одного, стоявшего почти рядом с ним, за его левым плечом, тоже, как и он, в шляпе, высокого, прямого, с зорким, схватчивым взглядом, и некая, незаметно когда, болезненно и упруго натянувшаяся тетива в ней расслабилась: все было благополучно, не было для тревоги никакого повода.
И едва эта непонятная тетива в ней расслабилась, она услышала, о чем он говорит. Она услышала – и все в ней вознегодовало. То, что он говорил, не принадлежало ему. Вернее, тот свет, что шел от его глаз, и слова, которые произносил его язык, они были несовместимы. Тетива, что вдруг натянулась в ней, к человеку, произносящему эти слова, не имела ни малейшего отношения. Она не знала, что это должны быть за слова, чтобы они составили одно с его глазами, она не имела о том понятия, она только видела, что говорил человек, который не был им, он настоящий был в глазах, но глаза существовали отдельно от голоса.
– Ну же гадство! – ударила она кулаком по подлокотнику кресла, в котором сидела.
Муж, сидевший поодаль в другом кресле и, как всегда, смотревший вечернюю информационную программу с блокнотом в руках, делая в нем пометки, оторвался от экрана, глянул на нее и бросил пресекающе:
– Что тебе опять не так?
Она не ответила. Досмотрела сюжет о его поездке, поднялась с кресла и вышла из комнаты. У нее было ощущение обмана. Словно бы ее втянули в некую непонятную ей интригу, заставили сыграть нужную роль и, только она сыграла, отставили в сторону, глядя на нее теперь как на пустое место. Тяжелая темная обида была у нее в груди, и в глазах закипали слезы.
А спустя две недели он встретился с ветеранами стахановского движения и теми, кто является, как сказал в закадровом комментарии диктор, стахановцами сегодняшнего дня[7]. Встреча проходила в Кремле, ветераны, на груди – ряды медалей, сидели с благостно-счастливыми, ублаготворенными улыбками на лицах, у стахановцев сегодняшних лица были напряженные, но тоже счастливые, а он опять произносил речь. И вновь то, что он говорил, показалось ей пустым и бессмысленным, невыносимым в бессмысленности, и, наверное, если б не муж с блокнотом на коленях, если б сидела и смотрела одна, она бы на этот раз выключила телевизор.
Дней через пять-шесть муж принес домой несколько листов папиросной бумаги с напечатанным на них блеклым машинописным текстом – какой-нибудь седьмой или восьмой экземпляр.
– Погляди-ка вот, – сказал он. Его распирало особое довольство и словно бы гордость. Он давал ей эти листки как нечто, написанное собственноручно, как бы принадлежащее лично ему.
– Что это? – спросила она, беря листки.
– Самиздат, что, – хмыкнул он. – Не видишь?
Ей было знакомо это слово. Только она никогда не держала в руках ничего подобного. Все эти существовавшие где-то в обход государственных установлений, по нелегальным каналам, из рук в руки распространявшиеся рукописи никогда не доходили до нее.
– Откуда это у тебя самиздат-то?
– Ну, а что? Что такого? – ухмыльнулся он.
– Ну так то, что странно.
Никак у него при его положении не могло быть никаких неофициальных каналов, по которым бы эти папиросные листки попали к нему.
– Такие, значит, времена наступают, будем теперь через самиздат просвещаться, – сказал он.
«Не пора ли нам побежать?!» – было напечатано прописными буквами на первой странице шуршащих листов.
То была статья некоего профессора одного из московских институтов[8]. В статье писалось, как, оказывается, все плохо в экономике страны, дальше так продолжаться не может, темпы роста нужно ускорить, а для этого всему населению страны необходимо потуже затянуть пояса.
Статья будто расшифровывала смысл той встречи со стахановцами, которую показывали по телевизору. Она была ключом, которым все открывалось, дверца распахивалась – и даль неоглядная открывалась взору.
– Сам тоже подзатянешь пояс? – сказала она, возвращая мужу его «самиздат». Она вспомнила Татьяну-птичницу, Галю-молочницу, Семена. – Народ, знаешь, как обозлен?
– Ну, обозлен, не обозлен, государство превыше всего, нужно будет – смирятся, – резко ответил он.
После, вспоминая тот водораздельный момент, когда чувство полета, чувство восторга и счастья, ощущение близости новой жизни окончательно ушло из нее, словно бы высочилось через какую трещину, она всегда, всякий раз натыкалась в памяти на эту принесенную мужем статью. Ключ повернулся, дверца распахнулась, и открывшаяся даль отвратила ее от себя.
Все, что происходило вокруг, снова перестало ее интересовать. Как бы та, прежняя сомнамбулическая вялость овладела ею. Как бы жар подернутого пеплом костра, готовый выметнуться пламенем и объять алыми языками наваленный сверху сушняк, остался внутри, под пеплом, не найдя себе пищи.
А вокруг только и говорили о новых назначениях, перемещениях, отставках и арестах, газеты, едва не каждый день, печатали сообщения обо всем этом, муж приносил домой всякие тонкие подробности, которые можно было узнать лишь в его сферах, председатель в поссовете постоянно обсуждал с нею происходящее в надежде разузнать те самые подробности, – но ей не было ни до чего дела. И председателю она не могла рассказать ровным счетом ничего, – все, что говорил муж, в одно ухо влетало, а из другого тотчас же вылетало. И не читала никаких газет, и перестала смотреть ежевечернюю информационную программу по телевизору. И когда случайно перед глазами мелькала в чьей-нибудь чужой газете его фотография или доносился из телевизора его голос с сильным южным акцентом и мягким смазанным «г», ничто внутри не тянуло всмотреться внитмательнее, прочесть, остановиться, прислушаться… Муж был выдвинут делегатом на партийный съезд в Москву[9], съездил, посидел в Кремле, вернулся, полный впечатлений, из него фонтанировало ими днями подряд – все оставляло ее равнодушной.
У младшего сына был трудный год – заканчивал восьмилетку, вдруг обленился и ничего не хотел делать, таскал из школы сплошные двойки, и участковый разок да другой предупредил ее: гляди, видел в дурной компании, – и всю осень и зиму она жила сыном. Никогда не уделяла она ему столько внимания, никогда не уходило на него столько сил. Как-то даже довелось притащить его домой набравшимся до положения риз, и сообщила об этом к великому стыду, не кто другая, как соседка, позвонив по телефону: а вот я сейчас шла, ваш сын под забором сидит… Что такое, почему, чем его пометило? – не дружил ни с кем из детей окрестных домов, все тянуло на окраину, к избам, подальше от кирпича с асфальтом…
Тяжелый у нее выдался этот учебный год. Она очень устала за зиму. Измоталась – так вернее. Ужасно измоталась.
6
С Ниной Альбина была дружна еще в школе. Потом их развело, они не виделись едва не десять лет и вроде бы не нуждались друг в друге, а когда обоим зашло за тридцать, бросило, без всякого внешнего повода, одну к другой и спаяло – не разорвать, только удивлялись: как прожили столько лет, не видясь. Спроси Альбину, зачем ей нужна Нина, она бы не ответила. У Нины шла совсем другая жизнь, у них не было не только общих жизненных дел, а как бы даже и интересов, но вместе с тем, если не разговаривала с Ниной по телефону несколько дней, – возникало чувство, что прожила их впустую. Что-то иное, не внешнее связывало их с Ниной, чем-то иным, невыразимым в словах были нужны друг другу. Увидеться им из-за отсутствия общих дел удавалось нечасто, но когда все же встречались, мало оказывалось целого дня, говорили и говорили, не могли наговориться, из каждой встречи выходил праздник, о котором помнилось после долгие и долгие дни, все время до новой встречи.
Чтобы устроить себе этот праздник, нужно было освободить чей-нибудь из домов: или ее, или Нинин. Они должны были остаться вдвоем и знать, что будут вдвоем достаточно долго. Проще поэтому получалось встречаться у Нины. Когда-то, в молодости, Нина с мужем долго не имели собственного жилья, и дочь их, привыкнув к дому бабушки с дедушкой, так и жила там, приезжая к матери с отцом лишь на субботы-воскресенья, мужу Нины приходилось время от времени убывать в командировки, и вот в этих-то случаях, если им обеим удавалось взять среди недели отгульные дни, они и встречались.
Нина жила в городе, в тесной, крохотной двухкомнатной квартирке, но когда они встречались, у квартирки словно бы исчезали стены.
Впервые за наступивший новый год удалось встретиться только уже в апреле, совсем незадолго перед майскими. Была пятница, двадцать пятое; как всегда, они припасли для встречи шампанское, тянули его маленькими глотками, в бутылке вроде не особенно и убывало, но в голове приятно, с серебряным звоном шумело.
– Ой, да ну дай ты кому-нибудь, вот идиотка, что ты жмешься, – сказала Нина. – Сразу на ноги встанешь, обещаю. Кровь забегает – как у девочки. Какие у тебя противопоказания? Только «за»!
Это Альбина поделилась с нею, что муж стал ей совсем невыносим, раньше давала ему и давала, хотя и знала, что он постоянно имеет еще на стороне, давала – и ничего, все нормально, а сейчас что-то так стала его ненавидеть – ну, не раздвигаются ноги, какой-то механизм, что ли, сломался в груди, как заржавело там все – не пускает, совсем почти не живет с мужем, раз в месяц, не больше, и то со скрипом, а хочется же, требует организм, прямо невмоготу временами, хоть ори благим матом.
– Я не жмусь, что я жмусь, – сказала Альбина в ответ подруге. Ей было несколько стыдно говорить обо всем подобном, это Нина всегда любила о своей, как она называла, «норке», а о ее, Альбининой, обычно молчали, так ими обеими и воспринималось: о Нининой положено, а о ее нет, – ей было даже не несколько, а ужасно стыдно, у нее, почувствовала она, полыхнуло не только лицо, а и уши, но невозможно было, не было уже сил держать все это в себе – и вот вырвалось. – Я не жмусь, что я жмусь. А «дай», легко сказать. Кому? Где его взять? Первому встречному-поперечному тоже не хочется. И страшно – какой-то чужой в тебя… и не хочется, чтобы любой…
У Нины заблестели глаза.
– Зачем «любой»? Не нужно первому встречному-поперечному. С чего ты выдумала: «первому встречному»? Давай я тебе своего отдам. Давай, ну ей-же-богу! Что мне, жалко для лучшей подруги? У него, знаешь, такой толстый, я в жизни таких больше не видела. У меня норка вроде не маленькая, а все равно, как входит, – у меня дыхание под горло: кончусь сейчас! Ей-богу! Прямо необыкновенно.
– Ой нет! – От Нининой откровенности щекам и ушам Альбины сделалось еще жарче. – Я не хочу так… механически так. Мне чего-то такого хочется… вот сама не пойму чего… ну, чтоб в груди… чтоб ржавчина там облетела…
Она хохотнула, пытаясь скрыть этим хохотком свое смущение, отпила шампанского, и Нина вслед ей тоже хохотнула и тоже сделала глоток.
– Алька! Да ты любви хочешь! Ничего себе! Чтоб, значит, не только сесть, но и рыбку съесть!
– Любви? – Альбина испугалась. Не хотела она никакой любви. Сама, личным опытом, она не знала, что такое любовь, но за прожитую жизнь ей довелось несколько раз увидеть, как сходили от любви с ума, ломая себе и хребет, и шею, теряя все, что было нажито за предыдущие годы, – только еще подобного ей не хватало. – Нет, не нужно мне никакой любви, ты что! – сказала она.
– Конечно, не нужно, что тебе с ней делать, – подтвердила Нина. – Бери моего, такой кайф получишь, обещаю! За чистоту ручаюсь, он только со мной, заразы никакой не подцепишь.
– Откуда ты знаешь, что только с тобой? – Альбине невольно стало любопытно.
Нина похмыкала.
– Ну, во-первых, такое условие. Из целей безопасности. Но главное, Алька, – опыт! Опыт у меня все-таки – слава богу! Я норкой чувствую. У меня норка – как рентген, он вошел, я его сразу насквозь просвечиваю!
Альбине это было непонятно, но переспрашивать она не стала. Опыт у Нины, особенно, если сравнивать с нею, действительно был большой. Нина, закончивши институт, работала конструктором в проектном бюро по каким-то железкам, знала уйму неведомых Альбине вещей и, судя по всему, считалась ценным специалистом, но главным ее жизненным делом, ее настоящим предназначением было рогатить мужа. Вернее, не рогатить, а добавлять к черному хлебу блеклого супружеского существования пряную, сладкую сдобу сторонних связей. Много сил и большой ловкости требовала такая жизнь, но Нине доставало и того, и другого, она рогатила мужа искусно и со вкусом, он и не догадывался о жизненном назначении своей жены.
– Нет, я не хочу так, – снова сказала Альбина. – Главное, чтобы вот здесь, – она подняла руку, показала, – чтобы в груди…
Нина перебила ее:
– Но потом ты снова отдашь его мне. После тебя мне ужасно интересно снова с ним будет, какой кайф, я уже предвкушаю!
Она оторвала ноги от пола и, подняв, поболтала ими в воздухе. Они сидели в креслах друг против друга, разделенные журнальным столом, юбка ее мягким колоколом взметнулась вверх, и перед Альбиниными глазами замелькал узкий параболический переешек ее белых ажурных трусиков.
Альбина засмеялась над этой радостной Нининой непосредственностью. Она любила Нину, и все, что та ни делала, все было хорошо. Да и вообще, оттого, что они, наконец, встретились, сидели друг с другом, тянули шампанское, все в ней только от одного этого смеялось и веселилось, стреляло шипучими воздушными шариками, как шампанское, которое они пили, вообще хотелось все время смеяться и хохотать, без всякой причины.
– Нет, ты знаешь, – сказала она, утирая с глаз набежавшие от смеха слезы, – уж ты меня извини, но испорчу я тебе кайф. Мне бы, знаешь, с мужем все-таки… в смысле толщины, знаешь, он меня вполне устраивает…
И тут кресло, на котором она сидела, вдруг вырвало из-под нее, стремительным, мгновенным махом, будто на гигантских, невероятных размеров качелях, пронесло по некоему пространству, и она обнаружила себя стоящей на вершине высокого холма, небо было застлано мглистыми тревожными облаками, озерца и речка внизу блестели тяжелым ртутным блеском, дул сырой пронзительный ветер, по пыльной змее проселочной дороги в неимоверной дали двигалось человеческая фигурка, и в босые ноги изнутри земли било могучим колокольным гудом, сотрясая тело до самой теменной кости: УБЕРЕГИ!
– Ты что? Что с тобой?! – метнулась к ней, вскочив со своего кресла, Нина.
– Что? Что такое? – слабо спросила Альбина.
Воспоминание о давнем детском сне оказалось настолько сильным и ярким, привидившаяся картина была такой осязаемо реальной, что ее как оглушило, и она не могла до конца осознать, что по-прежнему находится в маленькой двухкомнатной квартирке подруги, покойно погрузившись в мягкое кресло, и в руках у нее бокал с шипуче стреляющим шампанским.
– Да на тебе лица нет! – забирая у нее бокал, воскликнула Нина и, взяв ее обеими руками за голову, повернула лицом к свету. – Как простыня стала!
– Да? – все так же еще не придя в себя, бестолково проговорила Альбина.
– На, погляди! – мигом смотавшись к серванту, двинув там стеклом полок, сунула Нина ей в руки небольшое прямоугольное зеркальце с откидной металлической ножкой. – Что с тобой случилось?
Альбина взяла зеркальце за ножку и поймала в нем свое отражение. Лицо у нее и в самом деле было как хорошо отбеленная финская бумага, на какой она любила печатать наиболее важные документы. Но больше всего ее поразили собственные глаза. Это были не ее глаза. Это были какие-то чужие глаза, не имевшие к ней никакого отношения! Выражение муки и ужаса стояло в этих глазах. Словно та, которой они принадлежали, прозрела сейчас нечто кошмарное, в чем, может быть, была повинна сама, и отшатнулась в непередаваемом страхе… И однако же эти чужие глаза на выбеленном лице были ее глаза! Что такое увидела она, куда заглянула? Никогда раньше виде́ние того детского сна не совершало с ней ничего подобного.
– Ой, это надо же!.. – простонала она, возвращаясь, наконец, в Нинину квартирку всем сознанием, положила зеркало на стол стеклом вниз и, опершись о подлокотники, поднялась. – Ой, что такое…
– Что, что? – тревожно спросила Нина.
– Да черт знает что… – теперь уже намеренно уклоняясь от ответа, нарочито грубо сказала Альбина.
Она обнаружила: о чем ни за что не расскажет Нине, – это о своем виде́нии. Словно бы ее собственное виде́ние не принадлежало ей, было доверенной ей чужой тайной, проболтаться о которой было бы равносильно самому подлому предательству.
Она пошла в ванную, сняла ватным тампоном с кремом всю косметику, умылась с мылом, крепко и сильно проводя ладонями по лицу, сначала теплой водой, потом самой холодной, какая текла из крана, и кожа на скулах загорелась, жгуче натянулась, и в голову вернулась ясная трезвость.
– Черт знает что, – снова сказала она Нине, объясняясь. – Нервы, знаешь, пошаливают.
– И будут шалить, если так себя доводить, – тут же подхватила Нина. – Хватит жаться, не хочешь моего – ну пожалуйста, но со встречным-поперечным тебе тоже не хочется?!
И снова они пили шампанское, мерили и обсуждали всякие Нинины обновы, показывали друг другу, перебирали новые украшения, появившиеся у каждой за время, что не виделись, опять пили шампанское, прикончили одну бутылку и принялись за вторую, поели, вновь проголодались и еще раз поели, и так день подошел к концу, наступил вечер, перейдя в ночь, и Альбина осталась ночевать у Нины, как это почти всегда у них и происходило: то ли она у Нины, то ли Нина у нее. Приятно было продлить встречу до утра следующего дня. Пусть просто спали под одной крышей, этой проведенной бок о бок ночью встреча переводилась в некое новое качество, наполнялась неким особым смыслом.
Нина легла на раздвижной узкой тахте в комнатке поменьше, а Альбина, как всегда, когда оставалась у Нины, – на раскладном мягком диване в комнате побольше. Альбине нравился этот Нинин диван, нравилось раскладывать его, а потом поутру убирать, нравилось засыпать на нем и, засыпая, открыв случайно глаза, увидеть вокруг не свою, а Нинину комнату…
Она проснулась от крика. И, просыпаясь, поняла, что это она и кричит. Она кричала так страшно, таким задавленным, диким, рвущимся откуда-то из самых кишок голосом, что, проснувшись, все продолжала кричать – уже от ужаса перед этим своим невольным, раздирающим все ее нутро сумасшедшим криком.
– Ты что?! Что случилось?! – услышала она над собой Нину, и увидела, что в комнате горит свет, и осознала себя лежащей почти поперек дивана, со свесившейся вниз, заломленной назад головой. Сердце колотилось грохочущим молотом в груди, в висках, в щиколотках, кровь не умещалась в сосудах, они готовы были лопнуть под ее пульсирующим напором.
Нинин голос прервал ее крик, но ответить Нине что-то членораздельное было не в силах. Она смотрела снизу на Нинино лицо над собой, молчала, тяжело дыша, потом с трудом, мелкими змеиными движениями двинула себя по дивану и втащила на него затекшую, онемевшую голову.
– Что-то приснилось? – спросила Нина.
Теперь Альбина смогла сделать головой отрицательное движение. Ничего ей не приснилось. Во всяком случае, она ничего не помнила. И однако же внутри была твердая, неколебимая уверенность, что произошло нечто ужасное, кошмарное и она могла это предотвратить, не дать случиться, – смогла бы, если б не была так сосредоточена на себе, так эгоистично и подло озабочена только собой…
– Но что с тобой, что такое? – с беспокойством, настойчиво спросила Нина.
У Альбины разлепились губы.
– Не знаю…
Глазам было больно от света, она закрыла их – и снова открыла.
– Который час?
Нина оглянулась на будильник за спиной.
– Двадцать четыре минуты второго. Почти двадцать пять. Самая ночь.
– Ох, извини!.. – Голос возвращался к Альбине, возвращалось дыхание, и сердце, уйдя из ног и головы, уже колотилось только в грудной клетке. – Не знаю, что это такое… все вроде нормально…
Но между тем тревога внутри не оставляла, и еще минуту-другую спустя она поднялась, взяла телефон и позвонила домой.
– Аллё! – прохрипел в трубке сонный голос мужа.
Дома все оказалось спокойно. По ее требованию, оставив трубку, муж сходил в комнату сына и, вернувшись, подтвердил: спит без задних ног, лоб потрогал, температуры нет, можешь быть уверенна. Тогда вызывай машину и отправляйся к старшему, потребовала она. «Охренела?» – спросил муж. Она заорала на него, не стыдясь сидящей рядом в ночной рубашке Нины, и положила трубку лишь после того, как он дал-таки ей обещание, что вызовет дежурную машину и съездит, проверит, что со старшим.
Старший сын жил здесь, в городе, в студенческом общежитии – как захотел, только поступив в институт, до телефона на общежитской вахте дозвониться было невозможно ни днем, ни ночью, поэтому она и послала мужа.
Тот час с минутами, что Альбина провела в ожидании ответного звонка мужа, показался ей равным всей предыдущей жизни. И когда, наконец, звонок раздался, была уже готова к самому худшему. Боялась смого худшего – и была готова.
Но и со старшим все оказалось в порядке. Спал, и муж разбудил его вместе со всей его комнатой. Разбудил – и толком не мог объяснить сыну, зачем объявился у него в общежитии среди ночи. Как идиот какой там выглядел, сказал он. Почему «как», не удержалась на радостях она от укола.
И однако ее не отпускало до конца. Что-то внутри не давало расслабиться, побуждало к каким-нибудь действиям – непонятно каким, куда-то пойти, с кем-то встретиться… словно бы какая лихорадка била ее. До того, в ожидании звонка, она уже выпила какого-то валоседана, что нашелся у Нины в холодильнике, выпила без малого полпузырька валерьянки, а теперь выпила еще, накапав в рюмку, и какого-то валокармида, который Нина тоже откопала в своей аптечке, соленого, как огуречный рассол.
– Все, теперь будешь спать слаще младенца, – сказала Нина, гася ей свет и отправляясь в свою комнату.
Младенческим ее сон назвать было никак нельзя, это было нечто похожее на обморок: она проваливалась в сон и выныривала, проваливалась и снова выныривала, и так всю ночь, и утром поднялась оглушенная, с такой головой, будто та распухла и была ощутимо больше своих истинных размеров.
– Боже мой, да ты же совсем рехнутая стала, я и понятия не имела! – говорила ей за завтраком Нина. – Такое с тобой творится! Завязывай со своей целомудренностью, я тебе со всей серьезностью! Если тебя мораль угнетает, так у тебя все права: благоверный твой столько мочалок перетер… О собственном здоровье ты подумать должна?
Альбина кивала своей распухшей, словно бы тыквенного размера головой, как бы соглашаясь, но не отвечала. В груди лежал тяжеленный камень, давил и разрывал внутренности, и камнем этим было чувство: допустила, не уберегла, виновата! Что она допустила? В чем виновата? От чего не уберегла? Кого? Никакого ответа в ней не было, а только смутное, похожее на колеблемый ветром туман, зыбкое ощущение: то, чего не произошло тогда, в августе, произошло сейчас…
Муж, когда вернулась домой, устроил ей скандал.
– Ты, говнючка! – кричал он на нее. – Ты чей хлеб ешь, ты понимаешь?! Меня с утра сегодня, несмотря на субботу, на ковер выдернули! Так за ночной вызов холку намылили – я еле живой выполз! Климакс у тебя начался – фортели такие выбрасывать? Что такое ночной вызов, ты понимаешь? Это ЧП, это объясниловку писать, на этом погореть – дважды два! Погорю, что делать будем, лапу сосать станем?!
Он не часто позволял себе с ней подобное, груб был и хамоват – это да, но чтобы так бушевать – значит, его действительно припекло.
Она не оправдывалась и не огрызалась – в ней не было ни чувства вины, ни протеста, она просто пропускала весь его крик мимо ушей: ну, поорет, спустит пар – и перестанет, выдохнется. В ней было полное, абсолютное равнодушие к его неприятностям. Ничего, выкрутится. Подумаешь, холку ему намылили.
– Там действительно ЧП происходит, люди гибнут, а она: в общежитие сгоняй! – кричал, спускал пар, буйствовал муж. – Сейчас сколько голов летит кругом, знаешь? Сажают и расстреливают, знаешь? Новая метла метет, представляешь хоть, что такое – новая метла?!
– Погоди, – сказала она. Из всего, что он проорал, до нее дошли только самые первые его слова. – Где ЧП? Где люди гибнут?
– Где надо, там и гибнут! – ответил он.
– А если нормально? – теперь она почувствовала раздражение. Надо же брякнуть такую глупость: где надо, там и гибнут.
– А если нормально, то нечего спрашивать! – он так кипел, что его, казалось, разорвет. – Ничего пока не известно толком. Панику не сеять, главное! А вам расскажи – из вас тут же брызнет, зафонтанируете!
– Кто это «мы»?
– Вы! Все! Кто еще. Не понимаете ни хрена, что такое страной управлять!
– Ну, а ЧП тут при чем? – попыталась она все же вытащить из него какие-то сведения.
– При том, что не надо из него ЧП делать!
– Как это из ЧП не делать ЧП?
– Так это!
И как она ни настаивала, сколько ни теребила его еще, чтобы он прояснил свои слова, ничего внятного он больше ей не сказал.
Она узнала, что он имел в виду, два дня спустя, из короткой невразумительной информации в вечерних новостях по телевизору, быстро проговоренной среди прочих. Она сразу поняла: это то самое[10].
А еще два дня спустя в «Правде» появилось первое печатное сообщение: «От Совета Министров СССР»[11]. Оно было совсем коротенькое, три узких столбца по четырнадцать строк, и все в нем – глухо, невнятно, словно вырвалось из сдавленного горла, через стиснутые зубы. Она прочитала его раз, потом другой, потом третий, медленно проползая глазами по каждой строчке и шепча вслух слова, и когда она подсчитала строчки, каким образом и почему это число так прочно врезалось ей в сознание? Спроси ее об этом, она бы не ответила. Зато почему-то она точно знала, что все сообщенное – лишь малая часть правды, почти вообще не правда, все хуже, много хуже, ужаснее – вот вернее, и теперь, раз появилось первое, следует ждать других, новых сообщений, более и более ужасных…
Майские были необыкновенно теплы, свежая зелень, в несколько дней схватившая своею нежной кружевной пеленой мокрую неопрятную землю, скрыла собой все ее весенние мусорные грехи, небо стояло над головой изумительной ясности и глубины, старший сын, почувствовав, должно быть, после отцовского ночного визита некую вину за свое постоянное пренебрежение родительским домом, приехал после обязательной демонстрации на центральной площади города провести все четыре нынешних дня праздников в семье, что было такой радостью, такой удачей – вот уж действительно должен был выйти праздник, но, осознавая это и временами, забывшись, даже ощущая себя счастливой, большую часть этих дней она была угнетена, подавлена, и, когда приносили почту, первой бросалась к газетам. В газетах теперь печатались уже не короткие невнятные информации, а громадные статьи, и, с жадностью читая их, она как бы складывала из отдельных осколков мозаичную цельную картину, узнавая в ней ту, которой, лишь неосознанно, уже, оказывается, владела…
А после праздника Победы она начала ждать встречи с ним. Она чувствовала, встреча должна произойти вот-вот, может случиться в любой день, в любой момент, и на работе у нее постоянно было включено радио, и, что бы ни делала, все время прислушивалась к исходящим из него звукам, а дома, мешая всем, бесперерывно работал телевизор, и она не давала никому уменьшить громкость, чтобы не пропустить момента предуготовленной встречи. Она знала, что встреча должна произойти, была в ней уверена, а временами представлялось даже, что произойдет вживе – ведь ездит он по разным местам, и почему ему не объявиться у них? – но это лишь временами, а реально она ждала ее в том виде, в каком то было действительно осуществимо.
Ждать пришлось всего несколько дней. Он появился в программе все тех же вечерних новостей, в самом ее начале, лицо его было сосредоточенно-сурово, с подобранно-государственными складками у губ, заговорил, впервые за все двадцать минувших дней назвав имена погибших и впервые объявив цифру госпитализированных и число умерших в больницах, но, слушая, она не вникала в слова, она глядела в его глаза. Она вглядывалась в его глаза и видела: он ничего не понял! То есть он знал, ясно было по его глазам, много больше того, чем говорил, он не говорил и десятой части того, что знал, двадцатой части, сотой! – но, зная все это, он не понимал истинной сути происшедшего, истинное значение было скрыто от него, и он не видел в происшедшем угрозы тому будущему, ради котрого был призван, ради которого и выступал сейчас, происшедшее было началом цепи, звенья которой, прочно перехватываясь одно за другое, вели во тьму, мрак, в пропасть…
Откуда, каким образом была в ней подобная осведомленность, она не имела понятия, но она нисколько не удивилась тому и ни на мгновение не усомнилась в своем знании. Она испытывала чувство вины перед ним. Столько месяцев совершенно не думала о нем. Но следила за его действиями, не обращала никакого внимания, чем занимается, – будто его и не было!
Младший сын, пробегая по своим делам мимо нее, впившейся в телевизор, глянув на экран, пропел речитативом:
– Ускоренье – важный фактор, Но не выдержал реактор. Кроет вся Европа матом Наш советский мирный атом.– Идиот! – мигом вскипев, крикнула она вслед ему. Тут же пожалела об этом, потому что нехорошо, недостойно было вымещать на сыне свои чувства, но не удержалась и добавила: – Нашел, над чем насмехаться!..
7
С этого дня жизнь ее с утра до вечера была заполнена одним: знать о нем все, что возможно, о каждом его шаге, который получает огласку, не пропустить ни единого сообщения о событиях, в которых он принял участие, не просмотреть любого, самого незначительного его появления на экране телевизора, и всякое сказанное им слово ловилось ею с особым напряженным вниманием и обдумывалось после с той особой напряженной тщательностью, с какой, помнилось ей – до головной боли, до разламывания черепных костей, – обдумывались в свою пору, когда дети были маленькими и заболевали, небрежно-скороговорчатые, малопонятные слова врача об их болезни. Она теперь жила словно бы в некоем невидимом, но несомненно физическом облаке взаимодействия с ним, и у нее было чувство, что он тоже знает о ней, вернее – ощущает ее присутствие рядом с собой в этом облаке и не волен выйти из него, пока она окружает его им.
Все лето только и было разговоров о случившемся перед майскими. Газеты едва не каждый день печатали репортажи с места катастрофы, которое теперь пытались обезопасить возведением бетонного кожуха над смертоносным разрушенным зданием, по телевизору то и дело показывали передачи, в которых исследовались причины происшедшего, выступали ученые – недоумевали, как это могло произойти, говорили об одной миллионной, которую составляет вероятность того, что произошло, и, минуя все официальные каналы, приползали самые жуткие слухи об опасностях, которые продолжает таить в себе взорвавшийся реактор, и муж, когда передавала ему эти слухи, чаще всего подтверждал их. Один из слухов был страшнее других: будто реактор день ото дня разогревается все больше, остановить повышение температуры не удается, фундамент под ним скоро расплавится, а под фундаментом – заполненный водой котлован, и если реактор ухнет туда – вот это уже окончательная, непоправимая катастрофа, никак к нему больше не подберешься, и он годы и годы, целые столетия по водным подземным капиллярам будет точить смертью. «Ну, ты развешивай уши больше!» рявкнул на нее муж, когда она спросила его о достоверности подобных толков. Ничего не подтвердил на этот раз и не опроверг; но она все же знала его, знала все его ухватки и хитрости, и он более, чем подтвердил слух: он заткнул уши себе и ей рот при одном лишь поминании слуха, а значит, что-то похожее на такое было, угрожало и действительно могло разразиться.
Спустя несколько дней она поймала себя на том, что временами вдруг начинает безмолвно, только иногда шевеля губами, шептать одни и те же слова: «Нет. Никогда. Ни в коем случае!» Она шептала их абсолютно помимо воли, совершенно не включаясь сознанием, и, когда поймала себя на этом, поняла, что шепчет их при мысли о слухе, от поминания которого, вместо того, чтобы подтвердить его или опровергнуть, заорал на нее муж. Но, осознав это, она не стала бороться с собой, как можно было бы предположить, наоборот, теперь при мысли о случившемся перед майскими, она уже вполне осмысленно принималась повторять: «Нет. Никогда. Ни в коем случае! Нет. Никогда. Ни в коем случае!» – и реально слова эти связывались в сознании прежде всего с ним. И когда в разговорах возникало его имя или когда, по некоей ассоциации, оно возникало в ней само по себе, она тут же, как заклинание, повторяла несколько раз: «Нет. Никогда. Ни в коем случае!»
В июле Семен-молочник, как обещал еще в прошлом году, поднял цену за молоко на полтинник. Предупредил он об этом загодя, за неделю до июля, примерно так, и всю эту неделю, прохаживаясь перед бревнами во дворе с сидящими на них в ожидании молока покупателями, разглагольствовал:
– Вот и дождались, что поделаешь, рано или поздно должно это было произойти – поднимает Семен цену. Поднимает Семен цену, что поделаешь. Да ничего не поделаешь, куда вы денетесь? В магазин, что ли, пойдете? В магазинах-то вам и раньше не нравилось, а теперь и боитесь еще. Боитесь, ага? Я б тоже боялся. В магазинах пойди узнай, откуда оно. Счетчик Гейгера около него, может, как пулемет, строчил бы, да? А у меня известное дело – здесь все, на наших травках, полная гарантия! Кому тяжело – пусть поменьше берет, что ж поделаешь. У меня вон желающих целая очередь, у меня ни литра не останется, все разберут, я в обиде, если поменьше, ни на кого не буду…
Глаза его радостно светились довольством и любовью к себе, голубоватые их шильца ощупывали сидящих перед ним слушателей с требованием дать ему такую же меру любви, но лица его покупателей выражали только затаенное огорчение и досаду, и Семен тоже огорчался:
– Вы, наверно, думаете, Семен рвач, Семен кулак, да? Думаете, думаете! А чего тогда сам никто коровку не заведет? Чего никто не заведет, я спрашиваю? Слабо завести, а, Альбина Евгеньевна? – непременно обращался он к ней, если она, неверно рассчитав время, приходила слишком рано и оказывалась невольно в числе его слушателей.
Она ничего не отвечала ему, только улыбалась рассеянно и неопределенно пожимала плечами. Она бы и могла ответить, но ей было элементарно лень. Он мог добавлять еще полтинник, и рубль, и два, и не в том дело, что любое повышение цены было посильно ей, а просто все это не волновало ее. Совершенно все это было не интересно ей. У нее был теперь лишь один интерес, и она жила только им.
На август муж взял для себя и нее путевки в Мисхор, в первоклассный санаторий, в который до того ему ни разу не удавалось попасть, даже при его положении, младшему сыну купили путевку в молодежный туристический лагерь, располагавшийся в долине неподалеку, все повседневные жизненные заботы были переложены на других, – и тело ее отдыхало, нежило себя на утреннем солнце и в истомной прохладе соленой морской воды, но внутри она вся была натянута тетивой, и с такой силой, что тетива эта как бы позванивала, дрожа от разрывающего ее напряжения.
Здесь уже, в санатории, она обнаружила, что с самых первых дней августа не получает никакой информации о нем. Из газет исчезло его имя, не проходило никаких мероприятий с его участием, – в прежние годы это означало только одно: его вполне официальное исчезновение в скором времени. Она забеспокоилась, даже, пожалуй, запаниковала и, прожив в таком состоянии некоторое время, не выдержала, спросила мужа, что это может значить. Ответ оказался до обыкновенного прост. А отпуск, сказал муж[12], должен же каждый человек раз в году иметь отпуск? А он тоже человек, и, кстати, отдыхает здесь, в Крыму, только трудно точно определить, где именно, потому что есть несколько дач, на каждой из которых он может находиться, не угадаешь на какой, но вот имеется одно такое местечко, Форос называется, полсотни километров отсюда, там сейчас новая дача строится, специально для него, и когда достроят, тогда можно будет говорить где – со всею определенностью.
На отдыхе! И где-то в этих же местах, далеко или недалеко – неважно, но где-то на этом же побережье! Теперь ее пребывание здесь, среди кипарисов, войлочных пальм и лакированных магнолий наполнилось настоящим смыслом, исполнилось, наконец, внутренней радости, и с этим чувством – радости и обретенного смысла – она теперь поднималась утром, с ним жила день, с ним ложилась в постель.
Однако та позванивающая тетива в ней странным образом не ослабляла своего натяжения, и те, звучавшие в ней все лето, подобно заклинанию, слова – «Нет. Никогда. Ни в коем случае!» – она повторяла теперь едва не беспрестанно. «Нет. Никогда. Ни в коем случае!» – произносила она про себя в столовой за завтраком, отхлебывая кофе из чашки. «Нет. Никогда. Ни в коем случае!» – укладываясь на пляжный лежак, подставляя тело под ультрафиолет еще нежаркого солнца. «Нет. Никогда. Ни в коем случае!» – выходя, мокрая, обессилевшая, из моря после купания.
Что-то должно было произойти. Что-то подобное тому, перед майскими, нанизаться следующим звеном, нарастить цепь, ведущую во мрак…
То, что подобного не произошло, она поняла в день их отъезда домой. Было уже второе сентября, и, хотя у сына срок его пребывания в турлагере закончился несколько дней назад, муж решил, что начало школьных занятий можно пропустить, не страшно, устроил сына на питание в столовой, места в их номере постелить третью постель более чем хватало, и они дожили положенное им время в санатории до конца. У сына был небольшой транзисторный приемничек «Sony», приобретенный мужем, как у них говорилось, на распродаже, сын каждое утро, поднявшись, тотчас включил его, и сообщение, которое прозвучало, едва из динамика вырвался голос диктора, ошеломив ее и ужаснув, в следующий миг наполнило пониманием: того не произошло.
Но и то, что случилось взамен, было чудовищно. Было кошмарно, невыносимо для сознания, она словно видела это: штормящее море, ночная тьма, страшный удар, а следом, через считанные минуты, безвозвратный провал в умертвляющую пучину[13], – и ее бросило на диван, стоя возле которого, все больше и больше бледнея, она выслушала сообщение, и заколотило в рыданиях. «А-аа! А-аа!» – кричала она, задыхаясь. Ей казалось, это ее самое утаскивает вместе с гибнущим теплоходом в морской мрак и она задыхается от воды, хлынувшей ей в легкие. Ее швыряло по дивану из одного его конца в другой, от подушки к подушке, из которых была составлена спинка, она схватила одну и то утыкалась в нее лицом, то колотила ею себя по коленям…
Муж позвонил по внутреннему телефону в медчасть, спустя какое-то время около нее появились, замелькали перед глазами белые халаты, закатали рукав ночной рубашки и сделали укол в предплечье, уложили на диван и, держа, чтоб случайно не вырвалась, сделали укол в ягодицу, она провалилась в забытье – и очнулась по-настоящему уже в поезде: стучали колеса, покачивало, постель на нижней полке была застелена, и она лежала в ней, укрывшись из-за жары одной простыней. То есть она помнила, как сходила по широкой центральной лестнице санаторного здания к машине, помнила, как погромыхивала по асфальту перрона тележка носильщика с их вещами и приходилось спешить, поспевая за его быстрым шагом, но помнилось все это сквозь туман, сквозь вязкую пелену оглушенности, а пришла она в себя только в поезде.
Должно быть, перед тем как прийти в себя окончательно, она спала. Она открыла глаза, обвела взглядом купе вокруг себя – муж сидел на другой нижней полке, читал газету, на верхней полке над ней, судя по свисающей руке, расположился сын, а вторая верхняя пустовала: они купили, чтобы никто не мешал, целиком все купе.
Муж, переворачивая газетные страницы, глянул на нее и увидел, что она проснулась.
– Чай сейчас пойду закажу, попьешь? – откладывая газету, спросил он. Голос его был испуганно-подобострастен. Во она перепугала его. У одного с его работы жена двинулась умом, по полгода обитала в психушке, устроила ему жизнь – вся карьера поплыла, и муж, кажется, больше всего на свете боялся, чтобы на него не свалилось чего-нибудь подобного.
– Пойди закажи, попью, – ответила она. Все в ней было спокойно, даже холодно – как бы подморожено, – и было то действие лекарств, которых, должно быть, вкатили ей лошадиную дозу, или естественное следствие нервной разрядки после услышанного известия?
– Сколько там погибло, на этом теплоходе, я что-то пропустила? – спросила она.
– Там, знаешь, еще ничего точно и не известно! – особо уверенным, густым тяжелым голосом, не дав ей даже договорить, ответил муж. – Там еще все приблизительно, там всяких нарушений было полно, не ясно даже, сколько вообще на этот теплоход пассажиров взяли!
Сын, когда она заговорила, подобрал руку и свесил вниз со своей верхней полки голову.
– Около пятисот человек погибло, что-то так, – сказал он.
– Ты помолчи, ты что лезешь, когда взрослые разговаривают! – схватил его за подбородок муж и, выворачивая голову, заставил убраться на свою верхнюю полку полностью. – Откуда ты взял, там все пока приблизительно!
– Перестань, – попросила она мужа, скидывая простыню и садясь на постели. – Пятьсот или шестьсот… или четыреста… это уже без разницы.
Да, то, что случилось, было ужасно. Ехали отдыхать, наслаждаться жизнью, танцевать, купаться, пить вино, флиртовать – любовники, новобрачные, семейные пары, вырвавшиеся из круга домашних забот, – собирали, копили, занимали в долг деньги, чтобы купить билеты, – и купили смерть.
Но тем не менее, то, что случилось, было сущим пустяком в сравнении с тем, чему до́лжно было произойти и что не произошло. Она не знала, что это могло быть такое – такое ужасное, что было бы тысячекратно хуже случившегося, – но в ней была твердая, безоговорочная уверенность: того не произошло.
Проводница принесла чай в стаканах, втиснутых в алюминиевые железнодорожные подстаканники, сын спрыгнул со своей верхней полки вниз, они поели, и Альбина снова заснула, чтобы проснуться уже следующим утром, почти на подъезде к родному городу.
Впрочем, ослабнув, тетива в ней по-прежнему продолжала пребывать в натянутом состоянии. Она чувствовала, что опасность не миновала, удар не отведен, и не могла позволить себе думать о чем-либо ином, кроме как о грозящей беде. «Нет. Никогда. Ни в коем случае!» – звучало в ней почти беспрерывно, с утра до ночи, и временами ей казалось, что от этого постоянного повторения одних и тех же слов она действительно может тронуться умом.
Долго, однако, ждать не пришлось. И вновь то, что произошло, произошло на воде. Только теперь в океане. И, должно быть, в таком открытом, так далеко от всякой суши, что ближайшей оказались Бермудские острова – в тысяче километров от случившегося. И вновь, как в апреле, случившееся было связано с атомным реактором. Как бы две предыдущие катастрофы соединились, чтобы удвоить энергию новой.
Так ей подумалось, когда, сутки спустя после начавшегося пожара, в газетах появилось сообщение об этом[14]. Пожар продолжался три дня, и все три дня опять натянувшаяся до звона тетива внутри нее, чудилось ей моментами, должна лопнуть – до того чудовищно было ее натяжение, – и когда все кончилось, лодка затонула, не угрожая больше никакой опасностью, тут, наконец, тетива распустилась, не ослабла, а буквально провисла, и Альбина следом ощутила: тело ее одрябло, сделалось старушечье-слабым, тряпичным, ее может снести с ног любое дуновение ветерка.
Три человека, всего, погибло на этот раз. Три жизни после пятисот – это выглядело теперь как что-то несущественное. Словно бы то были не живые люди, а просто некое абстрактное число, отвлеченная цифра, нечто, поддающееся счету и не более того.
Но самостоятельно, чувствовала она, ей не одолеть свою старушечью дряблость. Ей требовалась какая-то сила извне, требовались подпорки, костыли, на которых бы она могла повисеть некоторое время, восстанавливая себя, она была не способна жить дальше без помощи, ей нужно было приникнуть к какому-то чудодейственному источнику, испить из него…
Так она оказалась в церкви. Впервые в жизни по своей воле и впервые за последние двадцать лет. В семье ее никто не верил и в церковь не ходил, а сама она была там только раза два в юности, еще до замужества: забегала с любопытствующей компанией своих сверстниц в первый пасхальный день поглазеть на творящееся многолюдное празднество, поглазеть, подивится – не больше. А теперь ноги привели ее туда сами собой. Что ей там делать, каков вообще реальный смысл этого посещения, она не знала. Ноги повели – и она пошла.
А уж когда вошла, все совершилось, будто ее кто направлял. В холодной каменной полутьме желто горели, помаргивали слабые свечные огоньки, наполняя высокое подкупольное пространство как бы теплотой тех неведомых человеческих рук, что эти огоньки возжгли, и она тотчас купила в конторке у входа целых три десятка свечей, и расставила по одной, по две, по три у всех икон, какие были в церкви, и, ставя, зажигая от других горящих и втискивая в узкое гнездо подсвечника, приговаривала неизвестно откуда взявшимися в ней словами: «Прими, Господи, за упокой их душ. Тех пятисот и этих трех. Прими, Господи, и не оттолкни, будь милостив, Господи!..» И потом стояла перед какою-то одной из икон, показавшейся ей почему-то главной, а может, и не главной, а просто той, перед которой ей следовало, опять же почему-то, остановиться, и о чем-то просила – не вполне понимая о чем, о чем-то молила – совершенно не отдавая себе отчета, о чем, собственно, молит; «Господи, дай сил! Господи, дай сил! Не оставь, Господи!» – это только и повторяла, все так же неизвестно откуда взявшиеся в ней слова, а что конкретно стояло за ними, к какой реальной цели они были устремлены, – этого она не знала.
Она не была крещеной, не была, как положено говорить, посвящена, и значит, исходя из церковных канонов, молитва ее не могла быть услышана.
И однако ей стало легче. Она почувствовала это буквально на утро следующего дня, пробуждаясь от сна. Она лишь выплыла из его глубины, еще не открыла глаз, а уже ощутила ясность в голове, по телу было разлито некое умиротворенное спокойствие – как бы она болела и выздоровела, слабость еще не оставила мышц, но больше их не ломило и не выкручивало, подобно отжимаемому белью.
И день ото дня после того она становилась все бодрее и крепче, сбросив с себя недавнюю старушечью дряблость, будто расколдованную лягушачью кожу, и, сосредоточась на себе, наблюдая за своим самочувствием, как-то так случилось, она потеряла из виду его, перестала беспрестанно думать о нем и следить, и, когда спохватилась, было поздно.
Встреча, к которой он готовился уже много месяцев, состоялась. И завершилась самой унизительной неудачей. Вознесшийся на вершину власти на другой стороне земли актер, с которым он встречался, глядел с экрана телевизора, комментируя прошедшую встречу, высокомерно и раздраженно. Или он совершенно ничего не понимает, или просто беззастенчиво блефует, что-то такое с презрительным сарказмом сказал о нем этот бывший актер[15].
А он сам, на своей, отдельной пресс-конференции, сидел перед журналистами с мрачным черным лицом, это было для него, поняла она по его лицу, настоящей мукой – отвечать на их вопросы: он был игроком, с разгромом проигравшим партию, но условности поведения заставляли его делать вид, будто проигрыш для него ничего не значит и вообще равносилен победе. Ему было впору в петлю от этого проигрыша, а он должен был с важностью рассуждать о достоинствах и недостатках веревки, болтавшейся у него над головой.
Тут, на этой пресс-конференции, она впервые увидела его жену. Наверное, та появлялась рядом с ним и раньше; то есть точно, что появлялась, она вспомнила, как та сходит за ним по самолетному трапу, как стоит около него в окружении толпы встречающих, но почему-то раньше она совершенно не обращала на нее внимания, совершенно не замечала – и оттого, видя, не видела. А увидела вот на этой пресс-конференции.
Возможно, потому, что камера показала ее лицо. Это было лицо, абсолютно повторявшее лицо его. Нет, не похожее, она была совсем не похожа на него, но ее лицо действительно повторяло все то, что выражалось на его лице. И даже не повторяло, а выявляло. Оно не было зеркалом его лица, оно было чем-то вроде увеличительного стекла: то, что на его лице отпечаталось мрачной тяжестью, на ее лице было высвечено как рухнувшая надежда, разбитая судьба, неопределенность будущего.
Она сидела в первом ряду, и камера показывала ее крупным планом несколько раз. И раз от разу Альбина всматривалась в ее лицо все пристрастнее. Его жена была неотъемно впаяна в него, во все его повседневное существование – всею своей жизнью, всем своим повседневным существованием. Это было в ее глазах: таких напряженных, выражавших такую готовность к его защите, к любому действию ради него – будто она была его матерью, а он рожденным ею ребенком. Она напоминала пантеру перед броском. И Альбина даже увидела подвыпущенные из жадно раздувающихся мягких подушечек отливающие перламутром острые боевые когти.
Но тем не менее она была лишь спутницей. Он нуждался в ней, как она нуждалась в нем, он мог всегда опереться на ее руку, как она на его, но только в том, что касалось этого самого повседневного существования. А во всем остальном, главном, она была немощна, бессильна, тут она не могла помочь ему ничем…
Пантера… тоже мне, с ревнивым чувством подумала Альбина, когда камера показала ее в очередной раз.
Он оборвал пресс-конференцию едва не на полуслове: ответил на какой-то очередной вопрос и, еще заканчивая ответ, вскинул руки, опустил их на стол: «Все, благодарю всех за внимание!» – поднялся и пошел к выходу.
Может быть, там, в зале, камера снимала его дольше, до той поры, пока он не исчез из поля зрения, но по телевизору показали лишь, как он встал и двинулся, и тут все оборвалось, Но и по тому, как он встал, как повернулся, с какой резкостью все это делал, наконец, по его профилю с жестко подобранными губами, на котором и пресеклось изображение, Альбине сделалось ясно, до какой степени он взвинчен, с каким трудом держит себя в руках. Кричать ему хотелось сейчас, а не отвечать с деловитым спокойствием на вопросы.
Но, к ее собственному удивлению, она не испытала того сочувствия к нему, той охранительной материнской обиды за него, того жгучего душевного страдания, которых можно было бы ожидать, судя по ее предыдущему опыту. Ничего, произнесла она про себя, мысленно провожая его, уже невидимого ей, до двери со сцены, за которой ему предстояло исчезнуть и из поля зрения телекамер, это, что случилось сегодня, как раз не страшно. Это как раз вполне поправимо. Только набраться терпения.
Что она практически имела в виду, откуда в ней взялись эти слова, – она не отдавала себе в том отчета. Это произошло как бы помимо ее воли, без всякого участия ее сознания, вдруг возникло в ней – и прозвучало.
8
Муж между тем день ото дня возвращался домой все более мрачный. Неожиданно, чего с ним не бывало никогда прежде за все прожитые вместе прошлые годы, он начал рассказывать ей за вечерним столом о всяких своих рабочих делах. О том, что там у них происходит, кого куда перемещают, кого убирают вообще, кто сумел перекинуться в тихое спокойное место сам, а кто хотел, но не вышло, и ждет теперь, что с ним будет. Видимо, то, что происходило в той его, недомашней жизни, больше не умещалось в нем, выплескивало через край, и у него появилась потребность отливать из себя кипевшее в нем варево.
Хрен знает что, бардак какой-то, никогда раньше такого не было, говорил он, принимаясь неторопливо заедать твердым колбасным кружком хряпнутую рюмку армянского коньяка. Пятерых сразу ни за что ни про что под суд, да еще по троим предстоит решить, открывать следствие, нет… какого хрена?! Будет у кого интерес работать в таких условиях? Ответственность на себя брать, воз тащить? Ответственность бери, воз тащи – а не ошибись, не оступись, не расслабься, шаг влево, шаг вправо – расстрел? Да на хрена кому все это нужно будет… повалится у него все к херам, рухнет все, не удержится, попомни мое слово!
Она, конечно же, понимала, кого он имеет в виду под «ним». Он всегда говорил о нем без имени, но так выделял голосом, что сразу делалось ясно, о ком речь.
– Почему «у него»? – не удерживалась, спрашивала она. – Он что, один там?
– Слава богу, что не один! А был бы один… но от него все идет, от кого еще! «Гласность», слово какое пустил. Надо было до такого додуматься! Что, чтобы обо всех этих катастрофах писать, народ пугать? Раньше ничего не происходило, что ли, думаешь? Не писали просто! Не писали, не знал никто ничего – и все спокойно. А теперь чуть что… на хрена весь этот шорох нужен?! Всегда все большие дела втихую делались, не хрена о них языком звенеть!
Альбину не задевали эти его высказывания. Как прежде вся его та, внедомашняя жизнь проходила для нее стороной, была ей чужда и неинтересна, так была чужда и сейчас, и если она задавала ему уточняющие вопросы, то лишь потому, что ее точило любопытство, как оценивают в том, внедомашнем мире «его».
– Цэрэушник он, не иначе, – наливая себе из бутылки новую рюмку, говорил муж. – Голову даю на отсечение, цэрэушник! Если бы нет, делал бы, что он делает? Кому это нужно, что он делает? Чтобы так трясло всех, с ног сносило? Никому, кроме ЦРУ!
Хорошенько огрузнув от коньяка, он, если сын уже спал, начинал домогаться ее. Большая его мясистая ладонь, забравшись под юбку и оттянув резинку трусов, сжимала ей ягодицы, раздвигала их, плотно приникала к промежности, и она, посопротивлявшись, но не очень долго, уступала ему – как стала делать последнее время. Желание тела было сильнее ее ненависти. Муж это последнее время много чаще и куда настойчивее, чем прежде, требовал от нее близости, – видимо, что-то в той системе, к которой он принадлежал, стало иначе, и прихватывать на стороне регулярно сделалось сложно. Но, уступая ему, она почти никогда не получала удовлетворения. Даже простого, физического, что было ей вполне доступно еще совсем недавно. Ей казалось, внутри нее ходит что-то неживое, словно бы пластилиновое, задыхаясь, скуля, едва не плача, впившись ногтями в мохнатые лопатки над собой, она пыталась пробиться к той знакомой, желанной судороге, которой жаждало тело, колотилась снизу о его тяжесть, будто о некую перегородку, мучительно пробивая ее, – и нечего не получилось, не выходило пробить, не могла пробиться!..
Излив в нее накопившийся в нем тягучий мужской секрет, разом отяжелев и обмякнув, он некоторое время продолжал лежать на ней, плюща ей живот, неумолимо сокращаясь своей пластилиновой плотью, в какой-то миг она переставала чувствовать в себе его присутствие, и он перекидывал ногу через ее бедро, и переваливался на постель рядом. После этого, полежав на спине минуту-другую, несмотря на то, что веки ему теперь должно вроде бы было слеплять сном, он снова возвращался к той своей, недомашней жизни:
– Критику ту же возьми. Историю нашу охаивать начинают. Это еще что такое? Народ плохо жил? Плохо жил, скажи мне?! Хлеб, сахар и маргарин все всегда имели! Так? Так! А что еще?! Кто-нибудь у нас с голоду умирал? Чего тогда эта критика?!
Тут он начинал ее уже раздражать. А может быть, сказывалось еще и ее неразрядившееся, уползающее обратно в себя, подобно улитке в свою раковину, плотское томление.
– Ладно, хватит тебе, завел одно и то же, как сорока Якова, – отпихивая обеими руками его большое жарко-мохнатое тело подальше от себя, враждебно говорила она. – Что с сыном делать, ну-ка вот скажи лучше? Что по этому поводу думаешь? Катится-катится, ну, как докатится?!
С младшим сыном действительно все обстояло плохо. Компания его по-прежнему была в тех, окраинных домах, и, следи за ним, не следи, он пропадал там с утра до ночи. Несколько раз вечерами снова приходил выпивши, в сломавшемся его, загустевшем голосе, когда Альбина принялась отчитывать его и он, перебив ее, закричал: «А уйду совсем, катитесь вы!» – звучала такая готовность сделать себе хоть как плохо, но по-своему, что она испугалась и отступила, и в итоге вышло, что он вытребовал себе право выпивать открыто и впредь. Поселковый участковый, кабинет которого находился в поссоветовском строении, в первой от входа комнате налево, как-то пришел к Альбине и, тяжело ворочаясь в своей милицейской сбруе, садясь на стуле то прямо, то боком, то закидывая ногу на ногу, то снимая, сказал ей: «Ты, слушай, не обижайся… мне бы тебе сто лет не говорить… но вроде как профилактическую беседу с тобой надо… ты мне после благодарна будешь. Насчет сына твоего беседа… знаешь, нет, с кем он околачивается? Там у кого брат, у кого дядька – все через лагерь прошли, там такая капелла подбирается… ты меня извини, конечно, но я должен предупредить. В городскую школу его переведи, что ли!..» Сын, однако, с нынешнего учебного года, как в свою пору старший, и без того учился не в поселковой, а в специальной городской школе, куда по утру съезжались дети и внуки всего руководящего круга, но оттуда друзей никого не завел и, только возвращался автобусом после уроков, бывало, и не зайдя домой, тут же лупил во все лопатки к своим окраинным дружкам.
Муж на ее требование придумать что-то касательно сына начинал тяжело дышать, воздух вырывался из его ноздрей с гневным шумом, и, мгновение-другое спустя, он говорил с яростью:
– А ты тут что смотришь? Я там целый день… мне спины не разогнуть! А ты рядом тут, проконтролировать не можешь? Телефон у тебя на столе для чего? Сын – это на тебе, это ты давай!
– «Ты», «ты»! – раздраженно отвечала ему она. – Растыкался! Не тыкай и не якай, понятно? Спины ему не разогнуть… – Знала она, как они там не разгибают спин. Всем бы так не разгибать. Нашел кому заправлять арапа. – Ты отец или не отец, ты кто?
Муж снова принимался грохотать какими-то гневными словами, но она больше не слушала его. Она выпустила закипевшее в ней, и сверх того ей ничего не было нужно. Что он мог придумать касательно сына. Ничего он не мог придумать. Прекрасно она это знала.
Незадолго до Нового года он неожиданно позвал ее смотреть какой-то фильм у них в конференц-зале. Никогда такого прежде не случалось. Всякие зарубежные фильмы, не попадавшие на обычный экран, там, в этом их конференц-зале показывали постоянно, но только им, кто там работал, и попасть со стороны, будь ты жена или еще кто, было сложно. А тут фильм был никакой не зарубежный, и кроме того, вроде как их даже заставляли прийти семейно. Словно бы некий особый смысл придавался фильму, особое, как бы государственное, общественное значение, и раз семья, согласно марксизму, являлась ячейкой общества, то было необходимо, чтобы фильм посмотрела не часть ячейки, а вся она целиком, во всяком случае, главной своей, взрослой составляющей.
Идти к нему на службу, сидеть там в его зале, провести вместе с ним целую уйму времени вне дома – ужасно ей этого не хотелось, но было любопытно, что за такой за фильм, на который едва не в обязательном порядке требуют явиться с женой, нарушая все прежние установившиеся правила, и она пошла.
Фильм был снят на широкой пленке, огромный экран разворачивал свое бутафорское действо, застилая все поле зрения, будто втягивая внутрь этой выдуманной, ненатуральной жизни, но и сам по себе фильм был сделан весьма искусно, заставлял смотреть себя, и едва не три часа его как пролетели. Женщина пекла невиданные, сказочные торты и выкапывала труп всевластного вельможи из могилы. Женщина была в давние времена девочкой и девочкой была свидетельницей прихода вельможи к власти, когда во время его «коронационной» речи прорвало трубу и оттуда ему в лицо ударила фонтаном вода. Женщина лишилась волей вельможи отца и матери и бегала на лесную биржу в поисках родительских посланий на спилах деревьев, доставленных голыми бревнами из дальних краев. «Эта дорога не ведет к храму», – сказала женщина в окно постучавшейся к ней старухе, – и фильм закончился.
Домой ехали вчетвером, – муж к себе в машину взял одного сослуживца, оказавшегося безлошадным: машина того нынче днем сломалась и была на ремонте. Муж по-хозяйски занял переднее сидение рядом с шофером, но всю дорогу просидел развернувшись, – они с сослуживцем, не замолкая, обсуждали картину. Картина им не понравилась. «Это что, она там труп из земли все время вытаскивает, а сын тот потом его с обрыва бросает – это нам с нашей историей так обойтись предлагают?!» – металлическим голосом, гневно вопрошал муж. «Да! Богохульствуют, и вроде как, по их, это хорошо. Давайте и вы за нами вслед богохульствуйте! – с таким же металлом и гневом отзывался его сослуживец. – И вообще все в одну кучу свалили: и кареты там, и судьи средневековые, и машины современные – полная каша!» – добавлял он через недолгую паузу. «Во, точно! Каша! – соглашался муж. – Напущено туману, бой в Крыму, все в дыму… да никакой правды жизни нет!»
Впрочем, больше всего им не понравилась не сама картина, а все, что было вокруг нее, вся эта ситуация с семейным просмотром, что придавало просмотру характер некой, не вполне понятной чрезвычайности. «Это ж не просто так!» – говорил сослуживец. – «Конечно, не просто так, то ж ты думаешь!» – соглашался муж. – «Это чье, интересно, распоряжение?» – спрашивал сослуживец. – «Хотел бы я знать! – отзывался муж. – Что, нашего, что ли? Мало похоже». – «На нашего не похоже. – Сослуживец понимал мужа с полуслова. – Если только ему указание было». – «Во, – подхватывал муж. – Именно. Уж что-нибудь вроде намека, толстого такого, наверняка». – «От этого все исходит, от этого!» – нажимая голосом на «этого», восклицал сослуживец, не решаясь при шофере впрямую произнести имя, а того и не требовалось, и так все было ясно, но если б шоферу вдруг захотелось настучать, то улик бы не имелось. «А и вообще! Что она все время с ним рядом?! – не заботясь о логике своего восклицания, вмешивалась жена сослуживца. – Что она все время хвостом, что она себя выставляет, кто она такая, чтоб так выставляться?!» Жена сослуживца сидела между мужем и Альбиной посередине сидения и, произнося свою разгневанную, безадресную внешне тираду, пригибалась к коленям, заглядывала Альбине в глаза, ища у нее поддержки.
Альбина не отвечала ей, только неопределенно пожимала плечами и улыбалась. Она вообще не участвовала в разговоре. И даже не особо прислушивалась к нему. Смотрела в окно машины, за окном летела зимняя белесая тьма, разжиженная огнями уличных фонарей, горевших окон в домах, и улыбалась. Она чувствовала себя счастливой. Так, словно это она сняла фильм, она организовала такой просмотр, – все все она сделала, все было делом ее рук. Странное было чувство, удивительное, даже смешное, пожалуй, но вот однако…
Сослуживец мужа жил рядом, на соседней улице. Они завезли его с женой, объехали квартал – и оказались у своего дома.
– Ты молодцом, не трепала языком, – одобрительно сказал муж, когда шли к калитке. – Не то что эта… клуша.
– Ну да… не трепала, – чтобы что-то ответить, сказала Альбина. И засмеялась.
Муж, разумеется, не понял ее смеха.
– Чего?
– А ничего – ответила она. Не объясняться же было с ним.
– Что «ничего»? – остановившись у калитки, заступил он ей дорогу. – Или совсем не соображаешь, для чего нам фильм показывали?
– И соображать не хочу – сказала она, обходя его и открывая калитку. – Еще мне об этом думать!
Она и действительно не хотела думать об этом. Не думалось – и не хотела заставлять себя. Зачем? Совершенно все это было ей ни к чему[16].
9
Казалось, ее качает на качелях. С этим чувством она обычно просыпалась по утрам. Она просыпалась – ее с бешеной скоростью несло по некоему пространству без тьмы, без света, без границ, открывала глаза – и движение стремительно и неудержимо затухало, оставляя лишь память о себе, но если случалось вновь провалиться в сон, новое пробуждение было отмечено этим же бешено-скорым движением в некоем пространстве, только теперь – и это она каким-то непонятным образом отчетливо осознавала – ее несло в другую сторону. Однако бывало, чувство качелей посещало ее и среди бела дня: вдруг в ней как бы замирало все, останавливалось, обрывалось – и в следующий миг приходило понимание, что это ее вынесло в крайнюю точку и сейчас понесет обратно.
В очередную их встречу с Ниной она поделилиась с ней этим своим удивительным, необычным ощущением. Шел первый месяц зимы, у нее еще не кончилось изумительное яблочно-черноплоднорябиновое сухое вино, которое она несколько последних лет делала осенью для себя – одну десятилитровую бутыль, – и они пили с Ниной из узких хрустальных бокалов нынче его.
Нина подняла бокал к глазам, посмотрела на нее через его изломанные, отливающие радугой грани, словно это могло позволить ей увидеть Альбину каким-то особенным образом, и опустила бокал обратно на стол. В глазах у Нины Альбина прочитала сочувствие и осуждение.
– До психдома себя довести решила, – сказала Нина. – Ей-богу, до психдома! Мне не веришь, посоветовалась бы еще с кем. Давай устроим тебе консультацию? Не кончаешь совсем, у организма никакой разрядки, что ж ты хочешь!
У нее уже был новый любовник, и она очень им гордилась, потому что столб у него был необыкновенно длинный, приходилось, чтобы тот не поранил ее внутри, держать его обеими руками. «Совершенно необыкновенные ощущения, знаешь, – говорила она. – Прямо амазонкой на коне себя чувствую»
– Этого я тебе не порекомендую, – развивая свою мысль, успокоила она Альбину. – С таким хороший опыт нужен, еще покалечит он тебя, я себе ввек не прощу. Я тебе другого найду, он тебя так сделает – обрыдаешься!
Альбина слушала ее и смеялась. Неиссякающий Нинин энтузиазм вызывал в ней восторг. Но и только. Этот странный качельный полет нисколько не пугал ее. В нем была некая естественность, необходимость, как если б то было ее внутреннее дыхание: вдох – выдох, вдох – выдох. И она не ради советов поделилась с Ниной этим своим ощущением, а просто сидели, говорили – и вот вспомнилось.
– Нет, – сказала она Нине, – отстань и не приставай больше, не хочу никаких твоих. Не интересно мне все это, ну, ей-богу, пойми. Не интересно, ничуть.
Она не лукавила, и в самом деле все было так. Единственное, что ей было теперь по-настоящему интересно, что ее увлекало, чем она жила, – это те события, которые в той или иной, большей или меньшей мере имели отношение к нему. Она стала теперь следить не просто за ним, за его выступлениями, всречами, перемещениями по стране, а за всем тем, что, происходя даже на громадном удалении от него, было, однако, так накрепко связано с его личностью, до того напрямую сявзано, что случившись, тотчас отзывалось на нем, да и любое его движение тоже тотчас отзывалось там, на громадном удалении. И каким-то неясным ей самой образом она тотчас знала при том, что действительно связано, а что нет. И тем же непонятным образом знала, какое событие в его пользу, а какое против, какое имеет как бы знак «плюс», а какое «минус», хотя объяснить смысл этих знаков было бы ей непосильно. И знала она еще, что неизбежно чередование знаков, «плюс» непременно должен смениться «минусом», как «минус» «плюсом», – неизбежно с тою же неукоснительностью, с какой качели, пройдя путь до одной мертвой точки, неменуемо последуют в своем движении к другой, и так до тех пор, пока не перестанут раскачиваться и не замрут вообще.
Но знание это жило в ней словно бы само по себе, отдельно и от воли ее, и от чувств, и когда, буквально на следующий день после просмотра того фильма, она услышала о волнениях, случившихся в столице одной из восточных республик, едва там сняли их главу, принадлежащего к местной национальности, и заменили другим, имевшим национальность иную, о раненых, доставленных в больницу, о десятках арестованных, отправленных в тюрьму ждать наказания, – все внутри нее ужаснулось, и сердце сжалось, будто его стиснуло ежовой, безжалостно-игольчатой лапой[17].
– Да ну вот, нашла себе заботу, думать еще об этом! – набросилась на нее Нина, когда Альбина объяснила, что ее сейчас волнует. – Их это дела, – указала она рукой на потолок, – пусть у них голова и болит. Пусть у них, тебе-то чего?!
– Да, как чего, – сказала Альбина. – Хуже ничего нет. Все, что угодно, только чтобы не это. Если начнут по крови делить друг друга, тогда все, конец, тогда не выйдет ничего.
– Что не выйдет? Что тебе нужно, чтоб вышло?
– То, ну что! Разве не понятно?
Она не могла ответить, что не выйдет. Она не понимала того сама, но, не понимая, видела: не выйдет! И почему, если видела это она, не видела Нина?
– Ой, брось, брось, умоляю тебя! – Нина поставила рубиново светящийся бокал на стол, замахала руками и приложила их к вискам. – Без нас разберутся, без нас! Кому нужно, тот пусть и разбирается, еще не хватало нам туда соваться!..
Но начало наступившего года оказалось спокойным. С нетерпеливостью распаленной гончей она вгрызалась по утрам на работе в свежепринесенные газеты, усаживалась, бросая все дела, по вечерам рядом с мужем у телевизора слушать новости, – и всю снежную, долгую, морозную зиму, практически, не было поводов для тревог и даже простого беспокойства, и весна, почти до исхода, до последних своих календарных дней, тоже протекала вполне тихо. Состоялось, пробурлило громадными шапками заголовков на первых страницах газет, обстоятельно-длинными, сурово-нахмуренными телевизионными интервью важное собрание самой высшей власти, назвалось, все в тех же заголовках и интервью, историческим – и кануло в лету[18]. На ядерном полигоне республики, чья столица полыхнула перед Новым годом пожаром уличных волнений, возобновились взрывы, которых не проводилось весь прошлый год, больше, чем год, – и будто не было в том никакого перерыва[19]. В одной из южных, кавказских республик приговорили к пятнадцати годам лишения свободы за торговлю высокими, хлебными должностями лицо из самых высоких властных структур, – и это уже было воспринято всеми вокруг как едва ли не обыденное, рядовое явление[20]. Война, в которой страна участвовала уже восьмой год, продолжалась, последнее время о ней стали писать и говорить по телевизору ощутимо больше, чем прежде, – но она была настолько привычна, настолько все сжились с нею, что никакого особого внимания на ее события никто уже не обращал[21]. Прилетела, покрасовалась с экранов телевизоров со своей неизменной сумочкой в руках, скрывая за ослепительной улыбкой истинный смысл своего визита, женщина-премьер-министр с окраинных, западных островов Европы, встретилась с ним, погворила о чем-то – и убыла обратно, оставив по себе всеобщее невнятное недоумение: зачем, собственно, она прилетела[22]?
Лихорадить начало с конца мая. Ее вдруг будто тряхнуло, – началось с этого. Шла домой на обеденный перерыв – узкой твердою тропкой, строчкой бегущей в острой зелени крепнущей травы вдоль тротуара, – и почудилось, кто-то сильно толкнул в спину и следом, не дав упасть, – в грудь, и она, взмахнув руками, балансируя, чтобы и в самом деле не упасть, остановилась. Голову кружило, в глазах потемнело, в ушах стоял звон. Как если б качели, двигаясь, на полном ходу вре́зались в неожиданно возникшее на их пути препятствие.
На следующий день в вечерней информационной программе по телевизору сообщили, что накануне с территории одной из Прибалтийских республик угнан самолет[23]. А на другой день пришло новое сообщение, по сравнению с которым предыдущее померкло и напрочь исчезло, как меркнет и исчезает свет электрической лампочки при грянувшем свете солнца. Некий спортивный самолет, принадлежащий стране недружественного военного блока, спокойно пересек границу и, никем и нигде не задержанный, пролетев едва не тысячу километров, все так же спокойно приземлился прямо на Красной площади в Москве[24]. Совсем где-то рядом с ним, отметило сознание Альбины.
Следствием этого грянувшего солнечного луча стало смещение со своего поста министра обороны[25]. Смешной остроклювый мальчик в светлых проволочных очках, со странной для его малого опыта умелостью посадивший самолет среди тесноты окружающих площадь зданий, избежавший ячеи проводов, натянутых над нею, – откуда он взялся? что вдруг ему втемяшилось в голову совершить этот дикий перелет, когда каждая минута веселого моторного тарахтенья его крылатого жучка над чужою землей должна была стать последней?
И все лето, и вся осень, до самых последних ее дней, до мороза и легшего снега, прошли для Альбины словно бы в некой тележной тряске по булыжной ухабистой мостовой. Такую, во всяком случае, ассоциацию вызывало в ней происходившее с нею. Встряхивало и подкидывало, мотало взад и вперед, нещадно болтало – можно было бы уподобить ее состояние и лихорадке, временами она даже ощущала в себе некий горячечный, болезненный жар. Городу, необъяснимо переименованному три года назад в честь очередного сановного лица, умершего на вершине власти, вернули его прежнее, исконное имя[26], – и у нее было чувство, что причастна к этому. Престарелый сановник, последний из старческого синклита, занимавшего вершину власти два предыдущих десятилетия, принял представителей народа, с непомерной жестокостью изгнанного без малого полвека назад со своего полуострова, где до того прожил века, обсуждал с ними возможность и способы возвращения, чего годы и годы никто на вершине не желал делать[27], – и она чувствовала себя причастной и к этому. Но ужас был в том, что, когда, несколько дней спустя, грузовой поезд на полном ходу врезался в пассажирский состав, что шел впереди, подмяв под себя, сплющив, искорежив несколько последних вагонов со спящими там людьми, превратив их живые тела в кровавые куски мяса с торчащими обломками костей[28], она была причастна и к этому ужасному крушению. Как была причастна к падению со своего головокружительного высокого поста человека, что вдруг ни с того ни с сего на заседании того заоблочного омоложенного синклита, к которому теперь принадлежал, взорвался обвинениями в адрес синклита, едва, по слухам не бранью[29], – словно это она потянула его за язык, подтолкнула в спину: давай! И была вскоре после того еще одна железнодорожная катастрофа – всего лишь с тремя погибшими[30], а спустя несколько дней, словно бы в некое зловещее назидание, – новая, подобная той, первой: грузовой состав врезался сзади в стоящий на станции пассажирский, прошив обезумевшим локомотивом хвостовой вагон насквозь, – снова превратив в кисельную слизь, перемолов в костяное крошево десятки и десятки людей…[31] и временами ей уже становилось не по силам больше жить в этом, терпеть это все в себе дальше, ей казалось, – лучше свихнуться, сойти с ума, чтобы не иметь к подобному отношения, а просыпаясь по утрам, слыша, как замирает стремительный качельный бег, обнаруживала в себе жуткое, вынимавшее душу отчаяние: а не просыпаться бы!
И лишь новая его встреча с тем, бывшим актером, происшедшая за тысячи километров, на земле этого бывшего актера, в столице его страны, опять незадолго до Нового года, лишь она принесла ей некоторое облегчение и примирила с собой: соглашение, подписанное на встрече, было чем-то немыслимым прежде, небывалым, грандиозным, – так, во всяком случае, писали газеты и говорили по телевизору, и там, по другую сторону земли, писали и говорили будто бы то же самое[32]. И еще писали и говорили: он произвел там на всех очень сильное впечатление. И ей это было как-то по-особенному приятно. Она испытывала словно бы материнскую гордость за него. Как если б он был ее сыном, оправдавшим потаеннейшие надежды и ожидания.
10
– Я думаю, вам все-таки нужно пройти диспансеризацию, – сказал врач. – Такая у вас прекрасная возможность профилактики, где вы еще найдете? и вы не пользуетесь!
– Что мне от этой диспансеризации, – Альбина начинала внутренне раздражаться. Вот из-за подобных вещей она и ненавидела эту привилегированную, недоступную ни для кого, кроме людей их положения, поликлинику мужа и обращалась сюда, если уж совсем подпирало. Тебе нужно всего лишь вытащить занозу из пальца, а вокруг тебя принимаются совершать всякие ритуальные танцы с лазерами, изображая самую сверхнеобыкновенную заботу. – Зачем мне диспансеризация? Что она даст? Я говорю, мне по утрам просыпаться не хочется, при чем здесь диспансеризация?
– Вы же грамотная женщина, сами понимаете, странно, чтоб я объяснял вам! Диспансеризация – проверка всего организма, это только во благо. А вдруг у вас с почками нелады, – должен и я знать, если лекарства назначать?
Врач был терпелив, благосклонен, как, впрочем, и все врачи этой всегда пустой поликлиники, он был мужчина, и Альбине это нравилось – что мужчина, женщине-врачу такой специализации она бы не доверяла и, пожалуй, не смогла бы раскрыться до конца, но оттого, что занозу ей собирались вытаскивать лазерами, она уже готова была оставить все как есть и пусть нарывает.
– Все у меня лады с почками, – сказала она, еще надеясь переспорить врача. – Было бы нелады, я бы что, не почувствовала?
– Совершенно необязательно, конечно, – кивнул врач.
Альбина, колеблясь. согласиться ли на требование врача и пройти через эту тягомотную, бездарную, бессмысленную процедуру обхода едва не всех поликлиничных кабинетов, после которой ее история болезни только распухнет еще на несколько страниц – и весь результат, или же послушаться чувства, плюнуть на все и пусть нарывает дальше, посидела некоторое время молча.
– И потом, – не дождавшись ее ответа, продолжил врач, – я, в конце концов, не могу вас лечить, раз в вашей карте нет отметки о диспансеризации. Я вас просто в любом случае должен отправить на нее. Раз в год положено. А вы, глядите, вы уже три года не можете сподобиться. А ведь вам, наверно, звонили, письма присылали?
– Не помню, – уже совсем раздраженно ответила Альбина. Хотя все она помнила: и звонили, и присылали.
Но эти его последние слова убедили ее: делать нечего, надо соглашаться. Может быть, ее почки и играли тут какую-то роль, но главное, не прошла диспансеризацию – не можешь лечиться. А она нуждалась в помощи, она уже едва справлялась с собой, – так плохо ей было от самой себя!
Хирург попалась женщина, которая была заклинена на геморрое. Она обязательно смотрела прямую кишку и в отличие от напарника, хирурга-мужчины, который мог посмотреть, а мог и не посмотреть – в зависимости от жалоб, производила осмотр не на боку, как он, а ставя на четвереньки, вот это-то, становиться на застеленной липкой полиэтиленовой пленкой кушетке в позу, которую она не могла переносить, которая была ужасна для нее, унизительна и тотчас напоминала о тех двух или трех случаях, когда муж все-таки заставил ее уступить, это-то для Альбины и было, может быть, нестерпимее всего в бессмысленной процедуре диспансеризации.
– Можно на боку? – умоляюще спросила она, стоя на коврике перед кушеткой в одних трусиках.
– Нет, ни в коем случае, – безжалостно, глядя мимо нее, сухо отозвалась хирург, стоя в готовности рядом с ней, с надетым на указательный палец резиновым напалечником. – На боку – это халтура! Опуститесь на локти, снимите трусы, прогните спину, – скомандовала она, когда Альбина была уже на кушетке.
Бедра у Альбины, когда смазанный вазелином палец хирурга проник в нее, взялись ознобными мурашками.
– Ну что, ничего, терпимо, – сказала хирург, ворочая в ней пальцем. – Новых узлов, как я понимаю, не появилось… очень даже ничего!
Альбина и сама знала, что ничего. Было бы что, она бы сама первая, а не хирург, и почувствовала.
– Поднимайтесь, пожалуйста, – освобождая ее от своего пальца, вновь скомандовала хирург. – Необходимо строго следить за регулярностью стула… – начала давать она указания.
И гинеколог, проводивший диспансерный осмотр в этот день, тоже оказался не тот, к кому бы ей хотелось попасть.
Это был мясистый рыхлый старик с корявыми неверными движениями, явно уже забывший все, что ему положено было знать, и сидевший в этой поликлинике по родству ли, по знакомству ли, и когда он, стоя между ее раскинутыми в сторону голыми ногами и глядя непонятно зачем в глаза, так что Альбине приходилось все время уводить их в сторону, мял ей матку, она вся сжималась, чувствовала, как каменеет внутри мышцами, а он приговаривал: «Расслабьтесь, расслабьтесь! Ну что вы, девочка, что ли?!» «Отличная матка, можете еще рожать!» – резюмировал он, выбираясь из нее и принимаясь снимать перчатку с руки, – не отходя от кресла, продолжая стоять между ее ногами.
К психоневрологу через несколько дней Альбина вернулась с таким чувством, будто все эти дни тащила, подобно лошади, громадный воз, груженный камнями, и совершенно изнемогла. Но врач, изучая ее карту, все более и более оживлялся.
– Что, и хорошо! – воскликнул, наконец, он, отрываясь от карты. – Очень хорошо, не зря я вас заставил пройти диспансеризацию. Можете быть спокойны, все у вас хорошо!
– Что хорошо? – спросила Альбина. Ее разламывало, разнимало на части от груженного камнями воза, и непонятное оживление врача лишь угнетало.
– Хорошо то, что все это – ваши нервы, и не больше! – победно сказал врач. – Серьезного, слава богу, ничего нет… то есть нервы, – тут же поправился он, – это весьма не последнее дело, все, как говорится, от нервов, но в даном случае не смертельно. Совершенно не смертельно. Органики у вас никакой нет.
– А какая могла быть органика? – недоуменно спросила она. – При чем здесь органика?
Врач, все с той же победностью, повел головой:
– Ну, это позвольте мне знать. На то мы и медики, чтобы нам знать.
– Нет, а все-таки? – продолжила настаивать она.
– А хотя бы и опухоль даже могла обнаружиться, – уступил он. – Опухоли дают такие эффекты. Подсознанию ведь все известно, и оно тоже, знаете, не бездонный колодец, из него выплескивает.
Она даже не заметила его цветистой образности, в ней все обмерло.
– Опухоль? Где? – упавшим голосом проговорила она.
– Да хоть где, бог ты мой! – воскликнул врач. Но понял, что имела в виду она, и замахал руками. – Но у вас нет! Будьте спокойны! Я же и говорю! Это у вас возрастное, гормоны, обстоятельства жизни…
Она постепенно, с трудом приходила в себя.
– Какие обстоятельства жизни?
– Я не знаю. Вообще, – сказал врач. – У всех какие-то обстоятельства. И на одних действуют так, а на других по-иному. У каждого своя реакция. Я вам, конечно, кое-что выпишу, но вам нужно вообще побольше бывать на свежем воздухе. Двигаться побольше. Уставать физически. Вы где живете? – придвинув к себе твердую книжку карты, заглянул он на обложку, и, не успела она ответить, понял по адресу где именно, и закивал головой: – Ну-у, так отлично! У вас же прекрасное место, западный стандарт: и город рядом, и не в городе. Вы просто счастливица, у вас там лес совсем рядом, ходите на лыжах!
– На лыжах? – бессмысленно переспросила Альбина.
– На лыжах, на лыжах. Сейчас зима, на чем еще. Прекрасная разрядка, лучше не придумать. Ходите на лыжах, любите?
Альбина не ходила на лыжах, пожалуй со школы. Но сейчас она откликнулась на предложение врача с такой страстью, с таким жаром, словно давно уже хотела вновь встать на лыжню, и требовался лишь толчок извне. Лыж у нее давно не имелось, она вытребовала у мужа машину, договорилась в поссовете с председателем об отгуле и, объехав городские магазины, купила лыжи, и ботинки к ним, и крепления, и палки, и мази, и колодку из пробки растирать мазь, сдала лыжи в мастерскую, чтобы установили крепления, и через несколько дней по наезженной, твердой, выбегающей прямо с поселковой улицы лыжне уже входила в лес.
Лес стоял величественный, спокойный, бесстрастный, слепяще сквозил в графитной ячее голых ветвей лиственных деревьев искрящейся белизной, на еловых лапах лежали снеговые шапки, царственная тишина была разлита в морозном сверкающем воздухе, – и она задохнулась от восторга, захлебнулась этим сверкающим воздухом: оказывается, ей не случалось быть в зимнем лесу ровно столько, сколько не вставала на лыжи!..
Все просеки, все летние тропы, все поляны в лесу были исхлестаны лыжнями, лыжни сходились, расходились, пересекали друг друга, день выпал субботний, то и дело – катясь навстречу, обгоняя, мелькая вдали на скрещении лыжен – попадались люди, и оттого находиться в лесу было нестрашно – не страшно заблудиться, не страшно просто быть в нем, как это происходит, когда оказываешься с лесом один на один, – и хотя с отвычки ноги совершенно не шли, она провела на лыжах часа четыре и вернулась домой такая усталая – не смогла после обеда ни вымыть посуду, ни даже убрать со стола, ее развезло, еле добралась до постели, рухнула на нее и проспала до вечера. А вечером, вставши, помоталась бестолково по дому с час-полтора, все валилось из рук, ничего не делалось, – снова легла, и спала уже до самого утра.
В воскресенье она целый день вспоминала, как ходила вчера на лыжах. Вспоминался морозный жар щек, обдутых студеным ветром, вспоминалось, как понесло на одном спуске и думала, что не удержится на ногах, а удержалась, вспоминалась чудесной, почти идеально круглой формы опушка, вдруг открывшаяся взору… и все остальное, что было в жизни, меркло перед этими воспоминаниями, виделось словно бы сквозь их пелену, как бы растворялось в них, и хотелось вновь быть на лыжах, вновь очутиться в лесу, в его величественном умиротворяющем молчании, вновь утомлять себя восхитительной одновременной работой рук и ног, рук и ног, катя себя по желобчатой убитой колее, отталкиваясь палками от рыхлых обочин…
И так велико было ее нетерпение, что спустя два дня, прямо в середине недели, сочинивши для председателя поссовета по телефону какую-то невнятную историю, почему ей совершенно необходимо остаться дома, она не вернулась на работу после обеденного перерыва и, не дождавшись возвращения сына из школы, закрыв дом, ушла в лес. День был будний, и народу в лесу совсем не оказалось, за все время, что она провела в нем, ей встретилось всего два или три лыжника, но за прошлый раз она уже привыкла к лесу, как бы обжилась в нем, почувствовала своим, узнавала деревья, овраги, спуски с подъемами, поляны и скрещения лыжен, – лес сделался знакомым и не пугал ее.
Она стала ходить на лыжах регулярно. Два, а иногда и три раза в неделю. В субботу-воскресенье – непременно, и еще в будни, договариваясь с председателем, что после обеда на работу не выйдет. Никаких хитроумных объяснений, для чего ей нужно прогулять работу, она больше не выдумывала, врач предписал ей как лечение лыжи, сказала она председателю – самую что ни на есть настоящую правду, – а темнеет рано, и после работы в лес уже не пойдешь. Конечно же, если б не муж, никаких лыж в будни Альбине не видеть, но не разрешить ей уходить с работы – означало рисковать отношениями с ее мужем, и председатель не мог позволить себе такой роскоши.
Жизнь ее будто свернулась клубком, спрятав внутри все, что не имело отношения к лыжам, на поверхности не осталось ничего, кроме лыж, лыжи сделались всем, всей ее жизнью.
В день, когда собиралась отправиться в лес, она каждый раз поднималась с заботой, как наилучшим образом устроить первую половину дня, сделать из того, что в любом случае необходимо, побольше, дабы ее отсутствие на работе во второй половине не слишком бы сказывалось на делах. Она просыпалась – мысль об этом уже стояла в сознании, заслоняя собой весь горизонт начинающего дня, не позволяя отвлечься ни на что другое, а потом, в поссовете, всю эту первую половину дня жила предвкушением своего лесного похода, смаковала вопоминания о походах прошлых, видела себя то в одном месте лыжни, то в другом. Миг, когда становилась на лыжи, был словно бы мигом некоего освобождения – она будто сбрасывала с себя все свое прошлое, что было прожито, все возможное будущее, и оставались только лыжи, это их свистяще-поскрипывающее скольжение, эти еловые лапы в барских шапках снега, этот графит голых ветвей лиственных, она забывала о себе, о семье, о времени – обо всем, и возвращалась к реальности только от немоты в мышцах, когда ноги почти не двигались. И когда после возвращалась домой, не было уже дела ни до чего – лишь бы дотянуть день до ночи, сделать какие-то самые необходимые домашние работы и упасть в постель.
А на следующий день все тело ломило и ныло от вчерашней усталости, ноги подгибались, движения были заторможены, и не было сил двигаться по-иному; на то лишь их и оставалось, чтобы перемогать эту свою немощь. А там вновь подступил срок лыжам, – и все повторялось; если же отправиться в намеченный день на лыжах не удавалось, день проходил в томлении по ним, в нетерпеливом ожидании дня нового, когда точно получится выйти в лес; и так неделя перетекала в неделю, и каждая наступившая полной копией повторяла собой ушедшую.
Это было похоже на что-то вроде анабиоза, на какое-то подобие непроходящего лунатического сна, и она отдавала себе в том полный отчет, но, отдавая, ничуть не хотела выходить из того состояния. в каком находилась, ей было хорошо в нем, она чувствовала себя как бы объятой неким тесным, ласковым, теплым лоном, – возможно, так ей было в материнской утробе, и это ее нынешнее ощущение являлось воспоминанием о ней.
С каждым разом она ходила на лыжах все лучше, могла пройти теперь много больше, чем в первые выходы, вспоминались забытые навыки, возвращалось прежнее, молодое умение, и она постоянно обновляла маршруты прогулок, удлиняла их, расширяла тот первоначальный район, который был ею освоен, попадая в места, где никогда прежде бывать ей не доводилось, заново, по сути, открывая для себя окрестности поселка, в котором были прожиты годы и годы.
В одну из таких своих будних прогулок она встретилась в лесу с Семеном-молочником. Из лесной чащобы, со снежной целины вышли неожиданно к накатанной беговой лыжне необычно широкие лыжные следы, влились, потоптавшись на месте, в эту накатанную лыжню, разом расширив ее едва не вдвое, и с километр, пожалуй, Альбина шла по непомерно широкой для ее узких спортивных лыж колее – с чувством, будто надела обувь не по размеру, – потом широкие лыжи выступили с лыжни и снова ушли по целине, исчезнув в зарослях, но буквально через сотню метров вернулись, пересекли накатанный след и ушли в другую сторону, чтобы, однако, вернуться и вновь влиться в лыжню через следующие сто метров, а там, спустя минуту, впереди, на перекрестье лыжных путей она увидела стоящую мужскую фигуру. Вернее, не стоящую даже, а топчущуюся: мужчина переступал лыжами, поворачивался в одну сторону, в другую, отъезжал немного вбок и снова оглядывался – будто он что-то потерял и сейчас искал. Альбине сделалось не по себе. Не столько от странного поведения мужчины, сколько от того, что это, вероятней всего, был тот самый обладатель широких лыж. Человек на широких лыжах внушал опасение уже такими необычными лыжами. Инстинктивно она было замедлила шаг, поймала себя на этом – и вернулась к прежнему ритму. Поворачивать и убегать не имело смысла: слишком малое расстояние разделяло их, и если б мужчина вдруг решил броситься за ней вдогонку, настигнуть ее ничего бы ему не стоило.
Мужчина тоже заметил Альбину, повернулся к ней лицом, посмотрел из-под ладони, и когда расстояние между ними сократилось метров до сорока, она узнала Семена.
– О, кого зрю! – зашумел Семен, когда она еще подходила к нему. – Альбина Евгеньевна! Сударыня-барыня! Физкультурой занимаемся? Здоровье укрепляем?
Альбина не видела его уже довольно давно. Все коровы у него нынешний год были стельные, и за молоком она сейчас не ходила.
– Тоже, вижу, физкультурничаете, – ответила она ему, останавливаясь.
– Это как сказать, как сказать! – с удовольствием, как всегда, посыпал словами Семен, раздаваясь своим пухлым круглым лицом вширь – как бы улыбаясь. – Кто физкультурничает, здоровье укрепляет, а кто по делам, по заботам… наоборот – здоровье тратит.
– Как это вы его тратите?
– Как, как! Так! У меня, милая вы моя Альбина Евгеньевна, что, время есть по лесам разгуливать? Я не просто так, я – не как вы. Я хожу, присматриваю, где коровок летом пасти буду. На лыжах-то зимой сподобней обойти? То-то! А вы: физкультурой! Это вы физкультурой, а мне летом коровок пасти. Это вы бездельники, а я пашу. За молочком-то, поди, коровы растелятся, прибежите, соскучились, поди, уже по молочку?
– Соскучились, прибежим, – сказала Альбина.
– Во, то-то! А Семен вам, между прочим, цену-то еще поднимет. Поднимет-поднимет цену, будьте уверены, готовьте карман, куда денетесь!
– Ну, счастливо! – не стала больше слушать его Альбина, переступила лыжами, обошла Семена и снова встала на лыжню.
– Вы ко мне еще всем скопом прибежите: Семен, выручай, не знаем, как жить, дай совет! – крикнул Семен ей вдогонку. – Настанут времена, обещаю!
В другой раз, на проселочной дороге, о существовании которой до того, как стала ходить на лыжах, даже не подозревала, она встретилась с Татьяной-птичницей. Альбине нравилось выезжать на эту пустынную дорогу, идти ее обочиной по прямому, тянущему себя подобно струне следу, нравилось именно из-за струнной прямизны лыжни, ее безотчетной устремленности словно бы к некоей цели, и когда дорога выбегала к полевому простору и тут же необъяснимо изгибалась крутой излучиной, с удовольствием сворачивала с нее, следуя лыжному следу, обратно в лес. Иногда тишина дороги оживлялась звуком мотора, и, то обгоняя Альбину, то приближаясь навстречу и угасая мотором за спиной, проезжал грузовик или трактор, а однажды вдали, двигаясь навстречу, появилась человеческая фигура, потом стало возможно разобрать, что на веревке за нею тянутся груженные чем-то сани, и когда совсем сблизились, оказалось, что фигура с санями – это Татьяна.
– Откуда? – изумилась Альбина, когда поздоровались и остановились напротив друг друга. У нее, несмотря на несомненную устремленность дороги к некому жилью, из-за того, что она ничего не знала об этом жилье, было все-таки ощущение, что дорога ведет в никуда.
– Откуда, откуда, – сказала Татьяна, оглядываясь на свою поклажу. На детских санках со снятым сиденьем лежал, укрытый сверху полиэтиленовой пленкой, туго наполненный чем-то рогожный мешок. – От верблюда, наверно! Курочек-то мне кормить нужно? Вот и тащу. Видишь, как дается? Пять километров уж отпёхала, и еще не меньше.
– Зерно, что ли? – догадалась Альбина о содержимом мешка.
– Ну так не соль, наверно.
– А там что, деревня, ферма какая-то? – поинтересовалась Альбина. Выходя из леса на продуваемый ветрами полевой простор, дорога теряла для нее всякую привлекательность, но узнать, куда она могла бы привести, было все-таки любопытно.
Татьяна, однако, истолковала ее слова по-своему.
– Украла, думаешь? Как бы не так, украдешь у них! Уплатила, по квитанции. Да еще сверху, считай, столько же взяли, чтобы продать! Не знаешь, что ли, как у вас в конторах-то?
Альбина пожалела, что вообще остановилась и заговорила с Татьяной. Татьяна с той поры, как отказалась сама носить яйца и беспричинно накричала на нее, очень изменилась, не улыбалась больше, угодливо и словно б приветливо, наоборот, чуть что – норовила охлестнуть какой-нибудь грубостью, но здесь, в лесу, от неожиданности встречи Альбине все это забылось.
– Ты у меня в конторе за что-нибудь давала? – раздосадовано сказала она. И, оттолкнувшись палками, пошла по лыжне дальше.
Ей думалось, прогулка испорчена безвозвратно, ничего не исправить, но уже через десять минут она ничего не помнила о происшедшей встрече, ей снова было хорошо, спокойно, умиротворенно, снова для нее ничего не осталось, кроме свистящего звука лыж под ногами, слепящего снега вокруг, величественного молчания леса, и, поймав себя на этом свойственном ей последнее время чувстве умиротворенности, она испытала острую, даже мучительную, до слез на глазах благодарность к тому врачу из поликлиники, что посоветовал ей встать на лыжи.
На этой же дороге в другой день ей довелось увидеть и прежнюю свою, до Семена, молочницу Галю. Именно увидеть, а не встретить. Далеко впереди, выкатив из-за холма, появилась темная точка машины или трактора, приплыл, обдал слабой звуковой волной шум мотора, и исчез, приплыл еще раз и еще и, наконец, перестал исчезать, стал нарастать, крепнуть, и росла, увеличиваясь в размерах, точка, сделалось ясно, что это трактор, а не машина, и трактор колесный – «Беларусь». Трактор шел не пустой, он что-то тащил сзади. Когда расстояние между Альбиной и ним стало совсем небольшим, она поняла, что это стог. Громадный, сметанный стогометателем, нависающий над трактором, будто гора. Чтобы разминуться с трактором, она сошла с лыжни, откатилась по рыхлой снежной целине к самым деревьям и там остановилась. Трактор, оглушительно стреляя из выхлопной трубы на капоте черным кудрявящимся дымком, приблизился, прокатил мимо, промелькав перед глазами рубчатым рисунком задних больших колес, и в кабине рядом с трясущимся трактористом Альбина успела заметить трясущуюся Галю. Галя угрюмо набычась, тяжелым взглядом смотрела прямо вперед, на дорогу перед собой, и, похоже, не заметила ее. Длинные пряди сена, выбившиеся из стога на углах, трепались на ветру, но не отрывались. Вот сено точно ворованное, вспомнив свою встречу с Татьяной-птичницей, подумала Альбина. И после, вернувшись на лыжню, продолжая почему-то еще думать о Гале, уверилась окончательно: ворованное, конечно. Кто бы ей продал такой стог, когда только и слышишь, что коров в колхозах-совхозах держат на полуголодном пайке.
Впрочем, эта ее уверенность не имела ровным счетом никакого практического смысла. Что ей, бежать куда-то и сообщать об украденном стоге? Ей не хватало! Пусть, кто хозяин, тот и следит. Того естественного, свойственного всякому нормальному человеку при виде совершенного воровства чувства, что украли как бы у него самого, в ней не было абсолютно. Она ощущала себя предназначенной для иных чувств, и ей следовало сохранять себя для них. А иначе зачем она ходила на лыжах?
И еще через несколько минут, спустя самое недолгое время, встреча с Галей в кабине трясущегося трактора уже напрочь вымылась из нее, будто и не случалась, снова остался лишь лес, лишь снег, лишь поскрипывающая лыжня под ногами, – ради того, чтобы выскальзывающая быстрою змейкой утренняя мысль: «А не просыпаться бы!» – тут же бы юркнула в глубину подсознания под тяжестью истомной мышечной усталости.
Однако эта ее лунатическая, равновесная, упорядоченная жизнь, которой она рассчитывала прожить до самого тепла, пока лежит, не стаял снег, оборвалась совершенно неожиданным образом. Словно бы качели, на которых ее носило, вдруг встретили на своем пути некую стену, ударились о нее со всего размаха и стали.
11
Участковый, затянутый в свою скрипящую кожаную сбрую, возникнув на пороге, постоял-постоял там, расперев локтями косяки двери, будто пересиливал себя, будто вступить вовнутрь означало куда большее, чем просто физическое действие, будто на этот шаг вовнутрь нужно было решиться, и, наконец, вступив, пройдя до Альбининого стола лишь половину пути, остановился.
– Ты это вот… слушай… – сказал он косноязычно. – Давай это вот… ко мне давай пойдем зайдем. Разговор к тебе есть… давай это… пойдем туда…
Он и вообще был довольно косноязычен, выкидывая языком такие коленца – будто тот у него подвихивался, но сейчас язык ломало ему как-то уж совсем необыкновенно.
– Что такое? – спросила Альбина с неудовольствием.
– Поговорить нужно… чтобы это… по-серьезному… ну! – выговорил участковый.
Альбина вспомнила, как он однажды уже приходил к ней разговаривать, ворочался на стуле, перетаскивал ногу с одного колена на другое, и ее ожгло: сын!
– Пойдем, ну! – вскочила она.
Участковый в своей комнатке у входа в поссоветовское здание утвердился на привычном ему месте за обшарпанным, чисто подметенным, без единой бумаги, только календарь и пластмассовый стаканчик для ручек, письменным столом, сложил перед собой руки и, оплыв лицом в канцелярской значительности, сказал:
– Ты это… ты приготовься… тут двоих задержали… и они на твоего показывают. Что вместе были.
– Чего ты… о ком? – враз сравнявшись с участковым в косноязычии, пролепетала она.
– О ком, о ком… о младшем твоем, о ком! – участковый позволил себе даже повысить голос. – Хату тут одну ломанули, двоих с поличным захомутали – вещи когда стали толкать, а они на твоего показали: с ними был, и еще навел. Из его класса парень, чья хата. Начальника торга сын.
В Альбине все обмерло. Ей показалось, она, стоящая здесь, в кабинете участкового, – не она, она настоящая осталась там, у себя, за своим столом, и то, что она слышала, услышала какая-то совсем другая женщина – о своем сыне.
– Во! Да! А я предупреждал! Я говорил! Ты помнишь? – зачастил участковый, не дождавшись ее слов и, видимо, сам боясь того, что сообщил. – Ты помнишь? Я советовал! В другую школу! Помнишь?!
– Вот и ходил в другую, – мертво отозвалась Альбина.
Она, она это была здесь, в комнатке участкового, нигде она не осталась, здесь находилась, нигде еще, и об ее сыне шла речь, не о ком ином.
– Руки в ноги сейчас, под микитки и во все лопатки, давайте предпринимайте, что можете!.. – продолжал сыпать участковый. – Чтоб до суда не допустить… и вообще! Это сейчас не год назад… хрен те что делается, знаешь… поплыло все. Пусть твой… на уши пусть встанет, сейчас не остановит – дальше пойдет-покатится, не удержишь… Такое время!
– Он что… он где? – сумела спросить она участкового. – Его что… арестовали?
Участковый, сбитый со своей скороговорки, некоторое время смотрел на нее непонимающе.
– Да-а… ты что! – сказал он потом. – Не все еще поломалось, ты что! Мне только-только сообщили – и я к тебе. Специально сообщили – чтоб твой, пока там с дознанием разворачиваются, сам бы развернуться успел. Сечешь?
Альбина сделала попытку сдвинуть свое омертвелое тело с места – и словно бы услышала хруст и скрежет костей, не желавших повиноваться ее воле. Все в ней сопротивлялось случившемуся, не желало знать его и вопило о своем нежелании, но между тем только это в ней и осталось – то, что сообщил участковый, ничего другого, кроме того, наглухо запечатало весь остаальной мир вокруг, и она могла вернуться в него лишь при условии, чтобы случившееся бесследно растворилось, напрочь исчезло из ее жизни, будто и не было.
Омертвелое ее тело поддалось, наконец, усилиям, которые она прилагала, чтобы заставить себя двигаться, и ноги повели ее к двери.
– Ладно. Спасибо. Если что еще новое – сообщи мне… держи в курсе, – сказала она участковому с порога.
Больше она не ходила на лыжах. Была середина февраля, когда участковый сообщил ей о беде, угрожавшей сыну, и месяц с лишним, до самых последних дней марта, пока дело не было замято окончательно, она прожила, ничего вокруг не видя и не замечая. Звонил кому следует, встречался с ними, ходил в рестораны и возил в разные закрытые охотничьи домики с неизменными саунами муж, а подвигать его на каждый новый звонок, на каждый следующий шаг приходилось ей. Сын все это время вел себя, будто зверь. В первые дни после того, как совершенное им открылось, он был тише воды, ниже травы и вдруг в какой-то миг встал на дабы и закусил удила: «Пошли от меня! Пойду на нары, катитесь от меня! Хочу на нары, и не ваше дело!» Он орал так – и она неожиданно для себя увидела, как он изменился за последний год в выпускном классе. Это был теперь здоровенный крепкорукий парень, набыченно нагибавший вперед голову и вжимавший ее в плечи, – вылитый, оказывается, муж в молодости, когда выходила за него замуж. «На нары?! На парашу?! – взревывал муж. – Соображаешь головой, что говоришь?!» Раз он не выдержал и со всего размаху влепил своей мясистой рукой с толстыми пальцами сыну затрещину, и сын, не помедлив ни мгновения, ответил ему тем же. У них завязалась настоящая драка, а после еще пришлось уговаривать мужа простить сыну его поведение и не оставлять начатого дела. «Да-а? – ревел на нее муж. – Будто ничего и не было? Паршивец такой!» Она, конечно, знала, что муж уговорится, потому что суд над сыном реально грозил и его собственному положению, но муж должен был разрядиться, должен был вдоволь покуражиться в своем гневе, избавляясь от него, и роль громоотвода совершенно ее изматывала.
Общее настроение у мужа было, кстати, совсем неплохое, Где-то на Кавказе, в местности, названия которой она никогда прежде не слышала, вдруг пошли друг на друга два народа, говорящих на разных языках, спокойно живших до того бок о бок в соседних селах и вперемешку в городах, в одном из городов полыхнул погром – убивали, грабили, насиловали[33], и странным образом все это его воодушевляло. «Теперь что, теперь деваться некуда, теперь нужно меры принимать! – говорил он ей за вечерним столом. – Хватит, поэкспериментировали, теперь ясно, как узду расслаблять, к чему это ведет, заворачивай давай оглобли обратно!» А в первых числах марта пришло сообщение о кровавом побоище, происшедшем на самолете при попытке его угона за границу. Самолет пыталась угнать одна большая семья музыкантов из Иркутска, требуя лететь в Лондон, но самолет посадили на военный аэродром под Ленинградом и взяли штурмом. Погибла бортпроводница, погибли три пассажира, погибло несколько угонщиков[34]. «Ну вот, ну, получили?! – вопрошал муж, орудуя вилкой с ножом над тарелкой. – Узду им послабже! Послабже, как же! Послабже – так и получай!» Он будто радовался происшедшему, и эта радость перекрывала в нем все остальные чувства, отодвигая в некий дальний угол и беспокойство за будущее сына. Спустя же несколько дней после сообщения о самолетном побоище он вернулся домой словно на крыльях. Альбина видела из окна в блеклом фонарном свете, как он выскочил из машины и не пошел, а полетел по расчищенной в снегу дорожке к дому. Глаза его, когда он ворвался в дом, жарко горели азартом торжества. «Слышала? – спросил он, сбрасывая ей на руки свою финскую темно-коричневую дубленку. – Нет? Ничего? – И щелкнул замками «дипломата», вытащил, торопясь, из него газету. – Смотри! Читай! Началось! Целая страница там, «Не могу поступаться принципами» называется[35]. Слава богу! Наконец-то! Пошло-поехало!» «Чему ты радуешься, что ты такой веселый, нашел чему радоваться! – разозлилась она. – Сына вытащишь, вот тогда радуйся, а сейчас-то чему?» «Дура! – рыкнул он. – Не соображаешь ни черта. Да это мне с парнем нашим, знаешь, как поможет? Теперь все хвост подожмут, теперь все, хватит, нафордыбачились! Не понимаешь, нет?!»
Она и в самом деле не очень понимала, что происходит вокруг. Газет с той поры, как узнала о сыне, она не читала вообще, а если слушала радио или смотрела телевизор, услышанное и увиденное тотчас уходило из нее, не задерживаясь в сознании, и лишь когда муж заговаривал о том или другом событии, она вспоминала, что уже знает об этом – действительно, но и вспомнив, по прошествии самого малого времени, она вновь все забывала; сознание ее не держало в себе ничего, кроме сына, она была будто в угаре – по-другому не скажешь.
Она очнулась – то ли как пробудилась после ужасного, кошмарного сна, то ли как выздоровела после долгой, смертельной болезни – лишь тогда, когда опасности для сына больше не существовало. Все протоколы, везде и всюду, с первого до последнего, были изъяты и уничтожены, начальник торга не имел никаких претензий, а строптивый следователь откомандирован по требованию из Москвы в ее распоряжение для выполнения спецзадания.
Она очнулась, огляделась вокруг, приходя в себя, вспомнила свои разговоры с мужем – и ужаснулась тому, что произошло за эти полтора месяца. Качели стояли, маятник замер, перестав толкать сцепленные шестерни того механизма, который невидимо для нее вращал маховые колеса событий, таившаяся внутри закрученная пружина, заряженная бешеной кинетической энергией, раскручивала маховики в обратную сторону, – ему угрожала беда, стояла уже совсем рядом, уже занесла над ним свою смертельную длань, то, ради чего он был призван, ради чего взошел так высоко, еще мгновение, другое – и должно было пойти прахом, превратиться в жалкую труху, в тлен…
Утром, услышав сквозь сон звонок будильника, еще находясь на грани забвения и бодрствования, она ощутила, что вся сотрясается в тяжелом, натужном усилии. Словно бы она пыталась раскачать себя, напирала ногами, подгибая колени, и тащила потом руками обратно, снова напирала ногами и снова тащила, качели сопротивлялись движению, масса их была непомерно велика для нее, казалось, у нее лопнут жилы от напряжения.
Ага, ага, ага! – закричало все в ней, радостно помогая этому натужному, непомерному усилию, но сон оставлял ее, обращал лицом к дню, и она перестала ощущать что-либо, кроме своего тела, отдохнувше лежащего на боку, с переплетенными ногами и закинутой за голову рукой, ей остались обычные, заурядные чувства: рука под головой затекла и по пальцам бегали мурашки, в открытую форточку тянуло с улицы свежим запахом талой воды, и до слуха доносилось тонкое, хрустальное теньканье капели. «Скорей бы снова ночь и снова утро», – подумалось ей.
Когда следующее утро наступило, она обнаружила, что самый первый, самый тяжелый момент раскачивания уже минул, качели уже ходят туда-сюда, назад-вперед, амплитуда движения их еще невелика, еще нужно наддавать ногами, приседать и толкать вперед, но они уже ходят, раскачиваются, и полета их уже не удержать!
Она давно не помнила себя такой счастливой, какой была эти несколько дней после того, как уголовной дело сына благополучно закрылось.
12
Муж выбрался из машины, хлопнул за собой дверцей и пошел к дому с такой осадистой, тяжелой грузностью, что она сразу поняла: что-то случилось. И первая ее мысль была, конечно, о сыне: неужели что-то опять?
Но нет, к сыну состояние мужа не имело ни малейшего отношения.
– А вот возьми, на-ка вот, глянь, – подал он ей, вытащив из кармана пальто, газету – в ответ на ее тревожный вопрос у порога.
Она с недоумением взяла сложенную во много раз, мятую, уже успевшую затрепаться газету, несмотря на сегодняшнее число на ней, и спросила: – Что это? Причем здесь газета?
– Ты посмотри-посмотри, загляни вовнутрь, вторая страница, сообразишь, – рявкающе отозвался он. Так, будто она была в чем-то перед ним виновата, и там, на второй странице эта ее вина беспощадно доказывалась.
Она развернула газету. Муж говорил о неподписанной, редакционной, выходит, статье, занимавшей всю страницу, – и статья эта была против той, которой он радовался без малого месяц назад: «Наконец-то! Пошло! Пошло-поехало!» Ничего не пошло, значит. Хотело пойти – и не двинулось, всколыхнулось – и замерло[36].
– Ну, и подумаешь, ну, напечатали. И так из-за этого расстраиваться? – словно ничего не поняла, лицемерно удивилась она, быстро похватав глазами текст в разных местах. Внутри же нее все будто скакало и било в ладоши: не удалось, не удалось. не удалось!
Взгляд, каким муж посмотрел на нее, имей он в себе силу огня, точно что сжег бы ее.
– Дура! Полная дура! Идиотка! Это его статья, это он подготовил! Соображаешь, кто? Получается, у него сила. Получается, он перебарывает!
– Ну, и пусть перебарывает, что тебе? – невинно сказала она.
Они уже сели за ужин, и она досматривала статью за столом, он ел, а она досматривала, он ел, заедая выпитую стопку коньяка с такой жадностью, будто хотел загасить едою пылающий в нем жар той боли, которую принесла ему эта статья, она знала, что своими словами добавляет ему мучения, сводит на нет благотворный эффект еды, но ей, пожалуй, того и хотелось.
– Пусть? Пусть перебарывает?! – остановился он есть. Швырнул зазвеневшую вилку на стол и мгновение, откинувшись на спинку стула, сидел неподвижно. – Ну уж нет… – сказал он затем неожиданно тихо, не глядя на нее и словно не к ней обращаясь. – Нет, не «пусть», пусть не думает. Есть люди – не дадут, не позволят, будь уверена! – повысив голос, перевел он взгляд на нее.
И было в этом его взгляде столько свирепого, яростного огня, что, казалось, и впрямь, подержи он на ней свой взгляд подольше – испепелит.
Но странным образом только казалось, а на самом деле его ярость ничуть, совершенно не устрашила ее. Она знала: теперь у Него (ей так подумалось, так в сознании и выделилось – как бы с прописной буквы), теперь у Него все будет получаться. Должно получаться. Обязательно.
– Брось. Не бери близко к сердцу. Тяпни-ка лучше еще, – наливая из бутылки ему в рюмку, внешне с заботливой серьезностью сказала она, а внутренне в ней произнеслось это с усмешкой превосходства: она знала то, чего не было ведомо мужу. – Тяпни, тяпни, чего там! – подтвердила она, заметив мелькнувшее в его испепеляющем взгляде удивление. Что говорить, обычно она, совсем даже наоборот, стремилась ограничивать его в питье.
Это было самое начало апреля, первые его дни, еще в теневых местах, в ложбинах лежали черно-оплавленные, заледенелые сугробы, а в конце месяца, перед самыми майскими, когда зелень уже окурчавила землю и деревья легким изумрудным пушком, ожидая мужа с работы, она загодя приготовила ему на столе утешительную бутылку. В ней самой все ликовало и пело, а его, знала она, снова будет разъедать изнутри, как серною кислотой, болью, и в ожидании его возвращения ее кольнуло чувство вины перед ним за свою радость. Она теперь снова читала газеты, и опубликованное сегодня не могло не тряхнуть мужа как следует с новой силой.
То, о чем шепталась повсюду затаенно и потихоньку уже не один месяц, было произнесено вслух, громко – на всю страну. На фотографиях, сопровождавших текст, вылезали на первый план и бросались в глаза кучи денежных пачек и груды ювелирных украшений, изъятых у людей такого положения, к которым в былые годы никакое следствие и близко бы не смогло подступиться, соверши они что угодно. «Приговорен к исключительной мере наказания – расстрелу Приговор окончательный и обжалованию не подлежит», – такими словами, с называнием высокого имени, заканчивалась одна из статей в сегодняшних газетах[37]. Ага, ага, ага! – закричало все в ней, когда она дочитала статью, и до сих пор собственный крик так и отзывался в ней незатухающим эхом: ага, ага, ага!..
– Нет, надо же: к исключительной мере наказания! – об этом как раз, о последних словах сказал муж, поднося рюмку ко рту. – И, главное, обжалованию не подлежит! За кого взялся, кому секир башка пошел делать – это надо же!
– Но они ж ворье. Преступники, – осторожно попыталась возразить она.
– Хрен с ними, подумаешь, много наворовали! Не уличная все же шваль, чтобы с ними, как с обычными… А так с ними – и до всех дойдет. До нас с тобой! – он ткнул в нее этой последней фразой – будто тыркнул пальцем, хотя на самом деле не шевельнулся, как сидел с рюмкой у рта, так пока и сидел.
– Мы же не воруем. Где у нас такие деньги? – вспоминая фотографии, снова попыталась возразить она.
– А-а! – скривился он, «Что с тобой толковать, бесполезно!» – было в его гримасе, и, прикрыв глаза, махнул рюмку в рот.
– На, закуси, – с внешней смиренностью подала она ему на блюдце щедро отхваченный от лимона золотистый, влажно истекающий соком ломтик.
Переживания мужа только смешили ее, и все его слова прошли мимо нее, как совершенно пустые, бессмысленные, не имеющие никакого значения звуки. Она чувствовала счастье, ничего, кроме счастья, оно одно было в ней, оно одно было вокруг нее, оно омывало ее, как некий поток, и она нежилась в нем, подставляясь его струе то тем боком, то другим, то лицом, то затылком… Все, что поисходило сейчас, было в Его пользу, было во благо Его дела, было, как нужно Ему, она знала это и не хотела знать ничего больше. (Так теперь, когда думала о нем, в ней и произносилось: Его, Ему, Он – словно бы с прописной буквы).
Муж напился, Выпивая дома, он почти никогда не напивался, и, раз набрался так, что не держалась, падала на грудь голова, пытался поднять ее, поднимал – и она тут же снова валилась, совсем как у младенца, значит, жгло его серной кислотой боли нестерпимо.
– Сейчас, падло, еще из Афгана уйдет! – говорил он, болтаясь головой, когда она, подсунувшись ему под мышку, тащила его к постели в другую комнату. – Ей-бо, уйдет из Афгана!.. Столько людей там положили… на хрена?! Чтобы он взял и вывел!.. Столько крови нашей… у-у, падло!..
Она не отвечала ему – у нее не оставалось на это сил. Девяносто килограммов было в нем верных, и ее шатало под его тяжестью. Но про себя, когда он принялся талдычить об Афганистане, в ней тотчас отозвалось: уйдет! Она не думала перед тем ни о чем подобном, но только он заталдычил, в ней подтверждением его словам так и вспыхнуло: уйдет, да! И совсем скоро, сейчас у Него выйдет и это.
Она вспомнила, как тащила напившегося мужа в постель, спустя без малого месяц, в мае, тоже уже в самом его конце. Бронетранспортеры и танки на экране телевизора ползли по каменистой пустыне, по пыльной горной дороге – и впервые за много лет ползли они по этой дороге в другую сторону. Неровности дороги встряхивали бронированные машины, длинные жала пушек у танков тяжело покачивало вверх-вниз, вверх-вниз, и впервые за восемь с лишним лет это как бы одушевленное движение мертвого куска громыхающего металла не казалось отвратительным, чудовищно-безобразным в своей ирреальной одушевленности, напротив, – пожалуй, вызывающим нечто вроде расположения и симпатии[38].
Правда, качели все так же со страшной, бешеной скоростью носило в том некоем беспредметном пространстве от одной мертвой точки к другой, погибло три человека при взрыве аммонита на одном химическом заводе на Украине[39], прямо у причала японского порта сгорел теплоход, набитый туристами, севшими на него во Владивостоке, – и снова не обошлось без жертв[40], а в городе, до которого было не более ночи пути, взорвались три вагона грузового поезда, заполненные взрывчаткой, унеся жизни сразу несколько десятков человек[41], и по утрам, просыпаясь, она с мукой отходила от ночи, с трудом начинала день, но, начав, войдя в него, обнаруживала в себе твердую уверенность: отныне подобное уже несущественно, не имеет больше того значения, что прежде, в главном теперь все будет получаться, какие бы помехи ни возникли.
Откуда в ней такая уверенность, из чего возникает, на чем держится, она опять не знала, но ее вовсе не волновали причины ее уверенности, она знала – и ей было достаточно того. Ей как бы было положено знать. как бы это знание было так же естественно для нее, как человеку естественно иметь руки и ноги, нос и глаза на лице, ногами ходить, а руками брать, держать, нести, носом обонять, глазами видеть… Она не задумывалась над собой. Так никто из людей не задумывается над тем, почему отличает зеленое от красного, желтое от синего, фиолетовое от коричневого, распознает, что горько, что сладко, что кисло. Камень тверд, вода текуча, а дерево горит. Назови вещи иными именами. Но одно останется твердым, другое текучим, третье податливым для огня. Слово только обозначает свойство. Свойство же существует и безымянным.
13
Она запомнила этот день: вторник, двадцать восьмое июня.
Вторник, двадцать восьмое июня, как бы заклинанием повторяла она потом про себя. Во вторник, двадцать восьмого июня…
Он появился в дверях ее комнаты, одетый в пятнистую, зелено-черную десантную форму, в пятнистой, зелено-черной форменной десантной каскетке на голове, – будто весь, до костей. обожженный неистовым афганским солнцем, весь, до последнего квадратного сантиметра кожи издубленный его бешеными ветрами, само воплощение мужественной молодой силы, юной мужской красоты, вдохновенного азарта и риска. Он возник на пороге, в распахнутой двери, уперев руки локтями в косяки дверной коробки, постоял там мгновение и спросил оттуда, со снисходительностью сошедшего с Олимпа Аполлона, сделавшего смертным одолжение своим появлением среди них:
– Это к кому мне, по вопросу моей прописки? К вам, что ли?
Рукава пятнистой форменной куртки были у него закатаны вверх, открывая предплечья, мышцы бугрились под лоснисто-загорелой коричневой кожей каменными витыми грядами, могучие широкие запястья переходили в великолепную, в сильных, рельефных венах крупную кисть, левое запястье охватывала светлая металлическая цепочка – как это сейчас было принято у молодых людей.
Альбина смотрела на него в дверном проеме и чувствовала, что не в силах шевельнуть языком, чтобы ответить. Она смотрела на него там, в дверном проеме, между ними было расстояние в четыре метра, – а она отдавалась ему! Эти его крупные сильные кисти были у нее одна на спине, другая на затылке, а ее собственные руки обхватывали его твердые плечи, губы его влажно терзали, вылизывали ее ушную раковину, а молот его находился в ней, физически ощутимо наполнял ее собой, распирая до самых бедер, доставляя никогда до того в жизни не испытываемое наслаждение, жуткое, невыразимое, побуждавшее к стону от своей невыразимости наслаждение, она была вся заполнена его молотом, он выходил у нее из горла, скользил по ее языку, и она ласкала его языком, прижимала его языком к нёбу, прикусывала зубами…
Словно бы что-то исторглось изнутри нее – будто ударил горячий гейзер, прорвав твердь, ее всю сотрясло, перевило мучительной, блаженной судорогой, вырвав, наконец, из нее невольный скулящий стон, и глаза ей, как она ни сопротивлялась тому, на мгновение прикрыло.
Она кончила. Вот так, на расстоянии четырех метров, даже не коснувшись его!
– Я говорю, по вопросу моей прописки мне к кому? – повторил он, все так же продолжая стоять в дверном проеме и не меняя позы.
– Пройдите… что вы там… в дверях, – сумела выговорить она.
Он оттолкнулся от косяков, опустил руки и, подрагивая цепочкой на запястье, со снисходительностью олимпийского обитателя пошел к ней через комнату. И, пока он шел, она обнаружила, что жадно, торопясь, срывает с него взглядом одежду, он двинулся от двери в своей пятнистой десантной форме, а подошел к ее столу совершенно обнаженный: с еще гладкой, безволосой юношеской грудью, поджарым, мускулистым юношеским животом, взбитым юношеским вихрем темно-русых зарослей посреди незагорелого, светлого треугольника, великолепным в своем рельефном рисунке ветвящихся вен, светящихся сквозь нежную кожу, сильным мужским орудием, которое только что заполняло ее и которое ее сознание неожиданно, само собой назвало молотом. Она не понимала, как это могло получиться, но на нем не было ни единой нитки!
Он подошел и остановился с другой стороны стола, прямо напротив нее. Ноги его коснулись края столешницы, промявшись под ее заостренной гранью, и молот, подавшись вперед, завис над столом. Крайняя плоть у него была короткой, и головка молота наполовину выглядывала наружу. Самый кончик головки, с младенчески нежным, розовым, припухлым разрезом слегка касался стола, и она почувствовала ревность к своему зашарпанному канцелярскому ишаку, – потому что молот касался того, а не ее.
Ей стоило неимоверного усилия перевести взгляд на его лицо. И, переведя, тут же отвела в сторону. Она была не в состоянии глядеть ему в глаза. Не потому, что он стоял перед ней обнаженный, не зная того, а потому, что, встретясь с ним взглядом, тут же, мгновенно ощутила, что он снова в ней, она обнимает его, стремясь вжаться в его тело как можно плотнее, и из глубины ее поднимается, рвется наружу беспомощное блаженное поскуливание…
– Что у вас… с пропиской… что такое? – стиснуто, едва владея языком, спросила она.
По делам прописки было совсем не к ней, и ей следовало просто отослать его в нужную комнату, но она не могла отослать его никуда. Она не могла выпустить его от себя.
– Прописаться мне надо, что! – воскликнул он. – Я демобилизовался, я теперь гражданский, мне теперь прописку восстановить. Вот дали мне! – протянул он ей какой-то листок с печатью.
Она взяла листок – это была обычная военкоматовская справка, извещавшая о принятии на учет и возвращении находившегося у них на хранении паспорта. Ему просто полагалось зайти в соседнюю дверь, а он ошибся и зашел к ней.
– Паспорт у вас? – спросила она, по-прежнему не смея взглянуть на него.
– Ну так! – вынул он откуда-то из несуществующего кармана тонкую твердокорую книжицу.
– Давайте. – Она протянула руку, приняла у него красную книжку паспорта, приняла справку и положила на стол перед собой. – К часу… Даже так… чуть-чуть попозже… сможете подойти? – произнесла она, спотыкаясь едва не на каждом слове и совершенно не отдавая себе отчета в том, что говорит.
В час начинался перерыв, в поссовете никого не оставалось, и ключ от входной двери был лишь у нее.
– И что, все будет сделано? – спросил он.
– Не волнуйтесь… Все будет нормально, вы только подойдите… Обязательно. – Последнее слово вырвалось у нее, услышала она, внушением, мольбой, заклинанием – все вместе.
– Мне что. Конечно. Я подойду, – сказал он.
– Ну вот. До встречи, – улыбнулась она, попытавшись взглянуть ему в глаза, и только встретилась взглядом – тотчас ее захлестнуло таким безумным вожделением, что она лишь каким-то крайним, последним усилием удержала себя не перегнуться через стол, не обхватить его загорелую шею руками… а между ногами у нее запульсировало тяжелыми и мощными толчками, и она вся переполнилась там влажным, горячим нестерпимым жаром.
Он ушел, дверь за ним закрылась, а она все сидела, глядя ему вслед, не двигаясь, и так протекло несколько минут. Наконец, она осилила свое оцепенение, повернулась и взяла лежащий перед ней паспорт в руки. «Будкин Сергей Викторович», – было написано там, и на вклеенной фотографии – неинтересное, ничем не привлекательное лицо шестнадцатилетнего мальчика, каким он был, получая этот паспорт, абсолютно ничего, ровным счетом ничего от того Аполлона, что возник у нее на пороге…
До перерыва оставалось еще два часа, и все эти два часа она занималась тем, что бесцельно перекладывала свои бумаги с места на место, двигала, переставляла предметы на столе – совершенно не в состоянии выполнять любую текущую работу, вообще заниматься чем-либо осмысленным. И то и дело, постоянно вынимала из сумочки зеркальце, смотрелась в него, принималась то подправлять глаза, то добавлять румян на щеки. И еще вдруг на нее напало – ходила и ходила в туалет, каждые пятнадцать минут, и не было в ней ничего, выжимала какие-нибудь три капли – и все, а не могла вытерпеть, бегала и бегала.
– Идем? – без минуты час заглянула к ней бухгалтерша, уже с хозяйственной сумкой в руках, уже готовая выходить и идти домой. Часть дороги от поссовета им было по пути, и, после работы – как получалось, а на обед они обычно ходили вместе.
– Я? Нет… то есть… мне еще… я еще задержусь… мне из горсовета звонок должен быть, – нашлась Альбина. – Иди без меня.
Прячась за скосом стены, она проследила в окно, когда все из поссовета уйдут, бросилась к кабинету председателя, открыла его и достала из стенного шкафа свернутые во много раз два цветастых куска материи. Это была материя для новых занавесок на окна председательского кабинета, она хранилась здесь уже с год, надо было отдать ее кому-то – подрубить и пришить кольца, но Альбина все почему-то так и не собралась это сделать.
В кабинете у председателя стоял широкий, просторный диван. Он был не очень новый, обивка на нем изрядно запылилась, но пользовались им редко, и пружины сидения, несмотря на возраст, не визжали и не скрипели, принимая на себя человеческое тело, а мягко рессорили, будто новые.
Альбина растряхнула материю, подумала мгновение, какой стороной куда, и быстро расстелила один кусок на сидении, надежно подоткнув для прочности по углам, а второй положила сверху, забросив с одной стороны его конец на спинку, чтобы после без лишней суеты можно было прикрыться им. Руки ее действовали автоматически, сами собой, она ничего не придумывала – как устроить, казалось, в голове у нее давно уже имеется некий план, проработанный до мельчайших деталей, и только остается план этот осуществить.
Ждать его она вернулась к себе. И те десять минут, что пришлось провести в ожидании скрипа наружной двери, действительно показались ей часами.
Он появился все в той же своей пятнистой десантной форме, с так же закатанными рукавами – все тот же сошедший с Олимпа Аполлон, с высокомерным недоумением взирающий на бестолковщину повседневных человеческих дел.
– Что? – спросил он с порога. – Готово?
Перед глазами у Альбины предстал диван в председательской комнате, застеленный цветастой материей для занавесок.
– Готово, – сказала она, не вполне отдавая себе отчет в том, что говорит. Встала из-за стола, к которому, заслышав шум открывающейся уличной двери, метнулась, как мышь от кошки, быстро, боясь глядеть на его лицо, пересекла комнату, протиснулась мимо него в коридор, прошла в тамбур и ключом, который все это время держала в сжатой, вмиг сейчас вспотевшей ладони, закрыла уличную дверь на замок.
Она вернулась – он стоял посередине комнаты с переплетенными на груди руками, было в его позе нечто растерянное, озадаченное, что он как бы старался не показать, и это тотчас придало ей сил, она буквально физически ощутила их прилив в себе.
– Ну что, как провел время? – спросила она, останавливаясь неподалеку от него и не замечая того, что обращается к нему на «ты». Глядеть, однако, ему в глаза она по-прежнему не смела, скакнула было на них своими и тут же в испуге отвела.
– Что? Когда? Где провел время? – непонимающе переспросил он.
Его ответ, впрочем, нисколько ее не интересовал.
– В Афганистане служил, да?
– Ну. Да, – ответил он с расстановкой.
– И убивал?
– Ну… что, – сказал он с секундной заминкой. – Нас убивали, и мы убивали. Конечно.
– Два года?
– Не два, поменьше. Сначала учебка там… а потом – да. Восемнадцать месяцев. С днями даже.
– А что медсестрички? Были медсестрички? Побаловаться чтоб… потешиться… имелись?
Теперь она решилась взглянуть ему в глаза. И, взглянув, поняла: что она хочет, то с ним и сделает. Она была удавом, он был кроликом. Он еще не понимал ничего, он еще не догадывался ни о чем, но он уже шел к ней в пасть, смотрел на нее и шел…
– Ну… так… чего… медсестрички… да мне в госпиталь… не пришлось… – почти заикаясь, выговорил он.
Не отрывая больше от его глаз своего взгляда, она ступила к нему, взялась за пуговицу у ворота и протолкнула ее в петлю, взялась за другую, пониже, и расстегнула ее. Она хотела расстегнуть и следующую, но пальцы у нее уже изнемогали, она подняла руку, изогнув в локте, скользнула ею под пятнистую грубую материю военной робы – и пальцы ощутили подушечками восхитительно гладкую, безволосую твердую юношескую грудь.
– Твою мать! – услышала она над собой его обрывающийся голос, и следом ее бросило вперед и тесно, туго, больно прижало к нему, как ей и хотелось еще два часа назад, – это его руки оказались у нее на спине. Потом та, что была ниже, двинулась еще ниже, пальцы его с шуршанием заперебирали юбку, сгребая ее вверх, и еще мгновение спустя ягодицу ей обожгло пятью его прикосновениями. А между ногами, в выходе телесных недр к своему покрову вновь все у нее переполнилось горячим, влажным, текучим, и было этого столько, что выплеснулось на ноги.
– А-ах ты! – вырвалось у нее, и она увидела, что ее собственные руки вовсе уже не на груди у него, а снова расстегивают пуговицы, но теперь не на гимнастерке, а на брюках…
Она не довела его ни до какого дивана в председательском кабинете. Она отдалась ему тут же, у себя в комнате, на старом, с ободранной обивкой продавленном кресле, стоявшем в углу за дверью и заваленном стопами всяких архивных бумаг и папок, – свалив их одним движением руки на пол и таким же одним движением разметав ноги по подлокотникам.
В жизни, однако, все оказалось не так, как произошло два часа назад в воображении. Ее облитое соком желания, словно бы вспухшее, пульсирующее лоно приняло в себя его молот с некоей жаждой исчезновения, ей чудилось, и она, оказывается, ожидала того, – едва он окажется в ней, она как потеряет свою телесную оболочку, скинет ее подобно панцирю, надетому на нее истинную, и растворится в каком-то ином, невещественном, абсолютно нематериальном существовании, – исчезнет в нем. Но ничего такого не случилось. Она осталась здесь, в этой комнате, узкие деревянные подлокотники резали ляжки, ягодицы жестко терлись о вылезшую в прорехи обивки грубую холстину внутренней обтяжки, и сам его молот тоже был груб, непомерно тверд, слишком веществен, безостановочно ходил в ней с тупой, прямолинейной заведенностью, – впрямь молот, механически долбящий по ней, как по наковальне.
– Легче, легче, – попросила она, подтверждая свою мольбу отстраняющимися движениями тела, но он, похоже, не услышал ее и не уловил ее движений, – она была для него не озером совершить благодарственное омовение, а полем под вспашку, и он бороздил ее со всею безжалостной горячей свирепостью неутоленной молодой силы.
Момент его семяизвержения был облегчением для нее. Она осязала, сжимаясь, толчки вытекающей в нее тягучей массы и ждала, не отрывая глаз, когда он освободит ее от себя. Ее опыт свидетельствовал: сейчас он будет вынужден сделать это. Сейчас его молот должен потерять свою твердую силу, вернуться к своему постоянному состоянию, и ему не останется ничего другого, как избавить ее от своего присутствия. Однако прошло мгновение, другое, третье – не больше, – как прекратились его содрогания, и он начал двигаться в ней снова, все сильнее, сильнее раз от раза, и впрягся в плуг заново, вспарывая поле с прежней яростной безжалостностью. И тут, подсовывая под ляжки руки, чтобы не так резало подлокотниками, она вспомнила, что в молодости с мужем так и бывало: и три, и четыре, и пять раз подряд с короткими передыхами – совсем не как сейчас.
Она смогла, наконец, освободиться от него минут за десять до конца перерыва. Они уже были не на кресле, а прямо на полу, на груде сваленных ею с кресла бумаг, он ослаб на несколько коротких мгновений, вылившись в нее очередной раз, и она каким-то невероятным усилием смогла вывернуться из-под его тяжелого, железного тела и тут же подняться. Самой ей за все это время не удалось подойти к тому, что случилось с нею на расстоянии, и близко.
– Ты куда? – приподнимаясь, потянулся он к ней с пола, она ударила его по руке и крикнула со злобой:
– Вставай! Сейчас народ придет!
Ноги у нее дрожали, она едва стояла на них. Комната перед глазами качалась и виделась словно через туман. Посередине комнаты гофрированной кучей лежали его пятнистые штаны, а рядом, чуть в стороне, – ее тонкие летние трусики с кружевной обшивкой. Наклоняясь за ними, она чуть не упала. Боже, а что, должно быть, с юбкой! – мелькнуло у нее в голове. Она не сняла с себя в нетерпении скорее принять его, ничего, кроме того, что реально мешало тому.
– Одевайся! – приказала она ему.
Взяла с тумбочки около стола электрический чайник, в котором кипятила воду заваривать чай, и, с трудом двигая ногами, пошла в туалет. Лишь уже оказавшись там, она обнаружила, что ей нечем вытереться, разве что общественным вафельным полотенцем с крючка рядом с раковиной. Мгновение она колебалась, но другого выхода не было, и она сняла полотенце, перекинула его через плечо. Вся середина у полотенца оказалась влажной от чьих-то чужих рук, и ее заранее передернуло от его будущего прикосновения.
Война в чайнике сохранила некоторое тепло, и, поливая из носика себе под руку, она, как в утешение, подумала о том, что могла и остыть и тогда бы пришлось пользоваться прямо холодной. Ляжки были липкими почти до самых колен и, несмотря на теплую воду, все оставались такими, никак не отмывались. Стульчак, когда поднялась с него, весь был мокрый, и, вытершись с содроганием этим влажным общественным полотенцем сама, она затем вытерла им и стульчак.
Часы на руке показывали: три минуты до конца перерыва.
Не заглядывая к себе в комнату, с чайником в руках, она заскочила в кабинет к председателю, содрала с дивана разостланную на нем материю, скрутила комком, засунула в стенной шкаф на прежнее место и плотно закрыла дверцу.
Ее молотобоец, полностью одетый и даже в своей каскетке на голове, вновь, как тогда, почти час назад, когда она вернулась, закрыв уличную дверь, стоял посередине комнаты с переплетенными на груди руками, как бы в растерянности, которую он старался не показать, – совершенно так, как тогда, будто и не было этого часа, будто ничего не было, будто ей снова все это лишь привиделось.
Но все было, и вещественным напоминанием о том являлась она сама: ляжкам у нее, хотя только что вытерлась, снова было липко, – это из нее вытекал он.
– Подбери, – указала она ему на груду бумаг и папок около кресла. Швырнула чайник на тумбочку, схватила со стола ключ и метнулась обратно в коридор – открывать уличную дверь. Часы уже показывали конец перерыва. Не хватало только, чтобы кто-нибудь пришел раньше, чем она отомкнет ее!
Альбина была уже у своей комнаты, когда услышала скрипучий звук открывающейся входной двери.
Он еще продолжал собирать бумаги с пола.
Она наклонилась рядом с ним, сгребла стопку, бросила на кресло, сгребла другую, бросила, он тоже сгреб и бросил, – и пол очистился. Каблуки в коридоре простучали в какую-то комнату около входа.
– Что, когда мы снова с тобой… – взял он ее за бедра, она распрямилась с испугом, вырвалась из его рук и отскочила к столу.
– С ума сошел? – прошипела она.
– Нет, ну так а чего?.. – усмехаясь, двинулся он к ней, и тут, впервые после всего происшедшего она вновь встретилась с ним глазами. И теперь это оказалось совершенно не страшно, она не только спокойно выдержала его взгляд, но даже, увидела по его глазам, заставила заметаться внутренне самого.
– Стой, не приближайся! – шепотом приказала она, и, должно быть, это вышло у нее с такой яростью, что он остановился.
Он остановился, постоял на полпути между креслом и ее столом – опять как бы в растерянности, которую пытался скрыть, – и спросил, снимая и заново натягивая на голову свою пятнистую форменную каскетку:
– Так а насчет прописки мне, значит, что?
О Боже, вот она о чем напрочь забыла – это о том, зачем он появился здесь!
От входа донесся скрипучий звук проворачивающихся петель, новые каблуки зацокали по коридору и, немного не доцокав до ее комнаты, остановились у соседней, звонко заскребясь ключом в замочной скважине. Это пришла паспортистка, к которой ему и следовало попасть со своими документами, а он перепутал двери.
Она поднялась и быстро, насколько то позволяли дрожащие ноги, обойдя его, прошла к порогу.
Паспортистка как раз заходила к себе.
– Тут вот к тебе. Займись давай! – окликнула ее Альбина.
– Кто ко мне? – выступила обратно в коридор паспортистка.
Альбина избавилась от него, передав паспортистке, попади к которой он сразу, ничего бы того, что произошло, не случилось, и она бы вообще не узнала его, села к себе за стол, невольно прислушиваясь к звукам около соседней двери, просидела так, наверно, с минуту, и зазвонил телефон.
Звонил младший сын.
– Ты чего на перерыв не пришла? – спросил он.
Она держала трубку около уха – и не могла ничего ответить.
Оказывается, она забыла о себе все: что она замужем, у нее семья, дом – забыла не только о муже, но и о детях, их не было у нее три этих минувших часа, не было никого, словно бы три эти часа то была не она!
– Чего молчишь?! – крикнул в трубке сын.
Возвращение к себе было мучительным, слова ответа стояли в горле набухшим комом и никак не могли перейти на язык. Она напрягла всю волю, чтобы заговорить с сыном, но вместо слов с языка сошло нечленораздельное мычание.
– Что? Что такое с тобой?! – уже встревоженно закричал сын.
В минувшую пятницу у него был выпускной вечер в школе, с которого он вернулся только в субботу под ночь, и воскресенье с понедельником он тоже гулял, появляясь лишь для того, чтобы завалиться спать, и надо ему было оказаться дома именно сегодня! Уголовная история все же основательно встряхнула его, и он теперь стал замечать, что живет не один.
– Дела! – смогла-таки выдавить она из себя, – все, что смогла.
– Ну, ты нормально… чувствуешь себя, да? – вполне, однако, удовлетворяясь ее ответом и с радостью освобождаясь от своей тревоги, уточнил сын.
– Да, – смогла она вытащить из себя еще одно слово.
Она положила трубку и несколько мгновений спустя услышала, что дверь паспортистки открылась и оттуда вышли. Она вся подобралась в ожидании, и действительно, никаких шагов в коридоре по направлению к выходу не раздалось, а проскрипели половицы – будто переступили с ноги на ногу, проскрипели еще, еще, – и он возник на пороге.
– Ну… я все! – сказал он оттуда.
– Ну и иди! – сказала она. – Раз все.
Перетаптываясь, он постоял там немного, хотел ступить внутрь – и не решился, повернулся и теперь, наконец, пошел по коридору к выходу.
Далекое пение петель уличной двери было для нее звуком освобождения. Она встала и, все продолжая чувствовать, как дрожат ноги, протиснулась между столом и тумбочкой с пустым чайником к книжному шкафу, к висевшему на его торце небольшому настенному зеркалу. И глядя на свое как бы портретное изображение, безжалостно подставлявшее себя ее взгляду из амальгамной глуби, она впервые в жизни ощутила весь свой возраст: сорок один год! Боже, какой стыд, какой ужас, он был всего какими-нибудь тремя годами старше ее младшего сына! И моложе ее старшего!.
Нечто, похожее на вой, стояло в груди и требовало выхода.
И ведь она, вспомнилось ей, возбудилась еще больше, когда спросила: «Убивал?!»
Чьи-то шаги в коридоре опять приближались к ее углу, и может быть, к ее комнате.
Она отскочила от шкафа и, больно ударившись коленом об угол тумбочки, торопливо выбралась из закутка около зеркала. Она боялась, что это не посетитель, мнение которого было ей абсолютно безразлично, а кто-нибудь из своих, и не дай бог, увидят ее юбку.
Стул, когда хлопнулась на него, предательски взвизгнул от толчка всеми своими сочленениями, но главное – она сидела, и красноречивая ее юбка не бросалась в глаза.
Она хорошо сделала, что села: каблуки достучали до самой ее комнаты, и это оказалась бухгалтерша, с которой им было вместе полпути до дома, а оттого и как бы ее рабочая приятельница.
– Слушай, – еще не войдя, прямо с порога сказала бухгалтерша, – что это такое делается? Пошла в туалет, полотенце в умывальнике… кто с ним что такое творил? Прямо как полы мыли!
Это было чем-то вроде ее общественной обязанности – следить за состоянием полотенца, и она пришла поделиться с Альбиной своим возмущением.
– Кому это нужно – полы полотенцем мыть, – как можно спокойнее произнесла Альбина. – Вытерся кто-то…
– Что он вытирал. мокрющее все?! – ругнулась бухгалтерша. – Поймала бы – руки оторвала… – И потянула носом, ступая в глубь комнаты: – У-у, слушай, ты что это, свежую рыбу, что ли, купила?
Теперь Альбину бросило в жар и всю перекрутило жалким, скулящим стыдом.
– Какую рыбу? – попыталась изобразить она непонимание. И даже потянула вслед бухгалтерше носом.
– Не, ну так я же чувствую!
– Нет у меня никакой рыбы, о чем ты! – не выдержала, сорвалась в восклицание Альбина.
Боже мой, заметит юбку, Боже мой! – стучало в ней.
– Да? Хм. Нет? – Бухгалтерша снова поводила носом из стороны в сторону. – Странно. А то бы я тоже свежей рыбки купила. Давно не ела.
Едва она, наконец, ушла, Альбина вскочила, распахнула окно во всю ширь и, распахнув, тут же села обратно за стол. Она просидела за ним, больше не вставая и никуда не ходя, до самого окончания работы. И задержалась еще, когда поссовет опустел. Бухгалтерша заглядывала, звала с собой, она отказалась: мне тут еще нужно кое-что сделать. Она поднялась, закрыла окно и стала собираться лишь тогда, когда после последнего всхлопа наружной двери прошло минут пятнадцать, не меньше.
Она вышла на крыльцо, закрыла дверь на замок, положила ключи в сумку, повернулась – и увидела его. Он стоял на другой стороне улицы, за дренажной канавой, в кустах боярышника, сливаясь с ними своей пятнистой десантной формой, и, когда она повернулась, чтобы соступить с крыльца вниз, стронулся с места, перепрыгнул через канаву и двинулся ей навстречу.
У нее подсеклись ноги, колено, которым ударилась днем, отскакивая от зеркала, будто взвыло от боли, и она почувствовала, что вся переполнилась злобой. Боже, что ему нужно еще!
– Что такое? – спросила она, пытаясь остановить его взглядом на расстоянии, и ей удалось это: шаг его сбился, и он замер, не дойдя до нее нескольких метров.
– Ну-у… это… – сказал он косноязычно, – чего… Пойдем ко мне, У меня банка есть… все, как надо: шампань! И закусь там… конфеты шоколадные!
– Пошел вон! – ненавистно, шепотом прокричала она. – Вон! Чтоб духу не было! Чтоб духу!
– Чего? – ухмыльнулся он, и она поняла, что больше не в силах удерживать его на расстоянии, сейчас он снова двинется к ней. И он на самом деле стронулся с места и, хотя шаг его по-прежнему был неверен, подступил к ней совсем близко. – Чего ты, собственно? Дала – так всё! Я афганец, у нас, если под мужика попала – давай и давай! Теперь все, теперь от меня не уйдешь, я, твою мать, так тебя не отпущу!
Это было ужасно, что он говорил. Что и как. Словно она была уличной шлюхой, он заплатил ей деньги, и теперь она обязана была подчиняться ему – чего бы он ни потребовал.
Но он говорил – будто насиловал ее прямо тут, посреди улицы, – и она ощутила, что, несмотря на кипящую в ней ненависть, готова подчиниться ему, готова – начни он действительно домогаться ее тут на улице – отдаться ему прямо здесь, в тех же кустах боярышника за дренажной канавой, готова, готова быть с ним еще, невольна не быть – как он ни ненавистен ей!
– Завтра, – выдохнулось у нее. – Завтра приходи. В перерыв так же…
Это было во вторник, двадцать восьмого июня. В этот день началась партийная конференция, равная по значению партийному съезду, выше решений которого не было закона во всей стране[42]. Получалось, от того, как пройдет конференция, будет зависеть жизнь всех на долгие годы. Накануне, как обычно было положено перед съездами, состоялся пленум – будущие решения обсуждались в закрытом кругу самой верхушки партии, – и за сообщениями о пленуме она следила с таким напряжением – довела себя до успокоительных таблеток. И слушала целый день радио, и читала газеты, и смотрела телевизор. Она знала: у Него очень большие надежды на эту конференцию. Он очень готовился к ней, Он должен сделать на ней очень большое дело. Едва не до истерики довело ее накануне напряжение, в котором пребывала, еле откачалась таблетками – следила за каждой малою информацией о пленуме, за каждым словом…
За самой конференцией она уже не следила. Утром шла на работу с мыслью о ней, уходила – будто бы той не было и в помине. Муж, вернувшись домой, что-то талдычил о полученных им доверительных секретных сведениях, о всяких кулуарных подробностях сегодняшнего дня заседаний, – она не слушала его. Ровно в девять с первыми позывными программы новостей, вооружившись рюмкой коньяка, он уже сидел в кресле перед телевизором, покричал ее – иди давай, начинается! – она даже не откликнулась. Все это ее теперь нисколько не волновало.
14
– Ну? Что? Ничего?! – снисходительно спросил его голос над нею. Она, сцепив зубы, с закрытыми глазами, перевив его ноги своими, вжималась в него снизу, выгибала его мостом, ее всю сотрясало, скулы свело, и она не могла ответить ему.
– Ну, ничего? Охеренно, да? – снова потеребил ее снисходительно-победный его голос, и, изнеможенно опускаясь вместе с ним вниз, освобождая свои враз обессилевшие ноги от ног его, еще продолжая сотрясаться – но уже редкими, мелкими толчками, – она сумела приоткрыть глаза. Лицо его было совсем рядом, и смотреть на него было неудобно – у нее не получилось сфокусировать на нем взгляд.
– До-вел, – блаженно выдохнула она сквозь сбитое, рвущееся наружу хрипом дыхание и снова закрыла глаза.
Он хохотнул. С той же, прежней победностью.
– У меня любая – как на ракете в космос. Кого ни имел.
Она снова не ответила ему. Едва он начал говорить и она поняла, о чем он, она отключила свой слух и убедила себя, что не слышала вообще ни слова.
– Еще. Ну-ка, давай. Еще, – попросила она, вся обращаясь в одно осязание, чтобы ловить в себе каждое его движение.
Она сошла с ума. В голове у нее дни напролет не было ни единой мысли, кроме как о нем. Вернее, о том, как снова окажется с ним в постели – в следующий раз, и думала об этом следующем разе, едва расставшись с ним. Она не могла утолиться, сколько бы с ним ни пробыла. Теперь она кончала за одну встречу до десятка раз, обессиливая так, что не могла уже потом пошевелить ни рукой, ни ногой, и вставала с постели – кидало от стенки к стенке, как пьяную, но, только оставалась одна, тут же начинала томиться новым желанием. Она вспоминала поминутно, перебирала в памяти, подобно четкам, самые разнообразные, мельчайшие подробности, переживала заново ощущения, что испытала, когда ее вдруг, как бы помимо ее воли подняло из-под него и усадило верхом – чего она прежде никогда в жизни не делала, – или когда он сам поднял ее, дошел с нею до стены, и заходил в ней с такой силой, будто хотел вколотить ее, вогнать в стену… она перебирала в памяти эти подробности – и распалялась от воспоминаний все сильнее, все нестерпимей, отчаяней…
Нина, обсуждая с ней ее роман, прямо цвела.
– Ой, Алька, ой, скромница, – говорила она с показной завистью. – Я ей кого ни сватала… двадцатилетнего оторвала! Брось, не рефлексуй, – отвечала она на покаянную реплику Альбины о возрасте своего любовника. – Для женщины в сорок лет двадцатилетний – самое то. У тебя вкус, как у Клеопатры. – И спрашивала, ей хотелось просмаковать все детали Альбининой постели: – А вот когда подходишь вот уже рядом, секунда – и все, нет такого: хочется прямо съесть его, могла бы – со всеми потрохами, как паучиха?
Альбина смотрела на нее потрясенно: Нина знала о ней такое, в чем она стыдилась признаться самой себе!
– Значит, у тебя с ним по высшему классу! – теперь уже с настоящей завистью говорила Нина. – Повезло. У меня так три или четыре раза за всю жизнь. Не вру, три или четыре раза. Ну, может пять. Лет восемь назад в последний раз. Хочется снова – просто безумно…
Ее, однако, он не возбуждал. Когда была верная возможность – чтобы не застукал муж, – она предоставляла Альбине для свиданий свою квартиру, и в первое Альбинино появление устроила для себя нечто вроде смотрин: накрыла стол, поставила вино, подала чай, и с час сидели вместе, пили, ели, беседовали. И прямо сразу, как увидела? – спрашивала она после Альбину с неверием. Прямо повело – и ничего с собой не могла поделать? И все же ей ничего не оставалось, как поверить: да, значит, твой тип, попала в яблочко, бывает такое. И говоришь, почти всегда – ну, съела бы? – снова возвращалась она к тому, что томило ее.
Сама Альбина, впрочем, не горела особым желанием обсуждать и обсуждать без конца свои отношения с любовником. Ей это было неинтересно. Ее интересовало одно: сами свидания. И она терпела подобные разговоры с Ниной, потому что зависела от нее. Другого, более удобного места, чем Нинина квартира, не имелось. Диван председательского кабинета был ею опробован, но там, в поссовете, хотя ключи были только у нее, она все время боялась, что кто-нибудь, каким-нибудь непостижимым образом, войдет и застигнет ее врасплох, а если не войдет и не застигнет, все равно ее почему-либо заподозрят, выследят, и в любом случае разразится такой скандал – только лишь и останется после этого что в петлю.
Встречалась она с ним еще и у него дома, но и у него дома было немногим лучше. Он оказался никем другим, как сыном Гали-молочницы. И приходить в этот дом, пусть даже никого не встречая и зная, что кроме них двоих больше в нем никого нет, было для нее мукой. И однако она приходила, постельное белье у Гали-молочницы оказалось неопрятно-лохматое, застиранное, скверно выглаженное, оно внушало ей отвращение, и всякий раз она приходила с сумкой, в которой лежало собственное белье. Некоторое время как бы некоей компенсацией за унижение, которое она испытывала, посещая этот дом, служила мысль, что вот Галя-молочница отказала ей в молоке, а она взяла в любовники ее сына. Галя, однако, довольно скоро лишила Альбину этой спасительной защитной брони. Видимо, ее томило неудержимое любопытство, кто такая там завелась у сына, из-за которой он выставляет ее из дома, и однажды, когда Альбина, по-обычному покачиваясь от утомления, но с ощущением блаженства даже, казалось, в ногтях мизинцев на ногах, вышла на веранду, через которую следовало пройти к уличной двери, ее неожиданно словно бы кто-то остановил. Словно бы некто невидимый схватил ее невидимыми руками, и она буквально физически ощутила, как ее держат – из угла, где Галя, помнилось ей по прошлому, разливала надоенное молоко по бидонам и банкам, – не пускают идти дальше и как бы даже поворачивают в руках, рассматривая. Она быстро шагнула в угол, отдернула занавеску, – за нею, не успев отпрянуть и выпрямиться, как была склоненной к незаметной прорехе в материи, жадно подавшись вперед, стояла Галя. Мгновение они безмолвно смотрели друг на друга, потом Галя распрямилась, по губам ее побежала, усиливаясь с каждой секундой, хищная, плотоядная, уличающая улыбка, и Альбина почти бегом бросилась прочь и вылетела на крыльцо, вся, до шеи залитая жаркой краской стыда. «Ты что здесь делаешь?!» – услышала она за спиной обращенный к матери гневный голос своего любовника. «А ниче, че!» – было ему ответом – голосом, полным довольства и даже ублаготворения. А еще через день Галя появилась у Альбины в поссовете. Окинула с порога ее комнату ищущим взглядом, убедилась, что, кроме них двоих, больше никого нет, притворила дверь и с этой же улыбочкой хищного плотоядия сказала: «Ну, поздравляю! Ты, значит, даешь ему. А я-то все думала: кого он оттягивает. А это тебя! Ну, давай, давай. Поучи. У меня парень что надо, как удержаться, я понимаю. Но только заразу какую ему принесешь… я, млядь, предупреждаю: принесешь – с вами, барынями, разговор нынче короткий, нет вашей прежней силы, попляшешь тогда! Поняла? Даешь – давай, но только чтобы ему, чтобы одному, чтобы без всяких этих гонорей ваших!..» «Вон! Вон!» – хотелось закричать Альбине. Вскочить и вытолкать эту гнусную бабу взашей, надавать ей пинков, оплеух… Но она не осмелилась произнести ни звука, сидела перед Галей ни жива ни мертва и выслушала все, что та несла.
После Галиного посещения она не могла осилить себя на свидания в его доме недели две. У Нины за это время получилось встретиться только раз, в собственном доме было никак невозможно, и к исходу этих двух недель ей забылось все, что она испытала, отдернув занавеску, она снова готова была идти к нему в дом, нести в сумке постельное белье и уносить после обратно…
– Ну вот, дурочка, а ты боялась! – погрузившись в ее жаждущее, сочащееся влагой лоно, с куражливым смешком проговорил он. – Как школьница, ё-моё. Семиклассница! – И потом все приговаривал время от времени: – Ну вот, дурочка, видишь! А ты боялась!
Вульгарное это присловье было ей неприятно, но и опять она заставляла себя как бы не слышать его, слышала – и внушала себе, что не слышит.
– Милый мой, ах, боже мой, счастье мое! – стонала она, не в силах сдержать себя от рвущихся из нее слов.
И так это длилось месяц и другой, начался сентябрь, – она ничего не замечала вокруг, будто выпала из своей обычной жизни, та шла – но сама по себе, без ее участия; младший сын, несмотря на всю поддержку, которую оказал муж, провалился на экзаменах в институт, – она осталась совершенно равнодушной к его неудаче, старший сын объявил о намерении жениться и привел познакомиться в дом невесту, – она даже не запомнила лица той; как прошло мимо нее, будто о том и не говорили на каждом углу, жуткое, страшное крушение поезда Ленинград-Москва, в котором погибло двести пятьдесят человек[43], как не вызвало в ней ни малейшего любопытства бодрое, радостно-уверенное настроение мужа, в котором он пребывал все лето после конференции…
Девятнадцатое сентября, понедельник – этот день она тоже запомнила, как тот, другой: двадцать восьмое июня.
В этот день они должны были встретиться у Нины. Муж у Нины уехал в командировку, как раз тот случай, когда в высшей степени безопасно, она приехала за полчаса до условленного времени, приняла душ, оставшись после в одном пеньюаре, застегивать пеньюар ей не хотелось и, готовя к его приходу стол, гоняла по квартире с развевающимися полами, предвкушая обнаженными грудью, животом, подсыхающей муравой лобка близкое осязание его тела. Позади были суббота с воскресеньем, проведенные с утра до вечера с семьей, постель с мужем, от которой, как ни увиливала, увернуться не удалось, и она сходила с ума от этого предвкушения близости, которая была ей желанна, буквально изнемогала, так что время от времени останавливалась подавать на стол, закладывала ладони между ногами, крепко прижимая их к жестко пружинящей мураве, и стояла так мгновение, постанывая.
Он не появился.
Он не пришел, и телефон, номер которого был ему прекрасно известен, тоже не зазвонил.
А утром он не объявился у нее в поссовете, как она ждала, – опять же ни сам, ни звонком, и она запаниковала. Что-то с ним, должно быть, случилось, что-то случилось – определенно, но что? Как ей выяснить это, она не знала. Обычно он или приходил к ней в поссовет, или, что чаще, чтобы ни у кого не возникло поводов для подозрений, звонил ей из телефонов-автоматов, и так, по телефону они обо всем договаривались. Пойти к нему домой, – чтобы там почти наверняка нарваться на Галю-молочницу? Нет, это было немыслимо.
Спала она наступившую ночь или нет, – она не поняла. То ли спала, то ли нет. Вроде даже спала, но было чувство, будто всю ночь проходила в странной, рождавшей некое состояние невесомости пустоте – туда-сюда, туда-сюда, в одну сторону, в другую, в третью, без смысла, без цели, все как летя куда-то, маялась, а не спала, – и встала с постели словно б с горящей, охваченной невидимым пламенем головой. День на работе она провела в ожидании звонка от него. Хотя при этом была уже уверена, что никакого звонка не будет.
Его и не последовало, и за полтора часа до конца работы она зашла к председателю и сказала, что ей надо сегодня уйти пораньше. Скоро она уже находилась в городе и стояла у проходной завода, на который он устроился недели две назад то ли учеником слесаря, то ли токаря, – она не знала точно. Конец рабочего дня на заводе был на час раньше, чем у нее. Чего она хотела, оставалось тайной для нее самой. Она просто не могла придумать ничего иного, каким образом что-то узнать о нем. Она понимала, что это глупость – притащиться сюда и стоять в толпе прочих встречающих, высматривая его лицо в выливающемся черед двери проходной людском потоке; если он заболел или что-нибудь еще в этом роде, какая-нибудь травма, не дай Бог, – он в больнице, да в таком состоянии, что не может позвонить; но ее собственное состояние требовало от нее что-то сделать, и она пришла сюда.
О том, что он элементарно бросил ее, она почем-то не думала. Даже мысли такой не приходило в голову. Казалось бы, почему не прийти, должна была прийти, но нет, и тени такой мысли не появилось.
Глаза ее выхватили его лицо из десятков других, едва он возник в дверях проходной; они и не выхватили, а будто в них ударило солнцем, – мгновение ей даже было больно смотреть. Будто сияние стояло вокруг него, будто сноп света вырвался из дверей вместе с ним, – и по этому свету она узнала его.
– Твою мать! – остановился он, увидев ее перед собой. Он шел не один, с каким-то парнем, тоже, судя по одежде, недавно демобилизованном, кивнул тому: отойди, – и когда парень отошел, сказал, улыбаясь этой своей, всегда, с первого дня неприятной ей, как бы повелительной улыбкой: – Ну, даешь! Сцену, что ли, устраивать приперлась? Не, мадам, стоп-сигнал! Я афганец, со мной шутки плохи, я, если что, – от бедра веером!..
Он бросил ее. Бросил вульгарно, грубо, похабно, – как заношенную, стоптанную, ставшую неудобной туфлю, как сопревшую до дурного запаха, отслужившую срок половую тряпку…
Она шла от проходной чахлым, весело золотящимся первым осенним листом сквериком, и ее качало. Бросало от одного края неширокой асфальтовой дорожки к другому, – налетала на людей, спотыкалась о чьи-то ноги, едва не упала. Почему она не подумала, что он элементарно бросил ее? А он элементарно бросил ее, – пошла вон, старая сука! Нашлась сучка моложе, с гладкой кожей, с острой грудкой… а ей уже сорок два… какой стыд, Господи, какой ужас, – он бросил ее!
Было около пяти часов, когда они встретились у проходной. Около девяти вечера, уже совсем в плотной, почти сгустившейся темноте она обнаружила себя сидящей на скамейке в городском парке культуры, в самом его глухом, далеком углу, на одной из заброшенных, густо заросших кустарником, диких аллей, на коленях у нее лежала разодранная пополам пачка сигарет «Космос», она курила частыми, быстрыми затяжками, неотрывно держа сигарету у губ прыгающими пальцами, а под ногами у нее, на красноватой гравийной дорожке лежала целая куча окурков. Как она попала сюда, откуда у нее взялись сигареты, – она ничего не помнила, и как она могла выкурить столько, никогда прежде в жизни не куря? И где она сидела, это надо же! В этой глуши, где с нею могло произойти все что угодно, кричи – не докричишься, да практически в темноте, еще несколько минут – и полная ночь! Она вскочила и опрометью бросилась к выходу из парка, скорее, скорее отсюда… Какой ужас, Господи, какой ужас… чем она занималась эти четыре часа, где была?!
Дома ее уже искали. Она вышла из такси – с крыльца к ней рванулись оба сына, а мгновение спустя, выстрелив дверью, выскочил, побежал за ними, переваливаясь с ноги на ногу и прыгая животом, муж. «А не просыпаться бы!..» – с отчаянием, словно бы стоном вспыхнуло у нее в мозгу при виде этой картины – давно уже не звучавшее в ней, казалось, навсегда забытое, но следом, будто некая сила подхватила ее и стремительно вознесла в поднебесную высоту, она очутилась на холме, похожем на воинский шлем, на самой его вершине, под свирепым, воющим ветром, гнулись деревья, ходила крупной волной вода в озерах, крутило спиральными веретенами пыль на дороге далеко внизу, туманя, затушевывая для глаза крошечную фигурку на ней, и в ноги из глубины холма ударило: «УБЕРЕГИ!» УБЕРЕГИ! – сотряслось, отозвалось тяжелой дрожью все ее тело, и она очнулась от напавшего на нее забытья окончательно, словно раскрылись некие внутренние глаза – и все увидела; увидела – и осознала происшедшее с ней: сегодня, четыре часа назад, и назад без малого три месяца, в последние июньские дни. И от этой четкости увиденного, от этой ясности открывшейся ей картины ее так замутило, стало так скверно, так дурно, как, похоже, никогда еще в жизни не было. Хотелось грохнуться на четвереньки – прямо здесь, где стояла, – есть землю, вгрызаться по-звериному в ее рыхлое, дернистое тело, чавкать, захлебываясь обильной слюной, и выть, выть утробой, волчьим ужасным воем…
– Что, – закричала она подбежавшим детям и мужу, – что, нельзя матери личную жизнь иметь?! Не может мать одна остаться, побродить, отвлечься, все для вас, для вас, нет матери с работы, – вся жизнь остановилась, всполошились, да?!
Это было несправедливо по отношению к ним, это было даже отвратительно с ее стороны – вести себя так, но она не владела собой, она не отдавала себе отчета, что она делает.
– Мам, мам, ты что, успокойся, ты что, – заприговаривали, протягивая к ней руки и не решаясь коснуться ее, сыновья.
– А ну, дрянь, а ну заткнись, распоясалась совсем! – оттолкнув сыновей в сторону, схватил ее за плечи муж. – Заткнись, что орешь?!
Она вывернулась из его рук и, размахнувшись. влепила ему звучную, тяжелую пощечину.
– Гад! Сволочь! Не трожь меня! Не прикасайся! Чтоб никогда больше! Ясно? Чтоб никогда!..
15
Врач напоминала ей следователя. А вот когда вы заметили за собой это? А вот когда то? А собственно, почему вы полагаете, что муж вам изменяет? Какие он подавал вам конкретные поводы подозревать его в этом?
Врач была необыкновенно высокого роста, чуть не на две головы выше ее, и, хотя полнота скрадывала рост, а лицо, обрамленное волнами свободно распущенных белокурых волос, имело выражение мягкое и даже приветливое, это телесное превосходство врача было слишком явным и усиливало невольное Альбинино чувство, что она перед следователем.
Сама она ощущала себя преступницей, которой во что бы то ни стало нужно перехитрить преследующий ее закон, намолоть как можно больше неправды, скрыв истинные события, и таким образом уйти от ответственности.
Она находилась в этой больнице уже полторы недели. Ее доставили сюда вечером того же дня, когда она закатила прилюдно скандал перед воротами своего дома. Чего муж боялся всю жизнь, то и случилось: оказалась его жена в психушке.
– Как, как вы говорите? – оживилась врач, перебивая Альбину. До этого, задавая свои вопросы и выслушивая ее ответы, она имела вид довольно скучающий. – Говорите, будто не принадлежите себе? Как это не принадлежите? В чем это выражается? Попытайтесь конкретизировать.
Она что, сказала что-то подобное? Альбина смотрела на врача и не могла припомнить своих слов. Неужели она проговорилась? Наверное, да, раз та просит конкретизировать.
Ее чем-то кололи – таким, от чего немного спустя будто проваливалась в некое существующее рядом с обычным, безвременное, не пропускавшее в себя никаких звуков извне пространство, мир сворачивался до его пределов, замыкался в нем, и так длилось несколько часов. А только начинала рушиться невидимая, неосязаемая перегородка, отделявшая ее от обычного, широкого мира, вкатывали новый укол, и он снова сшибал с ног, и сейчас, спустя полторы недели, она уже не очень хорошо понимала, что делает и что говорит.
– Ох, извините, у меня от этих ваших уколов… – Она приложила руку ко лбу и попыталась улыбнуться. – Я так сказала: не принадлежу себе? Не знаю, к чему я это. У меня ум за разум заходит от ваших уколов.
Она не могла припомнить своих слов, но что она имела в виду, проговорившись, – знание этого было с нею. И она не должна была раскрываться дальше, она должна была обвести врачиху вокруг пальца, – так что-то внутри подсказывало ей.
– Это очень важно, чтобы вы прояснили, что вы имели в виду. Для вас важно, – настаивая, однако, на своем, внушающе произнесла врач. – Чтобы мы знали, с чем в вас бороться. Постарайтесь, пожалуйста, соберитесь. И уколы здесь ни при чем.
– А что значит, для меня важно? – спросила Альбина.
– Для вас, чтобы вы были здоровы.
– А я не здорова?
Выражение лица у врача было все так же профессионально приветливо, и только углы губ отозвались летучей складкой надсадной терпеливости.
– Вот мне и нужно понять, насколько вы нездоровы. Чтобы лечить вас. И вы мне должны помочь в этом.
– Да, с нервами у меня стало скверно, – согласилась Альбина. – Я и не скрываю. Я уже и сама ходила к врачу, вы же знаете.
Наверное, подумалось ей, они специально колют ее этими лекарствами, чтобы она плохо соображала, проговаривалась – а они бы ловили ее на обмолвках, и так бы выведали ее тайну. Она сейчас очень остро чувствовала, что живет с тайной, о которой не может, никак не должна проболтаться, – ни в коем случае, ни в коем, а проболтается – все пропало. Странным образом буквально через день-другой, как оказалась в больнице, все события минувшего лета исчезли из нее, будто их и не было, провалились куда-то и сгинули; как невыносимо было, как больно, невозможно терпеть – так больно, хоть умри – так больно, когда объявил ей о своем решении, и какое сумасшествие все лето: принималась ждать новой встречи с ним, едва расставшись, – а тут лишь вспоминался иногда, и так тускло, так блекло – не могла увидеть отчетливо его лица. Зато постоянно, каждое мгновение, и даже когда проваливалась в те глухие, черные дыры, в которые они запихивали ее своими лекарствами, стояло перед глазами другое лицо, и сердце точилось и точилось виной перед Ним: не думала о Нем, забыла, так навредила Ему… Нет, конечно, лично врачихе тайна ее не нужна, лично ей – ни за чем, и тем отвратительнее, что так выведывает, так настаивает, чтобы открылась… с какой стати?
Особенно сейчас, вот в эти дни, чувствовала Альбина, не должна она раскрыться, сейчас самые те дни – когда ни в коем разе, пусть хоть пытают – но ни за что!
– Напрасно вы таитесь, – доброжелательно, сердечно глядя на нее, произнесла врач. – Вы только хуже себе делаете. Скажете все, что вы чувствуете, что вас мучает – и мы тогда сможем вам помочь. А то мы что же сейчас. Наощупь. И вам плохо, и мы неудовлетворены.
– Я ведь телевизор сегодня смогу смотреть, да? – по неясной для самой себя логике спросила Альбина.
– Телевизор? – непонятливо переспросила врач.
– Ну да, телевизор. Раз я теперь… это… уже не там.
Она только второй день как была переведена в «легкую» палату, а до того лежала в «тяжелой», выходить оттуда было нельзя, и даже в туалет следовало отправляться в сопровождении санитарки с постоянным ключом на запястье, и после, все время, что ты находилась в кабинке, та стояла около нее, спрашивала то и дело: «Ну, долго еще?!» – и нужно было непременно отозваться.
Врач, наконец, поняла насчет телевизора.
– Да, безусловно, смотрите сколько угодно, раз вы теперь в другой палате.
– Ага, – удовлетворясь ее ответом, сказала Альбина. И улыбнулась. Ей стало удивительно хорошо от того, что врач подтвердила ее право на телевизор. Как-то необыкновенно хорошо. И на мгновение она расслабилась, потеряла контроль над собой. – Нервы у меня действительно… Вот сегодня, например… – Она осеклась.
– Что сегодня? – тут же встрепенулась врач.
Сегодня, откуда-то было известно Альбине, из всех этих особенных последних дней самый особенный, и, хотя лекарства, которые ей кололи, должны были гасить все ее эмоции, на деле все в ней внутри снова, как бывало прежде, дрожало и звенело натянутой тетивой.
– Сегодня мне, например, все время хочется плакать, – ответила она врачихе, – совсем не то, в чем было едва не призналась. Говоря это, она знала, что делает себе хуже, потому что если ей хотелось плакать, это значило, что ее следовало колоть и колоть, увеличивая дозы, дабы в ней не возникало подобных желаний, но она должна была сбить врачиху со следа, должна была перестраховаться, не могла и близко подпустить ее к своей тайне, – и это было важнее всего. Отуманенный ее мозг каким-то непостижимым образом очень хорошо соображал, как схитрить наилучшим манером.
Врач, глядя на нее все с тою же терпеливой сердечностью, посидела в раздумье.
– Ладно, идите, – отпустила она ее затем.
Сегодня врачиха явно не очень хотелось возиться с Альбиной. Была суббота, конец недели, и ей, как всякой женщине, хотелось освободиться нынче пораньше.
Для Альбины день недели не имел никакого значения. Для нее было существенно, что 1-е октября. Первого октября, знала она. Первого октября, дрожало в ней натянутой тетивой, и Боже, как давно с нею не случалось подобного!..
Телевизор стоял в общей комнате, имевшей название комнаты отдыха, его включали в семь вечера, после ужина, и уже без десяти семь, едва отужинав, она сидела в кресле перед ним. Никакие передачи до девяти ее не интересовали, но телевизор был выпуска старых лет, с маленьким, утопленным внутри экраном, и, чтобы хорошо видеть изображение, следовало сидеть строго напротив экрана. Кресел же перед телевизором на всех желающих не хватало, и, чтобы наверняка иметь удобное место к выпуску новостей, следовало занять кресло прямо сейчас и ни на минуту не покидать его. Ей нужно было проверить, так ли все, как обязано было произойти. Ей требовалось удостовериться. И в том ей не должно было существовать никаких помех, ничто не должно было воспрепятствовать ей.
«Сообщение ТАСС», – объявил диктор.
– Замолчите все! – яростно крикнула она на кого-то сбоку, вдруг зашептавшихся.
На экране под голос диктора, с деловитой торжественностью читавшего текст постановления, принятого особой сессией Верховного Совета, появилось Его лицо. Портрет, как всегда, был выбран такой, чтобы похожее очертаниями на материк Африки родимое пятно надо лбом, справа от теменной кости, было почти незаметно, и это, неожиданно для нее самой, почему-то взбесило ее. «Идиоты!» – не удержавшись, ругнулась она про себя.
Но больше у нее не было поводов для огорчений. Все произошло как надо. Как тому следовало произойти. Он переиграл противодействовавших Ему. Теперь в его руках сошлись все нити, теперь, если отказывалась действовать одна, он мог потянуть за другую, события середины лета были нейтрализованы.
Диктор дочитал основное постановление, Его портрет исчез с экрана, диктор начал читать другие постановления, сопутствующие – «назначить», «на пенсию», «в связи с переходом на другую работу»[44], – и она встала и, шаркая, с трудом переставляя ноги, побрела к себе в палату. Все в ней во мгновение ока обмякло, обвисло, одрябло, – не звенело никакой тетивы, ничего не дрожало в напряжении. Ее мутило от слабости, шатало, перед глазами стоял туман. Словно она переработала, перетрудилась физически. Словно зашла за предел своих возможностей, – и вот сказалось.
Как она потеряла сознание, Альбина не помнила. Она лишь неожиданно ощутила, что летит со страшной, неимоверной, невиданной прежде скоростью на качелях, ее болтает из стороны в сторону, дергает, будто некто, невидимый ей, пытается сбросить ее на полном ходу – чего никогда до того не бывало, ужаснулась – и обнаружила себя лежащей на топчане в процедурной, а над нею склонялся врач – не ее врачиха, а, видимо, дежурный, мужчина из мужского отделения. Лицо его было сурово и недовольно.
– С чего бы вы это? – спросил он немного погодя, убедившись, что она окончательно пришла в себя. – Я карту посмотрел, вам еще ничего не вводят, чтобы подобные фокусы выкидывать.
– Все равно вам ничего не удастся, – ответила она и, ответив, мгновение спустя, осознала, что ответила, не понимая, что говорит, будто бы не она ответила, а некто посредством ее.
– Что же это нам не удастся? – отозвался врач, и было в его голосе такое, что она моментально ощутила: следователь, следователь!
И тотчас к ней вернулась эта удивлявшая ее самое хитрость.
– Ой, я думала, что сон… Ой, я же не ложилась, действительно… я же в палату шла. Что со мной случилось?
На этот раз врач словно не услышал ее. Некоторое время он внимательно вглядывался в Альбину, будто хотел что-то вычитать в ее глазах, потом поднялся с топчана.
– Ничего страшного не случилось, надеюсь. Давайте-ка в палату. Попробуем.
Ноги были совершенно ватные. Под одну руку ее поддерживал врач, под другую медсестра, без их помощи она бы точно, что не дошла.
Через день был консилиум – с нею вели беседу сразу трое врачей, рассматривали, как куклу, допытывались, бывают ли галлюцинации, – и после консилиума ей начали вводить инсулин. Это что, это зачем, пыталась выспросить она у своей врачихи. Чтобы вам лучше было, хотим вам помочь, отвечала та. От инсулина у нее начали трястись руки, стало невозможно читать – так прыгали буквы перед глазами, кроме того она начала стремительно толстеть, буквально пухнуть, прибавляя в весе едва не по полкилограмма каждые два дня, и, глядя на себя в переданное ей тайно Ниной во время свидания зеркальце, она заметила, что глаза ее день ото дня и в самом деле все больше и больше наливаются словно бы безумием.
Это тебе шок будут устраивать, объяснила ей в новое свидание Нина. Она достала там у себя на свободе необходимые медицинские книги и прочитала. Чтобы в твоем мозгу всякие твои причинно-следственные связи разорвать. Доведут тебя до края, а потом новый укол – и отведут.
– До какого края? – недоуменно спросила Альбина.
Нина помялась.
– Ну, это… до комы.
– До какой комы? – Альбина не знала такого слова.
Нина снова замялась.
– Ну! Какой комы?! – не удержалась, прикрикнула на нее Альбина. И на короткий миг почувствовала прилив раздражения к Нине, едва не такой же, как обычно к мужу.
– Ну… это – сбиваясь, начала объяснять Нина. – Это когда почти умираешь… такое состояние. А тебя из него выводят… вернут обратно. И это такое потрясение для всего организма… для психики… ты тогда забываешь, что у тебя неприятное было. Представь себе доску: было на ней что-то написано – и стерли. Вот то же. Стирается в тебе, и ты излечиваешься.
– От чего мне нужно излечиваться?
– Ой, господи, ну от чего! От него, от сопляка этого! Примитив такой, полный примитив, ты уж извини, я тебе раньше не говорила, но уж теперь-то! Совсем сошла с ума с ним. Он это тебя довел! Это у тебя все от него!
Альбина невольно улыбнулась. Не замечательной логике Нины, которая прежде обещала ей сумасшествие в случае, если не заведет себе любовника, а тому, что не сразу поняла, о ком Нина ведет речь. Она и без того уже не помнила о своем любовнике. Почти не помнила. Как странно. А ведь вправду, такое сумасшествие было: день без встречи с ним – все равно что и не жила этот день. Вот что она помнила, так то чувство: как не жила. А если что и вспоминается из всего лета, так даты. Двадцать восьмое июня и девятнадцатое сентября. Они одни. Как два ограничительных барьера, как две гигинтские скобки, замкнувшие в себя без малого три месяца ее жизни. И вспоминаются часто, ни с того ни с сего, без малейшего повода, и всякий раз, как вспыхнут в памяти, такая в груди непосильная горечь, такая боль – ори благим матом.
– А если они не успеют меня вывести из этой… комы этой? – боясь спрашивать и все же преодолев себя, решила она вернуть Нину к начатому той разговору. – Я что, и умереть могу?
Нина замахала руками.
– Ну, хватит, ну, дура! Обрадовалась, что ли? Фиг тебе! Не можешь умереть! Не дадут!
Свидание их происходило во время прогулки, прогулки проводились на огороженной высокой металлической сеткой площадке наподобие теннисного корта, только немного побольше и с несколькими одиночными кустиками посередине, они стояли около этой металлической изгороди, с разных ее сторон, а внутри площадки, за спиной у Альбины ходили по кругу другие обитательницы ее отделения, которым сегодня по их состоянию было разрешено выйти на свежий воздух. Нина не произнесла, а почти прокричала свой ответ – «Фиг тебе!.. Не дадут!..» – на них, почувствовала Альбина, уставилась вся площадка, а ее соседка по палате, доставленная в больницу три дня назад в маниакале, ее одногодка – только это и знала о ней Альбина, быстрым шагом приблизилась к ним, остановилась рядом, около несущего бетонного столба изгороди, и, приложив сжатый кулак к уху, словно телефонную трубку, постучала пальцем другой руки по невидимому рычагу телефонного аппарата на столбе, и накрутила невидимым диском номер.
– Але, Маргарита Изольдовна? Маргарита Изольдовна, говорю? Срочно! Срочно, говорю! Немедленно сюда! Тут одна суицидить собралась, срочно ее в смирительную и стеллазин в жопу!
Маргарита Изольдовна – было имя их врачи.
Маниакальщица положила трубку и бросила Альбине:
– Сейчас придет, пойдешь на растяжку, дура. Жить надо, понятно?
На губе ее висела истлевшая папироса «Беломорканал», она сплюнула ее и, шагнув к ним поближе, протянула руку к Нине:
– Дай закурить, не то прямо в Ассамблею ООН сейчас позвоню. Не те времена, Америка нас в обиду не даст. Рейган вам прямо в лоб, а то перестройка да гласность, а курить не хрена. «Мальборо» давай или «Кент», нас больше не запугаешь, накурились «Беломора» – теперь не хотим.
Нина с недоумением посмотрела на Альбину. Она не понимала: это всерьез или такая шутка, игра такая? Альбина, впрочем, не знала того сама.
– На тебе, – достала она свои «Столичные» – только что, десять минут назад переданные ей тою же Ниной, – вскрыла пачку и постучала по донышку, чтобы сигареты выскочили наружу. – Это «Кэмел» на самом деле. Ну, для маскировки, на всякий случай…
– Блядь, Политбюро сраное, – сказала маниакальщица, беря из пачки две сигареты, понюхала их и одну сунула в рот, а другую заложила за ухо. – Гласность, гласность, а все равно маскируйся и маскируйся. Как шпионка какая. Наостофиздило до чего шпионкой жить, скажи, да?
– Тогда раскройся, – не зная, как ответить, но уже зная по опыту общения с нею, что ответить нужно, сказала Альбина.
– Я тебе раскроюсь, я тебе раскроюсь! – с неожиданной угрозой, даже вынув сигарету изо рта, проговорила маниакальщица. – Ишь, выискалась. Раскрываться! Тебе что, это с мужиком: раскрываться? Назначили – терпи! Христос терпел – и нам велел. Ясно?
Вроде бы все это было бредом, что она говорила, какое все это могло иметь реальное отношение к Альбине? но они встретились глазами – взгляд во взгляд, – и Альбину с ног до головы пробрало морозом. Она увидела, с испугом и изумлением, что глаза у маниакальщицы такие весело-шальные, такие заговорщицкие, – будто та действительно знала ее тайну и так вот иносказательно намекала на то и давала наставления. И следом вспомнилось, что после того, одного раза больше не заходила в церковь, а ведь ей тогда стало лучше, словно какую силу в себе почувствовала, легкость, спокойствие!.. Ей обязательно нужно в церковь, обязательно, как она забыла о ней!
– А ты крещеная? – спросила она Нину, когда маниакальщица, прикурив через сетку забора от Нининой зажигалки, ушла обратно на круг.
– Ну, крещеная, – сказал Нина.
– В церковь заходишь?
Нина пожала плечами.
– Да нет. Чего мне там. А что?
– Сходи, – попросила Альбина. – Подай там, ну, окошечко будет или стол, я не знаю, подай записку – за мое здоровье.
Нина не ответила ей. Стояла, смотрела на нее, и в глазах ее было такое выражение, будто Альбина требовала от нее чего-то невозможного – словно бы пожертвовать собственной жизнью.
– А ты ж вроде некрещеная, – сказала она наконец.
– Нет, не крещеная. И что?
– А то, что не приобщена. А не приобщена – не положено. Будто бы, если не приобщен кто, не действует молитва.
Для Альбины это было открытием. Как странно. Неужели так может быть?
– Все равно, – сказала она, подумав. – Напиши – и отдай. А спросят, скажи – крещеная. Подумаешь, понимают они, действует, не действует. Откуда им знать? Они тоже люди. Как мы. Выдумали себе правила.
– Я лучше сама за тебя, – помолчав, отозвалась Нина. – Схожу и помолюсь, как умею.
– Нет. – Альбина никак не могла взять в толк, откуда в Нине такое несвойственное ей упрямство. – Сама – это сама, сама – это что ты, что я, все одно. Пусть они. Чтобы они именно. Подумаешь, установили правила!
Теперь Нина не ответила ей совсем. Стояла там, смотрела на нее сквозь ячею разделяющей их металлической сетки и молчала. Молчала, – и молчание длилось, длилось, и Альбине стало бесповоротно ясно, что Нина не сделает для нее того, о чем она просит. Не сделает, сколько ни проси. Может быть, все, что угодно другое, – но не это.
– Ладно, – вынуждена была отступиться Альбина. – Позвони тогда моему: пусть ко мне не приходят. Ни он, ни ребята. Ни в коем случае. Так и передай: ни в коем случае.
Она не хотела видеть никого из них. Даже сыновей. Ей хотелось забыть обо всем, что было ее обычной жизнью. Выпасть из нее – и остаться с одною собой, наедине со своим, без всяких связей с другими людьми. Пусть это даже будут ее дети. В конце концов, они уже взрослые, обойдутся и без нее. Она знала, что нежелание видеть близких людей считается здесь за явный признак болезни, но ей было все равно. Ну, пусть считают. Их дело. Пожалуйста. Бога ради. Главное, ничего не сказать. Ни в чем не открыться им. Главное, чтоб они не проникли в ее тайну, – а все остальное не имеет никакого значения.
16
Словно бы что-то выходило из нее. Выталкивалось изнутри, лезло наружу сквозь каждую пору ее тела, выхлестывало фонтанчиками – как выплескивалась через край закипевшая вода в переполненном котле. Хотелось кричать. кататься по полу, грызть зубами спинку кровати, тумбочку, стул – на что попадет глаз, брань рвалась с языка, и невозможно было ее сдержать.
Последняя волна рыдания прокатилась по ней, сотрясла в утробном рычании, и она почувствовала, что все вокруг начинает светлеть, проясняться, успокаиваться – будто ее носило по бушующему морю и вот прибило к берегу.
– А-ах!.. – с облегчением выдохнула она, вытягиваясь на кровати, закрывая на мгновение глаза и вновь открывая. Умиротворяющая обессиленность была во всем теле, даже, пожалуй, благостная, счастливая обессиленность.
– Ну, матушка, ну, дала опять! – проговорила над ней санитарка, дежурившая около нее, пока она выходила из комы. – Прямо всех святых выноси!
– Ну, я же не виновата, – сказала она, сконфуженно и счастливо улыбаясь. – Наверно, все я. Все, да?
– Все, все, – подтвердила санитарка. – Раз лыбишься. Хорошо?
– Вроде так, – согласилась Альбина.
– Значит, действует, выходит из тебя болезнь. Маргарита Изольдовна, – понизила санитарка голос, – очень довольна, как из тебя выходит. Так дело пойдет, скоро дома будешь. Соскучилась по дому-то?
Альбина смотрела на санитарку, наклонившую над ней, и видела ту насквозь. Она ответит, а санитарка понесет ее ответ врачу, и врачиха будет делать из этого ответа свои далеко идущие, глубокие выводы.
– Больница есть больница, – чтобы ответить и не ответить ничего, уклончиво сказала она.
На самом деле ей вовсе не хотелось домой. Нет, и в больнице не было ничего хорошего, о чем разговор, но домой не хотелось совершенно. Она находилась здесь уже едва не три месяца, без малого, без десяти дней три месяца, изрядный срок – как ни считай, она устала от больницы, ей хотелось вырваться из нее – да, но вот домой – нет, не хотелось, нисколько. Впрочем, не то что не хотелось. Казалось невозможным вернуться туда. Непосильным. Боже милостивый, она ненавидела свой дом, как же так! Она всегда любила его, вот еще тогда, в ту весну, когда обнаружилась дохлая собака, она стояла, смотрела на дом из того запущенного, заросшего бурьяном угла – и так стискивало от любви сердце, так сжимало… она помнит это, это было! И вот сейчас, оказывается, она его ненавидит!..
– Что такое? – спросила санитарка.
Чувство счастливой освобожденности высачивалось из Альбины, как вода, нашедшая для себя прореху, как сухой песок, подобный воде в своей сыпучести – безвозвратно, невосстановимо, и санитарка опытным глазом все заметила.
– Ничего, – попыталась улыбнуться Альбина.
И так всегда, каждый раз: никак не удержать в себе этого приходящего света, этой ясности; мгновение освобождения – и оступ, срыв, провал обратно в казематную тьму.
– Как же ничего, я что, не вижу, – сказала санитарка.
– Ой, отстаньте! – закричала Альбина.
Все будет передано врачу, и врачиха пометит в своей карте, что улучшения не наступает, и ее будут дальше и дальше колоть инсулином, она будет лежать здесь и лежать…
Вечером, к выпуску новостей она поползла смотреть телевизор. Она давно уже не смотрела его – ни фильмы, ни новости, – не было в ней никакого любопытства к тому, но сегодня вдруг ее начило томить некое беспокойство, не понимая его причины, она промаялась некоторое время и затем поняла, что это ее почему-то тянет послушать новости по телевизору.
Телевизор, однако, не работал. В комнате около него толклась толпа, и дежурная медсестра объясняла: «Перегорели предохранители. Предохранители перегорели, что я могу поделать?» Но странным образом никто ей почему-то не верил, все были возбуждены, не хотели расходиться, и Альбина тоже вмиг словно бы вся взвилась внутри и, даже не зная, какой разговор шел здесь до нее, потребовала:
– Зовите дежурного врача! Безобразие какое!
При чем тут дежурный врач, чем он может помочь, если действительно перегорели предохранители, – она и не подумала о том. Сорвалось с языка, и все.
Однако, какая бы причина тому ни была, телевизор не работал, дежурного врача медсестра не вызвала, и в конце концов пришлось расходиться.
– Специально отключили, паразиты такие, – вытирая слезы рукавом халата и всхлипывая, сказала, шаркая тапками рядом с Альбиной, та самая маниакальщица, что когда-то на прогулке собиралась со столба забора звонить в ООН в Америку. За это время, что Альбина лежала в больнице, она успела подлечиться и выйти и поступила несколько дней назад по-новой, только теперь она находилась в депрессии, постоянно, чуть что, плакала и была вялая – еле ходила.
– Зачем им отключать, что за резон? – настораживаясь и почему-то поверя ей, спросила Альбина. – С какой стати?
– С какой-какой, – сказала маниакальщица, швыркая носом и снова утираясь рукавом. – Чтобы нас не расстраивать. Какие-нибудь там сообщения дурные. Всегда отключают, когда сообщения какие-нибудь. Дура я, что ли.
– Какие такие сообщения? – Все в Альбине так и отозвалось тревогой, будто неосознанно, внутри себя, она уже знала о чем-то дурном – грандиозном, ужасном по масштабам, – но вместе с тем знание это было недоступно ей и требовало подтверждения прямой информацией.
Маниакальщица, отвечая ей, вся скривилась в гримасе боли:
– Откуда я знаю, какие сообщения? Видишь, таят от нас? Ничего не узнаешь, ничего, таят и таят!
И Альбину вслед ей тоже так и затрясло: таят, таят!
И трясло всю ночь – не могла уснуть; измаявшись, ходила к медсестре, просила снотворное покрепче, хотя давно уже, наученная опытом, не делала подобного: обо всем будет доложено, и врачиха сделает свои выводы и из этой ее просьбы. А утром на прогулке после завтрака, разговаривая через забор с давно не навещавшей ее Ниной, перебив самое себя, спросила неожиданно:
– Слушай, что такое «спитак»?
– Спи-так? – недоуменно переспросила Нина.
– Ну да, «спитак». – Откуда-то в ней сидело это слово, мучило ее своим непонятным смыслом, какой-то своей неясной связью с вошедшей в нее вчера тревогой, и требовалось избавиться от мозжащей боли незнания.
– Спитак, спитак – повторила Нина, раздумывая. И вспомнила – Так как – «что такое»? Город этот самый…
Ну да, ну да, тотчас вспыхнуло в Альбине, это же название населенного пункта. Конечно. Где-то в Армении, кажется.
– А почему «этот самый»?
– Ну, как почему… ну… странно, сама ведь знаешь.
– Много погибло? – Опять же откуда-то Альбине было известно, что название «Спитак» связано с гибелью людей.
– Да там… – Нина запнулась. Очевидно, известия были скверные. – Там, вообще, не знаю сколько. А если повсюду считать, вроде бы около семидесяти.
– Семидесяти человек? – В Альбине все ахнуло.
В глазах у Нины она увидела удивление.
– Каких человек, ты что. Тысяч.
Альбина решила, что неверно поняла Нину. Откуда могла взяться такая цифра. Но все же она переспросила:
– Семьдесят тысяч?
– Ну да. Спитак совсем разрушен, там единицы спаслись, а еще всякие другие города… и в общем около семидесяти. Ужасное землетрясение[45].
Альбина смотрела на Нину – и не могла теперь выговорить ни слова. Вот что, значит. Землетрясение. Семьдесят тысяч. Вот почему они не дали вчера включить телевизор…
Но почему она знала название этого разрушенного города? Ведь она же ничего не слышала о происшедшем. И знала о гибели людей. Каким образом? Откуда в ней взялось это знание?
Словно бы черная молния беззвучно полыхнула у нее перед глазами. Земля под ногами разверзлась, и она оказалась в непроницаемом, глухом мраке некоего не имеющего границ пространства, она летела в нем с жуткой скоростью, падала куда-то, беспомощно, кукольно кувыркаясь, и такая ледяная тишина давила на барабанные перепонки! Качели опять стояли, маятник снова замер, маховые колеса вновь с бешеной скоростью раскручивались в обратную сторону, еще немного, буквально миг – и непоправимое произойдет, случится – и не поправишь…
Мгновение, тысячную долю секунды находилась она в том пространстве, – и снова очутилась у металлической сетки забора с Ниной, стоящей с другой стороны, было начало зимы, земля уже укрыта снегом, десятиградусный мороз каленил воздух, и шаги остальных обитательниц женского отделения психбольницы, ходивших за ее спиной вокруг голых, сквозящих кустов посередине площадки, были хрустко-скрипучи – звучны и сочны.
Качели стояли! И она совсем не вспоминала о Нем! Не вспоминала, не думала о Нем совершенно, – уже давно, уже целую прорву времени, это надо же, как же так получилось, что она не думала о Нем?! Все, ради чего Он был призван, висело на волоске, а она оставила Его без своей защиты!
Боже мой, осознала она, семьдесят тысяч. Ради того, чтобы она очнулась. Какая цена. Боже праведный, какая страшная плата! Жить теперь с этим… Если бы Нина исполнила тогда ее просьбу о церкви, может быть, ничего бы подобного не случилось…
– Я тебя вот о чем умоляю, – сказала она, с таким трудом ворочая языком, будто он был пришит к нёбу. Её всю трясло, словно стояла на этом десятиградусном морозе без всякой одежды, совершенно голая, и она ненавидела себя, ненавидела Нину, ненавидела врачей-следователей, оглушавших ее своими дикими лекарствами. – Позвони моему, пусть придет. Мне с ним поговорить нужно.
– Мужу твоему? – удивленно уточнила Нина.
Еще ни разу за все время, что лежала здесь, Альбина так и не позволила ему появиться у нее.
– Мужу, мужу, – подтвердила Альбина. – Иди прямо сейчас, сейчас прямо и позвони. Пусть прямо сегодня придет, к вечерней прогулке. Скажи: обязательно! Может, не может… Пусть на уши встанет – а будет!
И вечером, в густеющих сумерках, когда еще не зажглись дворовые фонари, но темно уже было так – не разглядеть чужого лица в метре от тебя, глядя через эту же ячею металлической изгороди на неразличимое чертами лицо мужа за нею, приказала ему:
– Вытаскивай меня отсюда! Правдами, неправдами… Как засадил, так и вытащи. Власть у вас еще есть, – вытаскивай. Не вытащишь – хуже будет. Тебе будет хуже. Обещаю.
Сейчас, к вечеру, она чувствовала в себе неожиданный для нее самой прилив сил, словно бы некто невидимый собрал в комок всю ее волю, она ощущала в себе удивительные по сравнению с утром твердость и уверенность, и эти твердость и уверенность, слышала она, звучали в ее голосе, и знала, что муж подчинится ей, не посмеет не подчиниться.
17
Она вышла из больницы под Новый год.
Черная персональная машина мужа несла ее по заснеженным, утопшим в сугробах, белым улицам города, ее распирало от жадности схватить глазами как можно больше, освежить себя картинами давно не виденной вольной жизни, приникала к окну, смотрела мгновение – и опускалась обратно на спинку: плоть жаждала, а душе недоставало энергии на впечатлении, душа отказывалась от них. Вся ее энергия эти минувшие три недели, как поняла, что ей необходимо срочно вырваться из больницы, уходила на то, чтобы держать, не упускать из поля внимания Его. И таких усилий, такого напряжения воли стоило перебарывать действие всех этих лекарств и процедур, которыми трамбовали ее сознание! Боже праведный, допустить, чтобы с нею сотворили подобное, угодить сюда, провести тут полные три месяца, извести их неизвестно на что!..
В машине по дороге муж сообщил ей новость. Оказывается, старший сын за это время, что она лежала в больнице, женился – на той самой девушке, которую приводил летом для знакомства, – и они жили теперь у них дома.
– У нас?! – воскликнула она.
Собственно известие о женитьбе сына она восприняла абсолютно спокойно, оно как-то не задело ее, женился и женился, подошла пора – и женился, повезло, не повезло – все равно узнаешь только потом, а то, что они поселились у них, ее взволновало. Получалось, у нее не будет своей, отдельной комнаты, не выйдет, как она надеялась, изолироваться от мужа, придется быть вместе с ним. А ей сейчас так нужно сосредоточиться на своем!
– А квартиру они что, не могли снять? – спросила она.
– Какое снять, – сказал муж. – Какие цены сейчас заламывают, знаешь?
– Что уж, у нас, – она выделила голосом «у нас», – даже у нас таких денег нет?
Муж на своем переднем сидении рядом с шофером поиграл мышцами челюстей.
– У нас-то сейчас как раз и нет.
– Как это? – не поняла она.
– Так это. Куда дело идет, не знаю, а только знаю, что не туда, куда бы следовало.
– Очень жалко, – сказала она, не особо вникая в смысл его ответа и понимая лишь то, что снять квартиру для сына невозможно. – Ну, а… собственную им сделать? Пусть не новую, пусть в старом каком-нибудь доме… собственную им если?
Взгляд, каким ее наградил муж, указав при этом на шофера рядом, свидетельствовал о том, что она совершила чудовищнейшую непристойность. Словно бы обнажилась в публичном месте.
Машина подкатила к дому, они выбрались из нее, пошли, хрустя снегом, к калитке, и он сказал, с явным трудом не позволял голосу налиться яростью:
– Можно о таких вещах без посторонних?! Мог бы сделать квартиру – что, не сделал бы? Уже бы имели! Ни хрена теперь, совсем кислород последние дни перекрыли… какое на нас наступление кругом идет, не знаешь? Продает нас со всеми потрохами, о себе только и думает!
– Кто? – спросила она.
– Кто! Этот, меченый, кто еще!
– А-а, – протянула она, решая не ввязываться с ним в схватку. Ее не задевала его ярость. ей было все равно, что он испытывает. Пусть называют Его меченым, пожалуйста. От Него не убудет.
Она вдруг вспомнила о своем младшем. А может быть, как старший женился, так того за это время забрали в армию, и тогда одна комната свободна, и она может получить ее в свое распоряжение? Ведь он же не поступил в институт, осенью ему был срок призываться, и может быть, раз дела так плохи, мужу не удалось укрыть его от призыва?
На оборонном заводе, ответил муж на ее вопрос. Работа не пыльная, с компьютерами, год пересидит на брони, а там будет видно.
Чувство вины, что она хотела блага для себя за счет собстенного сына, иголочным уколом мелькнула в ней и исчезло. Все в ней было нацелено на одно: не допустить больше того, что случилось. Найти способ, не допустить.
Дома уже стояла, празднично блестя золотом и серебром украшений, новогодняя елка.
Невестка, в ожидании знакомства с нею, тоже вырядилась такою елкой: какое-то блестящее, сверкающее металлической ниткой платье, блестящее колье и блестящая золотая цепочка на шее, блестящие серьги в ушах. Ну, в общем, девка и девка. Очень рада, холодно сказала Альбина, здороваясь с ней. Поздравляю!
Оказавшись в комнате, она первым делом разделась, не оставив на себе ничего, открыла створку платяного шкафа со сверкающей пластиной полномерного, большого зеркала внутри, которого была лишена все эти месяцы, и посмотрела на себя. Она была круглая, как колоб. Талия совершенно слилась с бедрами, а тазовые кости исчезли, и было невозможно не только увидеть их, но даже прощупать, выпер вперед живот, висела, переполненная салом, как два бурдюка, грудь, висели, наползая одна на другую, жировые складки на ребрах, маленькие прежде, аккуратные ягодицы бугрились двумя чудовищными ядрами. Что они с ней сотворили, это надо же! Они хотели сделать из нее корову, жвачное животное, тупоумную скотину, не слышащую ничего, кроме урчания пищи в собственном пищеварительном тракте!
За столом, по случаю ее возвращения домой накрытым с праздничным, уже совсем новогодним размахом, она не притронулась почти ни к чему. И после, за чаем, отказалась даже от самого крохотного кусочка великолепного, украшенного и цукатами, и орехами, и шоколадом бисквитного торта, испеченного в ресторане по специальному заказу. Невестка сидела с вытянувшимся, задеревеневшим лицом, – это она устраивала нынешний стол. Вытряхнулась, наверно, до дна, чтобы угодить свекрови.
Старший сын чувствовал себя, похоже, как на раскаленной сковороде. Его всего так и корчило, – он едва сдерживал свои чувства.
– Ну, мам, ну ты что! – сказал он, когда она отказалась от торта. – Сейчас с продуктами, знаешь, как трудно стало? Знаешь, как все это тяжело доставать? У папы вон даже его наборы… и половины прежнего нет!
– Ну что же мне теперь, трескать ради вас за обе щеки? – произнесла она с тайным, не вполне ей самой понятным злорадством. – Мне сейчас бутылку кефира в день – и достаточно. Вы мне добра или чего желаете?
Никто ей не ответил, все за столом покорно молчали и прятали от нее глаза.
Получили?! – билось внутри нее все то же злорадное, победное чувство. Они все были ненавистны ей. И сыновья тоже. Расстарались для нее! Не нужно ей ничего, оставьте ее своей заботой, оставьте в покое, нет у нее никаких интересов – кроме одного, – но о том вам не знать!
Праздновать с ними наступление Нового года она не стала вообще.
Младший сын, тот ушел отмечать его в какую-то свою компанию, и ничто, никакая сила не могла бы удержать младшего дома, а старший с невесткой остались дома специально, – чтобы у них с мужем было бы общество, но она дождалась только двенадцатого удара кремлевских курантов по телевизору, соединила свой бокал в звонком хрустальном пении с их тремя бокалами, коснулась губами остро стреляющего пузырьками газа ледяного шампанского и отправилась спать. Еда на столе, в приготовлении которой на этот раз она уже приняла участие, ничуть ее не прельщала, и ничуть не влекли предстоящие выступления артистов по телевизору. То, что ее по-настоящему волновало, что действительно жаждала увидеть, – это она уже увидела. Она увидела Его. Он появился на экране телевизора минут за десять до наступления Нового года, как то обычно случалось все предыдущие годы, произнес приветственное слово к народу страны от имени ее руководства, – она не слушала его речи, речь его была абсолютно не важна ей, она всматривалась в его лицо. Она не видела Его, да чтобы таким крупным планом, так близко, так ясно, уже уйму времени, она стала забывать его черты в их подробностях, стала забывать выражение его глаз, интонации его голоса, а это было самое важное для нее: в любой миг представить Его перед своим внутренним взором и слухом, увидеть Его и услышать в себе; и она сидела, отключившись от всего, впитывала его в себя и когда Он исчез с экрана, у нее не осталось никакого интереса сидеть за столом со всеми.
Муж, немного погодя, как она ушла, появился у нее в комнате.
– Ну, слушай, ну, неудобно! Новый человек в нашем доме… Что подумает?
– А что угодно, – ответила она, раздеваясь. – Мне все равно. Я только что из больницы. Кто меня туда закатал? Я сама, что ли? Давай-ка вот откалывай денежки, в чем я на работу пойду? Вон меня разнесло – ничего не лезет!
Она специально вела себя с ним так, чтобы он постоянно, ежеминутно чувствовал себя виноватым. Гад такой! Пропустить бы его через все эти шоки.
Невестка, однако, попалась, кажется, не очень обидчивая и вызвалась сопровождать ее в походе за покупками, помогать выбирать платье. Впрочем, ей, наверное, и просто интересно было оказаться в этом знаменитом закрытом магазине, о котором слышал, пожалуй, каждый в городе, но попасть куда, стремись, не стремись, можно было, лишь принадлежа к настоящей власти.
– Ой, какая прелесть! Ой, какое чудо! Ой, это надо же, я и не думала, что у нас такие вещи умеют делать! – восклицала невестка, ходя между стойками с одеждой, висящей на плечиках, трогая дубленки, оглаживая шубы, откидывая перед собой, чтобы разглядеть хорошенько, блузки, платья, костюмы. – Ой, я бы тоже хотела как-нибудь получить талон сюда. Я бы здесь выбрала!
Альбина думала, слушая ее: девка! девка и девка! Пускать такие слюни из-за тряпок!..
Вдруг в какой-то момент она обратила внимание, что невестка прекратила свое щебетание и смотрит на нее с испугом. Так, если б открыла у нее рога на голове. Или, наоборот, полыхание нимба.
Она примеряла отрезной – юбка и пиджак – костюм делового кроя, стояла перед зеркалом, старалась представить себе, как будет выглядеть в нем на работе. И взгляд невестки она заметила в зеркале, видела себя – и видела ее за спиной, и если б не так, то, наверное, не поняла бы, в чем дело, но видела ее испуганный, остановившийся взгляд и видела себя – и поняла.
Оказывается, оглядывая себя в зеркале, она одновременно держала руки перед собой, пальцы были сжаты в кулаки, и она водила руками вперед-назад, вперед-назад, и ноги в коленях в такт движению рук подгибались-разгибались, подгибались-разгибались.
Она раскачивала качели! Сама не замечая того, инстинктивно, даже тут, в магазине, примеряя платье!
Это началось с нею еще в больнице, сразу после того ужасного, унесшего столько жизней землетрясения. Она тогда проснулась на утро – и обнаружила, что тужится изо всех сил, пытаясь сдвинуть с места качели, тужится – но ничего не выходит, качели не трогаются с места, а сон покидает ее, она выходит из него и оставляет там качели без себя на целый день… И то же произошло на следующее утро, и на утро новое, она старалась изо всех сил, кровь от напряжения ударяла в голову горячей волной, и, казалось, скрипят сухожилия, но качели стояли, ее ночных усилий не хватало, а она не могла терять время, у нее не было его запаса – нисколько! – ей нужно было остановить маховые колеса, остановить и раскрутить их в другую сторону, необходимо во что бы то ни стало раскрутить! – и она начала толкать качели и днем, забывала о том, спохватывалась – и вновь принималась толкать, но она и понятия не имела, что делает это теперь бессознательно, да еще так явно, так открыто, не только мысленно, но буквально физически!
Альбина засмеялась невольно над испугом невестки. Вот уж точно решила: досталась свекровь!
– Хочешь, скажу? – поманила она невестку в зеркале пальцем. И, когда та приблизилась, произнесла, повернув к ней лицо, со смехом: – Я стражница! Понятно?
Произнесла – и смех ее обрезало, она ужаснулась про себя: как она могла? Как это получилось? Она открылась ей в том, в чем не открылась до конца даже Нине! Не раскрылась перед Ниной, не раскрылась перед этими следователями в белых халатах, а тут – будто потянуло за язык!
И теперь с испугом посмотрела на невестку она. Она хотела понять, что такое было в невестке, если ни с того ни с сего распахнулась перед ней? Но в глазах невестки невозможно было вычитать никакого ответа. Лицо ее выражало теперь только удивление, удивление и недоумение, и что, собственно, иное могло оно выражать?
– Послушай-ка, – с какой-то непроизвольно заискивающей интонацией проговорила Альбина. – У меня на три вещи талон, а мне двух вполне достаточно, я худеть собираюсь, давай тебе одну купим?
Она не отдавала себе отчета в собственных словах; они вновь сказались словно бы сами собой, вырвались – и нельзя было их удержать.
А невестка так и полыхнула счастьем, так и расцвела:
– Ой, я знаю что, я уже выбрала! – И только после этого сообразила добавить: – Ой, спасибо, я ужасно признательна.
Вот этого как раз, почувствовала Альбина, она и добивалась, этого и хотела: признательности невестки. Хотела ублажить ее, задобрить. Словно бы почему-то боялась ее – и старалась обезопаситься.
Через неделю она вышла на работу. Председатель, как просветила ее за чаем приятельница-бухгалтерша, уже поговаривал о возможности ее замены, еще несколько дней – и Альбининому отсутствию на рабочем месте исполнилось бы четыре месяца, можно увольнять, все будет в ладу с законом, и хотя, не сомневалась Альбина, председатель, конечно, не уволил бы ее, не желая конфликта с мужем, ей подумалось с ужасом: то землетрясение, получается, произошло еще и для того, чтобы она сохранила эту свою никчемную работу?
Мысль о подобном была нестерпима, она будто обожгла ее всю внутри – как обварила кипятком, и все в ней закричало болью: Боже, слишком велика цена, непомерна, как вынести такую, Боже!
– Ты чего? Что с тобой? – встревоженно спросила бухгалтерша. Видимо, то, что она чувствовала, отразилось на ее лице.
Хотелось сказать бухгалтерше обо всем, выплеснуть из себя этот кипяток, освободиться от него, – и невозможно было совершить это, нельзя, никак!
– Геморрой что-то, – сказала она с нарочитой гримасой, ощущая мазохистское желание унизить себя в глазах бухгалтерши и болью унижения перешибить эту другую, нестерпимую боль. И даже пожелала себе той забытой мучительной геморроидальной боли: пусть изведает она, пусть заставит лезть на стену – лишь бы не помнить о страшной цене, что заплатила за свое пробуждение, лишь бы не думать о ней!
– Да, геморрой – это не говори, – понимающе покивала бухгалтерша. – Я второго почему рожать не хотела – меня после первых родов так замучил, я мужа год не подпускала. Знаешь же мужиков, им спустить – и все, а ты расхлебывай.
По коду, которым в бюллетене был обозначен ее диагноз, бухгалтерша в две минуты расшифровала бы ту больницу, в которой лежала Альбина, и Альбина за чаем сама сообщила ей, где обреталась всю эту пору. Бухгалтершу, увидела она по ее глазам, оплеснуло смятенным испугом.
– Н-ну? И чего? И как ты теперь? – спросила бухгалтерша, наконец, мучаясь косноязычием.
– Как! Никак, – пожала плечами Альбина. – Видишь, геморрой.
Ей не было дела, что будет думать о ней бухгалтерша. Главное, качели двигались – едва-едва, совсем понемногу в каждую сторону, – но двигались. Тянули за собой шестерни того механизма, что передавал усилие маховым колесам, зубцы шестерен входили друг в друга, схватывались намертво и расходились, провернувшись, и маховые колеса не просто умерили свой бешеный бег в опасную сторону, но остановились, замерли, и еще одно, еще два, три ее усилия – и должны были дрогнуть, качнуться и пойти, пойти набирать скорость, вращаясь туда, куда необходимо было Ему.
Она по-прежнему толкала качели не только во время сна, но и бодрствуя, однако теперь, после того случая в магазине она следила за собой и так контролировала все свои действия, что теперь никто б ничего не мог заметить. Она толкала их, поднявшись с постели, совершая утренний туалет, толкала, сидя за завтраком, толкала, идя по улице, готовя еду, отдавая себя мужу, даже работая с документами, – и, слушая радио, глядя телевизор, листая газеты, видела: все вокруг начинает отзываться на ее усилия, они начинают сказываться, проявлять себя в реальных событиях. То, о чем еще полгода назад невозможно было и заикнуться публично, теперь обсуждалось совершенно свободно, люди из прежнего руководства страны, о которых положено было забыть навечно и даже имен их не хранить в памяти, возникали фотографиями на газетных страницах, ожившими фигурами на телевизионном экране[46]. И это было лишь подготовкой, лишь прелюдией, это маховые колеса только остановились, а когда они двинутся, станут набирать скорость, раскручиваться… о, она просто боялась заглядывать туда, вперед, – когда они начнут раскручиваться. Потому что всякое действие, знала она, будет уравнено противодействием, всякое обретение – потерей, за все будет заплачено своей мерой, всему уже назначена цена, серп отбит и заточен, – и жатва свершится.
Впрочем, первые счета уже были предъявлены к оплате, она видела это: в магазинах в открытой продаже не было уже ни сыра, ни масла, ни колбасы, напрочь исчезли мыло и стиральные порошки, а на сахар пришлось ввести распределительные талоны. В газетах и по телевизору разъясняли, что это следствие той самой, которой в свою пору так радовался муж, антиалкогольной кампании, когда вырубили виноградники и позакрывали всякие винные заводы, а потому народ приспособился варить самогон, покупая сахар в невиданных количествах, приводили какие-то цифры в свидетельство тому, печатали диаграммы… но она-то знала, что все это – бред. Ни при чем здесь была ни кампания, ни самогоноварение. Это чуть подзадержавшись, пришла пора уплатить за то, прежнее движение маховых колес. И это была малая, крохотная плата, смешная в своей крохотности, буквально потешная, а которую предстояло уплатить за будущее вращение маховиков, ее просто невозможно было сравнить с нынешней, не было для них единого масштаба, чтобы сравнить.
18
Он появился в дверях, она подняла голову от разложенных на столе бумаг – и вдруг с нею случилось то же, что тогда летом, двадцать восьмого июня: словно бы некая гигантская, мощная волна подхватила ее и повлекла с собой в темную, ужасную, беспредельную глубь, – острое, мучительное желание протянуло ее судорогой от стоп до самого темени, она вновь увидела его обнаженным, и была без единого куска одежды сама, и уже ощущала на себе его мускулистую роскошную тяжесть, и висок ее уже восхитительно терся о его твердую скульную кость…
– Ну, чего? Говорят, у тебя талоны получать? – сказал он вместо приветствия, перешагивая через порог.
Она смотрела на него и не могла ответить. Еще мгновение, еще одно, – и его плоть, снова звучавшая в ее сознании как «молот», должна была оказаться в плоти ее, соединить их, и в ней все замерло в ожидании того, собралось в комок, и она не в силах была издать ни звука, гортань ей как запечатало.
– Нет, ну а чего, если у тебя, так что поделаешь, должна дать, не имеешь права не дать! – двигаясь к ее столу, вновь сопроводил он свое движение голосом, и теперь от звуков его голоса все в ней будто возопило, сопротивляясь: «Нет! Нет!» – с яростью, бешенством, ненавистью, и та, уносившая ее с собой волна опала мгновенно, растворилась, исчезла, – как и не было: этот ее бывший любовник стоял перед нею, одетый в траченый, залоснившийся черный мелицейский тулуп, с треснувшей местами, поехавшей кожей, грубо схваченной на разрывах толстой, суровой ниткой, и на ней тоже была вся одежда, и тело ничуть не изнемогало от похоти. Наоборот, она глядела на своего бывшего любовника с недоуменным ужасом: как она могла сойти от него с ума?! Что это за наваждение было, что за помрачение? Действительно, права Нина: примитив, ничтожество, не лицо, а сама вульгарность. И так мучиться его отставкой, так страдать, – угодить из-за этого в сумасшедший дом!
– Что вы, за сахаром? – сухо спросила она.
– Ну так, а за чем еще! – воскликнул он, становясь напротив нее с другой стороны стола и упираясь в столешницу ногами.
Так, вспомнилось ей, стоял он и тогда, двадцать восьмого июня, только тогда на нем ничего не было, ни единой нитки, а теперь – килограммы одежды, и этот пошлый милицейский тулуп сверху.
– Сейчас посмотрим, что у вас получено, что не получено, – сказала она, выдвигая ящик стола, где у нее лежали списки на выдачу сахарных талонов.
Выдавать талоны было вообще обязанностью бухгалтерши, но та загрипповала, и Альбина взяла это дело на себя. Она могла бы и не брать, не для ее должности было – ведать талонами, но бухгалтерша, кроме нее, никому больше не доверяла, умолила подменить на время болезни, и, как за все, с несомненностью знала теперь Альбина, пришлось платить и за это не очень-то нужное ей приятельство.
В месяц на человека полагалось полтора килограмма сахара, талоны выдавались сразу на квартал, сейчас стояло начало марта, и у семьи Гали-молочницы все было получено. В каждой графе, где положено, красовалась ее собственноручная подпись, как она могла забыть о том? – не могла наверняка, а значит, послала его к ней специально. Услышала, что талоны выдает она, и послала.
– Все вам выдано, – сказала Альбина, убирая листы со списками обратно в ящик и задвигая тот.
– Выдано, выдано, что там выдано, полтора килограмма на человека – это что такое?! – заприговаривал ее бывший любовник, еще сильнее напирая ногами на столешницу. Наклонился к ней через стол и подмигнул: – Ну чего, по старой памяти, а? Давай?! Я тебя по старой памяти сделаю, у, пальчики оближешь!
Ни гнева, ни отвращения, ни стыда – ничего в ней не всколыхнулось, она была чиста не только от страсти, она была чиста от любых чувств к нему – словно бы перед нею стоял некий кусок дерева, бревно, непостижимым образом обретшее голос, – она была чиста от любых чувств, спокойна, свободна и счастлива этой свободой.
– Все выдано. Выдано, – повторила Альбина, улыбаясь ему с тем счастьем, что так неожиданно обнаружила в себе. – Это и передай матери. Пусть в апреле приходит. После выборов, – почему-то прибавилось у нее.
Он попробовал было помочь своим словам руками, но он был куском дерева, бревном, ни с того ни с сего обретшим способность говорить, и ей не составило никакого труда выставить его вон.
Он исчез за дверью, она подождала немного, чтобы он наверняка удалился подальше, и из нее вырвался дикий, клекочущий победный клик. Руки у нее взметнулись вверх, она изо всей силы сжимала их в кулаки и, приподняв ноги, болтала ими под столом.
Она была свободна, свободна! О, это прекрасно, что он приперся к ней сюда за талонами, и она смогла проверить себя! Это прекрасно, прекрасно, прекрасно!
Она вела себя, как ребенок, как вела себя, случалось, девочкой, осознавала это, чувствовала смущение от того, – и была невольна над собой. Ее переполняло радостью, радость не умещалась в ней, фонтанировала из нее, и как земле не удержать в себе рвущийся наружу горячий гейзер, так ей не удержать было эту радость.
В такой позе – со вскинутыми вверх руками, – за этим клекочущим ревом, рвущимся из нее, и застал Альбину Семен.
Открыл дверь, постоял там на пороге в полном ошеломлении и перешагнул через него лишь тогда, когда она, преодолев собственное замешательство, как-то глупо при том подхихикнув, сказала:
– Ну? Что такое?
– Вы это что, Альбина Евгеньевна? – ответно спросил ее Семен. – Йогой какой занимаетесь?
Хорошо, что вошел именно он, не кто другой. Он сам был такой притчей во языцех, что, сколько ни мели потом о ней всем и всякому, никто его не будет и слушать. А если бы кто другой – убегай со своего секретарского места собственной волей да поскорее: слухи о том, где она будто бы лежала, тотчас расцвели бы, найдя себе подтверждение, самым махровым цветом.
– Нет, не йогой, – ухватилась она за шутку Семена. – Такое упражнение дыхательное. Чтобы легкие прочищались.
– А ну-ка, ну-ка, – Семен, может быть, и не очень поверил, но жадность его была всестороння, и, нужно, не нужно, а появлялась возможность что-то ухватить, пусть и невещественное, тотчас на то кидался. – Ну-ка расскажите мне, может, и мне подойдет.
– Нет, это только для женщин, – отмахнулась Альбина. – Что такое, спрашиваю? Какая нужда?
Семен пришел разузнать о большом поле на краю поселка, именуемом «Дубками», – не отдадут ли ему это поле во владение. У меня, матушка моя дорогая, говорил он, хозяйство растет, я с ним куда на двенадцати своих сотках? А вон кругом с трибун выступают: давай да давай, инициативу развивай, кто работать любит – того поддерживай. Так? А я – сама видишь, у меня в руках горит, я хозяин, у меня даром ничего не пропадет. Поле бы мне отдали – я на нем развернулся б, весь поселок кормил! У меня уже все размечено: коровник, ясли, овчарня… Я вот третьего дня ягнят привез, купил их специально, порода такая: шерсть, как у мамонта. Приплод дадут, да детки приплод, ну, овцы, они котятся, сама знаешь как, валенки катать буду! Я уже деда нашел, катальщика, такие валенки станет делать! Валенки-то нужны? Не в Европах, чай, живем, без валенок нельзя! Ну, не в театр, конечно, а куда сбегать, по улице. По нашим-то зимам! Весь поселок валенками снабжу. Ей-бо, меня не знаешь, что ли?! Я разворачиваюсь, ух, я разворачиваюсь, мне без поля уже никак нельзя, – я у себя на двенадцати сотках никак не умещаюсь. От меня, вот лето настанет, соседи заплачут. У меня десять коров нынче будет. Это сколько навозу, какая вонь, представляешь? Это сколько мух, да не простых, а навозных, думаешь? Мне чего, коровы мои, своя ноша не тянет – а вот соседи? Я их жалеючи. Если бы поле – так от всех далеко, а так – среди всех, слева забор, справа забор, десять коров – шутка, что ли?
– Да неуж десять? – не выдержала Альбина. – Да это целая ферма. Кто у вас их обихаживать будет?
– Обряжать, матушка Альбина Евгеньевна, следует говорить. «Обряжать»! – поднял палец Семен. – На все своя терминология, и ее уважать надо. А кто?! Мы с женой. Да пацан. Пацан у меня, знаешь? Ого-го! Хозяин тоже.
– А кормов где напасешься?
– Ну, кормов… – Семен ушел от ответа. – Конечно, иной раз кого и нанять придется, чтобы помог. Так и что, что в том плохого? Вы вот, ремонт в доме затеваете, зовете кого или сами делаете? Что-то, глядишь, сами, а на остальное – работников. Так? Так. Ну, так и я.
– Аппетиты у вас… – сказала Альбина. – А если не «Дубки», а какое другое место?
Она понимала, почему Семен говорит о «Дубках». Поле было и близко к поселку, собственно – окраина его, сам поселок, сел там – и тебе вольный простор, и асфальтовая дорога рядом, и вообще к людям близко; а кроме того, через поле протекал ручей, и значит, весь навоз и помет, от которых не удалось избавиться, можно было б спускать в него, никакой головной боли с ними. Однако поле потому и называлось «Дубками», что два десятка прекрасных, мощных вековых дубов было раскидано по его зеленому травному простору, молодежь вечерами собиралась на нем жечь костер, балдела далеко за полночь, летом в хорошую погоду берег ручья был усыпан загорающим, млеющим на солнце людом, – и отдать Семену этот кусок земли значило отобрать его у всех остальных.
– Нет, мне другое место не нужно, – ответил Семен Альбине. – Зачем мне другое, мне это удобно. Ведь жить как надо, в чем ее смысл, жизни-то? Чтобы тебе удобно было. А если мне неудобно, так зачем?
– А если от вашего удобства другим неудобно?
– Чего это неудобно? Кому это неудобно? – словно ничего не понял, замигав своими шильчатыми голубыми глазками, заспрашивал Семен. – Я людей поить-кормить буду, чего это им неудобно?
– Так ведь цену-то за свое «поить-кормить» заломите – ого-го, не за здорово живешь!
– Ну, это как положено, конечно, а как же! За здорово живешь мне какой интерес ломаться. Я ломлю, а он бездельничает, мне его что ж, на загривок сажать? Не прав я разве?!
– Прав, прав, – согласилась Альбина. Она и в самом деле была согласна с Семеном. Но никак он не мог получить не только Дубки, но и другого куска земли, такого же по размерам. Никто бы ему не дал. Мало ли что и где, с каких трибун, говорилось. – Приходите, Семен, попозднее, – посоветовала она. – Может быть, в мае, может быть, летом… – И добавилось через паузу: – В общем, после выборов.
Снова так, как в разговоре с бывшим ее любовником, добавилось – совсем не нужно, без всякого внутреннего смысла, – но ужасно, просто невыносимо хотелось добавить, и она не смогла отказать себе в том.
Она сейчас буквально жила предстоящими выборами. Думала о них все время, лишь о них и думала, ни о чем больше, и от этих мыслей все в ней словно бы ходило ходуном, плясало отвратительной нервной дрожью. Как если б опять она была тетивой лука и натянулась до такого предела, что еще чуть-чуть, немного сильнее, – и ее раздерет. Выбирать должны были депутатов на первый, похожий, наверное, на прежние новгородские вече, всеобщий народный съезд, выбирать, впервые на ее памяти, впервые за десятки лет, сразу из многих претендентов[47], и она ждала выборов как некоего водораздела, как словно бы какого-то горного перевала, к которому шла, шла всю эту пору, карабкалась, обрывалась и снова карабкалась, – и вот осталось совсем ничего. У нее было странное, кружившее голову, впрямь пьянившее чувство, что ради этих уже совсем близких выборов, которыми как бы открывалась новая, неизвестная, заповедная до того дорога, она и жила. Ради того, чтобы они свершились, и толкала качели, носилась на них со страшной, леденившей сознание скоростью в том безмерном, бесконечном, но несомненно физическом пространстве, в котором неизвестным ей образом находилась одновременно со своим телесным существованием; свершившись, они должны были придать маховым колесам такую инерцию, что уже ничего не смогло бы вновь остановить те и начать раскручивать вспять, – пусть она даже и прекратит толкать качели.
Хотя она уже и теперь почти не толкала их. Они промахивали свой громадный, положенный им путь с неудержимостью артиллерийского снаряда, посланного орудийным стволом, замирали на неуловимое мгновение в мертвой точке и с прежней неудержимостью устремлялись в обратный путь, и она лишь чуть-чуть подгибала ноги, чуть-чуть напрягала руки, когда они, оказавшись в очередной мертвой точке, соскальзывали в движение, и этого оказывалось достаточно, вполне хватало, чтобы движение сохраняло всю свою мощь и скорость.
Когда после рабочего дня вместе с бухгалтершей вышли на улицу, обнаружилось, что давно оставивший поссовет Семен караулит ее около крыльца, прохаживаясь перед ним туда-сюда.
– Вопросец у меня, матушка-голубушка Альбина Евгеньевна, небольшой, но важный, на минуточку можно? – скороговоркой посыпал он, загораживая им с бухгалтершей дорогу. – На минуточку, ага, можно? – оттирая Альбину от бухгалтерши, посмотрел он на ту. – Или вы идите, чего стоять, идите, идите, – подтолкнул он бухгалтершу рукой. – Я Альбину Евгеньевну только спрошу, ничего плохого не сделаю ей, не беспокойтесь! – И, когда бухгалтерша, послав Альбине сочувственную ухмылку, двинулась своей дорогой дальше, спросил, понизив голос: – Меня, матушка моя дорогая, Альбина Евгеньевна, вот что очень интересует: вы что имели в виду, когда говорили: «после выборов»? Знаете что-то? Какие-нибудь сведения есть, что будет?
– Что будет. Съезд будет, что, – сказала Альбина.
– Съезд, съезд, понятно, что съезд, – нетерпеливо подхватил Семен. – Ну, а на съезде-то что? Что планируется?
– Откуда я знаю?! – Альбина была вполне искренна в своем удивлении. Не знала она и не хотела знать, ее и не интересовало вовсе, что будет конкретно.
– Нет, ну чего вы боитесь, чего боитесь! – заприговаривал Семен. – Вот напуганные какие, как вас всех напугали, сами себя боитесь! Мне скажешь – во мне умрет, но только мне знать надо, к чему готовиться? Частную собственность, что ли, вводить будут, правильно понимаю?
– Ой, Семен, отстаньте! – сказала Альбина. Он ее раздражал своей прилипчивой, безапелляционной настойчивостью. Она вообще легко сейчас раздражалась, уловила за собой это, пыталась контролировать себя, – и не очень-то получалось.
– Знаете, что будет, знаете, как не знаете! – с упреком в голосе произнес Семен. – Муж-то у вас… он не может не знать. У них все наперед известно.
– Что ему известно? Ничего ему не известно! – вконец раздражаясь – и может быть, оттого, что он помянул мужа, – едва не выкрикнула Альбина. И это было абсолютною правдой: не то что ничего ему не было известно, а сам, как вот Семен, изводился маятой – что будет, и изводил этой своей маятой ее.
– Ну-ну, ну-ну, – примиряюще проговорил Семен. – Шуметь-то… чего шуметь, чего я такое секретное узнать хотел? Приготовиться надо – чего ждать. Надо же приготовиться. – И спросил: – Он у тебя тоже, поди, баллотируется?
– Баллотируется, – с неохотою отозвалась Альбина.
– Ну так, конечно. Понятно. Все начальство сейчас баллотируется. Надо же свой шанс испытать. Удачи ему, передай. Семен-де желает.
– Еще чего! – фыркнула Альбина. – Удачи ему!..
– Ага! Ага! – обрадованно выговорил Семен, и по оживлению его стало ясно, что на самом-то деле пожелание удачи носило смысл совершенно противоположный.
Альбина сообразила с запозданием, что не след было раскрываться Семену в своем отношении к мужу. Муж – все-таки муж, а кто такой ей Семен?
– Ну-ка пусти, – сказала она с досадой, обходя Семена и, не прощаясь, пошла по асфальтовой дорожке прочь от поссовета.
Она, противу всякого здравого смысла, действительно желала мужу провала на выборах. Что ей было желать провала, какой ей в том прок? – никакого! Наоборот, следовало вроде бы хотеть избрания: такой почет, такие, наверное, новые жизненные возможности, привилегии, от которых перепадет и ей, – но нет, наперекор подобному здравому смыслу хотелось, чтобы он провалился.
– Ну, и провалишься, нечего тебе там делать, только тебя там не хватало! – грубо произнесла она вслух для самой себя – как бы оправдывая себя и успокаивая.
19
Она видела, как Он голосовал. Камера поймала его еще выходящим из машины, проводила до подъезда, а потом Он появился на экране уже в помещении избирательного участка, шляпы на голове у него не было, и она обратила внимание, что за эти прошедшие четыре года, как Он возник на экранах, виски у него абсолютно высеребрились, волос на темени почти не осталось, и странное родимое пятно в форме африканского континента чуть сбоку от темени сделалось очень заметно. Вокруг Него толпилась целая армия охранников, и тот высокий, со спокойно-волевым, как бы вытесанным из булыжника лицом, главный среди них, тоже находился тут, прямо за его спиной, и она, его спутница, также, разумеется, была рядом с Ним. И, впиваясь взглядом в нее, снова находя во всем ее облике подтверждение своему прежнему впечатлению: пантера! – ощупывая взглядом лица охранников с напряженными, колюче-безжалостными глазами, снова, как уже случалось однажды, Альбина возопила про себя: да что они есть рядом с Ним, что нет, – какая они защита Ему!..
Он голосовал за других, сам Он был уже избран на этот будущий съезд – по какому-то отдельному, специальному, льготному списку. Все вокруг за эту явную, слишком хорошо понятную хитрость Его осуждали, подчас накаляясь в разговорах едва не до крика, она ни в каких спорах ни с кем не участвовала, но внутренне безоговорочно поддерживала Его: и правильно, что схитрил! Он не должен был проиграть. Ни в коем случае. Слишком тонкая шла игра, слишком опасная для него, слишком легко поскользнуться, – а Он не имел на то права.
Вот хорошо или нет, что победил в своем округе, оказался избранным на этот съезд тот человек, что был сброшен с заоблачной высоты правящего синклита за некое резкое выступление – в какие-то словно б иные, давние времена, хотя минуло тому всего полтора года, – хорошо это или плохо, что он победил, она не знала. Его в последнюю пору тоже часто показывали по телевизору, и она его хорошо разглядела. Он был высок, крупнотел, но, впрочем, не толст, с одутловатым мясистым лицом и необыкновенным – простовато-хитрым и властным одновременно – выражением маленьких, утонувших в щеках глаз, на лоб ему постоянно падал потешный круто-завитой пепельный клок волос, он отводил его ладонью, и круто-завитой клок тут же падал вновь.
Она помнила, что тогда, полтора года назад, у нее было чувство вины – будто это она потянула его за язык, заставила произнести те слова, – и сейчас, видя то здесь, то там написанные на стенах, на заборах масляной краской поздравления ему, она радовалась за него, и в то же время словно бы тревога не давала разрастись этой радости, теснила ее, не позволяла вспыхнуть во всю силу. И чувствовала расположение к нему – и недоверие; как если б он были другом Ему – и врагом; вроде и соратник – и соперник…
Старший сын с невесткой, те симпатизировали этому человеку безоговорочно. Они буквально болели за него – совсем так, как за какого-нибудь спортсмена на соревнованиях, – и следили за всеми перептиями его предвыборной борьбы. Вылавливали сообщения о нем в газетах, приносили домой слухи. И, когда он победил, то с неделю все их разговоры за вечерним столом так или иначе сворачивали на него. «Вот дает! – У, он еще даст! – Так свалиться – и так подняться! – Другой бы ни в жизнь не смог, а он сумел!» – перебрасывались они друг с другом восторженными фразами. Да, сумел бы, если б Он не захотел, думалось ей, но вслух того она не произносила. Если бы те восторженные слова говорил только сын, она бы ему ответила, но их говорила и невестка, а с невесткой она, непонятно для самой себя, не решалась ввязываться ни в какой спор. Словно бы действительно боялась невестки – и старалась оберечь себя от ее возможного недоброжелательства.
– Да бросьте вы, «свалился», «поднялся»! – не выдерживал, взрывался от разговоров молодых муж. – Там все заранее расписано, просчитано на двадцать ходов вперед, что я, не знаю систему?! Все расписали, роли раздали, и теперь играют. Уши не надо развешивать, чего лопухами-то быть! Для чего спектакль разыгрывают – вот в чем вопрос!
И она снова молчала, не реагировала теперь на слова мужа. Ей, впрочем, было это не очень сложно. Она знала, чем они продиктованы, и, что он ни говорил, ее не задевало. Он, как того и следовало ждать, проиграл на выборах. В тот специальный льготный список он не попал – не по его рангу было оказаться в нем[48], – а в открытом соперничестве провалился так оглушительно, что не мог, конечно, не кипеть теперь желчью. Провал был тем оглушительнее, что его обошел какой-то совсем мальчишка, едва постарше собственного старшего сына, некий младший сотрудник из третьестепенной научной конторы, и вот теперь этот мальчишка покатит в Москву, будет заседать там, принимать решения, а он – читай о том в газетных отчетах!
Однако она не сочувствовала мужу даже теперь, задним числом. Наоборот, некое мстительное удовольствие было в ней: ага, получил! Думал, все на блюдечке с голубой каемочкой будет? Фига с два! Покушай-ка вот из корытца! Словно он был ей не мужем, а она ему – не женой, словно бы его судьба не имела никакого касательства к судьбе ее, словно они не были связаны так накрепко, что его худо непременно должно было отозваться на ней. Да надо сказать, что теперь, после выборов она пребывала в такой тревоге, в таком напряженном ожидании расплаты, что ей и не могло быть особого дела до мужа. Теперь, после выборов, следовало ждать той самой жатвы, которая должна была воспоследовать ответом на свершившееся, и какая цена будет назначена, что будет востребовано платой? – мысль об этом пробуждала ее в страхе даже подчас среди ночи, и до того было невыносимо ждать, что временами в ней, когда просыпалась вот так, звучало то прежнее: «А не просыпаться бы!..»
Но долго ждать не пришлось. Полторы недели, всего лишь. Подводная лодка, ухнувшая в ледяную пучину Норвежского моря, была не обыкновенной, а опять с ядерным реактором, и имела на борту две торпеды с ядерным зарядом, и если сорок два погибших моряка следовало считать жертвой прямой, то сколько людей было обречено сделаться косвенной, – в том неизвестном будущем, в которое протянуло свой дамоклов меч готовая ударить фонтаном радиации с океанского дна атомная смерть?[49]
«Нет, никогда, ни в коем случае!» – с ужасом твердила она про себя, тоже давно не возникавшие в ней слова, узнав о случившемся. Хотя и ожидала чего-то подобного, вынести все это было невозможно. Она напрочь утратила способность делать что-либо – и дома, и на работе. От лекарств, которыми ее кололи в больнице, у нее тряслись руки, последнее время – все меньше, все меньше, она уже перестала замечать это дрожание, теперь их так и задергало. Прыгали, как у алкоголички, не могла деражть ни ручку, ни нож, и, чтобы их пляска была не слишком заметна, приходилось сжимать руки перед собою одна в другой. И все время, не переставая, будто крутилось кольцо магнитофонной ленты, в ней звучало с отчаянием, бессмысленным заклинанием: «Нет. Никогда. Ни в коем случае!..»
Она думала, что может и в самом деле свихнуться. Она перестала спать, никакое снотворное из тех, что ей выписали, ее не брало, бродила неприкаянно, сжимая руки, в ночной темени по дому, стараясь, чтобы никто не услышал звука шагов, а особенно страшась того, что муж заметит ее отсутствие в постели и все в конце концов завершится вызовом врача, – а там психушка, которая на этот раз может затянуть ее в себя подобно трясине… хотя и понимала вместе с тем, что еще одна, еще другая такая ночь, и не выдержит этой бессонницы, побежит к врачу, прося облегчения, сама. Мозг в черепной коробке будто распух, сделался горячим, он как бы закипал, все ближе и ближе подходил к точке кипения, – и вот когда закипел бы, это и значило бы, что она и в самом деле свихнулась.
Вполне вероятно, она бы действительно оказалась в больнице, если бы то, что случилось следом, стало известно ей на какой-нибудь день позднее, – из официальных сообщений, а не от мужа. Однако известие о происшедшем в ночь на девятое апреля в одном из столичных городов на Кавказе принес домой, получив его по своим негласным рабочим каналам, муж. Девятнадцать человек – все женщины – было убито там при разгоне демонстрации. Раздавлено бронетранспортерами, зарублено остроотточенными саперными лопатками, отравлено боевыми газами[50].
И эти девятнадцать убитых вернули ее к жизни. Так, должно быть, клин вышибается клином. Словно бы своей смертью они заперли в сознании Альбины тот провал, который образовался от предыдущих смертей, и сила ее перестала вытекать туда. Как что-то закостенело в ней от полученного известия – вмиг, в ту же секунду, едва он поведал ей об еще державшемся в тайне побоище, схватилось упругой металлической крепостью – как всю ее, с ног до головы, одело в стальной корсет. Наступавшее будущее отверзло перед нею свои двери во всю ширь, и она увидела впереди бесконечную череду смертей, все возрастающий и возрастающий их счет, и увидела, как растет и растет число тех мест, где смертям суждено свершаться… и какое же право имела она на слабость? Как она могла отдать себя на одоление чувствам? Не имела права, не могла отдать. Все эти смерти не должны ее больше трогать, она обязана перестать видеть и слышать их, чему назначено свершиться – тому свершиться, и воле ее до́лжно быть выше всех чувств.
Наставшую ночь она спала таким глубоким, мертвым сном, что утром ее не могли добудиться, и еле поднялась, когда уже все позавтракали и разбегались. И спала так же новую ночь, и следующую за ней – отсыпаясь, восстанавливая силы, – а потом полностью вошла в норму, вернулась в обычную свою, повседневную колею, – будто нигде ничего не произошло и сама она не пережила той жуткой встряски. Она чувствовала в себе холодное, твердое спокойствие, даже некое избыточное спокойствие, бесстрастную, чуть ли не безмятежную уравновешенность, временами ей делалось дурно от себя такой, но уж какой была, такой и была, оставалось принимать себя как есть.
И с этим холодным, твердым спокойствием она встретила сообщения о кампании против двух следователей, что уже года полтора занимались расследованием преступлений в высших властных сферах, об открытии, в свою очередь, уголовных дел против них[51], – за все необходимо было уплатить, и человеческими судьбами – прежде всего. И как же спокойно и хладнокровно восприняла сообщение об ужасной резне в Фергане, отнявшей жизнь у ста двенадцати турок-месхетнцев, высланных туда в свою пору, еще до ее рождения, с гор Кавказа уроженцем этих же гор[52], и совпавшее с ним другое сообщение – о взрыве нефтепровода под Уфой, когда вместе с аварийным участком взлетели на воздух, корежа друг друга, два проносившихся встречно пассажирских поезда, перемешав своих пассажиров с железом вагонов[53], – расчет человеческой кровью был еще более предпочтителен, чем просто судьбами.
Впрочем, это уже произошло летом, в самом начале его, в разгар съезда. Лето грянуло классическое: с кучевыми высокими облаками, молочно стоявшими на жарком голубом небе, с налетающими быстрыми грозами, после которых земля долго чмокала, поглощая пролившуюся на нее влагу, а в воздухе держался, тяжеля его, водяной пар, отцвела вишня, зацвели розово яблони, огород, которым нынешнюю весну она опять почти не занималась, ярко полыхал молодым изумрудом пырея и конского щавеля. А сам съезд открылся в последние дни мая[54], и, как ей того хотелось, все его заседания показывали по телевизору и передавали по радио, и она следила за каждой минутой его работы, а если что пропускала по какой-то причине, старалась увидеть или услышать в повторных трансляциях, стала знать депутатов, различать их по политическим взглядам, завела себе блокнотик с их именами, – ей были важны самые незначительные, самые тончайшие, так вернее, нюансы съездовской атмосферы.
И Он, видела она, жадно ловя его речь, наблюдая за мимикой его лица, побеждал. Отступая, маневрируя, вроде бы уже сдаваясь, – побеждал. О, как Ему приходилось маневрировать, какое виртуозное мастерство демонстрировал Он в искусстве маневра! Особенно это было заметно по тому, как Он покровительствовал академику со светящимся прозрачным пушком седых волос на голове, недавнему поднадзорному ссыльному за свое несогласие с прежним верховным синклитом[55]: зал ревел, не давая академику слова, и Он вроде бы был солидарен с залом, вроде бы не давал, а выходило в конце концов, – давал непременно.
И вот из таких маленьких, ничтожных каждая по отдельности побед, цеплявшихся одна за другую подобно звеньям цепи, должна была сложиться победа большая. Победа, которую бы должно написать с большой буквы. Но что эта за победа, в чем ее смысл, она не знала. Да она и не хотела знать, ни к чему было ей знать. Она доверяла Ему. Она лишь знала, что цена, которую придется уплатить за ту большую Победу, будет громадной, может быть, даже непомерно громадной, чудовищной. Он, наверное, о том не ведал. Даже наверняка не ведал. Полководец, ведущий битву, должен думать лишь о победе, а не о ее цене. Достаточно того, что знала цену она. Знала – и была ответственна, чтобы он победил, несмотря ни на что. Сколько бы ни пришлось заплатить.
20
Что-то она нехорошо себя чувствовала. Какие-то приступы слабости нападали на нее – не могла ничего делать, руки не поднимались, ноги не держали, хотелось лечь и лежать, но и лежать не было сил: всю как-то выкручивало и ломало внутри, будто некие гигантские руки выжимали ее подобно мокрому белью, что сидеть, что стоять, что лежать – все было невмоготу, и словно бы глухой утробный вой, ни на мгновение не прекращаясь, звучал в груди, рвался наружу, и временами, не в состоянии сдержаться, когда оказывалась одна, выпускала его из себя протяжным стоном. Приступы эти случались с нею и на работе, что было хуже всего – потому что ни лечь, ни замереть, ни уйти никуда, да еще посетители, решай с ними их вопросы, в то время как даже звук собственного голоса отвратителен тебе, что визг электропилы, и если в такие моменты оказывалась все же одна – металась на подгибающихся ногах по своей комнате, как по клетке, из угла в угол, хваталась руками за лицо, мяла его ладонями, впивалась ногтями в кожу, и хотелось разодрать ее до крови, хотелось боли, хотелось, чтобы текло по лицу и теплый, солоноватый вкус на губах…
Она и раздирала себя до крови. А после, спохватившись, сидела с зеркальцем и пудрилась, затирала ранки до исчезновения.
Однажды, когда очнулась от причиненной себе боли и только взялась за пудреницу, вошла бухгалтерша. И хорошо же, что это была она, не кто другая. В глазах бухгалтерши Альбина увидела смятение и страх.
– Ты… чего? – спросила бухгалтерша. – Что с тобой?
Она спросила теми самыми словами, как тогда, по возвращении Альбины из больницы, и Альбина, испытывая острое чувство стыда и позора, вспомнила, как ответила тогда, – и ответила точно так же сейчас:
– Геморрой что-то!
– Нет… а это… с лицом-то, – спотыкаясь на каждом слове, выговорила бухгалтерша. И ее осенило: – Что, так ударило, что и в лицо даже?
– Не говори, – злобясь на себя и злобясь на бухгалтершу, что вынуждена нести подобную чушь, сказала Альбина. – Так ударило.
– К знахарке тебе надо, – вглядываясь в ее лицо, решительно произнесла бухгалтерша. – Почечуй, кроме знахарей, никто не лечит. Я же как, только знахаркой спаслась. Дала она мне бутыль пол-литровую, я выпила, и у меня, как у младенца там стало.
– Меня к ней направить – получится у тебя? – Альбина вдруг подумала, может, ей в самом деле пойти к знахарке. Кто знает, а ну как даст такую вот поллитровку…
– Нет, та умерла. – Бухгалтерша выразительно поджала губы и помолчала мгновение. – А вот я слышала, наводку тебе могу дать: одна тут лечится у какой-то, рак у нее, врачи оперировать собирались, так вроде бабка остановила ей, снова бегом бегает… ой, да ты знаешь ее, ну, Таня, птичница-то, яйца ты еще берешь у нее!
– У Татьяны рак? – Альбина не знала этого. Она уже давно не брала у той яйца, как не брала теперь молоко у Семена. Не понятно почему и вышло, что перестала брать, но ходила, ходила – и перестала ходить, и к ней, и к нему. Татьяна, как начала тогда, перестав носить яйца домой, так и попрекала все в чем-то, в чем-то винила – не понятно в чем, а Семен, тот мучил и мучил своими беседами, и в конце концов нашла для себя лучшим и яйца, и молоко брать в магазине.
– Да уж года полтора, как нашли у нее! – удивилась бухгалтерша, что Альбина не знает про птичницу. – И главное, запущенный был. Когда к врачам обратилась, такое будто бы образование нашли!..
Теперь Альбине вспомнилось, что той весной, отказываясь носить яйца, Татьяна объясняла свое решение ногами: устают, не ходят, нет сил. Возможно тогда уже и была больна.
Но обращаться к Татьяне, просить ее свести со своей знахаркой – к этому она не была готова. Опять неизбежно выслушивать непонятные, бессмысленные попреки, скреплять себя на молчание ради рекомендации – и, может быть, кто знает, вполне вероятно, не получить ничего.
– Ладно, – сказала она бухгалтерше, – буду знать. Вдруг действительно…
– Попробуй, попробуй, – с жаром поддержала бухгалтерша. – Геморрой – это ж такое дело…
Альбина видела по глазам: бухгалтерша все время ждет подтверждения от нее тому диагнозу, что поставлен шифром в больничном листе, ждет – и боится, и сейчас испытывает облегчение, что подтверждение опять не состоялось. Хотя безусловно, и невольное разочарование вместе с тем.
Бухгалтерша ушла, забыв сообщить, зачем, собственно, приходила, а Альбина, снова уставясь на себя в зеркало, подумала с ощущением отчаяния: что за дохлая кляча стала, что такое, ведь ужас, ужас!
Дом она совсем забросила. Ничего не стиралось, не гладилось, вещи, вынутые со своих мест, неделями валялись потом где попало, не было сил готовить еду, – и все ели, что придется, не ели, а перекусывали: жевали бутерброды да жарили яичницу. Муж ярился, искал утром рубашку – и нечего оказывалось надеть, возвращался вечером – стол был не накрыт, и ярость его увеличивалась еще от того, что происходило вокруг. Ну, подумаешь, ну снова яичница, ты на работе, что ли, супа не ел, говорила она ему, с трудом принимаясь за готовку ужина. Чего так вскидываться, тоже мне, яичница ему надоела! Зная опытом, чем теперь может закончиться препирательство с нею, он не решался отпустить вожжи своему гневу, однако тот требовал выхода, и, багрово налившись кровью, сжав кулаки, муж находил способ освободить себя от избыточного давления.
– Я дома расслабиться могу?! – восклицал он. – Я дома расслабиться должен! Я в какой атмосфере варюсь… ведь меня это все впрямую касается, что происходит, видишь?! Видишь, что он творит, этот меченый? Распродает нас, как скотину рабочую! Стену в Берлине строили, строили – давайте, рушьте ее! Германию отдал, Чехословакию просрал, в Румынии до чего довел – первого человека к стенке поставили! Вместе с женой, между прочим, та-та-та – и нет, а мы и не вступились![56]. Это дело, да? А он, сукин сын, – с Америкой миловаться, встреча на высшем уровне, договор с нею![57] Продал нас Америке со всеми потрохами, можно так?! Народовластие это устроил… говорильню эту… куда катимся с этим народовластием?![58] Коньяка хорошего, даже у нас в буфете, купить нельзя стало! Даже у нас, а!
– Ничего, плохим перебьешься, – спокойно отвечала она.
Он выплескивал свой гнев в боковое русло, не осмеливаясь обрушиться на нее, – и это ее вполне устраивало. А то, что муж сволочил Его, ее совершенно не трогало. Пусть сволочит, сколько угодно. Собака лает – ветер носит. Она была уверена в надежности его позиций и в Его безопасности. Она знала, с Ним сейчас ничего не может случиться дурного. Ничего такого, что повредило бы Ему. Разогнанные ею качели ходили с колоссальной, умопомрачительной скоростью, путь, который они проделывали, проносясь из одной мертвой точки в другую, увеличился многократно, движение их обрело неимоверную, чудовищную инерцию, – никакая сила не могла их остановить, не было такой силы, а если бы встала на дороге, ее бы смело в сторону ничего не значащей, незаметной пушинкой.
Правда, из-за своего состояния ей трудно было следить за Ним так, как бы хотелось. Хотелось – с неотрывностью, за каждым шагом, каждым словом, которое Он произносил, но новый съезд, его заседания, которые Он, как правило, вел, показывали теперь ночью, иногда далеко за полночь, и у нее не было никаких сил сидеть перед телевизором столько, ее и до полночи-то не хватало. Однако, и это ее не беспокоило. Умер неожиданной, скоропостижной смертью тот академик с седым венчиком волос на голове[59], которому Он протежировал, который был нужен Ему, немного спустя столица другой кавказской республики разразилась кровавой резней, подобной той, что уже была в этой республике без малого два года назад[60] а при вступлении в город армейских частей для прекращения погромов погибли под гусеницами танков, от автоматных трасс из их люков новые десятки людей[61], – все это было ужасно, одно хуже другого, это были удары, от которых Он в прежние времена уже не оправился бы, упал – и не встал бы, но сейчас Он выдержал их, будто укрытый броней, и Его ответный удар был сокрушителен: собравшиеся на свой совет высшие бонзы партии, против собственной воли, против желания, не посмев поперечить ни единым словом, будто завороженные им, подняли руки за то, чтобы их партия не была больше единственной на всю страну, чтобы могли существовать и бороться с нею за власть другие![62].
Все шло, как должно было идти; так лишь и могло идти, никак иначе; за все предстояло заплатить, и, может быть, взятая кровавая плата была еще не самой высокой…
Но жить в таком состоянии, в каком она находилась, было невозможно. Она уже без малого два месяца боролась со своей немочью в одиночку, и уже измучилась, уже надорвалась, и чувствовала, что долго она не продержится. Ей требовалась какая-то помощь, какая – этого она не знала, просто все ее существо вопило о помощи, просило ее, и ясно было, что сама по себе ниоткуда та не придет, под лежачий камень вода не течет, – надо искать эту помощь.
– Может, тебе, слушай, к врачу пойти? – осторожно предложила Нина, когда при встрече Альбина рассказала ей об одолевающих ее приступах.
Они не виделись очень давно, в последний раз – год, пожалуй, назад, сразу после больницы, еще до того, как пошла на работу, а потом перезванивались, перезванивались – и все почему-то не получалась встреча. И впервые за все время была встреча не в радость, не возникало того прежнего чувства полета, ради которого всегда и встречались, и не было прежней откровенности и доверительности. Впервые Нина ничего не рассказывала о новом своем любовнике, обмолвилась двумя словами и закончила: «А, в общем!.. Сама понимаешь», – и впервые Альбине не хотелось делиться с нею своим, и она даже понукнула себя на рассказ, заставила себя поделиться, чтобы хоть немного встреча походила на прежние. И едва ли в том было дело, что не сумели нынче достать шампанского, а домашнего своего вина она нынче не сделала, пришлось поставить на стол полуопорожненную мужем бутылку коньяка, коньяк не пился, и ни у той, ни у другой не было ни в одном глазу. Раньше пьянели совсем не от шампаского с вином. Тоже могло не особо питься, а в голове вьюжило, и от любого случайного слова, как от показанного пальца, могло кинуть в смех. Похоже, ее больница подвела некую черту под их отношениями. Ни ей не нужна стала Нина, ни она Нине. Что-то такое надломилось незаметно, и уже не склеить. Возможно, окажись она в больнице вновь, Нина опять бы ездила к ней туда что ни день, а вот для этой обыденной жизни, видимо, они были теперь слишком чужды друг другу, чем – непонятно, начни выражаться словами – не выразишь, но чужды, несомненно. Ну как, например, прежняя Нина могла ей советовать обратиться к врачу? Это же тотчас – снова психушка, и без всякого выбора.
– Нет, ты знаешь, – сказала она Нине, не став обсуждать ее предложения, – мне вот тут о знахарке говорили, есть будто бы где-то в наших краях, может быть, к знахарке?
– К знахарке – хорошо! – тут же, не задумавшись даже и на мгновение, подхватила Нина. – К знахарке – отлично! А может, у тебя какой сглаз, так кто тут кроме знахарки что?
Может быть, и в самом деле пойти к знахарке, как тогда, в разговоре с бухгалтершей, вновь подумалось Альбине.
– Не знаешь никого, кто бы мог вывести на нее? – спросила она.
Нина возвела глаза к потолку, словно бы перебирая в уме знакомых.
– Да что-то, скажу я тебе… – И ее будто бы осенило: – Да никаких рекомендаций не надо! Они же сейчас не таятся, наоборот – на экран телевизора лезут. Пусть твой благоверный по своей линии пошерудит, наверняка они где-то там на всяких учетах теперь стоят.
От безучастности, с какой Нина отпихнулась от ее просьбы, Альбину помимо воли всю перекорежило внутри неприязнью к ней. Кто там и где брал знахарей на какой-то учет, это же надо было изобрести такое!
Она вдруг с ясной, некоей провидческой отчетливостью увидела, что это их последняя встреча и больше не будет.
Они встретились нынче у нее в доме, и так им обычно хорошо было встречаться именно у нее: громадные пустые пространства двух этажей, громада свободного времени среди этих пространств… и вот уже не встречаться. И вина в том не Нины, это ее вина. Это она изменилась так, это с нею произошло что-то такое, что она нынешняя стала в тягость Нине, превратилась в обузу, от которой следует освободиться.
Но, понимая это, она сделала нечто совершенно невообразимое. Такое, о чем не могла и помыслить, чего никогда не могла бы себе позволить, – и однако же позволила, сделала однако:
– Знаешь, милая моя, – сказала она, перегибаясь через стол, беря Нинину рюмку и со стуком ставя ту около себя, – не хочется тебе глядеть на меня – не гляди, не заставляю! Не естся, не пьется – скатертью дорога, катись!
И будто наблюдала за собой со стороны – ахнула, что говорит, закричала протестующе: нет! нет! Но ахнула с ужасом и закричала та, что наблюдала со стороны, а совершившая это действие с рюмкой, с какою-то злобной, холодной мстительностью следила, как Нина пошла красными пятнами, как лепетала что-то недоуменное, а потом вскочила, бросилась в прихожую, начала одеваться…
И лишь когда Нина ушла, когда закрылась за нею дверь, а в распахнутую форточку донесся стук захлопнувшейся калитки, лишь после этого, какие-то минуты спустя, та, что кричала «Нет!», и та, что сделала все это, соединились. Они соединились, – и на нее обрушилось такое бессилие, такая неимоверная, никогда еще до того не посещавшая ее немочь, что подогнулись ноги, и она рухнула на пол, и, катаясь по нему, колотила себя кулаками, рвала, выдирала волосы, царапала, не ощущаяя боли, ногтями лицо, и выла зверино, выкрикивала утробно, обдирая горло:
– Не могу! Не могу! Не могу!..
Стояла середина зимы, самое начало февраля, морозило, вьюжило, сыпало с неба колючим снегом… а к знахарке она попала уже в марте. Уже дышало весной, уже в воздухе пахло талой водой, сугробы чернели и проседали; впрочем, она ничего, происходящего в природе, не замечала: этот безумный утробный крик, вырвавшийся из нее в тот февральский день, когда выгнала из дома подругу, раздирал ей грудь неумолчным воем и делал ее неспособной видеть вокруг что-либо. Знахарка была та самая, которая будто бы подняла на ноги Татьяну-птичницу, Альбина уговорила бухгалтершу взять на себя роль посредницы, бухгалтерша сходила к Татьяне и принесла адрес.
Знахарка жила в деревне, ехать туда оказалось нужно лесной дорогой, которую Альбина открыла для себя, катаясь на лыжах. Дорога еще держалась, но уже начала расквашиваться, колесные трактора пробили в ней глубокие коричневые колеи, и персональная «Волга» мужа полученная ею на поездку, то и дело садилась на брюхо, задние колеса бешено вращались в пустоте, и шофер, весь кипя, вызезал наружу, открывал багажник, доставал оттуда лопату с коротким черенком, ложился, подстелив фуфайку, и принимался долбить слежавшийся снег под брюхом машины, чтобы она опустилась на колеса. Несмотря на фуфайку, которую стелил под себя, через полчаса такого пути он весь был мокр, от него тяжело ударило запахом пота, и стронувшись, наконец, с места в очередной раз, он говорил Альбине, дозволяя себе даже и матерок:
– Нет, все, узнавайте другую дорогу, этой я больше не поеду! Еще назад возвращаться! Конец света. Узнавайте, как хотите, а больше этой не езжу!
Но больше ехать и не пришлось. Одного раза вполне хватило.
Знахарка жила в обычной избе, стоявшей посередине деревни, не больше других и не выделявшейся никакими украшениями или пристройками, но найти ее не стоило никакого труда: около палисадника стояло с десяток легковых автомобилей, стояла пара мотоциклов, стоял даже небольшой автобус, а около калитки и во дворе толокся народ – мужчины, женщины, старики, дети, – и это был лишь конец очереди, а начало ее, как выяснилось, скрывалось в сенях. «Ничего, ничего, – успокоила Альбину женщина с ребенком, за которой она заняла очередь. – Тут долго только те, кто по первому разу. А другие по второму, да по десятому. Мы вот четвертый раз, так первый – минут десять, а потом – минута-другая да иди. Часа на три очередь, так готовься».
Три часа, с ума сойти, стоном отозвалось в Альбине. Она не представляла, как ей вытерпеть три часа ожидания. Такое изнеможение было во всем теле – словно его разнимало в суставах по косточкам, не было у нее сил ждать три часа.
Однако ждать ей пришлось всего несколько минут. В сенях вдруг произошло движение, там загомонили, и по ступеням крыльца на расчищенную от снега, утоптанную площадку перед ним сбежала легонькая, сухая старушка, простоволосая и в цветастом фартуке поверх домашнего платья. Она что-то спросила людей, топтавшихся около крыльца, те, отвечая ей, дружно обернулись в сторону калитки, и от человека к человеку понеслось: «Последний! Кто приехал последний? Где последний, вот приехал только что?»
Альбина решила, что определяют того, на ком прием сегодня будет закончен. Я, подняла она руку, я последняя. И, подстегнув себя, пошла по широко расчищенной в сугробах дорожке в глубь двора.
– Я последняя, – сказала она сухонькой старушке в фартуке, приближаясь. – Но вы заметьте, кто передо мной. Женщина там с ребенком. Я, наверно, не буду стоять, уеду.
– Ага, не надо стоять, пойдем, – поманила ее следовать за собой старушка. – Пойдем, зовет тебя. Пойдем, холодно мне, пойдем скорее!
Недоумевая, Альбина двинулась за ней, поднялась на крыльцо, вошла в сени. Люди, стоявшие там, молча расступались перед ними, вглядывались в лицо Альбины с любопытством и завистью. Позвала чего-то, будто бы кто последний, надо чего-то, услышала Альбина голоса за спиной. Хочет заметить меня сама, не доверяет никому? – подумалось ей с невольным неудовольствием.
И внутри изба тоже оказалась совершенно обычным деревенским домом. С выпершей вперед мощною русской печью, чисто побеленной мелом, с цветастой ситцевой занавеской, укрывавшей от глаза полати, стояли на лавках кринки с корчагами, покрытые сверху чистыми полотняными тряпочками, стояли чугуны со ступками. И только вот этих ступок с торчащими из них пестами, медных и чугунных, самых разнообразных размеров, вплоть до громадной, полведерной, неподъемной, наверное, только их было ненормально много для обычного деревенского дома. Травы толочь, наверное, машинально отметила про себя Альбина. Обычного ли вида горница, как обставлена и находился ли в ней, кроме знахарки, кто еще, Альбина не запомнила. Она запомнила только знахарку, и с такой отчетливостью, будто пробыла с нею некое долгое, неизмеримое время, хотя на самом деле ее пребывание у знахарки длилось едва ли более десяти минут.
Знахарка, в отличие от своей похожей на перышко посыльной, была старухой большой, громоздкой, с широким большим лицом, усеянным бородавками, она сидела в широком объемном кресле с одной стороны окна, а напротив, с другой стороны, стояло такое же пустое – видимо, для пациентов. Жидкие, но только лишь чуть седые, черные волосы знахарки были убраны под черный платок с белым горошком по полю, и концы платка, завязанного под подбородком, терялись на черном глухом платье, в которое она была одета. Знахарка сидела, облокотившись о круглые подлокотники кресла и сложив руки одна на другую перед собой на животе, ноги ее в толстых шерстяных носках тоже были перекрещены и зацеплены мысками за круглые ножки кресла. Но больше всего Альбине бросились тогда в глаза ее крупные, тяжелые бородавки, которых было на лице не менее десятка. А что, себя от бородавок не может избавить? – мелькнуло в ней с неприязнью.
– Ух, ты, сердечная, – не меняя своей позы, сказала знахарка, когда Альбина приблизилась к ней, – надо же, как измаялась-то, горемычная прямо…
Спину Альбине облило жгучим кипятком озноба. Волосы ей на голове шевельнуло, и все эти мысли о бородавках тотчас оставили ее, как их и не было. Знахарка почувствовала ее через стены, потому и позвала, что почувствовала, а вовсе не для того, чтобы отметить как последнюю.
– Садись, – кивнула знахарка на кресло напротив себя, и Альбина, не понимая, это она садится или кто другой, опустилась на его край.
– Ладом сядь, ладом, – потребовала знахарка, – расслабься и в глаза мне глянь. Дай я тебя рассмотрю, как следует.
– Это… нужно? – зачем-то спросилось у Альбины помертвелыми губами.
Знахарка, действительно, разглядывая ее, как неодушевленную вещь, ощупывая взглядом, будто руками, и все возвращаясь и возвращаясь взглядом к ее глазам, ничего не ответила ей.
– Здесь болит? – показала она потом на солнечное сплетение.
Альбина покивала молча. Она поняла, что ей – во всяком случае, пока – не нужно говорить ничего.
– У врачей лечилась?
Альбина вспомнила свое пребывание в больнице и снова покивала.
– В церковь ходишь?
Альбина помедлила с ответом. Можно ли было считать то ее давнее посещение церкви, что она ходит в нее?
– Не крещеная? – помогла ей с ответом знахарка.
Ага, ага, согласно покивала Альбина.
– Горемычная прямо, прямо горемычная… – опять сказала знахарка непонятно.
Она смолкла, продолжая ощупывать ее взглядом, и Альбина посмела разлепить губы:
– Вот я прямо не могу ничего – такая слабость. И не слабость даже, а вот…
Знахарка не стала слушать ее.
– Исхудала-то здорово, поди? – прервала она Альбину.
А ведь да, в самом деле, только сейчас, когда знахарка спросила ее, дошло до Альбины, она же ужасно похудела за этот прошедший год после больницы. Похудела не только до прежних платьев, а и те стали ей велики, просто непристойно велики, и все пришлось ушивать!
– Как вы знаете? – не удержалась она от вопроса.
Но знахарка будто не слышала ее. Она повозилась на кресле, отцепила ноги от ножек, перекрестила их по другому и снова зацепилась мысками.
– Болезнь твою я не вижу, – заговорила она, – а током от тебя бьет – сто молний в тебе. Спустить их нужно. Не спустишь – сгоришь. Чего не крещеная-то?
– Так… – Альбина почему-то испугалась. Ей показалось, она ответит – и знахарка прогонит ее. – Родители были неверующие… ну и…
– Чего сама не крестилась?
– Так вот…вот так вот… – пролепетала Альбина. Она боялась сказать знахарке, что никогда перед нею не стояло этой проблемы, жила и жила, и как-то не думалось о том.
– Не верующая, что ли? – спросила знахарка.
И это было не так; сказать, что не верующая – тоже было б сказать неправду, и она не знала, как ответить.
– Не-ет…видите ли…то есть… – забормотала она, и знахарка снова прервала ее:
– Ладно, твое дело. Была бы крещеная, пошла б помолилась. Другим, глядишь, помогает.
– А если мне… – решилась вставиться со своим вопросом Альбина, – если мне настой какой-нибудь… если бы вы…
– Какой тебе настой, – сказала знахарка. – Не вижу твою болезнь. Молнии в тебе.
– А…а… – как тужась, выговорила Альбина, – это такое…что?
Знахарка перекрестилась.
– Пьет тебя кто-то. От него и молнии. Насылает их на тебя. Горишь, и сок идет, и этот, кто насылает, сок твой тот пьет. Вампир с тобой рядом.
По спине у Альбины снова прокатилась обжигающая волна ознобного ужаса. Она не понимала знахарку, но почти верила ей. Знахарка почувствовала ее через стены дома и прониклась к ней сочувствием, а кроме того, знала о ней такое, догадаться о чем было немыслимо.
– И-и… что? – сумела спросить она. – Что же мне делать? Может… заговоры какие-нибудь?
Знахарка покачала головой.
– Не знаю, горемычная, заговоров. Я травница, не колдунья. Хочешь жить – избавь себя от вампира. Сама уйди или прогони. Без всякой жалости, как собаку шелудивую.
– А как я узнаю, кто это? Есть способы?
– Понять должна. Вот этим местом. – Знахарка подняла свои крупные, почти мужские руки с живота и приложила к груди. – Не поймешь – сгоришь, всю тебя выпьет. А поймешь – рви, хоть тебе это дочь родная.
– Сыновья у меня, – сказала зачем-то Альбина.
– Хоть сын. Ясно, горемычная?
Альбина вышла из горницы к русской печи со стоявшими подле нее лавками, покачиваясь. Знахарка крикнула ей вслед: «С этой не бери ничего!»
Альбина с трудом повернулась, думая, что это к ней, но сухонькая старушка уже оказалась рядом, подхватила ее под руки и повлекла в выходу. «Это не тебе, не тебе, иди, милая, – скороговоркой приговаривала она на ходу. – Уже другие ждут, другим надо. Ты, глянь, стремглав на прием, а другие с темени стоят». Альбина приостановилась, сделав попытку открыть свою сумочку и достать деньги, но старушка ударила ее по рукам и снова пихнула к двери: «Ты что, ты зачем? С тебя ничего, ты что, не слышала?» «Почему с меня ничего?» – подумалось Альбине, но додумывать эту мысль было некогда, – старушка уже открыла перед нею дверь и подтолкнула вышагнуть в переполненные людьми сени, а переполненные сени уже сами собой вытеснили ее из своего тесного закутка на крыльцо, а там – любопытствующие взгляды и любопытствующие вопросы, от которых хотелось убежать как можно скорее, и мысль о деньгах исчезла из нее.
Вернуться к ней заставил водитель. «Что, сколько бабка дерет? – спросил он, когда уже ехали. Пока она отсутствовала, он выяснил у других автомобилистов более приличную дорогу, ехал ею, и настроение его улучшилось. – Я почему спрашиваю, матушка тут у меня… думаю, может, тоже свозить?» Понятия не имею сколько, пришлось ответить Альбина. Почему, действительно, с меня ничего, тут же, вдогонку ответу вновь подумалось ей. И мысль об этом мучила уже до самого конца пути, и не оставляла, когда оказалась дома, и получалось, что единственное объяснение – потому что знахарка ничем не смогла помочь. А выводом из этого выходило, что помочь себе может только она сама, все в ее собственных руках, и не сможет – ничьей вины, кроме ее личной, в том, что с нею случится, не будет.
Вечером за ужином она приглядывалась к сыновьям. В ушах стоял голос знахарки: «А хоть и сын!» Младший нынче чудом был дома, обычно он появлялся за полночь, а то и совсем не появлялся, выговорив, а вернее, вырвав себе это право – не появляться, и что он там делал вне дома, чем занимался, – оставалось только надеяться, что урок прошлого все же пошел ему впрок. Нет, едва ли, чтоб это был он, наблюдая, как он наворачивает за обе щеки, решила Альбина. Он так мало бывал около нее, она его совсем не видела, если он и пил ее соки, то совсем по-другому. Старший, наоборот, редкий вечер теперь отсутствовал дома, они с невесткой последнее время заделались совсем домоседами, утром – на работу, после работы – прямым ходом обратно. Закончив институт, он было распределился на один из городских заводов по специальности, но вскоре у них пошли всякие разговоры с отцом, муж что-то объяснял ему, даже покрикивал: «Ты там необходим! Мы в своих людях нуждаемся! Всё там теперь будет решаться!» – и уже несколько месяцев старший занимал какую-то высокую должность в некоем возникшем недавно коммерческом банке. Сейчас он сидел за столом, держа корпус с идеальной прямизной, будто доска была привязана к его спине, со столовым прибором в руках, по всем правилам – вилка в левой, нож в правой руке, – хотя потребности в ноже по той еде, которую ели, не было никакой, это он сделался таким, начав работать в банке, и в волосах у него появился ровный, прямо-таки лезвийный пробор. Нет, сказалось в Альбине, и он тоже едва ли. Можно было бы допустить вероятность подобного, если б не был сосредоточен на себе. Если бы не был так погружен в себя – никого, кроме него самого; зачем ему пить кого-то, – он упивался собой.
«Муж?» – подумала Альбина, переводя взгляд на того. С этого бы сталось. Он теперь был ей непонятно кем, – совладельцем дома, наверно, не больше, она спала с ним за прошедший год, после выхода из больницы, считанное число раз, не возникало никакого желания, а если что и возникало, то, скорее, отвращение – и какие чувства ответно могло вызывать в нем такое ее поведение? Приходилось, наверное, искать на стороне, но одно дело прихватывать для сладости на стороне, когда у тебя дома на столе каша с мясом, и совсем другое – перебиваться изо дня в день конфетками. Да еще по нынешней поре, когда у них с этими конфетками стало туго.
– Мамочка, соль подайте, около вас там стоит! – сказала невестка.
– Да-да, где-то здесь, – засуетилась, глазами по столу перед собой, отыскивая солонку, Альбина. – Вот, пожалуйста! – И, привстав, передала соль невестке.
– Спасибо, мамочка! – сказала невестка, принимая солонку, улыбнулась благодарно, глаза их встретились, и Альбина поймала себя на том, что ее собственная ответная улыбка угодлива и подобострастна.
Она поймала себя на этом, – и ее озарило.
Словно в молниевой вспышке, она увидела все свои отношения с невесткой – с той первой их встречи по ее выходу из больницы до нынешнего дня, – и они впервые предстали перед нею как беспрерывная цепь этой угодливости и подобострастия. Она боялась невестки с того мгновения, как увидела ее в своем доме, боялась необъяснимо, беспричинно, животом, она чувствовала себя с нею кроликом перед удавом и, страшась этого страха, изо всех сил отпихивалась от него, делая вид, будто его и нет. Словно бы какие невидимые волны исходили от невестки, заливали ее, накрывали с головой, она барахталась в них, пытаясь удержаться на поверхности, а они заливали и заливали ее… Боже праведный, ведь она едва не утонула в них!
Это была невестка. Невестка пила ее, не кто другой. Невестка, несомненно.
– Шифоновое мое платье как, хорошо? – необъяснимо для себя спросила Альбина.
Когда оказалось, что вся ее прежняя одежда болтается на ней, как на пугале, и пришлось все перешивать, невестка буквально повисла на Альбине, прося отдать несколько вещей, переделать которые не получилось: «Мамочка, клянусь, буду так осторожна – нигде не зацеплю, не испачкаю!» И носила она платья Альбины с каким-то особым удовольствием, видно было – прямо наслаждалась ими, как особой, необыкновенной наградой, и Альбине, конечно, было это приятно.
– Я шифоновое не надевала еще. Не было случая, – отозвалась невестка. – Оно такое… ну, не для будней ведь. А сидит как… сидит изумительно, мне так нравится…. Я вам ужасно, мамочка, благодарна.
Она была удивительно почтительна к Альбине, всячески подчеркивала свою младшесть, вежлива была и предупредительна – необыкновенно; казалось бы, что Альбине бояться ее?
И вообще она оказалась значительно лучше, чем то представлялось вначале. Никакой не девкой оказалась, а очень даже приличной, заботливой, внимательной женой, – это заметно было невооруженным глазом, по одному тому, как подбирала сыну галстук к костюму, а то, что любила тряпки, любила одеться да пофорсить – так это нормальное дело для женщины, вполне естественное. И оказалось недурной хозяйкой: собственной волей потихоньку-помаленьку перенимала на себя брошенные Альбиной домашние дела, следила, чтобы имелось чистое белье в гардеробе, а грязное вовремя бы сдавалось в прачечную, взяла под контроль холодильник, чтобы не пустовал, нашла какую-то женщину наводить раз в неделю чистоту в доме, – хозяйкой, хозяйкой оказалась!
Ага, вот именно, хозяйкой, уличающе, дополнительным обвинением прозвучало в Альбине. Получалось, что невестка отбирала уже у нее и дом!
– Ты вот что… знаешь ли, – чувствуя, как все в ней дрожит и трепещет от кроличьего страха, но полная истерической, звенящей решимости перебороть его, проговорила Альбина, не глядя в лицо невестке. – Ты шифоновое, знаешь ли… не надевай. Я его у тебя забираю. Я его сама буду носить.
Зачем она сказала это, что за глупость была – отбирать платье, которое, конечно же, если б поправилась, снова могла носить, как и любые другие? Но необходимо было сказать это, ей нужно было сделать что-то – для самой себя, и прямо сейчас, немедленно, – показать себе, что способна защититься, может пойти наперекор своему страху, и сделает шаг сейчас – пройдет потом и весь путь.
Старший сын, схватила она краем глаза, весь напрягся, опустил вилку с ножом в тарелку, лезвийный его пробор сверкал у него в волосах подобно кинжальному жалу.
– Нну-у… мама… если вы так… хотите… если вы так считаете, – потерянно сначала, слегка даже заикаясь, но потом обретая спокойствие и придавая голосу твердость, сказала невестка, – разумеется, если вы так считаете, то, конечно, мама.
Она жарко запунцовела, кровь залила ее всю: лицо, уши, шею – но никаких ее чувств наружу не выплеснулось. И Альбина ощутила, что по-прежнему боится невестки, ощутила свой дрожащий кроличий хвостик и прижатые к черепу боязливые уши, – и осознала, что тот путь, который, казалось ей, впереди, должно пройти прямо сейчас, не откладывая, раз решилась ступить на него, потому что потом ей может недостать сил.
– А тебе я вот что… что хочу, – сказала она, взглядывая на старшего сына, к нему обращаясь, потому как к невестке – было немыслимо, – вы сколько будете здесь жить? Вы ж собирались отдельно, квартиру там снимать… Сколько мне за вами… ухаживать. Пора вам, я полагаю… Что не ищите ничего, на отца с матерью сели и ножки свесили?
– Подожди, подожди, – произнес сын, со звяком выпуская из рук вилку с ножом и замедленным, особо неторопливым движением сцепляя перед собой пальцы. – Что с тобою? Что случилось? Успокойся.
– То со мной случилось! Что, мать чиканутая, думаешь?! А если и чиканутая! Не было у вас денег снимать – жили, а теперь что? Сколько в своем банке теперь огребаешь? Мало, что ли?! Давайте ищите себе квартиру, и чтоб духу вашего больше здесь не было!
Муж пытался увещевать ее, вставиться со своимм словом, – она не дала ему произнести ничего связного.
– А ты заткнись! Ты чего вообще? Защитник мне! Ты вообще молчи!
Она преодолела себя, переступила порог, – и теперь ей было по силам все, что угодно. «Ай да молодец, ай да я, ай да вот так!» – одобрила она свое поведение с язвительно-трезвой усмешкой. Оказывается, одна она сидела за столом и кричала все это в беспамятстве, а другая она, с холодной, ясной головой, откуда-то извне, откуда-то со стороны наблюдала за той первой и даже, пожалуй, руководила ею.
21
– Что, Альбина Евгеньевна, – осторожно сказал врач, – может быть, давайте отдохнете? Ну, если тяжело. Оформим, давайте, инвалидность, ваш диагноз нам это позволяет. Будете пенсию получать, сможете больше времени проводить на свежем воздухе…
– Какой мой диагноз? – с запозданием прервала его Альбина. – Что вы имеете в виду?
– Ну, какой-какой, – улыбнулся врач. Вы же все прекрасно знаете. И вы интеллигентная женщина, вы понимаете, что ничего страшного в вашем диагнозе нет.
Альбина усмехнулась:
– В шизофрении-то?
– Ой, я вас прошу, Альбина Евгеньевна! – Врач был ласков и любезен до отвращения. – Их двести видов, шизофрении, вы же должны понимать. Это когда в молодости открывается – вот тогда тяжелый прогноз. А у вас – так, нервы. Естественно: жизнь к тому предрасполагает.
– Нет у меня никакой шизофрении, – сказала Альбина.
– Конечно, конечно, – мучаясь улыбкой, подтвердил врач. – Это только общее такое название… а вы просто устали, нервы у вас обтрепались, надо отдохнуть. И нужно воспользоваться вашим диагнозом. Отдохнете, как следет, а потом снова пойдете на работу. Почувствуете себя лучше – и пойдете. Ну, не туда, где были, так в другое место. Я думаю, с этим делом проблем, у кого-кого, а у вас не будет.
– Знаешь разве, откуда они вылезут, проблемы, – ненужно откомментировала его слова Альбина.
Она сидела у того самого врача-мужчины, который когда-то назначил ей в качестве лечения лыжи. Теперь, после больницы, он стал ее главным, основным врачом, и без его заключения никакой другой врач не мог ничего ни прописать ей, ни предписать. Она старалась попадать к нему как можно реже, хотя он и бомбардировал ее письмами с требованием прийти, показаться; если уж только – никак не обойтись без него, тогда лишь и шла, и нынче была как раз подобная ситуация.
Она прогуляла на работе неделю с лишним. Не было сил ходить туда, заниматься всеми этими бумагами, подшивать, перепечатывать, видеть все те же и те же обрыдшие лица, – и не ходила, махнув рукой на последствия: что будет, то будет! У нее и прежде уже случались такие прогулы, но тогда муж снимал трубку и обо всем договаривался с председателем поссовета, а сейчас она не жила дома и что же, для того уходила из него, чтобы обращаться к мужу за помощью?
– Нет, ну а что вас смущает, Альбина Евгеньевна? – спросил врач. – Оформим инвалидность, будете получать пенсию – и вам сразу станет легче: отпадет эта обязанность ходить на работу, которая так гнетет вас.
Засранец, подумала о враче Альбина, знает за меня, что мне хуже, что лучше.
Она и не против была бы получить эту инвалидность, чтобы прикрыться, в самом деле, ею и жить, как того требовала ее главная нынешняя жизненная обязанность, чтобы быть свободной от всяких прочих, вроде работы в поссовете, но получить инвалидность – значило совсем уж попасть в зависимость от врача, в рабство – не иначе. Захочет – и отправит в больницу, как ты ни протестуй. А в больнице сотворят с ней такое… опять забудет обо всем, и о Нем тоже. Нет, ей следовало быть очень осторожной с врачом, ни в коем случае, ни в чем не раскрываться перед ним, путать его и обманывать.
– А может, у меня опухоль? – не отвечая на вопрос врача, спросила она.
– Какая опухоль? – недоуменно вскинулся он.
– А вот, когда я тогда приходила, вы говорили.
Врач задумался, напряженно вспоминая.
– А, тогда! Ну, что вы. Это я просто предположение такое… Нет у вас никакой опухоли, анализы ваши ни на что подобное не указывают. А тогда, – вспомнил он еще, – мы вам прекрасную диспансеризацию провели – нет у вас ничего. А что это вы вдруг об опухоли? Вас что, мучают мысли о ней?
Чтоб тебе, ругнулась про себя Альбина, Она сообразила, что врач заподозрил ее теперь в новом навязчивом состоянии.
– Ничего меня не мучает, – сказала она. – Мне справка нужна, задним числом. Что вам, трудно дать?
Врач, ласково улыбаясь, покачал головой.
– Задним числом – никак. Я же вам предлагаю, давайте инвалидность. Лучший выход.
– Не хочу я никакой инвалидности.
– Ну, тогда новые и новые неприятности, из-за того, из-за этого… будете реагировать, переживать, нервы вдребезги, – нужно это вам?
– Будут вдребезги – вот вы и будете виноваты. – Альбина встала со стула и пошла к выходу из кабинета. Она знала, что ей с ее диагнозом, да особенно в этом кабинете, вполне допустимо говорить подобные вещи. У порога, уже взявшись за ручку, она произнесла: – Вам не кажется, что вы болван?
И вышла, не дожидаясь ответа. Она не особо заботилась о том, чтобы поддерживать с врачом хорошие отношения. Она знала: она больше не попадет в эту больницу. Будет скрываться, уедет куда-нибудь, но больше не попадет. Она им не даст такого повода, чтобы снова могли засадить ее туда.
Вызванный лифт остановился перед нею, она вошла в него, нажала кнопку первого этажа, и лифт, тихо пошоркивая тросом, понес ее вниз.
На первом этаже, когда двери открылись и вышагнула наружу, она вышагнула прямо на невестку, собиравшуюся садиться в лифт.
– Мама! – ахнула невестка. И не стала заходить в лифт, пошла, торопясь и заглядывая сбоку в лицо, рядом. – Мама, подождите! Мама, одно слово, пожалуйста! – быстро приговаривала она на ходу, пытаясь остановить Альбину.
Альбина молча миновала холл, тамбур подъезда из стекла и белого металла и остановилась только уже на крыльце. Здесь, в тени подъездного козырька, веял ветерок, нес прохладу, и не было той духоты, что внутри поликлиничного здания.
– Что такое случилось? – спросила она, оглядывая невестку.
Судя по всему, у той уже пошел седьмой месяц, живот был вполне отчетлив – не ошибешься, беременная или нет, и видимо, она пришла по какой-нибудь надобности к гинекологу. Одета невестка была, отметила Альбина, в ее костюм – тот самый, что вместе покупали тогда по талону, давно слишком большой самой Альбине, а невестке сейчас оказавшийся впору, костюм был делового, строгого кроя и не очень шел невестке, диссонировал с ее молодым, даже юным обликом, и однако она была именно в нем. Может быть, подумалось Альбине, потому она так любила ее вещи, что это ей было необходимо, чтобы пить ее?
– Мама! – сказала невестка умоляющим голосом. – ну, почему, почему? Я себя чувствую такой виноватой… Но в чем, в чем? Вы меня так заставляете терзаться. И это в моем положении! Разве я сделала что-нибудь плохое? Чем мы вам мешаем? Скажите, мы попробуем исправиться. Мама, пожалуйста, я прямо не могу, ведь я же с вашим внуком или внучкой хожу! Чем, чем мы вам мешаем?!
А то не знаешь, вурдалачка, хотелось бросить Альбине, но она помнила, как однажды, все тогда же, когда после ее больницы ходили с невесткой покупать платья, совершенно неожиданно для себя проговорилась невестке в своей тайне, и сейчас все в ней было настороже, чтобы не допустить похожего промаха.
– Живи, чего ты терзаешься, – сказала она вслух. – Не терзайся, нечего. Не можете уйти вы, – ушла я. – Какая разница.
– Но, мама, мама!.. – снова начала невестка, Альбина прервала ее:
– Бога ради, Бога ради! Только не страдай, я тебя умоляю. Прими как факт. И не уговаривай возвращаться, это исключено.
Она не жила дома с середины мая. Оказывается, когда ей открылось, кто может пить ее, невестка уже ходила с ребенком. Оттого они и стали вдруг так домоседствовать. Она ходила с ребенком, и выгонять их из дома было бы последней подлостью. Альбина поняла, что не сможет этого сделать, не по силам ей сделать такое. Сын, правда, предпринимая несколько попыток найти что-нибудь подходящее, но или он недостаточно упорно искал, или действительно так трудно было с нормальным жильем, однако все его попытки закончились безрезультатно, и она осознала, что нужно уходить самой.
Первую пору после ухода из дома она жила у бухгалтерши. Бухгалтерше было лестно иметь ее в постоялицах и страшно, – Альбина чувствовала это по каждому слову той, обращенному к себе, по каждому ее движению в своем присутствии, по всему ее поведению; лестно – потому что Альбина принадлежала для нее к тому могущественному вершинному слою, который вроде бы вот он, рядом, вместе работаете, но лишь попытайся коснуться – так недоступен, как Небеса, и оттого искушающе привлекателен, манящ и рождает желание любым способом приобщиться к нему, а страшно – потому что бухгалтерша боялась Альбининого диагноза, ожидала, каждое, должно быть, мгновение, каких-нибудь непотребностей с ее стороны, каких-нибудь выходок… И этих же сумасшедших выходок, видела Альбина, ждали от нее все домашние бухгалтерши – жить в такой обстановке долго было нереально. Да вдобавок ко всему тому дом у бухгалтерши оказался весьма невелик, только-только для ее семьи, даже тесноват, и Альбине не выкроилось не только своей комнаты, но даже отдельного угла, где бы имелась возможность уединиться, все среди чужих людей, у них на виду и с ними вместе, и она начала искать что-то собственное через несколько дней, как перебралась к бухгалтерше.
Сейчас она жила в летнем домике на садовом участке в шесть соток, в получасе ходьбы через лес от окраины поселка. От мысли найти квартиру в городе она отказалась с самого начала – это было не по силам, рассчитывать следовало только на свою, довольно смешную зарплату в поссовете да сберкнижку, которая тоже не отличалась у нее особой пухлостью, – она хотела снять себе какую-нибудь комнату с отдельным входом в своем же поселке, но и поселковые цены оказались велики несусветно, и все, что она в конце концов смогла снять – этот летний домик в одном из тех многочисленных коллективных садов, что, прячась по болотинам в лесах, окружали город со всех сторон. Владельцами домика была бездетная молодая пара, возраста ее сына с невесткой, участок достался им в наследство от умерших родственников, никакого интереса к садоводству с огородничеством они не имели, но и продавать дом им не хотелось, и они пустили Альбину в него едва не бесплатно. Дом был маленький, даже крохотный – комната и веранда, печь дымила, а напряжение в элекросети до того скверное, что вскипятить стакан кипятка для чая уходило чуть не полчаса, но Альбину все устраивало. Она взяла в прокате переносной телевизор с маленьким экраном, приволокла с работы стоявший там без употребления в председательском кабинете стабилизатор, чтобы телевизор мог работать и с таким напряжением, и жила вдвоем с Ним – ловя каждое Его появление на экране, каждое поминание Его имени и просиживая перед телевизором, когда показывали в записи заседания прошедшего в июле партийного съезда[63], до самого утра.
Она чувствовала, что должна быть с Ним сейчас беспрерывно, не оставляя Его своим вниманием ни на день, качели носились с прежней неудержимой стремительностью, с бешеной неудержимой силой вращались колеса, – у Него все должно было получаться, ничто не могло стать Ему помехой; но только если она все время будет держать Его в фокусе своего зрения, так она чувствовала.
И у Него все получалось. Несмотря ни на что. Ни на какие противодействия. Еще тогда, в марте, словно пройдя по бритвенному лезвию, Он победил на одних выборах, а теперь на этом партийном съезде, победил на других[64] – победил, хотя волны, что угрожали Ему, были такой высоты и мощи, что, казалось, сметут Его, сомкнут, перекрутят в своем нутре и выбросят наружу жалким бездыханным комком плоти. Ему все удавалось, все выходило, как было нужно Ему.
При том, что счет к Нему все возрастал и возрастал. Республики, примыкавшие к Балтийскому морю, одна за другой объявляли себя отдельными странами, унося с собой порты с флотами и побережья с курортами[65]; с продуктами в магазинах стало так плохо, что впервые после войны, которой она не застала даже своим младенчеством, повсюду вводили распределительные талоны; и пожар кавказских погромов дохлестнул своим пламенем до дальней Средней Азии: Ош называлось место, где выхлестнуло это пламя, сжегши разом полтысячи жизней, где-то в Киргизии, никогда прежде она и не слышала такого названия[66]. Ужасный счет можно было бы предъявить Ему к оплате, поскользнись Он на каком-нибудь из тех крутых виражей, что Ему приходилось закладывать.
Но она знала: никакой счет не будет Ему страшен, все пойдет Ему в зачет, а не в вину, если она будет с Ним, сможет быть с Ним, не отвлечется ни на что другое в жизни; а и не имеет она никакого права ни на что отвлекаться: нет у нее сейчас ничего важнее в жизни, чем Он.
– Что мне передать дома? – спросила невестка. Она буквально сочилась страданием. – Я вас видела. Я должна буду сообщить дома, что видела вас.
Честная какая, с издевкой подумалось Альбине. Вурдалачка! И сообразила, что может использовать невестку для разрешения своей безвыходной ситуации. Почему нет. Вдруг получится. Что дурного может та сделать ей на расстоянии.
– Передай своему свекру, – сказала она – пусть, организует звонок моему начальнику. А то меня с работы попросят. Я тут опять не ходила неделю… Поняла? Прямо немедленно.
– Хорошо, – покивала невестка. Альбина тронулась идти, и невестка потянулась за ней следом: – А где вы хоть живете-то?
Ах ты, знать ей, где живет! Альбина остановилась и выставила перед собой заградительным жестом ладонь: – Бога ради! Вот это не надо! У-воль!
И теперь рванула вниз по ступеням едва не бегом, чтобы невестка наверняка осталась на месте. Невестка с ее животом, как бы того ни хотела, не могла позволить себе двинуться за нею с подобной же резвостью.
А ладно, Бог с ней, оправдывалась после перед самою собой Альбина, мучаясь, что соблазн извлечь пользу из встречи с невесткой оказался сильнее очевидности: не иметь с нею никакого дела. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Раз уж такой случай – грех даже было бы не воспользоваться им. Не может же невестка из-за того, что передаст поручение, сделать ей что-то дурное…
И страхи Альбины действительно оказались безосновательны. Ничего, кроме пользы, не принесла ей нечаянная встреча с невесткой. Назавтра она вышла на работу, – и будто не отсутствовала неделю без всяких оправдательных причин: председатель вел себя с нею так, словно этой прогулянной недели просто не было в календаре. И бухгалтерша потом сообщала Альбине: вызвал и дал указание: проставьте ей в табеле, что работала.
Видимо, невестка не имела больше никакого воздействия на нее. Видимо, расстояние и впрямь сводило это воздействие к нулю.
Подтверждением тому было ее самочувствие. Нет, такого, чтобы она вновь стала чувствовать себя полной сил и здоровья, какой была, помнилось ей, год назад, особенно до больницы, – такого не произошло, силы ее до конца к ней не вернулись, оставались и слабость, и вялость, но в ней была воля одолевать их – вот главное. И ко всему тому она перестала худеть. И даже чуть-чуть поправилась, – она заметила это по своим ушитым платьям, которые, еще немного, и пришлось бы расставлять.
С неделю после встречи в поликлинике она внимательно следила за собой: худеет, не худеет, поправляется? – все с нею оставалось, как до встречи, и ее переполнило ликованием: невестка ничего не могла ей сделать, она ускользнула от нее, избавилась от ее упырьих пут! В ней появилось даже довольство, что они столкнулись тогда с невесткой, столкнулись – и вот результатом она знает, что правильно поступила, уйдя из дома, хорошо поступила, а не столкнулись бы и не дала бы ей поручение, – не имела бы тому подтверждения.
Ее подмывало поделиться своими ликованием и довольством с бухгалтершей, и она едва сдерживала себя, ужасно хотелось. Бухгалтерша заместила в ее жизни Нину.
Они теперь постоянно пили с ней на работе чай, перемывали косточки председателю и всем остальным, кто работал с ними в поссовете, дальше поссовета бухгалтершу ничто не волновало, никто не интересовал, и это Альбину очень даже устраивало. Потому что, если б иначе, разговор бы непременно выходил на Него, пришлось бы защищать Его, объяснять его поведение, и нечаянно, забывшись, она могла бы проговориться о своей тайне, а это было нельзя ни в коем случае. Недопустимо.
Бухгалтерша единственная знала, где она живет. И единственная, кроме самой Альбины, появлялась в ее жилище. здесь они тоже пили чай, подолгу кипятя воду на электроплитке, Альбина водила ее по чужим, заброшенным владениям, предлагала угощаться ягодами. Но все было неухоженное, вырождающееся – малина червивая и с болезненно-сухой землистой корочкой по закраинам, смородина мелкая и кислая, – и бухгалтерша, клюнув раз-другой, устремлялась обратно в дом. Пойдем, закипело уже, наверно, говорила она, не веря, что за такое время вода успела лишь хорошо нагреться. Приходи ко мне, я тебя такой малиной попотчую! У меня малина нынче уродилась, не малина, а чудо… Да, гляди-ка! – недоумевала она, обнаружив воду только еще пускающей со дна серебристые пузыри. Ну, у тебя тут!.. И после, когда все же сидели с чашками горячего чая в руках, хрустели печеньем, говорила с этим же недоумением:
– Ну, лето ладно, лето – оно лето. А как же ты тут зимой-то будешь?
– А что зимой, – отвечала Альбина. – Сейчас народу здесь много, вот напряжение и падает. А зимой нормально будет.
– Ну, может… – недоверчиво тянула бухгалтерша. И оглядывала стены: – Да ведь он же, поди, холоднющий!
– Да уж не жаркий, конечно, – соглашалась Альбина. – Дровами надо запастись. Дровами запастись, да топить не жалеть – и тепло будет.
– Ну, если не жалеть… – тянула бухгалтерша.
– Да уж, конечно, не жалеть, как же иначе, – выношенно подтверждала Альбина. Она уже договорилась с хозяином соседнего участка, имевшим бензопилу, что тот распилит ей дрова, когда привезут, и уже выписала себе через поссовет целых десять кубометров, чего должно было хватить на зиму за глаза, и только ждала, когда на базе появится береза, чтобы поехать и взять ее.
– А вообще ты чего, как ты дальше-то собираешься, – время от времени начинала допытываться в такие посещения бухгалтерша. – Долго ли можно так. Бросила все, и у самой ничего… мужика даже нет, это же ты все равно, как в воздухе висишь! Ну, повисишь-повисишь, а потом?
– А потом – суп с котом, – усмехаясь, традиционно отвечала Альбина.
Она ничуть не задумывалась ни о каком будущем. И ни о чем не загадывала вперед. Она знала: нужно пережить зиму, а там будет видно. Главное, пережить зиму, а там все само собой расставится на свои места, и сами собой найдутся ответы на все вопросы.
Первые утренники стали схватывать землю ломким хрустким панцирем и опушать траву белой щетиной инея в самом начале октября. Печь оказалась хуже, чем она полагала, и, чтобы не остывала, ее пришлось топить чаще, чем бы хотелось. А сам дом хуже держал тепло, чем она надеялась; едва печь остывала, тепло из него выдувыло, по утрам она просыпалась оттого, что у нее ломило от холода лоб. Листья с деревьев и кустов облетели, садовое пространство, тесно набитое маленькими яркими домиками, просматривалось насквозь, до темной стены окружавшего его леса, в домиках вокруг уже почти никого не осталось, десяток человек – не больше, и отсыпанные песком дорожки сада оживали только еще по субботам-воскресеньям, слышалось хлопанье дверей, стук каблуков по ступеням крыльца, далеко разносились звуки голосов, а потом и в субботы-воскресенья сделалось тихо, и от сторожа, обитавшего со своей старухой в хорошей, крепкой избе около садовых ворот, Альбина узнала, что они остались здесь втроем.
Что за зима ей предстоит, Альбина поняла лишь тогда, когда температурный столбик прочно переместился за нулевую отметку. Около пола воздух в доме не нагревался вообще никогда, и она все время, не снимая ни на минуту, была вынуждена ходить в валенках, оставшихся, надо полагать, от прежних, умерших владельцев, а вода в ведре около двери всегла была подернута сверху целлофановой пленкой ледка. И это при том, что теперь она топила печь три раза в сутки: даже и ночью, специально ставя будильник, просыпаясь по нему, напихивая полную топку дров и поскорее ныряя обратно под одеяло, пока постель не остыла. Выпадавший снег больше не таял, пушистый слой его делался все толще и толще, пришлось расчищать себе тропинку лопатой, и чистить приходилось громадное расстояние – до самого дома сторожа. Чистить так же получасового хода тропу в лесу было немыслимо. Пока в лесу снега лежало немного, ощутимо меньше, чем на садовом открытом пространстве, и одолеть путь до поселка было вполне возможно. Но через самое недолгое время снежный покров неизбежно нарастет и там, и как же ей добираться тогда? А на лыжах, как, ответил ей сторож, когда она спросила его, каким образом добирается он. Как еще-то. А моя старая вон всю зиму здесь сидит, никуда и не выбирается. Да что вы, удивилась Альбина. Она была все же городской жительницей, и такое не укладывалось у нее в голове. А если с сердцем вдруг что-то, ну, вообще с самочувствием, как «скорую» вызвать? А помирай, чего вызывать, отозвался сторож. Но потом ответил: а опять всё на лыжи, до поселка – и оттуда по телефону. Будет дорога расчищена – приедут. К саду и в самом деле вел довольно приличный проселок, по которому можно было проехать на машине, но он, кружным путем в огиб леса, вел сразу в город, и если добираться на работу по нему, это заняло бы целый день в одну лишь сторону.
Что же, ходить на работу на лыжах? Альбина не знала, как ей быть. Ну, лесом на лыжах – это туда-сюда, это еще приемлемо. А потом, по поселку? Не в руках же нести их. И каждое утро, и каждый вечер – по поселку на лыжах?
Мысль о том, что придется ходить на лыжах по поселку, угнетала Альбину. Она не могла представить себе этого. И ведь, наверное же, с рюкзаком за плечами, чтобы положить куда-то и сумку со своими вещами, и купленные продукты… Этими лыжами она сразу ставила себя в какое-то особое, ущербное положение по отношению ко всем остальным людям, выходила из ряда вон, делалась если и не посмешищем, то притчей во языцех, подобно Семену-молочнику.
Но другого способа добираться до работы она не видела, и получалось, что придется пойти на него. Лыжи, помнила она, стояли в кладовой рядом с туалетом, под лестницей на второй этаж, она помнила даже, как они там стоят, и знала, где палки от них и ботинки, ей было бы достаточно пяти минут, чтобы зайти, взять это все и уйти, летом, в первый месяц после ухода из дома, когда обнаружилось, что нужно то платье и то, эта вещь и еще вот эта, она так и делала: звонила домой, там никто не снимал трубку, – и она тут же вылетала из поссовета, открывала своим ключом дверь, кидала быстро в приготовленные сумки нужные вещи и уходила, никого не увидев. И сейчас она хотела сделать так же, но всякий раз, набрав номер, напарывалась на голос невестки: «Аллё-о! Да говорите же!» – и до нее, наконец дошло: невестка уже в декретном отпуске, ждет родов, мало куда, наверно, выходит, и идти за лыжами – увидеться с ней.
Но увидеться с кем-либо из семьи, тем более с ней, – было совершенно невозможно. После очередного невесткиного «Аллё-о?» Альбина принялась звонить по справочнику в различные городские магазины, где могли торговать лыжами: с лыжами, оказывается, была сейчас проблема, почти не купить, оказывается, в их края привозили лыжи обычно из Эстонии, а теперь – все, кончились эстонские лыжи, больше не будет. Но выхода у нее не было, ей нужно было достать лыжи во что бы то ни стало, и в конце концов ее звонки увенчались успехом: лыжи нашлись на некоей загородной лесоторговой базе, где им совершенно не полагалось быть, – должно быть, завезли туда по обычной нелепости, и вот они стояли там, пылились вдали от своего покупателя.
Поездка за ними стоила ей полного дня. И пришлось еще искать мастерскую, где бы прикрутили крепления и подковали металлом ботинки, ехать туда в другой день, забирать лыжи, и все это делалось Альбиной не с легкостью, что вдыхается в любую заботу ощущением неизбежной необходимости ее, а через силу, с натугой, словно бы сквозь рыдание.
Что-то надламывалось в ней, – она чувствовала, боялась этого и боялась признаться себе в своем страхе.
Вернувшееся на неделю тепло съело почти весь снег, заставив Альбину ходить в резиновых сапогах, и снова обрушился мороз, и сразу взял десятиградусную отметку, – вскочив среди ночи по звонку будильника заправить топку дровами, она осознала, что температура в комнате почти нулевая, несмотря на то, что последние угли в печи перестали пыхать язычками пламени и она закрыла заслонку всего каких-нибудь часов пять назад. И тут, швыряя в печь приготовленные с вечера тоненькие полешки, чтобы огонь скорее схватил их, вся содрогаясь от пробиравшего до костей озноба, Альбина осознала, чего боится.
Она боялась бессмысленности своей жизни здесь – вот чего!
Ей мнилось до нынешней ночи, что она боится не выдержать своего существования в этом домике, боится, что все старания выжить здесь напрасны, пойдут прахом, слишком непривычна была она к подобному быту, слишком изнежена комфортом, – и не выдержит, сорвется, убежит в дом, под бок к невестке, пьющей ее силу, а на самом деле она боялась совсем другого: бессмысленности своей жизни здесь!
Ведь Он же был напрочь лишен ее внимания все последнее время! Эта ее нынешняя жизнь здесь съедала ее всю, без остатка, растворяла ее в тысячах бытовых забот, будто в какой-нибудь серной кислоте, сжирала все ее дни, все ее силы, – ее не оставалось на Него ни капли! Ей нужно было колоть дрова, щепать лучину, носить воду, выносить помои, готовить себе еду и очищать кастрюли от сажи, которой они покрывались в мгновение ока, поставь их только раз на огонь, а еще и стирать, и устраивать себе баню в таких условиях – ей беспрерывно нужно было крутиться белкой, чтобы обеспечить свое существование здесь, и ее уже не хватало даже на то, чтобы смотреть, хоть вполглаза, информационную программу по телевизору каждый вечер! И это еще лишь предзимье, а когда грянет действительно зима? И, уходя отсюда в поссовет, там она тоже только и думала о печи, о лучине, о ведре с помоями – не забыла ли вынести, чтобы потом в комнате не пахло, о ведре с водой – не забыла ли поднять его на печь, чтобы лед не взялся броневой коркой… этот ее быт здесь замкнул всю ее жизнь на себя, загнал ее в себя, как в клетку, и что тогда за смысл был в ее жизни здесь, польза ли была от этой жизни?
И после, лежа в не успевшей нахолодиться постели – так быстро скакнула в нее обратно, – слушая в темноте, как, потрескивая, разгорается в печи огонь, глядя на первые слабые отсветы его на потолке, она поняла: Он упущен ею. Что она наделала, как так получилось?! Такого не случалось еще никогда, даже в пору ее сумасшествия с этим проклятым афганцем, оказавшимся сыном Гали-молочницы. Она упустила Его, несомненно, – и безусловным свидетельством тому являлось то, что Он делал сейчас. Он сдавал позицию за позицией, программа реформ, которую еще в конце лета и начале осени Он одобрял, была им оставлена без поддержки[67], а оставляя ее без поддержки, Он оставался без поддержки сам, окончательно и навсегда расходился с тем хитроглоазым, с круто-завитым пепельным клоком волос на лбу. Он рубил сук, на котором единственно и мог усидеть, рубил, чтобы с неизбежностью рухнуть, – это было так очевидно, почему Он не видел этого?!
Впрочем, вопрос – почему Он не видел? – прозвучал в ней риторически. Она знала почему. Потому что ее недоставало на Него. Качели носились, маховики вращались, но то было действие инерции, она оставила их движение без своего попечения, и если в происшедшем есть чья вина, то это ее. Ее, и ничья больше.
Печь уже разгорелась, поленья уже полыхали вовсю, стреляя разрывающимися волокнами и шипя изливающимся соком. Альбина вскочила с постели, всунулась ногами в валенки, распахнула топку и бросила туда еще несколько поленьев, хотя в том не было пока никакой надобности. Ее лихорадило, сотрясало ознобом, но происходило это сейчас совсем не от холода.
Она попалась в ловушку, вот что. Да, это несомненно и точно: она попалась в ловушку. И все так ловко было подстроено, вход в нее выглядел столь естественно, что она заскочила вовнутрь, совершенно не заметив того; заскочила, дверца захлопнулась – а она даже не услышала ничего. Прогнала от себя Нину, сошлась с бухгалтершей, кто для нее была бухгалтерша? – да никто! а она сошлась с нею! И ведь это бухгалтерша, не кто другая, подсунула ей знахарку. И что за бред наговорила знахарка, что за чушь? А она поверила ей, и не просто поверила, – а как глаза открылись, но на что открылись, что она увидела? Мираж, который приняла за реальность! Ловушка, все это была ловушка, и она далась поймать себя!
Альбина легла обратно в постель, постель по-прежнему хранила ее тепло, а от печки начал исходить не сильный еще, но явный жар, однако дрожь все не оставляла ее. Она сворачивалась калачиком, забиралась под одеяло с головой, но ничего не помогало, лоб, как повязкой, стягивало жуткой болью, и внутри нее все повторялось почти рыданием: что же делать теперь, что же делать?! Она видела теперь: жить здесь невозможно. Жить здесь и дальше – только во вред Ему, жить здесь и дальше – наверняка уже ничего не исправить, надо было немедленно выбираться отсюда, но куда? снова к бухгалтерше? Нет, отныне это исключено, какая бухгалтерша!
Днем ей на работу позвонил старший сын. Ни разу за все время, как она ушла из дома, он не звонил ей и не появлялся здесь в поссовете; муж, тот, особенно поначалу, и названивал, и появлялся, и несколько раз, затрудняясь звонком, приходил даже младший сын, а старший – не объявлялся ни разу.
Он звонил, чтобы сообщить, что она стала бабушкой.
– Родила уже? – удивилась Альбина.
– Почему «уже»? – оскорбленно произнес сын. – Три недели задержки, я тут на ушах стоял. Стимулировать не хотели, взяток пришлось насовать, не думал никогда, что так берут.
– А что такое? – снова удивилась она. – Разве отец не устроил ее в их роддом?
– Какой «их», ты что! – сказал, как ругнулся, сын. – Нет у них больше роддома, в народное пользование пришлось отдать. Так пойдет, скоро и поликлиники вообще не останется.
– Кто? Мальчик, девочка? – поинтересовалась Альбина.
Девочка, ответил сын. Сообщил вес, рост, помыкал что-то еще про самочувствие жены и спросил – то, ради чего, конечно же и звонил:
– Ты скажи, а то если нет, то я ее мать вызывать буду. Нянчиться поможешь? Придешь домой, нет? Только прямо скажи, мне без крутежа ответ нужен. Да – нет.
Альбине перехватило горло. Она не могла ничего ответить и боялась, что сейчас разрыдается. Этого она и хотела после нынешней ночи: вернуться. Только не знала, как можно устроить свое возвращение, не видела способа. И думала уже, что ничего не получится, придется оставаться в этом дощатом холодильнике. Не возвращаться же побитой собакой с поджатым хвостом.
– Ну ты чего там? – крикнул в трубке сын. – Да? Нет? У меня времени на твои размышления – ни минуты. «Нет», так я ее матери звоню, вызываю.
– Да, – совершенно онемевшими губами выговорила Альбина.
– Что? – не понял сын. – Да?
– Да, – подтвердила Альбина. И нашла силы, слицемерничала: – Ради внучки.
22
Первой увидела эту мертвую собаку она.
Было сумеречное раннее утро, солнце, еще не вышедшие из-за земной кромки, подняло лучами ночную темь пока лишь над самым горизонтом, небо в той стороне обозначилось перевивами сизослоистых облаков, а тут, над головою, еще было единой мглистой пеленой, света, чтобы придать очертаниям предметов достаточную резкость, не хватало, и она, вглядываясь в темное размытое пятно на сером снегу около уличной изгороди, все не могла ответить себе с определенностью: действительно ли то собака, или нет. Вполне это могла оказаться и просто какая-нибудь тряпка, и кусок рубероида, давно валявшийся там и на который, при ясном дневном освещении, глаз не обращал никакого внимания.
Был первый день новогодних праздников, тридцатое декабря, воскресенье; минувшую субботу как выходной день специальным указом правительства перенесли на понедельник, тридцать первое, и впереди простиралось целых три нерабочих дня – невиданная для зимы, чрезвычайная роскошь, беспримерный новогодний праздник. Все в доме спали. Спала б и она, но после утреннего кормления невестка, как было договорено с вечера, принесла ей девочку и отправилась к себе в комнату отдыхать, провести несколько часов без забот, девочка спустя недолгое время обмаралась, Альбина распеленала ее, подмыла под струей воды в ванной, вытерла, смазала промежность от раздражения детским кремом, снова запеленала, поносила на руках, усыпляя, положила к себе в постель под одеяло и пошла в ванную замыть обмаранные пеленки. Звук льющейся из крана воды вызвал в ней чувство жажды, выйдя из ванной, она свернула на кухню, налила себе из начатой бутылки полстакана минералки и, цедя ее маленькими глотками, подошла к блекло-лиловому окну.
Нет, просто кусок какой-нибудь дряни, решила она. Мусор какой-нибудь.
Она вернулась к себе в спальню, вытащила из губ недовольно зачмокавшей, но тут же смирившейся с утратой и успокоившейся внучки пустышку, легла рядом и закрыла глаза. Муж, как возвратилась домой, спал на диване в столовой, и она испытывала чувство блаженства, ложась на их широкую супружескую кровать не с ним, а с маленьким, беспомощным, сладковато-кисло пахнущим материнским молоком существом.
И однако вновь заснуть ей не удавалось. Темное пятно на снегу стояло против воли перед глазами и мучило вопросом: а вдруг собака? Если это тряпка или кусок рубероида, валявшиеся там бог знает сколько и примелькавшиеся глазу при дневном свете, почему их не замело снегом? А если их принесло ветром сегодня ночью, то как могло переметнуть через довольно высокую изгородь, когда, вероятней всего, прибило бы к ее основанию? Потом ей подумалось, а может быть, то просто игра ночных теней? И, только подумалось, тотчас так и стало казаться: безусловно, игра теней, и ничего больше.
Но, чтобы успокоиться и заснуть, нужно было окончательно удостовериться в этом.
Она снова поднялась и пошла обратно на кухню.
Солнце уже взошло, малиново стояло над кромкою горизонта в дымчатой заволочи морозного воздуха, разделенное точно посередине витою нитью длинного кучевого облака, заметно посветлело, и даже наметились, лилово обозначив себя, дневные тени, чтобы сделаться явственными через какие-нибудь минуты. Размытого пятна на снегу около изгороди не было. Лежала, рельефно вылепясь всеми своими видовыми чертами, крупная породистая собака, подогнув передние и далеко назад откинув задние ноги, – словно бежала во весь опор. Малиновый свет еще неокрепшего утра придавал ее светло-коричневому телу нежно-розовый оттенок и какой-то глазурованный блеск, так что она казалась даже бесшерстной и удивительно гладкокожей.
Альбина смотрела на мертвую собаку в своем дворе и почему-то не могла поверить в реальность того, что видит. Стараясь не шуметь, она проследовала в коридор, всунула ноги в чьи-то стоявшие около двери большого размера сапоги – мужа или кого-то из сыновей, – надела поверх ночной рубашки чье-то первое попавшееся под руку пальто, нахлобучила на голову чью-то шапку, повернула ключ в замке и, открыв дверь, вышла на улицу.
Приблизиться к собаке было страшно, и некоторое время она стояла, глядя на нее с крыльца. Но некая сила влекла ее к собаке, и она сошла с крыльца, пошла по расчищенной дорожке к калитке и еще некоторое время стояла, смотрела на собаку оттуда, от калитки. Собака была поразительно странная. И в самом деле какая-то бесшерстная, с блестящей кожей, на удивление поджарая и с резко очерченными контурами тела – как у человека.
Альбина ступила с дорожки в снег, почувствовав голой ногой, как сверху в сапог наваливается и, мгновенно тая, бежит струйкой к лодыжкам, сделала шаг, другой – и ее облило ужасом: собака была освежеванной! Во дворе у них лежала освежеванная, со снятой шкурой собака; кто-то выманил ее у хозяев, убил, ободрал, чтобы сделать потом из шкуры модную длинномехую шапку, и бросил мертвое тело к ним через забор.
Ее замутило, из желудка к гортани вытолкнуло спазмом кислый комок, и она метнулась прочь от собаки, на дорожку, обратно к дому – скорее заскочить в него, скрыться в нем, отгородиться его стенами от жуткого зрелища зияющей голой плотью собаки…
Но на крыльце уже ее внезапно остановило. Словно некая сила, не подчиниться которой было не в ее власти, развернула Альбину и вновь обратила лицом к собаке. Глаза отказывались смотреть на нее – и взглянули, хотели увидеть там в отчаянной надежде одну чистую снежную холстину, – но увидели мертвое тело.
И в этот миг, пытаясь не глядеть туда и все-таки глядя, она вдруг ощутила: жизнь кончена. Что было – то было, и больше уже ничего не будет.
Не-ет! – тотчас завопило все в ней ответом на это жуткое чувство. Она хотела жить, ей нужно было жить, и те звучавшие в ней в свою пору слова – «А не просыпаться бы!» – они были неправдой, наваждением, они ничуть не соответствовали истине!
Не-е-ет! – вопил в ней с истерическим страхом внутренний голос, и посетившее чувство близкого жизненного конца, с тою же неожиданностью, с какой возникло, растворилось легким летучим дымком – как не было, а она сама уже находилась в доме, скидывала с себя мокрые внутри сапоги, сбрасывала пальто, срывала шапку и бежала в столовую поднимать мужа.
– Собака! Там! У нас! Убрать ее немедленно! – затрясла она мужа. И бросилась в комнату к младшему сыну: – Вставай! Сейчас же! Мертвая собака у нас! Помоги отцу!
Из своей комнаты выскочил старший сын:
– Что случилось?!
Забывшись, он выскочил в одной майке, без трусов – как спал, и следом за ним в дверь вытолкнулась невестка:
– Возьми! Ну, ты что! Надень!
В спальне Альбины, разбуженная шумом, закряхтела, подала голос и заплакала девочка.
– Там! Там! Гляньте в окно! В окно гляньте! – потыкала пальцем в сторону кухни Альбина, бросаясь к себе в спальню.
Сыновья, одевшись, оттащили собаку на старой, хотя еще и вполне пригодной, скатерти в лес, оставив, как им велела Альбина, скатерть вместе с собакой, и, вернувшись, легли досыпать, а она уже не могла спать, сидела, все так же в ночной рубашке, над внучкой, смотрела на нее и думала с вялым чувством вины, что совершенно не любит девочку, никакой теплоты к ней в груди, нянчится – но как с чужим ребенком, и что бы это все значило? Однако, задавая себе этот вопрос, она вовсе не собиралась отвечать на него, он бесследно истаивал в ней, ничего не оцарапав в душе, а перед глазами, уже в который раз, вновь вставала розовая ободранная собака на белом снегу в их дворе. Почему именно к ним забросили мертвое тело? Вот вопрос о собаке мучил ее, не давал покоя, все пыталась додуматься до чего-то – непонятно чего, осознать, может ли происшедшее что-то значить, и, конечно же, не могла ни до чего додуматься, только растравляла себя, и все внутри дребезжало, голову разламывало несусветной болью – будто ее стиснуло железным кольцом.
Но когда за завтраком, как положено в предпраздничный нерабочий день, основательно поздним, так что за окном все уже сверкало и переливалось полным светом, разговор, неизбежно зашедший о собаке, начал разворачиваться в долгое обсуждение, она прекратила его:
– Все, ни слова больше! Никто! Чтобы больше ни слова ни от кого о ней не слышала! Ясно?
– Да, конечно, правильно, совершенно ни к чему говорить об этом, – тут же поддержала ее невестка.
Невестка всегда, во всем, без исключения брала ее сторону. И не просто брала, а брала активно – старалась угодить ей, ублажить ее, лизнуть в сердце. Буквально стелилась под нее – как коврик под ноги: ходи и топчи, я для того и создана. Альбина первое время по возвращении в настороженной готовности дать, если понадобится отпор, все присматривалась к ней: что она, права знахарка, делает что-нибудь против нее? Тот прежний неясный, непонятный страх перед невесткой, теперь уже, впрочем, имевший вполне конкретное содержание, все сохранялся в ней, но невестка не давала ни малейшего повода для подозрений, а уж тем более для обвинения ее в чем-либо. Наоборот, только наоборот! Как шелк была с нею. И тягостное, настороженное напряжение в Альбине мало-помалу рассосалось, истончилось и исчезло, она словно бы махнула рукой: ну, как оно есть, так пусть и есть. Она смирилась со своим незнанием. Что будет, то будет. Она не жила с невесткой вместе несколько месяцев, и что путное вышло из этого?
– А что такое, собственно? Что это за затыкание ртов?! – протестующе вскинулся муж в ответ на их женский запрещающий дубль. – Почему и не поговорить! Подумаешь, происшествие, – раздувать из него событие!
– Именно, нечего раздувать! – прерывая мужа, бросила на стол перед собой зазвеневшие вилку с ножом Альбина. – И нечего указания давать, не на работе у себя. Все, ни слова больше!
Он и не давал никаких указаний, а кто давал – так она сама, он лишь пытался отстоять свои права главы, к которым привык за прошедшие годы совместной жизни, но он не в силах был отстоять их. Альбина не могла позволить никому говорить о собаке, запретила бы любому. Ей хотелось скорее забыть о той, и достаточно было с нее собственных мыслей, от которых никак не могла отделаться. Для того она гнала их от себя, чтобы кто-то своими напоминаниями вновь и вновь возвращал ее к ним?
И однако она действительно была невольна над своими мыслями об этой ободранной собаке. То и дело весь день они всплывали в ней, неожиданно, беспричинно, без всякой связи с происшедшим вокруг: ставили, наряжали елку – и обнаруживала себя погруженной в них, как в кипящее масло, готовили с невесткой холодец к завтрашнему праздничному столу – и вдруг подступали к горлу желудочным спазмом, тем самым, что еле сдержала в себе там, во дворе… И то же было на следующий день, и когда без десяти минут полночь сидела перед включенным телевизором, ожидая мгновения, когда Он возникнет на экране, чтобы поздравить страну с Новым годом, вновь, ни с того ни с сего, увидела перед собой лежащее на утреннем розовом снегу освежеванное розовое тело и, вместо того, чтобы слушать Его, вглядеться как следует в его стремительно, на глазах стареющее лицо – что желалось, – переполняясь ненавистью к себе и страхом перед своим видением, изо всех сил, безмолвно, с бешено грохочущим сердцем боролась с собой, выталкивала из себя стоящую перед глазами картину, и в итоге от Его появления на экране осталось только нечто смутное, неопределенное – ни лица, ни интонации, ни смысла его речи.
– Мамочка, ваше здоровье! – искательно заглядывая ей в глаза, сказала невестка, касаясь своим бокалом Альбининого – вместо традиционного «С новым счастьем!», и Альбина, поблагодарив ее кивком головы, подумала: а что, в самом деле, невестке не желать ей здоровья, она нянчится с ее дочкой, как же тут не желать!
– К здоровью – многих лет жизни! – произнесла она; вышло для всех – будто она пожелала долгой жизни себе, но она имела в виду совсем не себя. Мысль ее, оттолкнувшись от пожелания невестки, естественным ходом пришла к Нему, и она не смогла отказать себе в хулиганском удовольствии произнести собственное пожелание вслух, а что подумали все вокруг – ей было неважно.
И, странно, после этого первого полночного тоста всю наступившую новогоднюю ночь мысли о собаке больше не мучили ее. Во всяком случае, она не запомнила того. И не мучили потом, когда год побежал отсчитывать дни: первое, вторник, – праздничный день, второе, среда, – выходить на работу… Нет, посещали время от времени – это она отметила, но уже без той мучительной яркости, как перед самой новогодней полночью, и реже, реже день ото дня, и она вообще перестала отмечать для себя: думает о том происшествии, не думает, вспоминает, не вспоминает.
С прежней, предновогодней силой эта убитая кем-то, ободранная и брошенная к ним во двор собака вспомнилась ей две недели спустя, в день наступившего юлианского Нового года. На телевизионном экране была ночь, горели прожектора, слепя снимавшую камеру, стояли бронетранспортеры с сидевшими на их броне солдатами в защитной пятнистой форме с автоматами в руках, валялось на земле битое стекло, кричала что-то непонятное толпа одетых в гражданское молодых людей за сетчатым металлическим ограждением, – это был телецентр одной из трех отделяющихся прибалтийских республик, его только что, оставив за собой след в четырнадцать убитых и более полутора сотен раненых, взял штурмом специально натренированный для подобных дел отряд сил безопасности[68].
Вернее, ей вспомнилась даже не сама собака. Ей вспомнилось то чувство на крыльце, когда неожиданно для себя остановилась, оглянулась, и ее как прошило: жизнь кончена!
И странным образом это чувство было теперь связано с Ним. Кончена, кончена, звучало в ней, и страх, охвативший ее тогда, заставивший закричать в ужасе: «Не-ет!» – не имел больше отношения к ней, то был страх за Него.
Почему за Него? С чего вдруг? Что это значило?
Ей стало все ясно спустя еще несколько дней, когда нечто подобное произошло в столице другой прибалтийской республики. Опять на экране телевизора бликовали прожектора, вспыхивали огневыми цветками автоматные дула, прочерчивали тьму трассирующие пули, и пятеро вечером еще живых человек были к утру бездыханными трупами[69].
Кровь этих двух городов была совсем не та что прежде. Это не была кровь цены. Кровь неизбежной платы. Это была кровь угрозы. Угрозы Ему.
И как так случилось, что она допустила это, в чем ее просчет, где ошибка?
Между двумя разделенными неделей событиями в прибалтийских столицах далеко на юге, в чужих жарких краях произошло другое событие – началась самая настоящая война, взлетали один за другим с палуб авианосцев, с бетонных аэродромных полос гигантские самолеты-бомбардировщики и ракетоносцы, обрушивали свой ужасный груз на объекты, намеченные к уничтожению, и счет убитым шел не на десятки, а десятки тысяч[70], – но она как не заметила ничего этого, слушала радио, смотрела телевизор – и всё проходило мимо нее. Происходящее там не имело отношения к Нему. Не имело касательства к тому делу, для которого Он был предназначен.
А вот эта, ближняя, малая кровь, она была страшна. Она была пробой, знаком; она была предупреждением ей.
Альбина панически металась по своей памяти, ища совершенные промахи, отчаянно пытаясь понять, какие ошибки она совершила в последнее время, и выходило, что ей не в чем упрекнуть себя. Вся ее жизнь по возвращении домой была одним беспрерывным слежением за Ним, о некоторых Его днях она знала, как Он провел их, едва не по минутам, вылавливая подробности из разных газет, из сообщений радио, телевидения и потом сопоставляя, она следила за Ним с такой истовостью, с таким тщанием, с какими еще никогда того не делала. Она должна была искупить свою вину перед Ним, ей нужно было исправить то, что она натворила финальными неделями своего садового затворничества. Качели были раскачаны – не остановить, но одного их движения явно недоставало, необходимо было не выпускать Его из поля зрения, не оставлять без своего внимания ни на минуту, и если в чем-то она ошиблась, то в чем?
Ей казалось, что со времени ее возвращения домой все у Него получалось так, как Он того хотел. Как Ему требовалось. Или Он вовсе не хотел этого, а поступал так подневольно? Подчиняясь чьей-то невидимой ей, неосязаемой ею чужой воле? А она, способствуя воплощению Его желаний в реальную жизнь, тем самым вредила Его же собственным намерениям?
Ей вспомнилось лицо мужа, с каким он встретил первое, а потом и второе сообщение из прибалтийских столиц. Боже милостивый, осознала она, это было лицо самого счастья! Всю эту пору после возвращения она испытывала невольную жалость к нему. На него в самом деле было жалко смотреть. Он был раздавлен, расплющен в лепешку, он имел вид человека, чья жизнь обратилась в прах, вид человека, потерявшего все. Но раз сейчас он полыхнул счастьем, раз происшедшее распрямило его, – это являлось верным признаком, что происшедшее в столицах во зло Ему. Все, что во благо мужу, твердо знала она, Ему во зло, однозначно. И ведь муж, еще вспомнилось ей, не просто распрямился, а как-то вдохновенно посуровел, озарился изнутри некоей силой и даже пару раз, чего давно не позволял себе, прикрикнул на нее, а она, совершенно отвыкнув от того, еще растерялась и не ответила. Он теперь не делился с нею никакими рабочими новостями, но, несомненно, все творящееся с ним было связано с его службой, с тамошними их делами и настроениями, – не хватало только того, чтобы она помогала им!
И как оценить всю эту ситуацию с тем медвежетелым и хитроглазым, что стал почти вровень с Ним, побеждая раз за разом на всяких выборах? Кем был Ему все-таки тот: другом, соратником или недругом и соперником? Они почти уже шли рука об руку минувшей осенью, и чем было это их недолгое сближение для Него: добром или злом? И если добром, то не она ли повинна в их расхождении? А если злом, то при чем тогда те послания, что отправил в окропленнуые кровью прибалтийские столицы хитроглазый, винясь за случившуюся кровь и моля простить ее[71], – таким явным спасательным кругом оказывались они для Него, так облегчали для Него борьбу с угрозой, высказанной Ему этой кровью?
В чем я ошиблась, в чем я ошиблась, дребезжаще звучало в Альбине бесконечной магнитофонной записью, голова разламывалась, в груди над ложечкой лежала чудовищная тяжесть, продавливала внутренности, мешала дышать, ей казалось, вот еще немного, вот еще одно напряжение мысли, еще чуть-чуть – и она все поймет, ей все станет ясно… но никакой ясности в ней не возникало, и совершающая свое бесконечное кружение мысль естественным ходом раз за разом возвращалась к невестке. Что, все-таки пьет, думала Альбина, незаметно, чтобы невестка не видела, вглядываясь в нее. Она снова уже допускала подобное. Но и вдали от невестки все оказалось в итоге скверно, разве что перестала худеть, так при чем тогда тут получалась невестка? Получалось, что невестка – жертва навета. Но если и в самом деле верно последнее, то кому нужен был этот навет? Кому выгоден? Бухгалтерше? Ведь это через бухгалтершу она вышла на ту знахарку. И это с бухгалтершей, уйдя из дому, сблизилась так, как не была близка никогда за все прежние годы совместной работы! Бухгалтерша, как всегда, в обычное время, пришла к ней пить чай, принеся целую килограммовую коробку сахара-рафинада, который стал в магазинах громадной редкостью – необыкновенная щедрость, Альбина пила чай и, предоставив вести разговор бухгалтерше, сама все разглядывала ее. Разглядывала – и ничего ей не открывалось, не могла, не в состоянии была ничего понять до конца!
Ноги, неожиданно для нее самой, понесли ее к Татьяне-птичнице. Год назад не могла заставить себя пойти к ней, а сейчас не пошла, а именно будто понесло туда.
Увидев Татьяну, она поразилась перемене, происшедшей с той. Татьяна и всю-то жизнь была худой и посеченно-морщинистой лицом, теперь ее встретила сухая, как древесный корень, старуха, но, как корень же, твердо-костяная и здоровая даже на вид.
– Ну дак что, правда, – ответила она на вопрос Альбины, действительно ли врачи определили у нее рак, а знахарка вылечила. – Дала поллитровку, велела пить – и видишь, бегаю. Знает свое дело. Не то что доктора эти, тютюрли-матюрли епаные. – И спросила: – А тебе чего? Тоже клещёй ухватил, что ли?
– Да нет, ты что, нет! – вмиг переполняясь ужасом, будто отталкивая от себя ее вопрос, заприговаривала Альбина. – Это у меня знакомая… просила узнать… обращаться, не обращаться…
Знахарка была настоящей – вот единственное, что она вынесла из разговора с Татьяной-птичницей. А то, что сама знахарка утверждала про себя, будто бы всего лишь травница, так это могло быть ложью. И, наверно, являлось ложью: ведь почувствовала ее появление через стены дома!
Озарение, сошедшее на Альбину, было чудовищным в своей сути.
Оно обрушилось на нее тихим звездным вечером – безветренным, ясным, бесснежным и царственно-величественным в этом подкупольном небесном дрожании бархатного свеже-морозного воздуха. Она вернулась с работы, и невестка подгадала как раз к ее возвращению с коляской – выгулять внучку. Можно, конечно же, было просто выставить внучку в коляске у крыльца, а заплачет – выйти потрясти, но невестка категорически не хотела оставлять ребенка без присмотра. Альбина, в общем-то, ее понимала. Когда рожала своих, только и слышала об одном случае, происшедшем у «Гастронома»: зашли в магазин, а вышли – ребенка нет, теперь же детей воровали – что ни месяц, то похищение, и двоих за последний год украли у них в поселке. Говорили, будто бы крадут нищие, чтобы просить милостыню, может быть, это и не соответствовало правде, но нищих в городе, и в самом деле, несмотря на зиму, обратила Альбина внимание, становилось все больше и больше, и ходили уже, побирались по домам.
Она заскочила на минутку домой, утеплилась, чтобы, гуляя, не замерзнуть, переняла у раздетой дрожащей невестки коляску и двинулась с нею на улицу. Нелепо было стоять с коляской во дворе, притопывая ногами, уж лучше двигаться. И тут, едва отойдя от своей калитки, остановившись под первым горящим фонарем проверить платок, закрывавший внучке нос от мороза – не слишком ли плотно прилегает, – глянув на младенческое чистое, свежее лицо, она едва не закричала от открывшегося ей знания: вот кто пьет ее! Вот кто мешает ей, сжирает ее энергию! Это она, она, эта девочка, ее внучка! Она, конечно. И вспомнить, когда начала чувствовать себя скверно, – как раз, когда невестка, еще незнаемо для всех, понесла!
Альбина почти бежала по улице, толкая перед собой коляску, дыхание ее сбилось, она вся горела, сердце стучало обезумевшей швейной машинкой. Она поняла вслед озарению: она в кольце. Она была окружена, замкнута наглухо со всех сторон, отделена от Него, как забором: невестка, бухгалтерша, знахарка и вот еще, значит, внучка. И, чтобы Его предназначение исполнилось, чтобы Он сошел с ложного и вернулся на путь истинный, ей должно было разорвать стиснувшее ее кольцо. Разорвать непременно!
Она остановилась под фонарями, вглядываясь в безмятежное, сонное, словное бы невинное лицо внучки, разрумянившееся от мороза, и чувствовала, как в ней поднимается чугунная, лютая ненависть. Недаром же она никогда не испытывала к внучке никаких теплых, положенных вроде бы бабушке, умиленных чувств. Ах, мерзавка, ах, гадина, распаленно звучало в ней, и несколько раз, не сдержавшись, тряхнула на ходу коляску так, что внучка едва не вылетела оттуда.
И все же на окончательный шаг нужно было решиться. Нужно было внутренне укрепиться, чтобы сделать то, что должна была сделать. Хотелось совета. Вернее, не совета, а стороннего взгляда и мнения. Стороннего одобрения. Поддержки. Хотя, ощущала она, если это мнение не совпадет с ее собственным, оно все равно ничего в ней не изменит.
Лучшей кандидатуры, чем Нина, для необходимого разговора было не найти. Конечно, она тогда обидела Нину, прогнав ее от себя, и Нина, безусловно, держит на нее сердце, но тем не менее Нина не откажет ей во встрече, не посмеет отказать, – почему-то она твердо знала это.
Нина отозвалась на ее просьбу встретиться без раздумий, мгновенно. Да, жду тебя, подъезжай, сказала она.
Они встретились в стоячем кафе-забегаловке около Нининой работы. Нина выскочила к ней из подъезда в наскоро наброшенной на плечи шубке, схватила за руку и повлекла за собой:
– Пойдем согреемся кофейком.
Кофе подавали в граненых стаканах – переваренную бурду с молоком, с плавающими поверху неперемолотыми, жесткими крупицами, но горячим он действительно был. Они заняли столик в углу – только для двоих, не больше, – чтобы никто к ним наверняка не пристроился, и Нина спросила с поощряющей свойской улыбкой, совсем как в старые времена:
– Ну? Что такое? Неуж опять афганец какой-нибудь?
– Да какой афганец, – не вполне даже поняв ее, отмахнулась Альбина.
Она открывалась Нине, чем она живет эти последние годы, что происходит с нею, с какими соблазнами приходится бороться и какие сложности одолевать, Нина слушала ее с потрясающим пониманием, согласно кивала головой и, только когда Альбина принялась объяснять, какой способ ей видится наилучшим, чтобы разорвать кольцо вокруг себя, уточнила:
– А что это такое – «приспать»?
– Что, сама не знаешь? – Альбине не хотелось входить в подробности.
– Нет, первый раз слышу, – сказала Нина.
– Ну, в деревнях так часто случалось. – Альбина поморщилась внутренне – неприятно было описывать вслух все эти частности. – Положат ребенка с собой спать, ночью ненароком навалятся на него – и задохся. А ненароком, нет – пойди после доказывай.
Она и сама не знала, откуда в ней подобное знание. Никогда на ее памяти ни с кем не приключалось такого. Но откуда-то знание это в ней было, почему-то хранилось в тайниках ее подсознания и возникло в сознании еще тогда же, тем тихим звездным вечером во время прогулки.
– А может быть, ошибаешься, может быть, ни при чем девочка? – спросила Нина. – Младенец же. Невинный, говорят, как младенец.
– Младенец! – Альбина усмехнулась невольно. – Невинный… Младенец тебя так высосет – никакому взрослому не удастся!
Каким-то образом имелось в ней и такое вот знание.
– А грех на душу? Как потом жить с ним? – еще спросила Нина.
Но в Альбине был готов ответ и на это.
– Не сделаю этого – еще больший грех приму на себя.
– А, конечно. Конечно, – согласилась Нина. – Разумеется.
Альбина, проводив ее обратно до работы, ехала в автобусе к себе в поссовет и думала благодарно: вот Нина, вот настоящая душа, вот все-таки настоящий друг, все поняла! Какая молодец, как жалко, что тогда прогнала ее от себя и прежним отношениям, уже не быть. Такая тонкость, такая чуткость, – изумительно!
Она чувствовала себя полной решимости, сил, – она готова была сделать назначенное ей. Дожить день до конца, пережить вечер с его общим ужином, программой «Время» в девять часов по телевизору, лечь спать, а там под утро после кормления невестка откроет к ней дверь: «Мама, вы возьмете?»
23
Потом, задним числом Альбина сообразила: должно быть, пока она ехала к себе, Нина дозвонилась до мужа, тот, в свою очередь, тотчас позвонил, куда надо, – потому ее в поссовете уже ждали. Ей даже вспомнилась машина «скорой спецпомощи», стремительно обогнавшая автобус на въезде в поселок.
Чего она потом никак не могла понять – это того, как так случилось, что открылась Нине. Ведь нельзя же было открываться никому, и Нине тоже!
Потрясение, котрое она испытыла, когда, войдя в свою комнату, увидела там двух здоровенных мужиков в белых халатах, оказалось столь сильным, что первую неделю в больнице она не могла ни есть, ни разговаривать, а только то и делала, что лежала днями неподвижно на кровати, и перевернуть с боку на бок свое затекшее тело – было непосильно. Но, едва она оказалась в больнице, к ней вернулась полная внятность и трезвость мысли. Это же в самом деле нужно было сойти с ума, – открыться Нине! Что за помрачение сошло на нее? Все отрицать, ни в чем не признаваться им, этим следователям-врачам! Все они специально хотят выведать у нее побольше, чтобы ослабить ее, сделать неспособной стоять на страже, и она не должна поддаться им! Не поддастся, – может быть, еще получится помочь Ему. Вернее, не так. Она поможет Ему уже тем, что не поддастся им. Уже одним этим.
Через неделю она почувствовала себя способной вставать с кровати. Врачом ее снова оказалась та гренадерша с белокурыми кокетливыми локонами из-под белой докторской шапочки.
– Ну, полегче немного стало? – ласково спросила она, позвав Альбину к себе на беседу. И упрекнула ее, с этой же ласковостью: – Лекарства, наверное, которое вам прописывали, не пили, да?
Это, разумеется, было правдой, той, от которой вполне можно было бы и не отказываться, но, раз уж постановила для себя ни в чем не открываться, Альбина решила остаться верной этому принципу и тут.
– Как не пила, – сказала она. И не удержалась, брякнула: – Двойной мерой.
– Двойной? – мгновенно насторожилась врач. – Зачем двойной? Кто вам так подсказал?
Нелепая Альбинина шутка оказалась спасительной. Врачиха приняла ту за правду и вцепилась в нее, как мертвою хваткой вцепляется голодная собака в мозговую кость.
– Ну и ну! Двойную порцию! – сокрушенно произнесла она, когда Альбина, подыграв ей, повинилась, что никто ничего не подсказывал, а хотела как лучше, чтобы скорее выздороветь. – Ну и ну! Тогда все понятно… Ведь все же хорошо только в меру, ведь знаете же! – И задала новый вопрос: – А значит, раз говорите «выздороветь», чувствовали себя больной, осознавали, что с вами что-то не так, не в порядке?
– Как не чувствовала, конечно, чувствовала, – продолжая сбивать врачиху со следа, отозвалась Альбина. – Я вам верю. Говорите – «больна», значит, так и есть.
– Но как у вас вдруг появилась мысль убить внучку? – с особой, предупредительной мягкостью спросила врач. – Если вы сознавали, что вы больны, вы ведь должны были понять противоестественность такого желания. Или вам показалось что-то? Голос какой-то приказал как бы?
– Да не было у меня никаких таких мыслей! – сказала Альбина. – Бред какой!
– Нет, может быть, это вы сейчас так считаете, когда уже не пьете тех лекарств. Двойную порцию. А тогда, припомните, все-таки хотели?
Альбина собрала всю свою волю и засмеялась.
– Да ничего я не хотела. Это все от этой моей… подружки моей идет? С нее станет. Она все и придумала. Мстит мне. Она мужа рогатит – у него там, как у оленя. Мы, было, с нею поссорились, и я, дура, ему сказала. Вышло так. А теперь она мне в отместку решила. На меня же все можно наговорить.
Альбину несло – как по хорошей лыжне под уклон. Слово ложилось к слову, она и не знала, что может так сочинять, ей вралось с таким вдохновением – захватывало дух от восторга перед самою собой.
Врачиха смотрела на нее с видимым недоверием.
– Но если вы пили лекарства больше, чем нужно, у вас вполне могли появиться всякие побочные эффекты.
– Могли, да? – сделала Альбина растерянный вид. – Наверное. Вы знаете. Может быть, были какие-нибудь. Я не заметила. Но насчет того… что вы! Бред какой!
– А если повспоминать, хорошо-хорошо повспоминать, – предприняла еще одну попытку поймать ее врачиха. – Вдруг это вам только сейчас так кажется?
Теперь Альбина сделала вид, будто очень крепко задумалась.
– Ну, я не знаю, – сказала она потом. – Если вы очень хотите, я, конечно, могу вам признаться… мне ведь все равно, я в любом случае здесь… но это будет неправдой.
Лишь бы не посадили на инсулин, молилась она. Логично, не логично ее вранье – о том она не думала. Ее не заботило это. Пусть сами разбираются. Лишь бы избежать инсулина. Она боялась: если инсулин – опять у нее, не заметит сама, отобьет всю память, опять потеряет Его из поля зрения, при том, что именно сейчас Он больше всего нуждается в ее охране, и, не дай Бог, повторится что-нибудь похожее на то ужасное землетрясение… нет, она не имела права допустить подобного! То, что ей не удается выбраться раньше, чем через два месяца, она, по прошлому опыту, прекрасно понимала. И следовало не просто продержаться эти два месяца, а продолжать отправлять положенные обязанности, исполнять свой долг.
Инсулин ей не назначили. Кто знает, может быть, действительно благодаря ее дурацкой шутке. Что-то кололи, давали какие-то таблетки. От уколов было не увернуться, а таблетки, научившись прятать их в защечных пазухах, показав медсестре чистый рот, выплевывала потом в туалете. И каждый вечер перед информационной программой заранее занимала место около телевизора.
Однако озонная грозовая атмосфера вокруг Него не рассасывалась. Она физически ощущала: как бы стремительные маленькие молнии беспрерывно трещали над его вконец поседевшей и на макушке совсем теперь безволосой головой, целя безжалостно и смертельно кольнуть своим острым жалом. И спасало Его лишь то, что, несмотря на несметное свое число, они были малы и слабы и пробить панцирь, которым она невидимо окружала Его, было им не по силам. Но если б они соединились вдруг в единый разряд, прочности панциря наверняка не хватило бы; угроза, высказанная Ему кровью двадцати человек в начале года, никуда не исчезла, она сохранялась, и это слияние молний в одну могло произойти в любой миг.
Временами теперь ей стало казаться, что оно возможно через посредство того властно-хитроглазого, что поднялся едва не вровень с Ним, с падающим на лоб круто-завитым клоком волос. Он так и назывался у нее про себя: Крутым. Крутой, добившись показа своего выступления по телевизору, держась с неестественной прямизной, будто был под одеждой в корсете, объявил с экрана, что больше не верит Ему, что прежде, веря Ему, ошибался![72].
Это был молниевый разряд куда сильнее всех остальных. И все же что-то в Альбине сопротивлялось тому, чтобы окончательно утвердиться в своем ощущении. Словно бы не доверяла самой себе. Как бы сама же и сомневалась в верности того, что чувствовала.
Подтверждение сомнению ждать себя не заставило. Неимоверной мощи удар обрушился на Крутого. Шесть человек из того парламента, который он возглавлял, ближайшие его помощники, затеяли кампанию по его низвержению, и были мгновения – чудилось, что затеянное удастся им. Собравшийся съезд кричал и топал ногами, сгоняя Крутого с трибуны, столичные улицы, смотрела она с замирающим сердцем хронику, были забиты колоннами военных грузовиков с солдатами[73], удар был нанесен с таким расчетом, чтобы ему уже не подняться. Случившееся было того же рода для Крутого, что январская кровь для Него, и она поняла: Крутой ни при чем. Он, поняла она, не являлся ни соратником, ни соперником, он находился в какой-то иной связке с Ним, какой – непонятно, но совсем иной, чем она полагала, и были они связаны неразрывно, связаны так – не разъять, и неуспех одного означал бы поражение другого.
Ее особая заинтересованность в политических новостях на прошла мимо внимания врачихи.
– А почему вас так все эти дела волнуют? – спросила врачиха во время очередной беседы с Альбиной. – Я заметила, как по телевизору что-то о высших сферах, – вас прямо не отрвать от него. Другие хотят фильм, а вы – чуть не до драки с ними: сессию смотреть.
– Ну, а почему… я не поняла… если интересно… – Альбина вся напряглась, боясь неосторожным словом нанести какой-нибудь ущерб Ему. Слишком близко подступила врачиха к ее тайне.
– Нет, это хорошо, что интересно, – согласилась врачиха. – Но мне кажется, вам как-то по-особенному интересно. Словно бы вас как-то лично касается. Да?
Альбина понимала, что нужно запутывать след. Она ощущала себя зайцем, убегающим от гончей, и горячее собачье дыхание уже опаляло сзади ее беззащитное заячье тело.
– Ну так ведь нужно же развлекаться каким-то образом, – сказала она. – Скучно ведь. А там, на сессиях этих, – такой цирк! Да что цирк! Цирк ни в какое сравнение не идет.
– Значит, это для вас как развлечение? – уточнила врачиха.
– Ну так! – подтвердила Альбина. – Никакой цирк – ни в какое сравнение.
Врачиха сидела, молча смотрела на нее, и по глазам врачихи Альбина не могла понять, удалось ей сбить преследующую ее гончую со следа или нет.
Ей казалось, что все-таки удалось. О том свидетельствовало и собственно это вот растерянное врачихино молчание, и то достаточно щадящее лечение, которое она не заменяла ни на какое другое.
И Альбина решилась пойти в атаку сама. На очередной беседе она потребовала от врачихи выписать ее из больницы.
Врачиха, похоже, ждала от нее чего-то подобного. Она вся переменилась лицом, глаза ее оживились, и рука, потянувшись к волосам, поправила белокурый локон, убрала со лба, спрятав наполовину под шапочку.
– Выпишем, непременно, – сказала она. – Только нужно вам хорошенько поправить здоровье.
– Так уж поправляете, поправляете… разве не поправили? – сделала удивленный вид Альбина.
– Вы же нам не помогаете, – сказала врачиха.
– Как это не помогаю? Что я такое делаю?
– А вот к знахарке вы ездили, обращались к ней. Почему вы к ней издили? С чем обращались, с какими жалобами?
Муж сообщил, машину брала у него, сообразила Альбина. А может быть, и бухгалтерша. Наверное, врачиха приглашала на беседу и бухгалтершу.
– С геморроем обращалась, – сказала она, вспоминая свой разговор с бухгалтершей.
– С каким вы геморроем обращались, что вы! – увещевающе и ласково произнесла врачиха. – Нет у вас никакого геморроя, неделю назад наш специалист вас смотрел. Зачем вы мне врете?
– Сейчас нет, тогда был, – нашлась Альбина. – Вылечилась.
Врачиха улыбнулась, отрицательно качнув головой.
– Не было у вас никакого геморроя. Я на этот счет специально поинтересовалась. Дурака вы валяете и больше ничего!
Альбина потерялась, не зная, как ответить. Неужели попалась, подумалось ей. Она услышала за спиной запаленное дыхание гончей, и ее обожгло воспоминанием о прошлом пребывании, об ужасе инсулиновой смерти, о том землетрясении… о, она не хотела повторения этого, она не могла этого допустить!
– И про мужа подруги вы мне наврали, – вкрадчиво продолжила врачиха. – Наврали, наврали, не отрицайте. Вы ведь все врете. Врете и врете. Оно бы и бог с вами, но в вашем случае, при вашей болезни – это очень дурной признак. Очень нехороший симптом. Мне бы хотелось, чтобы вы признались, что говорили неправду. Признаетесь – и ваш организм сам собой начнет излечиваться. Это такая болезнь. Сам себя будет лечить. Только признайтесь!
Зубы гончей, пытаясь схватить ее, уже роняли слюну на ее заячью шерсть, еще мгновение, другое – и ей конец, летит кубарем, острые клыки, прорывая шкуру на горле, перекусывают артерию… Она была разоблачена, хитрость ее была разгадана, и ее будут теперь держать здесь и держать, теперь ей не выбраться отсюда, не сдавшись им на милость… Но ждать от них настоящей милости – это бессмысленно.
Она использовала, чтобы освободить себя от дальнейшего разговора с врачихой, то единственное средство, что было доступно ей сейчас в ее положении: заплакала, рыдала, уткнув лицо в ладони, сотрясалась всем телом, – а, надо сказать, и не особенно ей приходилось стараться, изображая свое страдание: так горько было, что и вправду хотелось рыдать.
Ей тут же, в кабинете вкатили успокаивающий укол, увели в палату, она уснула, а когда проснулась, едва открыла глаза, отпуская от себя стремительно несущиеся качели, уже знала: бежать отсюда! Бежать во бы то ни стало!
Мозг работал с четкостью и стремительностью компьютера. Без сторонней помощи, формулировал он, бежать из больницы она не сможет. Нужен кто-то, кто принесет ей одежду, даст хорошие деньги медсестрам за разрешение, когда из врачей никого не останется, встретиться вечером за дверью отделения на лестничной клетке; и, если заранее будет готов ключ от наружной двери, тогда уже покинуть больницу ничего не стоит. И кто это может быть ее помощником, компьютер внутри нее выдал без промедления: младший сын. Ни муж, ни невестка, ни старший сын – никто, равно как и Нина с бухгалтершей, не был заинтересован в ее побеге. И младший сын тоже не имел в том, конечно, никакой корысти, но для него, чувствовала она, было б заманчиво способствовать ей в этом деле из чисто спортивного интереса. И, кстати, вместо ключа он вполне мог бы воспользоваться отмычкой; если у него самого и нет ее, то именно он, не кто другой, представляет себе, где ее достать.
Что делать, как быть после того, как оставит больницу, – вот этого она не знала. Возвращение домой исключалось. Ее тут же сдали бы обратно, без всякой жалости. А если бы вдруг не сдали, что было бы невероятно, то из больницы, разыскивая ее, первым делом пришли бы не куда-нибудь, а, конечно, домой, и уж когда бы пришли, то едва ли бы кто предпочел ее укрывать, а не вернуть на лечение.
Но между тем она даже не хотела задумываться, как быть после побега. Бежать, неумолчно звучало в ней, бежать! А что там простиралось за бегством – было словно б неважно, несущественно было; словно бы этим ее бегством само собой и окончательно разрешалось и все дальнейшее.
Уже совсем ночью на следующий день, когда, наверно, спал уже дежурный врач, она за две шоколадные плитки медсестре получила доступ к телефону в ординаторской. Медсестра, чтобы не допустить больше ничего противозаконного, стояла в дверях, следила, но она не собиралась ни делать, ни говорить ничего неположенного. «Алё! Кто это?! – рванул там у себя трубку муж. – Кого нужно? Который час, понимаете?!» Младший сын, на ее счастье, был уже дома и даже спал. Подними, распорядилась она. Хочу поговорить. Младший за все время, что она лежала нынче в больнице, появился у нее всего раз, и она будто бы хотела попенять ему за то.
Несколько дней спустя младший сын был у нее.
– Ты что, мамань, совсем с болтов соскочила, бегать отсюда?! – в свойственной ему манере воскликнул он, когда она объяснила ему, что от него требуется. – Это тебе лагерь, что ли, тебе срок, что ли, мотать – как до Луны, невтерпеж стало?
Он уже не работал на оборонном заводе, на который его в свою пору устроил муж, а болтался в охране кооперативного ларька, одного из тех, что во множестве выросли за последние месяцы на центральных улицах города, армии больше не боялся – хрен они меня в военкомат затащат, ссал я на них, не те теперь времена, говорил он, – и все качал и качал мышцы, так что руки уже были у него как два калача.
– А может быть, тут хуже лагеря, – сказала Альбина. Она знала, на что бить, чтобы ее младший загорелся помочь ей. – Без суда, без следствия, ничего не доказано – а держат. Может, меня десять лет тут продержат!
– Какие десять, что говоришь! – воскликнул сын. – Как это так?
– А есть, и по двадцать сидят, – перебивая свои слова тяжелым вздохом, сказала Альбина. – Без суда, без следствия…
Они стояли у сетчатой металлической ограды прогулочной площадки, за спиной у себя Альбина слышала чавканье раскисшей земли и расквашенного снега под ногами ходивших по кругу больных, – был уже апрель, все таяло, но тепло наступало на холода по-черепашьи, и эта вялость весны раздражала Альбину. Раздражала и подстегивала к побегу. Тем более что молниевое кипение вокруг Него усиливалось день ото дня. Широкоторсый человек с непомерно объемным животом, весь – и лицом – похожий на неторопливого, основательного хомяка, в тонкой оправы очках на клювистом носу и редкостно стриженный бобриком, избранный Им своею правой рукой вскоре после той январской угрозы кровью, выступая на очередном сборе высшей партийной власти, вдруг произнес речь, распалившую съехавшихся бонз до белого накала, человек за человеком они поднимались на трибуну и требовали Его отставки, ревели из зала: «Вон!» Хомяк ослаблял Его, действовал Ему во вред[74], она ясно видела это. Хомяк был врагом, настоящим, неприкрытым, и не защитить Его от Хомяка сейчас – потом уже будет поздно. Бежать, бежать, колотилось в Альбине. И казалось, что как убежит, так окончательно полыхнет и весна, придет настоящее тепло, снег мгновенно стает, земля высохнет и ударит из себя свежей зеленью, и свежей зеленью опушатся деревья с кустарниками.
– А ты, мамань, что, думаешь, в самом деле отсюда рвануть можно? – спросил сын.
24
Было уже совсем темно, фонари горели только на центральной больничной дороге, ведущей к выходу, и, пробираясь хлюпающей тропой в зарослях ветвистого колючего кустарника к пролому в бетонном заборе, Альбина то и дело оскальзывалась, влетала в секущее царапливое кружево и раз таки упала, глубоко утонув рукой в жидкой холодной земле. Идти центральной дорогой, а затем проходить через будку дежурного в воротах – это было отвергнуто ею с самого начала, и она попросила сына как следует исследовать территорию и найти другой путь. Исчезновение ее могло быть обнаружено сразу же после бегства, дежурный в будке уведомлен о том, и ее бы элементарно задержали там.
– Ну, пролезешь? – спросил сын, ловко проныривая вместе с сумкой в пролом между бетонными спицами.
Она вся подобралась, наклонила голову, перенесла ногу на другую сторону забора и, ухватившись руками за спицу, стала протискиваться. Грудь под пальто смялась, ягодица, пролезши наполовину, застряла, она проталкивала себя мелкими червеобразными движениями, и ничего не получалось.
– Сними пальто, ё-моё! – сказал сын.
Она вытиснулась обратно, расстегнула, торопясь, пуговицы, скинула пальто, просунула его в проем сыну и снова полезла в пролом. И снова произошло то же: застряла посередине, и только теперь не могла двинуться ни взад, ни вперед.
– Да смелее ты, ё-моё! – схватил ее под локоть сын и рванул.
– И-ии! – каким-то писком невольно вырвалось из нее от боли в груди и крестце, но была уже на свободе, здесь, с вольной стороны забора, и только еще вторая нога оставалась внутри.
– А ты, дурочка, боялась! – снисходительно проговорил сын.
В ней так и полыхнуло неприязнью к нему. Он произнес это – словно она была какой-то его девчонкой, его покорной шлюшкой, и он мог обращаться с нею, как ему заблагорассудится.
– Все, давай, – надев и застегнув пальто, протянула она руку к сумке. – Иди.
Кроме неприязни к нему, она не испытывала больше ничего. В ней не было даже чувства благодарности. Та ее отстраненность, с которой она всегда относилась к детям, сделалась теперь более чем холодностью; у нее не было чувства: вот он – сын, она – мать, и ответственна за него до конца своих дней, ей казалось – она исполняла свой долг, исполнила его, вырастив их, и ныне свободна от всякой ответственности.
– Да чего ты, потащу! – отдернул он сумку, не давая взять ее. – Мне – ништяк, а тебе тяжело.
– Давай, говорю! – повысив голос, ухватилась она за ручки, потащила к себе, и он отпустил их. – Все, иди! Спасибо, помог. Иди теперь!
– Да ну, а ты что? Ты-то куда? – заприговаривал он. – Ты что, не домой?
– Не твое дело! Все! Иди!
Он переступил около нее с ноги на ногу, матюгнулся, отступил на шаг, постоял, снова матюгнулся и быстро, не произнеся слов прощания, пошел прочь.
Он пошел, и она вспомнила еще об одной вещи, которая нужна была ей от него.
– Постой, эй! Скорый какой! – окликнула она сына.
Он остановился. Опять переступил там, на расстоянии, с ноги на ногу, как бы покачался вперед-назад и медленно направился к ней обратно.
– Чего такое еще?
– Деньги с собой есть? – спросила она.
Она знала, что есть. У него с той поры, как стал охранять этот ларек, всегда теперь были полные карманы денег. Может быть, у него имелось их даже больше, чем у старшего. Кошелька он не заводил, и деньги у него в самом деле были рассованы по карманам.
– Ну, есть деньги. А что?
– Дай, сколько можешь. Рублей сто. Или двести. Если сможешь.
– Зачем тебе деньги? Ты чего хочешь-то? – сообразил, наконец, спросить он.
– Брось мне – «чего хочешь»! – взвилась она. – Ты мне бежать помог, ты соучастник, давай без допросов! Чего хочу – того хочу. Денег давай!
– Триста возьмешь? – пошуршал у себя в карманах, протянул он ей деньги. Она взяла, и он спросил: – Так ты не домой, что ли?
– Иди, все! – махнула она рукой. – Иди, не зли меня. И не треплись ни о чем. Молчи, как рыба.
Но что ей делать с собой, она не знала. Она совершенно не думала о том, что будет делать, сбежав из больницы. Она представляла себе, как окажется за пределами ее территории, картина этого прокручивалась и прокручивалась у нее перед глазами, а дальше не различалось ничего, – туман; но странным образом это ее не заботило, совершенно не смущало, главное было – сбежать, сбежать – а там уже все должно было сложиться как бы само собой.
Сын исчез в темноте, окружающей пространство больницы, она постояла, прислушиваясь к себе, что ей подсказывает некий руководящий ею голос, и, подняв с земли сумку, пошла к автобусной остановке. Теперь она вспомнила: ощущение свободы все последние дни в больнице ассоциировалось у нее с автобусом, с поездкой в нем, с бегущими за автобусными окнами мокрыми улицами, силуэтами деревьев, горящими окнами домов… нужно было сесть на автобус.
Конечная остановка автобуса, в который она села около больницы – не глянув на номер, первый, какой подкатил, – оказалась вокзалом. Она вышла вместе со всеми, попав в спешащую, звучноголосую толпу, текущую к ярко освещенному многими огнями вокзальному зданию, и ноги после некоторой заминки понесли ее в этом потоке по течению.
На вокзале она нашла автоматическую камеру хранения, отыскала свободную ячейку и, изучив правила пользования, поставила сумку вовнутрь.
Оставшись без сумки, она сразу почувствовала себя свободной. Словно бы сделала некое необходимое, но промежуточное дело, и теперь была готова для основного. В сумке лежала ее одежда и всякие мелкие личные вещи, которые сын по составленному списку взял из дома, все это, по ее разумению, могло потребоваться ей в ее послебольничной жизни, но сейчас в вещах, лежащих в сумке, не было никакой надобности.
Мигающая разноцветными лампочками стеклянная доска со стрелкой указывала дорогу в видеозал, где, согласно написанной от руки афишки рядом, показывали сегодня американский супербоевик под названием «Терминатор». И снова, словно бы сами собой, ноги повели ее туда, куда указывала стрелка, ближайший сеанс начинался через полчаса, она купила билет, походила по гулким, кипящим народом, грязным вокзальным просторам минут двадцать и вернулась к видеозалу. В зал уже запускали, она показала билет, прошла к дальним рядам – хотя из-за маленького экрана все стремились сесть в первые ряды, и несколько человек уже скандалили из-за мест, – устроилась в саммом последнем ряду и стала ждать темноты.
Тут, в этом видеозале, она и провела всю ночь. Выходя после сеанса, покупая новый билет и тотчас возвращаясь на свое прежнее место. Билет стоил десять рублей, и ночь обошлась ей в полсотни, но спать в зале ожидания, открытой любому взгляду, – это было исключено, так ей подсказывал голос внутри. Не хватало только выставиться на обозрение обходящим залы дежурным милиционерам, которые своим наметанным глазом тотчас распознали бы в ней никакого не пассажира.
Последний ночной сеанс закончился около семи утра. Было уже совсем светло, все лампы по всему вокзалу погашены, и только по-прежнему горела и мигала разноцветными лампочками стеклянная доска с надписью «Video». В туалете, вход в который был теперь платный и стоил рубль, Альбина обнаружила, что вся ее левая рука в грязи, как в перчатке, и, когда шевелишь пальцами, с них сыплется серый прах. И весь левый рукав пальто, прямо с обшлага, тоже в засохшей грязи, и в грязи весь подол сзади. Вчера она этих последствий своего падения на осклизлой тропе просто не замечала.
У входа в туалет, за спиной у смотрительницы, взимавшей плату, висела, обратила Альбина внимание, еще принимая от нее сдачу со своей пятерки, довольно чистенькая, покрытая розовой салфеткой полочка с лежащими на ней обувной и плательной щеткой. Не моя рук, она подошла к смотрительнице и попросила ту:
– Щетку вашу, почиститься, можно?
Смотрительница, с непонятным интересом разглядывавшая деньги в выдвинутом ящике тумбочки перед ней, подняла на Альбину глаза, пытаясь осознать, о чем ее попросили, и вдруг лицо ее осветилось радостью:
– Мабут твою Касавубу, кого вижу, офизденеть можно! Давно от Изольдовны?
Изольдовна – было отчество гренадерши-врачихи, смотрительница ни с кем не спутала Альбину, и в следующий миг Альбина узнала ее: это была та самая маниакальщица, с которой лежали в больнице в прошлый раз. И странно, к собственному удивлению, Альбина тоже обрадовалась.
– Мабут твою Касавубу! – увидев, что ее узнали, снова, теперь с довольством, щегольнула ругательством их юности маниакальщица. Это тогда, в начале шестидесятых, в освободившемся от колониальной зависимости Конго люди с такими именами боролись друг с другом за власть, и столько о них трещали в газетах, по радио, по телевизору, будто весь мир – это только они и были, что имена их в конце концов, как то и водится, сделались ругательными.
– Не трожь святое, – в тон ей отозвалась Альбина, – еще Патриса Лумумбу вспомни! – И, не отдавая себе отчета в том, что делает, по некоему наитию, призналась ей: – От Изольдовны я вчера вечером. Привет тебе от нее. Вчера днем, как тебя, ее видела…
– Ни хрена себе! – ахнула маниакальщица, услышав, что Альбина сбежала. – А как ты будешь? Куда ты денешься-то? Ни на работу пойти, ни бюллетень закрыть… Ты же в капкане, куда из капкана? Все равно к ним обратно придется! Только теперь сульфазин в жопу – и лай по-собачьи. Сульфазином кололи тебя? Нет? Инсулин твой – бирюльки против него. Это тебя как на дыбу поднимут.
– А я к ним не попаду больше, – сказала Альбина. – Не получат они меня.
Она была уверена в том: не получат. Не вернется она туда к ним, ни за что! А как там все образуется с ее дальнейшей жизнью – это ее совершенно не заботило.
Они разговаривали, а за спиной у Альбины накопилась между тем очередь в несколько человек.
– Погоди, в девять меня сменят, ко мне поедем, – отстраняя Альбину рукой с пути очереди, предложила маниакальщица.
В девять Альбина снова была в туалете, маниакальщица немного погодя освободилась, и они вместе вышли на кипящую народом привокзальную площадь.
– Знаешь, где живу? – сказала маниакальщица, когда уже ехали в автобусе. И зашлась в смехе: – Ни в жизнь не угадаешь! Наостоепенила я им обоим с циклотомией своей, не знают, куда от меня деться, ну, у меня тоже гордость, я им говорю: ладно, не хотите моих щей, жрите консервы…
– Кому «им»? – спросила Альбина.
– Ну, кобелям своим, шоферюгам. Они у меня оба шоферюги: и муж, и сын. Рос, космонавтом хотел, вырос – в шоферюги пошел. Я их понимаю: восемнадцать метров в коммуналке, им на меня глядеть – как уксус пить, а тут нос в нос все время… Ну, вот увидишь!
Автобус привез их на неизвестную Альбине окраину города. Дома стояли лишь с одной стороны шоссе, а с другой раскинулось поле, шел широкой полосой кустарник, начинался лес, и по окраине леса, поднятая насыпью, тянулась железная дорога.
Маниакальщица глянула на забрызганные доверху грязью Альбинины туфли на шнурках и поморщилась.
– Ладно, а что делать, – как самой себе сказала она потом и махнула Альбине рукой: – Идем.
Они прошли обочиной пустынного шоссе метров сто, до полосы кустарника, маниакальщица, велев Альбине ждать, полезла в гущу ветвей и, наклонившись, вытащила оттуда измызганный белый полиэтиленовый пакет с ручками. Из пакета она извлекла красные резиновые сапоги в засохшей грязи, обстучала их и, придерживаясь за Альбину, стала переобуваться.
– Ничего, и ты пройдешь, – приговаривала она, переобуваясь. – У меня там какие-то коты есть, их возьмешь. Промокнешь – обсушишься, у меня там печка – у, зверь!
– Что там у тебя, – спросила Альбина, – садовый домик?
Маниакальщица захохотала.
– Садовый домик у меня там, – сквозь смех с довольством приговаривала она. – Ага, садовый. Вот увидишь!
Путь и в самом деле оказался не слишком грязен. Вдоль кустарника была натоптана тропка, снег на ней уплотнился под ногами, заледенел от весеннего солнца и до сих пор не сошел. Альбина вспомнила, как она жила в своем садовом домике и какой неодолимой проблемой для нее стала в наступающей зиме дорога через лес.
– Много народу ходит, так утоптано? – спросила она.
Маниакальщица снова захохотала.
– Трамвай одиннадцатый номер ходит. Мои две на собственной тяге. После пурги, было, раз десять туда-сюда пропахивала. С утра до вечера, цельный день.
Альбина не поверила.
– Как это?
– Так, как это! – не вдаваясь больше в объяснения, отозвалась маниакальщица. – За идею народ – что? знаешь? – Зимний штурмом брал.
Они перебрались через насыпь, за насыпью оказался овраг со звеневшим по дну ручьем, но в продолжение натоптанной тропки через ручей были переброшены две жердины, а когда поднялись на другую сторону оврага, в лес, там в самых тяжелых местах оказались набросаны для удобства даже горбылевые доски.
Альбина ничего не понимала.
– У тебя избушка в лесу, что ли? – спросила она.
– На курьих ножках, ага! – хмыкнула маниакальщица.
Они снова вышли к оврагу, видимо, сделавшему где-то неподалеку поворот, спустились немного по его склону, маниакальщица опять пошарила в кустарнике, но вытащила оттуда на этот раз никакой не полиэтиленовый пакет, а маленький ломик-фомку.
– Ну-кось! – попросила она сойти с ее места Альбину. Сунула ломик в дерн с прошлогодней, мочальной травой, сунула в другое место и, присев от натуги, потянула ломик наверх. Квадратный большой кусок дерна отделился от склона и отвалился на сторону.
Это была землянка – где она жила!
– Годи́! – приказала маниакальщица. Застучала по деревянным ступеням вниз, из темноты землянки до Альбины донеслись звуки ее движений внутри, какой-то шорох, какой-то звяк, ширкнула затем спичка, и в мгновенном выплеске огня от сгорающей серы Альбина увидела керосиновую лампу со снятым стеклом и малиновые руки маниакальщицы, несущие спичку к фитилю. – Теперь давай! – сказала маниакальщица, спустя полминуты, надев стекло и отрегулировав огонь. – Теперь не навернешься.
Пригнув голову, Альбина шагнула на ступеньки, осторожно сошла по ним, и, еще спускалась, грудь ей сжало от сперто-сырого погребного духа, стоявшего внутри.
Маниакальщица дала ей сойти вниз и бросилась обратно наверх, закрыть замаскированную дерном дверь.
– Не хрена студить, потом проветрим!
Альбина, опустив на пол тяжелую парусиновую сумку, которую маниакальщица еще на вокзале дала нести ей, с изумлением огляделась. Она не могла и представить себе, что где-то и у кого-то возможно такое жилище. Потолок землянки – сучкастые, плохо обработанные, с неряшливо снятой корой бревна – был в тридцати сантиметрах над ее головой, одна стена, около которой стояла железная кровать с постелью и кучей одежды сверху, обшита горбылем, а остальные слюдянисто сочились живой весенней влагой, пол деревянный, но в щелях между досками поблескивала в красноватом свете керосиновой лампы вода, и в двух или трех местах с явственной отчетливостью перешлепывалась капель. Кроме кровати, стоял стол посередине, две табуретки рядом, больничного вида тумбочка в одном углу, да в другом – небольшая печка, видимо, из тех, что именовали прежде «буржуйками», с выходящей из нее коленом и вонзающейся в потолок трубой. Альбина вспомнила, что, когда начали спускаться вниз по склону, ухватилась рукой за какой-то странный, гладкокорый, идеально прямой безветвистый обломанный ствол с непонятною полукруглой нашлепкой наверху, о котором, как отняла руку, тут же забыла, и поняла сейчас, что это была выкрашенная бурой краской, закамуфлированная под засохшее дерево асбестовая труба.
Маниакальщица закрыла дверь и протопала по ступеням вниз.
– Сейчас с тобой «голландку» нашу зажжем, десять минут – и тепло, до голяка разденемся, чай заварим, у меня тут еще картошка вчерашняя…
Она хлопнула дверцей «буржуйки», открыв ее, пошерудила внутри железным прутом, освобождая колосники от золы, сунула туда газету, положила сверху заранее заготовленные, лежавшие под печкой лучины, а на них – два тонких березовых полешка, достав их из-под кровати.
– Она у меня, милая, – с одного раза, такая подруга – лучше нет, – приговаривала маниакальщица, чиркая спичкой и подсовываясь с ее пламенем к смятой бумаге. – Ты там из сумки-то доставай, чай ставить будем, – снова приказала она Альбине.
Альбина расстегнула большие, пальтовые пуговицы, на которые застегивалась самодельного изготовления парусиновая сумка, там оказались голубая пластмассовая канистра и белая пластмассовая фляга, в них плескалось, и Альбина сообразила, что это вода.
Огонь в печи затрещал, охватывая лучины, маниакальщица захлопнула дверцу и рогулькой стала скидывать круги с конфорки.
– Чайник вон возьми, – распорядилась она, ткнув рукой куда-то в темноту около печки, Альбина подошла, присмотрелась, увидела горку кастрюлек, сковороду, чайник на полу и, наклонясь, взяла его. – Ставь на огонь, воду наливай, – распорядилась маниакальщица дальше, полезши под кровать за новыми поленьями.
В землянке действительно сделалось тепло очень быстро, они стали скидывать с себя одну одежду за другой, и маниакальщица приоткрыла дверь, подперла ее колом, чтобы внутрь заходил свежий воздух. И все это время, возясь по хозяйству, мечась по землянке туда-сюда, она рассказывала с довольством:
– Ни хрена я обосновалась, да? Хрен меня кто здесь достанет! Шоферюги мои придут ко мне на вокзал на опохмелку просить: где да где? – а им: в физде! – И хохотала: – Похоже, да? Уй ты, не думала, похоже! Год скоро будет, как здесь. С прошлого мая. Как из дурдома вышла. И что думаешь? Осень проскочила, не попала туда. Что значит, спокойная жизнь! И весну эту, гляжу, проскочу. Раньше, как март, я – непременно, а теперь – апрель, гляди! Я выписалась, они на меня – как коты: ты тут, опять тут!.. Да на хрен мне нужно! А сюда никто не заходит, место тут: ни город, ни лес, – а какой идиот забредет, увидит жилье – дает деру, пятки сверкают!
– Что, сама копала? И все остальное? – вставилась в этот рассказ с волновавшим ее вопросом Альбина.
– И сама, чего! – горделиво сказала маниакальщица. – А лес валить, бревна пилить, трубу ставить – ёкаря своего заставила. Не хрена ему. Ему ж самому ко мне ходить сюда. Вот он придет, увидишь. Без ёкаря все ж нельзя, скажи? И ёкарь, он ёкарь и есть, не муж, не сын, я ему ничего не должна, дала – и иди, сам мне еще должен, скажи? У тебя какой есть, нет, как ты устраиваться будешь?
– Никак, – сказала Альбина.
– Как это никак? – изумилась маниакальщица.
– Ну, так, – с неохотой отозвалась Альбина. Не было у нее желания говорить ни о чем подобном. – Не интересует меня это все.
– А-а! – понятливо протянула маниакальщица. – Депрессия у тебя, значит. – И спросила с заботой: – Может, тебе не нужно было сбегать? Может, подумаешь-подумаешь – да вернешься?
В Альбине при этих ее словах все содрогнулось от судороги ненависти к тем помещениям, в которых находилась еще полсуток назад, и завопило истошно: «Нет! Нет! Не-ет!»
– Так чего ты тогда делать-то собираешься? – спросила ее маниакальщица – уже не в первый раз, просто до того Альбина не отвечала ей, – когда, наконец, сели за стол, за парившую аппетитно вареную картошку, за горячий чай с сахаром вприкуску.
– Подаяние пойду просить! – все так же не зная, что ответить ей и чтобы хоть как-то отвязаться, брякнула Альбина.
Но маниакальщица неожиданно возбудилась.
– Дело! Дело! – заприговаривала она. – Это отличное дело, я тебе помогу! Это, думаешь, просто оделась, пошла – и встала? Фуя с два! Раз сойдет, на другой поймают – отфиздят так, ползать не сможешь.
– Кто? Что ты говоришь? – поражаясь серьезности, с которой маниакальщица восприняла ее бред, спросила Альбина.
– А сами они, кто! Или их пристебаи! – сказала маниакальщица. – Ты же куда, ты же в центр пойдешь? А там каждый угол расписан, ты не суйся!
Альбине сделалось интересно. Гляди-ка ты!
– А как же тогда? – осведомилась она.
– Вот я ж тебе говорю, я тебе помогу! – рассердилась на нее за непонятливость маниакальщица. – Ёкарь мой там ходы знает, она сделает. Все в лучшем виде будет!
– А жить здесь у себя позволишь? – неожиданно для себя поинтересовалась Альбина. Поинтересовалась – и снова вся содрогнулась; только теперь это была судорога омерзения к самой себе: словно бы внутренне она уже приняла предложение своей больничной знакомицы и примерялась сейчас к реальности той жизни, которую сулило ей занятие попрошайничеством.
– Чего, поживи пока, а там видно будет, – ответила маниакальщица. – Чего-нибудь придумаем, соорудим постель тебе.
– У тебя здесь славно. Хорошо у тебя здесь, – сказала Альбина. И поймала себя на том, что ей действительно нравится здесь, хорошо ей здесь, по сердцу, и уже не замечает сырости и спертости воздуха, запаха мокрой земли, – все здесь по ней, все ее здесь устраивает.
25
Так Альбина стала нищенкой. Место ей определили на улице, в квартале от одного из центральных городских «Гастрономов»; народу здесь было много всегда, и монетки на расстеленную перед нею на асфальте темную тряпицу летели постоянно, пусть и не очень часто, но и без особенных перерывов: и десятчики, и пятнадчики, и двадцатчики, а если медь, то сразу несколько монет. Иногда кидали и рубли, что случалось все-таки редко, а молодые шикарные люди в стильных длинных пальто с поясами, которых во множестве развелось за последний год, давали и по трояку, – если бывали с женщинами. Обычно это проиходило следующим образом: они проходили мимо Альбины, будто ее и не существовало, вдруг останавливались шагах в пяти, спутница молодого человека что-то говорила ему, он оглядывался, потом перебрасывался с женщиной парой слов, а затем, оставив спутницу там, где остановились, доставая на ходу портмоне, возвращался в Альбине и безмолвно, не наклоняясь, бросал купюру планировать на расстеленную тряпицу. Наряд из двух милиционеров, несших дежурство неподалеку от Альбины, на углу перекрестка, где была трамвайная остановка, сходились трамвайные пути, и народ там по-вокзальному кипел, словно б не замечал ее, совершая обход прилегающих к перекрестку людных участков улиц, только кто-нибудь из милиционеров, приблизившись, вдруг начинал почему-то звучно постукивать себя по ноге висящей на кисти черной резиновой дубинкой.
Просидев, сколько у нее хватало сил и собрав достаточную, по ее разумению, на сегодня сумму, Альбина поднималась и шла в определенный ей магазин менять мелочь на купюры. Для обмена ей был назначен маленький магазинчик на тихой малолюдной улице, она заходила вовнутрь, за прилавок, разыскивала замдиректора, толстотелую, крутощекую бабу, та, если чем была занята, велела ждать, а нет, – сразу подхватывалась, вела к стоявшим у себя в закутке весам, взвешивала Альбинину мелочь – отдельно серебро, отдельно медь – и отсчитывала затем положенное количество бумажных денег.
Раз в неделю, в строго установленный час, она должна была отдать обговоренную сумму человеку, который ждал ее в одном из городских парков культуры и отдыха на скамейке около скульптуры гипсового дискобола. За неделю положено ей было отдать четыреста рублей. Четыреста разделить на семь или на шесть, – получалось, подсчитала она, ей требовалось собирать в день не меньше семидесяти рублей; случались дни, особенно в непогоду, когда она не набирала этой суммы, но бывали такие, когда набирала по нескольку раз столько.
Собирать милостыню, чтобы ее никто не опознал, она ходила в чужой одежде, выменяв у маниакальщицы свой приличный шерстяной костюм из сумки на какой-то темно-серый, почти черный балахон, напоминавший своим видом о монашестве, и совершенно черный груботканый платок, который надевала на голову кульком – так, что лицо ее все утопало в его глубине, скрываясь в тени, как в коконе, да еще ваксила тушью подглазья, чтобы исказить собственно черты лица, и сидела на тротуаре, всегда опустив взгляд в асфальт перед собой. Может быть, проходили мимо и даже бросали ей монетки на расстеленный платок сыновья, – но ни они не могли признать ее, ни она, наблюдающая, в основном, лишь ноги, не могла бы утверждать, что кто-то из сыновей действительно прошел мимо.
Поменяв в магазине у замдиректорши звенящую мелочь на беззвучные купюры, она заходила в облюбованный двухэтажный дом рядом, поднималась на чердачную площадку лестничного марша и здесь стаскивала с себя нищенскую одежду, убирая ее в большой полиэтиленовый пакет. Под нищенским одеянием она носила одежду обычную, и процесс перевоплощения занимал не более полминуты. Но тени вокруг глаз она не стирала, и остаться без платка тоже не решалась, – она лишь заменяла черный на темно-коричневый в цветочках и повязывала его таким же кульком, что и нищенский.
Следующим делом, которое она совершала, было посещение газетного киоска, где для нее оставляли набор газет, который она покупала ежедневно. Она договорилась с киоскером об этом в первый же день, как села просить милостыню, давала за газеты двойную цену, и киоскер никогда не подводил ее, всегда весь набор газет был подготовлен, и еще всегда же предлагал что-нибудь дополнительное: «А вот «Неделя», еженедельное приложение к «Известиям», очень интересная статья про итальянскую мафию, не желаете?» Она отказывалась. Не интересовала ее никакая итальянская мафия. Ее интересовало одно: Его дела, – и она покупала газеты только из-за Него.
Взяв в киоске газеты, она садилась на трамвай, проезжала три остановки и, сойдя, отправлялась в обнаруженную ею диетическую столовую, где в эту пору, когда она приходила, народу почти не было, сплошь пустые пластмассовые столы, и сиди после обеда, читая газеты, хоть целый час, – никто не гнал.
Однако одних газет ей не хватало, ей требовалось видеть Его, и после столовой она ехала автобусом в специализированный магазин радиотоваров, – там в квадратных ячейках на стеллажах стояли исчезнувшие отовсюду телевизоры, которые в этом магазине продавали по некоей особой разнарядке только участникам Великой Отечественной войны, три-четыре телевизора были всегда включены, и она проводила около них время, оставшееся до закрытия магазина. Магазин закрывался в семь часов, и, выйдя из него, она ехала в центральный городской универмаг, работавший до девяти: там раз-другой в неделю телевизоры тоже появлялись в продаже, и тогда в восемь вечера можно было посмотреть новую информационную программу, которая стала выходить в дополнение к основной, девятичасовой, только по другому каналу.
Бегство ее из больницы, как она смогла убедиться в том почти незамедлительно, оказалось совершенно оправданным. Тот клювоносый, в тонкой оправы очках на хомячьем лице, пытавшийся навредить Ему, ослабить Его, был повержен Им, как тряпичная кукла, как огородное пугало, возомнившее себя под порывами ветра, шевелившими его, действительно живым существом, – она видела в магазине радиотоваров Его выступление, когда Он топтал клювоносого, показывая тому его место[75], и все в ней захлебывалось и заходилось радостью: спасен, спасен, спасен!
О, это были удивительно счастливые дни. Как крылья носили ее, она чувствовала себя и в самом деле едва не птицей, такая легкость была в груди – хотелось разбежаться, замахать руками и взмыть в воздух.
И погода, едва обрела свободу, тоже тотчас переменилась, весна словно бы обрела силы, температура скакнула за один день к двадцати градусам, снег стаял во мгновение ока, асфальт повсюду сделался сух, земля запарила, подсыхая, и в одно утро, приехав в город, чтобы переодеться на чердачной площадке и сесть на своем месте просить милостыню, Альбина увидела, что очистившиеся газоны окурились нежным зеленым дымком.
Поле, однако, через которое пролегал единственный путь до землянки, совершенно раскисло, и Альбине пришлось искать себе по магазинам сапоги – магазины были пусты, голые полки с пирамидками пластмассовых плоских банок с обувным кремом, – и в конце концов она купила их с рук на городском рынке. По утрам, выходя на шоссе, она снимала сапоги, клала их по примеру маниакальщицы в плотный полиэтиленовый пакет и, так же, как та, прятала пакет в кустах. Возвращаясь в землянку, она совершала обратную процедуру; почему-то в этой ее новой, неожиданной жизни больше всего ей не нравилось, раздражало необычайно – данная вот необходимость постоянного переобувания посреди дороги, и она все ждала, не могла дождаться, когда поле подсохнет настолько, что можно будет пересечь его, не переобуваясь.
В обязанности ее входило приносить овощи и воду в белой пластмассовой фляге. Без овощей иной день можно было и прийти, а вода требовалась ежедневно, и она всегда возвращалась нагруженная. Спала она на полуразвалившейся раскладушке, которую приволок любовник маниакальщицы, – впрочем, та неизменно называла его только ёкарем, и никак по-другому. Из-за того, что она называла его так, Альбина некоторое время опасалась, что придется терпеть рядом с собой их возню, но маниакальщица, по каким-то своим причинам, почти всегда дежурила ночью, возвращалась утром, и любовник ее приходил к ней обычно в дневную пору, а ночи Альбина проводила в землянке одна.
Раз, проходя мимо застекленного стенда на стене дома с наклеенными внутри листовками, крупная типографская надпись на которых гласила: «Их разыскивает милиция», – она, словно бы повинуясь некоему невнятному зову, остановилась, стала просматривать листовки под стеклом, одну за другой, и на третьей или четвертой увидела свою фотографию. Только на ее листовке текст гласил: «Помогите найти человека», – и вместо слов «за совершение тяжкого преступления» стояло: «потерялась». Альбина читала, перечитывала текст – и будто не про себя читала, будто не про нее писалось, про кого-то другого. Фотография была ее, ее была фамилия и имя, но она, читавшая все это, она не имела к пропавшей женщине никакого отношения. Прошлого не существовало, прошлое осталось за некой чертой, которой отсеклось от нее нынешней напрочь, она нынешняя и она прежняя – были совершенно разные люди.
И такая уверенность была в ней, что между женщиной на портрете и между собственно ею нет ничего общего, что она даже не запаниковала – вдруг ее опознают, ничуть не обеспокоилась объявленным розыском: не опознавали до того – не опознают и впредь.
А весна между тем все неудержимей рвалась к лету, раскрылись почки на деревьях в городе, а немного спустя зазеленел и лес, прокатились майские праздники, потом праздник Победы, и в один прекрасный день Альбина неожиданно обнаружила, что можно, наконец, пересечь поле и без сапог.
Что ее беспокоило и даже несколько угнетало, – это ее физическое состояние. Она и вообще-то, с той поры, когда пришлось обратиться к знахарке, не чувствовала себя вполне здоровой, всегда оставалась какая-то слабость в теле, вялость, и то вдруг страшно, жутко хотелось есть, то не могла засунуть куска в рот, но сейчас, может быть, оттого, что целыми днями еще до наступления тепла сидела на холодном асфальте и несколько простудилась, ей приходилось перемогаться, сидела, смотрела на идущие мимо ноги – и ноги виделись словно бы сквозь колыхание воздуха, а звяк падавших монет доносился словно бы издалека. Правда, она старалась не обращать на свое состояние внимания, как бы даже не замечать его, и ей это удавалось: день она чувствовала себя лучше, день хуже, – однако не так, чтобы свалиться с ног, вполне могла перемочься.
Но длиться этой жизни было суждено лишь до первых июньских дней. Маниакальщица, в те редкие их встречи – чаще всего по утрам, когда Альбина еще не ушла, а она, отдежурившись, уже возвращалась, – стала вдруг проявлять к доходам Альбины повышенный интерес.
– Ёкарь мой говорит, ты пятьсот рублей в день имеешь, так, нет? – спрашивала она.
– Ну что ты, какие пятьсот, – отвечала Альбина.
– Как нет, он знает, – говорила маниакальщица.
– Да нет же, ну!
Альбина раскладывала перед нею полный пасьянс из своих доходов, полагая необходимым сделать это, маниакальщица слушала с недоверием, слушала и перебивала неожиданно:
– А где ты хранишь-то их, такие тысячи? Такие тысячи с собой не потаскаешь ведь, да?
– Да какие тысячи, господи! – теряла терпение Альбина.
Маниакальщица осекалась со своими вопросами. Минута, другая, третья проходили в молчании, и она нарушала это тягостное молчание плотоядным хохотком:
– А вот бы заявить о тебе врачам, а? Как думаешь? Вот бы им подарок! Тут бы и откупиться не грех, а? Стоит того свобода, нет?
– Ну… давай… я тебе за постой буду платить, – растерянно говорила Альбина. – В общем-то… правильно будет. Твоя землянка. Не я строила. Стесняю тебя…
– Жи-ви! – махала рукой маниакальщица. – Стесняю! Хрена ты меня стесняешь, живи!
Так продолжалось с неделю, и в одну из тех нечастых ночей, когда маниакальщица не дежурила в туалете, а спала в землянке, Альбина проснулась оттого, что в темноте вокруг нее происходило какое-то движение, тесное пространство подземного жилища было наполнено различными приглушенными звуками – шорохами, постукиваниями, скрипами, частым дыханием напряженно работающего человека, – и то и дело, будто вырываясь из некоего заслона, промелькивал световой луч.
Альбина осторожно повернула голову в сторону, откуда вырывался свет, и увидела, что маниакальщица стоит на коленках в углу около тумбочки и шарит в ее сумке, с которой она бежала из больницы, выкидывая одну за другой на грязные доски полового настила ее вещи. Было мгновение – осторожность приказала Альбине: молчи, ни слова! – но возмущение оказалось сильнее.
– Что ты делаешь?! – сказала она, приподнимаясь на локте. – Очумела? Что ты там ищешь?
Носоглотка маниакальщицы издала от неожиданности резкий, лошадиный всхрап, фонарь в ее руке дернулся, оплеснув светом половину землянки, но в следующий миг луч его был уже направлен на Альбину, слепя ее и заставляя зажмуриваться.
– А, млядь, проснулась! – сказала маниакальщица. – Курва сраная! Воровка драная! Невинность изобразить хочешь?
– Ты что, ты очумела, что ты несешь? – заприговаривала Альбина, скидывая с себя ворох одежды, которой была укрыта, и пытаясь встать, но резкий сильный удар в лицо опрокинул ее обратно.
– Куда мои сто тысяч дела? – наваливаясь на нее, завизжала маниакальщица. – Куда? Говори, курва! Говори, я с тобой за сто тысяч, знаешь, что? Говори, ну, говори! – вцепилась она Альбине в волосы и принялась таскать ее голову по раскладушке из стороны в сторону. – Убью курву, зарежу падлу! Сто тысяч! Куда дела, млядь, признавайся!
Только уже потом, когда вырвалась из землянки, когда, убегая от преследующей маниакальщицы, забралась в лес так далеко, в такую глушь, что пришлось после плутать по нему и плутать, выбираясь, Альбина поняла, что произошло: у маниакальщицы начался очередной приступ, и все ее разговоры последних дней о деньгах превратились в бред об украденных у нее ста тысячах.
Она вернулась к землянке, когда солнце стояло уже высоко, роса почти высохла, воздух прогрелся, и ей, в ее ночной тонкой пижаме и босой, не было больше холодно. Ломик-фомка валялся в кустах на положенном месте. Она нашла им в дерне железную петлю, прибитую к деревянной основе двери, потянула лом вверх, дверь открылась, – изнутри не раздалось ни звука.
Землянка оказалась пустой. Все в ней было перевернуто вверх дном, ее сумка выпотрошена до дна, и вещи из нее раскиданы по всему полу, но главное – маниакальщицы внутри не было. Не закрывая дверей, торопясь, Альбина собрала свои вещи, набила сумку, прихватила, подумав, раскладушку и рванула обратно, наверх. Она знала, что больше сюда не вернется. И знала, что больше ей не сидеть, прося милостыню, на тротуаре неподалеку от одного из центральных «Гастрономов». Маниакальщица со своим приступом непременно попадет в больницу, не сегодня, так завтра – самое позднее, и гарантии, что не расскажет о ней, нет никакой. Даже скорее всего расскажет. Она сейчас несколько дней подряд будет представлять из себя словесный фонтан, и ей просто доставит удовольствие рассказать гренадерше в белом халате об общей знакомой. Что эта знакомая, где и как ее найти.
Альбина обосновалась на чердаке того двухэтажного дома на тихой улочке, который использовала обычно для своих переодеваний. Тихой была улочка, и тихим был дом, по три квартиры на каждой лестничной площадке, шесть на весь подъезд, а чердачная дверь, обнаружила она еще раньше, только считалось, что закрыта на замок. Щеколда замка, обнаженно торчащая в расковырянной широкой щели между торцом двери и косяком, открыла она для себя, движется совершенно свободно в любую сторону, без всякого ключа. Достаточно зацепить ее ногтем мизинца, вполне пролезающим в щель, подвинуть – и путь на чердак открыт.
Она как думала о том, что придется перебираться сюда. У нее, оказалось, были даже облюбованы места, где поставить раскладушку и где прятать сумку, – она осознала это, когда, войдя, двинулась со своим грузом, не задумавшись ни на мгновение, в совершенно определенном направлении.
Три дня после случившегося она бродила по городу, ничем не занимаясь. Сидела, купив газеты, в сквере напротив здания, в котором работал муж – напрочь забыв об этом, но, впрочем, не забыв, несмотря на изрядно жаркий день, упрятать лицо в кульке платка, – выковыривала из тысяч напечатанных слов, как изюм из булки, любое слово о Нем; стояла в магазине радиотоваров около светящихся экранов, заранее наметив для себя по опубликованной в газете программе, что ей необходимо увидеть; на всех углах по городу раздавали листовки с призывом прийти на митинг в поддержку того, кого она называла теперь про себя Крутым, соединенного с Ним непонятными скрепами так прочно – не разъять, и в назначенный час была на указанной площади, постояла в толпе, послушала произносимые речи: Крутой хотел совсем сравняться с Ним, хотел встать совсем рядом, называться абсолютно так же, как Он, скоро для того должны были состояться новые выборы, – и ораторы призывали поддержать Крутого в его стремлении[76]. Молниевый вихрь кружил вокруг Него, она буквально физически видела этот блещущий, ослепительный смерч, и видела с той же ясностью, что панцирь вокруг Него крепок и надежен, как никогда, и Он неузвим, ничего ему не грозит.
Через три дня она снова пошла просить милостыню. Она не знала, за что ей взяться еще, что ей придумать другое, чтобы добывать деньги. Думая о том, что делать, она неизменно упиралась в занятие, которым промышляла эту последнюю пору.
Только теперь, прося милостыню, она избегала центра города и все время меняла места, где побиралась. Она сменяла за день едва не десяток мест. И через каждые два, три дня отправлялась побираться по пригородным поездам. В поездах приходилось не просто протягивать руку, а, войдя в каждый новый вагон, объявить о себе голосом, тут появлялся дополнительный риск быть опознанной, и она меняла голос на гундосо-писклявый, до того мерзкий, что становилась отвратительна самой себе. Но с поездных нищенок, знала она, дань не собирают, ходить по вагонам, пересаживаясь с поезда на поезд, ей, по необъяснимой причине, было психологически легче, чем бегать с места на место по улицам. А кроме того, она не была уверена, что на улице не попадет на такую точку, которая контролируется, и всякий день, когда просила на улице, был для нее наполнен еще большим страхом, чем день, когда ходила по поездам. Однако в поездах подавали почему-то значительно меньше, чем на улице, и от улицы она не могла отказаться; в известной мере, дни, когда ходила по поездам, были как бы днями отдыха.
Настоящими днями отдыха были, впрочем, банные дни. Чердачная жизнь располагала к тому, чтобы завонять, и она иной раз устраивала их себе дважды в неделю. Ей всегда был неприятен запах немытого тела, и при одной мысли, что от нее может шибать, как от других нищих, – ей становилось дурно до ненависти к себе, и она старалась ходить в баню как можно чаще, не жалея на нее денег.
Она покупала себе обычно отдельную кабинку. Замачивала там в шайке белье, не торопясь, стирала его и после, так же не торопясь, мылась сама, намыливаясь и два, и три, и даже четыре раза, – ей это все доставляло удовольствие.
Иногда почему-то ее тянуло в общий зал. К многоголосому гулу, висящему в парном, туманном воздухе, многозвучному плеску воды вокруг, жестяному бряканью шаек о камень многоместных, длинных скамеек, шипящему шуму душа вдали, и, если со стиркой терпело, она покупала билет в общий зал. И там, в общем зале, хотя ничего не стирала, а только мылась, она проводила еще больше времени, чем в отдельной кабине. Сидела, намылившись, поплескивала на себя горстью из шайки воду, смотрела по сторонам, слушала окружающие звуки, вбирая их в себя, словно бы то были звуки некоего небесного хора, вода в шайке остывала, она выплескивала ее под ноги, шла к крану с большими деревянными ручками, наполняла шайку горячей водой и снова сидела, смывалась, намыливалась и опять сидела.
Здесь, в этом общем зале, когда сидела так, на нее временами нападало непреодолимое желание разглядывать себя. Похожее, помнилось ей, было в детстве, когда ходила в баню с матерью и, оказавшись перед своей неожиданной голизной, поражалась множеству таинственных складочек на тебе повсюду, впадинок, выпуклостей и изумительному блеску мокрой кожи. И сейчас она тоже рассматривала себя с тем почти детским пристрастием – руки, ноги, живот, – разве что без восторга первого узнавания; тело ее, открыла она для себя, как бы подвяло, усохло, кожа сделалось какой-то одубелой и поддрябшей, в нем явно была некая нездоровость, – и было это раньше, до ее побега из больницы, или то сказывалась таким образом нынешняя ее жизнь?
Вопрос, однако, оставался без ответа, и, выйдя, наконец, в раздевалку, вытершись, одевшись, она покидала баню, расслабленная и ублаготворенная, – чтобы в этот день уже ничего не просить, нигде не сидеть и не ходить по поездам. Банные дни были выходными днями в полном смысле слова: в них она не побиралась вообще.
Почему она ходила баню, не боясь быть там узнанной? Позднее, анализируя свое поведение, она поняла: в бане, раздетая, она не ощущала себя собой. У нее было чувство, что раздетая – это уже не она, кто-то другая, она известна тем, кто ее знает, в одежде, а без одежды лицо исчезает, скрываясь в телесной наготе, растворяется в ней, и узнать ее обнаженную может лишь тот, кто такой, обнаженной, и знает.
Наверное, это действительно было так, и, не осознавая того, она подчинялась знанию инстинкта. Но, ведомая инстинктом, она забыла о том, что входила и выходила из бани она одетой, и если входила всегда повязанная платком и с подчерненными подглазьями, то выходила, расслабившись баней, не надев порой даже платка, и спохватывалась, надевала его подчас уже много спустя.
– Твою мать, кого вижу, ну, мадам! – схватили ее за руку; в блаженной усталости она спускалась по широкому каменному крыльцу вниз, и, когда над ухом раздался голос, сознание пробило током: без косынки! – Во фокус, ну, мадам! – повторил человек, схвативший ее за руку, и она, вмиг переполнясь ужасом, увидела, что это бывший ее любовник. – Ее, твою мать, везде повсюду, всех трясут – до тюрьмы, а она… твою мать, она – вот!
– Пошел вон! – вырвала она свою руку, но не сумела сделать по ступеням и шага, он снова схватил ее и дернул к себе так, что она бы упала, если бы он же и не подхватил ее.
– Не, мадам, стоп-сигнал! Я афганец, я тебе говорил, со мной шутки плохи! Меня – как гада трясли… тюрьма, нары… я при чем? А ты – тут, вот ты где, ты у меня – теперь все!
«Помогите!» – стоял в ней крик, рвался наружу, но она заталкивала его обратно, не позволяла гортани вытолкнуть из груди воздух. Того ей только и не хватало, чтобы попасть в милицию!
– Чего тебе нужно? – спросила она. – Чего ты хочешь – схватил меня? Пошел вон!
– Чего я хочу? – переспросил он, не отпуская ее. – Во фокус, чего я хочу! Трясли, как гада… чего я хочу!
Она начала понемногу успокаиваться. Ничего он не хотел от нее. Не имел понятия, чего хочет. Глаза увидели – и рука цапнула, помимо каких-либо мыслей, сама собой. А раз так, раз у него нет никаких намерений, вполне будет возможно отделаться от него.
– Ну? – сказала она как можно спокойней. – Так и будем стоять?
– Ну, а чего! – воскликнул он, не понимая глупости своего ответа, и она увидела сейчас, что он еще ко всему тому и на хорошей поддаче: глаза у него тяжело, металлически блестят, и сжимающая ее рука не очень-то чувствует силу, с какой сжимает.
– Ну, давай, – сказала она, от боли в запястье невольно переступая с ноги на ногу. – Давай. Стоим. Что дальше?
Он помолчал, глядя на нее.
– Твою мать! – вырвалось из него потом. Не выпуская ее руки, он повернулся, поглядел куда-то, она посмотрела вслед ему – и поняла, что эта группа посмеивающихся парней, четыре человека на краю лестницы – это его, они вместе, и, посмеиваясь, парни сейчас наблюдают за ними. – А? Как афганцы? – перевел ее бывший любовник взгляд на нее обратно. – Ничего? – И, ухмыльнувшись, проговорил сквозь сжатые зубы: – Давай, дай им всем!
Она даже не сразу поняла, что он сказал. А когда поняла, как что-то в ней оборвалось обреченно – словно чего-то такого она и ждала все время и вот оно обрушилось на нее.
– Мерзавец! – вырвалось у Альбины, и она снова сделала попытку вырвать свою руку, но она бы не вырвала, если бы он не позволил ей сделать того.
– Ну, иди! – вновь ухмыльнувшись, отпустил он ее, она, не веря случившемуся, стояла мгновение, и он даже понукнул ее: – Иди-иди!
Компания его, когда она уже была на тротуаре и торопливо, доставая на ходу из сумки платок, чтобы повязаться, застучала по асфальту прочь от банного крыльца, взорвалась хохотом.
Только бы пронесло, только бы пронесло, Господи Боже милостивый, только бы пронесло, колотилось в ней.
Шел август, вторая половина его, и в ней откуда-то, уже несколько дней, было чувство, что нужно дотянуть до сентября, буквально до самого его начала, продержаться – так в ней звучало, а там все станет легче. И вполне вероятно, станет даже возможным вернуться домой. И – хоть в больницу, пусть забирают. Тогда пусть, тогда уже будет можно.
Господи, помоги, завопила она про себя, оглянулась почему-то и увидела то, чего боялась, о чем знала и во что не хотелось верить: компания, отстав метров на двадцать, шла за ней.
Она невольно дернулась ускорить шаг, но тут же вернулась к прежнему. Она не могла ни оторваться от них, ни убежать, – они бы мгновенно догнали ее. Надежда была лишь на то, что они просто шли в одном направлении с нею. И еще на то, что все-таки день, народ кругом, в конце концов, и в самом деле позвать на помощь, не обязательно же все должно непременно закончиться милицией.
Впрочем, был уже не день, светло, конечно, как и положено летом, но уже начало седьмого, уже вечер, по сути, и народу на улицах тоже было не много. Заканчивалось воскресенье, и, как всегда в воскресенье, набегавшись за два дня выходных по магазинам, люди уже сидели по домам, а те, что уезжали за город, возвращаясь, так же стремились скорее добраться до дому, расслабиться, приготовить себя к началу рабочей недели завтра.
Она прошла распахнутые двери модного кооперативного кафе со стоящим около них – руки сложены на груди – похожим на шкаф назколобым мужиком в белом, то ли официантском, то ли поварском переднике, оглянулась спустя некоторое время, – они не свернули туда. На перекресток трех больших улиц выходил фасадом кинотеатр с рекламой некоего американского боевика в больших, сплошного стекла окнах, – они минули и его, по-прежнему продолжая следовать за ней. Она как раз собиралась после бани купить билеты на этот фильм, побродить по фойе, поужинать в буфете бутербродами, отсидеть два с половиной часа в темном зале, и, когда бы вышла, дело шло к ночи, темнело и, побродив еще немного по улицам, вполне можно было бы отправиться к себе на чердак, но сейчас она не решалась сделать этого: наверняка в зале по причине воскресного вечера, да учитывая что лето, окажется полтора человека, и ей страшно было представить себя в темноте, и они рядом.
Она ходила по улицам, в надежде, что они, наконец, отстанут от нее, с полчаса, – они не отставали. Она переходила с одной стороны улицы на другую, поворачивала в обратном направлении, – они повторяли за нею все зигзаги ее маршрута. Ясно было, что они отнюдь не случайно пошли за нею от бани, они вполне намеренно следовали за ней.
Тяжело отфыркнувшись, коричнево-красный запыленный автобус, обдав перед тем волной теплого воздуха, когда прокатился мимо, остановился на остановке метрах в пятнадцати впереди. Двери его раскрылись, человек пять лениво соступили на землю и пошли каждый в свою сторону, двое человек, ожидавших на остановке, с тою же ленивой неторопливостью поднялись по ступенькам внутрь, автобус снова всфыркнул мотором, выпустив струю белого дыма, Альбине оставалось до него метра четыре, и, словно кто ее подтолкнул, она рванулась и впрыгнула в сходящиеся дверные складни. Сумку у нее защемило, некоторое время она возилась с нею, освобождая, и, когда, наконец, освободила, поднялась по ступеням наверх, в заднее стекло сквозь насевшую на него пыль увидела, что компания ее любовника осталась уже далеко позади и автобус стремительно уносит ее от них все дальше и дальше.
Расстояние до следующей остановки было весьма изрядным, и можно было бы сойти прямо на ней, но после того, что пережила, ноги ее не держали, голову стягивало тугим обручем, – нужно было посидеть, прийти в себя, и, бросив сумку на сиденье, она опустилась рядом. Господи, благодарю тебя, сказалаось в ней.
Если все будет хорошо, сказалось в ней следом, нужно будет креститься. Что будет хорошо, что могло подразумеваться под этим, она не знала; так в ней прозвучало, и ничего в том не было для нее странного.
Проехав минут десять, она решила сойти. Голову отпустило, сердце успокоилось, автобус как раз подъезжал к парку, в котором, было известно ей, есть крытый летний кинотеатр, – пойти в него, независимо от того, что там идет, и по окончании сеанса можно будет двинуть в сторону чердака.
Автобус ушел, пронеся мимо нее свое большое металлическое красное тело, дверцы остановившихся за ним синих «Жигулей» прохлопали одна за другой, закрываясь, Альбина непроизвольно глянула на звуки, и ноги у нее задрожали мелкой, отвратительной, неудержимой дрожью: это из «Жигулей» вышли они. Они поймали машину и ехали за автобусом, дожидаясь, когда она выйдет. Вот она вышла. Они преследовали ее, как гончие зайца, и не собирались от нее отвязываться. Они только ждали удобного момента, чтобы вонзиться в нее своими жаждущими крови клыками.
Между ними и ею было каких-нибудь десять-двенадцать шагов, не больше.
– Ну, иди-иди, чего ты! – ухмыльнувшись, бросил ей бывший ее любовник. – Давай иди, ну!
Она стояла, не двигаясь, смотрела на него, и, вместо произнесенного им сейчас, в ушах у нее звучало: давай, дай им всем!
– Что тебе нужно? Оставь меня! – выговорила она.
– Ха! – раскрыл он рот. – С какой стати?
Ей вдруг вспомнилось, что и его отец, и его старший брат – оба прошли через лагерь, а сам он говорил ей тогда с удовольствием: «Убивал!»
Усилие, которое она приложила, чтобы заставить себя пойти, показалось ей равным тому, как если б она стронула с места что-то вроде только что уехавшего автобуса. У нее было намерение пойти в парк, и она пошла в его сторону, дошла до входа, до выкрашенной в зеленый цвет, с белыми полосками решетчатой арки, и тут, около установленных в дверях турникетов, застыла в недвижности. Силы окончательно покинули ее, ноги не двигались. Не оглоядываясь, она знала, что они в двадцати метрах от нее, и знала, что никуда ей от них не деться. Мгновенною лентой перед ней прокрутились те полтора недолгих часа до темноты, что она проведет в блужданиях по городу, и ужасною, ослепительной вспышкой ударило по глазам видением того, что с неизбежностью последует затем. Она была обречена, спасение отсутствовало, она не могла даже позвать на помощь – ведь они ничего не делали ей дурного!
В ней не осталось энергии на сопротивление. Она ощущала себя бьющимся в конвульсиях, с перекушенным, разодранным горлом зайцем, настигнутым гончими.
Они стояли от нее много ближе, чем она думала, – метрах в пяти. И посмеивались, глядя на нее. Все с теми же своими хищными, молодыми улыбками. Теперь их, вместе с ее бывшим любовником, было четверо; видимо, один не влез в машину, когда они догоняли ее.
Подойди, молча позвала она пальцем бывшего своего любовника. И, когда он подошел, сказала севшим голосом:
– Ну? Где вы собирались со мной? Давай!
Он оглядел ее быстрым хищно-ликующим взглядом и, повернувшись к своей компании, бросил:
– Снимайте тачку! Поедем!
И, изогнувшись, взялся за ручки ее сумки:
– Чего самой мучиться? Отдохни!
Она молча разжала пальцы, сумка перешла к нему, он качнул ее вверх-вниз, как взвешивал, и вновь ухмыльнулся: – Пивка афганцы попить хотели. В бане там пиво отличное. Не вышло! Ну, им компенсацию надо? Надо! Таким-то ребятам!
Машина на этот раз подкатила – настоящее такси, «Волга». С водителем, видимо, был договор, и он взял всех пятерых. Бывший ее любовник сел на переднее сиденье, а ее посадили на заднее, жарко стиснув с обеих сторон мускулистыми молодыми телами.
– Из баньки! Мылом пахнет! – сказал один, поводя носом около ее лица. Он подсунул ей под ягодицу руку и шевелил ею, стискивая ягодицу пальцами.
– Из баньки – да в баньку! – хохотнул другой, сидевший от нее через одного.
Она молчала. Она была мертва. Кровь из перекушенной аорты вся вытекла, и жизнь оставила ее.
Дом, к которому ее привезли, был многоэтажный, и на нужный этаж поднимались лифтом. Открывал квартиру тот самый, что обещал ей баньку, – наверное, он являлся хозяином.
Дверь захлопнулась, замок звучно провернулся, закрываясь на щеколду, провернулся второй, звякнула цепочка. Из комнаты грохнула жестяная магнитофонная музыка.
– Ну вот, чего ты, надо дать, как же нет, – беря ее снизу за ягодицы и поигрывая ими, будто мячами, подтолкнул Альбину в глубь квартиры бывший ее любовник. – А то в тюрьму, на нары… За что? Не, мадам, стоп-сигнал!
– Пойдем, водочкой мадам угостим, пусть хлобыстнет, – сказал тот, что был, видимо, хозяином.
– Давай угостись, – толкнул ее, отпуская, в сторону кухни бывший ее любовник.
Тот, что нюхал Альбину в машине, достал из холодильника колбасу и стал на весу отхватывать от нее толстые кривые круги. Тарелки для колбасы он не взял, и отрезанные круги шлепались прямо на стол. Нож, которым он резал, был большим, длинным разделочным ножом того рода, какими любила дома готовить еду Альбина, и, судя по тому, как резал, очень острым.
Водку ей налили в захватанную, мутную стопку, с самым верхом. У них, впрочем, были такие же.
– Чего смотришь? Ну! – приказал ей взять стопку бывший ее любовник.
Она покорно потянулась к той, и вдруг ее быстрым мгновенным махом пронесло по некоему безмерному, безграничному пространству, и она ощутила себя на вершине холма, в ноги, сотрясая ее, с неимоверной, чудовищной мощью бил колокол, все кругом было застлано мглой – ничего не увидеть, неиствовала буря, выла десятками ужасных голосов, и в ней самой тоже все выло – визжало, рычало, хрипело одновременно.
Страшный, неподвластный ей рев вырвался из Альбины. Нож, брошенный на стол рядом с колбасой, оказался у нее в руках – будто ей кто подал его, и рука соседа, метнувшаяся перехватить нож, с непостижимой быстротой окрасилась перед глазами красным.
Беспощадная, звериная сила была в Альбине. Она знала, что она не сдастся, знала, что снесет любые преграды, ей все было нипочем, все было игрой и шуткой – все подвластно.
Рука с ножом металась перед нею, оставляя за собой сверкающую металлическую восьмерку, что-то на миг задержало движение руки, словно бы прилипло на миг, заскрипев, и отпустило, а она сама была уже в коридоре, двигалась вперед спиной к входной двери, и в сознании с графической ясностью стояла картина запоров: цепочка, один замок накладной, второй – внутренний, со всунутым в скважину ключом.
– Подколола! Сука, подколола! – пробился в ее сознание вопль, несшийся из кухни, когда, нашарив рукой, сбрасывала цепочку.
Летящий на нее стул – нацеленный верхним ребром спинки – оказался перед глазами. Она дернулась в сторону, и ребро со страшной силой ударило ее в левое предплечье, тотчас отняв у нее левую руку, но правая с ножом, словно по закону качелей, выбросилась вперед, и следом в барабанные перепонки ударил новый вопль, и снова перед глазами вспыхнуло красное.
От страшного удара спинкой она бы должна была чувствовать боль, но боли не было, только не действовала рука: тянулась ею к замку провернуть щеколду, и не могла поднять ее.
Она тянулась – и не могла, тянулась – и не могла, тот, кого она ранила, выпячивался из закутка коридора в комнату, и она решила использовать это мгновение – крутануть замок правой рукой, и провернуть на один оборот ей удалось.
Жаркое, обессиливающее пламя полыхнуло у нее в правом боку, когда она начала второй оборот. Не понимая случившегося, она отняла руку от замка, чтобы на всякий случай развернуться лицом к опасности, и попыталась взмахнуть ножом перед собой, но пламя прожигало ее насквозь, не двигалась теперь и эта рука, и она увидела лицо бывшего своего любовника прямо перед собой, когда он успел подскочить к ней так близко? и поняла, что произошло, и переполнилась такой ненавистью к нему, такой жаждой отплатить ему тем же, что рука с ножом двинулась, но новая вспышка огня в другом боку пресекла движение руки, и следом ее всю сотрясло в страшном ударе – качели, на которых она летела, врезались на полном ходу в некую вставшую на их пути преграду, и ее от удара выбросило из них, швырнуло в горящую, полыхающую жаром тьму, и она исчезла для самой себя в этом полыхающем мраке.
26
Сознание вернулось к ней страшной, свивающей жгутом тревогой, черным безмерным отчаянием, в которое она была погружена с мизинцами, с макушкой – как в воду, нечем дышать, захлебывалась в нем, словно и в самом деле в воде, не имея возможности вынырнуть к воздуху.
– Что…с Ним? – тяжело шевеля губами, спросила она – неизвестно кого, может быть пустоту, некое глухое пространство перед собой, еще даже не в состоянии открыть глаз.
– Что-что? Что вы хотите? – пришел к ней, однако, из этого некоего пространства женский голос.
– С Ним. Что с Ним? – повторила она.
Она знала, что с Ним произошло нечто ужасное. Возможно, Его уже не было даже в живых. Возможно.
– С кем с ним? Вы о ком? – снова пришел к ней голос.
Она сделала попытку открыть глаза. Слипшиеся ресницы не отпускали друг друга, белесая пелена дрожала между ними и не могла превратиться в картину окружающего пространства.
Чьи-то пальцы взяли ее веки и раздвинули их. Заморгав, она увидела перед собой белые рукава, и увидела линию схождения белого потолка с белой стеной, увидела белый ламповый плафон на белом металлическом штыре, а белые рукава оказались рукавами халата, в который была облачена женщина на стуле около нее.
– С Ним… ну… Ну, с Ним… – Она объяснила.
Женщина на стуле перед нею смотрела на Альбину с удивлением.
– По-моему, ничего, – сказала она потом. – Заявили, что болен, не может исполнять обязанности, а сегодня вот передали, все полетели к нему. В Крым туда, Форос место называется.
– Кто заявил? Кто поехал? – Альбина не поняла из слов женщины ничего, кроме того, что «болен».
– Ну, эти, что комитет по ЧП создали, – сказала женщина. И приблизилась к ней лицом – видимо, наклонилась: – Почему вас это волнует так? Вас это не должно сейчас волновать. О себе думайте. Трое суток вон без сознания были.
А ведь это больница, дошло, наконец, до Альбины. Значит, она все-таки оказалась в больнице, ей сделали операцию, и эта женщина около нее – медсестра.
– Жить буду? – спросила она.
– Будешь, милая, будешь, – тотчас перейдя на «ты», заприговаривала медсестра. – Раз три дня прожила, будешь и дальше.
– Правда? Не утешаете? – Голоса Альбине не хватало, и она не говорила, а хрипела.
– Вот ей-богу! – Сестра перекрестилась. – Доктор вас все время смотрит, про три дня – это его слова. Главное, сказал, чтобы в себя пришла.
Альбина обессиленно закрыла глаза. Отчаяние, удушавшее ее подобно воде, залившей дыхательные пути, отступало, уходило от нее – словно вода, вихрясь воронкой, сливалась в открывшееся отверстие, и уходила, оставляла ее корежившая все внутри тревога. Что бы с Ним ни было до того, раз она пришла в себя и будет жить, – будет все в порядке и с Ним. Несомненно. Она знала это так же наверняка, как то, что она – это она.
Через некоторое, самое недолгое время она почувствовала, что ее всю перекручивает болью. Боль была во всем теле, ломала ее, просверливала визжащими сверлами одновременно в тысячах мест, – невозможно терпеть. Как странно. Словно тревога за Него являлась наркотиком, заглушавшим эту физическую боль, и лишь отступила – прекратилось и ее наркотическое действие.
Она застонала и снова открыла глаза.
– Что, больно? – понятливо спросила медсестра.
Альбина молча сказала веками «да».
– Сейчас пойду доложу, – поднялась медсестра. – Еще б не больно, конечно. Три с половиной часа тебя зашивали. Такая была порезанная. Твое еще счастье – живучая. Где это тебя так?
Альбина не ответила ей, закрыв глаза.
Сколько прошло времени, прежде чем она заново пришла в себя после сделанной ей оглушающей наркотической инъекции, – это Альбине осталось неизвестно. Теперь была ночь, белый круглый плафон под потолком сиял желтым колючим шаром, а рядом с ней никого не было. Она заволновалась. Теперь ей – она ясно чувствовала в себе это желание – требовалось узнать все до конца: что с Ним такое было, что у Него за болезнь, какой такой комитет по ЧП и зачем этот комитет полетел к Нему.
– Э-эй! Кто там? Кто-нибудь! – позвала она, пробуя приподняться на локте, и тотчас тело ее отозвалось раздирающим огнем боли, и она упала обратно на подушку. Однако палата, в которой она лежала, являлась, по-видимому, реанимационной, и медсестра дежурила прямо здесь, – глаза успели ухватить другую кровать, и от нее, откликаясь на Альбинин голос, поднялась белая фигура.
Сейчас это была другая медсестра, не та, что днем.
– А, проснулись! – сказала она. – Все хорошо, завтра вас в общую переведут, я полагаю.
Альбина подумала с досадой: новой медсестре придется объяснять заново, что ее интересует.
Но медсестра поняла Альбину с полуслова.
– Да, конец делам, – сказала она. – Эти все, из комитета, все арестованы. А он никакой не больной, так это они объявили, снова в Москве, прилетел, жив и здоров, снова у власти.
Альбине не могла представить себе из ее слов всю картину.
– Подробней, пожалуйста, – попросила она. И добавила через паузу: – С вечера восемнадцатого.
– А, вы ж не знаете ничего! – дошло до медсестры.
Она начала рассказывать о событиях минувших трех дней – об Его аресте на его даче в Крыму во время отдыха, о танках на московских улицах, о пресс-конференции, которую устроили эти люди, создавшие комитет по ЧП, о ночном бдении народа на площади перед неизвестным до того зданием на берегу Москвы-реки, называемым теперь Белым домом, о баррикадах, которые там сооружались[77], – Альбина слушала с жадностью, вбирала в себя каждое слово и поражалась тому, как хрупко все было, на каком волоске висело, не волоске – паутинке, малое неверное движение – и все бы оборвалось, рухнуло, и то, что Он делал предыдущие годы с таким трудом, с таким напряжением всей своей воли, стало бы напрасным, бессмысленным. Впрочем, поражаясь, она не удивлялась. А как могло быть по-другому, если три этих дня она сама провисела на паутинке? И тому, что такую громадную, главную, собственно, роль сыграл в минувших событиях тот, властно-хитроглазый – Крутой, снова прозвучало в ней, – она тоже не удивлялась. Они были в связке, они были сиамскими близнецами – вот кем, осенило ее, и друг без друга они не могли, друг без друга им было нельзя, они взаимоукрепляли друг друга.
– Значит, уже в Москве, все? – не удержалась, уточнила Альбина у медсестры, когда та закончила свой рассказ.
– Да, да, уже даже по телевизору показывали, – подтвердила медсестра.
Теперь Альбина могла спросить и о себе.
– Я как… тут оказалась? – спотыкаясь, подыскивая для своего вопроса форму понейтральнее, выговорила она.
Лицо у медсестры напряглось в суровом отчуждении.
– Вы что, ничего не помните?
– Как здесь оказалась – нет.
Медсестра поиграла лицевыми мышцами. Лицо ее выразило поочередно неприязненное любопытство, и сочувствие, и негодующее возмущение, и еще массу всего.
– Вас нашли, – ответила она в конце концов.
– Где? – поняв, что из медсестры придется вытаскивать все по слову, спросила Альбина. – Когда?
– Ночью вас нашли. Милиция.
Ее совершенно случайно обнаружил милицейский патруль в кустах около дороги, когда милиционеры решили справить малую нужду и, остановив машину на самом темном участке улицы, вышли из нее. Один из них, забираясь в кусты, споткнулся обо что-то и упал. Она лежала совершенно бесчувственная, милиционеры не смогли прощупать у нее даже пульса и вызвали реанимационную машину по рации только для того, чтобы зафиксировать смерть. Время было около полуночи, и ей повезло, как редко кому везет: наверное, пролежи она там еще час-другой, теперь бы она лежала не здесь.
– Что с вами такое случилось? – не удержала себя от соблазна спросить медсестра.
– Не помню, – сказала Альбина.
Медсестра, осознала она сейчас, совсем молоденькая, и лицо ее выражало твердую, непререкаемую убежденность, что дурное происходит только с людьми, которые сами того заслужили.
Она, однако, действительно не помнила. Не в том смысле, что все происшедшее с нею три дня назад вымылось из памяти и на месте того вечера зиял провал. Она не помнила тот вечер как событие, которое бы требовало от нее воздаяния. В ней не было чувства мести, желания расправиться с бывшим своим любовником. В ней было только одно чувство, одно желание: поскорее задвинуть случившееся в далекое прошлое, избавиться от него, поставить на нем крест – как ничего и не произошло. В известной степени, это ее чувство было родственно счастью. Не это бы, так что-то другое случилось бы с нею, – абсолютно неизбежно. Так какая разница, что случилось.
И это же – не помню – сказала она следователю, когда он на следующий день, только ее перевели в общую палату, пришел к ней в накинутом на плечи белом халате.
– Ну-ну, не может быть, – увещевающе сказал следователь. Теперь это был настоящий следователь, и был он не женщиной, – мужчиной. – Вы не волнуйтесь, мы вас защитим, вы под нашим крылом, гарантируем вам самую полную безопасность.
Альбине невольно стало смешно: она вспомнила тех постовых милиционеров, что молча ходили мимо нее, когда она сидела с грязной тряпицей перед собой на асфальте, и только многозначительно похлопывали себя дубинками по ноге.
– Что вы улыбаетесь? – спросил следователь, почему-то оглядываясь.
– У вас вся спина белая, – сказала Альбина.
– Что? – не понял следователь. И до него дошло. – Ну что вы дурите! Не нужно этого. Совершенно. Не бойтесь ничего, я же вам говорю. Вы в безопасности, можете обо всем рассказать. А если вы боитесь каким-либо образом повредить вашему мужу, можете тоже не волноваться. К мужу вашему никаких претензий нет. Наоборот. Он очень даже достойно проявил себя в дни путча.
Она поняла, что ее идентифицировали. Но это ее нисколько не взволновало. Она была готова к тому. Ее разоблачение являлось платой за то, что осталась жива.
– Как это – достойно? – усмехнулась она. – Спрятался, наверно, и сидел как мышь. Ни «да», ни «нет», а?
– Нет, я вам просто сообщил, чтобы вы приняли во внимание, – поторопился ответить следователь. – Вы ведь хотите, чтобы мы нашли этих сволочей?!
Альбина отрицательно покатала по подушке головой.
– Нет?! – неверяще воскликнул следователь.
– Отстаньте вы от меня, – сказала Альбина.
Она закрыла глаза и больше не открывала их, сколько следователь ни задавал ей вопросов, пока он не был вынужден подняться и уйти от нее.
Она услышала, как дверь палаты за ним захлопнулась, и немного погодя открыла глаза. И только открыла, дверь вновь растворилась, и вошел муж. Показалось ей или нет, она не была уверена в своем впечатлении, потому что необычайно устала от разговора со следователем, голову ей кружило и все видела сквозь стеклянный ток воздуха перед глазами, но, похоже, у него был насмерть перепуганный вид – вид голодной собаки, которую поманили костью, однако вместо того, чтобы дать ее, безжалостно, жестоко избили.
– Ты! – сказал он, косясь на капельницу, из прозрачной колбы которой, по прозрачному катетеру, сочилось к ней в вену ее питание. – Жива, слава богу!
«А ты бы хотела, чтоб сдохла?» – просилось с языка, но она удержалась и просто ничего не ответила.
Колыхнув животом, он опустился на стул, с которого только что поднялся следователь, помолчал растерянно, не найдя у нее поддержки в разговоре, и повторил:
– Ну вот… слава богу! – И заторопился: – Ты не волнуйся, я тебе обещаю: ни в какую психушку, дома будешь, только дома, непременно… я тебе обещаю!
– С каких это щей такой добрый? – сорвалось на этот раз у нее с языка язвительно.
Но он как бы только обрадовался ее словам.
– Немного полежишь здесь, поправишься… потом выпишешься… и домой, будешь дома, все будет хорошо!
Он говорил – и у него был вид, будто подхалимски виляет хвостом перед своим обидчиком, в надежде получить кость хотя бы теперь, избитая нещадно собака. О том, где она обреталась этих целых четыре месмяца, чем занималась, он, судя по всему, даже не смел заикнуться.
– Какие новости? Что у тебя происходит? – спросила она равнодушно – совершенно ничего не желая знать о нем, – лишь для того, чтобы подать голос.
Он дернулся. Будто в самом деле был избитой собакой, и она вновь ударила его.
– Партия запрещена, – сглотнув воздушный ком, сказал он с перехваченным горлом. – Сегодня. Я безработный.
Она внутренне присвистнула: тю-ю! Вот это да!
Ни жалости к нему, ни сочувствия – ничего в ней не было, только расслабленное, благостное удовлетворение, – как после хорошо выполненной тяжелой работы.
– Это как это? Кем? – спросила она вслух.
– Этим, кем. – Он назвал имя Крутого. – Ренегат[78].
– Да? – Ей, непонятно почему, стало обидно, что прозвучало не Его имя. И она спросила о Нем. Что Он?
– Хрен его знает, что он! – не сумел на этот раз сдеражть своих чувств муж. – Продал всех этому, – снова назвал он имя Крутого, – вот и все!
– Ничего не продал. Они в связке, – резко, насколько то могло у нее получиться, отозвалась она.
– Вот-вот, наверное. Похоже на то: в связке! – подхватил муж. Помолчал и добавил: – Дзержинского, памятник этот, в Москве на площади там, знаешь, свалили вчера. Целая толпа собралась. Распоясались – донельзя, и полная безнаказанность!
Ага, вот вам! – неизвестно к кому обращенное, с тем же усталым благостным удовлетворением проговорилось в ней.
Но вслух теперь она ничего не сказала. И он, выплеснув клокотавшее в нем, тоже смолк, явно не зная, о чем говорить еще, пауза длилась, длилась, воздух перед глазами тек волокнистыми стеклянными струями, и она прошевелила губами:
– Ладно, иди. Повидал – и хорош. Не убегу никуда.
– Да, да, – покорно покивал муж и встал. – Там только это… пришли… – назвал он имена сыновей. – Ждут стоят…
Она отрицательно повела головой:
– Пусть идут. Потом.
Она не хотела видеть никого. Не нужен ей был никто. Надо же, запрещена! – звучало в ней, этого знания было так много для нее, что в ней уже не оставалось сил на что-то еще. Первое счастье, что осталась жива и, значит, Он теперь в безопасности, схлынуло, и она, вслушиваясь в себя, видела, что качели стоят, механизм, который они приводили в движение, разбит вдребезги, груда обломков вместо него, – нечего запускать заново. Новая тревога поднималась в ней вслед счастью. Ей теперь следовало быть в десятки раз бдительнее, чем была до того, Он теперь нуждался в ее опеке намного больше, чем прежде, сломанный механизм являлся его опорой, был твердью, упираясь в которую, Он мог осуществить все, назначенное Ему – как штангист, упираясь в крепкий настил, вскидывает над собой на вытянутых руках неимоверный груз, – теперь Он висел в воздухе, голая пустота под его ногами, и ей самой должно было стать отныне той твердью, которая дала бы Ему опору, позволила продолжить начатое. Ей следовало собрать все свои силы, весь их запас, – а она находилась здесь, с этой капельницей, с этими дренажными трубками, торчащими из ее тела… какая польза Ему от нее такой?
Лечащий врач появлялся около нее несколько раз в день. На ее неизменный вопрос, когда она окрепнет настолько, что сможет выписаться, он так же неизменно буркал:
– Рано еще краковяк танцевать…
Но однажды, должно быть, устав от ее назойливости, взорвался:
– Да вы хоть понимаете, из чего вы выкарабкались? Вы понимаете, по какому краешку прошли?
Она передернула плечами, – она уже могла это делать:
– Ну и что? Мне сейчас важнее мое будущее. Меня мое будущее интересует!
Глаза у него странно изменились. Словно бы она сказала не про свое будущее, а про его прошлое, и там, в этом прошлом, у него было неблагополучно, было такое, что ему приходилось скрывать, прятать в себе, не выпуская наружу, и извлеченное для обозрения, оно бы ужаснуло своей чудовищностью.
Он ничего не ответил ей. Молча посмотрел швы, помял тело около них, заставляя ее вскрикивать от пронзающей боли, и вернул откинутое одеяло на грудь.
– Перевязку сегодня делать не будем, – сказал он уже на пути из палаты, огибая ее кровать. – Завтра посмотрим.
Кроме врача, постоянно приходил к ней еще следователь. Только с другой частотой: не в день несколько раз, а раз в несколько дней, иногда, впрочем, даже и через день. Ему Альбина, как неизменно задавала врачу все один и тот же вопрос, неизменно говорила:
– Не помню я ничего. Не помню! Отстаньте!
У следователя, бледнолицего тридцатилетнего человека с удивительно толстыми, но редкими волосами, гневно раздувались ноздри, он молчал, пересиливая себя, ему это не удавалось, и он наклонялся к ней, произносил жаркой скороговоркой, обдавая ее своим дыханием:
– А может быть, вас это в связи с вашим мужем! А?! Может быть, это шантаж! Вы понимаете? Кому-то нужно было нанести удар по нему! В преддверии тех событий! Чтобы вывести его из игры!
– Не помню я ничего, отстаньте! – отвечала Альбина ему и на это.
Она поднялась спустя ровно две недели после операции, второго сентября, в понедельник. Поднимать ее пришел сам врач, и они с медсестрой крепко взяли ее под обе руки, чтобы она сделала несколько шагов по палате, но она оттолкнула их и, перехватываясь за спинки кроватей, пошла сама.
– Однако! – изумился врач. – Да вы… Ну, и организм у вас!
И потом, на консилиуме около Альбины, осматривая ее, обсуждая на своем непонятном латинском жаргоне записи из ее карты, все время то один из собравшихся врачей, то другой повторял это же самое – «Ну и организм! Потрясающе жизнеспособный!» – но ради чего собрался консилиум, если все у нее шло так замечательно, если она побивала все мыслимые рекорды выздоровления, что за озабоченность сквозила в их удивлении и профессиональном восторге и что они все выспрашивали и выспрашивали ее о самочувствии – заходя и с того боку, и с этого: а вот тошнота, а вот темнота в глазах, и еще до несчастного случая?..
– А по какому поводу консилиум? – спросила она лечащего врача, когда он пришел в ней один.
– По вашему поводу, – коротко, не собираясь с ней объясняться, ответил он.
Но она заставила его говорить.
– Если по моему, я имею право кое-что знать. Что у меня не в порядке?
– Такую встряску организм пережил, как вы можете быть в порядке?
– Но вы же не в связи с этим их приглашали!
– Как к феномену!
– Какому феномену?
– Такому. Вам с вашими поражениями месяц на капельнице лежать следовало! Я, слава богу, навидался, знаю. А вы за неделю, прямо свечой! И анализы у вас… вам сколько лет? – заглянул он в карту. – Сорок пять. А у вас за неделю – как у двадцатипятилетней!
Все он врал, она это слышала по его голосу. Он не восхищался ее анализами, а был словно бы недоволен ими, удивлялся – но странным образом: как бы негодуя. Так, если б ее организм обманывал его, водил за нос и он хотел уличить тот в этом обмане.
Ее продержали в больнице после консилиума еще неделю с небольшим, и врач объявил, что готов ее выписать. Странная была формулировка: «готов». Не «выписываю завтра», не «готовьте к выписке», как обычно, – а «готов». Словно бы он в большей степени даже готов был ее оставить, – только скажи она ему об этом.
Впрочем, она не собиралась просить его ни о чем подобном. Нельзя сказать, что она рвалась домой. Домой ей нисколько не хотелось. Она рвалась из больницы. Ей так не терпелось скорее оказаться вне ее стен, – все в ней дрожало и вибрировало от этого нетерпения. Она снова помогала Ему. Качели стояли, механизм, приводимый раньше ими в движение, лежал в руинах, но в одну из ночей, как раз накануне консилиума, она проснулась от восторга, настолько переполнявшего ее, что, не вмещаясь в ней, он даже разрушил сон. Это был восторг действия, которое она совершала. Которое творилось в ней параллельно ее обычной жизни и открылось ей вновь во сне. Она находилась все в том же неведомом неизмеримом пространстве, по которому прежде носило ее на качелях, в руках она держала словно бы некое гигантское древко, и шла по этому пространству, замедленным мощным движением взмахивая древком из стороны в сторону, слева-направо, справа-налево – словно б косила, но на самом деле, знала она, то была метла, не коса, она шла с нею подобно дворнику, метущему улицу, покрывая ее движением фантастически громадную площадь – неохватную, неподвластную глазу, – это походило на те же качели, и лишь бы хватило, лишь бы достало ее слабых сил!
Она снова помогала Ему – и хотела вырваться из больницы как можно скорее. Она была уверена по предыдущему опыту, что вне больницы, уйдя от назойливой врачебной опеки, сумеет сконцентрировать на своей помощи все внимание, сосредоточиться на ней всецело, без остатка, не отдавая вовне ни грана энергии, – сумеет сделать для Него действительно все, что может.
Дома была атмосфера, словно бы в нем незримо лежал покойник. Словно бы присутствовал каждоминутно в каждом месте его, обдавая тяжелым запахом тления. Впрочем, муж и вправду был покойником. Он умер, оставшись жить какою-то совершенно иной своей, нечеловеческой сутью – чисто физической оболочкой, из которой ледяным холодом смерти выдуло все, прежде его одушевлявшее. Лицо его стало застывшей глиняной маской, двигался он с механической, заведенной сосредоточенностью, как бы постоянно боясь упасть. А когда раскрывал рот, звуки, исходящие из него, напоминали каменный скрежет. «Мляди! – неожиданно, ни с того ни с сего, не обращая внимания, что рядом с ним кто-то находится, вдруг извергал он из себя своим каменным голосом. – Мляди подлые!..»
Он по-прежнему оставался безработным, здание, в которое он много лет ездил на службу, было уже расхватано всякими другими, вмиг окрепшими учреждениями, старший сын пытался пристроить его куда-то в свое банковское дело, и вроде бы помех не должно было быть – люди, как один, везде сидели свои, – но пока ничего не получалось: все боялись. Делать по саду и огороду он ничего не умел – и не мог найти там себе занятия, дома он тоже никогда ничего не делал, нужно было – звонил в соответствующую службу, и приезжали, и потому не мог найти себе занятия и дома, ходил днями с этажа на этаж, на улицу и обратно, матерился и рычал, созванивался с кем-то и уходил, чтобы вернуться к ночи огрузшим от принятого спиртного до того состояния, когда уже и физическая оболочка отказывалась существовать, и его хватало только дойти до дивана в столовой и рухнуть на него, не раздеваясь.
Альбина, однако, видя все это и въявь обоняя исходивший от мужа трупный запах, в то же время ничего не замечала – как этого и не было. Ее не интересовала судьба мужа. Абсолютно. Нисколько. Он мог умереть и своей физической оболочкой, – ее бы нисколько это не тронуло. Она работала своей гигантской метлой, шаг вперед – и взмах, шаг вперед – и новый взмах, и на эту работу уходили все ее силы, без остатка, нет, больше, чем их имелось у нее. Каждый взмах давался громадным, неимоверным напряжением, в ней все дрожало внутри от титаничности этого напряжения, тряслось, вибрировало, в голове жарко гудело, вопль о передыхе рвался через стиснутую гортань, – и не могла себе позволить того.
К внучке ее не подпускали. Она, собственно, не рвалась и сама, но не подпускали напрочь, вообще, без исключения. Казалось бы, именно Альбине следовало поднять ее, раз она, неуверенно топая своими маленькими ножками, упала около нее, – нет, бросались и выхватывали буквально у нее из рук. И не давали ни погладить по головке, ни потискать в объятиях чудное, отзывчивое на ласку тельце. А на ночь, ложась спать, невестка с сыном запирали дверь своей комнаты на задвижку, которой прежде не имелось, и смутное чувство подсказывало Альбине, что это каким-то образом опять связано с внучкой. Почему ее не подпускают к внучке и откуда в ней это чувство, что они закрываются от нее, ни от кого другого, она не понимала. Где-то в глубине сознания брезжила память о некоей вине перед внучкой, но каких усилий над собой ни делала, как ни старалась, – не могла вспомнить, что за вина, с чего вдруг возникла в ней и с чем могла быть связана.
Впрочем, все это тоже ее не трогало. Не подпускали – и не подпускали, ладно, и, задумываясь о причинах того, она из-за того ничуть не переживала. Не думала она по-настоящему ни о чем, кроме Него. Натянутая тетива звенела в ней, как в прежние времена. И забытые было, вновь вернулись, звучали в ней заклинанием, помимо ее воли, слова: «Нет. Никогда. Ни в коем случае!»
27
Она провела дома после больницы чуть более трех недель. С первыми числами октября что-то в ее организме стало происходить неладное: слабость какая-то появилась и все нарастала, стремительнее день ото дня, подташнивало, кружило голову и, как если б там тлела угольями жаровня, пекло внутри, требуя постоянно пить, пить и пить, – она словно бы вернулась в то состояние, в котором находилась первые дни после операции. Хотя, впрочем, это ее состояние больше напоминало иное, полуторагодовой давности, когда в конце концов поехали к знахарке – тогда еще невестка как раз оказалась беременной. Тоже, как тогда, хотелось выть, царапать себя, утоляя внутреннюю боль, – разодрать себя до крови. Только тогда не было такой слабости, такой немочи, и еще появилась вдруг непонятная одышка – не могла, не задохшись, подняться по лестнице на второй этаж.
Врач, вызванный к ней, приказал ей тотчас ложиться в больницу. Это была та же самая женщина, что являлась их семейным врачом в той специальной, прекрасно оснащенной поликлинике, которая полагалась мужу по его рангу; теперь муж ни на что не имел права, поликлиника обслуживала других людей, но старший сын входил именно в их число, а вместе с ним вошли в число этих людей и они с мужем.
– Не хочу в больницу, зачем мне в больницу? – Альбина столько набылась в больницах за последний год, что все в ней возопило против. – Ставьте диагноз, лечите, любые процедуры, но дома!
– Да, вот как раз в процедурах дело, – уклоняясь от встречи с ее взглядом, сказала врач. – Дома это будет невозможно, и медицинское наблюдение необходимо…
– Мама, тут выбора нет. Это неизбежно. – Голос у старшего сына был металлически непреклонен, как металлически непреклонен, сама ледяная невозмутимость и отстраненность от всей и всяческой человеческой суеты, сделался теперь весь его облик. Главным в доме был отныне он, не отец. – Никто в больнице, если не нужно, держать тебя не станет.
– Мамочка! Не спорьте! Пожалуйста! – умоляюще сложила руки перед собой невестка. Она, как женщина, все это время, что врач осматривала Альбину, находилась рядом. – Это для вашего же блага! Я вас провожу, я с вами поеду!
Больница, в которую ее привезли, была не той, где ей делали операцию. Это была онкологическая больница. Альбина не сразу осознала, что онкологическая, потому что никто ей, нигде об этом не сообщил, и в палате, куда положили, тоже никто не говорил о том, и она поняла, где находится, только несколько дней спустя – из тех общих разговоров, что велись вокруг.
Она поняла – и не поверила себе, спросила соседок по палате – и не поверила им, спросила медсестру, пришедшую к ней снимать капельницу, – и после ответа той не верить дальше стало уже невозможно.
Они подозревали у нее рак!
Она почувствовала, как от страха у нее схватывает судорогой икры. Она хотела жить, она должна была жить! Она не могла оставить Его без своей защиты, без своего попечения, заслона! Она не имела права болеть смертельно: что будет с Ним, когда Он останется без нее?
Врач на обходе на ее вопрос о диагнозе ответил уклончиво. Из его ответа выходило, что лежать в онкологической больнице – это то же, что в любой другой, и находиться в ней – вовсе не означает никакого онкологического заболевания.
Его ответ был рассчитан на слабоумного. Мозг Альбины с горячечной ясностью перебирал все обстоятельства ее помещения сюда, и выходило, что эта врачиха из поликлитники, раз прямиком направила сюда, не просто подозревала у нее рак, а была уверена в нем! И здесь ее бы тоже не приняли, не предоставили дефицитного места, если б не были столь же уверены в этом диагнозе! Но чтобы поставить подобный диагноз, нужны исследования, пробы, гистологический анализ… Альбина задохнулась от своего открытия. Кровь горячо ударила в голову, глаза покрыло мраком, и все тело в одно мгновение набухло мерзкой, отвратительной пленкой холодного пота. Ей поставили диагноз в той больнице, где делали операцию! Ее выписали оттуда с этим диагнозом, но ничего не сказали ей и не назначили никакого лечения, а такое свидетельствовало… Она снова задохнулась. И снова в глазах стало совсем темно, а тело как окунулось в ванну с холодным липким клеем. Они считали ее безнадежной, вот что! Они не просто были уверены в ее болезни, а полагали даже бессмысленным как-либо лечить ее! И то, что они сейчас делали с ней, заставляя ее по несколько часов лежать с воткнутой в вену иглой, – это лишь для того, чтобы облегчить ее угасание, получалось так!..
И все же слабенькая, хиленькая надежда сохранялась в ней. Мало ли где и как могла подвести ее логика. Может быть, она исходила из какой-нибудь неверной посылки, может быть, она ошиблась и выстроила совершенно неправильную цепочку. Необходимо было проверить себя. И она знала, как это осуществить. Через младшего сына. Нужно только не спрашивать, не выпытывать у него, а сделать вид, что все ей известно, и, если логика ее не обманула, он ей раскроет такое, чего бы ей лучше и не знать.
Она почти не вставала с кровати эти несколько дней, что провела в больнице, справляя малую нужду в судно и лишь по большой выбираясь в туалет; но тут, когда ее осенило с сыном, поднялась, дотащила себя до медицинского поста в конце коридора и упросила сестру разрешить позвонить. Пусть приедет, хочу видеть, сказала она. До того два раза к Альбине приходила только невестка. Перестилала постель, прочищала тумбочку, помогла протереться лосьоном, выносила судна у всей палаты. Хорошая была у нее невестка. Почему она думала о ней прежде: девка? Золотая жена досталась старшему, во всех смыслах.
Младший раскололся, как она и надеялась, мгновенно. Был дуболомом, дуболомом и остался. Все оказалось так, как она вычислила. Нового она узнала – что рак ее обнаружился во время операции, хирурги опознали его прямо по цвету, и гистология потом подтвердила. И сидело в ней этих опухолей – несчетно, они даже не стали к ним прикасаться.
– Пошел вон! – сказала Альбина, когда сын сообщил ей все, что она хотела. Господи, почему он уродился таким дуболомом! Зачем он сказал ей?! – Пошел вон, пошел! – закричала она на сына во весь голос – сколько того имелось в ней. Слезы стояли в горле и душили ее. Она и не думала, что ей станет так плохо от его подтверждения. Вроде бы надежда была совсем слабенькой, совсем хиленькой, – но была. А теперь не оставалось никакой.
Когда он ушел, слезы вырвались из нее наружу хриплым, срывающим связки клёкотом, из глаз ударило ключом, двумя настоящими ручьями, и текло и текло, – она понятия не имела, что слез может быть столько. Она плакала в своей жизни, достаточно плакала, но так – это было впервые.
Соседки вызвали с поста медсестру, ей вкатили в ягодицу крепкое успокаивающее, и она провалилась в забытье, в котором провела неизвестное ей время, а вышла из него с ясной, отчетливой мыслью о знахарке. Знахарка вылечила Татьяну-птичницу и почему не могла ее?
Наведаться к Альбине в больницу знахарка отказалась, – хоть за какие деньги. К знахарке с Альбининой просьбой, переданной через невестку, ездил старший сын, и сомнений в том, что он сделал все, чтобы уговорить ту, не могло быть. Старший был не младший. Пусть сама приезжает, передала знахарка. И оказывается, она помнила Альбину, вспомнила ее точас! А, это горемычная-то, сказала она.
Врач отпустить Альбину съездить к знахарке отказался. У него, когда она попросила об этом, подобрались губы, подбородок поднялся, – он весь стал надменная и оскорбленная добродетель. Знахарка или мы, выбирайте, ответил он.
Альбина выбрала знахарку. С больницей ей все было ясно, а знахарка вылечила Татьяну-птичницу, и почему не могла ее?
Машину поехать за город давал теперь не муж, – старший сын. Но снова это была «Волга», снова черная, а шофер оказался тот же самый, что много лет прежде возил мужа. Она бы не заметила этого, но он обернулся со своего шоферского места и поздоровался, осклабясь: «Альбина Евгеньевна! Что, не ожидали? А кто такого вообще ожидал?!»
Сопровождать Альбину к знахарке все так же поехала невестка. Первые заморозки уже начали по ночам схватывать землю звенящим панцирем, выезжали рано утром, и водитель по просьбе Альбины поехал ближней дорогой, через лес. Что-то ей тяжело стало выносить машину. Проселок, на счастье, оказался каменно тверд, и водитель по пути все восклицал довольно: «Ну, прямо Америка, не дорога. – И оборачивался к ней: – А помните, как мы тогда-то? Черт-те что тогда, как намучились!» Альбина не отзывалась. У нее не хватало сил. За эти дни в больнице она еще больше ослабла и заметила, что начала худеть, и не так, как прежде – просто теряя вес, а как бы истощаться: грудь обвисла двумя еле наполненными у самого дна торбочками, ясно обозначились ребра, вылезли кости на предплечьях, на голенях… На этот раз от знахарки ее не вызывали, и ждать пришлось долго. Она сидела, лежала в машине с открытой дверцей, чтобы дышать свежим воздухом, вставала, делала с невесткой несколько шагов и снова возвращалась в машину. Невестка вся испереживалась, ходила и раз, и другой в начало очереди, просила пропустить вперед, – но очередь не согласилась. Альбина слышала, как на крыльце кричали: «А мы здесь герои здоровья – мы здесь стоим?!» Ее, помимо желания, ужасно вдруг рассмешила эта фраза: «Герои здоровья». Никогда не доводилось слышать, Она смеялась так, что стало больно грудь.
Когда приехали к дому знахарки – только-только разошлись утренние сумерки, а попали в дом – была уже послеполуденная пора.
Знахарка, так же, как и в прошлый раз, сидела, сложив свои большие крупные руки на животе, в кресле около окна, а напротив нее стояло другое кресло, свободное. Невестка подвела Альбину к нему, Альбина села, невестка встала у нее за спиной, но знахарка расцепила пальцы сложенных на животе рук и указала на дверь:
– Выйди!
Так указала – как не попросила, а прогнала, И Альбина невольно, в ожидании, когда этот голос обратиться к ней, вся сжалась в своем кресле.
Но голос знахарки, когда дверь за невесткой закрылась и они остались вдвоем, оказался по-восковому мягок.
– Ай, сердечная! – покачала знахарка головой. – Не убереглась, что ли, так?
– Рак у меня, – выговорила Альбина. – Метастазы уже. Можешь какой отвар дать?
Голос знахарки, каким та обратилась к ней, мгновенно заставил ее ощутить себя маленькой, беспомощной девочкой, едва начавшей говорить, она искала у знахарки не помощи, а защиты, словно у матери, и обращение на «ты» вырвалось из нее – не заметила как.
Знахарка пристально смотрела на нее, будто ощупывала глазами, мяла ими, как пальцами, и ничего не ответила на Альбинину просьбу.
– А-ай ты! – протянула она, спустя, должно быть, минуту. Откачнулась назад, на спинку, перехватила руки на животе по-другому и спросила: – Крестилась, нет?
Альбина вздрогнула – так неожидан был подобный вопрос.
– Нет, – сказала она. – Как-то вот…
– Крестись, – сказала знахарка.
Альбина посилилась понять знахарку, но ход ее мысли остался недоступен ей.
– Рак у меня – снова выговорила она. – Рак. Отвар мне бы какой…
Большое, бородавчатое, иссеченное паутиной морщин лицо знахарки в полутора метрах от нее имело лик самой судьбы.
– Сгорела ты, – сказала знахарка. – Одна головня, какой отвар тебе. Приготовиться нужно.
– К чему приготовиться? – прошевелила онемевшими губами Альбина, понимая ее на этот раз совершенно отчетливо, – и понимать не желая.
– Ну так к чему-чему… что прикидываться-то! – не дала ей поблажки знахарка. – Нет у меня для тебя отвара.
Альбина сидела напротив нее, не смея поверить. – А вот Татьяна… птичницей зовут… у нас живет… – залепетала она. – Ей ты… и уже три года…
Знахарка перебила Альбину:
– Для кого есть, для кого нет, что ж ты мне не веришь, сердечная, если пришла!
Поднять Альбину, чтобы уходить, потребовалась невестка. Знахарка, темно громоздясь в своем кресле, молча наблюдала за их движениями, молча проводила взглядом до самой двери, но, когда уже начали открывать ее, окликнула Альбину:
– А больше-то с тобой некому, что ли, возжаться?
Смысл ее вопроса не дошел до Альбины.
– То есть? Вы о ком? – спросила она.
– О товарке твоей.
– А собственно… – до Альбины так и не доходило, что имеет в виду знахарка.
– То «собственно». Она вот тебя и выпила, – сказала знахарка.
Альбину ударило молнией, Она вспомнила. Как она могла забыть! Ведь это из-за невестки ушла она тогда из дома и жила в том продувном садовом строении. И получается, если бы не вернулась домой, все могло бы быть по-другому!
– Что вы такое несете?! – с еле сдерживаемой яростью в голосе произнесла невестка. – В вас ответственность за свои слова какая-то есть? Это вы с больным человеком!
– Да ты виновата разве, – сказала невестке знахарка.
Альбина смотрела на знахарку, и ей чудилось, что та дает ей сейчас именно тот, необходимый совет.
– А если… если я сейчас, – спотыкаясь, проговорила она, – сейчас если… без нее?
– Не можешь, поди, без нее? Без нее, поди, как без рук, без ног?
Альбина выдавила из себя что-то нечленораздельное. Знахарка видела ее глубже, чем видела себя она сама.
– Ладно, забудь, – махнула рукой знахарка. – Теперь уж без разницы.
Сухонькая, легкая, как перо, ее помощница, подождав-подождав в полуоткрытых дверях с новым пациентом, толкнула дверь, растворяя во всю ширь, и принялась вытеснять Альбину с невесткой из комнаты:
– Идите, идите, давайте, вот встали! Закончен прием, идите!
Дома Альбина сразу легла в постель и не вставала с нее, даже чтобы сходить в туалет, целые сутки.
Через сутки, поднявшись, она позвала к себе старшего сына и попросила отправить ее в психушку. Вернуться в онкологическую больницу после самовольного ухода нечего было и думать, врачи бы теперь вволю накочевряжились, прежде чем вновь взяли ее, а ей требовалось покинуть дом как можно скорее. Она решила для себя за эти сутки, что должна протянуть сколь возможно долго. Какие бы страдания ни пришлось перенести для того. Она обязана была прожить высшую меру времени, какую только могла отпустить ей ее болезнь, а для того ей следовало оказаться вне доступности для невестки. Может быть, Ему не хватит именно одного дня ее жизни, чтобы довести назначенное до конца.
– Как я тебя отправлю туда, что тебе там делать сейчас, – отказался сын. – Лежи уж дома. Все лекарства, какие надо, все достану, не беспокойся.
В Альбине поднялась, полыхнула обжигающим пламенем такая злость, – она и не думала, что еще способна на чувства подобной силы.
– Не знаешь, как отправить мать в психушку?! – Голоса ей на настоящий крик уже не хватало, и нечто похожее на змеиный шип вырывалось из нее. – Вспомни! Придумай что-нибудь! Сочини! У меня диагноз, возьмут как миленькую!
– Мама! Мамочка! – стояла над ней, сменив сына, взяв ее руку в свои ладони и будто грея в них, невестка. – Мамочка, зачем вам туда? У нас такой камень будет на совести! Оставайтесь дома, я вам обещаю: я все для вас!
Альбина не отнимала у невестки свою руку, И не было на это энергии, и ничего она, кроме того, против самой невестки не имела.
– Хочу так, – сказала она невестке. – Сделайте, как я хочу.
28
Из психиатрической больницы Альбина уже не вышла. Онкологический ее диагноз раскрылся в первый же день, но ей требовалось уже не лечение, а лишь облегчение тех мук, через которые ей должно было пройти, и ее просто перевели в крохотную отдельную палату, длинную, как пенал, и разрешили приходить к ней на свидания прямо сюда и в любое время. Но невестку к себе она не пускала, а муж с сыновьями навещали ее по очереди, только чтобы забросить какое-нибудь питье вроде клюквенного морса, которого она выпивала за сутки литров пять, и она проводила дни в одиночестве, лежа с закрытыми глазами, и, стискивая от чудовищного напряжения скрежещущие зубы, вела черенок метлы, теряющейся в неведомой дали, в одну сторону, взмах заканчивался, движение иссякало, – и делала шаг вперед, налегала на черенок, чтобы повести в другую сторону…
Впрочем, раз в день и редко какой пропуская, к ней приходила и проводила около нее по полтора-два часа гренадерша-следователь. Альбине нужно было от кого-то узнавать новости о Нем, и в ответ на информацию врачихи она рассказывала ей о том, о чем та пытала Альбину в прежнее ее пребывание здесь, но в чем Альбина раньше не признавалась. Теперь, считала Альбина, уже все равно. Теперь, полагала она, можно. Гренадерша сидела около нее, записывала ее медленную тягучую речь в толстую тетрадь на коленях и время от времени упрекала Альбину: «Ну, почему вы ничего не рассказывали! Мы бы вам помогли, непременно помогли! От всех бы ваших навязчивых состояний избавили, ручаюсь. Жили бы себе, не знали этих ужасов!» Ну да, спасибо, избавили бы, отзывалось в Альбине. Этого только ей не хватало. Но вслух ничего подобного она не произносила. Как не произнесла ни разу, тщательно следила за собой – и не произнесла, Его имя. Ради чего она толкала качели, ради Кого – о том она гренадерше не рассказывала. Ей еще доставало сил и дурить ее. «А вот что, какое у вас ощущение, как вы эту галлюцинацию ощущаете: она у вас перед глазами? Или внутри вас, в мозгу?» – спрашивала врачиха. «В пупке», – отвечала Альбина. «Что в пупке?» – не понимала та. «А через п. упок все проходит, – мысленно ухмыляясь, говорила Альбина. – Так чувствую». «Как удивительно», – бормотала врачиха, работая ручкой в тетради. Альбина видела в ее глазах охотничий азарт и не могла удержаться, чтоб не подбросить врачихе дополнительную добычу. «Но два раза, – говорила она особенно тихо, заставляя гренадершу склоняться к своим губам, – проходило через влагалище. Так прямо и чувствовала». Гренадерша записывала, стремительно летая ручкой по тетради, и Альбина думала, что она собирает материал для какой-нибудь статьи в научный журнал, а может, для диссертации, и мысль о том, сколько в той статье или диссертации будет ахинеи, веселила ее, и веселье рождало в ней даже что-то похожее на бодрость.
А в один из дней ее посетил совсем уж нежданный гость: Семен-молочник.
Это было отвратительно, что он пришел сюда. Сама Альбина, конечно, не чувствовала, но знала и не сомневалась в том, что воздух в палате не просто застоен и сперт, но буквально пропитан запахами ее тяжелого пота, ее испражнений, и приходить сюда неблизкому человеку – какого дьявола!
– Чего тебе здесь? – враждебно ответила она на его приветствие. – Нечего тебе здесь! Иди! Зачем ты мне нужен тут?!
Но выставить Семена откуда-нибудь, куда он пришел по какой-то своей надобности, – было занятием безнадежным. Она забыла об этом, но он тут же ей о том и напомнил, пройдя, как не услышал ее, к стулу и садясь у нее в изголовье.
– Ой, матушка Альбина Евгеньевна! – заприговаривал он укоряюще, весь – и широким своим розовым лицом, и острыми голубенькими глазками – лучась в открытой неподдельной улыбке. – Ой, нехорошо, ну как же так, что же это ты! От всех скрываешься, нигде тебя не найдешь, хочу повидать – проблема! А не чужие люди ведь, чтоб не увидеться! Вот я тебе творожку своего принес, молочка парного баночку… – принялся он вытаскивать из сумки у себя на коленях свои гостинцы. И заворочался на стуле: – Куда их тебе?
– Поставь на тумбочку, – обессиленно, сдаваясь под его напором, – сказала Альбина.
– Во, конечно, куда еще, на тумбочку! – шевелясь около нее, шурша сумкой и пакетами из полиэтилена, приговаривал Семен. Снова утвердился на стуле, успокоился, Альбина молчала, лежа с закрытыми глазами, и он через паузу сказал: – Так что, вправду, что ли, умираешь, Евгеньевна? Место твое не отдают никому, однако. Держат. Хотя по всем законам пора.
Альбина открыла глаза. Лицо Семена нависало над нею рыхлой розовой массой с вкрапленными в эту массу двумя васильками, – так низко он склонился к ней.
– Чего нужно? – спросила она. – Говори, боже ты мой…
– Так чего нужно, чего нужно, Альбина Евгеньевна… – Семен несколько сбился от ее прямоты. Но тут же и оправился. – «Дубки» мне нужны, Евгеньевна, знаешь же. Место самое то, мне другое – никак, но мне ж его получить нужно. Давай бабу мою на твое кресло. Ей оттуда все видно будет, она оттуда, как надо, прорегулирует. Старший твой большой, говорят, хозяин стал, заменил, значит, папашу достойно, он нашему председателю скажет – тот живо под козырек возьмет. А я маслодельню поставлю, сыроварню заведу, – внучке твоей всегда свеженькое со скидкой будет. Без молочного-то, – он хохотнул, – никто не обойдется!
Альбина слушала его, – и ей хотелось зареветь, и было смешно одновременно.
– Какой-то ты дурак, Семен, а? – выговорила она, когда он умолк. – И хитрый, и дурак, и бесчувственный, как чурбан. Чего ты ко мне приперся? К ним и иди, кто хозяин, а я что?
– Так ведь сын твой, Евгеньевна.
– Что ж, что сын. Я к этому ко всему отношения не имею.
– А к чему имеешь? – быстро спросил Семен.
Альбине было так смешно, что она все же похмыкала.
– Там тебе без интереса, к чему имею. Пожить вот еще надо бы. Уступи мне своей жизни немного, а?
Семен потерялся. Он воспринял ее просьбу всерьез.
– Так как… так у тебя что… Тебе крови надо, что ли?
– Надо, чтоб ты ушел, – изнеможенно сказала Альбина.
Семена выводили под руки сестры, сам он уходить не хотел.
– Пожалеешь, Евгеньевна, – громко говорил он, выворачивая к ней голову, когда его вели к дверям. – Вот если жизнь-то там есть, пожалеешь, что помочь отказалась. Там бы тебе зачлось! Такому пахарю, как я, – святое дело помочь. От святого дела отказалась, пожалеешь!..
Больше никаких неожиданных визитов к ней не было. Муж, принеся в очередной раз банки с морсом, сообщил, что просятся навестить ее Нина с бухгалтершей, – она не дала разрешения. Не нужен ей был никто. Когда с этими банками заскакивал старший сын, он непременно заговаривал о невестке: та, все так же не держа в себе никакой обиды, хотела бы сидельничать около нее, напоминала через него об этой своей готовности. Ну так чего ты, ну что за дурь, я не понимаю, восклицал сын, передавая ей слова невестки. Альбина уклонялась от обсуждения, которое он навязывал ей. Тебе самому к матери лень заехать, спрашивала она, – и он умолкал.
Здесь ей делали все то же самое, что и в онкологической больнице: ставили капельницу, вводили белок, потому что она почти перестала есть, переливали кровь и постоянно кололи чем-то, от чего она большую часть времени находилась в полубодроствовании, полузабытьи, – но, в отличие от онкологической, она теперь не чувствовала каждодневного ухудшения, как было там, она словно бы законсервировалась в своем состоянии и оставалась в нем, не меняясь.
То, что ей не делалось хуже, наполняло ее чувством, присутствия которого в себе она боялась. Она боялась его безумно, мистически страшилась его, и все же оно оказывалось в ней сильнее всех прочих. То было чувство словно бы счастья. А может быть, и просто счастья. Как бы она ни жила – она жила, дни ее продолжались, и она по-прежнему окружала Его своим полем! Она согласна была жить с этим гложущим, пекущим огнем внутри, в этом полузабытьи на кровати, она согласна была жить хоть как, – лишь бы жить!
Стоял уже ноябрь, перевалил уже на вторую половину, за окном несколько раз, видела она, густо и сильно шел снег, от его пляшущей белой пелены в палате становилось темно, но на душе у нее, впрямь по контрасту, делалось светло и едва не празднично: вот и зима настает! И оттого, что наступала зима, возникала уверенность, что увидит и Новый год, а раз Новый год, то осилит и всю зиму, ну, а что будет после, весной – туда она, да, не заглядывала.
Невестка возникла у нее в палате в первый день декабря.
– Они никто не могут, у них ни у кого нет времени, я никого из них не смогла заставить, а у вас, я знаю, все питье закончилось, – говорила она торопливой, как бы бесстрастно-деловой скороговоркой, приседая на корточки около тумбочки, выгружая оттуда пустые банки и загружая полные. – Я к вам на минутку. Только сменю вам, и все. Больше ничего, не беспокойтесь.
Она перетряхнула тумбочку, сбегала в туалет, вымыла мылом до блеска Альбинин стакан с ложкой, молча прошлась вдоль ее постели, подтянула, подоткнула простыню, поправила одеяло в пододеяльнике, взбила подушкку, наклонилась, взяла с пола сумку, чтобы уходить, и не удержалась:
– Вообще, мама, я никак не пойму, почему вы меня так обижаете! Почему не разрешаете появляться. Я это дома все делаю… но мне этого мало. Мне хочется с вами быть! У меня потребность, мне так плохо, что я не с вами! Вы были добры со мной, талон тогда на платье в магазине отдали… мне хочется отплатить!
Ты и отплачиваешь, просилось кипяще с Альбининого языка, но она лишь молча отвернулась лицом к стене и ждала, когла невестка, наконец, оставит ее. Страх ознобно прокатывался волнами по ее похудевшим бедрам, и передергивало судорогой слабые икры. Теперь, думалось ей, надо ждать чего-то дурного. Теперь непременно.
Первый день декабря был воскресеньем. И когда пришедшая к ней в понедельник вести их обычный разговор гренадерша сообщила о том, что вчера на Украине был референдум и теперь она тоже отделилась, как в свою пору республики Прибалтики[79], мгновенно проросшее миллионами острых, колючих игл сердце прокричало Альбине: вот оно, то.
Никакого разговора с врачихой на этот раз у них не вышло. Зрение оставило Альбину – и она провалилась в полную тьму, слух обратился вовнутрь нее – и она услышала рвущийся откуда-то из ее глуби, из живота дикий звериный вопль, некая сила, которой не было в ней минуту назад, вскинула ее на кровати – стояла на коленях, ухватившись обеими руками за спинку, трясла кровать, будто хотела разломать ее, слезы лились из глаз, и грызла эту железную, крашенную масляной краской облупленную спинку зубами, жевала отодранные куски, давилась ими, выплевывала…
Должно быть, ей сделали иньекцию чего-то весьма сильнодействующего, – она пришла в себя только спустя сутки, но пришла лишь сознанием, а тело ее стало беспомощным чехлом для костей: мышцы больше не управляли им, и она могла еще повернуть голову, могла двинуть ногой и пошевелить рукой, но удержать в пальцах стакан или подняться самой с кровати, чтобы сесть на судно, – этого она уже не могла.
Правда, и раньше ей не всегда удавалось водрузить себя на судно без посторонней помощи, приходилось прибегать к содействию медсестры, но потом, посадив ее, та могла уйти, все остальное Альбина уже была в состоянии завершить сама. А теперь ее нужно стало поддерживать, стоять над нею, склонившись, и сестры не хотели стоять. Делай лежа, говорили они, подсовывая под нее судно, и уходили. Но лежа у нее получалось только по малой нужде, по большой – обязательно требовалось сесть, мучилась, изводилась, все из нее просилось наружу – и без результата. Не можешь лежа сама, клизму давай, говорили медсестры еще. Однако Альбина была неспособна на клизму. У нее была абсолютная непереносимость той, она ее боялась панически, ей делалось дурно от одного вида клизмы, как другим, знала она, от вида капельницы. Между тем, хотя она по-прежнему почти ничего не ела, шлаков из нее выходило, как из здоровой, и позывы происходили регулярно.
А что у вас, женщины в семье никакой нет, ответила гренадерша, когда Альбина пожаловалась ей на медсестер. Пусть приходят, сидят с вами, доступ к вам не ограничен, о чем разговор. Альбина была теперь не в состоянии вести прежние беседы, и гренадерша потеряла к ней всякий интерес. Альбина лежала с позывами по нескольку часов, боясь позвать сестру, звала, наконец, та приходила и неизменно отказывалась поднимать ее, подпихивала ей под бедра судно и уходила, и Альбина снова лежала, и час, и другой, – совершенно впустую. И лишь после этого сестра поднимала ее, усаживала на судно, прислоняя к стене, подставляя с одного боку стул облокотиться рукой, а с другого держа за руку сама, и, стоя над Альбиной, отворачиваясь от нее в сторону, все потом поторапливала: «Ну, скоро там? Тужься давай, чего там сидишь?!»
Она измучилась за эту неделю так, что, когда в субботу заскочивший с морсами на минуту старший сын спросил про невестку: «Что, разрешишь, может, завтра? А то больше никто!» – она согласилась на ее приход как на спасение. Пусть в середине дня примерно придет, после часу, еще попросила она. Именно в это время у нее начинались обычно позывы, и если бы в самом деле хоть один день прожить благополучно и спокойно – ей казалось, там дальше можно будет выдержать и еще неделю.
Невестка появилась, – ей уже хотелось.
– Мамочка! Добрый день! Как вы? Ой, ну вы сегодня очень даже неплохо выглядите, я ужасно рада! – затараторила невестка, кружась около нее, открывая тумбочку, звякая банками в сумке. – Я лосьон принесла, совершенно чудесный, оботру вас, сразу легко задышится!
Альбина объяснила невестке, что от нее требуется, та сбегала в туалет, сполоснула судно и стала поднимать Альбину с постели. Альбина села на судно, прислонившись к стене, облокотилась одной рукой о стул, упершись второй в напрягшиеся руки невестки, натужилась, вытягивая задрожавшую шею вперед, и с предвкушением близкого облегчения почувствовала, как изнутри двинулось, толкнулось в сфинктер и начало его разжимать, натужилась еще, – и сфинктер разошелся окончательно, открыв напирающей массе проход наружу, и тут вдруг руки у нее заколотились, словно их трясло током, зубы застучали, рот переполнился вспененной слюной, полезшей на губы, в глазах стало темно…
Это была мгла той бури, что свирепствовала вокруг. Но уже она стихала, рев ее уменьшался с каждым мгновением, с каждым мгновением все больше яснел воздух, блеснула успокаивающаяся вода озер далеко внизу, обозначились темными пятнами массивы лесов, и вот уже стала видна нитка проселочной дороги, вившаяся прихотливыми петлями, и та крошечная фигурка на ней, и Альбина почувствовала, что воздушное течение поднимает ее, подхватывает и несет, как древесный лист, играя ею, переворачивая и вращая, – а она легче листа, невесомее, бесплотней.
Она умерла, и клиническая ее смерть длилась восемь минут. Ее гренадерского роста лечащий врач проходила коридором мимо палаты как раз тогда, когда в палате раздался сумасшедший, истошный крик, рванула дверь, – это кричала невестка, держа обвисшую Альбину под мышки, они вдвоем затащили ее на кровать, и врач начала делать Альбине массаж сердца, послала невестку за сестрами с необходимыми лекарствами и кислородной подушкой.
Метла не двигалась, словно упершись там, в несхватываемой глазом дали, в некое препятствие, руки, державшие черенок, дрожали от натуги, не в силах сдвинуть ее с места, дрожали ноги, дрожало все тело, напряжение было сверх Альбининых возможностей, она больше не могла ничего выжать из себя, – и закричала от изнеможения, от бессилия, от ненависти к себе за свое бессилие…
– Живучая какая, гляди-ка – сказала врач, прекращая делать массаж. – Промедол ей теперь, пусть успокоится, – дала она распоряжение сестрам. Отерла запястьем пот со лба и посмотрела на Альбинину невестку. – Вы бы вот и приходили к ней вместо всех ваших мужиков, помогали бы ей.
– Не разрешает, – отозвалась невестка.
– А наплюньте. Разрешает, не разрешает. При ее диагнозе каких заскоков не бывает. Если считаться с ними…
Альбина начала осознавать себя через трое суток. Возвращение в сознание было отмечено лицом невестки. Оно плоско нависало над ней, полузакрытое волосами – невестка сидела на стуле около кровати с упавшей на грудь головой, спала, – и Альбина какое-то время смотрела на нее, не понимая, что случилось, почему сама она не на судне, а в постели, а невестка зачем-то дремлет тут в ее изголовье. Потом она вспомнила свой полет, вспомнила метлу, словно бы вклинившуюся во что-то с размаху, и осознала, что между нею нынешней и той, на судне, – некая пропасть, и за время, вместившееся в эту пропасть, случилось нечто ужасное. Ужасное настолько, что, наверное, уже ничего не поправить.
Невестка от ее голоса замотала головой, просыпаясь, дернула голову резко вверх и приоткрыла глаза.
– О-ой, мама! – моргая слипшимися ресницами и радостно улыбаясь, протянула она.
– Что с Ним? – спросила Альбина.
Невестка ничего не поняла.
– С вами? Все хорошо, мама, все хорошо, вы поправляетесь.
До лжи невестки Альбине сейчас не было никакого дела. Ее лишь раздражило, что невестка отвечала ей как полной идиотке.
– Не обо мне речь. С Ним что? Он жив?
Она была уверена, что невестка должна понять ее, но невестка опять не поняла, и пришлось объяснять ей, когда внутри все дрожало от нетерпения узнать и страха предстоящего знания.
Но Он был жив. Сам Он был жив. А страны, в которой Альбина родилась, выросла, прожила жизнь, этой страны больше не было. Она прекратила свое существование в минувшее воскресенье, восьмого декабря – решением высоких властных лиц трех республик, входивших в страну, где она родилась, выросла и жила, волей трех бывших Его подначальных, отпущенных им на свободу и собравшихся в лесном уединении, на некоей охотничьей даче без Него[80].
Сам Он остался жив, с Ним самим ничего не приключилось, но то, что произошло, – это было равносильно Его смерти. Это было хуже, чем смерть. Это было нечто иное, о чем она и не думала, о возможности чего и не подозревала, чего она просто-напросто не представляла!
Невестка еще рассказывала, описывая подробности, она закрыла глаза и отключилась от ее рассказа. Все. Все было кончено. Она не справилась со своей задачей. Ей не удалось уберечь Его. Жизнь ее не имела больше ни малейшего смысла, можно было умереть хоть сейчас.
А тот, властно-хитроглазый, с одутловато-мясистым лицом, который прозвался у нее Крутым, один из тех трех, что решили Его судьбу на лесной охотничьей даче, неожиданно осенило ее, он – правильно, не соперник и не соратник, все так, и вовсе они не взаимоукреплялись, это все обман, одна видимость, он – противник, вот он кто, как она не поняла того раньше! Если бы она поняла раньше!.. Противником – вот он кем был!
С этого дня Альбина не гнала от себя невестку. Она уже и не смогла бы без нее. Теперь около нее нужно было постоянно дежурить. Силы оставили ее настолько, что она не могла больше перевернуться с боку на бок сама, не могла подняться на судно и не могла сидеть на нем, если ее не держали сзади под мышки. «Мама. А вы поправляетесь!» – воскликнула однажды невестка, протирая ее лосьоном, Альбина оглядела себя – действительно, руки в запястьях округлились, округлились пальцы, она удивилась подобному, но тут же и поняла, что это перестала выходить из нее жидкость. Опух, стал похож на подушку и живот, но чуть повыше пупка он проваливался внутрь, и, прося невестку помочь ей пощупать там себя рукой, она ощущала пальцами через кожу угластые сочленения позвоночника. Невестка не отлучалась от нее никуда, оставив дочку на попечение своей матери, которую специально для того срочно вызвала из ее захолустья, тут же, в палате около Альбины и спала, принося на ночь с разрешения врачихи-гренадерши какой-то узкий топчанчик и приставляя его к самой Альбининой кровати. Вроде ничего баба досталась парню, думала о ней Альбина в те нечастые часы, когда находилась в ясном сознании. Она редко находилась в нем, – ее постоянно кололи наркотиками: когда действие одного укола кончалось, ее начинало печь изнутри несусветной болью, и ей делали новый укол. Но когда вдруг непонятным образом накатывало ясное сознание и не было боли, она думала именно об этом: вроде ничего баба. И больше в ней не осталось теперь никаких мыслей, даже о Нем; она и удивлялась тому, но словно бы и радовалась, чувствуя некое облегчение.
В одно из таких своих неожиданных просветлений по совершенно опять же необъяснимой причине ей вспомнилась ее вторая поездка к знахарке. Вернее, не собственно поездка, ничего у нее не сохранилось от той в памяти, а как знахарка сказала ей: «Крестись!» И вспомнилось следом, что было в ее жизни, уже обещала себе: если все обойдется, все будет хорошо – обязательно крестится. Когда это было, в каких обстоятельствах? Она не помнила. Но помнила, что обещала, – ясно, отчетливо помнила; обещала – и не выполнила, почему?
– Ты крещеная? – спросила она невестку.
Голос у нее стал слабый и сиплый, и невестка не расслышала ее.
– Что? – наклонилась она к Альбине.
Альбина повторила.
Невестка словно бы поколебалась, прежде чем ответить.
– Нет, не крестили меня, – сказала она.
– Сможешь в церковь сходить, привести ко мне, чтобы мне окреститься? – попросила Альбина.
Теперь невестка явно расслышала ее, но медлила с ответом, молчала – словно хотела отказать ей, и не знала, как это сделать.
– Да, а зачем вам, какой смысл? – сказала она потом.
– Хочу.
– Как я вас оставлю?
– Оставь. Ничего, – просипела Альбина. – Сходи, попроси. Надо мне. Чего тебе не сходить?
– Да нет, я схожу – опять помолчав, сказала невестка. – Пожалуйста.
– Прямо сейчас.
– Как прямо сейчас. Десять вечера.
– Да? Десять вечера? – У Альбины не было никакого представления о времени.
– Завтра схожу, – пообещала невестка. – Завтра суббота, целый, наверно, день будет открыто, так что, наверно, застану кого нужно.
– Спасибо тебе. Милая ты моя, – сказала Альбина. Так у нее попросилось: «милая». В ней было громадное, всю ее растворившее в себе, расслабляющее чувство благостного облегчения: она вспомнила, что должна сделать, сделать непременно и безусловно, вспомнила – и теперь осталось только немного подождать, дождаться, вернее, и все, действительно можно умирать.
Должно быть, она начала задыхаться, будучи в забытье, и удушье вернуло ее в сознание. Кислород, попросила она невестку, но та не отозвалась. Кислород, просипела она, но невестка все так же не отзывалась. Альбина попыталась приподнять голову, чтобы увидеть, есть рядом с нею невестка или нет, – невестки не было. Куда она могла деться, прозвучало в Альбине стоном. Какое сейчас время суток, день или ночь, она не понимала: тяжелый сумеречный туман заполнял палату, и было им совершенно невозможно дышать. Помоги, ты где, помоги, задыхаясь, позвала она невестку еще раз.
В груди у нее, услышала Альбина, забулькало, словно там открыли отключенный от воды кран. Почему, почему невестка не возвращалась, куда она ушла так надолго! Альбина потрогала себя за нос – она была еще жива. Подергала себя за волосы – ей стало больно. Уперлась ногами в спинку кровати – и ноги сорвались, проскочили между прутьями. Она судорожно, быстро-быстро заперебирала ногами, стараясь снова упереться ими в прутья, ей необходимо было упереться, чтобы не умереть, дождаться невестки, но прутьев на месте не оказалось, и не оказалось кровати под ней, – она словно бы висела в воздухе, вернее, не висела, а как бы плыла в нем, раскачиваясь, подобно сорванному древесному листу. В недоуменной надежде, что это лишь обман чувств и кровать под нею сейчас обнаружится, она зибилась, задергалась изо всех сил, какие еще имелись в ней… но не было никакой кровати, и откуда той было взяться: она действительно летела по воздуху, увлекаемая сильной восходящей струей, громадный, похожий на воинский шлем выпуклый холм, на котором она стояла, остался далеко под нею и в стороне, буря улеглась окончательно, и, хотя небо было застлано мглистыми плотными облаками, сам воздух был ясен, чист, спокоен, видно окрест до горизонта, во все стороны, и на вьющейся тонкой бечевой нитью проселочной дороге со всею отчетливостью рисовалась крошечная человеческая фигурка, двигающаяся куда-то. А, вспомнилось ей, это ради него стояла она там, на том холме, увидеть бы его, понять, кто это. И словно она могла управлять несшим ее воздушным потоком, поколебав, поколебав ее невесомое тело на месте, он повлек ее вниз, пронес над холмом, на котором она стояла, над речкой, серебряные петли которой она видела прежде лишь издали, с высоты, над озерцом в тихой искристой ряби, над лесом, расчленившимся на деревья, над полем в бегущих волнах какого-то злака, подошедшего к зрелой поре, и дорога оказалась под нею – разбитая, унылая проселочная дорога русской лесостепи, пыльная и с глубокою, непроезжей колеей, а человеческая фигурка на ней была уже совсем близко – фигура, не фигурка, что-то в облике этой фигуры показалось ей прекрасно знакомым, близким, нужно бы увидеть лицо, ей не терпелось увидеть лицо… и она увидела.
Это был Он. Это, конечно, был Он, и кем еще мог оказаться человек на дороге! Это был Он, она не сомневалась, что это Он!
Ее поднесло к Нему совсем близко, и тут она увидела, что Он абсолютно слеп. Он шел, высоко вскинув голову, глаза его были широко раскрыты, Он шел, подчиняясь влекущей его силе, наугад, не видя дороги, и даже спутницы любого слепца – палочки – не имелось у него в руках. Пока она стояла там, на холме, она направляла его, ей сверху видны были все извивы дороги, все ее опасности, теперь Он оказался без нее, сам себе поводырь, и до поджидавшей его ловушки оставались считанные шаги!
Она закричала Ему изо всех своих сил, что Его ждет, она попыталась в судорожном броске дотянуться до Него, остановить Его, – и ей это удалось, но она была теперь бесплотна, она была, оказывается, самим воздухом, его летучими молекулами, и руки ее прошли сквозь Него, и голоса ее Он тоже не услышал…
– Ах, сестра-сестра, что же вы с утра за мной не пришли, раз она в таком состоянии. Зачем же полдня ждали, – с упреком сказал священник Альбининой невестке. – Тут каждый час был дорог. Уйдет, не дай Бог, теперь неприобщенной.
Невестка не ответила ему. Они со священником стояли в дверях палаты, и она смотрела, что делают врач и сестра с ее свекровью.
Когда она, попросив священника подождать около палаты, вошла вовнутрь, чтобы подготовить свекровь к предстоящему таинству, то застала ее лежащей на середине кровати, с запрокинутой головой, с ногами, далеко высунутыми между прутьями спинки и подогнувшимися в коленях, запавшие ее глаза вылезли наружу и быстро, беспорядочно двигались. «Мама!» – бросилась к ней невестка, но свекровь ничего не ответила ей, и только глаза вдруг остановились, и зрачки залили всю радужку.
Дежурного врача искали по отделениям минут десять. Это был молодой мужчина, он прибежал через минуту, как его нашли, и тотчас бросился делать массаж, а сестра по его приказанию принесла целую пригоршню разных шприцев. Потом врач взял один из шприцев, примерился и вогнал иглу между ребрами, чтобы ввести адреналин прямо в сердце.
– Ах, сестра-сестра, что же вы с утра за мной не пришли! – покачав головой, повторил священник.
Невестка снова ничего не ответила. Ей и нечего было ответить. Она не знала почему. Не шлось почему-то с утра. Никак не шлось. Не могла себя заставить.
Врач вдавил поршень до упора, прижал место, где игла входила в тело, ваткой со спиртом и вытащил иглу. Ватку в пальцах ему мгновенно окрасило, он отнял ее, и между ребрами на постель заструилась быстрая яркая струйка. Врач разогнулся, постоял мгновение, глядя на лежавшее перед ним тело, и потом поглядел в сторону двери, избегая взгляда Альбининой невестки.
– Отмучилась бедняга, – сказал он.
29
Массажист ждал его, разминая себе пальцы. У массажиста были крупные, длинные, как у пианиста, очень сильные пальцы, точечный массаж получался у него просто великолепно.
Доброе утро, как спалось, по-обычному спросил он массажиста. Прекрасно, как всегда, по-обычному отозвался массажист.
Он скинул халат и лег на массажный стол. Массажист, растирая крем на ладонях, приблизился, заглянул к нему сбоку в глаза, спросил: «Приступаем?» «Приступаем-приступаем, конечно», – сказал он. Жена, волейболистка в молодости, всю жизнь донимала его: нужно делать гимнастику. Всю жизнь время от времени он уступал ей, и все прекращалось через неделю: гимнастика не взбадривала его. Пятнадцать минут массажа освежали его куда лучше собственных физических движений, поселяя в нем бодрость на весь день. Он закрыл глаза, массажист промял ему спину, прогнал кожную волну по лопаткам, прошел точечными касаниями вдоль позвоночника, застучал ребрами ладоней по пояснице. Там полегче, полегче, попросил он массажиста. Память о радикулите, прихватившем его в Крыму во время отпуска, как раз перед событиями девятнадцатого августа, не позволяла ему, как прежде, насладиться поясничным массажем. Воротник давай, и руки, сказал он. Массаж шеи, плеч и рук давал ему наиболее сильное ощущение бодрости.
Завтрак к его возвращению стоял на столе. Любимые его горячие бутерброды с сыром были накрыты белоснежной льняной салфеткой.
– Только не спеши, бога ради, жуй хорошенько, – сказала жена.
– Когда я куда спешил, – посмеиваясь, сказал он.
– Успеешь, куда нужно, – договорила она.
– А может, мне никуда больше не нужно будет, – все так же посмеиваясь, пошутил он.
Ее глаза были серьезны и напряженны.
– Я думаю, они не посмеют все-таки совсем отстранить. И ты все это начал, и потом, координатор какой-то нужен!
Губы у нее в паузах между словами поджимались от серьезности, с какой она говорила.
– Мало ли кто что начал, – делая большой глоток мангового сока, сказал он. И выпил залпом полстакана. – Давай больше не будем об этом.
Она не ответила. О чем ей как раз хотелось, так именно «об этом», и, подчиняясь ему, так вот, молчанием, она выразила свое неудовольствие его запретом.
– Ешь, ешь, чего это ты? – сказал он, заметив, что она сидит, сложив руки перед собой на столе, и ничего не берет.
– Я поем, – коротко ответила она.
– Ну хорошо, – согласился он. Ему было не до того, чтобы выяснять сейчас с нею какие бы то ни было отношения.
– Может быть, я буду сегодня не очень поздно, – хрустя поджаренным бутербродом, проговорил он немного погодя. – Переговори с Иришкой, пусть придут сегодня, посидим по-семейному.
– «Не поздно» – это во сколько?
– Ну, я позвоню, – уклонился он от точного ответа. Он сам не знал, с чего вдруг у него предложилось такое. Вдруг предложилось. Само собой.
Лейтенант из охраны предупредительно распахнул дверцу машины, едва он вышел на крыльцо.
– Добрый день, – коротко махнул он левой рукой лейтенанту, пригибая голову, чтобы нырнуть в просторное, обитое темным бархатом роскошное лоно машины. В правой руке у него была папка с бумагами, которые брал на ночь. – Добрый день, – поздоровался он с водителем, бросая папку рядом с собой на сиденье. Водитель ждал приказания, полуразвернувшись к нему в профиль, показывая ему свою ушную раковину, и он сказал: – Поехали.
В приемной около кабинета, хотя ему сейчас нечего было здесь делать, обретался первый помощник.
– Что случилось? – спросил он недовольно.
– Собираются сегодня, – сказал помощник. – Есть еще возможность…
– Нет, благодарю! – оборвал он помощника. – Ничего я предпринимать не буду. Этого только не хватало. Как там решат – так и будет.
– В два часа – журналисты, – напомнил помощник.
– Хорошо, – ответил он помощнику с прежним неудовольствием.
Он чувствовал в себе раздражение. Зачем помощник говорит ему о возможностях. И он, значит, тоже полагает его похожим на предшественников. Или что, все они думают, власть ему действительно нужна ради власти?
Он зашел к себе в кабинет, прошагал по ковровой дорожке до стола, сел за него – и обнаружил, что делать ему нечего. То есть дел было – пропасть, но все бессмысленно, если сегодня – его последний день. И ничего от него не зависит. Там, на востоке, в столице степной громадной республики сядут за стол одиннадцать рожденных его действиями новых лидеров – и решат его судьбу. А ему остается ждать. Больше ничего.
«И потом, координатор какой-то нужен», – стояли в нем слова жены. Они возникали и возникали в его сознании подспудной надеждой, что все разрешится благополучно и он сможет продолжить дело, которое начал. Хотя, рассуждая трезво, он знал: он им не нужен. Никому. Ни одному. Он выпестовал их – сам не желая того, – научил жить на воле, и почему молодые азартные волчата, дорвавшиеся до свободной жизни, обязаны пожалеть старого сивого волка? Он им теперь лишь мешал, они должны были растоптать его. Разве что какое-то чудо… Странным образом, пересиливая трезвое знание, в нем жила некая непонятная надежда именно что на чудо. Сколько раз за эти последние годы он был на таком краю, что казалось – не удержаться, и всякий раз происходило словно бы некое чудо, и он спасался!..
Никогда за все эти последние годы не было у него таких пустых, бессмысленных дней, как сегодня. Бодрость, полученная им утром от рук массажиста, ушла из него, словно вылилась вода из продырявленного сосуда, и он чувствовал себя таким же усталым и разбитым, как после дней форосского заключения.
Но когда в назначенное время он вышел в подготовленный для встречи с журналистами зал, он выглядел – с несомненностью было известно ему о себе, – как всегда, бодрым, хладнокровным, уверенным, как бы всем на свете довольным – образ, который он создавал всю свою жизнь, а особенно эти последние годы, когда пришлось жить на виду и напоказ. Софиты ярко светили, теле– и кинокамеры тотчас зажужжали, фотокорреспонденты стрекозино защелкали своими длиннобъективыми аппаратами. Просто корреспонденты, сидевшие полукругом на стульях, взяли перед собой наизготовку диктофоны. Ему было приятно все это. Он осознавал свою слабость к пресс-конференциям. Осознавал, посмеивался над нею и прощал ее себе. Наверное, истоком ее являлась школьная мечта стать актером. Какой бред: он – и актер. Этого только не хватало: действительно сделаться им.
Конференция была в полном разгаре, он отвечал на очередной вопрос, когда вдруг словно бы лопнуло что-то со звоном вокруг него. Как бы некая полая сфера: треснула и распалась на части.
Он запнулся и огляделся. Журналисты с недоумением тоже заоглядывались.
– Что это? – спросил он.
Что, о чем речь, что такое, побежало по залу.
– Что случилось? – оказался около него первый помощник.
– Вы что-нибудь слышали сейчас? – спросил он.
– Нет. Что? Прямо сейчас? – тревожно переспросил помощник.
Он понял. Этот звук он уже слышал однажды. Тринадцать дней назад. Это произошло, высчитал он позднее, как раз в то время, когда трое из выпущенных им на волю молодых волчат, собравшихся в лесной резиденции одного из его предшественников, подписали договор, перечеркнувший всю его работу последних недель. А и не только недель. Тогда их было трое, теперь их было одиннадцать. Ему стало не по себе. Нечто мистическое почудилось ему во всем этом.
– Простите! – поднялся один из корреспондентов. – Вы недоответили. Уточняю вопрос, который был задан.
– Одну минуточку! – запрещающе подняв руку, попросил он. И сказал склонившемуся к нему помощнику – так, чтобы звук не попал в микрофоны: – Позвони туда. Узнай, что там.
Помощник вернулся минут через десять. Лицо его было похоже на скомканный бумажный лист.
– Ну, в общем, вот так, – свернул свой очередной ответ он и поманил помощника пальцем: подойди.
Помощник подошел и положил перед ним на стол листок из своего именного рабочего блокнота со скоро нацарапанными на нем двумя десятками слов. «С образованием Содружества… – схватили глаза начало. И конец: – …прекращает свое существование».
– Все, спасибо. Благодарю за внимание. Будем считать нашу встречу законченной, – сказал он, поднялся и пошел к выходу из зала. Помощник шел следом за ним.
Выйдя из зала, он остановился и снова перечитал текст, принятый помощником по телефону, сверху над текстом было написано: «Декларация». «Прекращает свое существование», – прозвучали в нем, как произнесенные кем-то чужим, последние ее слова. «Прекращает… свое существование…»
Он молча отдал листок помощнику и пошел по коридору. Зайдя к себе в кабинет, он целенаправленно прошел к рабочему столу, сел в кресло – и обнаружил, что не знает, для чего он сел за него, не знает, что делать. Чего никогда с ним за этим столом не случалось.
Тогда он снял трубку и нажал кнопку вызова домашнего телефона.
– Я слушаю, – тотчас, словно ждала у телефона, сняла там трубку жена.
– Зови их к шести часам, – сказал он. – К шести я приеду.
– Что у тебя? Что они? – спросила она тревожно.
– Жить будем, не беспокойся, – сказал он. – Все, больше не могу, занят очень. – И положил трубку.
Положил – и на миг странное видение овладело им: он стоял на некоей пыльной, разбитой проселочной дороге, крутившейся среди полей, озер, лесов и холмов, но он не видел ее, он лишь знал откуда-то, что стоит на такой дороге, а видеть ее не мог: он был незряч, слеп абсолютно и не понимал, что ему делать.
Миг, который длилось видение, был короче секунды, долей секунды, это была молниевая вспышка – и все исчезло, и еще мгновение спустя он уже сомневался, было с ним что сейчас или нет.
Он нажал кнопку переговорного устройства и приказал секретарю вызывать к себе всех своих помощников и сотрудников. Следовало обсудить, как им всем жить теперь дальше. Жизнь не кончалась.
1992 г.Примечания
1
В данном случае речь идет о торжественном заседании в Москве 8 мая 1985 г., посвященном празднованию Победы советского народа над гитлеровской Германией. 9 мая это заседание показывалось в записи по телевидению.
Здесь и далее автор принимает на себя ответственность за расшифровку общественных, природно-стихийных и других событий, упоминаемых в повествовании. Расшифровка дается в примечаниях к тексту. Чтение примечаний, как не играющих никакой сюжетной роли, совершенно необязательно.
(обратно)2
Имеется в виду выступление М. Горбачева перед так называемым партийно-хозяйственным активом Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) 16 мая 1985 г.
(обратно)3
Данные события произошли 21 августа 1985 г.
(обратно)4
Традиционно первому лицу в руководстве Советского Союза полагалось отдыхать в августе, и Горбачев, насколько известно автору, придерживался этого правила.
(обратно)5
См., например, «Известия Советов народных депутатов СССР», № 246 от 2 сентября, понедельник, 1985 г., Московский вечерний выпуск.
(обратно)6
Речь о поездке Горбачева 4-6 сентября 1985 г. в города Нижневартовск, Уренгой и Сургут Тюменской области, построенные среди болот и тайги специально для освоения и эксплуатации нефтяных месторождений.
(обратно)7
Встреча имела место 20 сентября 1985 г.
(обратно)8
Автору тоже довелось держать в руках эту статью. Только на вполне нормальной бумаге. Насколько ему помнится, текст ее был подписан именем Исхакова, профессора экономики Института народного хозяйства имени Плеханова.
(обратно)9
XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза, проходивший 28 февраля – 8 марта 1986 г. Носил отчетный, вполне безликий характер.
(обратно)10
Как зафиксировано в официальных документах, взрыв на Чернобыльской атомной электростанции произошел в ночь с 25-го на 26-е апреля 1986 г. в 1 час 23 минуты.
(обратно)11
«Правда», ежедневная газета Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, основана 5 мая 1912 года В.И. Лениным, номер за 30 апреля 1986 г.
(обратно)12
Альбина не догадалась о том сама, потому что не сопоставила исчезновение имени М. Горбачева из различных официальных сообщений с подобным же исчезновением в начале прошлого года.
(обратно)13
2 сентября 1986 г. около г. Новороссийска вскоре после выхода из порта пассажирский теплоход «Адмирал Нахимов» столкнулся с сухогрузным судном «Петр Васёв». Сухогруз врезался в теплоход носом, попав в переборку между отсеками, в результате чего пробоина (6×8 м) пришлась сразу на два отсека, и теплоход затонул в считанные минуты (12-14 минут). Из 800 пассажиров теплохода погибло более половины.
(обратно)14
«Утром 3 октября на советской атомной подводной лодке с баллистическими ракетами на борту в районе примерно 1.000 км северо-восточнее Бермудских островов в одном из отсеков произошел пожар. Экипажем подводной лодки и подошедшими советскими кораблями производится ликвидация последствий пожара». (Из «Сообщения ТАСС» от 4 октября 1986 г.).
(обратно)15
Во время встречи М. Горбачева и президента США Р. Рейгана, в прошлом голливудского актера, 11-12 октября 1986 г. в Рейкьявике (Исландия) руководство Советского Союза попробовало посредством некоторых уступок американцам добиться от них прекращения исследовательских работ в области космического оружия, на что американцы, разумеется, не пошли.
(обратно)16
Речь шла о фильме «Покаяние» грузинского режиссера Т. Абуладзе.
(обратно)17
17-20 декабря 1986 г., после снятия с поста 1-го секретаря компартии Казахстана Кунаева, казаха по национальности, и назначения на этот пост чуваша, бывшего до того 1-м секретарем Ульяновского обкома КПСС, в Алма-Ате (ныне Алма-Аты, столица государства Казахстан) произошли крупные волнения, имевшие националистическую окраску.
(обратно)18
Проходивший в Москве в конце января 1987 г. и обсуждавший «вопросы кадровой политики» Пленум ЦК КПСС оценивался в прессе как «не менее революционный», чем прошедший до того XXVII съезд КПСС.
(обратно)19
Согласно сообщению ТАСС от 13 марта 1987 г. в 5 час. 00 мин. по московскому времени в Советском Союзе на полигоне в районе Семипалатинска был произведен подземный ядерный взрыв мощностью до 20 килотонн. До того в течение едва не полутора лет Советский Союз демонстративно не производил никаких ядерных взрывов, призывая к тому и США.
(обратно)20
Имеется в виду дело С. Хабеишвили, одного из секретарей ЦК Компартии Грузии. Еженедельник «Аргументы и факты» в № 11 (21-27 марта) за 1987 г. писал: «Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Грузинской ССР, рассмотрев дело по обвинению С. Хабеишвили, признала его виновным в неоднократном получении взяток от бывших первых секретарей Сигнахского, Телавского и Ахметского райкомов партии Н. Бучукури, А. Кобаидзе и В. Батиашвили на общую сумму 75 500 руб.
Председательствующий оглашает приговор: «Именем Грузинской Советской Социалистической Республики… признать виновным… приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества…»
(обратно)21
Речь о войне, которую Советский Союз вел в Афганистане с 30 декабря 1979 г., когда ударные группы советских сил безопасности взяли штурмом президентский дворец в Кабуле.
(обратно)22
Официальный визит премьер-министра Великобритании Маргарет Тетчер в Советский Союз состоялся в конце марта, начале апреля 1987 г. и, судя по официальным сообщениям, был малорезультативен для обеих сторон.
(обратно)23
ТАССовское сообщение содержит об этом событии следующую информацию: «27 мая в Швецию угнан самолет Аэрофлота АН-2. Эта преступная акция совершена Свистуновым, уволенным в 1985 году из Аэрофлота, 1963 года рождения. Советская сторона обратилась к шведским властям с просьбой о выдаче преступника, а также о возвращении самолета и находящегося на нем имущества.»
(обратно)24
Сообщение ТАСС в «Известиях Советов народных депутатов СССР»: «О НАРУШЕНИИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА СССР. 28 мая 1987 года днем в районе города Кохтла-Ярве воздушное пространство Советского Союза нарушил легкомоторный спортивный самолет, пилотируемый гражданином ФРГ М. Рустом. Полет самолета над территорией СССР не был пресечен, и он совершил посадку в Москве. По данному факту компетентными органами ведется расследование.»
(обратно)25
«Известия Советов народных депутатов СССР» от 31 мая 1987 г.: «В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. Президиум Верховного Совета СССР освободил Маршала Советского Союза Соколова Сергея Леонидовича от обязанностей министра обороны СССР в связи с уходом на пенсию.»
(обратно)26
г. Ижевск (в 1984-87 гг. Устинов). Сообщение о возвращении Ижевску исторического названия было опубликовано в печати 20 июня 1987 г.
(обратно)27
Представителей крымских татар принял в Кремле 27 июля 1987 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Громыко, долгие годы до того министр иностранных дел СССР.
(обратно)28
Крушение поезда № 335 «Ростов-Москва» на станции Каменская 7 августа 1987 г.
(обратно)29
21 октября 1987 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС, обсуждавшем тезисы доклада М. Горбачева на будущем торжественном собрании, посвященном 70-летию Октябрьской революции, 1-й секретарь Московского горкома КПСС Б. Ельцин выступил с критикой деятельности Политбюро и, в частности, одного из его членов – Е. Лигачева. Спустя три недели, 11 ноября на пленуме Московского горкома КПСС Б. Ельцин был снят со своей должности, а позднее выведен и из состава Политбюро.
(обратно)30
Столкновение пассажирского поезда № 173 «Ленинград-Москва» с грузовым поездом на Горьковской железной дороге 24 ноября 1987 г.
(обратно)31
Данная катастрофа произошла 29 ноября в 4.20 утра по местному времени у платформы Руисболо перегона Гардабани – Беюк-Кясик на 39-м километре от станции Тбилиси.
(обратно)32
Во время проходившей 7-13 декабря 1987 г. в Вашингтоне встречи М. Горбачева и Р. Рейгана было подписано соглашение о взаимном уничтожении 50 % ракет средней дальности.
(обратно)33
В феврале 1988 г. армянская часть населения автономной Нагорно-Карабахской области Азербайджанской ССР потребовала переподчинения области Армянской ССР. Армянский погром, во время которого были убиты десятки людей, произошел 28 февраля 1988 г. в Сумгаите.
(обратно)34
Указанное событие произошло 8 марта 1988 г. в самолете ТУ-154, летевшем по маршруту Иркутск-Курган-Ленинград. Угон пыталась совершить семья Овечкиных, о семейном джаз-ансамбле которых, носившем название «Семь Симеонов», был снят фильм, неоднократно показывавшийся по Центральному телевидению Советского Союза.
(обратно)35
Знаменитая статья «Не могу поступаться принципами» преподавателя химии из Ленинграда Нины Андреевой была опубликована в газете «Советская Россия» за 13 марта 1988 г. По слухам, к окончательному варианту статьи приложил руку 2-е тогда лицо во властных структурах партии Егор Лигачев. Пафос статьи состоял в призыве вернуться к «ценностям» сталинской эпохи.
(обратно)36
«Правда», № 96 (25448), вторник, 5 апреля 1988 г. Название статьи: «Принципы перестройки: революционность мышления и действий».
(обратно)37
Статья «Кобры теряют жало», «Правда» за 29 апреля 1988 г. В этот же день и многие другие центральные газеты Советского Союза опубликовали репортажи с «выставки» в Прокуратуре СССР, где следователи Т. Гдлян и Н. Иванов демонстрировали деньги и драгоценности, изъятые у различных партийных боссов Узбекистана в ходе расследования хлопковых афер.
(обратно)38
Решение о выводе советских войск из Афганистана было принято руководством СССР еще в феврале 1988 г. Но реально он начал осуществляться лишь в мае 1988 г. Еженедельник «Аргументы и факты», № 22, май 1988 г.: «На 25 мая на родину из Афганистана вернулось 9,5 тысяч советских солдат и офицеров, выведено около 1 тысячи единиц боевой техники, сказал выступивший на пресс-конференции начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского флота генерал армии А. ЛИЗИЧЕВ.»
(обратно)39
Имеется в виду «Павлоградский химический завод» (г. Павлоград); взрыв произошел 12 мая 1988 г. при проведении погрузо-разгрузочных работ на промежуточном складе промышленных взрывчатых веществ.
(обратно)40
Эта трагедия произошла в ночь с 17 на 18 мая 1988 г. в порту города Осаки с круизным судном «Приамурье». Пожар продолжался тринадцать часов. Погибло одиннадцать человек, один пропал без вести, тридцать пять получили ранения разной тяжести и были госпитализированы. Причину быстрого возгорания судна и невозможности локализовать пожар специалисты усмотрели в сильной изношенности судна, непрерывная эксплуатация которого на указанный момент составляла уже двадцать семь лет.
(обратно)41
В данном случае речь идет о взрыве в Арзамасе 4 июня 1988 г. Причина взрыва заполненных взрывчаткой вагонов осталась неизвестной. В результате взрыва погибло семьдесят три человека, двести двадцать девять человек было госпитализировано с ранениями разной тяжести, еще семьсот человек вынуждено было обратиться за медицинской помощью.
(обратно)42
XIX конференция КПСС проходила в Москве, в Кремлевском дворце съездов 28 июня – 3 июля 1988 г.
(обратно)43
Крушение пассажирского поезда № 159 «Аврора» произошло 16 августа 1988 г. вблизи станции Бологое. В информации, опубликованной газетой «Известия» 20 августа 1988 г., была указана другая цифра погибших: 25 человек. Это, скорее всего, умышленная или неумышленная опечатка. По радио в те же дни сообщалось, что из восьмисот семидесяти пассажиров поезда продолжили свой путь немногим более пятисот, сто семь доставлены в больницы. Несложные арифметические действия дают цифру погибших, указанную в тексте.
(обратно)44
1 октября 1988 г. на внеочередной сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва был освобожден от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР А. Громыко и избран на этот пост – другими словами, главной государства – М. Горбачев.
(обратно)45
Речь о землетрясении в Армении, происшедшем 7-8 декабря 1988 г. и повлекшем за собой колоссальные разрушения. Кроме 70 тысяч погибших, 20 тысяч человек было ранено, полмиллиона осталось без крова.
(обратно)46
На конец 1988, начало 1989 года пришелся настоящий шквал различных теле– и радиопередач, публикаций в газетах и журналах, посвященных советской истории. См. для примера еженедельник «Аргументы и факты», № 2, 14-20 января 1989 г., интервью с первым секретарем ЦК Компартии Украины во времена Н. Хрущева Петром Шелестом, снятым со своей должности еще в начале 70-х гг. и всеми забытым.
(обратно)47
26 марта 1989 г. впервые в истории Советского Союза были проведены выборы народных депутатов СССР на альтернативной основе, когда в списки для голосования было включено несколько кандидатов. Февраль-март были временем активной предвыборной кампании кандидатов в депутаты.
(обратно)48
Кроме как всеобщим, всенародным голосованием депутаты на съезд согласно утвержденному предыдущим Верховным Советом закону избирались еще и от различных общественных организаций. Общее число депутатов, избранных от общественных организаций, составило треть депутатского коорпуса. Больше всего «общественных» депутатов было избрано от Коммунистической партии Советского Союза. Депутатом от КПСС являлся и М. Горбачев.
(обратно)49
Атомная подводная лодка «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 г. в Норвежском море примерно в 180 км к юго-западу от острова Медвежий. Большинство моряков погибло во время пребывания в ледяной воде от переохлаждения организма из-за отсутствия гидрокостюмов с подогревом. Над ними кружили самолеты, сбрасывая спасательные плоты, а у них не было сил до этих плотов доплыть.
(обратно)50
«Столичный город на Кавказе» – Тбилиси, столица Грузинской ССР. Там в течение нескольких дней на одной из центральных площадей шли круглосуточные демонстрации, участники которых требовали отсоединения Грузии от СССР. В ночь с 8-го на 9-е апреля 1989 г. была предпринята попытка вытеснения демонстрантов с площади войсками, для чего задействовали части, вернувшиеся с афганской войны.
(обратно)51
«Два следователя» – Т. Гдлян и Н. Иванов (см. примеч. 37). 15 мая 1989 г. в Прокуратуру СССР обратился член ЦК КПСС Егор Лигачев, требуя расследовать факт выступления Н. Иванова по Ленинградскому телевидению, в котором тот обвинил некоторых членов политического руководства СССР, в том числе и Е. Лигачева, в причастности к делу о взяточничестве в Узбекистане. Через два дня, 17 мая, с подобным же заявлением в Прокуратуру СССР обратился М. Соломенцев, также член Политбюро ЦК КПСС в недавнем прошлом. 20 мая газета «Правда» под заголовком «В Президиуме Верховного Совета СССР» за подписями одиннадцати человек, среди которых были Генеральный прокурор СССР А. Сухарев, министр внутренних дел В. Бакатин, министр юстиции Б. Кравцов, председатель КГБ В. Крючков, опубликовала текст заявления срочно созданной комиссии по проверке жалоб на следственную работу Т. Гдляна и Н. Иванова. Основной вывод комиссии состоял в следующем: «…полагали бы необходимым: Поручить Прокуратуре СССР организовать тщательную проверку всех заявлений и сообщений о нарушениях законности Гдляном и Ивановым при расследовании ими уголовных дел».
(обратно)52
«Уроженец этих же гор» – разумеется, И. Сталин. Упомянутая резня произошла 3-4 июня 1989 г. в нескольких городах Ферганской области (Узбекская ССР): Фергане, Коканде, Яйпане. ТАСС сообщил об этом следующим образом: «…экстремистскими элементами спровоцированы беспорядки на межнациональной основе, которые сопровождаются многочисленными избиенями граждан, поджогами домов и автомобилей». («Правда» от 5 июня 1989 г.).
(обратно)53
«От ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Совета министров СССР. 3 июня в 23 часа 14 минут по московскому времени на продуктопроводе сжиженного газа в непосредственной близости от участка железной дороги Челябинск – Уфа в результате аварии возникла сильная утечка газа. При прохождении двух встречных пассажирских поездов назначением Новосибирск – Адлер и Адлер – Новосибирск произошли взрыв большой силы и возгорание. Имеются многочисленные жертвы». (газета «Московская правда» от 6 июня 1989 г.).
(обратно)54
I-й съезд народных депутатов СССР начал свою работу 25 мая и закончил 9 июня 1989 г.
(обратно)55
Имеется в виду Андрей Дмитиевич Сахаров.
(обратно)56
Во время визита в Восточную Германию (7-8 октября 1989 г.) М. Горбачев заявил, что Берлинская стена, разделяющая Берлин на восточный и западный секторы, необходима для сохранения стабильности в Европе. Вместе с тем при разговоре на улице с простыми немцами в ответ на их сетования, что в ГДР, в отличие от СССР, нет перемен, сказал, что дело перемен в стране – в их собственных руках. Менее чем через месяц Берлинская стена была разрушена толпами молодежи, руководитель страны Э. Хоннекер арестован, и начался стремительный процесс воссоединения Восточной Германии и Западной. Осенью этого же 1989 г. в Чехословакии произошла «бархатная революция», в результате которой к власти пришли противники коммунистического режима, президентом был избран диссидент, недавний политзаключенный, драматург В. Гавел. В Румынии 22-24 декабря 1989 г. вспыхнуло народное восстание, сопровождавшееся многочисленными жертвами. Был создан Фронт национального спасения, который возглавил опальный функционер бывшего руководства страны И. Илиеску. Арестованный глава страны, руководитель национальной компартии Н. Чаушеску после скорого (длительностью примерно час), наспех организованного суда явной политической окраски был расстрелян вместе с женой. Суд и расстрел были засняты на пленку французскими тележурналистами и показаны после телевизионными компаниями всего мира, в том числе и телевидением СССР.
(обратно)57
Во время проходившей в конце декабря 1989 г. встречи М. Горбачева и нового президента США Д. Буша, который сменил на этом посту Р. Рейгана, состоялось подписание межгосударственных документов, практически, положивших конец длившейся сорок с лишним лет «холодной войне».
(обратно)58
Муж Альбины имеет в виду заседания съездов народных депутатов СССР. 12-24 декабря 1989 г. в Москве проходил 2-й съезд народных депутатов.
(обратно)59
А.Д. Сахаров умер 14 декабря 1989 г. в возрасте 68 лет.
(обратно)60
В течение нескольких дней, 15-18 января 1990 г., в столице Азербайджанской ССР Баку шли армянские погромы. Было убито несколько десятков человек, несколько тысяч армян бежало из города. Первый такой погром имел место в г. Сумгаите 28 февраля 1988 г. (см. примеч. 33).
(обратно)61
Войска Советской армии были введены в Баку уже практически после завершения погромов, когда в городе некого больше было защищать, – в ночь с 20 на 21 января 1990 г. Войска, однако, были проинформированы, что идут для пресечения погромов, и действовали в соответствии с полученной информацией.
(обратно)62
Прошедший в январе 1990 г. Пленум ЦК КПСС признал необходимость упразднения из Конституции СССР статьи 6-й, где говорилось о руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества, а также согласился с принципиальной возможностью существования других партий помимо коммунистической.
(обратно)63
XXVIII съезд КПСС, которому суждено было стать последним, проходил в Москве, в Кремлевском дворце съездов с 2-го по 10 июля 1990 г.
(обратно)64
12-15 марта 1990 г. в Москве состоялся 3-й, внеочередной съезд народных депутатов СССР, на котором М. Горбачев был избран Президентом СССР. Выдвижение его кандидатуры на этот высший властный пост сопровождалось сильным противодействием тому со стороны большого количества депутатов. На XXVIII съезде КПСС он был вновь избран также Генеральным секретарем Центрального комитета партии, несмотря на наличие сильной оппозиции ему в высших эшелонах партийной власти.
(обратно)65
Еще 23 августа 1989 г., в день 50-летия подписания договора о ненападении и дружбе между фашистской Германией и СССР («Пакт Молотова – Риббентропа), во всех трех прибалтийских республиках СССР была проведена массовая акция «живая цепь», когда люди, взявшись за руки, на 15 минут образовали непрерывную человеческую цепочку, протянувшуюся по всей Прибалтике на 600 километров. Смысл акции был в протесте против присоединения прибалтийских республик к СССР в 1940 году. В акции приняло участие около 250 тысяч человек. 11 марта 1990 г. Верховный Совет Литвы принял декларацию о государственной независимости Литвы и выходе ее из состава СССР. В течение весны 1990 г. о практическом отсоединении от СССР объявили и Латвия с Эстонией.
(обратно)66
«ОШ, г.ц. Ошской обл., на р. Акбура. Ж.-д. ст. 165 т. ж. (1978). Текст. и шёлк. комб-ты, хл. – очистит. з-д. Маш-ние, пищ. пром-сть, Пед. ин-т, 2 театра. Изв. с 9 в. ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Кирг. СССР. 73, 9 т. км кв. Нас. 1540 т. ч.(1978), гор. 31 %, 10 гор. Ц. – Ош. Расположена в горах Тянь-Шаня, Памиро-Алтая и Ферганской долине. Ср. темп. – ра янв. на выс. 500-1100 м – 3 град. С, июля 24-27 град. с. Осадков 400-600 мм в год… Награждена орд. Ленина (1966). Карту см. на стр. 965.» («Советский энциклопедический словарь», издательство «Советская энциклопедия», М., 1980). В июле 1990 г. в области на территориях компактного проживания узбеков имели место столкновения на национальной почве между киргизами и узбеками. В центральной печати упоминания о происшедшей резне были крайне скупы. Приводимая в тексте цифра в 500 человек убитых соответствует данным средств массовой информации.
(обратно)67
Неправительственная программа экономических реформа, так называемая «Программа 500 дней (Шаталина – Явлинского)», в которой детально прорабатывался переход советской экономики на рыночные рельсы в максимально сжатые сроки, была отвергнута всеми властными структурами СССР и вместо нее принята программа тогдашнего премьер-министра Н. Рыжкова. Итогом реализации правительственной программы стало разрушение советской экономики уже несколько месяцев спустя, к весне 1991 г.
(обратно)68
Указанные события произошли в столице Литвы Вильнюсе в ночь с 12 на 13 января 1991 г. За несколько дней до того там был образован анонимный «Комитет национального спасения», объявивший о том, что берет власть в республике в свои руки. Штурм телецентра был частью акции комитета «по возвращению зданий, принадлежащих КПСС и военным организациям».
(обратно)69
Поздним вечером 20 января 1991 г. отряд милиции особого назначения (ОМОН) в столице Латвии Риге взял штурмом здание Министерства внутренних дел республики. Неизвестными лицами в гражданском обстреливалось здание прокуратуры Латвийской ССР. Незадолго до того в Риге по образцу Литвы был также создан «Комитет национального спасения».
(обратно)70
В ночь с 16.01. на 17.01.91 г. началась американо-иракская война, продолжавшаяся около полутора месяцев и получившая название «Войны в заливе». Целью войны было освобождение захваченного ранее Ираком Кувейта. Почти вся война имела характер воздушной: уничтожались боевые объекты Ирака, его военная техника, с тем чтобы при проведении впоследствии сухопутных операций иракцы не могли оказать сколь-либо серьезного сопротивления.
(обратно)71
14 января Б. Ельцин, являвшийся в то время главой российского парламента, на собранной им пресс-конференции зачитал обращение к российским военнослужащим, находящимся на территории Прибалтики, где призвал их не стрелять в безоружных людей. После событий 20-21 января в Риге в латвийский парламент от него пришла телеграмма со следующими словами: «С тревогой и болью воспринимаю происшедшие в Риге трагические события. Осуждаем применение оружия против мирного населения…» («Известия» от 22 января 1991 г.).
(обратно)72
Вскоре после выступления Б. Ельцина по телевидению с критикой М. Горбачева в печати появилось так называемое «письмо шести», в котором шесть членов Президиума Верховного Совета РСФСР (Российской советской федеративной социалистической республики) заявили протест против действий Б. Ельцина, призвав к его переизбранию. По их инициативе 28 марта 1991 г. был собран внеочередной съезд народных депутатов России – с единственной целью: сместить Б. Ельцина. С незначительным перевесом голосов Б. Ельцину удалось удержаться на своем посту главы Верховного Совета. В день открытия съезда в Москве состоялся многотысячный митинг в поддержку Б. Ельцина. Дабы воспрепятствовать его проведению, весь центр столицы был перекрыт военными грузовиками. Численность привлеченных к операции войск составила, должно быть, несколько десятков тысяч человек. Автор собственными глазами видел на нескольких центральных улицах стоявшие у обочин, вплотную одна к другой, километровые вереницы военных машин с солдатами.
(обратно)73
14 января 1991 г. Верховный Совет СССР утвердил по представлению М. Горбачева премьер-министром СССР Валентина Павлова, бывшего до того министром финансов. Делая доклад на объединенном Пленуме Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии КПСС 24 апреля 1991 г., В. Павлов выступил, по сути, с ревизией прежнего экономического и идеологического курса М. Горбачева.
(обратно)74
На объединенном Пленуме Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии КПСС, проходившем 24-25 апреля 1991 г., М. Горбачев заявил о своей отставке с поста Генерального секретаря партии. Отставка, однако, не была принята. Свое заключительное слово на Пленуме М. Горбачев, не называя имени В. Павлова, посвятил, практически, полемике с фундаментальными положениями его доклада.
(обратно)75
В преддверии всенародных выборов Президента РСФСР, состоявшихся 12 июня 1991 г., кандидатами в президенты была развернта активная предвыборная кампания. Президентом РСФСР на выборах был избран Б. Ельцин.
(обратно)76
18 августа 1991 г. М. Горбачев был взят под необъявленный домашний арест на своей даче в местечке Форос (Крым). У него были отключены все средства связи с миром, никто из находящихся на даче вместе с ним, включая и его самого, не мог покинуть пределов дачной территории. В ночь с 18-го на 19-е начались события, названные позднее «путчем». Временный орган управления страной – Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) – возглавил второе лицо во властных структурах СССР, вице-президент Г. Янаев, избранный им по предложению самого М. Горбачева в декабре 1990 г., бывший комсомольско-профсоюзный функционер. В специальном указе Г. Янаева было объявлено о неспособности М. Горбачева осуществлять президентские обязанности в связи с болезнью, а «Постановлением № 1» комитета «всем органам власти и управления Союза ССР» предписывалось «обеспечить неукоснительное соблюдение режима чрезвычайного положения в соответствии с Законом Союза ССР «О правовом режиме чрезвычайного положения». Овладеть реальной властью в стране ГКЧП не сумел. Российские республиканские структуры власти, возглавляемые Б. Ельциным, не признали законности ГКЧП. Введение в Москву танков утром 19 августа ГКЧП, по всей видимости, рассматривало прежде всего как меру устрашения. Не решившись на большую кровь, которая была неизбежна в случае штурма здания Верховного Совета РСФСР («Белого дома»), т. к. на площади перед ним собралась многотысячная толпа, члены ГКЧП отправились в Форос возвращать власть М. Горбачеву, где 21 августа и были арестованы силами безопасности, подчиненными российским республиканским властям.
(обратно)77
23 августа 1991 г. Б. Ельцин как Президент РСФСР издал указ о запрещении деятельности Российской коммунистической партии (РКП).
(обратно)78
1 декабря 1991 г. на Украине состоялся референдум, в ходе которого подавляющая часть голосовавших высказалась за выход Украины из СССР.
(обратно)79
8 декабря 1991 г. главы трех республик СССР – Б. Ельцин (Россия), С. Шушкевич (Беларусь), Л. Кравчук (Украина) – на встрече в Вискулях (Беловежская пуща), бывшей резиденции Н. Хрущева, где тот любил охотиться, подписали «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств», которым СССР был практически упразднен.
(обратно)80
Вслед за «Соглашением о создании Содружества Независимых Государств», принятом 8 декабря 1991 г., 21 декабря 1991 г., в субботу, в столице бывшей Казахской ССР Алма-Ате была принята «Алмаатинская декларация», текст которой уже окончательно зафиксировал конец СССР. «Алмаатинскую декларацию» в отличие от «Соглашения…» подписали не три, а одиннадцать новых самостоятельных государств, бывших республик СССР: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




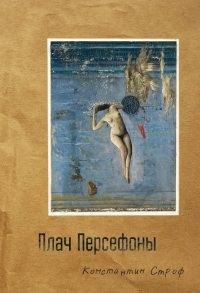

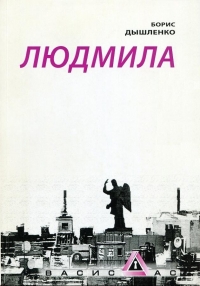
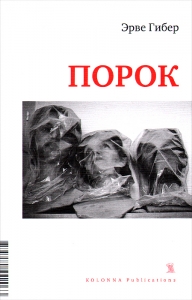


Комментарии к книге «Стражница», Анатолий Николаевич Курчаткин
Всего 0 комментариев