Анатолий Курчаткин Записки экстремиста
© А. Курчаткин 2017
* * *
Глава первая
1
Мне было тогда немного за двадцать, я только что отслужил в армии.
Кто знает это чувство свободы, что пьянит и кружит голову после казарменного затворничества, тот поймет меня. Человеку, обуянному этим чувством, под силы своротить горы и повернуть реки, было бы лишь кому поставить перед ним подобную цель.
– Слышал? – сказал отец, бросая мне обмявшуюся в его руках, всю в заломах и перегибах «Вечерку», нашу вечернюю городскую газету, – из всех газет в ту пору я заглядывал в нее одну: там печатали всякие затейливые статеечки «На тему морали», рекламу фильмов на предстоящую неделю с пересказом их содержания и заметки «Из зала суда». – Метро у нас строить будут.
– Ну да?! – довольно экспрессивно, должно быть, воскликнул я, с горячностью гончей зарываясь взглядом в мешанину теснящих друг друга заголовков. – Где напечатано?
– Да вон, «Метро в нашем городе, на третьей странице, – сказал отец.
Я увидел. «Метро в нашем городе» стояло жирно над небольшой заметочкой, и там сообщалось, что город наш давно уже задыхается без современного вида транспорта, что терпеть подобное положение дальше нельзя, и принято, наконец, решение о начале изыскательских работ, о подготовке проекта и, возможно, лет через пять-шесть можно будет приступить к строительству.
– Ну-у, через пять-шесть, – разочарованно протянул я, отбрасывая газету.
– А что же ты думал? Проект сделать, в рабочих чертежах исполнить да ассигнования получить… да если через шесть лет – так это хорошо, – сказал отец.
– А что, и больше может пройти?
– Спокойно, – сказал отец. – Не знаю я наши сроки, что ли. Десять лет – хочешь? А то и пятнадцать.
Десять? Пятнадцать? Замогильным холодом, зияющим космическим мраком пахнуло на меня от этих цифр. Мне было двадцатьс небольшим, и «пятнадцать» – это равнялось едва не всей моей жизни, а она была такой большой, долгой, так далеко отстояли в ней «я», начавший удерживать себя в памяти, и «я» нынешний… ждать метро еще почти столько же, сколько я уже прожил. И не самого метро, а только начала строительства!
Нет, я не мог ждать.
Может быть, я и не принял бы так близко к сердцу газетное известие, если бы не один случай.
По утрам, в час пик, на остановках трамваев, троллейбусов, автобусов в нашем городе творилось светопреставление. Там натекали обычно целые людские озера; трамваи, троллейбусы, автобусы подходили один за другим, целыми косяками, и вычерпать эти озера никак не могли. Двери у них не закрывались, несмотря на громыхающую ругань водителей в динамиках, потому что на каждой из подножек висело по целой людской грозди; и по целой грозди висело на горбатом троллейбусном загривке с лестницей на крышу, и на трамвайной «колбасе», и даже на гладком автобусном задке, где вроде совершенно не за что уцепиться, даже там ухитрялись повиснуть два-три пэтэушника.
Н трамвайной «колбасе» и троллейбусном загривке ездил неоднократно при нужде и я сам. Ездил себе и ездил, эко дело – на «колбасе», подумаешь, и я думать не думал о транспортных бедах нашего города. И так вот я ехал однажды на этой железной штанге – удобно утвердясь на ней обеими ногами, – а рядом со мной, с краю, ехал пожилой мужчина. Двум его ногам места на штанге не было, и он стоял на ней лишь одной, а другую пристроил на каком-то еле заметном выступе трамвайного тела. Мы еще с ним говорили о чем-то, коротая путь, он отнял руку от железного прута, за который держался, чтобы почесать нос, и тут трамвай, как это с ними бывает на поворотах, резко и сильно болтануло. Нога мужчины сорвалась с еле заметного выступа, пальцы второй руки, не очень, видно, крепко сжимавшие прут, разжало, и его, развернув в воздухе, сбросило на соседнюю колею, и страшно заверезжавший тормозами встречный трамвай подмял его под себя. А моя рука запомнила судорожное гребущее движение, каким инстинктивно, помимо моей воли, хотела ухватить мужчину, не дать ему упасть, но в горсть ей попал только голый воздух.
– Чего это тебе десять, пятнадцать лет – долго? – спросил отей. – Доживешь, чего тебе это долго. Еще и не старым будешь. Это вот мы с матерью… мы едва ли дотянем.
Отец у меня был человеком весьма не сентиментальным, скорее грубоватым даже, что шло, должно быть, от его профессии хирурга, а в его обращении со мной всегда сквозило словно бы некое пренебрежение сильного к слабому.
– При чем здесь это – доживу, не доживу? Разве только в том дело, чтобы самому прокатиться? – сказал я.
– Да? А в чем еще? – спросил отец.
Я не стал отвечать ему. Меня покоробила его интонация. Будто он делал, делал какую-то операцию и вдруг обнаружил что-нибудь вроде второй селезенки или третьей почки: «А это-то откуда?!»
Но в голове у меня в тот момент уже возник план. Вернее, не возник, а просто я услышал внутри себя словно бы некий хлопок, словно бы несильный, но явственный взрыв, и сквозь волнующееся дымное облачко его просквозили туманно очертания этого самого плана. Минул день, другой, облачко мало-помалу рассеивалось, и детали того, что оно окутывало, проступили отчетливо и резко.
Я тогда учился в университете, на философском, восстановившись в студентах после своего армейского отсутствия. Но, видимо. Каждому овощу свое время, вот и мне приспела пора учить диалектику не только по Гегелю. А если б не так, разве бы отдалась во мне эта новость о метро таким яростным желанием действия, разве бы это желание отлилось в такую конкретную, твердую форму?
Через неделю, уйдя с лекции после второй пары, чтобы был самый разгар дня, полуденная пора, я стоял у парадного подъезда массивного серого здания, за высокими дубовыми дверями которого, с подножием из широкой гранитной лестницы, скрывалось святилище городской власти. На груди и спине у меня, скрепленные переброшенными через плечи веревками, висело по транспаранту. На одном из них я написал: «Хватит трамвайных жертв!» «Метро нужно городу немедленно!» – было написано на другом.
Вместе со мной на демонстрацию к дому власти вышло еще пять человек. Оказывается, не одного меня это сообщение о метро тряхнуло как током, оказывается, у многих уже горело, и найти единомышленников не составило большого труда. Двое из этих пятерых были моими товарищами по курсу, так же, кстати, как я, отслужившие недавно срочную в армии; они умудрились раздобыть где-то красную материю, раскроили ее, укрепили на древках и стояли сейчас на нижней ступени лестницы, высоко подняв над головой полотнище: «Оттягивать строительство метро – преступление!»
У стража порядка, вынырнувшего из двери и сбежавшего к нам по лестнице, был совершенно обескураженный вид.
– Чиканулись, ребята? – спросил он. – Я сейчас сообщу, вас хаметут, жизни вам больше не будет! Уносите отсюда ноги, пока добром говорю.
Никто из нас не отозвался на его слова. Мы заранее решили поступить именно так. Что попусту тратить силы? Разговаривать мы собирались только с представителями властей.
– Ребята, – сказал страж, – второй и последний раз говорю: смывайтесь добром. Не будет жизни!
Он не особо повысил голос, так, не очень громко сказал, но в толпе, что уже собралась в отдалении на тротуаре, услышали.
– А что ты их стращаешь! – закричали оттуда. – Они что, окна бьют? Стоят себе и стоят! А без метро и так никакой жизни нет, что, не так, что ли?!
– Я предупредил, – сказал страж и пошел быстрым шагом по лестнице вверх.
Он скрылся за высокой тяжелой дверью, и из толпы нам стали советовать:
– Сматывайтесь, ребята! Постояли и хватит! Вам что, ребята, не жаль себя, что ли?!
Жаль, жаль себя было – ужас как. Страшно было – не описать, потому что будто в пропасть ступил, знал, что в пропасть, и ступил, и вот завис на мгновение в воздухе – и сейчас грянешь вниз… а и восторг был в этом диком страхе: и гряну!
Из шестерых нас все же осталось четверо. Двое не одолели своего страха; будто переминаясь с ноги на ногу, пряча друг от друга глаза, они отдалились от нас на шаг, другой, третий… и смешались с толпой.
А нас четверых через некоторое время отвезли в отделение, составили протокол о нарушении общественного порядка, и ночь мы провели в камере.
Глухое, смертельное отчаяние навалилось на нас, когда мы оказались в ее каменном мешке. Все наши силы ушли на то, чтобы отстоять свое у дома власти, перемочь свой страх, не броситься в толпу следом за теми двумя, и на борьбу с отчаянием ничего не осталось, никаких сил. Отсюда, из замкнутого тесного пространства с узким отверстием в мир, забранным решеткой, с пронзительной, вынимающей душу ясностью увиделось то, о чем до нынешнего момента никто из нас не догадывался: жизнь разломилась для нас на ту, что была до, и ту, что настает отныне. И эта новая жизнь, которой отныне нам предстояло жить, была сплошным мраком, черной неизвестностью, бездонным провалом в кромешную темь…
2
Утром нас выпустили, взяв подписку о невыезде.
Отец, когда я вошел в дом, сидел на табуретке в прихожей. Было похоже, он просидел здесь, ожидая меня, все это время – с той самой поры, как нас привели в отделение и, проверяя сообщенные мною сведения о себе, позвонили по телефону домой. Видимо, он не пошел нынче и в больницу – хотел дождаться меня. Правая его рука, большая, белая, ухоженная рука хирурга, свисала с колена с каким-то таким видом, будто собиралась сейчас же вкатить мне оплеуху.
Наверное, он и хотел вкатить мне оплеуху. Но удержался.
А вот от крика не удержался. Нет.
– Свистун! – кричал он мне. – Тарахтелка пустая! Да мало ли где кого как задавит! Ко мне привозят: на линолеуме в квартире у себя поскользнулся – и перелом основания черепа! Против производства линолеума теперь выступишь?! А еще один в патрон палец сунул, контакт отжимал, его током тряхнуло, еле отходили – против электричества станешь бороться?
– Не путай хрен с редькой, – сказал я.
– А их и путать нечего! – немедленно ответил он мне. – Одного другого не слаще! Дело свое нужно делать! Дело! Свое! Ясно? И станет каждый делать свое дело, вот и будет все толком. И метро вовремя, и люди живы! А вот такие, как ты, лезут не в свое дело – и выходит бардак! Бардак, запомни, заруби себе на носу!..
Я ушел из дома. Не знаю, как бы поступил на моем месте другой. Я ушел. После такого я не мог оставаться.
Из университета я не уходил. Оттуда меня вышибли. Как и двух моих товарищей-сокурсников. А четвертый, приятель одного из моих сокурсников, работавший инженером на одном из заводов нашего города, угодил под срочно разразившееся сокращение штатов.
Урок нам был преподан что надо. Никому я не пожелаю такого урока.
Но произошло необыкновенное.
На что никто из нас не рассчитывал.
О чем мы и думать не думали, потому что, выходя на ту демонстрацию, даже не смели заглядывать вперед: а что будет после? Дальше самой демонстрации мы не загадывали.
Но она, оказывается, явилась тем самым крошечным, малым кристалликом, что, попав в перенасыщенный раствор, вызывает бурную и уже неостановимую реакцию.
Спустя неделю после нашей демонстрации у дома власти состоялась новая. Ее пресекли точно так же, как и нашу. Но тогда, спустя еще недолгое время, по всему городу появились листовки. Их находили на подоконниках в подъездах домов, на садовых скамейках, в укромных уголках магазинных прилавков. В листовках повторялись все наши лозунги и предлагалось, как там было написано, всем честным гражданам города в ближайшее воскресенье выйти на улицы и прошествовать к дому власти на митинг, чтобы там потребовать от властей ускорения строительства метро. И еще поползли, переходя из уст в уста, слухи, будто бы все изыскательские работы давным-давно проведены и давно существует даже рабочий проект метро, однако по непонятной причине он положен под сукно и лежит там уже который год, а недавнее сообщение в газете – абсолютно ложное сообщение, и цель его, скорее всего, – дезориентировать тех, кто о том проекте знал, кто, судя по всему, и вышел на ту, первую демонстрацию.
Слухи эти нас четверых немало повеселили. «Не совсем еще дезориентировался? Понимаешь, что к чему, откуда дети берутся?» – так примерно шутили мы теперь друг с другом. Мы теперь, всем четверо, были постоянно вместе, сняв для жилья пустующий дом в пригороде; случившееся спаяло нас, как вольтовой дугой.
«Вольтово братство» – так мы себя и называли. Вообще после той ночи в камере у нас как-то сразу пошли в ход прозвища, и я стал Философом, мои товарищи по курсу, милостиво уступившие мне право зваться им, как мог бы каждый из них, сделались Магистром и Деканом, а четвертый как единственный среди нас с техническим образованием, разумеется, получил прозвище Инженера.
В воскресенье, еще задолго до означенного в листовках времени, мы отправились к дому власти. И только тут, оказавшись на улицах, прилегающих к площади, на которой стоял массивный серый дом с широкой гранитной лестницей парадного подъезда, мы поняли, какую реакцию запустили. Улицы были полны народу. И все шли только в одну сторону, к площади.
А сама площадь была уже вся запружена толпой, и свободное пространство осталось лишь около массивного серого дома – потому что вокруг него, на расстоянии метров пятнадцати, стояла цепь солдат. Солдаты были молодые ребята, как сам я год-два назад, и на лицах у них горело выражение опасливого, затаенного любопытства.
Найти бы их, кто это все организовал, переговаривались мы друг с другом. Вместе бы с ними…
Те, кто это организовал, обнаружились с полчаса спустя.
Вдруг в одном из концов площади над колышущейся толпой возвысилась человеческая фигура, рассекла воздух митинговым жестом руки, выкрикнула что-то – и вся площадь разом подалась туда, в короткий миг уплотнившись в жаркий, тугой человеческий ком.
Кто не знает этого восхитительного, великолепного единения с тысячной толпой, полного, до последнего атома твоего тела слияния с многоруким, многоглавым ее телом, когда ты сам по себе, как отдельная личность, становишься ничем, перестаешь существовать, сделавшись собственно толпой, ее силой, ее желаниями, ее волей… кому не довелось изведать этого чувства, мне очень жаль того…
Коротко стриженные, гладко выбритые молодые люди с военной выправкой, одетые в гражданское, рвались через толпу к человеку, поднявшемуся на какое-то возвышение, но толпа не пропускала их. Они завязли в толпе, как в топком болоте, били локтями и пинали ногами, но тумаки посыпались и на них, и они увязли.
И тогда кто-то из них выстрелил. Раз. И другой.
Должно быть, он выстрелил в воздух, но когда стреляют так рядом, так близко, то кажется, будто стреляли в тебя. И если не попали сейчас, то следующим выстрелом попадут наверняка.
Дикий, страшный вопль разодрал воздух над площадью. Все разом зашевелились, заворочались, толпа пришла в движение и стала разваливаться, а еще через мгновение все вокруг бежали. И только те, коротко стриженные и одетые в гражданское, бежали к центру толпы, а не от нее, стремясь, должно быть, взять того, стоявшего на возвышении.
Велика сила толпы: захваченный ее инстинктом, бежал и я, растеряв по дороге своих товарищей.
Потом я шел в одиночестве по улице, и меня мял, скручивал душу жгутом нестерпимый стыд. Не с площади я должен был бежать, а туда же, куда и эти коротко стриженные, быть вместе с теми, к кому они рвались, присоединиться к ним, разделить их долю…
Кто-то тронул меня сзади за плечо и назвал по имени.
Вздрогнув, я повернулся.
Передо мной стоял крепкий рослый парень, мой сверстник, и я подумал, что, если это один из тех, одетых в гражданское, мне с ним не справиться и не убежать от него.
Однако я отозвался на свое имя. Кем бы он ни был, чего уж тут было таиться, раз он знал, кто я.
– У вас взгляд такой характерный, – сказал он. – С таким прищуром… Я вас по взгляду узнал. Мы вас ищем все это время, никак найти не можем.
Я выжидающе смотрел на него, не отвечая. На этих коротко стриженных он не был похож. Но кто «мы», почему искали и как он мог узнать меня по взгляду, если мы с ним не знакомы и я вижу его впервые?
– Сегодняшнее – это наша работа, – сказал он, усмехаясь и кивая в сторону площади. – А вы студент, в первой демонстрации участвовали, мы ваши фотографии даже достали, а вас самих – нигде: ни дома, ни на учебе.
– А кто еще был со мной? – недоверчиво спросил я.
Он назвал мне имена всех остальных.
– Это откуда ж у вас такие сведения?
Теперь он засмеялся:
– Думаете, это сложно? Нужно только заняться!
3
Грузноголового пожилого человека с яркими серыми глазами в зарослях его буйной, вольно растущей седой бороды все называли Волхвом. И для меня он тоже на всю жизнь остался Волхвом, хотя, конечно, никогда я к нем так не обращался.
Вот говорят: поколение романтиков, поколение циников, поколение прагматиков – я в это не верю. Поколение не бывает монолитно-единым. Просто из-за условий времени на виду бывает какой-то один человеческий тип, а изменится время, и глядишь, поколение делается другим. И никакого тут чуда. Это всплыл на поверхность совсем иной тип. И лишь. Мой отец и Волхв были людьми одного поколения, но ничего общего между ними не было. Ничего!
Крохотная его бедная комнатушка вмещала в свой коробо́к диван, несколько стульев, старый овальный стол, служивший ему и для еды, и для работы, подпотолочные стеллажи с книгами вдоль одной из стен – и это все.
Будто всего лишь вчера случилась, вижу я ту, первую встречу с ним нашего Вольтова братства.
Он многое тогда объяснил нам. Мы были настоящими слепыми щенками до его рассказа.
Оказывается, наше метро, еще не начавши строиться, уже имело целую историю!
– Сообщение об изыскательских работах – вот, – положил Волхв на стол перед нами изжелтившуюся, ломкую газетную вырезку. – Единственное сообщение в строительной многотиражке. Какой у нее тираж? Неудивительно, что никто не знает. А вот и свидетельство об имеющемся проекте, – подал он нам лист фотобумаги, и это оказалось фотокопией титульного листа документа, который имел название «Смета на строительно-монтажные работы по сооружению метрополитена в городе…», и в числе прочих – ясно и четко выведенную подпись нынешнего главы города. – Не было бы проекта, не было бы, разумеется, и сметы, – сказал Волхв. – Но есть и другие свидетельства. Вот такое, между прочим. – Он достал из папки захрустевший под его руками лист белейшей лощеной бумаги, развернул его – это был ответ городского отделения Стройбанка на обращение гражданина такого-то, то есть самого Волхва, в котором Стройбанк сообщал, что финансирование работ по строительству метрополитена прекращено в связи со специальным постановлением городских властей.
Он имел их целую кипу, таких вот официальных бумаг. И в большинстве сообщалось одно и то же: да, метро городу, безусловно, необходимо, но вопрос о нем находится пока на стадии обсуждения, – и так уже чуть ли не десять лет все минувшие годы. Они были похожи друг на друга, как дождевые капли, все эти ответы. Отправленные из разных мест, истинное свое рождение они все получали в каком-то одном месте.
И наверное, если бы не сумасшедшее упорство, с которым Волхв продолжал стучаться во все ответственные двери, напоминая о давнем сообщении не ведомой никому многотиражной газеты, так бы вся эта история со строительством метро и легла на дно Леты каменным грузом, исчезла навсегда под ее темными водами, будто ничего и не было. Но, видимо, его сумасшедшее упорство и впрямь показалось кому-то маниакальным, и после очередной его беседы в высоком кабинете было решено покончить с ним, наконец, раз и навсегда, опубликовав ту самую, десятилетней давности информацию о метро из многотиражки в газете большой. Должно быть, человеку из высокого кабинета помни́лось это очень удачным и полным иронии ходом: жаждете широкой информации? Вот она! А то, что она лишь повторяет ту, прежнюю, – что ж такого! Вы хотели – и получили! Чем владеем, то и даем!
Но это-то Волхву и было нужно. Эффект от публикации сообщения оказался именно таким, на какой он и надеялся. Единственно, чего он не знал: какова будет реальная форма действий? И уж тем более не знал, что за люди предпримут их.
– Но почему все-таки, – спросил я, – было принято постановление о прекращении работ?
В ярких серых глазах Волхва загорелся черный огонь.
– Я очень долго задавался этим вопросом, молодой человек. Пытался понять: может быть, какие-нибудь ошибки в проекте, нехватка средств… Но об этом никто никогда ни в одном ответе даже не помянул. Хотя, казалось бы, чего проще: вот причина, и вали на нее. А потом, наконец, до меня дошло: оно им просто не нужно, метро. Вот он, ответ: просто не нужно! Они ведь не ездят трамваем. Ни трамваем, ни троллейбусом, ни автобусом. Они персоналками ездят. На мягких сиденьях. Так зачем им метро? Такое строительство, такие заботы, такой хомут на шею… Зачем?!
– Логично, – сказал Магистр. – И убедительно. Я лично другого объяснения тоже не вижу.
Черный огонь в ярких глазах Волхва обжигал почти физическим жаром.
– Мы должны взять ситуацию в свои руки, – медленно, внушающее, по очереди оглядев нас всех, проговорил он. – Если мы не сделаем этого, не видать городу никакого метро. Ни через пять лет, ни через пятьдесят. Наша задача сейчас – раскачать народ. А люди к тому готовы. Каждый приходит в этот мир, чтобы совершить в нем что-то. Кому выпадает маленькое дело, кому большое. Нам выпало большое. Возможно, оно потребует от нас всей нашей жизни. И что ж?! Если это действительно Дело, оно стоит того, чтобы положить на него жизнь.
Такими были интонации его голоса, что, когда он произнес «Дело», не возникло никакой необходимости добавить сакраментальное: «С большой буквы». Он сказал: «Если это действительно Дело», и последнее слово так и возвысилось над другими.
– Сейчас самое важное, чтобы они признались: существует проект! – с яростью выкрикнул Рослый – тот самый парень, что опознал меня на улице в день митинга. Крепкий и рослый, отметило тогда мое сознание, лихорадочно решая, как быть, как вести себя, если он из тех, коротко стриженных, и второе из этих определений, которыми я подумал о будущем своем ближайшем друге, срослось с ним навсегда. – Сумеем вынудить их признаться – заставим их, значит, в конце концов и начать строительство.
– Ничего подобного, – сказал Волхв. – Раз они не хотят строить, они будут кормить нас одними обещаниями… и ничего, кроме обещаний! Вынудить признаться – что да, есть проект, – это сейчас, конечно, важнее всего. Но потом… получить его – и начать строить самим, без всякого их благословения. Разжечь в народе энтузиазм, увлечь за собой! Стать землекопами, проходчиками, бурильщиками… кем там еще? Люди пойдут на нами, уверен!
Увлечь за собой! Стать землекопами, проходчиками, бурильщиками… Как он умел говорить! Какой силой, какой мощью веяло от его слов!
– Но как сделать, чтобы они признались в существовании проекта? – возбужденно спросил Декан. Его лежащие на столе руки, казалось, дрожали от еле сдерживаемого желания действия.
– Заставить! – сжав кулак, выбросил его перед собой Волхв. И снова по очереди оглядел нас всех. – Другого способа нет. Только заставить!
Глава вторая
1
Утро занималось туманное, сизо-холодное, мозглое утро осеннего дня, – но ударило солнце, и туман засквозил охрой, и отжившая свой срок, умершая листва деревьев радостно засветилась желтым, влажно заиграла трепещущей своей ячеей, уже основательно прореженной ночными ветрами.
Я стоял на краю котлована, распахнутое земное нутро щерилось вблизи рыжими прутьями арматуры, лохматыми досками опалубки, уже отлитыми бетонными ребрами стенок и перемычек, а за пределами пятнадцати – двадцати метров все утопало в этом огненно-сизом тумане, будто котлован был беспределен, уходил в бесконечность; и не было видно его дна. Там, в глубине, куда не доставали солнечные лучи, клубилась одна сырая холодная хмарь, и казалось, что земное нутро и в самом деле вспорото до самого чрева.
Метро строилось! Несмотря ни на что. Метро выгрызало себе в земле необходимые пространства, оно уже ушло внутрь ее со дна котлована наклонной узкой шахтой до половины проектной глубины! Три полных года отделяли нас от той поры, когда началась битва за него. Глядя со стороны, может быть, мы сделали совсем немного. Но на самом-то деле фантастически много было сделано. Оно строилось! Строилось! Несмотря на то, что власти по-прежнему не хотели того, а уж как они не хотели тогда! Но когда вулкан разбужен, сколько ни заливай ему жерло глиной, лаву не удержишь.
Меня окликнули.
Это был Декан.
– Вот ты где, – сказал он подходя. – Проверяешь с утра пораньше, на месте ли котлован?
Это у нас была такая подначивающая манера разговора. С той еще поры, когда мы волею обстоятельств слепились в наше Вольтово братство.
– Любуюсь, сэр – отозвался я в тон ему. – Красавец какой – гляжу не нагляжусь.
– Сходил бы лучше, брат, на охоту, подстрелил пожевать чего-нибудь, – потянулся, зевнул Декан. Вчера, как и всегда, легли мы поздно, ему наших обычных шести часов для сна не хватало, и с утра он ходил вялый. – Батя там к тебе приехал. На машине на своей, на дороге там у крайнего вагончика ждет.
– А ты чаечек поставь, если еще не поставлен, – обрадовано хлопнул я его по плечу. – Горяченький сейчас с домашней печенушкой попьем!
Отец ходил по обочине дороги около машины туда-сюда и, увидев меня, кинулся было в расчавканную грязь, но он был в ботинках и, дернувшись, остановился.
– Привет! – замахал он мне рукой.
Он очень изменился в своем поведении со мной. Первые признаки этого изменения появились тогда, когда наши имена стали известны всему городу, каждому человеку, разве что исключая младенцев, а уж потом, когда мы принудили власти считаться с нами, он сделался со мной вообще другим. Разговаривая со мной, он теперь постоянно жестикулировал, и движения его рук при этом были как-то неприятно суетливы и дерганы. Будто он чувствовал себя со мной неловко и старался скрыть свою неловкость от самого себя этой жестикуляцией.
Как и предполагал Декан, отец привез мне домашней стряпни. Мать испекла пирог с мясом, пирог с луком, пирог с яблоками и еще всякие сладкие булочки и печенье.
– Что-то совсем уже давно не появлялся, – сказал он, впрочем, не особо укоряющим тоном. – В самом деле, что ли, так некогда?
– Отец, спать времени нет – с казал я, вспоминая зевающего Декана.
Мы все – и Волхв, и Рослый, и наше Вольтово братство, и остальные два десятка человек, что составили в свою пору ядро дружины, бившейся за метро, – жили прямо здесь, на строительной площадке, не покидая ее практически уже несколько месяцев. Никто от нас не требовал этого, но это было делом принципа. Власти лишь дали согласие на строительство, но не более. Ни куба бетона не выделялось для стройки, ни грамма металла, ни единого метра леса. Все существовало на голом энтузиазме. Школьники собирали металлолом, металлурги ухитрялись дать лишнюю плавку, ремонтники в сверхурочную смену ремонтировали разливочные ковши – никто, естественно, не получая за свой труд ни копейки, – и так у нас появлялся металл для арматуры и тюбингов, чтобы крепить туннельные своды. И так у нас появлялся бетон, и так появлялся лес для опалубки; И катушки с кабелем, что ждали своего часа на краю котлована, появились здесь таким же образом. Нанимать рабочих у стройки не было права, да и нечем было бы платить им, и копать котлован, пробивать штольню, бетонировать, плотничать, таскать носилки, катать тачки с землей люди приходили в счет своих выходных, отгулов, отпусков… А жертвуя сами, они должны были видеть, что кто-то жертвует больше них. И кто, как не мы, обязаны были сделать это…Для нас не могло остаться в жизни за пределами стройки ничего. Ничего абсолютно. Все в стройке, вся жизнь. Метро придется строить долго, многие годы, энтузиазму, чтобы не выдохнуться, необходимо топливо, необходим постоянный пример еще большего энтузиазма, и тогда люди все сдюжат, все вынесут на своих плечах.
– В городе только и разговоров, что о вашем метро, – сказал отец.
– Ну, это понятно.
– За границей о вас пишут. Мне вот один наш врач, зная, что ты мой сын, газету тут на днях передал. Хочешь глянуть?
Он достал из кармана газету и развернул ее на нужной странице. В заголовке, крупно набранном чужими буквами, я сумел прочитать только одно слово: «метрополитен».
– Переведи, – попросил я.
Сам я так и не знал никакого языка, кроме родного. Некогда было выучить. Не успел.
Отец перевел заметку, и я спрятал газету за пазуху, под ватник. Товарищам моим будет приятно подержать ее в руках, найти свои фамилии в тексте. А Волхв, кстати, и переведет для них заметку заново.
– Ну, давай, сын, – потянулся обняться со мной на прощание отец. Обнял и, похлопывая по спине, сказал: – Вы молодцы, молодцы… Нужное дело делаете, вам это зачтется.
Чайник, когда я пришел в наш вагончик, уже вскипел, и у стола было полно. На пироги прибежали все, кто жил тут, на стройке. И от того, что я принес, во мгновение ока не осталось и крошки. Имевшиеся у нас деньги давно кончились, закупать продукты нам было не на что, мы перебивались тем, что приносили с собой для общего котла, приходя на стройку, все прочие люди, и были, в общем-то, постоянно полуголодны.
Волхв перевел вслух заметку из принесенной мною газеты, мы немного пообсуждали ее, и подошло время идти в котлован. Туман начал рассеиваться, воздух опрозрачнел, и из окна вагончика было видно, что на площадке на краю котлована уже толпилось человек сорок, прибывших сегодня на работу из города.
2
Днем, незадолго перед обеденной порой, когда я был в шахте, ставил, отбивая руки кувалдой, крепь в только что отвоеванном у земли куске туннеля, меня вызвали наверх.
На том же самом месте, где утром стояла подбористая машина отца, чернели сейчас три большие осадистые зверюги, в каких ездили руководители города. Около вагончиков, зорко простреливая глазами все свободное пространство вокруг них, бродило несколько молодых людей с военной выправкой.
Воды ни в одном из рукомойников не было. Ее всю израсходовали утром, а новую еще не подвезли, и мне с Магистром и Рослым, тоже работавшими под землей, побренчав сосками, пришлось пойти на встречу в том виде, в каком мы поднялись, – с грязными руками и перемазанными лицами.
Делегацию дома власти возглавлял сам глава города. Вместе с ним приехало еще четверо. С нашей стороны Волхв выставил тоже пятерых.
– Что? Все? – недовольно спросил глава города, когда мы с Магистром и Рослым вошли в вагончик.
Остальные руководители потянулись к нам было здороваться, но подать грязные руки мы им не могли и ответили лишь демонстрацией своих лапищ.
Мы сели к столу, и глава города, пристукнув крупными толстыми пальцами, сказал все тем же недовольным голосом:
– Давайте сразу к сути. У нас еще важных дел полно. Доложи, – кивнул он одному из приехавших.
Руководители города прибыли к нам с ультиматумом. Отныне, заявили они, пятьдесят процентов того, что производится из сэкономленного, выгаданного, сверхурочного, будет у нас изыматься. Металл, цемент, лес…
– Это будет по справедливости, – не давая никому возразить, сказал глава города, едва тот, что предъявлял ультиматум, умолк. – Оказывается, у нашей промышленности громадные резервы. Вы их вскрыли. За это вам спасибо. Но откуда у вас сырье за исключением металлолома? На чьем оборудовании тот же цемент производится? То-то и оно! Пятьдесят процентов – это еще по-божески.
Рослый не выдержал и ворвался в речь главы города, перекрыв его голос своим:
– Даете вы, а! Да совесть у вас есть? Мало того, что палец о палец для метро не ударили, на чужой хребтине едете, так вы еще и урвать хотите! Не сеяли, не жали, а ложку приготовили!
– Ну, это вы позвольте! Это вы позвольте! – все повторял, пытаясь остановить его, один из приехавших с главой города. И когда Рослый умолк, прокричал: – Это как это палец о палец не ударили? Это вы позвольте! А откуда вы электроэнергию берете? Из атмосферы? Ничего подобного, из городской сети!
Магистр, невозмутимо-спокойный обычно, словно бы даже замкнуто-высокомерный, сидел с иронической, веселой усмешкой на губах.
– То, что вы собираетесь сделать, – сказал он своим внятным, ясным голосом, – называется, на вашем же кабинетном языке, «перекрыть кислород». Попросту удушить. Забава, достойная палача. Не мытьем, решили, так катаньем?
– Слушайте! – обращаясь к главе города, преданно ища глазами его глаза, возмущенно воскликнул тот, что предъявлял ультиматум. – Ведь они нас оскорбляют! Забава палача, видите ли!
Глава города дал ему заглянуть себе в глаза и перевел взгляд на Магистра.
– А хоть и катаньем! – сказал он. – Именно катаньем, очень верно. Потому что никакое метро нашему городу не нужно. Во всяком случае, сейчас и в обозримом будущем. Хотите строить – ну стройте! А уж каким образом будете строить – полностью ваше дело. Наше – наше, а ваше – ваше. Пятьдесят процентов – это по-божески.
– Если вы считаете, что метро не нужно, зачем же давали тогда сообщение в газете? – спросил я.
– Вот и плохо, что дали, – бесстрастно отозвался глава города.
– Но почему-то же дали? – снова спросил я.
– Почему-то дали, – бесстрастным эхом откликнулся глава города.
– Так почему?
– Давайте без ненужных дискуссий – не удостаивая меня больше ответом, сказал глава города. – Вскрылись громадные производственные резервы, и мы не можем, чтобы они пропадали впустую. Решение окончательное и обсуждению не подлежит.
Волхв, сидевший всю эту пору молча, рассмеялся.
– Ай-я-яй! – сказал он. – Эк вы блефуете: на руках шестерка, а пытаетесь сдать за туза. Никакое ваше решение не окончательное, вы вынуждены считаться с нами, оттого и приехали. Оттого и таким вот обширным составом, – повел он руками вдоль их ряда напротив нас. – Тактика запугивания? Странно. Вы же знаете, что вам это не удастся, Впрочем, еще и прискорбно. Не хочется вам строить метро! Никак не хочется! Ладно, устранились. Нашлись люди, которые взвалили на себя это дело. Так отойдите в сторону, палки-то в колеса зачем же вставлять?
Волхв умолк, и глава города, не помешавший его речи ни единым словом, ни единым движением, сказал, морщась, будто от кислого:
– Дебаты снова навязываете. Не будет вам никаких дебатов. Не согласитесь на отчисления, мы найдем способы вас заставить.
– Ту же электроэнергию – возьмем и отключим, – вставился один из приехавших, до этого момента не произнесший ни звука.
– Да, ту же электроэнергию, – подтвердил глава города. – Много способов, о чем говорить.
Рослый изо всей силы ударил кулаком по столу:
– Монстры! Вы же монстры! Сосете кровь, и все вам мало: вот бы еще одну жилку перекусить!
– Ну, это вы позвольте! – закричал тот, что уже говорил эту фразу. – Это вы позвольте!
– Да ведь они же нас оскорбляют! – воскликнул и тот, что уже восклицал так, снова преданно ища глаза главы города.
– Они будут думать, – поднимаясь, проговорил глава города. – Такие дела с бухты-барахты не делаются. Подумайте, – поглядел он на Волхва. – Хорошенько подумайте.
Они ушли, профырчали моторами, бешено прокрутились колесами, трогаясь с места, их черные лакированные зверюги и укатили, а мы вернулись от оконец вагончика к столу, обменялись мнениями и решили безоговорочно: нет, никаких уступок, этого только не хватало!
И еще решили: об ультиматуме должны узнать все. Прямо сейчас. Чтобы разъярились. Пусть тогда попробуют свои способы… перед яростью все бессильно, пусть попробуют!
3
Вечером я не пошел на наше ежедневное заполночное бдение над инженерной документацией – я гулял с Веточкой.
– Я соскучилась, – сказала она, вызвав меня из вагончика, глядя в глаза с лукавым своим, жадным сиянием.
Мы виделись два дня назад, когда она, пропуская занятия в институте, работала на стройке; снова прийти собиралась только через неделю, тогда мы и должны были свидеться.
– Я соскучилась, – повторила она с требовательной лукавой покорностью, и попробовал бы кто отказать ей в ее желании, а мне и не нужно было отказывать, я сходил с ума уже от одного лишь сознания того, что увижу ее только через неделю.
Я сходил с ума от ее глаз, от ее радостной, открытой улыбки, от того, какая она тоненькая, хрупенькая – впрямь веточка, – но с характером при этом – ого: решительным и твердым, что сталь.
– Ну? Рассказывайте, – сказала она, искоса снизу заглядывая мне в лицо своим лукавым сиянием. – Что сделали за это время? Какие новости?
Она обращалась ко мне на «вы». Мне уже было двадцать пять, а она лишь недавно закончила школу, ей только подходило к восемнадцати, и я казался ей ужасно взрослым.
– Ага. Так вот прямо взять и рассказывать. Все равно как с трибуны.
– Ой, мне хочется послушать вас. Мне так нравится, когда вы говорите, – сказала она.
Боже, кто б устоял перед нею? А может, и устоял бы? И дело просто в том, что нашим душам изначально было уготовано потянуться друг к другу при встрече: ей – открыться мне с этой вот безоглядной светящейся прямотой, а мне – не устоять?..
Я рассказывал о сегодняшнем приезде городских властей, об их ультиматуме и нашем решении, рассказывал, как мы боролись сегодня с водяной линзой, на которую наткнулись при проходке шахты, она слушала, время от времени заглядывая мне в лицо обжигающим своим сиянием, мы шли по тускло освещенным ночным улицам неизвестно куда, сворачивали, возвращались, снова поворачивали, и порой я замечал, как она, переступив ногами, приноравливает свой шаг к моему.
Мелкий, крапчатый осенний дождичек высеялся из ночного небесного мрака. Покалывало водяной взвесью лицо, попадало на руки, за шиворот.
Зонта у нас не было, и мы зашли в подъезд какого-то дома.
Желто светили лестничные лампочки, стены были исписаны и искорябаны всякими надписями, около бачка для пищевых отходов между маршами громоздилась куча мусора.
– Ой, ну почему у нас везде так, – с улыбкой неловкости, будто это был ее дом, кивнула Веточка в сторону кучи. Мы хотели остановиться тут, на этой площадке, но из-за мусора пошли дальше, наверх. – И у нас в подъезде то же самое. Словно бы людям все равно, как они живут.
– Построим метро – и везде станет иначе, – сказал я.
– Да? – удивилась она. – Какая же тут связь?
– Такая же, как между этим мусором и нынешним кошмаром в автобусах и трамваях.
– Д-да? – снова непонимающе протянула она.
Мы поднялись на следующую площадку между маршами, здесь только что-то хрустело под ногами, вроде осыпавшейся штукатурки, но в остальном было чисто, и мы здесь остановились.
– Это общая атмосфера, – сказал я. – Ее действие. Понимаешь? Если скверно там, будет скверно и тут. Человек не может быть безнравствен в одном месте и нравствен в другом. Если он лезет по головам в трамвае, спеша на работу, дома у себя он будет валить мусор куда угодно. Это закон. И когда мы построим метро, гду будет чисто, светло, красиво, никакой давки и тесноты, тепло зимой и летом, а поезда будут ходить как часы, будет царствовать порядок, скорость и комфорт, – это тотчас отзовется на всей жизни. Человек не может быть одним здесь и другим там.
И еще и еще говорил я ей о том, как изменится жизнь с появлением метро, насколько она станет чище, светлее, нравственнее – я мог говорить об этом сколько угодно. Впрочем, заговорив об этом, я уже не мог остановиться…
Мы простояли в подъезде часа два. Дождь кончился, я проводил ее до дому и побежал к себе в вагончик на стройку. «Побежал, убегаю», – говорят иногда про себя, имея в виду, что торопятся, спешат, но я именно бежал.
Я не мог просто идти, пусть и быстро, меня распирала жажда движения, я чувствовал себя сильным, здоровым, счастливым, просто идти – этого было мне мало.
Ночь стояла вокруг, черны были окна домов, пустынны улицы, и я бежал, мерно работая ногами и руками, ногами и руками, они ходили у меня взад-вперед, взад-вперед, как шатуны, я бежал и думал о том, что мы построим метро, построим, чего бы нам это ни стоило! Я женюсь на Веточке, и мы построим его, построим! Как бы власти ни мешали нам. Мы построим чудесное, красивое метро, и Веточка родит мне детей, мальчика и девочку, а может быть, троих, четверых! Ни в одном городе мира не будет такого метро, как у нас, такого светлого, великолепного, праздничного! Да, нам нужно метро не просто как транспорт, а как дворец, как храм, чтобы он стал символом высоты нашего духа, его величия, его мощи, неукротимости! И мы будем приходить с Веточкой и нашими подрастающими детьми в подземные прекрасные залы, и будем любоваться ими, и будем рассказывать детям, как все начиналось и как трудно было, но мы все одолели, все пересилили – и вот вы теперь имеете это!
Как жаль мне тех, кто не испытал в молодости подобных чувств!
Как жаль!
Глава третья
1
Молодых людей с одинаково настороженными, нервно-внимательными глазами и военной выправкой мы заметили около стройки дня через три, как был окончательно отвергнут ультиматум властей. Уже стояла зима, земля была укрыта снего, и их черные праздношатающиеся фигуры на белом снежном фоне так и бросались в глаза. Ни с кем из нас они не заговаривали, стояли на своих обусловленных местах или фланировали по намеченному маршруту и, если приходилось столкнуться нос к носу, только молчаливо и бегло улыбались, откровенно, в упор разглядывая тебя, будто ты был насекомым, чья участь – сидеть на булавке – предрешена, и дело лишь за временем.
– Какого дьявола! – кипел Рослый. – Что они шляются? Мы тут работаем, а они – как надзиратели. Начистить им морды и пусть отсюда затылком вперед!
– Зачем? – Магистр со спокойной улыбкой пожимал плечами. – Трутся около нас и пусть трутся, пока не мешают.
Волхв кивал согласно:
– Именно, именно. Пусть трутся. Очень может быть, на то они и рассчитывают – спровоцировать нас. Очень может быть. Не обращать на них никакого внимания – лучше всего.
Что-то готовилось – это мы понимали, но что?
На стройке между тем все шло своим чередом; прибывали машины с металлом, машины с лесом, машины с бетоном, привезли в разобранном виде еще один проходческий щит, завершалось строительство наземного здания, наклонный ствол был пробит, и проходчики начали выбирать первые кубометры породы, чтобы вести горизонтальный туннель. Подступал Новый год, заворачивали морозы, снег лежал вокруг пушистыми метровыми сугробами.
Тут-то, под Новый год, и началось…
Людей, приходивших на стройку, одного за другим, одного за другим, день ото дня все больше, стали увольнять с работы. Того по причине пенсионного возраста, другого по сокращению штатов, третьего – вкатив ему за несколько дней чуть не десяток выговоров по разным поводам… Когда нужно уволить, всегда найдется для того способ.
Их увольняли – и не брали нигде в другом месте. И это при том, что повсюду на досках висели отпечатанные в типографиях объявления: «Требуются… требуются… требуются…»
Было яснее ясного, что подобное скоро произойдет и у студентов. Никто из них просто не сдаст подступающую сессию, и все будут отчислены. А пытаясь устроиться на работу, никуда они не устроятся…
Ловко было придумано. Умно и ловко. Не мытьем, так катаньем – в самом деле.
Зачем отключать электроэнергию, чинить всякие другие мелкие помехи? Лишить людей куска хлеба – и сыграть на этом, вот ход! Энтузиазм энтузиазмом, а есть нужно каждый день, и что останется от твоего энтузиазма, когда тебе нечего станет есть? Ко всему тому голод замутняет разум, и, поманив запахом пищи, голодного можно подтолкнуть на что угодно. Идя на запах пищи, голодный на своем пути будет готов сокрушить все, даже то, что собственными руками строил вчера.
И если допустить даже, что сотни людей присоединятся к нам, живущим здесь, на стройплощадке, и сделают метро, как и мы, тем единственным делом, которым они отныне будут жить, сделают метро своей жизнью, – как всем прокормиться? Что говорить, так, как кормились мы до сих пор, прокормиться двум с половиной десяткам человек – это возможно. Но прокормиться таким же образом двум с половиной тысячам – это нереально.
Нужно было что-то предпринимать.
2
Наш ответный удар был нанесен три дня спустя.
Моей группе было выделено три легковые машины, одну из них я добыл сам, взяв у отца.
Мы прибыли к булочной минут за пять до закрытия. По разработанному заранее плану в магазины нужно было войти перед самым концом их работы, дождаться, когда уйдут покупатели, и после этого уже приступить к операции. В эту пору все подсобки с товарами открыты и еще не включена сигнализация, а деньги, как правило, сданы инкассаторам, и никто с улицы не должен нам помешать.
– А вы там что ковыряетесь, эй! – крикнула кассирша, выбираясь из деревянного загончика кассы на волю. – Время уже, все, уйду сейчас – не оплатите!
Уборщица в синем халате, лязгнув щеколдой, выпустила в дверь последнего покупателя.
– Начали! – дал я команду.
Трое из группы тотчас рванулись к двери – оттеснить от нее уборщицу и встать там на страже, а я и другие трое бросились в подсобное помещение – перекрыть рабочий вход и собрать всех магазинных работников в одном месте.
Не очень весело все это было, хотя, конечно, со стороны выглядело довольно комично. Кассирша решила, что ее собираются грабить, и, забыв о том, что денег в кассе три с половиной копейки, рвалась обратно в свой дощатый загон, чтобы нажать сигнальную кнопку, ее не пускали туда, подхватив вдвоем под руки, а она все рвалась. Уборщица, наоборот, попыталась выскочить на улицу, и пришлось втаскивать ее обратно, она раскорячилась в открытых дверях, вцепилась в косяк и все приговаривала с ужасом: «Я ж старая!.. Старая!.. Старая я ведь!..»
Мы перекидали хлеб с лотков в привезенные с собой чистые мешки, взяли десяток деревянных поддонов с кульками сахарного песка, набили пару мешков сухарями вперемешку с конфетами, и, когда все это было загружено в машины, я написал директорше бумагу, короткий текст которой мы во главе с Волхвом отработали накануне до последнего слова: «Реквизировано силой в пользу строителей метро, лишенных властями средств к существованию…» Дальше шел полный перечень реквизированных продуктов, моя подпись – «От имени Инициативной группы» – и дата.
– Что мне с ней делать, с этой бумажкой? – закричала директорша, когда я отдал ей лист. – Вы, что ли, материально ответственное лицо? Пропади оно пропадом, ваше метро!
Я не стал ничего отвечать ей. На у лице уже пофуркивали моторами готовые уезжать машины, и мне нужно было спешить.
В тот вечер мы «взяли» четыре магазина. Кроме булочной два продуктовых и один промтоварный. Для продуктовых, чтобы погрузить мясные туши, коробки с маслом, ящики с крупами, понадобились грузовые машины, и пришлось угнать два пустых грузовика, неосторожно оставленных водителями на улице. В промтоварном нам нужны были самые обиходные вещи – мыло, одеколон, полотенца, материя для тряпок, некоторая хозяйственная утварь, – и там мы обошлись, как и в булочной, легковыми автомобилями.
…Мы еще не успели перетаскать с улицы в надземное здание метро добытые продукты и вещи, на дороге за вагончиками проревели, подкатывая, засветили фарами, выедая тьму, мощные тягачи, смолкли, и из их кузовов посыпались на землю одна за другой. Взметывая длинные полы шинелей, темные фигуры. В правой руке на отлете каждая из них держала тонконосый, длиннотелый предмет, и как-то не сразу, не вдруг до нас до всех дошло, что предмет этот – автомат.
Не более чем через пять минут вся территория стройки была оцеплена. Мы ждали, бросив свою работу, что будет дальше, но дальше ничего не последовало.
Однако некоторое время спустя, когда все, наконец, было перетаскано под крышу и те, кто принимал участие в нынешней операции, но не жил на стройке, попытались выйти наружу, чтобы ехать домой, солдаты их не выпустили. «Стой, не подходи! Стрелять буду!» – звучали то тут, то там команды, и в чистом морозном ночном воздухе сухо и страшно клацали передергиваемые затворы.
3
Утром солдаты не пропустили за свою цепь ни одного человека, приехавшего на стройку. Многие из тех, что лишились работы, перестали ходить к нам, но большинство все же ходило, и снаружи, за линией оцепления, собралась толпа.
Мы, со своей стороны, решили жить так, словно ничего не произошло, и после завтрака все, кто находился внутри оцепления, по-обычному спустились в шахту. Наверху осталось только несколько человек. Остался наверху и я. Хотя мы и решили жить, не обращая внимания на цепь солдат, события каким-то образом должны были развиваться…
Они не замедлили с развитием.
Подкатили две черные машины, прохлопали дверцами, и по снежной укатанной дороге, беспрепятственно миновав оцепление, с неспешной солидной грузноватостью прошествовали к вагончикам трое мужчин в добротных, толстого дорого материала пальто с широкими, серебристо играющими на солнце воротниками из редкого меха.
Все трое приезжали к нам в прошлый раз, сопровождая главу города.
– Бандитизмом занялись? – не дожидаясь, когда мы рассядемся за столом напротив них, с властно-суровым выражением лица, в упор глядя на Волхва, сказал тот, что зачитывал в прошлый раз ультиматум. Видимо, он был нынче старшим.
Волхв выдержал паузу, так же в упор глядя ему в глаза, потом сказал:
– Всякое действие вызывает противодействие. С какой силой вы будете давить на нас, с такой мы и ответим.
– Не позволим! – Ухмылка, вдруг прозмеившаяся по губам этого старшего, была какой-то сардонически-плотоядной, словно б мы все, незнаемо для нас, были, со всеми потрохами, у него в руках, нет, не в руках даже, а в зубах, как мышь у кошки, и это только нам представлялось, что мы можем в любой момент, едва лишь зубы приразомкнутся, убежать, но он-то, державший, прекрасно знал, что никакой возможности убежать у нас нет.
– А мы и не будем спрашивать вашего позволения, – спокойно, не обратив ни малейшего внимания на сардоническую ухмылку представителя власти, сказал Волхв. – Вы решили оставить людей без куска хлеба – мы решили дать им его. Только и всего.
– А мы, – сделав ударение на «мы», вновь каменея лицом, ответил тот, – не позволим вам дать его, никто сюда не пройдет. Для чего, думаете, оцепление? Вас охранять? Еще не хватало! Никого к вам не пропустить, вот для чего. Сидите здесь со своими запасами. Ешьте вволю. Надолго хватит.
– Ах, суки! – ругнулся Рослый.
Он только выговорил вслух то, что каждый из нас тем или другим словом проговорил про себя.
– Ну, – вновь выдержав паузу, произнес Волхв, – и что дальше? Мы, в свою очередь, тоже что-нибудь придумаем, так, значит, и будем заниматься перетягиванием каната?
– Ничего подобного, – сказал все тот же из них троих, что был старшим. – Никто вам такой возможности не представит. Соглашаетесь на прежнее наше условие – и конфликт исчерпан. Все будут восстановлены на работе, а ваш бандитизм предан забвению. Если не соглашаетесь… Во-первых, значит, никого к вам не пропускаем сюда, а во-вторых, не пропускаем транспорт с грузами. Ни сейчас, ни потом. Вообще не пропускаем. Чем хотите, тем и крепите. Чем хотите, тем и бетонируйте.
– Ах, суки! – снова выговорил Рослый.
И снова это было сказано за всех нас.
– Вот вам для первого размышления, – как и в прошлый раз, будто не заметив оскорбления, поднимаясь, сказал представитель властей. – Подумайте, крепко подумайте.
Провожать представителей властей никто из нас не пошел. Никто из нас даже не поднялся из-за стола. И когда дверь вагончика захлопнулась, все так и остались сидеть, и все молчали – что-то невыясненное словно бы висело в воздухе, недоумение какое-то, какой-то вопрос…
Магистр первый сумел нащупать его.
– Странно… – произнес он.
– Что странно? – тут же отозвался Волхв.
– То, что все их санкции не затрагивают нас. Никоим образом. Ведь, казалось бы, можно прижучить и нас каким-то образом, но нет…
– Подвоз материалов они нам блокируют, – сказал Декан, – это что, не против нас санкции?
Магистр отрицательно покачал головой:
– Это все средства давления. Я о другом: чего бы, казалось, им не проучить нас как следует? Чтобы мы на своей шкуре почувствовали: с вами не шутки шутят! Скажем, арестовать. Ну. Не всех, но пятерых, шестерых, десятерых, наконец… нет, не прибегают к такому! Только давят на нас, и все, гнут, но не ломают.
– Ты прав, прав, – проговорил Инженер. – Жмут, но всегда словно б с таким расчетом, чтобы не пережать.
«Но не ломают», – сказал Магистр, и будто рвануло туманную завесу у меня перед глазами, она поползла, полезла клочьями, разваливаясь. «Чтобы не пережать», – сказал Инженер, и туман истаял вконец, исчез – и будто в бездну я глянул.
Вся история нашей борьбы за метро развернулась передо мной – от первой той давней демонстрации перед домом власти до нынешнего визита этих трех его обитателей, – и я увидел ее изнанку.
Ведь мы же все были в ней марионетками, вот что! Все, включая Волхва! Да нами же искусно и ловко манипулировали, а мы и не догадывались о том. Мы думали, что сами по себе, полагали, что в дичайшей борьбе и судорожном напряжении всех сил заставили власти отступить, поддаться нашему напору, а это все заранее было спланировано, рассчитано, заброшен крючок – и мы на него попались, проглотили его и не заметили. Все, начиная с той газетной публикации о метро, было сделано не случайно, все нарочно было сделано, для затравки. Волхв ошибся, посчитав, что властям не нужно метро и оттого они положили его проект под сукно. Ничего подобного! Оно было им нужно. Но они решили построить его задарма. Без затрат. Мы с самого начала были только марионетками, кукловоды дергали нас за ту ниточку, за какую им нужно было, а мы послушно отзывались необходимым действием…
– Не-ет… – сказал Волхв, когда, сбиваясь, перескакивая с одного на другое, чувствуя, как бешено стучит сердце, сам страшась того, что говорю, раскрылся я в своем озарении. – Не-ет, это чепуха…
Но в голосе его, отчаянно утаиваемая, билась, как жилка на виске, неуверенность, и был его голос странно жалобен – Волхв будто просил пощады, просил взять мои слова обратно, перечеркнуть их, покаяться в содеянном, как в грехе.
– Нет, не чепуха. Так все и есть, – сказал я безжалостно. Почему я должен был жалеть его? Что, мне легче, чем ему, от страшной сути открывшегося? – Мы вроде наживки на крючке. Сами попались и других ловим.
– Не-ет, – снова повторил Волхв, весь перекривясь лицом, как от мучившей тайной боли. – Нет же, не-ет…
Но в поддержку не раздалось ни одного голоса. Вообще никто ничего не говорил, все молчали, и Волхв тоже замолк, глянул светлыми, как-то по-безумному сейчас горящими глазами на одного, другого и, охватив голову обеими руками, почти лег ею на стол, разметав по нему буйно растущую бороду.
Молчание длилось с минуту, если не больше. С улицы в приоткрытую форточку слышны были сливавшиеся в единый гул голоса толпы, топтавшейся у линии оцепления.
– Да чего там твердить «нет», если «да»! – нарушая, наконец, молчание, взвинчено, едва не срываясь на крик, сказал Декан. – Конечно, «да». Яснее ясного… Теперь, – добавил он через паузу.
– Нет! – опустив руки на стол и подняв голову, с яростью проревел Волхв. – Нет, этого не может быть! Я их просто разворошил, как поганый муравейник, им просто ничего не оставалось другого, как напечатать то сообщение… а потом… потом отступить перед нами!..
– Брось, – сказал Магистр. Обычное хладнокровие не изменило ему, и в отличие от нас всех он был спокоен. – Брось, чего дурить себе голову. Попались как последние дурачки… надо признать. И думать, что дальше. Как дальше. Может, послать все к черту, катись оно, пусть сами строят?
Глаза у Волхва полыхнули бешеным, сумасшедшим огнем.
– Да-а?! – выкрикнул он. – Сами? А ради чего тогда мы… Отдать им?! Не-ет! Исключено! Стать независимыми от них – вот что нужно! Чтобы ни металла у них, ни бетона, ни рук рабочих… вот что нужно!
И почему-то тут все глянули на Инженера. Словно бы какой-то ток вдруг заструился от него, и все этот ток уловили.
– Я уже думал о независимости, – сказал Инженер. – Но нормальных способов обрести ее нет. Есть только один. Совершенно ненормальный. Спуститься под землю. И прервать с землей всякую связь. Технически это возможно.
– Возможно?! – воскликнул Рослый. До этого он молчал все время. Ни слова не вымолвил. – А куда выбранную породу девать? Жрать ее, что ли?
Инженер посмотрел на него и махнул рукой.
– Это самое простое. В километре отсюда – карстовая пещера, пробить туда штольню – и вся проблема с породой. Электричество нужно, металл, лес, бетон, еда, наконец, – вот проблемы!
– Все! – сказал Волхв, поднимаясь и обдавая всех по очереди сумасшедшим огнем своих полыхающих глаз. – Никаких обсуждений больше. Расходимся до вечера. Идея имеется: под землю! Абсолютно ненормальная идея, и потому, может быть, вполне реальная. Обмозговываем ее. Вечером собираемся и делимся мыслями по этому поводу. Все!
Я сходил по ступеньками вагончика, и меня буквально качало. Неужели это возможно технически – спуститься под землю и прервать с землей всякие отношения? И сколько тогда сидеть так: год, два, три? Не видеть неба, не ходить по траве, не подставить, зажмурясь, лицо под первый жар мартовского солнца, ощущая, как налетевший порыв свежего ветерка с легкостью гасит этот жар и кожу овевает прохладой? Нет, невозможно, нет! Невозможно лишиться земли, ее света, ее запахов, ее простора! Это бред, идиотизм, какая-то конвульсия фантазии! Мы попались как рыба крючок – да; мы должны, наконец, обрести, несмотря ни на что, независимость – тоже да; но не такой же ценой, не ценой отречения от своего человеческого естества! Это кротам свойственно жить в земляном нутре…
Толпа за линией оцепления была все так же густа и плотна, как утром, и, когда там увидели нас, гул голосов, облаком стоящий над нею, стал делаться слабее, слабее, будто истончаться, и исчез совсем, остался только морозный звук хрустящего под десятками перетаптывающихся ног снега, да клубились над ней, бесследно истаивая в выстуженном воздухе, молочные дымки пара от дыхания.
Солдаты в оцеплении, с автоматами, взятыми в руки, стояли попарно: один – оборотясь лицом к толпе, другой – в нашу сторону.
– Что, плетью обуха не перешибешь? – сердобольно крикнул из толпы чей-то голос, как бы облегчая нам предстоящее покаяние в принятом капитулянтском решении.
Волхв, визжа снегом, быстро пошел к толпе. Солдат, обращенный лицом к нам, остановил его шагах в пяти от себя. Волхв поднял руку, требуя внимания, выждал мгновение и закричал, произнося раздельно каждое слово, чтобы каждое было понято:
– Все будет нормально! Будьте уверены! Своим не поступимся! Дайте нам три дня на решение! Сейчас расходитесь, не мерзните! Через три дня – приходите, все будет нормально, будьте уверены!
4
Спустя два дня на встрече все с теми же тремя представителями властей мы приняли предъявленный нам ультиматум. Теперь половина всего того, что производилось для нас – из сэкономленного, выгаданного сверхурочной работой, – отбиралось.
Снова проревели на дороге за вагончиками тяжелые тягачи, и солдаты с автоматами, переброшенными через плечо дулом вниз, торопясь и толкаясь, полезли через борт в кузова.
Утром следующего дня все работы на строительстве были возобновлены в полном объеме. Многие из приехавших радостно сообщали, что им уже позвонили с их прежней работы и пригласили вернуться.
Со стороны, должно быть, казалось, что все возвратилось на круги своя.
Но это было вовсе не так.
Теперь, параллельно со строительными работами, мы вели еще и другие. В карстовую пещеру, о которой говорил Инженер, была снаряжена экспедиция, пещера была исследована до самого последнего закоулка, обмерена и обнюхана, и выяснилось, что многозальные объемы, лабиринты ее ходов и переходов могут вместить выбранной породы раз в десять больше, чем мы выберем. И была в ходе обследования открыта там настоящая подземная река, бурная и с прекрасной, чистой водой. Правда, расстояние до пещеры оказалось не километр, а почти два, но первую штольню к ней мы решили пробивать небольшую, работы велись круглосуточно, не замирая ни на минуту, и к весне штольня была пробита.
Круг посвященных в затеянное делался той порой все шире, и, когда штольня была пробита, к нам отовсюду хлынуло необходимое: разобранное на части оборудование для гидроэлектростанции, оборудование для производства цемента, оборудование для выплавки металла, холодильные установки, станки и всякие другие машины в разъятом виде… При проходке штольни было обнаружено несколько угольных жил, в самой пещере в одном из залов магнитная стрелка плясала как бешеная – где-то там, в глубине, таилось, значит, рудное тело… Мы запасались продовольствием, медикаментами и впрок, на всякий случай решили создать под землей свое, автономное сельскохозяйственное производство: спустили туда десяток высокоудойных коров, пару свиноматок с боровом, построили теплицы для гидропонного земледелия…
Подготовка к уходу под землю заняла у нас год с лишним. Нужно было не только технически подготовиться, но и набрать достаточное число людей, готовых расстаться с землей. Это, пожалуй, была проблема почище всяких технических.
И все же энтузиазм – великая вещь! По нашим прикидкам, нужно было человек шестьсот-семьсот, а набралось в итоге две тысячи.
Новой весной, в холодную ветреную мартовскую ночь мы с Веточкой в последний раз обходили улицы нашего города. Хрустел под ногами ледок замерзших луж, прорывалась в разрывы облаков своим спокойным, маслянисто-зеленоватым светом громадная, только-только пошедшая на убыль луна, и иногда то тут, то там в этих разрывах проступали звезды, холодно и колюче обжигали глаз – и снова исчезали за мутною пеленой.
Мы гуляли с Веточкой, расставаясь не друг с другом, а с землей. Она уходила вниз вместе со мной.
Глава четвертая
1
Сон мой, как обычно, был мучителен и тяжел, и телефонный звонок, вспоровший его, сначала вошел в кошмар дико верещавшей дисковой пилой, распиливающей меня пополам. И ладно б, если бы она сделала свое дело зараз, разъяли меня – и конец, но она вдруг прерывала свое верещащее вращение, стояла какое-то мгновение неподвижно, будто передыхая, и так же вдруг, взяв без всякого разгона прежнюю скорость, вновь вгрызалась в меня.
– О Господи! – простонал я, осознавая, что пила – это все лишь кошмар сновидения, а на самом деле то трезвонит в кромешной тьме телефон. Я пошарил на полу около постели, где всегда оставлял аппарат на ночь, наткнулся на него и снял трубку. – Алле! – произнес я в микрофон приглушенно и хрипло.
Это был Рослый.
– Декан умирает, – сказал он.
– Иду, – сказал я и положил трубку. Больше ни ему, ни мне не нужно было ничего говорить, все было сказано.
Веточка, конечно, тоже проснулась.
– Что? – спросила она встревожено.
Ночные звонки были не такой уж редкостью, отчего я и держал телефон у постели, но каждый из них был связан с чем-нибудь чрезвычайным, и так она за все прошедшие годы и не привыкла к ним.
Кто к ним привык, это наши дети. Мальчики спали в другом конце комнаты, и звонок разбудил их тоже, но они только поворочались, сонно вздыхая, и все, не издали больше ни звука.
– Ничего, милая, – сказал я, находя в этой кромешной тьме лицо Веточки и гладя ее по щеке. – Ничего не случилось, спи. То Рослый, он сегодня в диспетчерской дежурит, и что-то ему сбрендило потолковать со мной. Знаешь же его. Спи.
Я не хотел говорить ей правду сейчас, среди ночи. Уйду, а она будет ворочаться тут одна до подъема… Конечно, она не поверила мне, и тревога в ней осталась, но все же так лучше, чем если бы я сообщил ей.
Шурша в темноте одеждой, я оделся, нашел на ощупь на своем обычном месте фонарь и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Здесь, в коридоре штольни, потягивало ветерком из вентиляционных стволов, но темь была точно такая же, как и в комнате, не горело ни единой лампочки. Мы экономили электричество и на ночную пору отключали все освещение. Электричество нужно нам было во время работы, нам было нужно очень много электричества, приходилось исхитряться, и ночью мы заряжали аккумуляторы.
Я включил фонарик, лучик его был совсем слаб – видимо, младший сын, в обязанности которого входило следить за фонарем, опять забыл воткнуть его на день в электророзетку, – но за четырнадцать лет подземной жизни я так хорошо изучил все сужения, все повороты, все пересечения штолен, что мог бы бежать и в темноте, не включая фонаря.
Каменная крошка громко хрупала у меня под ногами, уходить звукам было некуда, не успевал раствориться в воздухе звук предыдущего шага, как его настигал новый, и штольня была вся наполнена этим хрупаньем.
Штольня, по которой я бежал, оборвалась, пересеченная под острым углом другой, и я увидел справа от себя еще один огонек фонаря. Он не прыгал из стороны в сторону, как было бы при беге, а слегка раскачивался, и я определил, что это Волхв. Магистр, пожалуй, как и я, бежал бы.
Так оно и оказалось – это был Волхв. Мы осветили друг друга фонарями, и он, тяжело, одышливо дыша, сказал:
– А не жди ты меня, давай вперед. Пока я дошаркаю…
Я снова побежал.
В больничную штольню электроэнергия подавалась, но в палате, где лежал Декан, горела только слабая синяя лампа над дверью. Я даже не сразу разглядел Рослого, поднявшегося мне навстречу. Декан на кровати хрипел и булькал, но дыхание его было до невозможности редким – один, наверное, вдох в минуту, не больше.
– Врач сказал, агония, и сделать он ничего уже не в состоянии, – подойдя ко мне, тихо проговорил Рослый. – Я вас вызвал – он сказал, может, перед самой смертью придет в себя.
Я обнял Рослого, он ответно обнял меня, и мгновение мы стояли так. Нам нужно было это объятие.
Потом он вернулся на свое место на краю кровати, а я сел на табурет рядом. Магистра еще не было. Спустя какое-то время появился Волхв. Он молча прошел к кровати и, потеснив Рослого, опустился перед нею на колени. Седая его длинная борода встопорщено легла рядом с худой, откинутой в сторону рукой Декана.
Декан, с долгим клокочущим хрипом выдыхая воздух, мученически искривил рот, ноги его медленно согнулись в коленях, встопорщив одеяло, и упали, и неподвижно лежавшая до того рука дернулась перед лицом Волхва в конвульсии.
Волхв непроизвольно отпрянул.
– А-ай ты… – сказал он немного погодя и сел перед кроватью. – А-ай же ты!.. – снова протяжно проговорил он, глядя на изломанное агонией, странно стекшее вбок, уже чужое, нездешнее, неузнаваемое лицо Декана с вылезшими наружу костями. – Прости нас… прости, что вот так вот…
Не знаю, что он имел в виду. Я же, следом за ним произнося про себя слова покаяния, винился перед Деканом в своем здоровье. Насколько ему пришлось тяжелее, чем мне. Чем многим из нас. Чем большинству. Там, наверху, это не очень сказывалось – физическая его хилость, а может быть, просто ему удавалось перемогать себя. Здесь, под землей, сразу стало тяжело, ни дня за все прошедшие годы не видел я его вполне здоровым. Всегда охрипший, всегда с насморком, всегда бухающий тяжелым кашлем… Эти постоянно веющие в штольнях, выдувающие метан сквозняки были для него настоящей Голгофой. Как и протянул столько лет! Сколько раз болел он воспалением легких до нынешней пневмонии? И вот все, кончились силы, исчерпались. Уже наверняка, уже точно никогда не увидеть ему выносящийся из темного туннельного жерла на залитую светом станцию грохочущий, визжащий колодками тормозов поезд, никогда не вознестись из давящей потолочными сводами подземной глуби к зеленому, голубому, распахнутому ввысь до беспредельности земному простору…
Магистр все не появлялся. Я даже спросил Рослого – позвонил ли он ему; оказывается, позвонил. «Самому первому», – сказал Рослый.
Наконец Магистр возник в дверях. Он открыл их как-то очень медленно, будто двери были неимоверно тяжелы, и так же медленно, словно преодолевая некое сопротивление, прошел к кровати, но задержался возле нее лишь на короткое мгновение – как приостановился – и отошел в угол.
– Ты чего так долго? – спросил Рослый.
– Долго разве? – через паузу, словно смысл сказанного не сразу дошел до него, переспросил Магистр. Помолчал и сказал: – Ноги не шли. – Помолчал еще и проговорил с ожесточением, что так несвойственно было для него прежнего даже еще, пожалуй, и год-два назад: – Не могу смириться: Инженера нет, сейчас вот Декан, и сколько уже там… а нам еще так долго идти, столько еще впереди… ну прямо как горизонт, отодвигается и отодвигается… не могу!
– А ты пореже вперед заглядывай, – оборотясь к нему с кровати, как кулаком вбивая в него эти слова, сказал Рослый. – Ты назад почаще оглядывайся – сколько уже сделано. Оглядываться почаще назад – легче будет смотреть вперед.
Он довольно неожиданно для нас всех, понемногу-понемногу, но год от году все более явно выдвигался в наши вожди, оттесняя Волхва на задний план; странно, но именно в нем, нетерпеливом, не очень уравновешенном, взрывчатом, склонном под влиянием эмоций ко всяким крайностям, именно в нем обнаружилось со временем больше, чем в каждом из нас, твердости, цельности, настойчивости, а самое главное – и способности объединять людей. Поддерживать в них огонь веры прежней силы и яркости.
– Да-а, – ни к кому не обращаясь, сказал Волхв, – сделано много, очень много… – И умолк, будто оборвав себя, будто недоговорив, и по интонации его было ясно, что хотел он сказать о том, что работы впереди – еще больше.
Туннели метро, по которым должны были в свою очередь помчаться со звонким грохотом поезда, делись все длиннее, красные линии, которыми мы обозначали их на схеме города, змеясь, разветвляясь, все дальше уползали от той точки, что отмечала место закладки метро, – дело двигалось.
Но двигалось медленно, куда медленнее, чем того бы хотелось. Собственно проходкой туннелей и обустройством их занималось совсем немного людей, основная масса была отвлечена на производства, что обеспечивали возможность работы этих немногих.
Мы были настоящим натуральным хозяйством. И хозяйство это все расширялось и усложнялось.
Вдруг в один прекрасный момент разбарахлился, посыпался к чертовой матери весь наш машинно-станочный парк, собранный перед спуском под землю с миру по нитке, и пришлось создавать что-то вроде машинно-реставрационной службы – со своим конструкторским бюро, каким-то подобием лаборатории… Мощности электростанции и всегда-то не хватало, но тут мы стали просто захлебываться от этой нехватки и оказались вынуждены строить в дополнение к ней еще одну, но где было взять для нее оборудование? – все пришлось изготовлять самим, а для того чтобы изготовить, организовали сначала еще одно новое производство. Росла, и год от году все быстрее, потребность в металле. Руда, из которой мы выплавляли чугун и сталь, была не очень богатой, но и не очень бедной, а вот медная оказалась совсем тощей, как и глиноземы; ради меди и алюминия приходилось переворачивать горы породы, пробивать километры и километры штолен, их нужно было крепить, а кроме металла, иного крепежного материала у нас не имелось. И получалось, что мы пробивали штольни ради металла и выплавляли металл ради того, чтобы пробивать штольни. Это был замкнутый круг, и было в нем еще одно звено, что оттягивало на себя с каждым годом все большее число рабочих рук: утилизация переработанной породы. Объемов пещеры для устройства отвалов уже не хватало, мы пробивали одну штольню и засыпали выбранной из нее породой другую, пробитую раньше, – двигали, перевозили тысячи тонн внутри нашего подземного города туда-сюда беспрестанно.
Продовольствие, которым мы запасались, уходя под землю, как ни надолго нам удалось растянуть его, давным-давно кончилось, мы уже порядочное время были на полном самообеспечении, и чем дальше, тем больше оттягивало на себя наше продовольственное производство сил и людских ресурсов. Коровы, которых мы спустили с собой под землю, дали вполне здоровее потомство, и это потомство дало свое потомство, но удои год от году делались все меньше, все меньше – никакая вентиляция не могла заменить свежего земного воздуха, никакое электричество – солнечного света. Пришлось увеличивать поголовье, а увеличив его, пришлось увеличивать производство кормов, а увеличить производство кормов – это значило увеличить число теплиц, в которых на гидропонике мы выращивали все, от пшеницы и вики до огурцов с редисом, но, увеличив число теплиц, нам пришлось расширять и наше химическое производство, которое различными перегонками, выпарками и прочими способами готовило для гидропоники питательные растворы. Вышел в итоге еще один замкнутый круг, и чем шире он становился, тем у́же уже оказывался на деле, тесня нам дыхание, будто железный ошейник на горле.
Продуктов год от году требовалось все больше и больше. Нас теперь было не две тысячи, как в начале, а почти три. Людей в возрасте спустилось под землю не очень много, в основном такие, как мы с Веточкой, и, как ни велика оказалась детская смертность, население нашего подземного города все же неуклонно росло.
И если б они были просто лишни ртами. Но ведь их нужно было растить. Нянчить, ухаживать за ними, пока маленькие, присматривать, когда подрастут, и учить, развивать физически – то есть заводить детские сады и школы, оборудовать гимнастические залы, строить бассейны… Никто из нас там, на земле, и не догадывался, что это такое – растить детей, какой это труд, какие это вложения, какой расход. Даже и Волхв. С чего ему было догадаться, если он никогда не имел детей. А между тем одних только школьных учителей приходилось нам содержать десятков пять. Ведь не могли же мы допустить, чтобы наши дети, когда строительство будет закончено, выйдя наверх, на землю, оказались ни на что не годными недоумками и невеждами. Нет, они должны были войти в земное общество как равные и чувствовать себя в нем абсолютно полноценными его членами!..
В палату вошел врач. Окинул нас всех быстрым взглядом, попросил жестом Волхва и Рослого освободить место около кровати, завернул угол одеяла, открыв Декану грудь, послушал его стетоскопом, подсовывая мембрану под спину, и вытащил пластмассовые оконечности трубок из ушей бессильно-раздраженным рывком.
– Я ничего не могу сделать! – сказал он. – И даже попробовать не могу. Глубочайший отек, конечно… но ведь у меня вообще… какое у меня здесь оборудование… я так, вместо мебели здесь!
– Прекратите! – резко сказал Рослый. – Не можете – и не надо. Вас никто ни в чем не винит, можете быть уверены!
С полчаса спустя, как и было обещано врачом, Декан пришел в сознание. Он все вздрагивал, дергал в конвульсии руками и ногами, а тут на него вдруг сошло успокоение, лицо разгладилось, прояснилось, дыхание стало чаще, ровнее, и еще немного погодя веки затрепетали и медленно, с трудом отрываясь друг от друга, раскрылись. Мы, сгрудясь, стояли над кроватью. Какое-то мгновение Декан смотрел на нас неподвижным тяжелым взглядом, так что не понять было – осмыслен ли этот его взгляд, действительно ли он пришел в себя, потом голова на подушке повернулась влево, вправо, и вслед этому движению дрогнули в орбитах и глаза, губы приоткрылись, и он произнес, сильно и трубно, несколько звуков.
Что он произнес? «Ам-гам-гам-а», – услышал я. И никто не понял его, и по боли, что рябью прошла по его неподвижным зрачкам, ясно стало, что он догадался об этом. «Ам-гам-гам-а», – снова произнес он, пытаясь обвести нас всех взглядом, и снова никто не понял его.
– Вот, милый, все хорошо, тебе уже лучше, – сказал Волхв.
– Ага, ага, уже лучше! Согласно подхватил Рослый.
Декан вновь приоткрыл рот в мучительной попытке выговорить, сообщить нам что-то, но сил ему уже не хватило, губы его сомкнулись, и мгновение спустя сомкнулись веки.
Минуты полторы был он в сознании, не больше. И только когда последняя, предсмертная судорога пробежала по его телу, расслабляя сутавы и распуская мышцы, отрывая живую душу от плоти, только тут до меня дошло, что он хотел сказать. «Умираю», – вот что он нам говорил, вот то, чем хотел поделиться с нами, тщился сделать это, дабы мы знали, были с ним вместе, а мы не смогли облегчить его отлетающую душу своим пониманием. «Ам-гам-гам-а» – «У-ми-ра-ю» – те же четыре слога…
По часам, что давали нам отсчет времени в нашей подземной тьме, было раннее утро, когда он умер. Вечером, после окончания рабочей смены, мы его хоронили.
За прошедшие годы у нас выработался свой ритуал похорон. Прощание мы устраивали обычно в Главном, самом большом зале пещеры, который мог вместить все наше подземное население и где вообще проходили все общие сходки. Жилые штольни были пробиты поблизости от него, а кладбище находилось в одном из дальних залов пещеры, идти туда приходилось по узким извилистым переходам, и на кладбище после прощания отправлялись, как правило, только самые близкие люди.
На митинге в Главном зале я не выступал. Волхв просил меня сказать хоть что-нибудь, но будто кол стоял у меня в горле – и я ничего не мог говорить. И всю долгую дорогу до кладбища, то неся носилки с завернутым в покрывало телом Декана, то освещая фонарем путь впереди, то следуя за носилками в отдыхающей паре, так я и шел с пережатым горлом. «Инженера нет, сейчас вот Декан, и сколько уже там… а нам еще так долго идти, столько еще впереди…» – все звучали в ушах, никак не могли уйти из меня слова Магистра, сказанные над умирающим Деканом, и, оказывается, во мне самом тоже было это ожесточение и отчаяние, я захлебывался в них, они душили меня, отнимали у меня силы…
А ведь, уходя под землю, никто из нас и думать не думал, что придется устраивать в нашем подземном городе кладбище. Почему-то никому, ни единому человеку не пришла в голову подобная мысль! Но на веки вечные лег там и Инженер, сначала погребенный под тоннами обрушившейся на него породы при проходке той самой штольни, где сейчас размещался медблок, откопанный и вот так же на носилках одолевший этот извилистый путь, и дочурка моя любимая, дочечка моя маленькая, девчушечка славная, так и не успевшая сказать ни слова, тоже там…Может быть, потому не пришла никому в голову мысль о кладбище – тогда, на земле, – что никто и помыслить не мог, что наше подземное заключение продлится не два-три, ну четыре от силы года, а перевалит на второе десятилетие, и так ему все и не будет видно ни конца ни краю?
Ход, по которому мы шли, расширился, луч фонаря повис в пустоте – мы были в пещере. Сегодня я пришел сюда уже второй раз. Первый раз я был здесь утром – долбил могилу для Декана. Долбил, садился передохнуть, отдавая инструмент напарнику, снова долбил, и все время, безотвязно стояла в голове одна и та же мысль: а может быть, где-нибудь здесь по соседству суждено лежать и тебе?
Рослый с Магистром, несшие носилки, поставили их около могилы, и Рослый, наклоняясь, отвернул покрывало с лица Декана.
Все, путь был закончен, теперь лишь – проститься со своим другом. Отныне от бывшего Вольтова братства, что в туманной дали уже семнадцатилетней давности ринулось очертя голову в борьбу за метро, ведать не ведая, во что она выльется, отныне от этого Вольтова братства оставались лишь я да Магистр…
Мы зажгли все фонари, которые были у нас, и направили их свет на лицо Декана. Так мы стояли, глядя на мертвое, стекшее, с запавшими черными глазницами лицо Декана, минуту, две, три, и, наконец, Волхв опустился на колено, оперся рукой о пол и поцеловал Декана в лоб. «Ну прощай, – сказал он. – Пусть земля тебе будет пухом». И все остальные тоже стали опускаться перед носилками на колено, целовать Декана – кто в лоб, кто в переносье – и говорить ему свое последнее, прощальное слово, едва ли слышимое им, но нужное нам, остающимся жить. Прощание закончилось. Рослый снова закрыл Декану лицо покрывалом, мы сняли закостеневшее тело с носилок и осторожно, ногами вперед, вложили его в нору могилы.
Это мы сначала, первые могилы рыли в полу пещеры. Потом мы поняли, что, если рыть в полу, пространства пещеры никак не хватит, и стали выдалбливать могилы в стенах. И если сначала хоронили в гробах, то сейчас, давно уже, просто в саванах. Дороже всего было здесь у нас дерево, что там какое-то золото в сравнении с ним.
Снова в очередь, как кочегары в топку паровоза уголь, мы закидали могилу раздробленно породой, замесили в принесенном с собой ведре густой цементный раствор и заделали отверстие.
Теперь нужно было немного подождать, чтобы в слегка схватившемся растворе оттиснуть приготовленной доской на веки вечные имя Декана и годы его жизни.
И тут, пока мы стояли, снова в молчании, но, по въевшейся в кровь привычке экономить свет, оставив гореть лишь один фонарь, на меня навалились прежние ожесточение и отчаяние, и я закричал немым криком, отталкивая их от себя, собирая в кулак всю свою волю: «Нет! Черта с два!.. А сколько бы еще ни было впереди! Сколько бы ни было! Довести до конца, до последней точки! А иначе нечего было и затевать все! До последней точки, до конца! Чего бы нам это ни стоило!..»
И после, когда уже шли обратно, я все повторял про себя как клятву: «До последней точки, до конца! Чего бы это ни стоило!..» Каменная крошка с грохотом шебаршила под ногами, опустевшие носилки, раскачиваясь на ходу из стороны в сторону, то и дело бились со скрежетом о выступы стен, побрякивал в пустом ведре мастерок, и я все повторял: «Чего бы это ни стоило! Чего бы ни стоило!..»
2
Ритуала поминок мы уже давно не соблюдали и, дойдя до жилых штолен, распрощались. Каждый пошел к себе.
Веточка ждала меня у дверей комнаты – еще издали, только свернув в свою штольню, я увидел маячащую в мерклом желтом свете редких ламп ее родную фигурку.
– Как долго вы там, – сказала она, вглядываясь мне в лицо напряженным, тревожным взглядом.
Мне был понятен ее взгляд. Эта напряженная тревога всегда появлялась в нем в такие вот дни, как нынешний, когда у меня что-нибудь происходило. Безотчетно, сама не замечая того, она как бы говорила мне: я тебя люблю, ты знай, и что бы ни случилось – я с тобой, всегда, во всем, до конца.
Я благодарно обнял ее и повлек в комнату.
– Зачем ты на сквозняке тут…
– Но вы так долго, – подняв ко мне лицо и продолжая глядеть на меня тем же взглядом, проговорила она.
– Ну, какое долго, – открывая дверь, сказал я. – Пока дошли, пока там… сама же знаешь.
Впрочем, ей вовсе не нужно было мое объяснение. Она действительно знала, что совсем не долго, и просто пыталась так объяснить свое бессмысленное стояние в штольне.
Мальчики уже спали, и их угол комнаты тонул в темени. В нашем углу горела настольная лампа, освещая на столе принесенный Веточкой из столовой мой ужин: миску с творогом, кусок пресной лепешки, кружку с остывшим, заваренным мятой чаем.
– Все без происшествий? – спросила Веточка.
Сердце ее говорило ей много больше, чем мои слова.
Но я не стал признаваться в том, что происходило со мной весь нынешний день. Не имел я права взваливать на нее свою муку. Этого только не хватало. Я должен был беречь ее. Не многим так повезло, как мне с нею.
– Никаких происшествий. Какие там происшествия… – отозвался я.
Я сел за стол, она села напротив меня, и электричество отключилось. И в самом деле, поздний уже был час.
Веточка зажгла мне фонарь, я поужинал, и мы стали укладываться.
И только мы легли, в дверь постучали.
– Кто это может быть? – с той мгновенно вернувшейся к ней прежней тревогой спросила Веточка.
Я вскочил и, светя перед собой фонарем, открыл дверь.
Из черноты штольни в лицо мне ударил такой же сноп света, и я ничего не увидел.
– Лег уже, что ли? – спросил меня из темноты голос Рослого.
Я опустил фонарь лучом вниз, он сделал то же самое, и я увидел его, а он, должно быть, увидел меня.
– Пойдем погуляем, – сказал Рослый.
– Нет, я лег уже, – отказался я.
– Пойдем пройдемся, – снова позвал Рослый. – Надо. – И я понял, что это не блажь с его стороны, действительно надо.
– Все-таки что-то случилось, да? – спросила меня Веточка, когда я одевался.
Но ответить ей ничего вразумительного я не мог.
Рослый ждал меня чуть поодаль от нашей комнаты. И в ожидании, светя фонарем, рассматривал болтовое соединение в металлическом креплении штольни.
– Как думаешь, сколько лет еще выдержит? – сказал он, тыча фонарем в соединение, когда я подошел.
– Да пока, полагаю, беспокоиться нечего, – сказал я.
– Ну, лет двадцать, а? – сказал он, по-прежнему держа соединение в пучке света.
– Да, пожалуй, – сказал я.
– Пожалуй, пожалуй… – повторил Рослый и пошел по штольне к главному коридору, и пошел за ним следом я.
С минуту мы двигались молча – я ждал, а Рослый все не заговаривал, и наконец он сказал:
– Волхв к тебе еще не подкатывался?
Я не понял.
– Что ты имеешь в виду?
Рослый снова молчал какое-то время.
– Значит, еще нет, – сказал он затем. – Или хитришь?
Я разозлился. Последнюю пору он постоянно позволял себе разговаривать вот таким образом – будто высший судья, будто уличая тебя в чем-то, – и эта его манера выводила меня из себя.
– Давай-ка ты сам не ходи вокруг да около, – сказал я. – Давай попрямее.
Я посветил ему фонарем в лицо, и Рослый, недовольно сморщившись, отвернул лицо в сторону.
– Ладно, – сказал он, когда я отвел фонарь, – мне понятно. Не подкатывался к тебе. Ясно. Почему-то стесняется тебя. Меня – нет, Магистра – нет, а тебя стесняется. Странно. Ты не обратил на него внимания сегодня? Совсем к черту расквасился.
– Ну, положим, – пробормотал я. У меня было ощущение, что Рослый сказал это про меня самого. – Сегодня-то… что ж удивительного.
Рослый резко остановился, поймал меня за рукав и, развернув к себе, заставил тоже остановиться. Лицо его оказалось у моего лица, и меня обдало его дыханием.
– Волхв хочет наверх, ясно? Просится, ясно? Чуть не плачем, просится. Хочу, говорит, умереть на земле. Главное, говорит, сделано, дело крутится, а я уже старый, толку, говорит, от меня все меньше и меньше, только буду тут у вас хлеб есть!
Меня окатило холодом. Я вспомнил не Волхва – каким он был нынче, я вспомнил себя. Не очень-то я далеко ушел от него; разве что он просился наверх, а я изо всех сил отпихивал от себя вопль об этом.
– Это что… сегодня?
– Сегодня, ясное дело, – грубо сказал Рослый. – Все сегодня. Понимаешь, надеюсь, значение события?
Конечно же, я понимал.
Мало того что это был Волхв, старейшина, патриарх нашего движения, человек, на биографии, на судьбе которого учились наши дети, что было ужасно само по себе; но это ведь был именно Волхв, старейшина, патриарх, и как мы могли ему отказать? Однако не отказать ему – создать прецедент, и чем тогда все закончится?
– А что Магистр? – спросил я.
Рослый выругался.
– А тоже расквасился, глядеть тошно. Он за то, чтобы отпустить.
– В самом деле? – Я удивился. Неужели обычная ироничная трезвость до того изменила Магистру, что он способен закрыть глаза на те неимоверные осложнения, которые неизбежно возникнут у нас, позволь мы Волхву выйти наверх.
– А ты нет? – вопросом на вопрос ответил мне Рослый.
– Я не знаю, – честно сказал я. – Для меня это полная неожиданность. А что ты?
– Пойдем, – тронул меня за плечо Рослый. Мы пошли, светя себе под ноги, и он сказал: – А пусть уходит, черт с ним, что делать!
– В самом деле? – снова непроизвольно спросил я.
– А что делать?! – взмахнув руками, едва не закричал Рослый. – Ты можешь ему сказать – нет?! И Магистр не может. А почему, считаете, я могу? Он так просится, такой жалкий, смотреть на него…
Рослый недоговорил.
– А почему ты считаешь, что я «не могу»? – спросил я. – Я тебе не говорил такого.
– Не говорил, а понятно, – сказал Рослый. – Что я, не знаю тебя. «Полная неожиданность»… – передразнил он меня.
Я снес его щелчок молча. Наверное, он был прав.
– Ну и как же он собирается выходить? – спросил я.
– А не догадываешься? – Теперь в голосе Рослого я уловил насмешку. – Через канал, конечно, как еще.
– А-а, – протянул я.
Но я и действительно даже не подумал, что через канал. Вовсе он у нас не был приспособлен для того, никогда, ни один человек не выходил через канал на землю и не спускался оттуда к нам.
Да, подземное наше хозяйство было натуральным. Но если быть точным до конца, вполне автономными мы все же не были. Правда, то, что мы получали через канал, было во всем нашем хозяйстве не более чем каплей в море, и однако же обойтись без этой «капли» мы не могли, и не могли произвести ее здесь, под землей.
Нам не из чего было получать бумагу – раз, мы оказались не в состоянии вырабатывать многие лекарства – два, и не удалось отыскать никакого, пусть бы самого тощего, месторождения соли – три. Мы обеспечивали себя даже одеждой, изготавливая материю из синтетических волокон и немного, для детей, – из хлопка, семена которого также были взяты нами сюда, а вот солевой, лекарственный и бумажный узел никак нам развязать не удавалось. Ради бумаги, лекарств и соли и существовало у нас маленькое, подобное игольному ушку, отверстие на землю, которое с чьей-то легкой руки мы называли каналом.
Он действовал раз в год, в заранее условленное число, ночью. В одной из дальних вентиляционных шахт останавливалось и разбиралось все оборудование, и в освобожденный узкий зев спускались к нам на канате одна за другой подготовленные земные посылки. Знали о канале все в нашем подземном городе, но право на приказ о демонтаже имели только несколько человек: когда-то и Инженер с Деканом, а нынче вот – Рослый, Магистр, Волхв, я… Последние же годы каналом занимался обычно Рослый.
– Я хочу поговорить с Волхвом, – сказал я. – Может быть, мне удастся уговорить его отказаться от своей мысли.
– Поговори, даже обязательно, – мгновенно отозвался Рослый. – Только, уверен, ни черта у тебя не выйдет. У него одна песня: «Хочу умереть на земле», – другой не знает. Так что особо и не трудись, не нажимай особо. Обдумай лучше, как будем его уход объяснять. Вот задача тебе. Задача так задача. Над ней давай поломай голову.
Веточка, когда я вернулся, конечно же, не спала.
Я передал ей наш разговор с Рослым, и она, помолчав, сказала с уверенностью:
– Он хочет, чтобы Волхв ушел от нас. Почему-то ему на руку его уход. Он хочет, хочет, только скрывает это.
– Ты слишком категорична. – Что-то в поведении Рослого заставляло меня тоже подозревать его в подобном желании, но зачем ему желать этого? И, подозревая, я не верил своему подозрению. – Просто он внутренне уже согласился на его уход.
– Согласился, конечно, – упрямо сказал в кромешной тьме над моим ухом голос Веточки. – Еще и потому, что рад его просьбе.
– Ну ладно, ладно, – проговорил я примирительно, – вот я еще сам потолкую с Волхвом, и будет видно.
Но с Волхвом назавтра никакого разговора не получилось.
И в самом деле он был словно бы не в себе, он не слышал ничего, что я говорил ему, и на любые мои слова отвечал, как заведенный, одно и то же:
– Но ребята не против! Ребята не против! Даже Рослый! Рослый меня понимает. Почему ты не понимаешь? Только ты, один ты! Почему?!
В голосе его была истерическая беспомощная горячечность, казалось, сейчас, в следующее мгновение, он разрыдается, и такой конечной, последней усталостью были налиты его блеклые, потерявшие цвет глаза, что, не знай я его прежде, никогда бы не смог представить, как они могут быть ярки, как жарко, как зажигающе могут гореть.
– Бог тебе судья, – только в конце концов и оставалось мне сказать ему.
Никаких проводов Волхву перед его ночным уходом через канал спустя три дня мы не устраивали. Я лично попрощался с ним еще утром, столкнувшись в диспетчерской по пути в забой. «Всего тебе», – сказал я, подавая руку. Он было подался ко мне обняться. Я отстранился. «Напрасно ты так», – сказал он. Но я ему не стал даже отвечать. И прожил весь день как обычно – работая на своем участке в забое, и по-обычному провел вечер – занимаясь в школьном гимнастическом зале с прикрепленной ко мне группой мальчиков. Канал был не моей заботой, хлопоты, связанные с подготовкой его к работе, меня не касались. Канал был заботой Рослого.
3
То, что ждало меня наутро, не могло присниться ни в каком, самом кошмарном сне.
Оказывается, Рослый чувствовал себя вчера нездоровым, попросил Магистра заменить его на приеме посылок, в том числе и проводить наверх Волхва, и Магистр, воспользовавшись этим, пытался уйти вместе с ним.
– Не может быть, – не поверил я Рослому, когда он, не в силах сдержаться, матерясь через слово, рассказал мне о Магистре.
– Не может только мужик родить, ясно?! – закричал в ответ Рослый. – А он едва не ушел! Случайность только и помешала! Он уже наверх поднялся, ему только из корзины на землю ступить осталось! Парнишка, помощник, что внизу был, раззява попался. Тормоза не зажал, а противовес уже снимать стал. Скинул два блока – корзина и ухни вниз. Так наш друг и полетел: одной ногой внутри, другой наружу, всю пятку, пока летел, о стенки размолотило!
– Да ты что?! – непроизвольно воскликнул я. – Но жив он?
– Жив, слава богу.
Как-то странно произнес Рослый это свое «слава богу», как-то плотоядно вышло у него это, и я внимательно вгляделся в его лицо.
– Ты что, крови жаждешь?
– «Жажду» я! – Рослый сплюнул. – Лихо ты выражаешься. Вампиром меня назови еще! Он нашему Делу изменил. Он изменник! А изменника, ты считаешь, нужно прощать?
– Но Волхв ведь тогда тоже изменник?
– Волхва мы отпустили! Он с согласия! И он старый, ему помирать, а Магистр в самом соку, ему пахать да пахать! Вот разница, ясно?
Я был ошеломлен этой новостью о Магистре, раздавлен напором Рослого, и голова у меня ничего не соображала.
– И чего же ты хочешь? – тупо спросил я.
– Пусть отвечает за то, что сделал. Перед всем народом пусть отвечает. Пусть народ выскажется, что думает по этому поводу. Пусть назначит наказание.
– Где он сейчас?
– Кто? Магистр? – переспросил Рослый. – В медблоке, конечно, где еще.
– Увидеться я могу с ним?
– Ну нет! – Тон Рослого сделался жесток и враждебен. – Кто-кто, а ты с ним не встретишься до самого суда. – Вы – Вольтовы братья, у вас свои, давние отношения, ты не можешь быть объективен. На суде толкуй с ним сколько угодно, а до суда – нет!
Я взъярился. Я уже не впервые отмечал для себя, что Рослый стал последнюю пору непонятно подозрителен, недоверчив, но в данном-то случае с какой стати он в чем-то подозревает меня, почему вообще чувствует право на это?!
– А ты не находишь, что ты меня оскорбляешь? – слыша, до чего накален мой голос, едва управляя собой, сказал я. – Не находишь, что я могу встретиться с Магистром и без твоего соизволения? Если ты так, то ведь я могу и эдак. Начхать на твое мнение – и пойти к нему.
Рослый отрицательно качнул головой:
– Начхать можешь, а пройти не пройдешь. Тебя не пропустят.
– Не пропустят? – поразился я.
– Да. Я выставил охрану.
– Охрану? – Я все больше изумлялся.
– Охрану, – подтвердил Рослый. – И подчиняется она только мне. А твое слово для нее – пшик, и не больше.
От моей ярости ничего не осталось. Сообщение вытеснило ее напрочь. Он что, захватывал власть, что ли?
– Да чего ты хочешь все-таки? – спросил я.
– Того же, надеюсь, чего и ты. Довести наше Дело до конца. – Рослый не просто выделил «Дело» голосом, не просто подчеркнул его, оно прозвучало у него так, словно бы он покачал его голосом, словно бы он баюкал младенца.
– Но при чем здесь суд над Магистром?
– При том! При том. Что мы на краю катастрофы. Люди устали. У людей энтузиазм кончился. Три попытки побега за последние полгода – это не знак? Душеспасительные беседы с ними провели, в медблоке на психотерапии подержали – и думали, все нормально? Ничего не нормально. А завтра они не поодиночке рванут, а сразу сто человек! А потом еще сто да еще двести. Высокий у нас моральный дух воцарится? А как все побегут, тогда что? А побегут, побегут, к тому дело идет. Вы же слюнтяи все, с Волхвом вместе, вы палец о палец не ударили, чтобы правде в глаза взглянуть, я один решился. У меня целый штат осведомителей работает, ясно? Я знаю, к чему дело идет! И контрмеры мною уже продуманы.
Рослый не прокричал мне все это, как можно было бы ожидать от него, он словно бы объяснял мне ситуацию, просто втолковывал очевидное и, обругав меня – «Вы же слюнтяи все!», – тут же как бы и простил, отступился извинительно: ну уж ладно, впрочем, какой есть.
А я ощущал себя будто парализованным. Изумление, охватившее меня, уже нельзя даже было бы назвать изумлением, это был какой-то столбняк, оцепенение какое-то, полная душевная разбитость.
Но все же я нашел в себе силы повторить свой вопрос:
– Так и при чем здесь суд над Магистром?
Во взгляде Рослого, каким он смотрел на меня, блестела пустая, металлическая жесткость. Но враждебности в этой жесткости теперь не было.
– Да при том, чтобы видели, что спуску отныне не будет никому. Даже ветеранам движения, ясно? Одному позволили, а другого – к позорному столбу! Мы должны опустить шлагбаум. Закрыть занавес – и чтоб ни щелки. Все, больше никаких «каналов». Абсолютно никаких сношений с землей. Иного выхода у нас нет. Чтобы все знали: поднимемся, только когда закончим Ясно? Я все продумал. Без бумаги обойдемся. Жили шумеры с глиняными табличками? Сможем и мы. Для школы понаделаем грифельных досок. И без соли обойдемся. Я получил надежную консультацию. Оказывается, мы расходуем ее в десять – пятнадцать раз больше, чем требуется нашему организму! Для вкуса расходуем! Такое расточительство, что нет слов! Вот и будем потреблять ее в пятнадцать раз меньше. Сколько нужно. А вкусовые пристрастия – дело искоренимое. Привыкнем. Запаса, что есть, хватит нам лет на тридцать. С чем сложнее, это с лекарствами. Их ничем не заменишь, для вкуса их не пьют. Но будем обходиться и без них, теми, что делаем сами. Смертность, разумеется, подскочит, особенно детская, но придется пойти на подобную жертву. Ради Дела.
Он снова произнес это слово так, будто баюкал младенца. И я в этот миг подумал почему-то о том, что он, как и в годы молодости, по-прежнему одинок; как одиноки были Волхв и покойный Декан. Но ни Декана, ни Волхва теперь нет.
– Может быть, ты прав – сказал я. – Мне надо обдумать твои предложения. Очень может быть. Но не надо устраивать над Магистром никакого суда. В этом я уверен.
– А я уверен, что надо! Мы не имеем права ничего утаивать от народа. И как народ решит поступить с ним, так и будет. Ясно? Народная воля – высший судья, ты согласен?
Вопрос был довольно риторический, и я пробормотал:
– Пожалуй.
– Ну вот, – удовлетворенно сказал Рослый. – И надеюсь, ты будешь вместе со всем народом. Я вообще надеюсь на тебя. Надеюсь, что ты будешь со мной. Во всем и до конца.
А, вот он почему был так откровенен, вот почему так подробно все объяснял. Он хотел, чтобы я был его союзником. И ухода Волхва – правильно почуяла Веточка – он тоже хотел, оно ему было на руку, это Волхвово желание, весьма на руку. Магистра же сейчас он хотел скомпрометировать как своего возможного противника и тем самым просто-напросто вывести его из игры. А мне, значит, была уготована роль союзника…
– Я ни с кем, я с нашим Делом, – сказал я.
– Ну и прекрасно, – отозвался Рослый. Вскинул над головой руку и помахал.
И только тут я заметил. Разговор наш происходил в диспетчерской, довольно большом, ярко освещенном сильными лампами искусственном зале, всегда в эту пору людном – как было нынче, – и вдруг вокруг нас никого не стало. Было полно народу, когда мы начали разговор, и никого не стало, все отдалились от нас, оставив нас для разговора один на один. И лишь сейчас, по знаку Рослого, двинулись, зашумев, на свои прежние места, как, видимо, по какому-то другому, не замеченному мной знаку, и оставили нас одних.
Выходит, Рослый действительно осуществлял захват власти. Для того, чтобы узурпировать ее, нужен момент, стечение обстоятельств, а к этому моменту – группа надежных, беспрекословно подчиняющихся тебе людей, и, судя по всему, такая группа была им создана, а момент настал. Декан умер, Волхв покинул нас, Магистр совершил поступок, лишавший его права стоять во главе нашего Дела, а я один в счет не шел.
– И когда же суд? – спросил я Рослого.
– Когда, по вашим расчетам, он оправится? – найдя глазами в окружившей нас толпе врача, спросил Рослый.
– Через недельку, я полагаю, – подсунувшись вперед, с подобострастием проговорил врач.
Это был тот самый врач, что устроил истерику перед постелью умирающего Декана. А делать ему здесь, в диспетчерской, в этот час, отметил я про себя, было абсолютно нечего.
– Ну вот, через недельку – вновь поворачиваясь ко мне, ответил Рослый.
4
Есть выражение «как во сне».
Я прожил эту неделю до суда впрямь будто во сне. Меня мучили наяву такие кошмары, какие мне никогда и не снились. Мне чудилось, что это будут судить меня, а не Магистра, мне уже казалось, что это я, а не Магистр пытался убежать на землю, оставляя здесь, под землей, свою семью… о, ведь я сам, сам был рядом с этим желанием, на волос от него! Мне вспоминалось, как, хороня Декана, я захлебывался – невидимо для всех! – в постыдном, щенячьем чувстве усталости и ожесточения, и я был не в состоянии осуждать Магистра, я не ощущал в себе ненависти к нему или презрения, не ощущал его изменником, во мне не было к нему ничего, кроме жалости…
И вот он настал, день суда. Посланец от Рослого известил меня накануне, что суд состоится не в Главном зале, как предполагалось вначале, а прямо на производствах.
– Как это? На всех сразу? – недоуменно спросил я посланца.
– Как это на всех сразу! – усмешливо ответил он мне. «Дурной вы, что ли!» – услышал я в его голосе. – Начнем на одном, продолжим на другом, переберемся на третье… Чтобы суд к людям пришел, а не они в суд. Ясно?
Должно быть, он не заметил, что ответил мне совершенно в манере Рослого – повторил буквально все его интонации и даже добавил в конце «ясно».
Первое заседание началось в сталеплавильном цехе. С шумом работали вентиляторные установки, вытягивая из помещения дымный смрад, утробно гудела электродуга конвертора, адски играющего красными отсветами расплавленной стали на колпаке вытяжки, а столпившийся напротив судейского стола, на некотором расстоянии от него, народ то и дело поглядывал в сторону этого гигантского футерованного котла – скоро должна была начаться разливки стали, и все ждали сигнала занять свои рабочие места.
Как ввели Магистра, я не заметил. Я только увидел, что он, поддерживаемый под руки двумя людьми, выставив вперед загипсованную ногу, с черным, измятым, осунувшимся лицом уже усаживается на стул сбоку судейского стола, и я бросился к нему из глубины зрительской толпы, растолкав ее в один миг.
– Спокойно! – выступил откуда-то со стороны человек, загораживая мне путь. – Вступать в контакт с подсудимым запрещено. Только с разрешения суда.
Магистр тоже рванулся было ко мне, вскочив со стула, но загипсованная нога мешала, да он и не сделал ни шага – под руки его тут же подхватили его сопровождающие, и дорогу ему точно так же, как мне, заступил вынырнувший неизвестно откуда еще один человек.
Мы обменялись с Магистром взглядами – глаза у него были потухшие, покорные, измученные, и я вернулся в толпу, а он сел обратно на свое место.
Рослого нигде видно не было. Может быть, откуда-нибудь издалека он и наблюдал за судом, но ни за самим судейским столом, ни в зрительской толпе он не присутствовал.
Магистр признался во всем сразу, мгновенно, едва лишь начался суд. Да, хотел сбежать, ответил он. Специально попросился нынче осуществлять канал, чтобы сбежать. Если бы удалось сбежать, то никогда бы уже, естественно, не вернулся…
Из-за шума в цехе слышно было плохо, и всем – и судьям, и Магистру, – чтобы слова их были понятны, приходилось кричать. И еще было невыносимо жарко, все обливались по́том, и у кого не нашлось платков, давно уже почитавшихся у нас великой роскошью, вытирали лица подолами рубах и рукавами.
Я поднял руку:
– У меня вопрос.
– Вообще-то не положено, – ответил председательствующий, – но вам можно. Задавайте.
– Насколько мне известно, – прокричал я, обращаясь к Магистру, – тебя попросили подменить кое-кого заболевшего. Не ты сам захотел, а тебя попросили.
– Нет, это я сам захотел, – бесцветным голосом, с механической заведенностью громко ответил Магистр.
– Если сам, то мне интересно, чем ты мотивировал свою просьбу? Ведь обычно связь осуществляет…
– Вам отвечено! – резко прервал меня председательствующий. – Несущественные вопросы судом не принимаются. – И обратился к Магистру: – Как бы вы сами квалифицировали свой поступок?
– Измена, – тут же, без паузы отозвался Магистр.
– Та-ак! – произнес председательствующий, собираясь, судя по всему, подводить какой-то итог, и вдруг спохватился: – Да! Давайте выслушаем свидетеля. У подсудимого во время производившихся работ был помощник, и это благодаря ему не удался побег!
Парнишке-свидетелю было лет тринадцать, чуть-чуть побольше, чем моему старшему. Видимо, один из наших первенцев, рожденных здесь, зачатый, зачатый незнаемо для своих родителей, еще на земле. Но с какой это стати он оказался в помощниках у Магистра? Детей его возраста мы уже использовали на различных работах, но только на легких, в коллективной форме, и, конечно, не ночью!
Четко и внятно – как в армии согласно уставу, вспомнилось мне из земной жизни, полагалось отвечать командиру – парнишка ответил на все заданные вопросы, рассказав о том, о чем я уже знал: как корзина с Волхвом и Магистром ушла вверх и он, не дождавшись почему-то сверху сигнала о спуске, начал скидывать с лебедки бетонные блоки противовесов, и, только скинул два, корзина полетела вниз…
– У меня вопрос! – снова поднял я руку, когда допрос парнишки был завершен.
– Ну задавайте! – снова разрешил председательствующий.
– У меня вопрос к свидетелю. Меня интересует, как он оказался на индивидуальной работе да еще в ночное время?
– Ответьте, свидетель, – сказал председательствующий.
– Я являюсь членом Детского комитета добровольной помощи Делу, – все так же четко и внятно ответил парнишка, чего нельзя было сказать о сути его ответа.
– Есть такой комитет? – удивился я. – И что из того, что вы состоите его членом?
– Вам отвечено! – не давая парнишке открыть рта, прокричал председательствующий. – Несущественные вопросы судом не принимаются. Идите, свидетель, – отпустил он того. И обратился к зрительской толпе: – Случай, который мы сегодня рассматриваем, особый случай. Подсудимый являлся до самого последнего времени одним из наших руководителей. Мы долго не придавали попыткам и случаям побега должного значения. И зря не придавали! Вы слышали, подсудимый сам назвал себя изменником. А чего заслуживает изменник? Во все века заслуживал?
– Черт! – проговорил рядом со мной голос. Я глянул – это был сменный начальник конвертора, я знал его. – Уже время сталь выпускать!
– Ну, еще погодим немного – ответил ему его сосед.
– Так чего заслуживает изменник? – повторно прокричал председательствующий. Нас ваше мнение, мнение трудового народа, интересует!
И из толпы, до сих пор безучастной к происходящему, совершенно неожиданно для всех выкрикнули:
– Смертной казни!
И тотчас все всколыхнулись:
– Да уж так-то зачем?
– Других прощали!
– Других лечили!
– А он что, сорваться не мог, если руководитель?
Председательствующий поднял руку и держал ее так.
– Нет! – сказал он жестко и решительно. – Этого мы больше терпеть не можем. Не будем терпеть! Кто это там простить хочет?!
Теперь ему ответили полным молчанием. Словно бы какая-то тяжелая железная волна прокатилась в воздухе от его слов – и вбила всем языки в рот.
И в этой человеческой тишине, перекрывая шум работающих цеховых механизмов, тот же голос, что прежде, крикнул:
– К смертной казни его, изменника!
И теперь толпа не отреагировала на этот выклик ни единым словом.
Только спустя мгновение начальник конвертора рядом со мной закричал:
– У меня разливка начинается! Мы долго еще будем, нет?!
– Всё, всё! – тотчас вскинулся председательствующий. – Мнение вашего производства ясно. Все свободны!
Двое других членов суда не вымолвили с самого начала судебного заседания до самого конца ни звука. Они просидели здесь кем-то вроде одушевленных манекенов, в необходимый миг поворачивающих голову в сторону говорящего, делающих строгий, неподкупный вид, что-то там у себя записывающих…
Всех троих я прекрасно знал. Председательствующий был спортсменом в прошлом и вел у нас в школе уроки физкультуры, эти двое, как и я, были недоучившимися студентами, только горняками, и работали на проходке штолен. И все трое за всю пору, что мы находились здесь, никогда ничем не выделялись: ни особой какой-то энергией, ни поступками – были, в общем, как все.
– Вы, если желаете, можете пойти с нами, – подозвав меня, разрешил мне бывший спортсмен. – Мы сейчас на старую электростанцию.
Я, разумеется, пошел.
На электростанции судебное заседание проходило в пультувой, было тихо, спокойно, и даже хватила на всех стульев и табуретов, никому не пришлось стоять, но в остальном все повторилось, как в сталеплавильном цехе. Магистр признал свою вину, рассказал в подробностях, как происходило дело, назвал себя изменником; я снова попробовал было задать какие-то вопросы, и снова председательствующий обошелся со мной прежним манером; парнишка-свидетель поведал, как получилось, что он не дал совершить подсудимому побег, только на этот раз бывший спортсмен не забыл о нем и дал ему слово в более подобающем месте. И еще было одно отличие от процесса у сталеплавильщиков. «Металлурги предложили смертную казнь, – объявил бывший спортсмен, окидывая взглядом собравшихся людей. – А как считаете вы?» И все, в остальном не было никаких отличий.
А потом то же самое повторилось в теплицах, на химическом производстве, в конструкторском бюро у машиностроителей…
Это был какой-то бред; какой-то шутовской, дурацкий спектакль. Казалось, все ответы Магистра были заранее заготовлены, как и вопросы, что задавались ему, и он только механически, заученно долбил то, что полагалось. Во всем происходящем было что-то картонно-бутафорское, невзаправдашнее, но оттого – лишь еще более страшное и жуткое в своей несомненной реальности.
5
В очередное место я с судом не пошел, а бросился разыскивать Рослого. «Что это? Что происходит?! – хотелось мне заорать Рослому в лицо, схватив его за грудки. – Какой смертный приговор? С ума они сошли?! Ну если и пытался бежать, при чем здесь смертная казнь?!»
Рослого, однако, нигде не было. Я обшарил все мыслимые и немыслимые места, где бы он мог находиться, но его нигде не было. Я обзвонил едва ли не все номера нашей телефонной станции, его не оказалось ни по одному телефону.
Я пробегал по штольням из помещения в помещение часа четыре – все безуспешно; Рослый нашел в конце концов меня сам. Умаявшись и обессилев, я притащился в столовую, чтобы съесть свой обед, порция была мне оставлена, я съел ее, собрался уходить, и тут меня позвали к телефону. Рослый поинтересовался, был ли я на суде, и, не успел я раскрыть рта, чтобы сказать, что думаю об этом суде, попросил меня прийти к нему сейчас в его жилую комнату.
Мимо его комнаты, рыская по штольням, я пробегал раз десять – дверь в нее была не заперта, приоткрыта, и комната стояла пустая.
Рослый дал мне обрушить на него все мое возмущение, весь мой гнев, он терпеливо и молча выслушал все, что я кричал ему, и, когда я выкричался, подошел ко мне, обнял, постоял мгновение недвижно, отстранился и посмотрел мне в глаза долгим тяжелым взглядом. Так мы обнимались, встретившись над постелью умирающего Декана. Только тогда, войдя в смертную комнату, обнял Рослого я.
– Понимаю тебя, – сказал он. – Как еще понимаю… – В нем не было ничего от обычного Рослого – взрывчатого, шумного, несдержанного; и голос его был тих, печален и в самом деле будто светился пониманием. – Но что делать, что делать… Народ осатанел. Люди устали, я же говорил. Все закономерно. На меньшее, чем смертный приговор, они не согласятся. И требование их, видно, придется удовлетворить. Что делать.
– Что?! Удовлетворить? Ты с ума сошел! – закричал я. Кожу на голове мне продрало морозом. – Да это же подсадные, кто требовал! Народ того вообще даже и не желает!
– Подсадные? – неверяще посмотрел на меня Рослый. – Да что ты, какие подсадные? Откуда они могли взяться? Кто это их мог подсадить?
«Ты!» – хотел крикнуть я. И не решился. Не было во мне полной, окончательной уверенности. Всегда, всю жизнь нужно мне было прямое свидетельство для уверенности и крепости в действиях, прямое доказательство. А такового у меня не имелось.
– Да нет, какие подсадные, – повторил Рослый. И снова посмотрел мне в глаза – долгим, тяжелым, полным печали взглядом. – Мы перед крутым поворотом, понимаешь? На таком повороте легко опрокинуться. Занесет – и вверх колесами. Ясно? Мы не имеем права допустить подобного. Народ требует смерти – мы должны подчиниться. Народ хочет жертвы. Ясно? Крови хочет. Ему разрядиться нужно. Что поделаешь, если Магистр подвернулся с этим своим побегом…
Я молчал. На меня снова нашло то оцепенение, что уже схватывало меня столбняком в прошлый раз, когда Рослый, сообщим о суде над Магистром, говорил о необходимости «опустить шлагбаум». Я понимал: все предрешено, и у меня, главное, нет способа изменить что-либо, нет сил!
И все же я одолел свой столбняк.
– Это ты хочешь крови, – сказал я, с трудом ворочая языком. – Это тебе нужна жертва. Тебе!
Рослый закричал – будто оборвал в себе разом некую привязь, что держала его в состоянии тяжелой, раздавливающей печали.
– Не мне! – закричал он. – Не мне! Ясно?! Всем нужна! И тебе тоже! – Изо рта у него белыми клочьями полетела слюна. – Большое дело только на крови крепко стоит! Кровь – как известь в кладке! Кровь виной связывает! А пуще вины нет ничего, такими нас Господь создал: без вины все из хомута норовим, а с виной и тройной воз – пушинка! Ясно?! Это вы, слюнтяи, ничего знать не хотели, видеть не желали, что происходит! Все на меня сейчас свалить хочешь? Не выйдет, не приму! Так вот выпало Магистру – нечего было драпать. А мог и ты подвернуться! Любой мог подвернуться! Любому могло выпасть! Выпало бы тебе – я бы сейчас с тобой здесь не разговаривал!
Он умолк так же внезапно, как и сорвался в крик. Вытер ладонью слюну с подбородка и губ и затем обтер ладонь об одежду.
– Я тебя вот зачем видеть хотел, – сказал он наконец снова тем же тихим, тяжелым и словно бы печальным голосом. – Кто-то ведь должен будет приговор в исполнение привести. И со стороны тут никого не позовешь. При чем тут со стороны кто-то? Кто-то близкий должен быть. Ну не жена, конечно. Но очень близкий.
Чего-чего, но подобного я не ожидал никак. Он предлагал взять на себя эту страшную обязанность мне!
И сразу все, о чем он говорил прежде и чему я ужасался, померкло перед этим его предложением, заслонилось им, не оставив в мире ничего другого.
– Ты сошел с ума… – слыша, как дрожит у меня голос и не в силах придать ему твердость, не сказал, а как-то прорычал я. – У тебя, видно, не все дома… Требуешь крови… и хочешь, чтобы убийцей стал я? А почему тогда чужими руками… почему не своими?
Рослый, казалось, ждал этих слов.
– Я на себя и без того взвалил столько, – тут же, едва дав мне умолкнуть, заговорил он, – сколько из вас никто не унес бы. Почему это я и дальше все на себя должен взваливать? Вы слюнтяйничали, я пахал, теперь давай впрягайся и ты, настала пора. Ясно?! Я же сказал, все на себя одного принимать не буду. А кроме тебя, ближе ему никого нет. Вы же – Вольтово братство! От руки, так сказать, брата… в этом свой смысл, весьма символический… да суть, в общем-то, вот в чем: ты и никто другой – выбора тут нет.
– Я отказываюсь, – стараясь придать голосу твердость и слыша, то он все же дрожит, сказал я. – Отказываюсь, понял?
– Да понял, понял, – сказал Рослый. – Нелегко согласиться, конечно. За то я тебя и люблю – за верность твою, за надежность. Но сейчас ты смешиваешь две верности. Верность личным привязанностям и верность Делу. Высшую и низшую. Ясно? А ведь ты философ, вспомни, должен уметь разделять понятия. Если верность Делу для тебя высшая, то обязан низшею поступиться. Если наоборот…
Он приостановился, я ждал, глядя на него, и он продолжил:
– Если наоборот, придется отдать под суд и тебя. Не в наказание, нет. Просто не вижу иного выхода. Или ты с нашим Делом, а значит, со мной. Или против меня, а значит, против Дела. А кто против Дела – тот враг. Ты на грани того, чтобы стать врагом Дела. Ясно?
Я слушал его и с ужасом ощущал, что в этой дикой его софистике все правда: власть была им захвачена, узурпирована, и пойди я против него – я оказывался врагом Дела; оказывался вне Дела, вытолкнут из него, и зачем она была мне нужна, такая жизнь?
– Обдумай как следует все, что я тебе тут говорил, – сказал Рослый. – Обдумай, обдумай. Времени у тебя – до завтрашнего дня. Воля народа уже ясна. Объявим ее нынче вечером по трансляции, а завтра в Главном зале приведем в исполнение. Ты не пугайся, никаких секир. Все просто, как в Америке. Вполне гуманно. Электрический стул. Высокое напряжение. Только замкнуть сеть рубильником.
Искушение ударить его было так велико, что от сдерживаемого желания у меня заломило в висках. Ну ударил бы я его, и что бы от того изменилось? Власть была им захвачена, узурпирована, и у меня оставался один путь, чтобы служить нашему делу и дальше…
В дверь комнаты постучали, и она приоткрылась. На пороге стоял один из тех малоизвестных мне людей, что сегодня во время суда, будто из воздуха возникая и в нем же исчезая, бдительно следили за поддержанием некоего, им лишь одним известного порядка.
– Что такое? – недовольно спросил Рослый.
Однако он подошел к человеку, перемолвился с ним несколькими словами, и человек исчез. Рослый плотно закрыл за ним дверь и подпер ее спиной.
– Мне, к сожалению, – сказал он, – пора уходить. Но, я думаю, тебе в принципе все понятно. И надеюсь, что Дело для тебя превыше всего. Ведь я знаю, что превыше всего. Вот за это я тебя, собственно, и люблю. Для меня самого – ничего в жизни, кроме нашего Дела. Через что б ни пройти, но довести его до конца!
Он много раз за нынешний наш разговор произносил это слово – «Дело», и всякий раз оно звучало у него так, словно он баюкал на руках младенца.
– До утра. Утром свяжусь с тобой! – распахнул Рослый передо мной дверь и, выпуская, приобнял на ходу, подзадержал.
6
Я шел по освещенной дневной штольне к себе в комнату, громко хрустя гравием, и у меня было одно желание: удавиться. Прийти к себе, запереться и удавиться.
Велик, однако, инстинкт жизни. Пойди-ка сломи его, как ни сильно твое желание уйти из нее. Найдя веревку и связав петлю, я накинул ее себе на шею, потянул вверх… но, как только дыхание перехватило, тут же судорожным движением распустил петлю…
Ночью, в постели, в кромешной, глухой тьме я рассказал Веточке обо всем. Не потому, что не мог сдержаться. Пожалуй бы смог. Но дело касалось ее судьбы в такой же степени, как и моей. Повседневные заботы нашей совместной жизни были у нас разные, а судьба – одна. И что бы ни произошло со мной, тотчас это с тою же силой непреложно отозвалось бы на ней.
Она плакала – какая женщина не даст слезам воли при подобных известиях? Она понуждала меня вновь и вновь, всю бессонную ночь, обладать ею – был ли то инстинкт жалости и сострадания или же только самосохранения? Впрочем, разумеется, это не важно. Я лег с нею в постель студенистой амебой с растекшейся волей, не годным ни на что, кроме как желать себе смерти, а поднялся крепким, уверенным в своих силах, собранным в кулак, готовым вынести все, что должно.
Дожидаться звонка Рослого я не стал, позвонил сам. Он еще спал, пробурчал сонным голосом, что я понадоблюсь ему позже, и собрался положить трубку, но я заставил его говорить со мной. «Это еще зачем?!» – вмиг проснувшись, спросил он, когда я сказал, что должен встретиться с Магистром. И однако ему пришлось уступить и дать разрешение на встречу; причем не через час, не через два, а сейчас, немедленно, как того хотел я.
Магистра содержали все так же в медблоке, и в камеру его была превращена та самая палата, в которой умер Декан. Он не лежал на кровати, не сидел на табурете – единственной мебели, оставшейся от всей обстановки палаты, – он стоял на четвереньках в углу, уткнувшись головой в сретенье стен и пола, и на звук открывшейся двери, что впустила меня, не шелохнулся.
Я сел на табурет, стоявший посередине комнаты, посидел какое-то время. Магистр все продолжал стоять без движения, не обращая внимания на то. что там у него за спиной, и я позвал:
– Э-эй!..
Будто рябь прошла по его телу. Дернулись ноги – и толстая белая кукла загипсованной ноги даже пристукнула о пол, – дернулся торчащий зад, дернулись плечи, руки, голова, и он медленно, переступив коленями, повернулся ко мне лицом, и – Боже! – что случилось с этим тусклым, мертвым, тоже словно бы загипсованным лицом, оно так и полыхнуло светом и счастьем!
– Фило-ософ! – протяжно сказал он. – Это ты!
Магистр заперехватывал руками по стене, чтобы подняться, закукленная нога мешала, и я вскочил, помог ему подняться, и, поднявшись, он крепко обхватил меня руками, прижался головой к моему плечу и затрясся в рыданиях.
– Фил-о-ософ! – говорил он скачущим голосом сквозь рыдания. – Фил-о-соф!.. Фил-о-соф…
Я молчал и только поддерживал его, чтобы ему было не слишком тяжело стоять на одной ноге.
Потом, длинно вздохнув, Магистр поднял голову, отстранился и, приступив на загипсованную ногу, шагнул к кровати и бухнулся на нее.
– Слушай, Философ, – сказал он, вытирая ладонями мокрое лицо и обшоркивая ладони об одежду, – это правда, да? Меня казнят?
Я кивнул.
Его снова затрясло. Но теперь рыдания продолжались не очень долго.
– Бред, – сказал он, вновь вытерев лицо. – Бред. Неужели так нужно? Рослый говорит, что так нужно. Ты тоже считаешь, что так нужно?
Я снова кивнул.
– Но почему это должен быть я? Почему я?
Ничего в нем не осталось от прежнего Магистра, холодно-ироничного, скупого на слова и жесты. Сейчас это был какой-то горячечный, трясущийся комок плоти.
– Так тебе выпало, – сказал, наконец, и я.
– Что, что выпало? – закричал он. – Почему мне?
– Зачем ты хотел бежать? – вопросом ответил ему я.
– Бежать? Я? – Магистр хохотнул быстрым, диковатым смешком. – Никуда я не хотел бежать. Я провожал Волхва.
– Но ведь зачем-то ты стал вылезать из корзины?
– А так мне было велено. Выйти и обнять его на прощание. Не удалось вот выйти.
– Но почему ты признался на суде в попытке побега?
– Но ведь так нужно?
В голосе Магистра были издевка, неверие и надежда – все вместе, все в едином, трепещущем сгустке.
Я опять кивнул. Ответить ему на этот вопрос утвердительно было все же сверх моих сил.
– У-у… – дикое, утробное, не звуком, а каким-то хрипом вывалилось из Магистра. – У-уу…
– А я тебя казню, – сказал я.
Он, видимо, или не услышал меня, или не понял. Сидел, ухватившись обеими руками за спинку кровати, и из него лез этот урчащий, пузырящийся хрип: «У-у-у…»
– А казнить тебя буду я, – повторил я громче и внятнее, наклонясь к нему.
Магистр услышал. И понял. Хрип прекратился, он смотрел, скособочась, на меня, и вдруг стал вставать, потянулся ко мне руками, и мне показалось, он хочет схватить меня за шею, – я отпрянул.
– Фило-ософ!.. – с прежней протяжностью произнес Магистр, и из глаз у него снова брызнуло, но это были не рыдания, это были какие-то просветленные, чуть ли не счастливые слезы. – Фило-ософ!.. Как хорошо, что это будешь ты… Как хорошо! Я боялся, что какой-нибудь… а от тебя – это хорошо, это мне легче… Я буду думать: вот-вот, вот сейчас… и буду знать, что это ты, мне это будет приятно…
Я вышел от него с чувством какого-то мистического страха. Я должен был увидеться с ним и сообщить, что именно я буду приводить приговор в исполнение, – для того чтобы быть честным перед собой, чтобы не прятать трусливо и гадко голову в песок; и, конечно же, я ожидал от нашего разговора всего чего угодно, но вот того, что он станет благодарить меня за взятую на себя страшную обязанность, – этого я не мог себе и вообразить.
И однако же я сделал свое дело как положено. За ночь в Главном зале был сооружен для казни специальный помост, на помосте, чтобы скрыть от взглядов тысячной толпы предсмертные конвульсии Магистра, установили небольшую кабинку с лежаком внутри, и его, живого, провели туда, укрыли от взглядов. А я со своим смертельным рубильником, укрепленным на торчащей над помостом стойке. Стоял, согласно замыслу Рослого, у всех на виду; стоял и ждал знака. И когда знак был подан, я, ни мгновения не медля, рванул ручку рубильника вниз и вжал заискрившие железные пластины в тесные щели контактов до упора.
7
С этого дня началась новая эра нашей жизни.
Отныне каждый знал, что жить ему здесь, под землей, еще годы и годы – долгие годы – и, скорее всего, здесь и умереть, так и не увидев земного света. Отныне каждый знал, что его жизнь больше не принадлежит ему. Что она безвозмездно взята у него для Дела и будет возвращена ему лишь тогда, когда заблистают станции мрамором отделки, погонят по туннелям воздушную волну перед собой скорые грохочущие поезда и вытянутся наклонно, чуть-чуть не дойдя до земной поверхности, бегучие ступени эскалаторов.
Большого терпения и великого смирения требует такая жизнь. Не всякому человеку дано обуздать свою душу – как и предвидел Рослый, то тут, то там стали возникать очаги возможных бунтов. Но мы были готовы к тому: везде, на каждом производстве работали осведомители, и в результате не вспыхнуло ни одного бунта, все очаги их были своевременно затоптаны. Вполне возможно, помогло нам в немалой степени и то обстоятельство, что мера наказания была у нас только одна. Роскошь содержать тюрьму мы себе не могли позволить.
Впрочем, угроза бунта оказалась не самым страшным. Что ждало нас впереди. Год от году все быстрее, все стремительнее падала у нас продуктивность труда, его качество, и к какой системе поощрений мы ни прибегали. Ничего не помогало. То, что в первые годы делалось на неделю, теперь растягивалось на месяц, там, где мы надеялись на свежие идеи и решения, мы получали лишь бесчисленные вариации уже знакомого. Все это отодвигало сроки завершения строительства еще дальше, еще в бо́льшую неизвестность, и в конце концов мы были вынуждены принять происходящее как неизбежность.
Несколько раз, особенно в первые годы после того, как мы отрезали себя от земли окончательно, оттуда предпринимались попытки пробиться к нам. Но мы активно пресекали их, со временем эти попытки становились все реже и, наконец, прекратились совсем.
У поколения, рожденного здесь, под землей, к которому принадлежали и мои сыновья, рождались и подрастали теперь свои дети. Они были уже далеки от истоков нашего Дела, идеалы, что подвигли нас много лет назад к уходу под землю, уже не ощущались ими с той остротой и силой, с какой это было дано ощущать нашим детям, и пришлось продумать специальную пропагандистскую программу, создать для ее практического воплощения целый пропагандистский аппарат, дабы донести до их душ наши идеи, пропитать ими, выжечь скепсис, дабы в свой час эти нынешние ребятишки влились в наше общее Дело с той же истовостью, с какой служили мы.
Как бывшему студенту-философу руководить этой пропагандистской работой выпало мне. Я был счастлив, что на склоне дней мне довеось заниматься чем-то вроде истории нашего движения и его осмыслением. Я находил в этом занятии какое-то неведомое прежде, неизъяснимое наслаждение. Когда мы завершим строительство и выйдем на землю, говорил я, беседуя с молодежью, вас встретят как героев. Люди будут восхищаться вами, а сверстники будут завидовать вам. Вас ждет слава, радость поклонения, вы будете как боги!
Я говорил так и, право же, не лукавил. Ведь так оно и должно было случиться. Не в человеческой природе ценить бескорыстие, но если оно облекается в совершенно материальный результат – как в случае с нами, – люди способны испытывать благодарность.
Впрочем, лично я сам не очень-то много думал о земле. Я забыл ее. Во мне почти не осталось воспоминаний о земной жизни, она высочилась из моей памяти капля за каплей, исчезла из нее – будто я никогда и не жил ею, будто я здесь, под землей, как мои дети с внуками, и родился, и вырос… и никогда больше не посещало меня то страшное, гнетущее отчаяние, что когда-то, в давние времена, в день похорон Декана, трясло меня будто током. Я уже и сомневался порой: да было ли оно, то отчаяние, вправду ли все происходило так, как мне помнится? А может быть, я просто-напросто выдумал все это, а выдумав, уже помнил выдумку?..
Глава пятая
1
Выходить наверх мы решили в том же самом месте, где в свою пору спускались под землю. Место было не из лучших, предпочтительнее было бы другое – на площади перед домом власти, где по проекту также должна была находиться станция, и, если даже власть перебралась оттуда в какой-нибудь другой дом, все равно это оставался самый центр города. Но при проходке наклонного эскалаторного туннеля, когда подошли к подповерхностному слою площади, мы наткнулись на сваи каких-то фундаментов и оказались вынуждены остановиться, доведя эскалаторную лестницу лишь до свайной отметки. Или мы ошиблись и вывели туннель не туда, куда следовало, или там, наверху, на нужном нам месте поставили какое-то здание. Подобные фундаментные сваи встретились нам при завершении и многих других эскалаторных туннелей, что было, в общем-то, несколько странно. План будущего метро у властей имелся, где будут выходы станций на поверхность, они прекрасно знали и не должны были застраивать эти участки. Или же там, наверху, построили здания таким образом, чтобы вход в метро осуществлялся через них? Но отсюда, снизу, не видя самих зданий, вести туннели дальше было невозможно.
В месте же нашего давнего спуска стояла станция. Построенная еще нами самими. Тут ничего другого наверняка не могли поставить, и мы могли выйти, не причинив городу никакого вреда.
Метро было готово к эксплуатации до последнего винтика. Мы спроектировали и сделали поезда на электрической тяге и последнюю пору, пока велись всякие доводочные работы, уже не ходили к местам работ пешком и не ездили на дрезинах, как бывало, а с тем самым желанным грохотом и шумом неслись в светлых просторных вагонах – аж захватывало дух. Станции были отделаны мрамором и гранитом, украшены чеканкой и расписаны фресками. Каждую выполнили в своем стиле, ни одна не была похожа на другую, о чем мы вовсе и не мечтали раньше, но мало ли о чем не мечтали, жизнь скорректировала.
Чтобы выйти наверх, нам нужно было разрушить бетонную пробку, которой когда-то мы намертво отгородились от земли. Под ее литой мощной плитой мы натянули синтетическую пленку особой прочности, с отверстием посередине, и вдоль эскалатора пустили вниз отводной закрытый рукав.
Загрохотал разом десяток отбойных молотков, подпрыгивая, поскакали к отверстию в пластиковой воронке первые куски отколотого бетона и побежали с шорохом по рукаву вниз. Работать отбойщикам приходилось со специальных люлек, лежа, и, чтобы работа шла быстро, без задержек, каждые десять минут они сменялись. У меня тоже горело внести свою лепту в раскупорку нашего подземелья, отбить свой, личный кусок бетонной пробки, и, несмотря на возраст, я тоже подержал в руках молоток, налегая на его колотящееся железное тело изо всех сил, и, как ни устал, выдержал все десять минут своей смены.
– А что, старичок, ты у меня еще вполне! – хлопнул меня по плечу, обнял, прижал к себе сын, когда я, покачиваясь, выбрался изнутри пластиковой воронки на лестницу эскалатора.
– А ты думал! – тяжело дыша, со счастливой хвастливостью, ответно обнимая его, сказал я.
Последние годы, после смерти Рослого, он стоял во главе нашего Дела.
Это был мой младший сын. Старший умер от воспаления легких много лет назад, только-только успев родить нам с Веточкой внучку. Впрочем, ни Веточки, ни внучки тоже не было в живых, единственный, кто у меня остался, – вот этот мой сын. Странно, но, как у Рослого не было семьи, так не обзавелся семьей и мой младший. Жалко, страшно жалко. Получалось, род мой на нем закончится…
Бежали с шебаршанием внутри отводного рукава куски бетона, потянуло запахом жженого металла – это там, внутри воронки, добрались до аратуры и стали кромсать ее прутья газорезкой.
– Давай, батя, иди туда, – подтолкнул меня сын по лестнице вниз. – Приложился – и хватит, не мешай. Иди собирайся. Скоро двинем.
Я послушно пошел по ступеням. Сын сыном, но он глава Дела, и его приказам должно подчиняться.
Внизу, у подножия эскалаторов, стояли, вытянувшись цепочкой, несколько вагонеток. Две из них уже наполнились, как раз подошел поезд к платформе, и вагонетке покатили к нему – загрузить в вагон, чтобы после отвезти в отвал. Нам хотелось выйти на землю, оставив за собой блистающий чистотой, готовый в любое мгновение начать служить людям подземный мир, а не кучу мусора.
Платформа была полна народу, судя по всему, на ней собралось уже все наше подземное население. Все были азартно, жарко возбуждены, то тут, то там вспыхивали и почти тотчас гасли взрывы громкого смеха.
Наконец куски раздробленного бетона стали вылетать из отводного рукава все реже, реже, зазвенел, ударившись о борт вагонетки, обрезок арматурного прута, пауза, наступившая вслед за этим, все длилась, длилась, уже переставая быть паузой, и вот сверху загудели по эскалатору шаги бегущего человека.
– Шапки вверх! – не добежав нескольких шагов до подножия, закричал посыльный, разметывая в стороны руки, будто раздернул на ходу некий занавес. – Дорога открыта!
Еще час ушел на то, чтобы привести за собой все в порядок, и исход начался.
Право идти первыми было дано «патриархам», тем, кто в свою пору, спустившись с земли в пещерную темную полость, начинал строительство. Тридцать четыре осталось нас таких.
А всего на поверхность поднималось четыреста восемьдесят девять, включая детей. Впрочем, их у нас было теперь совсем мало. Почти не было.
Плоское полотно эскалатора превратилось в ступени, поскрипывали мягко, почти беззвучно где-то внутри вращающиеся колеса, по которым оно текло вверх, сухо пошоркивала, черно струясь вверх вслед за ним, резиновая лента под рукой, уплывал назад тюбинговый полукруг свода над головой – и у меня сжало сердце, оно затрепыхало в груди, вот уж верно говорят, будто птица в клетке, готовое, кажется, остановиться, и в голове загудело, будто у меня там бухнули разом пудовые колокола. Сейчас, сейчас… еще минута, полминуты, двадцать секунд, десять… и я ступлю туда, где не был чертову уйму лет, чуть ли не всю свою жизнь… я стоял там в последний раз еще совсем молодым, почти мальчишкой, а теперь я старик, лысый, высохший до кости, почти беззубый…
Ноги у меня подгибались, не шли, и, сходя с эскалатора, я чуть не упал.
Внутри, в здании станции, все осталось так, как было тогда, много лет назад, когда мы уходили отсюда под землю. Я это схватил мгновенно – едва обвел вокруг взглядом. Будто где-то в сознании у меня хранился точный слепок той давней картины и все эти годы лишь ждал своего часа, чтобы тут же проявиться.
Но было видно, что никто сюда уже много лет – долгие годы – не входил. Толстый слой окаменевшей пыли лежал на полу, нога не оставляла на ней даже слабого отпечатка. Оконные проемы были наглухо заложены кирпичом – чего мы не делали, а высокие многорядные двери зашиты досками, и наискось через них бежали рядками остренькие жала ржавых гвоздей – изнаночные следы прибитых снаружи поперечин.
А народ снизу все прибывал, прибывал, сделалось тесно, так что стояли, прижавшись друг к другу, и, наконец, поднялись последние.
И, как капитан, оставляющий судно, самым последним поднялся мой сын.
– Приступайте! – дал он команду, вышагнув с эскалатора.
Те, кому она была предназначена, знали, что они обязаны делать.
Взвыли, звонко заверещали электропилы и тотчас, одна за другой, помягчели голосами, войдя своими острыми грызущими цепями в доски дверных заплотов. Запахло опилками, жженым деревом, и меня как ударило в поддых. Голова закружилась, ноги повело, и я бы упал, если б не теснота: это были запахи земли, давно забытые, утраченные обонянием, напрочь ушедшие из памяти, – и внезапное оживление их было как воскресение Лазаря, как истинное чудо, как если б ты заново родился…
А пилы между тем, время от времени взвизгивая от натуги, вели свою басовитую, зудяще-железную партию, пилили и пилили, все пильщики уже стояли на стремянках, делая пропилы в верхней части заплотов, я вновь физически ощущал, как растет, разбухает, готовое затопить нас всех с головой, людское напряжение вокруг, – и это случилось. «А-а-аа!» – закричал хрипло, животно, перекрывая вой пил, женский голос, и все тотчас всполошено заволновались, задвигались, подались единой массой на звук голоса и этой же единой массой качнулись неожиданно в сторону дверей. Загремела, упав, стремянка, взвыла, вылетев из рук пильщика, пила, грохнулась на пол, задев кого-то, и к истерическому женскому крику добавился вопль боли, но толпа сзади надавливала, притиснув передних к заплоту, и они тоже закричали. «Прекратить! Остановитесь! Все на свои места!» – услышал я как из другого мира донесшийся, усиленный магафоном голос сына, и подпиленные доски заплота затрещали, не выдержав давления, и заплот рухнул наружу, увлекши за собой тех, что были прижаты к нему. Но толпа, глухо ахнув. Как единое живое существо, тотчас откачнулась назад, и вылетевшие наружу, торопливо вскочив на ноги, бросились через дверной проем обратно к ней.
«Стоять на местах! Всем стоять на местах!» – заглушая своим мегафонным криком другие продолжающие работать пилы, надрывался сын, но теперь и без того все стояли замерев, и снова наступила тишина, только и осталось: его крик да пение пил.
А в открывшийся дверной проем черно глядело ночное небо, и в его живой белесоватой тьме мерцали, подрагивали в токе земного воздуха ярко-колючие и слабенько-точечные звезды. Белые, желтые, голубые, красноватые…
2
Я обнаружил себя лежащим на кровати в белой больничной палате. Что это еще могло быть. Как не больница. Только в больницах так бело красят стены, только в больницах есть эти стойки с градуированными прозрачными баллонами, из которых по прозрачной трубке катетера, воткнутого в твою вену, катится слезка физиологического раствора.
Я повернул голову и увидел окно. За окном был день, видимо, очень ветреный. Быстро неслись облака по голубому небу, гнулись, раскачивались. Играли обильной летней листвой деревья.
Когда же это мы вышли на землю? Нынче ночью? Или с момента выхода прошло какое-то время? И что со мной, почему я в больнице? Что было после того, как в открывшийся дверной проем я увидел звездное небо?
В палате не было никого, кроме меня. Стояла рядом еще одна кровать, но она пустовала.
Я глянул на руку с вогнанной в вену иглой катетера. Вся внутренняя сторона руки около сгиба локтя была сплошным черно-лиловым кровоподтеком, и бинт, которым был закреплен катетер, казался на этом черно-лиловом фоне ослепительно белым. Нет, я тут обретался уже давно…
Свободной рукой я ощупал себе голову, лицо, согнул, приподнял ноги, оглядел, скинув простыню, всего себя – ничего у меня не болело, не было на теле никаких ран, только страшная слабость, что, должно быть, естественно, если я отлежал тут уже не один день, и полный провал в памяти после картины звездного неба в дверном проеме.
– Э-ээй! – крикнул я, глядя на плотно закрытую, стеклянную в верхней части дверь палаты. – Ээ-эээй, кто-нибудь!
Сначала в дверном окне возникло юное девичье лицо, потом, через мгновение, как оно исчезло, возникло другое, тоже женское, а еще через несколько минут лиц там стало много, затем они все отпрянули от двери, и она распахнулась.
… – Вы в самом деле ничего не помните? – спросил меня доктор, явно с солидным, основательным опытом, немолодой уже, скорее даже пожилой человек, и все же, пожалуй, не старше моего покойного сына. – Абсолютно ничего, ни смутно, ни фрагментарно?
Мы сидели у него в ординаторской в креслах напротив друг друга, он заварил чай в стаканах, но пил один, я пить не смог. Меня, когда я поднес стакан к губам, чуть не вырвало от одного лишь запаха чая.
Оказывается, я пролежал здесь, не в состоянии двигаться, говорить, есть, ровным счетом десять дней. И это был не обморок, потому что глаза мои во время бодрствования оставались открыты, я спал и просыпался, но ни двигаться, ни говорить, ни есть – ничего этого я не мог.
– Психический шок, да? – спросил я в свою очередь доктора.
– По всей вероятности, – отозвался он. – Но организм у вас крепкий: сейчас вы прямо как огурчик.
Мне была приятна его похвала. В моем возрасте вовсе не грех гордиться своим здоровьем как особым достоинством.
– Но что же все-таки было после, когда мы вышли? – снова, но уже с большей настойчивостью спросил я.
– А вы твердо уверены, что вам это нужно знать?
– О боже! – Я взмахнул руками, задел свой стакан с чаем, он не упал, но подпрыгнул, и из него выплеснулось на стол. – Извините… А вы бы на моем месте разве не хотели бы знать этого?
Захрустев оберткой, доктор достал из пакетика марлевую салфетку, другую, третью и стал промокать ими желтоватую лужицу на столе.
– Вам будет тяжело, – сказал он, глядя на свои руки, перекладывающие намокшие салфетки с места на место. – Хотя, наверно, я все равно должен помочь вам вернуть память. Лучше, наверное, чтоб это произошло сейчас, чем потом, когда вы отсюда выйдите…
– А можно вернуть? – уже едва не крича, спросил я.
– Нужно попробовать, – сказал он, оставляя салфетки в покое и устремляя свой твердый глубокий взгляд на меня. – Скорее всего, можно.
– Это что, гипнозом?
– Ну конечно.
– Давайте, – сказал я, ощущая, как дрожат пальцы от возбуждения.
– Прямо сейчас?
– А почему нет?
– Ну что ж…
Он привел меня обратно в палату, велел лечь в постель и помог укрыться одеялом.
– Представьте себе. Что вы прилегли отдохнуть. Расслабьте все мышцы, вам очень нужно отдохнуть. Вы испытываете блаженство, по вашему телу начинает растекаться приятное тепло…
Нет, никакого тепла по моему телу не растекалось, и никакого блаженства я не испытывал. Неоткуда было взяться ни теплу, ни блаженству. Но я с послушной старательностью слушал голос этого симпатичного мне доктора, что был годами, наверное, почти ровня моему покойному старшему сыну, я держался за его голос как за ариаднину нить, что должна была вывести меня из кошмарного, темного лабиринта беспамятства, я держался за него обеими руками, боясь ненароком отпустить, держался изо всех сил… и вдруг потерял его, и полетел куда-то, как в пропасть, и замычал от пронзившего меня дикого ужаса. Что не сумел удержать и теперь мне не выбраться из лабиринта… однако никуда я не упал, это, оказывается, выходя под звездное ночное небо, я всего лишь споткнулся о край рухнувшего заплота, споткнулся – и сумел устоять.
Веял свежий ночной ветерок, нес в себе тысячи земных запахов – травы, купающейся в росе, увлажнившейся листвы деревьев, – а я стоял, чуть отойдя от здания станции, чтобы не мешать выходить другим. Слушал шорох шагов вокруг, шуршание одежды, дробное постукивание покатившегося по асфальту камешка, задетого ногой, и мне кружило голову от непривычного, забытого вкуса чистого вольного воздуха и растягивало блаженно в невольной улыбке счастья губы: дожил, дожил, дожил!
Город спал, погруженный в тишину и тем, лишь кое-где горели в домах одинокие окна, да там-сям бросали на землю с высоты тусклые конусы света уличные фонари. Похоже, все здесь осталось так, как было в пору моей молодости. Словно бы с того дня, как мы спустились под землю, и не минуло несколько десятилетий…
Внезапно я почувствовал рядом с собой сына. И услышал, что у него лязгают, как от озноба, зубы.
– Ты что? – спросил я.
– Черт знает, – ответил он мне прыгающим шепотом. – Я ведь тут никогда не был. Ничего не представляю. – Он помолчал, стоя рядом, и, нагнув голову, снял с шеи ремень мегафона. – На, – протянул он мне мегафон, – будешь командовать парадом. Я не способен. Ну бери, бери! – торопя меня принять мегафон. Все так же шепотом закричал он и всунул тяжелый металлический раструб мне в руки. – Что ли не понимаешь ничего?
Нет, я понял. Я все понял. Что ж, в этом была даже своя логика: кто увел от мира, тот должен и привести в него.
Я повесил мегафон на шею и обнял сына за плечи:
– Не волнуйся. Обещаю тебе: все будет нормально.
– Ты знаешь… помнишь, какие слова нужно говорить?
– Помню, помню, – сказал я. – Не волнуйся.
Мегафон, что сын передал мне, был предназначен вовсе не для того, чтобы обуздывать потерявшую самообладание толпу. Через мегафон, когда настанет пора, должно было оповестить город о свершившемся. «Друзья! Сограждане! Это мы – те, потомки и наследники тех, кто ради вас, ради вашего счастья, защищая ваше человеческое достоинство, много лет назад спустились под землю! Сегодня мы говорим вам: «Все готово! Пользуйтесь!» Вы увидите подземный дворец, который готов принять вас и служить вам!..» – мог ли я не помнить эти слова, с которыми надлежало обратиться к собравшимся горожанам. Ведь я сам, а не кто другой, придумывал, писал и многажды переписывал текст обращения.
– Не волнуйся, – снова сказал я сыну, – отдохни. Ты слишком устал за последнее время. Иди, побудь один, расслабься. Не думай больше ни о чем. Теперь я…
Да-да, теперь я. Кто увел из мира, тот должен и привести в него. В этом была не только своя логика, но даже и символичность.
Я оглянулся в окружающей нас ночной тьме, пытаясь определить, не разбрелась ли наша ветеранская группа, держится ли места, назначенного для сбора, в полном составе, и, пересчитав, удостоверился, что все тут. Невольное чувство гордости ненужно наполнило мне теплом грудь. Ветераны они и есть ветераны!
Только на них сейчас и можно было положиться в полной мере. Хотя с той поры и минули десятки лет, но все-таки они, нынешние ветераны, жили на земле, ходили по ней, и в них не дребезжало сейчас того страха перед ней, что так неожиданно обнаружился в моем железном сыне и, видимо, тряс всех остальных.
Сына рядом со мной уже не было.
Придерживая мегафон рукой, я протолкался в центр нашей патриаршей группы. Ветераны сомкнулись вокруг меня тесным кружком. Я набрал полную грудь воздуха, раскрыл было рот, чтобы сообщить им о выпавшем нам последнем долге, и голос оставил меня.
Словно коридор люминесцентного, фосфоресцирующего света возник в небе. Таким, наверное, бывает северное сияние. Но северное сияние играет сполохами. Висит высоко над головой гирляндами, а это был именно коридор, люминесцентный туннель в темноте, и находился он не высоко в небе, а где-то буквально над крышами домов – затронутые им, они смутно обозначились остроугольными горбами коньков.
И по этому фосфоресцирующему световому туннелю, ведя его с собой, двигалось бесшумно что-то темное и длинное, округлое, похожее на гигантский пенал.
– Помните! Помните! Вы все помните, до самых мельчайших подробностей! – услышал я над собой размеренный, внушающий голос и понял, что все происходящее сейчас – только мое воспоминание о нем, на самом же деле я лежу на больничной кровати и звучащий надо мной голос – голос доктора. – Вы помните прекрасно и то, что было после, – внушал голос, и я снова судорожно ухватился за него, и, ощущая в ладонях его надежную бечевую крепость, снова спустился по нему в тот день.
– Что это было? Что это такое было? – спрашивали все лихорадочно друг у друга и требовали ответить прежде всего нас, ветеранов, но мы и сами спрашивали о том друг друга, и никто никому не мог ничего ответить.
– А при вас это было? Может быть, было, но вы забыли? Ведь какое-то объяснение этому есть? – продолжали и продолжали спрашивать нас, и ни о чем другом уже не говорилось, все с большим и большим возбуждением, с какой-то уже даже горячечностью…
Это страх земли колотил людей. Видимо, психика требовала разрядки, сброса напряжения, и сброс этот мог произойти прямо сейчас. И, произойди он, в какие формы облекся бы, во что вылился? Возможной ли становилась тогда наша встреча с городом, как мы ее замышляли?
Необходимо было отвлечь людей. Нужно было чем-то занять их. Но чем?
Я включил мегафон и поднес ко рту. Раздумывать было некогда.
– Старшим двадцаток проверить наличие людей, – прогремел, усиленный динамиком, мой голос. – Всем находиться на обусловленных местах. Ответственным подготовить транспаранты. Проводим репетицию встречи.
Это было довольно глупо – греметь из мегафона среди ночи. Мы привлекали к себе внимание раньше времени. Но ничего другого не в состоянии был придумать мой мозг. Я знал одно наверняка: нужен простой и жесткий приказ. Лишь он способен погасить возбуждение людей, это сейчас важнее всего.
И верно: едва раздалось громыхание мегафона, тотчас все разговоры оборвались, будто их отрезало, и снова, как в самом начале, когда мы только вышли наружу, остались вокруг лишь шорох шагов, шуршание одежд, шум дыхания. Все четыреста восемьдесят девять человек торопились занять свои заранее обусловленные места, и ничего, кроме желания выполнить приказ наилучшим образом, в них не осталось.
Однако я даже не успел порадоваться про себя достигнутому эффекту. Минули лишь считанные секунды, как я отдал приказ, и вдруг все пространство около здания станции, со всех ее четырех сторон, залило бешено ярким, пронзительным светом. Я непроизвольно, как, наверно, и все другие, закрыл глаза, и открыть их удалось далеко не сразу. Но еще глаза ничего не видели – меня осенило: прожекторы. И когда, наконец, удалось чуть разомкнуть веки, стало окончательно ясно: прожекторы, да.
Их был добрый десяток. Они стояли по периметру станционного здания на расстоянии метров тридцати-сорока, мощные их лучи выжигали ночь в своем световом котле дотла, и было видно, что установлены они на специальных металлических вышках, а перед вышками тянется глухой бетонный забор с обращенным внутрь навесом из колючей проволоки.
Нас тут ждали. Мы там жили, отрезав себя от них, не подавая вестей о себе долгие годы, а они нас тут ждали.
Только не с очень-то открытым сердцем они ждали нас, если соорудили подобное заграждение. Зачем оно было им нужно, чего они боялись? Или они полагали, что мы там за эти годы потеряли человеческий облик, переродились в каких-то чудовищ?
Впрочем, что ж, может быть, на их месте мы поступили бы так же.
Я снова поднес мегафон к губам.
– Выключите прожекторы, – сказал я. – Мы поднялись к вам с важным и радостным сообщением. Свяжитесь с городскими властями и скажите, что мы ждем их представителей. Мы никуда не тронемся отсюда, будем ждать представителей здесь. У вас нет причин для беспокойства. Выключите прожекторы, это оскорбительно для нас.
Я опустил мегафон и некоторое время стоял, ожидая ответа. Никто мне не ответил. Молчали, замерев, люди вокруг меня, молчала темнота за прожекторным котлом, – а может быть, там и не было ни единого человека, и свет включила какая-нибудь автоматика, среагировав на звук моего голоса?
– Выключите прожекторы, мы поднялись к вам с важным и радостным сообщением… – еще раз повторил я; и мне опять не ответили. – Все нормально, друзья! – обращаясь к замершим в недоумении и страхе людям вокруг, сказал я в мегафон – голосом, исполненным воодушевления и бодрости. Они были стадом моим, я их пастырем, и мне выпало завершить наш исход достойно. Главное, нужно было дотянуть до рассвета, не допустить психоза, а с рассветом… с рассветом как-нибудь все уладится, не может не уладиться; раз прожекторы включились, даже если их и включила мертвая автоматика, должен же кто-то вступить с нами в контакт, и уж этот первый контакт замкнет дальше всю цепь. – Все как и должно быть, все в пределах ожидаемого, дорогие мои! – зажигательно прогрохотал я, поворачиваясь с мегафоном во все стороны. – Продолжим репетицию встречи! Все находятся в своих двадцатках?
Может быть, кто-нибудь и наблюдал за нами с этих прожекторных вышек, лично ли, скрытый слепящим светом, отраженным от мощных зеркал, при помощи ли телекамер, точно так же невидимых для нас, – мы, ни на что не обращая внимания, выстраивались колоннами, разворачивали транспаранты – «Метро действует! Метро готово принять своих первых пассажиров!», – опускались по команде, в знак нашей негордыни, смирения и готовности к подчинению, на колено – проделывали все, что было намечено, и я лишь не произносил своей речи.
3
Мы повторили церемонию встречи раз десять, и наконец свет прожекторов начал блекнуть, небо высветилось, и стало ясно, что близок уже восход.
Никто с нами за все это время вступить в контакт не пытался.
Отгороженные забором, мы были лишены мало-мальской свободы в своих действиях. Забор навязывал нам тактику ожидания. Но ожидать далее было невозможно. Сколько люди могли еще выдержать пытку бездействием? Ведь нельзя же было считать действием бессмысленное, пустопорожнее повторение одних и тех же механических движений, которыми я принудил их заниматься. Ну, еще десять, еще пятнадцать минут… а потом?
Следовало искать контакт самим.
«Отдых!» – дал я команду.
И пошел к литым, бесстворчатым железным воротам в заборе.
Я не дошел до них метров десять, когда откуда-то сверху на меня обрушился многократно усиленный динамиком властный, тяжелый голос:
– К воротам не приближаться!
С мощностью этого динамика мой мегафон не шел ни в какое сравнение.
Я остановился. Если я и не ждал именно такого окрика, то все же к чему-то подобному был готов. И у меня уже была подготовлена первая фраза.
– Метростроители приветствуют вас! – сказал я в мегафон. – Мы поднялись к вам с важным и радостным сообщением…
Больше я не успел произнести ничего – голос из динамика прогремел вновь:
– Отойдите от ворот!
Я остался стоять на месте.
– Мы поднялись к вам… – начал я, но динамик снова перебил меня:
– Отойти от ворот, и никому не приближаться к забору! В случае нарушения запрета будут приняты экстренные меры!
Я потерялся. Я попятился невольно назад и так, пятясь, дошел до своих. Если б еще я видел отдающего команды, к нему можно было бы обратиться с подготовленным заявлением, но невозможно же обращаться к голосу из динамика!
И однако нужно было что-то делать. Я не видел, но чувствовал, что все сейчас смотрят на меня.
– Стремянку! – глянул я назад, и слово побежало по губам от человека к человеку, и спустя мгновение мне уже несли ее. Стремянка была раздвижная, высокая, верхняя ее площадка находилась на высоте чуть не трех метров, и ни в какую другую пору никто б не заставил меня влезть на нее. С моей-то старческой ловкостью! Но тут я вскарабкался по ступеням, будто обезьяна, и только когда стал выпрямляться на верхней площадке, у меня задрожали ноги.
– Сойти с лестницы! – загремел голос в динамике, и в тот же миг я увидел, кто говорил.
Воздух уже сделался совсем прозрачен, режущий свет прожекторов почти втянулся в их стеклянные круглые зрачки, и больше не мешал смотреть в их сторону.
За бетонным забором было, оказывается, уже целое столпотворение. Стояли шеренги солдат в полной выправке, с автоматами на животах; бегали суетливо какие-то люди в штатском; бронетранспортеры, пожарные машины, машины «Скорой помощи» и еще всякие другие выстроились рядами поодаль; держась на уважительном расстоянии от всей этой техники, теснились там-сям уже достаточно многочисленные группки любопытствующего народа, и виднелись головы в распахнутых окнах двух близлежащих домов. А голос, отдававший приказания, принадлежал человеку в корзине телескопической «ноги» одной из пожарных машин, осторожно поднятой на не слишком большую высоту, он держал микрофон у рта, а на крыше кабины были установлены динамики.
– Немедленно сойти с лестницы! – повторно прогремели динамики, но я уже знал: ничего подобного! Может быть, лучшего момента для нашего заявления уже не будет, и я должен сделать это сейчас. Именно сейчас, стоя на этой стремянке.
– Друзья! Сограждане! – произнес я в мегафон. Ноги у меня дрожали, меня так и болтало, и я боялся, что не смогу удержаться, упаду и смажу эффект от нашего обращения. Но все же я повторил, привлекая к себе внимание: – Друзья! Сограждане! Это мы! Это мы – те, потомки и наследники тех, кто ради вас, ради вашего счастья, защищая ваше человеческое достоинство, много лет назад спустились под землю!..
Еще я боялся, что меня будут прерывать, не давать мне говорить, заглушая динамиками, но меня не прерывали. Человек в корзине молчал и даже опустил руку с микрофоном, стоял и слушал.
– Сегодня мы говорим вам, – посмел я замедлить темп своей речи, – мы говорим вам: «Все готово! Пользуйтесь! Спуститесь под землю – и вы увидите подземный дворец…
Помеха пришла не из-за стены, она, будто столь огня, выросла тут, у меня под ногами – единым, заглушившим мои слова потрясенным воплем.
– …дворец, который готов принять вас и служить вам!» – докричал я с отчаянием, глянул вниз и обнаружил, что все с одинаково тупым, оглушенным выражением лиц смотрят куда-то на небо, в одну точку. «Солнце?» – подумалось мне. Но солнцем это никак не могло быть, рано ему еще было. Я перевел взгляд, куда смотрели все, и увидел.
Коридор фосфоресцирующего, люминесцентного света плыл в небе, а внутри него, вместе с ним плыло темное, округлое, длинное, похожее на гигантский пенал. Только сейчас, при светлом небе, этот люминесцентный свет был много слабее, чем тогда ночью, но зато пенал виден отчетливо и ясно. У него были словно бы окна, у этого пенала, и они поблескивали, будто и впрямь стеклянные.
– Смотри! Вон-вон! Еще один! Еще один! Вон там! – раздался новый истошный вопль, и все без малого пятьсот человек в одно мгновение устремили взгляд в другую сторону неба.
Наперерез первому люминесцентному коридору плыл, появившись из-за крыш домов, точно такой же второй. Они плыли совершенно бесшумно, невесомо, фантомно легко, как и полагалось бы свету, если б он вдруг обрел свойство корпускулироваться и замедлять свою бешено-сумасшедшую скорость распространения в пространстве, но что за темное, явно материально-земное ядро они несли в себе? И коль оно было таким тривиально земным, то как могло оно двигаться с этой невесомой легкостью?
Люминесцентные коридоры наплыли один на другой, мазнули друг друга своими чуть бахромчатыми закраинами и разошлись каждый в свою сторону.
– Что это?! Что это такое? – Стремянку трясли, и, чтоб не упасть, я инстинктивно выпустил мегафон из рук, замахал ими, удерживая равновесие, а голос, что спрашивал, был до того искорежен яростью, что я не сразу узнал голос сына.
– Прекрати! – крикнул я ему, но он не понял, о чем я, и с лицом, обращенным ко мне, снова потряс стремянку:
– Ты знаешь? Отвечай!
– Не сходи с ума! – закричал я, нащупывая ступеньку и укрепляя на ней ногу. – Не тряси!
– Дебилы! У, дебилы! – тряханул меня сын еще раз, поискал глазами вокруг, увидел кого-то из нашей ветеранской группы и бросился к нему.
– Что это? Почему вы не знаете? Что это может быть? – схватил он его за грудки.
Не знаю, кто сейчас мог погасить его бешенство, кроме меня. Я должен был спуститься на землю. Но я спустился лишь на две, на три ступени.
Разминувшиеся люминесцентные коридоры еще не успели исчезнуть из поля зрения, а из-за крыш появился еще один, и был он совсем близко, и двигался прямо на нас, на здание станции.
Однако он не доплыл до нас. Он вдруг остановился в небе, завис и так же бесшумно, так же фантомно невесомо, как двигался до того, стал опускаться. Все ниже, все ниже – на незанятую ни машинами, ни людьми, не замеченную мной прежде обширную площадку между четырьмя мачтами, словно бы выстланную металлическим листом – так она блестела, и, когда коснулся ее, разом исчез, оставив от себя лишь темное, округлое, длинное, похожее на пенал, в котором действительно были окна. И еще двери, несколько дверей, пять или шесть. Они распахнулись – и из них стали выходить люди…
Что же, сын снова мог спрашивать меня, что это такое. Теперь я знал.
– Вы помните, помните! – опять ворвался в мое сознание голос врача, но нет, я не хотел больше оказываться в том ужасе, хватит с меня, довольно, достаточно… И однако противиться этому голосу я не мог, я был бессилен перед ним, и вновь скользнул по нему туда… Вот только там не было уже ничего, там был один голый мрак, глухая тем – полная беспамятность, из которой нечего было доставать.
И лишь словно бы в яркой мгновенной вспышке я увидел себя стоящим на четвереньках у бетонного забора с навесом из колючей проволоки, в сретенье его стен, как стоял тогда в утро перед казнью Магистр в палате медблока, превращенной в камеру: я толкаю себе в рот какую-то выдранную с корнями траву, давлюсь – и толкаю, и жую, у меня обильно течет слюна, сок у травы горький, на зубах хрустит земля с корней, меня тошнит, но я запихиваю жвачку обратно в рот, снова жую и утробно, животно, дико мычу.
– Вы чувствуете облегчение и удовлетворение. Вас больше не мучает, что вы ничего не помните, вы испытываете глубокое и сильное удовлетворение… – услышал я голос доктора и вынырнул в явь, открыл глаза и увидел небо с быстро бегущими облаками, так же мотало верхушки деревьев под ветром, но только теперь память моя доверху, под завязку была полна знанием; подсознание отдало ей все, что хранило.
О, лучше б оно не хранило в себе ничего! Лучше б все стерлось из него невосстановимо, навечно, чтобы мне никогда не знать того, что произошло. Я чувствовал себя раздавленным, расплющенным, будто каток проехал по мне… Зачем я остался жив, такой расплющенный, уж если проехал, так раздавил бы насмерть.
– Конечно, вам тяжело от ваших воспоминаний, иначе и быть не могло. Но вы испытываете вместе с тем настоящее облегчение, что теперь не беспамятны, и это в вас сильнее всего. Это в вас сильнее всего! – внушая, наклонился надо мной, заглядывая в глаза с улыбкой доброты и ободрения, доктор.
– А как они летают? – еле разлепив губы, спросил я – то, что мучило меня и там, в этом гипнотическом сне, но что, находясь в нем, узнать я никак не мог.
Лицо доктора уплыло от меня наверх.
– Я точно не знаю, – сказал он. – Я не очень-то в технике… Явление сверхпроводимости при обычных температурах. Что-то там с магнитным полем, как-то оно вытесняется куда-то наружу из тела. Ну, и возникает возможность преодолеть гравитацию.
– И давно они летают?
– Лет тридцать, как первые начали. К вам, помню, пробовали пробиться, но вы такое сопротивление оказали… В газетах еще писали об этом. Я тогда совсем молодой был.
А, лет тридцать!.. как раз, значит, вскоре после того, как мы «опустили шлагбаум». Пытались пробиться, было дело. Вон почему, оказывается!
– А отчего нас так встретили? Прожекторы там… войска стояли, кричали, чтоб мы не двигались?
– Да, по-моему, они просто не знали, что делать. Ну, власти, я имею в виду. Власти, по-моему, никогда ни к чему не бывают готовы. А, как вы думаете?
Мне, однако, было вовсе не до того, чтобы обсуждать способности властей.
– А что с моими товарищами? – спросил я. – Со всеми остальными? Где они сейчас?
Доктор молчал какое-то время. По лицу его я видел – он мучительно обдумывает, как мне ответить.
– Понимаете ли… – будто в вату, проговорил он наконец.
– Да вы без околичностей, – сказал я. – Хуже мне уже не будет.
– Да-да, – быстро, успокаивающе улыбаясь, сказал доктор. – Организм у вас крепкий, оправились – прямо как огурчик сейчас.
– Ну? – поторопил я его.
– Кто где, – сказал он. – Часть здесь, у нас, в соседних палатах, в соседних отделениях… будем лечить. Есть и безнадежные. К сожалению. Часть в других больницах – на обследовании, реабилитации… очень значительные структурные изменения в организме у большинства. А часть… человек сто… еще прямо тогда, в то же утро… спустились обратно, замуровались… массовое самоубийство каким-то газом…
Теперь я долго не задавал новых вопросов. Лежал, повернув голову к окну, глядел на живую плещущую зелень деревьев под ветром и не мог решиться. Хотя мне нужно было лишь подтверждение того, в чем я уже был уверен.
– Поименно известно, кто эти сто? – спросил я в конце концов так вот, обиняком.
– Да, – тут же ответил доктор. – Выяснены личности всех. – Помолчал. Я ничего больше не спрашивал, и он добавил: – Ваш сын среди них.
Конечно, среди них. Я и не сомневался. Полководец, проигравший решающее сражение, должен уйти из жизни. Мой сын был истинным полководцем. Он был, был им, и если не мог остаться им до конца – здесь, поднявшись на землю, так это невозможно поставить ему в вину. Боже, зачем меня хватил этот проклятый ступор, зачем со мной случилось это беспамятство! Мне бы быть с ним, моим сыном, быть с ними, этими ста, разделить их судьбу…
– А как, – спросил я, – у меня со структурными… и всякими прочими изменениями?
– Да вы как огурчик, я же говорю, – сказал доктор. – Мы вам тут, пока вы лежали, столько анализов сделали… у вас все в порядке.
– И значит, мне еще жить и жить?
– Жить и жить! – радостно подхватил доктор, кладя мне на плечо теплую покойную руку.
Я потянулся, накрыл ее своей и, глядя ему в глаза, попросил:
– А вы бы не могли мне закатить чего-нибудь… ну такого, чтобы… чтобы меня не стало?
Он сидел, пригнувшись ко мне, молчал, смотрел мне ответно в глаза, и в них я читал приговор себе: нет, конечно!
– Да убейте же меня, убейте! – скидывая его руку со своего плеча, заорал я и засучил ногами, забил по постели руками. – Убейте же меня, убейте, окажите мне милость, боже ты мой!
Доктор встал, быстро прошел к двери палаты и, распахнув ее, крикнул в коридор:
– Сестра! Пять кубиков успокаивающего! Поживее, будьте добры! И кликните санитаров!
– Какое успокаивающее! На хрен мне успокаивающее! – дергался я и бил по постели руками. – Яду мне пять кубиков, яду!
Несколько пар сильных рук взялись за мое тело, перевернули его животом вниз, притиснули к кровати, и я ощутил укол в ягодице.
Боже мой, значит, жить, подумалось мне, когда шприц выдернули и по ягодице, щекоча кожу, потекла из-под ватки холодная струйка спирта.
4
Жизнь моя тянется чередой однообразных дней. Жизнь моя прожита, и это я не живу, а доживаю, и какими же еще могут быть мои дни. Я ем, сплю, справляю другие естественные надобности, мою пол в своей конуре, стираю себе белье, хожу в магазин за продуктами да через день – на ночное дежурство в детсад. Чнм зарабатываю на это существование. По-моему, хорошее занятие для недоучившегося философа – ночной сторож. Сижу на табуретке под входной дверью, курю, сыпля пеплом на пол, замечаю, что намусорил, и тащусь за тряпкой в туалет, замываю пол и снова сижу, снова сыплю пеплом – и так до утра. Черт знает, зачем я там нужен ночью, но за это платят, и я хожу. Ведь у меня нет никакой пенсии. А идти с протянутой рукой на улицу, как делают, я видел, некоторые из наших, – это не по мне, это не для меня.
Почти уже десять лет я отжил здесь, на земле. И ни разу не болел за прошедшее время, не чихнул, не кашлянул. Я и без того чувствую себя настоящим Мафусаилом, сколько же еще таскать мне свое иссохшее, потерявшее мышцы, с хрустящей сморщенной кожей тело?
Ни с кем из наших, кто остался тогда на земле и сумел выйти потом из больниц, я не вижусь. Встречи с ними не приносят мне никакой радости, только заставляют кипеть желчь.
Я хожу примерно в неделю раз, а то и чаще на кладбище, на могилу отца с матерью. Это все равно как если б я навещал Веточку с детьми. Ведь они тоже все лежат в земле, только очень глубоко, а туда, на их могилы в Склепном зале, нельзя – все входы в метро замурованы, и даже тот, вскрытый нами, снова залит бетоном.
На кладбище я провожу, случается несколько часов. Это единственное место, где мне есть с кем поговорить, а за неделю молчания я так изголодаюсь по разговору, что говорю и говорю и никак не могу остановиться.
Чаще всего я разговариваю с отцом. Мы сейчас сравнялись с ним возрастом, и он не смеет ни кричать на меня, ни обрывать, ни просто раздражаться, он просто иногда замолкает надолго, я тереблю его – ну, ты чего? – и он отзывается с горечью: да ты уже сам с усам, чего теперь… Ну а ты б как хотел, говорю я, ведь я жизнь прожил. Так то-то и оно отвечает он.
На кладбище я беру с собой обычно его предсмертное письмо, которое передали мне, когда я еще лежал в больнице, вскоре после того как очнулся. «Сынок!» – обращается он ко мне, и мне всякий раз странно читать такое обращение к себе – какой уж я сынок! «Мама так тосковала по тебе перед смертью», – пишет он, но в груди у меня ничего не откликается на эти слова, и я даже не пытаюсь уже вспомнить лицо матери, я совершенно не помню его. «Так жаль, я даже не знаю, получишь ли ты мое письмо. А вдруг тебя уже нет, и я пережил тебя», – пишет он, и меня опять не трогает это: я сам пережил своих детей, да и отец существует для меня уже не во плоти, а только этим вот письмом, наши прошлые и нынешние разговоры с ним – лишь некая духовная субстанция.
Но жить без этого его письма я не могу. Оно писано на обычных, непрочных листах бумаги, вытерлось на сгибах, обтрепалось по краям, и я наклеил все три его листа на плотный картон, сшил куски картона наподобие книжицы, ее-то и таскаю с собой.
Иногда во время моих кладбищенских бесед мне становится очень плохо. Это случается обычно тогда, когда я разговариваю не с отцом, а с Веточкой. Я вспоминаю, как молоды мы были, как гуляли по хрусткому ледку осенних лужиц перед спуском под землю, мечтая о том, как выйдем оттуда через несколько лет победителями, и мне делается так горько, что нет спасу. Я вспоминаю, что на мне прервется мой род, умру – и не останется на земле никого моей крови; я вспоминаю, что и от нашего с Веточкой дела ничего не останется, все было бессмысленно – все лишения, тяготы, весь ужас бессолнечного подземного житья, – наше метро никому не нужно, наглухо закупорено, и стоят там без толку наши электростанции и заводы, ржавеют поезда в пустынных депо…
Вот тут-то, в такие моменты я и достаю из-за пазухи складень отцовского письма. Читаю из середины, читаю из конца, читаю из начала, читаю и перечитываю – и ощущаю, как горечь и душевная немочь оставляют меня, я наливаюсь силой, крепостью и уверенностью в себе. Отец всегда подвигает меня на спор с ним, а спор бодрит меня, ярит кровь и рождает чувство правоты.
А зато каким азартом была наполнена наша жизнь, говорю я отцу, а вместе с ним и всему этому земному миру, что стоит для меня сейчас за его спиной. Каким счастьем наполнена! Проживи-ка такую жизнь кто другой!.. Счастливыми нас делают высокие намерения, а не осуществленные цели. Да-да, именно так! Мне просто не повезло умереть вовремя, как другим. Как Инженеру, Декану, Рослому, да и тому же Волхву, и, кстати, Магистру в том числе. Да, просто не повезло! И ни перед кем, и ни перед чем нет ни моей вины, ни чьей-либо еще из наших. Уж если кто виноват, так это власти. Да, они виноваты, действительно виноваты! Если они уже знали о работах со сверхпроводимостью и оттого не хотели строить метро, почему держали все в тайне? Зачем им нужна была эта тупая секретность? Отчего они ни единым намеком не развеяли туман, который сами же напустили? Пальцем для того не пошевельнули! А уж силу-то свою показали, вволюшку поиграли ею, до услады! Их вина, что метро никому не нужно, только их!..
Собираются тучи, начинает накрапывать дождь, и вот он уже льет вовсю – целое небесное извержение. Я поплотнее запахиваю пиджак на груди, где у меня, завернутое в пленку, спрятано письмо, и поднимаюсь со скамьи. Ни зонта, ни плаща – ничего у меня нет. Ну вымокну – наплевать. Может быть, хоть простужусь и заболею. Мне себя не жалко. Мне жаль лишь письма. С ним ничего не должно случиться, и надежный полиэтиленовый пакет всегда со мной.
На земле уже натекли лужи, я иду, не обращая на них никакого внимания, прямо по ним. Тут, у кладбища, – посадочная площадка этих самых «пеналов». Но я обхожу ее стороной и иду под дождем дальше. Я никогда не пользуюсь этими летающими штуковинами. Только наземным транспортом. Только им.
Время от времени меня в моей конуре посещают всякие молодые люди. Среди них бывают студенты, случаются рабочие, попадаются школьники, но почему-то чаще всего – это парни, недавно отслужившие свой срок в армии. Как они меня разыскивают, откуда у них мой адрес – бог знает. Они приходя и просят рассказать о нашем движении, о том, как все начиналось, жалуются на бесцельность и пустоту жизни.
Я не разговариваю с ними. Какие такие истины я им открою, какой такой мудростью поделюсь? А вспоминать мне не хочется.
– Идите, ребятки, идите! – отправляю я их. – Никто вам в рот ничего не вложит, ищите сами.
Но когда я остаюсь один, я ощущаю в себе дикое, страшное бешенство. Почему приходят только эти молодые, зеленые ребята! Почему не придет, почему не возникнет в один прекрасный день в моей конуре человек, который хотел бы побеседовать со мной не ради себя, а ради меня, ради всех других, отдавших свои жизни строительству метро, – такому я бы многое рассказал, о многом бы вспомнил в беседах с ним. Я верю, наше метро еще будет размуровано, по туннелям его еще побегут, рассекая со свистом воздух, в облаке веселого грохота, скорые поезда, и толпы народа будут тесниться на платформах, ожидая посадки. Это бред, этого не может быть, это противоречит всем законам физики, чтобы можно было свести на «нет» гравитацию, эти «пеналы» не могут летать, это какой-то великий обман, общее умопомешательство, что всем кажется, будто они летают! Они упадут в один прекрасный день, упадут непременно, упадут! И тогда понадобится наше метро. Тогда в нем возникнет нужда, тогда вспомнят о нем!
А возникнет нужда в метро – возникнет и нужда в знании о тех, кто строил его. Такой героический, славный путь пройден от первого наклонного туннеля до пуска поездов. Такие героические, мужественные люди проделали его. Они заслужили памятники, они достойны книг, о них должны складываться легенды. На их примере есть чему поучиться!
Потом мало-помалу бешенство и ярость оставляют меня, и я прозреваю, до чего же смешон и жалок я был в своем толькошнем бурлении. Как эти «пеналы» не могут летать, когда летают. И никто от них, конечно же, не откажется – что за резон! А метро если когда-нибудь и размуруют, то только для каких-нибудь глупых экскурсий. И девушка-экскурсовод будет говорить с легкомысленным видом, словно бы о глиняных черепках давно умерших, далеких от нас цивилизаций: «А вот здесь они выплавляли сталь. А вот здесь они ткали свое синтетическое полотно…»
Да, так, наверное, и будет.
Но все же хочется утешения, сознания ненапрасности прожитой жизни, сознания оставляемого после тебя, и оттого я вновь и вновь думаю с сумасшедшей надеждой: а может быть, жизнь и в самом деле преподнесет мне все-таки такой подарок. Ведь для чего-то же Бог продлил мои дни на земле!
Или он сделал это только в насмешку надо мной?
1988 г.



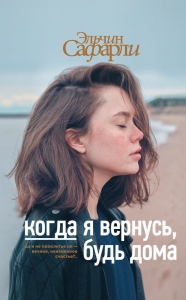
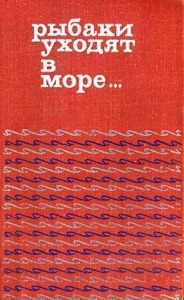
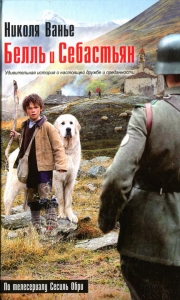
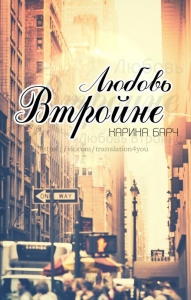


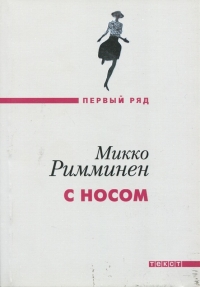
Комментарии к книге «Записки экстремиста», Анатолий Николаевич Курчаткин
Всего 0 комментариев