Всеволод Бернштейн БАЗЕЛЬСКИЙ МИР
Cтрельба внизу прекратилась. Наступившая тишина пугала больше, чем хлопки выстрелов, больше, чем размытая лунным светом темнота вокруг. Следы на снегу хорошо заметны, они выведут тех, кто стрелял, точно к нам. Сколько еще есть времени? Полчаса? Двадцать минут? Ноги не двигаются, дикий холод. Остается сидеть и смотреть на небо, подпертое пепельно-серыми горами, на бриллиантовые пылинки звезд в прорехах ночных облаков. Если закрыть глаза, бриллиантовые пылинки не исчезнут, будут мерцать и подрагивать. Красиво. Четыре месяца я пытался эту красоту разглядеть, и вот — получилось. Даже не надо открывать глаза. Четыре месяца…
Четыре месяца назад в часовом бутике «Бухерер» я объяснял Ивану Семеновичу устройство вечного календаря на примере часов «Свенд Андерсен». Вообще-то, вечный календарь был Ивану Семеновичу не нужен, и «Свенд Андерсен» тоже. Иван Семенович прилетел в Цюрих из Краснодара специально за вторым «ролексом». Свой первый «ролекс», год назад, он купил с моей помощью. Я нашел для него вариант с хорошей скидкой и приятным обхождением, он улетел довольный, и через год вернулся, уже за золотым хронографом — вдвое дороже. Большинство таких клиентов возвращаются, у меня всегда найдется интересный вариант.
Пока часовой мастер выполнял подгонку браслета, Иван Семенович успел расспросить меня о вечном календаре и рассказать, как провел этот год, как поменял «хаммер-два» на полноприводную «пятерку» БМВ, как достроил дом и купил участок земли в Черногории. «Ролекс» для Ивана Семеновича был чем-то вроде ордена, который вручают самому себе за заслуги на жизненном пути. И обязательная часть ритуала вручения ордена — отчитаться швейцарскому часовому барыге о своих достижениях. Я слушал внимательно, со сдержанным одобрением, где нужно покачивал головой, где нужно вскидывал брови. Комиссионные необходимо отрабатывать. Два года назад за эти деньги мне пришлось бы целую неделю высасывать из пальца газетные заметки. А тут — сорок минут, и мы, довольные друг другом, жмем руки. Я почти уверен, что через год снова увижу этот крепко сбитый и круто сваренный продукт краснодарских черноземов, снова буду пожимать волосатую ручищу, на которой не сходится стандартный часовой браслет. По моим прогнозам, через год он поменяет «пятерку» БМВ на «семерку» и созреет до «Патек Филиппа» себе и «Бреге» для супруги. И тогда я одним махом смогу заработать тысячи две, а то и две с половиной. Боже, храни Краснодар!
Распрощавшись с довольным ролексоводом, я направился в сторону Парадеплац. Можно было не торопиться. Светило декоративное декабрьское солнце, часы на церкви Святого Петра пробили обед. Банхофштрассе, одна из самых дорогих торговых улиц мира, по-пейзански уютно пахла брецелями и жареными каштанами. Труженики окрестных бутиков и офисные сидельцы, радуясь хорошей погоде, высыпали на улицу со своими сандвичами и салатами, рабочие с ближней стройки подкреплялись телячьими сосисками, которые продаются вместе с ломтем серого хлеба. Китайские туристы зачехлили фотоаппараты, и, как охотничьи собаки в незнакомом лесу, осторожно нюхали воздух, решая, что из варварской еды им выбрать, брецель или сосиску. Даже очень сытому человеку трудно удержаться от соблазна и не влиться в эту жующую и радостно щебечущую пастораль, а я был голоден, разговоры о вечных календарях и домах в Черногории отняли много сил. Я уже нацелился на окутанный клубами душистого пара киоск, как услышал за спиной окрик:
— Владимир!
Невысокий человек в распахнутом пальто помахал мне рукой. Это был Лещенко, из посольства. Я заметил его еще в бутике, он сидел в другом конце зала и выбирал часы. Сидел он вполоборота, я был уверен, что он меня не узнал, мне его узнавать тоже резона не было.
— Фу! — Лещенко шумно отдышался, — еле догнал! Здравствуйте! А я вас в магазине увидал, хоть одно знакомое лицо в этом Цюрихе.
— Можно поздравить с покупкой? — учтиво поинтересовался я.
— Да какое там! — отмахнулся Лещенко. — Просто так зашел, время убить до поезда, а тут гляжу — вы. Или мы на «ты»?
Я кивнул, хотя не помнил, чтобы когда-нибудь вообще обращался к нему. С шефом его, Цветковым, советником посольства, сталкиваться приходилось часто, а Лещенко был при нем кем-то вроде референта, первое время я даже думал, что он шофер Цветкова. Внешность у него была совершенно бесцветная — бесцветные глаза, бесцветные редкие волосы, на которых никогда не принимается седина, поэтому трудно было понять, сколько Лещенко лет. Сорок? Пятьдесят?
— Слушай, Володя, есть пара минут? — сказал он уже совсем по-приятельски. — Давай по кофейку! Или, может, — Лещенко кивнул на благоухающий киоск, — по сосиске?
— По кофейку, — ответил я. Оказаться в одной пасторали с этим типом мне не хотелось.
Мы зашли в кафе во внутреннем дворике штаб-квартиры банка Кредит Свисс.
— Беда с этими часами, — Лещенко уселся за столик, не снимая пальто. — У тестя шестидесятилетие, ну и родственники насели, мол, ты в Швейцарии, организуй-ка нам Мориса, понимаешь ты, Ла Круа, скелетон хронограф. Слова-то какие знают! Сибариты из Лодейного Поля. И надо же чтоб подешевле было, ну то есть очень подешевле, — с нажимом произнес он. — Понимаешь, Володя? Ну, ты-то понимаешь!
— Понимаю, — кивнул я.
— Посодействуешь?
— Постараюсь, — я протянул свою визитку. — Завтра позвоните мне, наведу справки.
Лещенко внимательно изучил визитку.
— Часовой консалтинг… Молодец! — похвалил он. — А журналистику что ж, забросил? Не пишешь больше?
— Пишу, — сказал я. — Я теперь про часы пишу. Только про часы. У меня свой блог в интернете, полторы тысячи подписчиков.
— Молодец! — одобрил Лещенко.
Я быстро выпил свой кофе и поискал взглядом официанта, чтобы расплатиться.
— Подожди, Володя, еще один вопрос, — Лещенко слегка наклонился ко мне, голос его мгновенно высох и стал казенным, как посольский пресс-релиз. — Александр Комин, знаешь такого?
— Нет, — машинально ответил я. Соврал, сам не понял зачем, просто из неприязни к казенному стилю. Лещенко скривил рот, получилась усмешка, снисходительно-разочарованная. Точно такую же гримасу я видел несколько раз на лице его шефа, Цветкова.
— А может, вспомнишь? Вы учились вместе в Ленинградском гидромете. В одной группе были… — Лещенко шарил своими оловянными бельмами по моему лицу, будто обыскивал.
— Простите, — сказал я. — Я забыл ваше имя-отчество…
— Ну, какое отчество, Володя! Роман я, можно просто Рома.
— Роман, а должность у вас какая? Вы меня сейчас в качестве кого допрашиваете?
— Володя! Ну что ты, как маленький! — на физиономии Лещенко прорезалась улыбка-оскал, тоже из Цветковского арсенала. — «Допрашиваете», зачем так? Впрочем, ты прав! Мой прокол. Надо было тебе сначала все рассказать. Давай, успокойся, я закажу тебе еще кофе. — Он подозвал официанта, — Нох цвай эспрессо, битте. — Все! Отмотали назад, забыли, начинаем сначала. Больше вопросов не задаю, только рассказываю. Ты, наверное, читал про антарктических террористов. Читал? Хотя это опять вопрос, извини, — (еще один оскал, помягче). — В общем, террористы, которые взорвали ледник в Антарктиде, айсберг откололся, шум большой поднялся. Потом они же дерьмом пляжи в Италии залили. Главный у них — Алекс Кей. Думали сначала, он американец — говорит без акцента. Потом прошла информация, что этот Алекс Кей — русский. — Лещенко сделал многозначительную паузу. — И зовут его Александр Николаевич Комин, уроженец Одессы, 1967 года рождения. Интерпол объявил его в розыск, проверяют связи, все какие есть. В общем, мы обязаны задать пару вопросов. Могли бы привлечь швейцарскую полицию — человек в международном розыске, террорист — но решили сделать все по-домашнему. Все-таки работали вместе, пока ты в газете был. Ты на хорошем счету. Это не допрос, что ты! Просто разговор. Галочку поставим и все.
Официант принес кофе. Лещенко замолчал, пока заменялись чашки. Как только официант ушел, продолжил, придвинувшись ближе ко мне.
— Да и какой он террорист, Комин этот! Пока ни одного трупа. Все, что он натворил, на злостное хулиганство тянет. И ведь не пацан уже, пятый десяток дураку. — Лещенко вздохнул с почти отеческой интонацией. — Идеи там какие-то. В общем, лучше бы его поскорее остановить, пока кто-нибудь не погиб, иначе все будет гораздо жестче. Для его же пользы, понимаешь?
— Но я действительно не помню никакого Александра Комина! — сказал я. — Ленинградский гидромет… Я его двадцать лет назад закончил! В другой жизни практически.
— Это точно! — Лещенко просиял. — Это ты хорошо сейчас сказал! В другой жизни! — он залпом выпил кофе. — Значит, ничего не помним, никого не знаем. Ну и ладно! — махнул рукой официанту. — А про часы-то, Володя… Ты не подумай, что это я просто так. Мне они действительно нужны. Любимый тесть, Лодейное Поле, малая родина — сам понимаешь. Так что я тебе завтра позвоню.
— Звоните, — сказал я.
На Парадеплац я сел на трамвай в сторону Рехальпа, и пока вагон не спеша тащился из центра в пригороды, пробовал собраться с мыслями.
Антарктические террористы, взорванный ледник и Сашка Комин. Бред! Как меня вычислил Лещенко? Краснодарский ролексовод — клиент не новый, прошлогодний, его они специально подослать не могли. Договаривался с ним о встрече по электронной почте, потом еще подтверждал по телефону. Прослушивают телефон? «Свисском»? Вряд ли. Скорее всего, взломали почтовый ящик. Это ведь совсем несложно. Но с другой стороны, зачем так примитивно? Они ведь знают, что я сразу догадаюсь. Куражатся? Предупреждают? Ах, Цветков. Из не столь далекого прошлого выдвинулась грузная фигура посольского советника. Бывший боксер, чемпион Дальневосточного военного округа, заплывший жирком в альпийской тиши. Ему я был обязан своей короткой журналистской карьерой в Швейцарии, тем, что она вообще состоялась, и тем, что оказалась такой короткой.
Вспомнилось искреннее недоумение Томаса, моего приятеля, швейцарского журналиста, когда он рассказывал мне, что второй по величине издательский дом Швейцарии Эмипресс запускает русскоязычную газету.
— Да что здесь такого? — не понимал я. — Будут писать для богатых русских, сотни три их тут наберется, чем не аудитория. Плюс пара-тройка тысяч русских жен швейцарцев, программисты, сотрудники международных организаций, два хоккеиста, писатель Шишкин…
— Ты не понимаешь! — горячился Томас. — Эмипресс без пяти минут банкрот, у них долгов на сотни миллионов! Вся издательская отрасль в упадке. За месяц в Цюрихе две газеты закрылись, а тут новая открывается. Русскоязычная! Откуда они взяли деньги?
— Значит, кто-то им дал, — рассудил я.
— Значит, кто-то дал, — согласился Томас.
Сразу после разговора с Томасом я написал письмо в новоиспеченную «Русскую газету», мне быстро перезвонили, предложили сотрудничество, сначала внештатное. Потом на званом обеде в посольстве ко мне подошел Цветков. «Так вот вы какой, Владимир Завертаев! Рад познакомиться. Следим за вашими работами, читаем… Очень хорошо!». «Поздравляю, старичок! — дохнул мне в ухо водочными парами художник Николаев. — Ты попал в обойму!». Прошло совсем немного времени, и мне объявили, что меня берут на работу в штат. На собеседовании в штаб-квартире Эмипресс присутствовал издательский начальник, который назвал себя «большим другом России». Как у многих «друзей России» в Швейцарии, у него было хлопотливо-одухотворенное выражение лица, которое часто встречается у переученных замполитов. Он пожелал мне успехов в борьбе со стереотипами, мешающими взаимопониманию между народами. Приторно вежливый кадровик даже не стал вникать в мое резюме. Так я получил свою первую швейцарскую работу, а через год так же стремительно ее потерял. Главного редактора «Русской газеты» Надю Сировски, прыткую дамочку, изъятую ради такого дела из структур ООН, я видел лишь изредка. Она запомнилась фразой «как писал поэт Некрасов: „умом Россию не понять“». Зато Цветков в редакционных вопросах был очень активен. Один раз он устроил мне разнос за статью о российско-украинском газовом конфликте. Где ваша позиция, Завертаев? Лично ваша? — бушевал он. У меня нет позиции, — честно признался я. Хреново! — припечатал Цветков. Второй раз я осекся на репортаже с выступления Цветкова в дискуссионном клубе в годовщину российско-грузинской войны. Я написал репортаж, он его почти полностью переписал, мне оставалось поставить свою подпись. Меня заело, начал спорить. «Твои американские друзья говорят в таких случаях — окей!» — процедил Цветков. Репортаж вышел хоть и в искореженном, но не до конца виде, что я считал своей маленькой профессиональной победой. После меня вызвали в штаб-квартиру Эмипресс, и уже другой кадровик, специальный, с каменным выражением лица объявил, что со мной разрывают контракт, и я уволен.
Так я стал часовым консультантом. Меня больше не приглашают на званые обеды в посольство, зато мне не нужно иметь свою позицию и нет необходимости видеться с Цветковым. Во всяком случае, так мне казалось до встречи с Лещенко.
Приехав домой, я засел за компьютер и принялся искать в интернете все, что связано с антарктическими террористами. Новость о взрыве ледника я помнил — это было три месяца назад. Тогда она не показалась мне сколь-нибудь важной или интересной — просто еще одна стекляшка в калейдоскопе человеческого безумия. Группа экологических экстремистов подорвала несколько мощных зарядов на леднике Росса, в результате от ледника откололся айсберг размером с приличный остров. Айсберг, дрейфуя в низкие широты, начал таять. Антарктические террористы утверждали, что заложили заряды еще в десятках мест на ледниках, и если они их взорвут, то таянье многочисленных айсбергов вызовет подъем уровня Мирового океана на полтора метра, что приведет к затоплению многих прибрежных городов и огромных территорий. Страницу за страницей перелистывал я информацию, найденную поисковой машиной по запросу «антарктические террористы», старался читать только статьи в солидных изданиях, и все равно выходил полный разброд. Чаще всего их называли экологическими экстремистами, что подразумевало, что они протестуют против загрязнения окружающей среды, еще говорилось о политических требованиях анархического толка, мелькали и вовсе безумные версии о том, что террористы требовали немедленного начала колонизации космоса. Якобы они разместили несколько видеообращений в интернете. Но, во-первых, видеосервисы все эти обращения моментально удалили, а во-вторых, интернет захлестнула волна поддельных обращений — пародий, вирусных реклам. Чуть ли не все известные производители кондиционеров и прохладительных напитков с готовностью взяли на себя «ответственность» за этот теракт. Мир, так и не успев как следует испугаться, уже покатывался со смеху. А айсберг тем временем приближался к экватору, по пути он раскололся на три части и изрядно потерял в весе. В газетах начали появляться статьи о том, что ситуация нешуточная. С одним айсбергом головная боль, но если террористы сдержат слово и взорвут заряды, Южный океан наполнится тающими айсбергами — это будет катастрофа. Нужно что-то делать. Но что? Антарктида — бесхозный материк, ничей. Согласно Конвенции об Антарктиде, здесь разрешена только научная деятельность. Никакой полиции, никаких военных. Кто будет искать оставшуюся взрывчатку? Как искать? Просто удивительно, что ледяной континент только сейчас попал в поле зрения террористов, и еще хорошо, что террористов-вегетарианцев, которые не собираются никого убивать. А что будет, если вслед за ними в Антарктиде появятся базы талибана?
Главы государств, подписавших Антарктическую конвенцию, встретились в Вашингтоне и решили ввести на материк ограниченный войсковой контингент для ликвидации террористической угрозы. Также было решено, что войсковой контингент будет на 100 % состоять из военнослужащих армии США. С резким протестом выступила Аргентина, которая тоже хотела бы участвовать в операции, но протест был отклонен большинством голосов. Проскользнули едкие комментарии по поводу пассивности России, чье присутствие в Антарктиде всегда было очень заметным. Так совпало, что одновременно в Рейкьявике проходили переговоры по Арктическому шельфу, на которых Россия получила существенные уступки. В газетах замелькали заголовки — Америка и Россия поделили между собой полюса.
Вскоре антарктические террористы вновь напомнили о себе, произведя точечный взрыв на очистительных сооружениях в пригороде Генуи. В результате несколько километров лигурийских пляжей оказались залитыми нечистотами. Взрыв был произведен ночью, никто не пострадал, если не считать тысяч отдыхающих, чей отпуск был безнадежно испорчен.
Так как Лигурия, в отличие от Антарктиды, территория далеко не бесхозная, итальянская полиция яро взялась за расследование. Было объявлено, что имеются несколько подозреваемых, главный из них — некто, называющий себя Алексом Кеем. Утверждалось, что Алекс Кей — скорее всего, сумасшедший, причем довольно опасный. Его главная цель — постепенное разрушение Земли, превращение ее в малопригодную для жизни людей планету, насильственное принуждение человечества к немедленному началу колонизации космоса во имя его же — человечества — спасения.
Выследили Кея быстро. Через неделю после взрывов его обнаружили в маленькой гостинице в Нерви, пригороде Генуи. Сдаваться Кей отказался, по сведениям полиции он был хорошо вооружен, поэтому готовили штурм. Пока в Нерви стягивали полицейский спецназ и армейскую технику, с Кеем вступили в телефонные переговоры. Он охотно рассказывал о том, зачем взрывает пляжи и айсберги, затем произнес: «Я вижу солдат около отеля. Мне это не нравится. Слишком много оружия. Могут пострадать люди. Я ухожу». И ушел. Исчез, как сквозь землю провалился. Полиция перевернула вверх дном гостиницу, прилегающую территорию, соседние здания. Тщетно. После этого случая заговорили о сверхъестественных способностях Кея. Журналисты раскопали еще одну историю. Оказывается, Кея первый раз пытались арестовать еще в Антарктиде. На американских станциях есть собственная служба безопасности, что-то вроде полиции на общественных началах. Эта служба получила с Большой Земли распоряжение задержать Кея и запереть его в надежном месте до прибытия людей из ФБР. Кей не сопротивлялся, спокойно дал себя арестовать. В «надежное место» транспортировали его в разгар пурги. Ни самолеты, ни вертолеты не летали, повезли на вездеходе. По пути вездеход провалился в ледовую трещину, все, кто находился в нем, три человека, включая Кея, выжили, успели выскочить, но не успели подать сигнал бедствия. Аварийный передатчик не сработал, рация, спасательное снаряжение — все сгинуло в ледяной бездне вместе с машиной. Вдобавок водитель серьезно повредил спину, а охранник, совсем молодой парень, оказавшись посреди ревущей антарктической пустыни наедине с опасным преступником и раненым, тронулся умом. Кей тащил их обоих на себе до станции. Дотащил и исчез. Бесследно растворился в снежных вихрях. Люди из ФБР скатались в Антарктиду напрасно. Молоденького охранника отправили на Большую Землю в психлечебницу, а водитель злополучного вездехода, когда поблизости не было врачей, называл Кея Мессией.
Мессия! Тут я вспомнил Комина, каким я его знал по нашим посиделкам в общежитии с распитием азербайджанского портвейна и спорами до хрипоты. Веселый враль и мастер розыгрышей. Истории с колонизацией, канализацией, таинственными исчезновениями вполне в его стиле. Но Антарктида! Кто его туда пустил!? Я продолжил читать, перелопачивая тонны бреда сетевых завсегдатаев. Как старатель на ручье, я выискивал в мутном потоке драгоценные крупицы Сашкиных фантазий, которые я сразу мог распознать, выслушав двадцать лет назад сотни его баек. Он их выдавал по две-три штуки в день, словно их беспрерывно вырабатывала какая-то внутренняя железа.
Колонизация космоса. И… бессмертие. Это слово тоже часто мелькало в статьях о террористе Алексе Кее. Стоит человеку прорваться в космос и сама природа сделает его бессмертным. Примирение науки и религии. Космос, вечная жизнь, бессмертие души. Комин, Комин… Но каков! Вспомнились рыжие непокорные вихры на его голове, у него была привычка взбивать волосы пятерней, когда очередная завиральная история рождалась на свет.
Я встал из-за стола, пошел в кладовку, нашел старый фотоальбом со студенческими фотографиями. Уже успевшие пожелтеть черно-белые снимки, молодые беспечные лица. Нелепая мода 80-х — стриженые виски, брюки-бананы. Учебные практики — вахты, измерения. В ушах зашумели волны, к горлу подкатил комок. Пошел на кухню, достал из шкафчика бутылку виски, налил себе в стакан на три пальца и выпил почти залпом.
Алкоголь ударил в голову, и грянули колокола. Я не сразу сообразил, что это никакие не колокола, а дверной звонок. Прошел в переднюю, не выпуская стакана из рук, открыл в дверь и застыл от удивления.
На пороге стоял Сашка Комин, собственной персоной. Непокорные рыжие вихры на голове исчезли, сменившись бритой лысиной, но глаза цвета южного неба, въевшиеся, как морская соль, веснушки, и главное — вечная одесская ухмылочка, все это осталось на своих местах. Я зажмурился, решив, что виски на три пальца залпом — это все-таки много, но видение не исчезло. Вдобавок раздался совершенно не изменившийся Коминский голос:
— Всё, как я и думал! Пришел домой, порылся в интернете и накатил стакан!
— Сашка, ты? — спросил я осторожно.
— Я! — с широкой улыбкой объявил Комин. — Войти-то можно?
Я быстро оглянулся по сторонам — вокруг ни души.
— Тебе нельзя сюда, — тихо, почти шепотом заговорил я. — За мной следят. Сегодня про тебя спрашивали…
— О! Значит, я знаменит!
— Тебя ищут, слышишь! Интерпол ищет, ФСБ… Они на меня вышли. Уходи быстрей! У меня опасно!
— Шпионские игры. Герань на подоконнике. Как пройти на Блюменштрассе? ФСБ, это кто? Лещенко, что ли?
Я поперхнулся.
— Ты его знаешь?
— Конечно, знаю. Порядочный негодяй, но что делать? Других шпионов у нас нет. Это я попросил его с тобой переговорить.
— Ты? — еще больше удивился я. — Но зачем?
— Надо было прощупать тебя немножко перед встречей. Все-таки столько лет прошло, вдруг ты скурвился? Можно уже войти? — Комин легонько отстранил меня рукой, шагнул внутрь квартиры и прикрыл дверь. — Уютненько, — он быстро окинул взглядом мое жилище, потом посмотрел на меня. — Ну, что ты как обухом ударенный? Это я, не привидение, не дух святой, и я очень рад тебя видеть! — Комин обхватил меня руками и крепко обнял.
— Я тоже рад, — ответил я, все еще плохо соображая. — Только объясни уже, наконец, откуда ты взялся. И что вообще происходит?
— Все объясню, все расскажу, — Комин через мое плечо заглянул в гостиную. — Ты один? Не против, если я у тебя переночую?
— Ночуй, конечно. А ты уверен, что это безопасно? Я имею в виду, для тебя…
— Расслабься, Володенька, мы же в Швейцарии, в самой безопасной стране мира! С тех пор, как доктор Плейшнер выпал из окна, ничего страшного здесь не происходило. Но даже доктор Плейшнер был выдумкой. А что ты, кстати, пьешь? — Комин кивнул на стакан у меня в руке. — Плесни-ка и мне. Обмоем встречу.
Мы устроились на тесной кухне с бутылкой виски и солеными хлебными палочками, другой закуски в доме не нашлось.
Чокнулись, выпили.
— Думал, мы с тобой пораньше свидимся, не через двадцать лет. Ах ты, бродяга! — Комин снова обнял меня за плечи.
— Я пытался тебя разыскивать, у знакомых спрашивал, в институте. Никто ничего…
— Помотало меня, — усмехнулся Комин
— Слышал, ты даже в Антарктиде успел побывать.
— Успел…
— Но как?
— Да очень просто, — Комин провел рукой по несуществующим вихрам. — В девяностых бизнесом занялся. Как все. Наделал долгов. Таким людям оказался должен… Мама дорогая! Загорелась у меня земля под ногами. Времена-то суровые были — утюги, паяльники, — это в лучшем случае. Думал, всё! — Комин засмеялся, будто вспомнил о чем-то особенно приятном. — А тут корешок знакомый порекомендовал место, из которого даже у этих ребят кишка тонка кого-нибудь достать. Корешок знал человека из Института Арктики и Антарктики, который обслуживающий персонал на зимовки в Антарктиду набирает. Им как раз повар был нужен на станцию «Восток». Готовить-то я люблю, с детства, можно сказать. Поварской диплом сделать — дело техники. В общем, я еще только месяц попрятался и отчалил на «Академике Федорове» к далеким берегам. Год отзимовал, тут же на второй завербовался, на третий не взяли, врачи сказали, для психического здоровья вредно. Но я-то знаю, что для психического здоровья самое полезное — это быть живым. Поэтому я к американцам завербовался, на станцию «Мак Мёрдо», до этого я у них две недели кока подменял, пока они своему аппендицит вырезали, понравились им мои котлетки, они и оформили меня, типа как по международному обмену. Там, в Антарктиде, все одной большой семьей живут — русские, американцы, латиносы, скандинавы, японцы. Все друг друга знают, в гости друг к другу ездят, выручают, когда нужно. С американцами отзимовал, опять к русским вернулся. Прижился там. На Большую землю уже и не тянуло даже. Отвык я от этого всего, — Комин провел глазами по стенам кухни. — Жена твоя? — он кивнул на фото — томная дама в темных очках в пол-лица — владелец квартиры считал этот китч украшением интерьера, а мне было лень это снять.
— Нет, просто картинка из ИКЕИ.
— Откуда?
— ИКЕА — шведский магазин.
— А… — протянул Комин. — В Антарктиде хорошо, — сказал он, разглядывая даму, будто это она навела его на такую мысль. — Не скажу, что мне там на кухне особо весело было, но, знаешь, я думать начал. Антарктида как-то к этому делу располагает. Суеты нет, двести дней в году метёт… Только и остается — читать да… думать. Слово «думать» Комин произнес слегка смущенно. Словно бухгалтер, которого заставили признаться, что он пишет стихи. Чтобы перебороть смущение, Комин заговорил быстрее. — Попалась мне книжка о Николае Федорове, один зимовщик из Новосибирска привез. Он с собой притащил чемодан книг по философии, говорит, на Большой земле такие себя читать не заставишь, специально для Антарктиды чтение. Отзимовал, уехал, книги оставил. Я обратил внимание — Федоров. Думал, это тот, академик, в честь которого пароход назвали. Оказалось, не тот, не академик, простой библиотекарь, философ. Николай Федорович Федоров. Слышал про такого?
— Нет, — признался я.
— Воскрешение отцов, бессмертие, русский космизм… Неужели не слышал?
— Я философией не очень интересуюсь…
— Да я тоже, — сказал Комин. — Из того чемодана книг я только Федорова осилил. Но, знаешь, зацепил он меня. То есть на первый взгляд — полный бред. Человек предлагает воскрешать отцов, расселяться в космосе и отменить смерть. Я, например, тоже пофантазировать люблю, но это даже для меня слишком. Поначалу каша в голове была, но потом как-то разлеглось всё. Это не было озарение или что-то еще, просто день за днем, месяц за месяцем это во мне зрело. Как дитя во чреве матери. Не смейся! — Комин поймал мой взгляд, который показался ему насмешливым. — Хотя, черт с тобой, смейся! Можешь смеяться сколько угодно. Я не боюсь быть смешным. Знаешь, я даже признаю, что я не особо умный человек. На свете есть сколько угодно людей умнее меня. Однако все эти умные люди почему-то занимаются какой-то несусветной ерундой… А, — Комин взмахнул рукой. — Не будем о грустном. Расскажи лучше о себе. Как ты тут поживаешь?
— Нормально поживаю, — ответил я. — Семья, дети… точнее, один ребенок, дочь, Настя. Они с женой сейчас не здесь, в Копенгагене. У жены там работа, командировали на год. Она работает в международной компании, занимается корпоративными коммуникациями — реструктуризации, слияния, поглощения. Ну, я создаю, так сказать, плацдарм. Пока снимаем полдома в хорошем пригороде. В скором будущем купим что-то свое.
— То есть, решили осесть в Швейцарии?
— Ну да. А что? Поездили по миру, поняли, что Швейцария — самая подходящая страна. Спокойно, чистый воздух, качественные продукты. Дороговато, конечно, но зато все хорошо организованно, все прекрасно функционирует. Например, если открывать свое дело, то тоже лучше места не найти, налоги невысокие, инфраструктура отличная…
Комин неожиданно засмеялся.
— Что? — не понял я.
— Прости, — он, извиняясь, вскинул ладони. — Помнишь Осипова? Ну, из института, в параллельной группе учился. Как только первые кооперативы появились, он аппарат для сахарной ваты купил. Помнишь?
— Ну, помню. И что?
— Когда ты сейчас про Швейцарию рассказывал, у тебя было точно такое же выражение лица, как у Осипова, когда он своим аппаратом хвастался. Помнишь?
Сравнение показалось мне обидным, туповатый прижимистый Осипов со своим нелепым, хотя и весьма доходным бизнесом был нашим любимым объектом насмешек.
Комин сделал маленький глоток, смакуя не столько дешевый виски, сколько воспоминания. Помолчали.
— А если всё это вдруг кончится? — спросил он.
— Что кончится?
— Чистый воздух, качественные продукты, Швейцария твоя кончится!
— Шалишь, брат! — возразил я, чувствуя туман в голове. — Швейцария — нейтральная страна с очень стабильной экономической и политической ситуацией, она не может кончиться.
— Может! Все может кончиться. По тысяче причин! Ты это прекрасно знаешь. Падение метеорита, столкновение с кометой, ядерная катастрофа, извержение вулкана, эпидемия. Русская рулетка — это образ жизни человечества. Вспомни холодную войну! Ядерные чемоданчики у старых маразматиков. Нажал кнопку — и всё! И так на протяжении десятилетий.
— Холодная война закончилась, по-моему…
— Чемоданчики остались. Мир стал еще опасней, чем двадцать лет назад.
— И ты предлагаешь срочно начинать колонизацию космоса.
— Да, — не обращая внимания на мой хмельной сарказм, серьезно ответил Комин. — Но в первую очередь, я предлагаю общую идею, общее дело для всего человечества. Точнее, это не я, это Николай Федоров его предложил.
— Коммунисты, помнится, тоже что-то такое предлагали, обо всем человечестве разом хотели позаботиться, но как-то неудачно.
— Коммунизм — замечательная идея, — возразил Комин. — Только ее испортили революционеры. К коммунизму нельзя было прийти путем революции, путем насилия. Если за идею нужно заплатить хотя бы одну человеческую жизнь — это идея преступная. Человеческая жизнь — высшая ценность, кульминация развития Вселенной. Это мое самое главное убеждение. И ограничение рождаемости, в любой форме, это тоже преступление. Людей должно быть много — сотни миллиардов, триллионы, всех возможных рас и национальностей. Космос примет всех, а Землю человек уже перерос. Земля — это материнская утроба, если плод остается в ней слишком долго — он губит мать и погибает сам. Оставаясь на Земле, мы погибнем. Дарвиновская эволюция закончилась с появлением человека разумного. Естественный отбор для человека больше не работает. Выживают все — приспособленные, неприспособленные, умные, глупые, сильные, слабые. Человек готов для следующего шага вперед. Этот шаг — распространение разума во Вселенной, главное предназначение человека, твое и мое предназначение. Человек земной превращается в человека космического, новый этап эволюции, который разовьет у человека новые способности. Долголетие или даже бессмертие. Именно бессмертие, без всяких чудес! — воскликнул Комин с энтузиазмом продавца овощерезок в телевизионным магазине. — Каждая клетка человеческого организма обновляется раз в пять лет. В среднем. Какие-то быстрее, какие-то дольше. Но это факт. И это фундамент для бессмертия. Мы стареем и умираем, потому что природа запускает в организме некий механизм, ведущий к угасанию. Человек земной не живет долго, потому что на Земле у него нет задач, для которых необходима долгая жизнь. Другое дело — человек космический, которому для межзвездных путешествий понадобятся сотни лет. Стоит человеку выйти за пределы материнской утробы, и включатся совсем другие механизмы. Человек получит эти сотни лет дополнительной жизни.
Было заметно, что эти фразы Комин произносит в десятый, а может и в сотый раз, умело управляясь с интонациями и паузами. Глаза его, не без помощи виски, увлажнились и сверкали честным пророческим блеском. Сквозь щетину на щеках проступил румянец. Двадцати лет со времен общежитских посиделок как не бывало. Передо мной сидел Сашка Комин, вдохновенный враль. На институтских девиц эти его штучки действовали завораживающе. Начинал за общим столом, что-нибудь типа что есть любовь или почему Милош Форман гений, а Тарковский так себе, или как он ехал в одном купе с академиком Сахаровым. Потом увлекал какую-нибудь девицу в сумеречный коридор, откуда долго доносилось его бубнение, приглушенные восклицания и загадочное шарканье. Возвращался, как правило, под утро. И этот балабол посмел сравнить меня с Осиповым! — закипело во мне пьяное возмущение. Я решил не оставаться в долгу:
— Знаешь, Сань, вот ей-богу, твоя теория интегрального флирта нравилась мне больше. Какая-то она более органичная, что ли. Помнишь, на пятом курсе?
Комин резко осекся, будто получил пощечину. Он сильно побледнел и посмотрел на меня так, будто увидел впервые.
— Флирта? — тихо переспросил он.
— Сань, дружище, — поняв, что перегнул палку, я примирительно чокнулся, — это замечательные идеи, и ты их прекрасно излагаешь. Я со многим согласен, почти со всем. Но зачем было взрывать ледник и эту канализацию в Генуе? Написал бы книгу или статью в каком-нибудь журнале. И Интерпол тебя бы сейчас не разыскивал.
Комин поднял свой стакан до уровня глаз и, прищурившись, посмотрел на меня сквозь стекло.
— Я очень рад, что ты согласен «почти со всем». Ты знаешь, почти все, кому я это рассказываю, русские, американцы, французы, все согласны «почти со всем». Только никто ничего не собирается делать. — Он поставил стакан на стол. — Вот ты меня послушал, согласился, мы с тобой допьем бутылку виски, завтра я уйду. Что-нибудь в твоей жизни изменится? Захочешь ли ты что-нибудь поменять? Нет. И никто не хочет ничего менять. Напиши я хоть десять книг, хоть тысячу статей, никто не почешется. Даже ради того, чтобы прямые потомки, твои и мои праправнуки жили не семьдесят, а семьсот семьдесят лет.
— Так ты же говоришь, что природа сама обо всем позаботится, когда надо включит механизм, когда надо выключит. Зачем опережать события?
— Не существует доброй матери-природы, которая о нас заботится и все делает нам во благо. Человечество — это цветок, который вырос на камнях. Стоит чуть ослабить волю к жизни, и он погибнет. Кроме того, он может погибнуть по тысяче других, независящих от его воли к жизни причин. Теория вероятности против нас. До сих пор нам чертовски везло, но это везение не может продолжаться бесконечно.
Но самая главная опасность для человечества кроется в нем самом, — Комин показал пальцем на меня. — Федоров сказал, если человек не созидает, он разрушает. Наш сегодняшний мир устроен таким образом, что любой локальный конфликт, любой кризис — политический или экономический, может выйти из-под контроля и привести к глобальной катастрофе.
— Люди — удивительные создания! — Комин встал и принялся расхаживать по кухне, обида была забыта, он снова превратился в пророка с замашками продавца из телемагазина. — Они переплачивают за гибридные автомобили, чтобы, не дай бог, в воздух не попал лишний миллиграмм свинца, и легко допускают бомбардировки Ливии. Они строят одной рукой и разрушают другой. Строят, сами не понимая, что. Разрушают всё, на что укажут негодяи и проходимцы, которых они избрали собой управлять. Этот круговорот они называют жизнью, и никто толком не может объяснить, какой во всем этом смысл. Живем ради детей? Окей! Чтобы они были счастливы? Окей! Это самый достойный, самый осмысленный ответ человека. Но почему-то считается, что образование и некоторое количество фантиков Федеральной резервной службы США в наследство — это именно то, что сделает детей счастливыми, избавит их от метаний, от мучений бесцельности существования. А я предлагаю цель. Ясную цель жизни для всех. И саму жизнь, дополнительные сто, двести, пятьсот лет жизни для каждого. Не сразу, через несколько поколений. Не веришь?
— Не очень, — признался я. — По-моему, хреновый ты агитатор.
— Хреновый! — Комин опустился на стул. — В точку попал. И агитатор хреновый, и оратор. Сам все понимаю, а объяснить не могу. Поэтому я и решил, — продолжил Комин, — буду не разговоры разговаривать, а действовать. Буду злодеем, террористом, плохим парнем. Буду разрушать планету и весь этот мир, чтобы остальные хотя бы зашевелились. Пусть лучше это буду я. Я могу разрушать так, чтобы ни один человек не погиб.
Комин поднял над столом руку со стаканом виски, я подумал, он собирается провозгласить тост, но вместо этого Комин разжал пальцы, тяжелый стакан полетел вниз, перед самой поверхностью стола Комин ловко поймал стакан второй рукой и бережно поставил на салфетку.
— Наглядно! — я отсалютовал своим стаканом мастерству Комина, отпил глоток. — С чего ты вообще решил, что это должен быть ты? — спросил я. — Голоса в голове? Видения? Почему ты?
Комин засмеялся.
— И ты туда же! «Голоса, видения». Конечно! После стольких зимовок в Антарктиде, что же это еще может быть!? Нет, брат! — он тоже сделал глоток. — Это было бы слишком просто. Я, может, и сам бы охотнее согласился быть сумасшедшим. Но тут другое…
— Что?
— Чувство космоса.
— Чувство космоса? — что-то подобное я и ожидал услышать. Если у человека, взорвавшего Антарктиду, нет видений, то обязательно должно быть что-нибудь вроде «чувства космоса».
— Оно есть у каждого человека с рождения, — продолжил Комин. — Только развито в разной степени. И каждый определяет его для себя по-разному. Для кого-то это религиозное чувство, ощущение присутствия Высшего существа, Абсолюта. Для кого-то чувство долга, ответственности перед кем-то или чем-то, что вне тебя. Для кого-то вдохновение. Когда художники или писатели говорят, что кто-то водит их рукой — это оно! Ты сам наверняка когда-нибудь такое испытывал.
— Что-то не припомню, — признался я. — Я далек от всей этой эзотерики, даже в гороскопы не верю.
— Это не эзотерика, — возразил Комин. — Это физика, на уровне средней школы. Космическое излучение. Все вокруг пронизано им. Свет Солнца и других звезд мы видим, но помимо света есть невидимые волны — радиоволны, электромагнитные волны. Они несут в себе информацию, информацию обо всем. О настоящем, о далеком прошлом. Собственно, разницы между настоящим и прошлым нет.
— Да-да, — видя мое удивление, оживился Комин. — Свет от Солнца доходит до нас через восемь минут. От далеких звезд он может идти тысячи, миллионы лет. Звезд уже нет, но мы их видим, для нас они существуют. То есть когда бы ни погасла любая из звезд, во Вселенной всегда найдется место, где эта звезда по-прежнему светит.
Люди — как звезды. Каждый объект Вселенной формирует свое излучение. И если человек умирает, перестает существовать здесь, во Вселенной есть место, где его излучение еще живет. Смерти нет, есть лишь расстояние, а расстояние — вещь преодолимая. И времени нет. Мы живем во всех временах сразу.
— Лихо! — усмехнулся я.
— Я тебя научу! — Комин поставил стакан. — На кухне неудобно, пойдем в гостиную на диван!
— Что это ты задумал? — насторожился я.
— Не бойся, больно не будет.
Вставать мне не хотелось, но Комин решительно взял меня под локоть и потянул в гостиную. Он подвел меня к дивану.
— Садись! Устраивайся удобнее! — сам он уселся рядом со мной, откинулся на спинку и вытянул ноги. — Закрой глаза! Закрой, не бойся!
— Да я не боюсь, — сказал я, тоже вытягивая ноги. — Просто ерунда какая-то, взрослые люди… Ну, закрыл. — Я закрыл глаза.
— Теперь представь звездное небо. Прямо над тобой, как ты его помнишь.
— Да я его не особо…
— Молчи! — скомандовал Комин. — Смотри на это небо, разглядывай его, не спеши. Спокойно, медленно разглядывай. Постарайся почувствовать, как через тебя проходят невидимые лучи.
Как только я закрыл глаза, тут же вспомнил, что завтра у меня встреча с клиентом в Люцерне по поводу «Картье» из лимитированной серии, а бутик до сих пор не подтвердил скидку. Нужно будет с утра в половине десятого звонить. Только не забыть! Прямо с утра, как только они откроются.
— Прислушайся к себе, — раздался вкрадчивый голос Комина.
Я открыл глаза.
— Рано! — запротестовал Комин.
— Не получится у меня, — сказал я, выпрямляясь. — Ерунда какая-то! Давай выпьем!
— Это не ерунда, — Видно было, что Комина задели мои слова.
Я пошел на кухню, принес бутылку, разлил остатки виски по стаканам.
— Лучше расскажи, как тебе удалось ледник взорвать.
— Поздно уже, в другой раз, — заартачился Комин, но стакан взял.
— В другой так в другой, — согласился я. — А еще один маленький вопрос, напоследок, можно? Откуда в этой истории взялся Лещенко?
— Взялся и взялся, — хмуро буркнул Комин.
— Нет, правда, он что, проникся твоими идеями?
— А может, и проникся? Не все же такие железобетонные, как ты. Он, между прочим, географический факультет питерского универа закончил. Так что кое в чем разбирается.
— А где ты с ним познакомился?
— В Италии, случайно.
— Как это, случайно?
— На улице. Увидел у меня в руках книгу на русском. Подошел, разговорились. Вина выпили. Рома — свой парень.
— Свой, это точно.
Бутылка виски опустела. Разговор сошел на нет, оставив послевкусие легкого взаимного раздражения.
Утром Комин ушел раньше, чем я проснулся. Никаких своих координат он не оставил, а спросить с вечера я не догадался.
Поезд прибыл в Люцерн точно по расписанию. Бутик «Амбассадор» в пяти минутах ходьбы от вокзала. Я не спешил, сделал пару телефонных звонков, в итоге опоздал на три минуты. Клиенты, супружеская пара из Петербурга, уже ждали меня у входа.
— А мы пришли вовремя! — торжествующе сообщила супруга, дама лет пятидесяти, одетая ярко и дорого. — В Швейцарии надо быть пунктуальным!
Я принялся извиняться. Русские люди в Швейцарии становятся ужасно пунктуальными. В Москве или Петербурге ни одна встреча не может состояться вовремя, опоздание на полчаса считается само собой разумеющимся, но именно в Швейцарии они всегда и везде приходят минута в минуту, будто пунктуальность — это местный туристический аттракцион, наподобие экскурсии на шоколадную фабрику. Я специально опаздываю на две-три минуты, чтобы дать им полнее насладиться моментом.
Покупка часов прошла как по маслу. Супруг, в котором безошибочно угадывался чиновник городской администрации, представился Валерианом Борисовичем. Он нацелился на усыпанные бриллиантами «Картье». Подарок дочке, только что родившей внучку. Я заранее проинформировал менеджера о внучке, сотрудницы бутика дружно принялись охать и ахать, устроили хорошо отрепетированный радостный переполох и с большими церемониями преподнесли в подарок серебряную ложечку. Супруга, Ольга Николаевна, смахнула навернувшуюся слезу умиления, а Валериан Борисович, не моргнув глазом, расстался с тридцатью шестью тысячами долларов, хотя накануне по телефону сообщил мне, что предложенная скидка его категорически не устраивает. Часы и ложечку, новоиспеченные семейные реликвии, поместили в многослойную упаковку, персонал бутика выстроился в непрерывно кланяющуюся шеренгу, провожая нас к выходу. Глаза старшего менеджера лучились самой чистой и искренней радостью, ведь все обошлось стандартной скидкой, без дополнительного торга. Все, абсолютно все, были счастливы, включая молодую маму в Питере, которой раз пять позвонили по телефону. Я хорошо сделал свою работу.
С москвичами и людьми их регионов на этом обычно все заканчивалось, но пара была из Петербурга, поэтому неминуем был разговор о культуре.
— Послушайте, Володенька, — пропела Ольга Николаевна, как только мы вышли на улицу, — а что можно посмотреть в Люцерне в культурном плане? Мы первый раз в этом городе. В Швейцарии мы уже много раз были, на лыжах катались…
— В Церматте и Санкт-Морице, — вставил Валериан Борисович со значением.
— …Да, а в Люцерне впервые. Не посоветуете, куда тут можно сходить?
— За углом налево, потом все время прямо, минут пять ходьбы. Памятник «Раненый лев», Марк Твен назвал его «самым печальным куском мрамора в мире», — заученно отбарабанил я.
— Какая прелесть! — воскликнула Ольга Николаевна.
— Вон та группа индусов наверняка направляется туда, если вы за ними пристроитесь, они вас выведут точно к памятнику.
План не сработал, супруги не захотели пристраиваться к индусам и продолжали меня терзать.
— А сувениры? Где тут можно купить сувениры, подскажите, пожалуйста? — спохватилась Ольга Николаевна.
— Сейчас прямо, до пересечения с пешеходной улицей, потом направо, большое черное здание, универмаг «Манор», там все есть.
— Как здесь вообще жизнь-то, скучно, поди? — Валериан Борисович вступил в разговор с вопросом, который задают все без исключения туристы.
— Не особо, — уклончиво ответил я.
— Да как же тут можно скучать! — встрепенулась Ольга Николаевна. — Ты смотри, какая красота кругом! Эта гора как называется?
— Пилатус.
— Пилатус! — благоговейно воскликнула Ольга Николаевна. — Прелесть, а не вид! От одного этого вида сразу настроение поднимается!
Тут я вспомнил своего люцернского приятеля Виталия, который никогда не открывает шторы в своей квартирке, чтобы не видеть Пилатуса. Виталий родом из раздольного степного края, он ненавидит Пилатус за то, что глупая гора ворует у него горизонт. Горы вызывают у Виталия депрессию. Да и у меня, признаться, тоже. Я не стал говорить об этом Ольге Николаевне, потому что я никогда не спорю с клиентами, а после окончания сделки стараюсь и не особо разговаривать. Незачем.
— А куда плавают эти кораблики? — продолжала наседать Ольга Николаевна.
В эту секунду раздался спасительный звонок телефона.
— Владимир, добрый день! — раздалось в трубке. — Это Лещенко Роман. Звоню, как договаривались, насчет «Мориса Лакруа».
Я сделал извиняющийся жест, прикрыв телефон ладонью:
— Очень важный звонок, простите, я вынужден вас оставить.
Супруги выразили полное понимание, мы торопливо попрощались и я перешел на другую сторону улицы.
— Добрый день, Роман! — поприветствовал я своего избавителя. — «Морис Лакруа», коллекция Мастерпис, скелетон хронограф, я все узнал. — Я действительно все узнал, хоть и давал не больше пяти процентов вероятности за то, что Лещенко вправду нужны часы. Я обработал его заявку с утра. Я всегда обрабатываю все заявки. — Итак, Мастерпис, — я достал блокнот, — скелетон хронограф, розничная цена девятнадцать тысяч. Я могу устроить для вас скидку десять процентов и, если часы вывозятся из Швейцарии, еще минус восемь процентов таксфри, итого пятнадцать тысяч семьсот тридцать два франка.
— Ну, Володя, — протянул Лещенко. — Десять процентов скидки — это несерьезно. Да мне по посольскому ваучеру лучше цену дадут. Я же объяснял — нужно очень подешевле.
— Официальные дилеры больше скидки не дают.
— А неофициальные?
— Неофициальные дают тридцать процентов с учетом таксфри. То есть… — я быстро посчитал в уме, — тринадцать тысяч триста. При этом вы понимаете, что гарантия тоже будет неофициальной.
— Да это я понимаю, гарантия неофициальной пусть будет, но вот цена… Цена пусть будет десять тысяч. А?
— К сожалению, это невозможно. Тринадцать тысяч — абсолютный минимум, — сказал я. — Дешевле никак!
— Жалко, — вздохнул Лещенко. — Не получается у нас. Ну ладно, бывай здоров!
— Одну минутку, Роман! — спохватился я.
— А! Все-таки, двенадцать! — засмеялся Лещенко.
— Нет, я не про часы… Я о Комине хотел спросить…
— Ну, — голос Лещенко стал серьезным.
— Он был у меня вчера, вы знаете, то есть, ты знаешь… Он не оставил никаких координат, мы даже не простились толком, и поговорили как-то… мало.
— Хочешь его еще раз увидеть?
— Если это возможно…
— Да что ж здесь невозможного! Возможно, — сказал Лещенко. — Только это не телефонный разговор. Знаешь, приезжай-ка ты к нам в Берн. И часы захвати! — лукаво произнес Лещенко. — За одиннадцать тысяч я у тебя их возьму. Договорились?
— Договорились, — ответил я.
Найти морисовский скелетон за такую зверскую цену — дело очень непростое, высший пилотаж. В мире часовых барыг подобный трофей котируется, как голубой марлин у любителей морской рыбалки. Точно определить место, где забросить удочку, грамотно подсечь, чтоб не соскочил, а дальше изматывать, изматывать, изматывать до полного изнеможения. Только вот фотографироваться с добычей не принято.
С утра я засел за телефон, и к обеду марлин был пойман. Некому было оценить мой подвиг — Лещенко новость о том, что часы найдены и именно за одиннадцать тысяч, воспринял совершенно буднично, как должное.
— Хоккей любишь? — спросил он неожиданно.
— Иногда смотрю.
— Сегодня в Берне Кубок Виктории, «Металлург» из Новокузнецка против «Нью-Йорк Айлендерс», матч века. Начало в 19.30. Билеты возьми в сектор Б, там места еще есть. Встретимся в буфете в первом перерыве. Бывай здоров! — не успел я и рта раскрыть, Лещенко дал отбой.
Я опешил. Первым желанием было набрать номер Лещенко и сказать, что никакой хоккей мне не нужен, пусть забирает свои часы на вокзале, а мне даст координаты Комина, как договаривались. Но потом я подумал, что хоккей, наверное, неспроста. Может, Комин тоже там будет. Скорее всего, будет, успокоил я себя. Матч века ведь. Новокузнецк против Нью-Йорка.
Бернская «Пост Финанс Арена», забитая до отказа, ревела по-русски «Шайбу! Шайбу!». Соседи по трибуне, распознав во мне соотечественника, вручили шарфик «Магнитки» и сообщили, что магнитогорский комбинат от широты души подогнал в Берн три чартера с болельщиками, да еще подтянулись швейцарские русские. В итоге кучка фанатов «Айлендерс», одетых по-пижонски в темные очки и черные шляпы, растворилась в бело-сине-красном море почти без остатка.
Я никогда в жизни не смотрел хоккей на стадионе, мне с трудом удавалось следить за шайбой, вдобавок, получив шарфик в подарок, я чувствовал себя обязанным то и дело вместе со всеми вскакивать с места и орать: «Ра-си-я!», или «Ма-гни-тка!», или «Бляааа!» — в ситуации, когда болельщики других стран воют «Уууу!».
В первом перерыве я протолкался к буфету и сразу же нашел Лещенко. Он стоял у заставленного пивными стаканами столика с грузным немолодым мужчиной, одетым в свитер «Магнитки».
— Владимир, познакомься, это Василий Федорович из Магнитогорска. Василий Федорович, это — Владимир, любитель хоккея из Цюриха, — представил нас Лещенко.
Василий Федорович до хруста сжал мою руку и продолжил свой рассказ:
— Так вот я и говорю, крытых стадионов не было. Мороз минус двадцать. Хоккеистам проще, они бегают, а мы стоим на трибуне, топчемся. Водка — не вариант, нет, — Василий Федорович, с виду порядком выпивши, решительно помахал в воздухе пальцем, — водка не греет. Чайку заваришь с чабрецом, меду туда, настойки на зверобое, немного, грамм пятьдесят, максимум сто, все это в термосок. Так душевно! Вот это был хоккей! А играли как! Не за деньги, за совесть играли. А теперь…
Василия Федоровича окликнули из-за соседнего столика, и он отошел, так и не рассказав, что думает о теперешнем хоккее.
— Как дома побывал, — произнес Лещенко, провожая его взглядом. — Скучаю я здесь по таким вот людям, — он прочувствованно глотнул пива. — Ты по России скучаешь, Володя?
— Не особо, — ответил я.
— Тебя что ни спросишь, все «не особо»! — усмехнулся Лещенко. — Деликатный стал, совсем ошвейцарился…
— Вот часы, — я взгромоздил на стол пакет с коробкой.
— Убери, что ты! — замахал руками Лещенко. — Не сейчас! — Он быстро оглянулся по сторонам. — Не торопись, Володя, давай лучше поговорим. Вот скажи, ты, вообще, Родину любишь? Только не говори: «не особо», хотя я догадываюсь, что не особо, но объясни. Объясни мне свою позицию. Ты думающий человек, наверняка давно уже все для себя решил. Расскажи, мне интересно. Что такое для тебя Россия?
— Правда хочешь знать? — во мне закипало раздражение.
— Правда хочу, — серьезно ответил Лещенко.
— Так слушай! Россия для меня — это вот этот самый Василий Федорович, который только что тут стоял. Широкая натура, человечище, минус двадцать нипочем. Такие василии федоровичи остановили немца под Москвой в сорок первом. Никто бы не остановил, а они остановили. Только они могли это сделать. Но есть одна существенная деталь — Василий Федорович отсидел за что-то очень серьезное, я наколку у него на пятерне заметил. И попадись ему под пьяную руку я или ты, он заточкой пырнет, не задумываясь, просто так, сдуру. Потом, как протрезвеет, жалеть будет, раскаиваться, но никому от этого легче не станет. Потому что — Россия.
Лещенко помолчал, потом кивнул головой:
— Ну-ну. А про наколки откуда знаешь?
— Так мы ж Василием Федоровичем земляки почти. Я из Иркутской области, рядом с нашим городом — зона всесоюзного значения. У нас пацаны наколки раньше, чем буквы, учатся распознавать.
— Приятно иметь дело со знающим человеком, — усмехнулся Лещенко.
— Всегда к вашим услугам, — сказал я. — Кстати, а где Комин? Я думал, он будет на хоккее…
— Он хоккей не любит.
Увидев мое возмущение, Лещенко быстро добавил: — Он уехал из Берна, в Аскону, кажется. Но я передал ему, что ты хочешь его видеть.
— А он?
— А он меня услышал. Информация принята к сведению.
— И это все?
— Все, — развел руками Лещенко.
— Что ты мне голову морочил, гад! — хотел было сказать я, но сдержался. Два раза вдохнул и выдохнул, успокоился.
— Послушай, Рома, давай откровенность за откровенность. Вашей конторе Комин зачем нужен?
— Какой конторе, о чем ты?
— Ну не юли. Чего ты с ним возишься?
Лещенко посмотрел на меня своими оловянными глазами, усмехнулся.
— Отвечу так: Комин стране нужен, России. Той самой, которую ты тут красочно описал. Хоть ты и глубоко не прав, но сейчас не об этом. Комин правильные вещи говорит. Колонизация космоса — это то, что может объединить все человечество — европейцев, китайцев, арабов, даже израильтян с палестинцами. Звучит непривычно, режет слух, но у этой идеи грандиозный потенциал. И русским, России, здесь отводится особая роль. Ты слышал, как он о русских говорит? Нет? В Ютьюбе есть ролик, если еще не потерли. Русские — нация первопроходцев, такое наше историческое предназначение. Мы покорили Сибирь, стремительно, без чрезмерного насилия, без рек крови. Пришли и закрепились. Ни один народ не смог бы так. И в космосе мы были первыми тоже неслучайно. Русские как никто другой умеют мобилизоваться, подчинить все свои безмерные ресурсы одной цели, умеют жертвовать собой, упереться рогом, стоять до конца. Вот чего мы не умеем, так это обживать, налаживать нормальную жизнь. Чего нет, того нет. Это лучше получается у немцев, у японцев. Поэтому колонизация космоса — это наднациональный проект, у каждой нации — своя функция, без дела никто не останется, но русские — это авангард. И это чертовски правильно!
Космизм — очень русская идея. Федоров, Циолковский, Вернадский… и теперь — Комин. Продолжение традиций, понимаешь…
— Кажется, его разыскивает Интерпол…
— Интерпол — ерунда! — махнул рукой Лещенко. — Мало ли кто кого разыскивает! Это все можно уладить. И потом, никто не собирается пороть горячку. Принято решение, — Лещенко сделал многозначительную паузу, — принято решение, что Александр должен пока пожить в Швейцарии. Это самое подходящее место для вызревания идей и идеологов. Мы позаботимся о том, чтобы его здесь особо не беспокоили, пусть размышляет, пишет, встречается с единомышленниками, ну с соблюдением некоторых, скажем так, конспиративных условностей.
— Прямо как Ленин, — усмехнулся я.
— Аналогия правомочная, — серьезно кивнул Лещенко. — Только вот что, Владимир, — он придвинулся ближе, — я тебе выдал сейчас очень важную конфиденциальную информацию. Если она пойдет куда-то дальше, это может сильно повредить Комину. Он считает тебя своим другом, ты его, надеюсь, тоже. Так что — молчок! — Лещенко подмигнул и коснулся своим пивным стаканом моего.
Болельщики потянулись из буфета обратно на трибуны.
— Перерыв заканчивается, — Лещенко посмотрел по сторонам. — Давай теперь быстро с часами порешаем. Ты их хорошо посмотрел? Царапин нет? Бумаги в порядке?
— Посмотрел. Все в порядке.
— В этой газете конверт, — Лещенко положил руку на свернутую газету, которая все время лежала на столике между пивными стаканами. — В конверте ровно одиннадцать тысяч. Пакет с часами оставляешь под столиком, забираешь газету и отходишь.
Я молча кивнул, взял газету, взвесил ее на руке, почувствовал тяжесть конверта внутри, сунул под мышку и отошел.
На трибуну я не вернулся. Вечером увидел в новостях, что «Магнитка» выиграла, Кубок Виктории увезли в Магнитогорск.
Мой следующий день выдался свободным. Заказов не было. В нашем бизнесе такое случается. Накопилось множество мелких бытовых дел — оплатить счета, разобрать почту, навести порядок в квартире, однако вместо всего этого я с раннего утра полез в интернет, искать информацию о Комине.
В русскоязычной части интернета нашлось с десяток Александров Коминых, но все не те. У нужного мне Комина не оказалось аккаунта ни в одной из социальных сетей, и вообще, ноль упоминаний, словно кто-то специально подчистил всю информацию. Чего, впрочем, я совершенно не исключал. Даже антарктический террорист Алекс Кей упоминался на русских ресурсах крайне скупо и тоже как будто дозированно.
В англоязычном интернете обнаружились тысячи и тысячи Алексов Кеев — белых, чернокожих, азиатов — на любой вкус. Было даже довольно много женщин, которые называли себя Алекс Кей. Оригинальных ютьюбовских роликов не было. «Подтерли» — вспомнилось словечко Лещенко. Были мегатонны словесной шелухи, через которые я снова, как и два дня назад, попытался продраться. Час за часом перелистывал изображения на экране и гнал от себя мысль, что даром трачу время. Еще два клика и иду обедать, — решил я. На первом же клике взгляд зацепился за фразу «…слияние науки и религии, о котором, помимо Далай Ламы, говорили многие — от бельгийского католического священника Ламэтра, нашедшего решение квантовых уравнений Фридмана, до „гуманного“ террориста Алекса Кея, недавно взорвавшего Антарктиду…». Я пролистал вверх, это был блог американского физика, посвященный квантовой механике. Он писал о визите Далай Ламы в Центр Ядерных исследований ЦЕРН и о его книге «Вселенная в единственном атоме». Физик упомянул также о докладе «Далай Лама и квантовая механика», который был сделан на ежегодном семинаре «Монте Верита» в филиале Цюрихской Высшей Технической школы в Асконе. Меня как током ударило. Аскона! Вот куда поехал Комин! Как же я сразу не догадался? Монте Верита! Гора Правды! Куда же еще податься будущему спасителю человечества!?
О Монте Верита я узнал два года назад. Был в моей биографии короткий промежуток, между журналистикой и часами, когда я решил сделаться культурным антрепренером и ввязался в организацию юбилея художницы Марианны Веревкиной, или Марианны фон Верефкин, как ее называют в Швейцарии. В культурной жизни местной русской диаспоры есть что-то от квантовой физики: на фоне «белого шума» из слабых балалаечных переборов происходят какие-то спорадические вспышки странной природы — юбилеи, по которым эта жизнь и угадывается, и ими ее можно исчислять. Суворов, Толстой, Достоевский — благо в Швейцарии много кто успел побывать. Крупные фигуры давно поделены, на них кормится рой всевозможных обществ, фондов и ассоциаций. Со спорными фигурами, вроде Ленина, Кропоткина или Плеханова, связываться очень хлопотно. Веревкина была, можно сказать, моим открытием. По крайней мере, для русской публики, потому что швейцарцы, особенно из итальянской части, ее хорошо знают. В Асконе, где Веревкина прожила последние годы жизни и умерла, есть Фонд Веревкиной, в местном музее много ее работ. В России же о ней знали только узкие специалисты, и то скорее благодаря ее гражданскому мужу, Алексею Явленскому, художнику куда более успешному, чем она сама. Случайно увидев работы Веревкиной в альбоме русских авангардистов, я по годам жизни вычислил, что грядет 150-летний юбилей, пока еще никем не охваченный и не занятый. Это можно сравнить с открытием новой элементарной частицы культурной жизни русской Швейцарии. Не теряя драгоценного времени, я написал пресс-релиз и разослал его заинтересованным лицам и организациям. «Белый шум» интенсифицировался. Пошел обмен письмами, встречи, телефонные разговоры. Идею приняли на ура. Веревкина оказалась на удивление форматной фигурой. Женщина, творческая личность, никакой политики, между Швейцарией и Россией ее биография делилась в идеальном соотношении пятьдесят на пятьдесят. Организационная эйфория длилась недолго, очень скоро начались склоки. Заинтересованные лица и организации наперебой бросились обвинять друг друга в перетягивании одеяла, в присвоении прав, в меркантильности, бескультурье и попрании основ. В принципе это было ожидаемо, это было нормально. Энергия склок обычно и формировала то силовое поле, в котором взаимодействовали между собой атомы культурной жизни. Однако ко всему этому отчетливо примешивался сильный элемент сюрреализма, чуждый физическим законам.
Я думаю, дело тут в самой Марианне Владимировне. Ее отец был генерал, комендант Петропавловской крепости, главной царской тюрьмы, с очень подходящей к этой должности фамилией. Должно быть, из лучших намерений, чтобы скрасить немного тягостное впечатление от фамилии, он дал дочери легкомысленное европейское имя. Дальше девочка постаралась уже сама, она выросла, уехала жить в Баварию, конвертировала русский дворянский титул в немецкий и превратилась в Марианну фон Верефкин.
Возможно, она специально проделала эту нелепую фонетическую трансформацию, отдавая себе отчет, что произнесенное по-русски это имя будет вызывать глупое хихиканье. Думаю, этим самым она рвала связь с русским языком, а, следовательно, и с Россией. И действительно, последние три десятка лет жизни с Россией ее не связывало ничего. Некоторые в Швейцарии считают ее литовской художницей, потому что детство и юность она провела в отцовском поместье в Литве. Многое в жизни Марианны было нелепым, неустроенным, напрасным, и это удивительным образом передавалось всем, кто этой жизни касался, даже спустя сто лет после ее смерти. Включая меня. Я словно открыл охраняемую заклятьем гробницу.
С людьми, вовлеченными в этот проект, начинали происходить странные вещи. Он отказывались от своих слов, переставали отвечать на письма и звонки. Одна почтенная швейцарская дама, дочь известного интеллектуала, устроила мне настоящую истерику в цюрихском кафе. Она кричала старушечьим фальцетом: «Я инвестировала в ваш проект свое имя! Мое имя — ваш самый ценный актив! Почему ваши спонсоры до сих пор ничего не заплатили? Где деньги? Где богатые русские? Где Вексельберг? Где Лебедев? Где Кантор?». Люди за соседними столиками оборачивались, я готов был провалиться сквозь землю.
Сейчас, спустя два года после разговора, я благодарен этой старушке. Она помогла мне понять важную вещь о том, как швейцарцы представляют себе русских, чего от нас ждут. Если хочешь как-то устроиться в чужой стране, необходимо четко знать, чего от тебя ждут местные жители. Если твои намерения совпадут с их ожиданиями, всё сложится. Если же в их паззле для тебя отведена треугольная форма, а ты привык думать о себе, как о круге, можешь пытаться притереться хоть триста лет, но ты так и не впишешься в эту жизнь.
Швейцарцы очень быстро сообразили, что герои Достоевского и Толстого имеют мало общего с нынешними русскими. С другой стороны, и «русская мафия» существует, в основном, в кино, а в реальной жизни русские преступники в подметки не годятся албанским или нигерийским коллегам. Русские — это ходячие кошельки. Их главная природная функция — платить. Платить любую цену, не глядя, не торгуясь. А если ты не кошелек — будь при кошельке, будь рядом, помоги русскому кошельку и швейцарскому купцу найти друг друга, тогда ты тоже впишешься. Поэтому Марианна Веревкина — не русская, что она и сама изо всех сил пыталась дать мне понять, а мои нынешние клиенты, ролексоводы из Москвы, Питера, даже из Астаны и Баку — типичные русские.
В общем, эпопея с юбилеем Веревкиной закончилась ничем. Десяток вычеркнутых телефонов в записной книжке и ворох отрывочных сведений в голове из стопки прочитанных книг. В том числе факт, что, проживая в Асконе, Веревкина принимала активное участие в жизни коммуны Монте Верита, которая располагалась на одноименной горе над городом. Коммуна — пестрое сборище анархистов, нудистов, вегетарианцев со всего света, на полстолетия опередившее движение хиппи. Среди коммунаров были Айседора Дункан, Герман Гессе, Эрих Мария Ремарк, Марианна Веревкина…
Я поднимался на Монте Верита пару раз, когда был в Асконе по делам юбилея. Там красивый парк, до сих пор сохранился домик с табличкой «Руссенхаус», похожий на подмосковную дачу. В этом доме жили коммунары из России, которых на Монте Верита было всегда много.
Почему бы не смотаться в Аскону, подумал я. Заказов не было, время позволяло. После встречи с Коминым на душе было неспокойно, хотелось загладить неприятный осадок, поговорить, в конце концов, нормально, как старые друзья, без всяких философий. Вероятность случайно встретить Комина в Асконе была ничтожной, но и совсем пренебрегать ей было неразумно.
Я позвонил Томасу, у него в Тичино жили родители, и он с удовольствием согласился составить мне компанию. Томас был моим швейцарским другом. Это значило, что мы регулярно, примерно раз в две недели, выпивали по паре бокалов пива в баре и летом вместе выезжали на джаз-фестивали в Монтре и Рапперсвиль. Типично швейцарская дружба с негласными четко очерченными границами. Том работал журналистом в цюрихской газете и, как большинство журналистов после сорока, тихо ненавидел свою работу. Семьи у него никогда не было. Меня всегда подмывало спросить почему, но задавать такие вопросы у швейцарских друзей не принято. Впрочем, ничего удивительного, среди ровесников Тома было много бездетных холостяков. Я бы даже сказал, очень много.
Томас курил крепкие сигареты и в своей квартире на балконе выращивал марихуану. А еще он был прекрасным собеседником, в его голове хранилась масса информации по любому вопросу, и время от времени он высказывал поразительно глубокие вещи. Например, как-то мы оба по заданию наших редакций попали на показ документального фильма о блокаде Ленинграда — полтора часа леденящей душу хроники. По выражению лиц швейцарских зрителей я угадывал, что для них все, что происходит на экране — историческая абстракция, что-то вроде преданий о массовых жертвоприношениях инков. Но мой Томас после фильма удивил меня неожиданным высказыванием. Знаешь, сказал он мне, затягиваясь сигаретой, я завидую вам, русским, у вас есть коллективная судьба, а у нас, швейцарцев, только у каждого своя собственная биография — женился, развелся… Для полноценной жизни человеку этого мало. Я возразил: то, что он называет коллективной судьбой, на самом деле довольно страшная вещь. Это значит, что человек сам по себе не имеет никакой ценности, он строительный материал истории, песчинка. В России это ощущается, как ни в каком другом месте, в Швейцарии такого нет вовсе. История редко заглядывает за Альпы, а русские равнины отутюжила вдоль и поперек. Мы отправились продолжать спор в бар и проговорили до глубокой ночи. Можно сказать, что с этого вечера и началась наша дружба, пусть и швейцарская.
Пока мы кружили по серпантину через перевал Сан-Бернадино, я выуживал у Томаса сведения о Монте Верита.
— Улучшение мира, — посмеивался он. — Это был такой популярный швейцарский вид спорта в начале двадцатого века. Монте Верита — не единственный случай. В Амдеме была интересная коммуна. И, конечно же, антропософы с их Гётеанумом под Базелем. Намерения были самые чистые и благородные — формирование нового человека, новых принципов организации общества. Смешные люди. Они думали, что если отказаться от мяса, то человек перестанет быть хищником, а если отказаться от одежды, то все будут друг друга любить. Ёденковен, бельгиец, тот, что основал Монте Верита, он вдобавок хотел заработать денег, хотел превратить улучшение мира в бизнес-проект. Поэтому он не любил, когда Монте Верита называли коммуной, он сам называл свое предприятие санаторием. Сделал платный вход и организовывал экскурсии. Я видел рекламное объявление в газете тех лет, там было так и написано: Монте Верита — никакой коммуны, только санаторий! Но если бы это был обычный санаторий, туда бы не поехали все эти знаменитости. Дальше начались скандалы, суды, денежные споры. Закончилось довольно некрасиво.
Да и вообще, все эти идеи — евгеника, новый человек, улучшение мира, все это в конечном итоге привело к фашизму и коммунизму, закончилось двумя мировыми войнами, концлагерями и горами трупов. На первый взгляд — парадокс, но если задуматься, то все логично. Этот мир не поддается насильственному улучшению! — засмеялся Томас. — Сто лет назад мир был не так уж и плох, не хуже, чем сейчас, и, скорее всего, гораздо лучше. Так стоило ли начинать?
— То есть, по-твоему, улучшать мир не стоит? — спросил я.
— Вопрос, как улучшать! — ответил Томас. — Я, например, улучшаю этот мир безопасными цивилизованными способами — участвую в голосованиях и каждый месяц перевожу пятьдесят франков в благотворительные организации.
— И как, помогает?
— Конечно! — уверенно произнес Томас. — Это хорошо функционирует, уже много веков! Нужно только, чтобы у вас в России, или в Ливии, или в Иране, все люди участвовали в общих голосованиях. По всем вопросам, как в Швейцарии, — построить новую дорогу, отремонтировать школу, выбрать мэра или президента. И еще чтобы раз в месяц каждый отдавал бы один процент дохода благотворительной организации. Тогда на Земле не осталось бы ни нищих, ни диктаторов.
— Не все так просто, — заметил я. — Допустим, Ливию можно разбомбить, и они поверят в демократию. Но с Россией сложнее. Россию так просто не разбомбишь.
— Бомбить не нужно, — разгорячился Томас. — Ты сейчас шутишь, я понимаю. Но я не понимаю, как можно не замечать очевидного? В Швейцарии нет природных ресурсов, все, что мы имеем, мы имеем благодаря демократии!
— И номерным банковским счетам… — вставил я.
— Прекрати! — отмахнулся Томас. — Возьми любую другую демократическую страну — Австрию, Швецию — это работает везде. Нет никакого секрета. Это не государственная тайна, все открыто, берите, копируйте, пользуйтесь. Если это все применить в России, люди в России будут жить, как в Швейцарии!
— А почему ты так убежден, Томас, что твоя швейцарская жизнь настолько привлекательна и завидна, что все остальные люди непременно должны мечтать жить, как ты. Ты! Сорокалетний невротик, без семьи, без детей, ненавидящий свою работу, своего начальника, большинство своих коллег, летом спасающийся доморощенной марихуаной, а зимой глотающий антидепрессанты. Кому может быть интересна такая жизнь? — хотел сказать я. Но не сказал. Между швейцарскими друзьями такие вещи говорить не принято.
Родители Томаса жили в деревне в десяти километрах от Асконы. Мы договорились, что сначала заедем в городок, пообедаем, поднимемся на Монте Верита, потом я отвезу Томаса к родителям.
Аскона встретила нас солнцем, ласкающей слух итальянской речью и самой вкусной едой, какую можно найти в Швейцарии. Даже всегда сдержанный Томас расчувствовался и пожал мне руку: спасибо, что вытащил меня сюда. На гору решили подниматься пешком. Подъем — мощенная камнем лестница — был довольно крутым, и для курильщика Томаса оказался сложным испытанием. Мы делали остановки, восстанавливали дыхание, любовались видами, и Томас продолжал рассказывать о Монте Верита.
— Знаешь, как их называли? Интернационал пророков и шутов! Довольно удачное название. Неизвестно, кого среди них было больше, пророков или шутов. И где граница между пророками и шутами. Ведь часто это одно и то же.
— До сих пор не пойму, как там Веревкина оказалась, — признался я. — Она ведь была уже немолодой, и вроде ни к пророкам, ни к шутам ее причислить нельзя.
— Аскона тогда не была дорогим курортом, — сказал Томас, — это была просто рыбацкая деревушка. И в этой деревушке вдруг оказалась художница, жена художника, пусть и без гроша, но с дворянским титулом и светскими манерами. Ёденковен уцепился за нее, он использовал ее, как приманку для знаменитостей. И потом ее муж, или не муж, а партнер, Явленский, был более или менее известен в Германии, а немцы составляли большинство обитателей Монте Верита. Кстати, этот Явленский — очень противоречивая фигура. В 1937 году, когда все порядочные люди отказывались от немецкого гражданства, он, наоборот, получил немецкий паспорт. Притом, что его картины были официально объявлены «дегенеративным искусством», он добивался права выставлять свои работы в Германии. Писал письма разным чиновникам. Я видел эти письма. В конце каждого стоит «Хайль Гитлер!». Все его усилия оказались напрасными, выставляться ему так и не разрешили. И приставка «фон», которой он обзавелся вслед за Веревкиной, была фальшивой. Он не имел на нее права, сфабриковал какие-то документы. Как видишь, все запутано, — вздохнул Томас. — Поэтому сегодня сложно определить, что такое Монте Верита. Семинары, которые здесь раньше проходили каждый год, постепенно сходят на нет. Музей уже три года как закрыт на реставрацию, но на самом деле никакой реставрации не идет. И дело не в том, что нет денег, Тичино — богатый кантон, все музеи здесь в образцовом порядке, просто они не знают, что с этим музеем делать. Кому он будет интересен? Что может заставить людей вместо того, чтобы пить кофе на променаде, совершать этот тяжелый подъем в гору? Истории про улучшение мира? Мир внизу и так прекрасен, как мы с тобой убедились, незачем было лезть на эту чертову гору, — Томас закашлялся.
Мы закончили подъем и вышли к главному входу в парк. У ворот стояли два полицейских автомобиля. Томас обратился по-итальянски к служителю парка, по виду которого было заметно, что что-то произошло, и его переполняет желание немедленно об этом рассказать. Томас внимательно слушал служителя, а мне, не понимающему по-итальянски, оставалось только наблюдать за жестикуляцией рассказчика. Он складывал тонкие пальцы, словно пытался ухватить щепотку воздуха и растянуть ее в нить, затем молитвенно соединял ладони и тряс ими, будто моля о пощаде. Выходило, что случилось что-то действительно ужасное, вероятно убийство, и не простое, а с отягчающими обстоятельствами.
— Любопытно, — произнес, наконец, Томас. — Сегодня ночью в парке побывали вандалы. Они испортили один мемориал.
— И всего-то?
— Такого здесь еще никогда не бывало, пойдем, посмотрим.
Мы вежливо поблагодарили служителя и отправились вглубь парка.
— Ночью парк не охраняется, и камер наблюдения нет, тут все очень по-деревенски, — объяснял Томас. — Поэтому никто не имеет понятия, что это были за вандалы.
«Русский домик» оказался нетронутым. На центральной лужайке и летней эстраде тоже не было заметно следов вандализма.
— Это там! — Томас указал на возвышенность, скрытую за густыми зарослями.
Тропинка вывела нас к каменному постаменту, обозначавшему самую высокую точку парка. Я помнил это место. Здесь раньше была установлена гигантская клетка метра три высотой, причудливо сплетенная из огромных бамбуковых шестов. Эту клетку сделала группа художников то ли из Таиланда, то ли из Малайзии, и называлось это Мемориалом в память невинно осужденных во всем мире.
Таинственные злоумышленники аккуратно разобрали клетку и из этих же шестов соорудили новую конструкцию, еще более грандиозную по размерам.
— Что это за чертовщина, стела или небоскреб? — озадаченно произнес Томас, разглядывая сооружение. Воткнутые в землю шесты располагались по кругу, образуя колонну, сверху были еще шесты, которые сходились вместе. Были еще шесты по бокам, не то подпорки к колонне, не то крылья.
Я догадался, что это.
— Это ракета, — сказал я. — Космический корабль.
— Уверен? — засомневался было Томас. — Впрочем, пожалуй, ты прав. На ракету это походит больше всего.
Вся конструкция была оплетена белым матерчатым баннером. По всей длине баннера было многократно написано английское слово «immortality», бессмертие.
Томас достал из кармана маленький фотоаппарат и сделал несколько снимков.
Рядом с сооружением стояла группа людей, трое в полицейской форме и трое в гражданском. Я остался разглядывать конструкцию издалека, а Томас подошел к полицейским и принялся их расспрашивать.
Он вернулся через пять минут, сияя от удовольствия.
— Мне чертовски повезло! — воскликнул он. — Чертовски! В кои-то веки в Асконе случилось чрезвычайное происшествие! Я позвоню в редакцию и выбью себе два или даже три дня командировки. Проведу время с родителями, встречусь с друзьями. Как хорошо, что мы сюда зашли!
— А что говорят полицейские?
— Они ничего пока не знают. Свидетелей нет. Жертв тоже. Чтобы сделать такое за одну ночь, нужно человек пять-семь. Это довольно большая группа, наверняка кто-то что-то видел, будут опрашивать жителей ближайших домов. Очень необычные вандалы. Один памятник разрушили и тут же построили новый. И как построили! Надо отдать им должное, получилось ничуть не хуже! — заметил Томас. — Все просчитали, хорошо подготовились. Сделано с большим мастерством. Но все равно, скандал выйдет грандиозный. Этот мемориал простоял здесь лет тридцать.
— Кто это мог сделать, как думаешь?
— Надо разбираться. Скорее всего, какие-то художники-экстремисты. Таких сейчас полно. Рисуют граффити на поездах, заливают краской памятники, вот и до Монте Верита добрались. Музей и парк сейчас будут требовать денег на охрану. Посольство Таиланда выразит озабоченность или даже протест. Мне тут работы хватит.
— На баннере написано «бессмертие», — показал я.
— Я видел. Они же художники, у них наверняка есть какой-то концепт. Они рассчитывали, что мы сейчас голову сломаем, гадая, к чему тут это «бессмертие».
— А ты слышал об Алексе Кее, о террористах, которые взорвали айсберг в Антарктиде?
Томас на секунду наморщил лоб.
— Ну да, что-то такое было. А к чему это ты?
— Они борются за скорейшее начало колонизации космоса. И обещают бессмертие для человечества.
— Серьезно? — удивился Томас. — Чем только люди не занимаются! Да, смотри-ка, тут у нас и ракета и бессмертие. Надо будет проверить эту версию. — Он посмотрел на часы. — Пожалуй, мне стоит тут задержаться. К родителям я тогда сам доберусь. А ты, если не хочешь ждать, езжай без меня.
— Поеду, — решил я.
— Еще раз спасибо тебе! Как все удачно получилось! — Томас с чувством пожал мне руку.
Я бросил прощальный взгляд на ракету и отправился вниз.
«Чтобы сделать такое за одну ночь, нужно пять-семь человек», — вспомнились слова Томаса. — «Значит, у Комина здесь есть последователи, и их немало». В том, что к этому событию причастен Комин, я не сомневался.
Я спустился с горы и зашагал по узким средневековым улочкам к парковке. Путь лежал мимо бледно-голубого здания в стиле барокко, местного Музея Искусств. Возвращаться в Цюрих не хотелось, я толкнул тяжелую дверь музея и вошел внутрь.
В прохладном холле молодая сотрудница музея занималась разбором бумаг.
Она сказала что-то по-итальянски и, признав во мне иностранца, добавила на ломаном английском:
— Закрыто. Музей только до четырех часов.
Я взглянул на часы. Было пятнадцать минут пятого.
— Вы хотели осмотреть музей? — спросила сотрудница, видя мое замешательство.
— Я уже был здесь, — ответил я. — Я хотел посмотреть только картины Веревкиной.
— О! Веревкина! — девушка просияла, наклонилась ко мне и понизила голос. — Вы можете пройти, это на втором этаже. Только, пожалуйста, недолго. Мой шеф сердится, если посетители остаются после четырех.
Я поблагодарил и поднялся на второй этаж. В гулкой тишине скрипели старые половицы, я был совсем один на целом этаже. Все картины Веревкиной были мне знакомы, я их видел много раз, и в этом музее, и в альбомах. Прежде они казались мне довольно интересными, но не более того. Это были картины художницы, на юбилее которой я рассчитывал заработать денег. Я был обязан их знать и почти обязан любить. Если не любить, то, по крайней мере, обязан был в любой ситуации на всех доступных мне языках четко и исчерпывающе сформулировать, за что эти картины можно и нужно любить.
Теперь совсем другое дело. Веревкина — просто художница, а это — просто картины. Череда полотен с сюжетами из жизни бедной рыбацкой деревушки и ее окрестностей. Синие и фиолетовые горы, красные, раскаленные от зноя дома, женщины в черном, все до одной похожие на монахинь, монахини, похожие на птиц, голые ветви деревьев, вытянутые печальные лица мужчин. Трудная жизнь, полная неурядиц, неустроенная, нелепая. Нелепое имя. И что в итоге? А в итоге — волшебный свет, разлившийся по залам музея. Ко мне вдруг вернулось почти забытое детское ощущение красоты мира. Красоты изначальной, не нуждающейся ни в классификациях, ни в формулировках. И я подумал о Комине. Такой же нелепый чудак, наивный до глупости, до изумления, с отмороженным в Антарктиде чувством реальности. И надо же! Сумел кого-то убедить, нашел еще чудаков, взорвали этот несчастный айсберг, сейчас вон построили ракету. Во всем этом тоже есть что-то детское, что-то чистое, изначальное. А я? Мне сорок четыре года, последние двадцать лет я играю с жизнью в шахматы, стараюсь занять выигрышную позицию, извлечь максимальную пользу из текущей расстановки фигур, комбинирую, думаю на два, на три хода вперед. Пешечками двигаем, потихоньку, без риска. Вот, скомбинировал себе Швейцарию, полдома в хорошем пригороде, более или менее стабильный доход. И что? Дурацкий вопрос «и что?». Страшный вопрос. Он звучит вот из этого мира, где красота, где мечты. И я не знаю, что на него ответить.
Я ходил и ходил из зала в зал, перед глазами плыли прибитые зноем домики, голубые горы, монахини, совсем потерял чувство времени. Очнулся, когда услышал шаги на лестнице. В проеме двери появилась сотрудница музея.
— Извините! Ради бога, извините! — бросился извиняться я. — Но это так прекрасно! Невероятно прекрасно!
— Да, я знаю, — молодая женщина понимающе улыбнулась.
Возможно, она и вправду знала.
Проблемные клиенты в моей работе редкость. Но пару раз за сезон все же попадаются. Как, например, вот этот, гость из Москвы, похожий на императорского пингвина — большой, с брюшком и очень важный. Он приехал за лимитированным «Юбло» и за каких-то полчаса поставил с ног на голову бутик «Байер» на Банхофштрассе. Скидку я для него организовал хорошую, с ценой он заранее согласился, но как только попал в магазин, решил еще поторговаться. В принципе, ничего экстраординарного, дело обычное, проблема была в том, что Аркаша, как он сам отрекомендовался, считал себя очень остроумным человеком, прямо с порога начал шутить, и требовал, чтобы все его шутки я дословно переводил менеджерам. «Ты скажи им, — дергал он меня за рукав, — скажи, я за эти деньги в Москве на Черкизовском полведра таких „юблей“ купить могу, китайских, по виду не отличить, даже лучше еще. Скажи им!». Продавцы натужно улыбались шутке. Их толерантность определялась стоимостью лимитированных «Юбло», она простиралась достаточно широко, но не безгранично. Я как мог, старался сгладить металлические заусенцы Аркашиных шуток и вообще провернуть дело как можно скорее. «Ценники-то поди специально для русских такие нарисовали! — продолжал блистать Аркадий. — Ждали дорогих гостей, подготовились. Для немцев-то, поди, другие цены. Кто у них тут главный, вот этот? — Он кивнул на старшего менеджера, наблюдавшего за сценой. — Скажи ему, пусть мне немецкую цену даст. Эй, уважаемый, дойче зольдатен, скидку давай!».
Менеджер подошел и начал монотонным голосом подробно объяснять систему формирования розничных цен на часы у официальных дилеров, я так же подробно и обстоятельно это переводил. Расчет был прост — занудным многословием приглушить фонтан Аркашиного остроумия. Ближе к концу речи Аркаша поскучнел и успокоился.
— Пусть оформляют, хрен с ними, — махнул он рукой. И тут же спохватился. — А что, сувениры-то они какие-нибудь дают? Мне за «Улисс» в Эмиратах кошелек подарили, за «Юбло» причитается что-нибудь, спроси-ка!.
Я перевел. Продавщица переглянулась с менеджером, отошла и через минуту вернулась с большой красивой коробкой. Аркаша просиял и привстал:
— Во! Другое дело! А что это?
— Подарочный каталог.
— Тьфу! — он разочарованно плюхнулся в кресло. — На кой он мне? Клопов бить?
Продавщица вопросительно посмотрела на меня.
— Не нужен?
— Давай! С паршивой овцы шерсти клок. Жене отдам, она эту мишуру любит.
Когда мы оказались на улице, я перевел дух. Но расслабляться было рано, потому что Аркадию нужен был еще ремонт часов, того самого «Улисса», за который ему в Эмиратах подарили кошелек.
У меня есть знакомый часовой мастер, Даниэль Шапиро, я регулярно привожу к нему клиентов за небольшую комиссию. Швейцарские часы — довольно хрупкая вещь. Они ломаются гораздо чаще, чем принято думать. Для сервисных служб это, кажется, тоже большой сюрприз. Авторизированные часовые мастера в бутиках поломавшиеся часы зачастую даже не открывают, сразу отправляют почтой на фабрику, там их не торопясь ремонтируют и высылают обратно. Ремонт часов обычным неспешным порядком может длиться месяцами. Те, кто не хочет долго ждать, везут ремонтировать часы в Цюрих, потому что в Цюрихе есть Даниэль Шапиро — мастер золотые руки. Он оживляет, казалось бы, намертво вставшие часы, вправляет мозги сбившимся со счета календарям, учит заново дышать турбийоны. И хотя Даниэль отличается феноменальной болтливостью, работу свою он делает быстро и качественно. И весьма недешево. Собственно, дешевой работы никто и не ждет, потому что Даниэль не простой мастер, он владелец собственной часовой марки — «Роже де Барбюс». На закономерный вопрос, кто такой Роже де Барбюс, Даниэль всегда откровенно отвечает — никто. Он придумал этого Роже де Барбюса двадцать лет назад, потому что, по его мнению, часы обязательно должны быть персонифицированы, а если написать на циферблате «Даниэль Шапиро», это будет плохо продаваться. «Вокруг так много антисемитов!» — сокрушается Даниэль. — «Пришлось использовать француза, хотя французы мне не очень по душе». Даниэль начинает перечислять свои претензии к французам. Помимо шаблонных — мелочные, прижимистые, — мне запомнилась одна, довольно необычная. Когда Германия напала на Польшу, у французов на немецкой границе было 120 дивизий, у немцев только 9. Если под рукой оказывается листок бумаги, Даниэль, отодвинув часовые инструменты, тут же принимается рисовать схему расположения дивизий. По договору с Польшей французы были обязаны атаковать, если бы они это сделали, Вторая мировая война закончилась бы за три дня. И тогда родственники Даниэля не сгинули бы в Освенциме. К швейцарцам у Даниэля тоже есть претензии — они не пускали беженцев из Германии. Об отношении Даниэля к немцам даже и говорить не стоит, если он заводится на эту тему, остановить его невозможно.
При этом в моем присутствии Даниэль всегда очень хорошо, даже подчеркнуто хорошо, отзывается о русских. «Мать Россия!» — восклицает он, и рассказывает в миллионный раз, что большинство цюрихских евреев, включая его бабушку и дедушку, прибыли из Российской империи, конечно, они сделали это не от хорошей жизни — «Там были эти ужасные казаки!», то есть Россия была суровой матерью, но все равно — матерью. Красноречивый факт: двум своим детям Даниэль дал русские имена.
Даниэль встретил нас с Аркашей в своем рабочем наряде — в нарукавниках и с лупой на лбу. Ростом он был Аркаше по грудь.
Я представил их друг другу.
— Как-как? — переспросил Аркаша. — Херр Шапиро? Ну, ну, — он осклабился.
Даниэль слегка нахмурился, молча взял часы и взгромоздился на свою «кафедру», как он называл рабочее место — высокий стол, заваленный инструментами.
— Нужно будет немного подождать, — сказал я Аркаше.
— А что, кофе в этой жидовской лавочке не предлагают? — громогласно поинтересовался Аркаша.
— Полегче! — процедил я, — Даниэль немного понимает по-русски.
— А что я сказал? — удивился Аркаша. — «Жидовский» — это же не ругательство. По-чешски, например, жид — это и есть еврей. Вся Прага исписана — «жид, жиды»… Это я по-чешски сказал — «жидовская лавочка». — Похоже, Аркаша опять принялся острить. — Так что с кофе-то? Херр Шапиро!
Даниэль поднял голову от часов и указал мне взглядом на кофейную машину в углу.
— Сейчас будет кофе, — сказал я. — Вам с сахаром?
— О! Тут еще и сахар насыпают! Мне пять ложек! Смотри-ка, хозяин испугался. Шучу! — веселился Аркадий.
Даниэль вышел с часами из-за «кафедры».
— К сожалению, я ничем не могу помочь, — сказал он. — Требуется сложный ремонт. Вам лучше обратиться в сервис «Улисс Нардан».
— Он что, обиделся? — удивился Аркаша. — Ты что, обиделся, земеля?
— Сложный ремонт, — Даниэль с непроницаемым лицом вручил часы обратно. — Я ничем не могу вам помочь.
— Что за город мутный, этот Цюрих! — сокрушался Аркаша, выйдя на улицу. — Люди мутные. Шапиро какой-то. Слышь, — сказал он мне, — а что тут еще посмотреть-то?
— Витражи Шагала, — ответил я. — Очень рекомендую. Сейчас налево, потом прямо до Парадеплац, и направо. Собор Фраумюнстер, не промахнетесь. Приятного просмотра! — я развернулся и пошел в сторону Энге, хотя мне тоже нужно было на Парадеплац.
«Шапиро обиделся, — подумал я. — Моей вины в этом нет, хотя, пожалуй, что и есть. Смотреть должен, кого приводишь. Нужно позвонить и извиниться, а еще лучше зайти».
Вечером, после всех своих дел, я снова оказался в мастерской Даниэля. Он не стал дослушивать мои витиеватые извинения, хотя, думаю, ждал их:
— Пустяки, Владимир! Не стоит извиняться. Еще один антисемит, среди русских их тоже много.
— Мы пока еще только учимся быть европейцами, — сказал я, надеясь, что это прозвучит как оправдание.
Шапиро поморщился:
— Европейцы! Тоже мне, образец для подражания! Гитлер что, был африканцем? Кто придумал газовые камеры? Может, австралийские аборигены? Я тебе могу показать по пунктам, на раз-два-три, как «либерте, эгалите, фратерните» превратилось в «Дойчланд юбер аллес». И не могло не превратиться! А! — с досадой махнул он рукой. — Что тут говорить! Хочешь кофе? Сделай и мне, я пока закончу тут кое-что.
Я принес чашку кофе Даниэлю на «кафедру» и устроился рядом.
Я знал, как поднять Даниэлю настроение. Нужно задать всего один вопрос: «Как идет подготовка к БазельУорлду?».
БазельУорлд — самая большая в мире выставка часов и ювелирных изделий. Эти два слова — бальзам для исстрадавшейся души Даниэля. Я наблюдал его в Базеле в течение выставочной недели — он совершенно преображался: в элегантном костюме, в бабочке, сияющий, искрометный, вдохновенный, казалось даже, он в росте прибавлял сантиметров десять. Он царственно привечал журналистов и часовых энтузиастов со всего мира, демонстрировал им новые модели, давал интервью, держался на равных с боссами самых знаменитых марок. Даниэль Шапиро! Владелец часового бренда «Роже де Барбюс»! Бессменный участник БазельУорлда на протяжении двадцати лет. Добро пожаловать на его стенд в Первом зале! Именно в Первом, том самом, где выставляются гиганты часового мира — Ролекс, Патек Филипп, Бланпа, Омега… и в их компании — «Роже де Барбюс». Двадцать лет назад, когда БазельУорлд еще не был такой знаменитой и дорогой выставкой, да еще в разгар очередного экономического кризиса, Даниэль ухитрился подписать многолетний договор об аренде стенда в Первом зале. Тогда и представить себе было нельзя, насколько это удачная сделка. За двадцать последующих лет БазельУорлд расцвел пышным цветом, залов там уже добрый десяток, не считая уличных павильонов. За место в Первом зале, самом престижном, бьются марки с мировым именем, даже на крохотный стенд Даниэля в углу есть уйма претендентов. Каждый год ему предлагают переехать, сулят большие выгоды, но Даниэль не сдается, для него на БазельУорлде существует только Первый зал.
Весь год он готовится к очередной выставке, оттачивает дизайн, добавляет новые функции, доводит до идеального состояния каждую, самую мельчайшую и незаметную деталь выставочных экземпляров, печатает каталоги и говорит, говорит, часами обо всем этом говорит. Наверное, может говорить и сутками, но сложно найти подходящего слушателя. На своих домашних, наверняка уже доведенных этими разговорами до белого каления, Даниэль рассчитывать не может, поэтому дома он появляется редко, с раннего утра до позднего вечера пропадает в своей мастерской.
Услышав мой вопрос о подготовке к БазельУорлду, Даниэль оживился, поднял вверх указательный палец и сказал:
— Я тебе кое-что покажу!
Он ненадолго исчез в задней комнате и появился с подносом, накрытым фланелевой тряпочкой.
Поставив поднос передо мной, Даниэль, как фокусник, сорвал тряпочку и торжественно объявил: — Новая модель «Роже де Барбюс Оупен Харт», специально для БазельУорлд!
— Уау! — выдохнул я. Актер я плохой, поэтому, когда надо разыграть восхищение, копирую американских туристов.
«Оупен Харт», «открытое сердце» — на языке часовых романтиков так называются часы с окошком на циферблате, сквозь которое видны детали механизма, чаще всего колесо баланса. Колебания баланса — влево, вправо, влево, вправо — и вправду напоминают биение сердца.
Даниэль всегда делал часы в строгой классической манере. Лично я находил ее пресноватой, хотя уровень отделки и проработки деталей был выше всяких похвал. Круглое окошко «открытого сердца» в верхней части циферблата добавляло пикантности в фирменный стиль «Роже де Барбюса».
Я с соблюдением всех положенных церемоний не спеша надел лежавшие тут же на подносе черные шелковые перчатки и бережно взял часы, почувствовав приятную тяжесть. Новомодными облегченными материалами Даниэль не увлекался, мне тоже слишком легкие часы были не по душе. На первый взгляд все просто: три стрелки, циферблат с едва заметной радиальной волнистой гравировкой, римские цифры — легкое дуновение ампира, немного в стиле «бреге», но без излишней «кучерявости», чем иногда грешит «бреге». Безупречная отделка. Чувствовалось, что эта видимая простота стоила мастеру долгих-долгих часов работы.
Я попросил лупу. В увеличительное стекло было хорошо видно, как старательно вписаны цифры и логотип в плавный разбег волн гравировки. Ничего случайного, каждый штрих на своем месте.
Направив лупу на «открытое сердце», я принялся разглядывать детали механизма. Балансовое колесо совершало колебательные движения, мерцая скрученной пружиной, словно дыша, легко и непринужденно. Был виден маленький яркий рубин в аккуратном гнезде, разнокалиберные шестеренки. Каждая деталь отполирована вручную до невероятной, фантастической гладкости. Больше никаких красивостей, ни гравировки, ни фигурной шлифовки, тщательность проработки деталей и служила здесь главным украшением. Творец всей этой красоты молча стоял рядом, давая мне возможность насладиться его произведением, и лишь тихонечко сопел от удовольствия, он был счастлив.
Я обратил внимание, что по краю окошка «открытого сердца» из-под циферблата на полмиллиметра выступают тончайшие металлические лепестки, похожие на диафрагму фотоаппарата.
— Что это такое, вокруг «сердца»?
— А! Ты заметил! — радостно воскликнул Даниэль. — Это и есть главная особенность этой модели! Позволь! — он взял часы у меня из рук. Потянул заводную головку вверх и слегка повернул ее. Мои предположения подтвердились, «открытое сердце» закрылось сборной металлической шторкой, как объектив фотоаппарата.
— Интересно! — сказал я.
— Интересно, — согласился Даниэль, — но пока ничего революционного, правда? Вообще-то, «открытое сердце» в этих часах не должно открываться и закрываться вручную. Такая опция есть, но она нужна только для демонстрации. В обычном режиме «сердце» открывается и закрывается само, потому что это… — Даниэль сделал интригующую паузу, — это индикатор запаса хода! Все мои часы, как ты знаешь, автоматические, то есть они подзаводятся сами, от движения руки, и окошко показывает, насколько они заведены. Открытое окошко означает полный завод, открытое наполовину — половину завода, закрытое — завода нет, часы должны остановиться.
Даниэль снова открыл окошко и протянул часы мне.
— Попробуй сам!
— Вот оно что! — я взял часы и повернул заводную головку. — Это действительно что-то новое. Приходилось видеть разные конструкции индикатора, но такое вижу впервые. Эта диафрагма… интересное решение. Сразу бросается в глаза.
— Оно и должно бросаться в глаза, — кивнул Шапиро, — потому что индикатор запаса хода — это самая важная деталь в часах.
— Вот как?! А я думал, запас хода — это вспомогательная информация, а главное — это все-таки время…
— Время? А что такое время? — хитро улыбнулся Даниэль.
— Часы, минуты, секунды…
— Часы, минуты, секунды придумали люди, чтобы не опаздывать на поезд, и, возможно, совершенно напрасно. Потому что получается, что время для всех одинаковое, что, конечно же, совершенно не так. Это противоречит фундаментальным законам физики. Давно доказано, что каждый объект во Вселенной имеет свое собственное время. Время — индивидуальная характеристика. У галактик свое собственное время, у каждой звезды свое время, у людей тоже свое время, свое — у каждого, у меня, у тебя, у Барака Обамы, у Путина, у Донателлы Версаче. Мои пять минут не могут быть равны твоим. А час жизни Донателлы Версаче — совсем не то же самое, что час жизни Путина. Это против физики и против здравого смысла. Но «Бланпа» Путина, «Картье» Версаче и «Касио» вон того бездельника за окном функционируют одинаково, отсчитывают одинаковые промежутки времени.
— Допустим, — согласился я. — Но разве это собственное время каждого человека как-то можно измерить?
— Представь себе, можно! — воскликнул Даниэль. Он откинулся на спинку стула и произнес: — Ах, мой дорогой Владимир… — В наших беседах за такими высокопарными обращениями обычно следовали лирические отступления, я тоже устроился поудобнее.
— Я наблюдаю за миром глазами механика, — начал Шапиро. — И за людьми я тоже наблюдаю глазами механика. Я давно уже заметил одну вещь: каждый человек имеет свою индивидуальную манеру движений. Это как походка, она у каждого своя, но походка — лишь часть того, что я называю «кинетическим портретом» человека. Каждому человеку присуща своя, особенная манера движений — головой или руками, или бедрами, если мы говорим о женщинах, хотя о женщинах мы сейчас не говорим. А теперь самое интересное! «Кинетический портрет» человека, который живет в гармонии с собой и с окружающим миром, отличается от «кинетического портрета» человека с проблемами. Попросту говоря, счастливые люди совершают меньше резких движений. Они могут двигаться быстро или медленно, но в целом, гораздо плавней, чем люди, которые с собой не в ладу. Объяснений этому факту можно придумать сколько угодно, возможно, когда-нибудь у ученых дойдут руки, чтобы доказать это научно. Меня сейчас научные доказательства не интересуют, я просто привык верить своему глазу. Ты, Владимир, не замечал ничего подобного?
— Признаться, нет. Нужно будет присмотреться.
— Теперь о часах, — продолжил Шапиро. — Их механизм подзаводится автоматически. Это значит, когда владелец часов двигает рукой, сектор подзавода внутри механизма тоже движется и передает энергию на пружину балансового колеса. Так устроено большинство часов с автоподзаводом. Но «Роже де Барбюс Оупен Харт» устроен немного по-другому. — Шапиро сделал многозначительную паузу. — Я изобрел и изготовил специальный отсекатель резких движений. Благодаря ему, резкие движения не учитываются при заводе пружины, то есть как только человек начинает резкое движение, сектор автоподзавода стопорится, завод не увеличивается. Понимаешь, Владимир? Двигаясь резко, негармонично, эти часы невозможно завести, они остановятся! Индикатор запаса хода, это маленькое окошко «открытого сердца», как бы сигнализирует владельцу: эй! Посмотри, что-то не так! Что-то не так с твоим временем, с твоей жизнью! Твое сердце закрывается! Оно должно быть открытым! «Открытое Сердце» — какое название! Жаль, что не я его придумал!
— Но ты дал ему новый смысл! Очень красивый концепт. Я должен написать о них в своем блоге.
— Нет, нет! — замотал головой Даниэль. — Еще рано. Технически часы готовы на сто процентов, но они должны отлежаться. Я медитирую над ними и еще не получил ответа, готовы ли они на самом деле. Это самое начало пути, Владимир. Я мечтаю сделать часы, которые будут изменяться вместе с владельцем — созревать, стареть, умирать.
— Умирающие часы? Я всегда считал, что часы — это как бы символ бесконечности времени…
— Кто тебе сказал, что время бесконечно?! — фыркнул Шапиро. — Все имеет конец и начало! У Вселенной было начало. Значит, будет и конец! У времени тоже есть начало и есть конец. Нужно найти способ измерять не просто время, а Оставшееся Время! Оставшееся время! — повторил Даниэль, тряхнув лупой на лбу, которая грозно сверкнула в луче настольной лампы. — Часы Апокалипсиса!
«Перетрудился, бедняга! — подумал я, глядя на всклокоченные волосы Шапиро. — Отдохнуть бы ему».
— У меня есть кое-какие идеи, я экспериментирую с разными материалами. Главная проблема — деньги! — вздохнул Даниэль. Он никогда не рассказывал мне о своих финансовых проблемах, но я догадывался о том, что они были.
Когда мы только познакомились, у него в ателье работало двое часовых мастеров, потом остался один. Полгода назад Даниэль вынужден был расстаться и с ним. Теперь он работал в одиночку — сам собирал свои часы и ремонтировал чужие. Причем, если раньше он говорил, что ремонт часов для него разминка, способ развеяться от творческих мук, то теперь было понятно, что это важный источник дохода, может даже и основной. Очень непросто выживать маленькой часовой марке в царстве глобальных корпораций. А тут еще БазельУорлд каждый год отнимал у Даниэля огромные деньги. Но он крепился, сутки напролет просиживал в своей мастерской, со всех сторон обложенный деталями часов, пакетиками с золотой стружкой и искусственными бриллиантами.
Мы проговорили почти до полуночи. Даниэль, кажется, совсем не торопился домой, а мне хотелось выспаться после тяжелого дня. Я решительно поднялся со стула, поблагодарил за кофе и интересную беседу.
— Одну минутку! — неугомонный Даниэль снова исчез в маленькой комнатке и появился с еще одними часами в руках.
— Это тестовая модель «оупен харт». Не такая красивая, как выставочная, но механизм совершенно аналогичен. — Часы были в сером стальном корпусе и с белым циферблатом без гравировки. — Мой дорогой Владимир, я хочу попросить тебя об одной услуге.
— Конечно, Даниэль, все, чем могу…
— Не мог бы ты поносить эти часы какое-то время? Пусть это будет что-то вроде ходовых испытаний. Пока их носил только я и один мой друг. Но мы оба старики, открыты наши сердца или закрыты, это мало кому интересно. А вот молодой человек, здоровый, активный, такой, как ты, это совсем другое дело…
— Какой вопрос, Даниэль! Это большая честь для меня!
Шапиро протянул мне часы.
— Только умоляю, не пиши о них пока ничего. Еще рано.
Я пообещал, и мы на этом распрощались.
В воскресенье я отправился во Флимс, горнолыжный курорт в двух часах езды от Цюриха. Я не большой любитель горных лыж, снаряжением обзавелся по необходимости — в зимний сезон многие клиенты предпочитают покупать часы на горнолыжных курортах, и чтобы не очень выделяться среди курортной публики, мне пришлось встать на лыжи. Но сейчас я ехал во Флимс не ради клиентов, я ехал на встречу с Коминым.
Накануне вечером в почтовом ящике я обнаружил конверт без обратного адреса, а в нем записку, написанную от руки: «Володя, давай встретимся в воскресенье во Флимсе, на леднике Фораб в 12 часов». Подписи не было, но я сразу догадался, что это Комин, его стиль. Ледник. Соскучился, поди, по своим айсбергам. Только бы не вздумал его взрывать.
По случаю воскресенья и хорошей лыжной погоды народу во Флимсе было полно. Я не без труда протолкался к большой карте трасс и ахнул: ледник Фораб — самая высокая точка во всей зоне катания, 3018 метров. Добираться туда нужно на нескольких подъемниках с пересадками. Гондольные подъемники были забиты лыжниками, как метро в час пик. Изрядно помятый, с больной головой, я встал в очередь на последний кресельный подъемник, ведущий к вершине ледника. «Черт бы побрал этого Комина! Сорокалетний мальчишка! Да и я тоже хорош, кинулся сломя голову непонятно куда», — ругался я про себя. Когда подошел мой черед садиться в кресло, я краем глаза заметил, что даму, которая стояла в очереди за мной и должна была стать моей соседкой по креслу, в последний момент кто-то вежливо, но решительно оттеснил. Рядом со мной в кресло плюхнулся мужчина в черно-белом костюме и шлеме с большими очками, закрывавшими половину лица. Кресло плавно качнулось и понеслось над землей. Мой сосед повернулся ко мне и поднял очки на лоб.
— Привет, Володя! — услышал я. — Молодец, что приехал!
Это был Лещенко. Увидев мое изумление, он рассмеялся.
— Не ожидал?
— Так это ты написал записку! — догадался я.
— А ты думал, кто? — Лещенко лукаво подмигнул.
Я беззвучно выругался.
— Будет тебе злиться, — Лещенко шутя пихнул меня в бок и тут же стал серьезным. — Есть разговор. Подъемник — лучшее место для этого. Тихо, никто не отвлекает, — он выразительно глянул вниз. — У нас две с половиной минуты, так что обойдемся без долгих предисловий. — Лещенко удобнее перехватил лыжные палки и придвинулся ко мне. — Наш друг Комин что-то затеял. В последнее время он не очень охотно делится информацией. Это плохо, для его же безопасности. Возможно, он выйдет на тебя в ближайшие дни, и, возможно, с тобой он будет более откровенен, чем со мной. Короче, я хотел бы, чтобы ты в точности передал мне все, что тебе скажет Комин.
От такой наглости у меня перехватило дыхание.
— За кого ты меня принимаешь?!
— Не надо горячиться! — спокойно произнес Лещенко. — Нам с тобой лучше оставаться друзьями. Так спокойнее, для твоего бизнеса, и вообще…
— Для моего бизнеса?! — меня разобрал смех. — Товарищ дорогой, мы в Швейцарии. Тут такие прихваты не проходят. Быковать в России будете.
Лещенко смахнул со щек снежную пыль.
— «Прихваты», «быковать»… Откуда ты только слова такие берешь? В общем, так, дружок. На твои реплики времени больше не осталось, поэтому заткнись и слушай. — Он заговорил быстро, почти скороговоркой. — Бизнес твой тараканий я могу прекратить в два счета без всяких прихватов. Клиенты покупают здесь с твоей помощью дорогие часы и везут в Россию через таможню на руке. Тридцать процентов пошлины платить дураков нет. Мы будем ждать этих умников на таможне по прилету. Одного возьмем, второго, третьего. Контрабанда в крупных размерах. Слух поползет: Владимир Завертаев сдает клиентуру. Что тогда останется от твоего бизнеса? Да ладно бизнеса! Люди у тебя в клиентах серьезные попадаются, авторитетные, они могут счет выставить, тебе лично счет. Тут и здоровьем можно поплатиться. Поэтому еще раз повторяю, нам с тобой лучше не ссориться. А чтобы тебя совесть не очень мучила, скажу, что и приятель твой, Комин, тоже не белый и не пушистый. Американцы эту историю с айсбергом как по нотам разыграли. Подошло время делить Антарктиду, и им только повод был нужен, чтобы войска ввести. Малахольный террорист для них — идеальный вариант. Дешево и сердито. Я не думаю, что Комин такой наивный, чтобы этого не понимать. По сценарию он сейчас остывать должен где-нибудь на дне морском, мы его вытащили, привезли сюда. Так что негоже ему сейчас взбрыкивать.
Лещенко еще раз вытер лицо ладонью.
Разворотная мачта подъемника была совсем уже близко.
— Короче, — сказал Лещенко. — Выбор у тебя такой: если ты не со мной — конец твоему бизнесу, а если со мной — так я тебе еще и клиентов хороших подгоню. В посольстве и вокруг много людей, часы всем нужны, а цены ты даешь хорошие, в этом я убедился. Ну? Что скажешь?
Я молчал.
— Подумай, — сказал Лещенко. — Только предупреждаю, дешевые игры в благородство не прокатят. Если ты решил, что достаточно просто не встретиться с Коминым и можно выйти из игры, ты ошибаешься. Комин свяжется с тобой в любом случае, а если я не получу от тебя информации, значит, ты не с нами. Тогда не обижайся.
Подъемник достиг вершины.
— Жду известий! — Лещенко легко соскочил с кресла и укатил вниз, не оглянувшись.
Вечером позвонила жена из Дании, как раз к тому моменту, когда в бутылке виски оставалось уже меньше половины. Как я ни старался сконцентрироваться на четких и непринужденных ответах, она раскусила меня на второй фразе.
— Ты пьян?
Я стал говорить о том, что был во Флимсе с клиентом, промерз, пытаюсь согреться, но при этом совершенно не пьян.
— По крайней мере, клиент-то был стоящий? — голос в трубке звучал недоверчиво.
— Очень, очень стоящий, — горячо заверил я.
Такой ответ немного успокоил жену и естественным образом вывел разговор на тему денег. Денег не хватало, деньги были нужны. Компания, в которой работала жена, находилась в процессе реструктуризации, перспективы были неясные, в ее отделе плелись интриги, люди опасались увольнений. Она морально истощена, у дочки трудный возраст. На весенние каникулы хорошо бы было отправить Настю в языковой лагерь на юг Франции. Затея дорогая, но сделать это необходимо. Жена долго объясняла, почему. Я высказывал полное согласие по каждому пункту, чередуя одобрительные междометия с маленькими глотками виски.
Разговор плавно катился к логическому завершению, и вдруг раздался звонок в дверь. Он неожиданности я поперхнулся виски.
— У тебя гости? — холодно прозвучало из трубки.
— Я никого не жду, — прохрипел я сквозь кашель. Звонок повторился, он звучал задорно и настойчиво, совершенно по-свойски. Я бросился открывать. На пороге стоял широко улыбающийся Комин с пакетом, из которого торчала бутылка виски.
Я махнул рукой, чтобы быстро заходил, и сказал в трубку:
— Это Саша зашел… Одноклассник.
— Одноклассник?! — голос жены стал язвительным. — С каких это пор у тебя в Цюрихе завелись одноклассники?
— Точнее, он одногруппник, — поправился я. — Мы вместе в институте учились… Давай, я тебе позже перезвоню…
— Не утруждайся, мы собираемся спать.
— Ну, тогда завтра утром. Спокойной ночи!..
Я дал отбой и шумно выдохнул.
— Проблемы? — участливо спросил Комин.
— Ерунда! — махнул я рукой.
— Ну, здорово, швейцарец! — Комин сгреб меня в охапку. — Ты прости, что я опять на ночь глядя и без звонка. Знаю, у вас тут так не принято. Но закрутился совсем, не поверишь! Как белка в колесе. Думал, Швейцария — тихая, скучная страна. Отдохну тут, высплюсь. Какое там! Столько всего интересного! Чтобы нормально сесть, поговорить с другом, только ночью время и есть, ты уж не обессудь.
— Цюрих — фантастический город! — гремел он, когда мы уселись на кухне, в точности как в прошлый раз, перед бутылкой и пачкой соленых палочек, ибо закуски у меня в доме не прибавилось. — Неспроста тут революционеры селились: Ленин, Эйнштейн, Джеймс Джойс, дадаисты… Каждый в своей области революцию сделал.
— Так они тут как раз от скуки революции и делали, — ответил я.
Комин захохотал.
— Зря ты так! Я влюбился в Цюрих. Это такой, знаешь, всемирный уездный город. Не мегаполис, не столица. Размером с какую-нибудь Тулу или Архангельск, только Цюрих у всего мира на слуху, все его знают. Все тут бывали, но обязательно проездом. Даже если человек прожил здесь десять, двадцать лет, даже если умер здесь, он все равно считается, что был проездом. Такой вот уездно-проездный город. Почти как Одесса. Только Одесса уездно-отъездный.
Комин засмеялся, довольный каламбуром.
— Что ты грустный какой-то? — он посмотрел на меня изучающим взглядом. — Случилось чего?
Я постарался придать лицу беззаботное выражение.
— Все в порядке! Просто… Слушай, что мы все про этот Цюрих! Ты обещал про Антарктиду рассказать, как тебя угораздило ледник взорвать?
— Нечего тут рассказывать, — Комин отмахнулся.
— Нет, правда, расскажи!
Комин выпил, занюхал кулаком.
— В последнюю зимовку я у американцев был. Отличные ребята, мы сдружились. Образовалась у нас там компания, пять человек. Два гляциолога, механик, вертолетчик и я. Выпивали, разговаривали. Я им про Федорова рассказал, от себя кое-что добавил. В один из вечеров, за пивом, запустил идею — вот если бы антарктический лед растаял, люди бы быстрее колонизацию космоса начали. Американцы — люди дела, они на все с практической точки зрения смотрят. Гляциолог Тим говорит, в чем проблема? Можно устроить. Взорвать ледник, сойдут айсберги. Через неделю он определил двенадцать точек, которые надо пробурить и взрывчатку заложить. У техника Уилла в хозяйстве была подходящая передвижная установка для бурения льда. Взрывчатку нашли на законсервированной станции неподалеку. Буровую и ящики со взрывчаткой загрузили в вертолет и полетели. Якобы на ледовую разведку. Несколько раз слетали, двенадцать зарядов заложили с радиодетонатором. Уилл нажал кнопку. Затрясло так, что в ста километрах от места все ходуном ходило. Айсберг оторвало даже больше, чем ожидали. Потом разослали сообщения, что еще заряды заложены. Но это был блеф. Больше взрывчатки не было.
Я хотел расспросить подробнее, но в этот момент у Комина зазвонил телефон. Он сделал извиняющийся жест и заткнул пальцем ухо. Я слышал, что в трубке играла громкая музыка. Комин выслушал несколько коротких фраз, засмеялся и сказал «окей!».
— Хватит киснуть тут, — сказал он, пряча трубку. — Поехали со мной!
— Куда? — удивился я. — Поздно уже!
— Давай, давай, не пожалеешь! — Комин поднялся из-за стола.
Никуда ехать мне не хотелось, я бы и не тронулся с места, если бы не Лещенко. Я почти физически ощущал его незримое присутствие, чувствовал на себе его ледяной взгляд, представлял его крысиную ухмылку. Комин был и уехал куда-то, ничего не сказав. Моя совесть может быть спокойна. Но это именно то, что Лещенко назвал дешевой игрой в благородство. Так и есть. Игра в благородство. И притом — дешевая. Я залпом выпил остатки виски и сказал: «Поехали!».
Через сорок минут мы оказались в Нидердорфе в «Кабаре Вольтер». «Где ж еще встречаться революционерам!» — не мог не съязвить я. Знаменитое «Кабаре Вольтер», колыбель дадаизма, переживало нынче свою третью или четвертую реинкарнацию, на этот раз в виде туристического аттракциона, притворившегося «нетуристическим местом». Разношерстная винтажная мебель, общая потертость, граффити на стенах — на самом видном месте был изображен огромный фаллос.
Комин уверенно прошел к бару, помахал рукой кому-то в глубине зала. Ему ответили из-за крайнего столика. За столиком сидела компания из трех молодых людей, один из них был в инвалидной коляске — судя по неестественной изломанной позе, он страдал церебральным параличом. Вся троица, включая инвалида, выглядела, как типичные цюрихские леваки — в кедах, рваных джинсах, черных майках. На голове одного их них красовались связанные копной дреды.
Мы подошли. Комин принялся приветствовать всех по очереди ударами кулака в кулак, как это принято у чернокожих реперов, и легонько коснулся скрюченной кисти инвалида.
— Это мой друг Владимир, — представил меня Комин по-английски. — Он из России.
— А это Батист, Лео и Виктор. Они из ЕТХ, Высшей технической школы, очень талантливые ребята. Цифровые марксисты.
Батист и Лео, как по команде, подняли правую руку, расставив пальцы буквой «V», а Виктор, тот, что в инвалидном кресле, приветливо улыбнулся. К спинке его кресла была приторочена пивная банка, от нее тянулась прозрачная трубочка прямо ему в рот.
— Ты присаживайся, а мы с Батистом пойдем, возьмем пива, — распорядился Комин. Парень в дредах поднялся из-за столика и вместе с Коминым отправился к стойке.
Я уселся между Лео и Виктором, которые смотрели на меня с большим почтением, Комин явно пользовался у них авторитетом, который автоматически распространялся на всех его друзей.
— Цифровые марксисты, это что такое? — спросил я.
— Мы боремся с властелинами компьютерного облака, — высокопарно произнес Лео.
— Властелинами чего? — не понял я. По-английски это звучало Lords of the computing cloud, словно что-то из мира эльфов и хоббитов.
— Компьютерное облако, — пояснил Лео. — Это то, что раньше было интернетом. В интернете равноправные участники обменивались информацией, а теперь его загребла кучка умников и установила средневековые правила. В компьютерном облаке есть лорды и есть пейзаны. Десяток лордов и миллиарды пейзан. Лорды снимают сливки, пейзаны вырабатывают контент и не получают ничего взамен. Почти ничего.
— Лорды — это, например, Гугл? — предположил я.
Виктор дернулся в кресле и что-то прохрипел.
Я вопросительно посмотрел на Лео.
— Он говорит, Гугл — зло.
Виктор кивнул.
— Точно, бро! Гугл — зло! — согласился Лео. — И социальные сети — тоже зло. Они разрушают личность, оглупляют, воруют наше время. Лучшие инженеры и разработчики работают не над тем, чтобы решать реальные проблемы человечества — чтобы не было голодных, неграмотных, бесправных — нет! Они заняты оптимизацией обмена фотографиями в социальных сетях. Фотографии кошечек, блюд в ресторанах…
Виктор снова прогудел что-то.
— Дерьмо! — расшифровал Лео. — Точно, бро! А ты, Владимир, чем занимаешься?
— Продаю часы, — чуть не вырвалось у меня. — Я журналист, — сказал я, деликатно откашлявшись.
— Вот! — обрадовался Лео. — Ты же сам знаешь, что компьютерное облако сожрало журналистику. Посмотри на сайты социальных новостей! Что у них в топах? Кошечки! Тотальный идиотизм! Согласен?
— Пожалуй, да, — кивнул я. Я поискал глазами Комина. Он стоял у стойки и оживленно беседовал с Батистом. Нести пиво, похоже, он не собирался. — И что же вы, цифровые марксисты, собираетесь делать?
— Мы собираемся разрушить компьютерное облако, — ответил Лео.
Виктор вставил нечленораздельную реплику.
— Именно к чертовой матери! — согласился Лео. — Покончить с его властелинами. Мы собираемся построить новую всемирную сеть, с другими порядками. Но сначала нам нужно объединиться, всем, кто сыт по горло этим дерьмом. Таким, как ты, как твой друг Алекс, как тысячи, тысячи других. Вместе мы победим!
Виктор дернулся в коляске и с большим трудом приподнял руку, на скрюченной болезнью кисти руки шевельнулись два пальца, так — что можно было угадать букву V. Лео вслед за ним поднял руку. Они оба посмотрели на меня.
Я тоже поднял руку — Виктория! Победа! — и осторожно огляделся по сторонам. Люди за соседними столиками не обращали на нас внимания. Зато нас, наконец-то, заметил Комин. Он подошел с четырьмя кружками пива в руках, еще четыре нес Батист.
— Я вижу, вы нашли общий язык, — Комин с грохотом поставил кружки на стол. — Выпьем за победу? — Он извлек из сумки Виктора специальную воронку и принялся переливать пиво в притороченную к инвалидному креслу банку.
— Владимир Ленин жил в Цюрихе в семнадцатом году, перед самой русской революцией, — рассказывал он, пока лилось пиво. — Он тоже встречался со своими товарищами именно здесь, в «Кабаре Вольтер». Все они умещались за одним столом. Их было пять-шесть человек, иногда десять, но не больше. Через несколько месяцев, когда произошла революция, у Ленина были миллионы сторонников. Но начиналось все за таким столиком.
Комин снова пустился вещать языком манифестов. Еще и Ленина приплел.
— Откуда ты все это знаешь, бро? — спросил я с поддельным восхищением.
— Исторический факт, — невозмутимо ответил Комин. — Прочел у Солженицына.
— Сол-же-ницын! — с трудом выговорил Лео. — Я знаю его. Он — герой. Как Ленин.
— Ну, в каком-то смысле… — кивнул Комин. — За победу! — он поднял кружку.
— За победу! — повторили все, включая Виктора.
Мы покинули «Кабаре Вольтер» в начале одиннадцатого. В ушах звенело от громкой музыки, голова трещала от пива, наложенного на виски. Я направился к трамвайной остановке.
— Зачем тебе трамвай?! — запротестовал Комин. — Давай прогуляемся! Надо продышаться.
Продышаться действительно следовало. Мы двинулись не спеша вдоль набережной Лиммата. Вокруг было полно народу. Подгулявшие компании шумно вываливали из ресторанов, вокруг баров толпились курильщики. Тоже захотелось курить. Много лет, как бросил, а тут вдруг захотелось. Я спросил сигарету у прохожего. Затянулся.
— Ты чего это? — удивился Комин. — Нервишки, что ль?
— Да так, — я выпустил дым вверх. — Иногда себе позволяю.
«Почему он спросил про нервишки? — мелькнуло в голове. — Знает про нашу встречу с Лещенко в горах? Опять проверка, не скурвился ли я? Рассказать ему? А если не знает? Тем более рассказать! А если Лещенко узнает?…»
— Как тебе мои друзья? — прервал мои размышления Комин.
— Колоритные, — рассеянно ответил я. — Ленин, Солженицын, властелины интернета…
— Главное — они отличные инженеры! — воскликнул Комин. — Выглядят, как босяки, но золотые головы!
— Будешь вместе с ними бороться против компьютерного облака?
— Вместе с ними я буду бороться за прорыв в дальний космос. Ну и заодно против компьютерного облака. У меня с этими ребятами есть много точек соприкосновения. Общие интересы, так сказать.
— Общие интересы… — повторил я. В голове у меня возникла неожиданная идея. Чтобы избавиться от бремени, взваленного на меня Лещенко, надо разругаться с Коминым. Разругаться вдрызг, до драки, срочно, не медля, пока он не успел ничего рассказать. Времени на обдумывание не было, и я сразу бросился в бой. — А с американцами у тебя тоже нашлись общие интересы? — спросил я, стараясь подпустить в вопрос как можно больше яду.
— С какими американцами?
— Там, в Антарктиде. Вы взорвали ледник, они ввели войска и, кажется, для них это оказалось очень кстати. Как по заказу.
— А, ты про это… — Комин простодушно усмехнулся, совсем не так, как усмехаются разоблаченные злоумышленники. — Я это сразу заметил. Как-то все очень легко и просто у нас там получилось. Нашлась взрывчатка, будто только нас и ждала, потом вертолет. Конечно, мои американские друзья — и Ник, и Билл — были не простыми зимовщиками. Они были зимовщиками в штатском, — Комин засмеялся. — Но они сделали в точности, что мне было нужно. Сделали очень быстро и профессионально, обычные зимовщики так бы не сумели.
— А ты сделал в точности, что они хотели.
— Получается, что так, — согласился Комин. — Ну и что? Никто не погиб. Это главное. Я готов сотрудничать хоть с американцами, хоть с чертом, если это нужно для дела… Ух ты, смотри, какие! — Комин застыл на месте, увидев двух девиц в колпаках Санта-Клаусов.
Мы дошли до Лимматкай — цюрихского района «красных фонарей». Ни одного красного фонаря там не было, набережная, застроенная серыми складами, освещалась скудно и продувалась ледяным ветром насквозь. В пуританском Цюрихе смертный грех уличного блуда даже не пытался притворяться хоть сколько-нибудь привлекательным, наоборот, был заранее обставлен адскими декорациями. Наверное, это и сбило Комина с толку.
— Пойдем-ка, познакомимся! — он схватил меня за локоть и потащил в сторону девиц.
— Да ты с ума сошел! — заупирался я.
— Пойдем! Пойдем! — Комин продолжал тянуть.
Девицы нас заметили:
— Привет, красавчики! — как по команде, заворковали они наперебой. — Как дела, красавчики? — Шубки искусственного меха игриво распахнулись, демонстрируя укрытое от холода силиконовое богатство.
— Вау! — взвился Комин. — Мери кристмас! Что ж вы тут стоите?
— Протри глаза, дубина! Это проститутки! — зашипел я.
— Ду ну! — осекся Комин. — Не может быть! — Он внимательно посмотрел на девиц, которые продолжали твердить, как заведенные:
— Как дела, красавчики? Развлечемся, красавчики?
— Ну да, ну да, — Комин обескуражено шмыгнул носом. — Но все равно, с Рождеством, девушки! — он отсалютовал им рукой.
— Пошли уже, Казанова! — я потянул его прочь.
— Развлечемся, красавчики? Как дела, красавчики? — неслось нам вслед.
Просто так уйти с Лимматкай у нас, конечно же, не получилось. Едва мы отошли на двадцать шагов от первого поста ночных бабочек, перед нами выросла мощная фигура в куртке с накинутым капюшоном.
— Привет, парни! — раздался голос из-под капюшона. — Хотите развлечься?
— Нет, спасибо! — торопливо отказался я. — Мы просто немного заблудились.
— Откуда вы, парни? — поинтересовался капюшон.
— Из России.
— Русские! — обрадовался капюшон. — Конечно, вы заблудились! Вам нечего делать здесь, на улице. Уличные девочки не для вас. Русские любят все только самое лучшее! Пойдемте, я покажу вам заведение. Там совсем другие девочки, высший класс! Как раз для русских! Я знаю русских! У меня много русских друзей! Все русские любят только самое лучшее.
— Спасибо, не надо! — твердо сказал я.
— Девочки — высший класс! — Капюшон обратился к Комину. — Есть две бразильянки, новенькие. Просто огонь!
— Спасибо, в другой раз, — помотал головой Комин.
— Есть гашиш, очень качественный, — не унимался капюшон.
— Нет, спасибо.
Капюшон сплюнул в сторону сквозь зубы и растворился в темноте.
— Во дела! — Комин захохотал.
— Эх, ты, революционер! — Ругаться с Коминым мне совершенно расхотелось.
Вскоре мы оказались на Банхофштрассе, расцвеченной рождественской иллюминацией. Магазины по случаю грядущих праздников работали до одиннадцати и соревновались друг с другом в великолепии оформления витрин. На улице было полно народу. Вкусно пахло глинтвейном. В одном из переулков на фанерных трибунах, взгроможденных одна на другую в виде елки, рядами выстроился хор и исполнял рождественские гимны. Мы взяли по глинтвейну и уселись на скамейку, глазея на нарядную публику и россыпи сверкающих огней в черном небе над Банхофштрассе.
— В этом году сделали новую иллюминацию, — принялся я объяснять. — Там высоко невидимые поперечные растяжки, с них свисают нити с шариками, десятки тысяч шариков, зажигаются разными цветами по команде компьютера. И так вдоль всей улицы. Получается объемное мерцающее облако. Компьютерное облако. Только с ним не нужно бороться.
Комин взвился.
— Нужно! Еще как нужно! Людей зомбируют этими огоньками, этими песенками, а цель одна — заставить их тратить огромные деньги на ненужную чепуху. Фантомная экономика. Целый год они сидят офисах, производят фантомы, обменивают фантомы на фантомные деньги, а потом фантомные деньги обменивают на вот эту мишуру из бутиков. Потребление и больше ничего. Это и цель, и стимул, и способ существования. Мерзость! — выпалил он в сторону елки.
— Так Рождество же! — возразил я. — Праздник! Люди радуются. Что здесь плохого?
— Чтобы радоваться Рождеству, не нужно тратить миллиарды долларов на мишуру. Вспомни, в нашем детстве — мандаринка, кулек конфет — и радость. А здесь — где ты видишь радость? Вот этот что ли радуется? — Комин довольно бесцеремонно ткнул стаканчиком с глинтвейном в сторону проходящего мимо мужчины в дорогом пальто, в обеих руках у которого было по вороху пакетов из дорогих бутиков. Галстук сбился набок, на раскрасневшейся физиономии читалась лошадиная покорная усталость.
— Может, и радуется, — я проводил мужчину взглядом. — Накупил подарков для всей семьи. Молодец.
— А сколько он на это потратил, как думаешь? Тысяч пять?
Я присмотрелся к названиям магазинов на пакетах.
— Думаю, больше.
— Вот! И сколько их таких, только здесь и сейчас, на этой улице. А на других улицах? В других городах? По всему миру? И что у них в этих пакетах? Ни-че-го! — отпечатал Комин. — Труха! А если бы эти деньги да пустить на гранты ученым, на развитие технологий, нормальных, полезных технологий…
— Стоп, Саня, остынь, — я похлопал его по плечу. — Рождество тебе не перебороть. Пытались многие. Даже здесь. Цвингли с Кальвином — фрески в церквях замазывали, музыку запрещали, чтоб никаких праздников, никаких плотских удовольствий. Ради чего-то там такого, возвышенного. Как видишь, ничего у них не вышло. Не хотят люди кульку конфет и мандаринке радоваться. И ничего ты тут не поделаешь. Кстати, об этой самой мандаринке. Не поверишь, сколько раз я о ней слышал! Наш человек, из тех, кому за сорок, стоит ему только на Банхофштрассе в предрождественское время попасть, он тут же эту мандаринку вспоминает. В ста случаях из ста! Можешь мне поверить, у меня хорошая статистическая подборка. Так хватит уже, Санечка! Баста!
— Ну, мандаринку, я, действительно, не к месту вставил, — согласился Комин. — Она здесь ни при чем.
— А что при чем? Что ты предлагаешь? Взорвать канализацию на Банхофштрассе?
— Нет. — Комин сделал паузу. — Я хочу взорвать БазельУорлд.
— Что?! — я не поверил своим ушам.
— БазельУорлд, выставка часов и драгоценностей…
— Я знаю, что такое БазельУорлд. Что за дикая идея!
— Не волнуйся! — Комин придвинулся ближе. — Это будет ненастоящий взрыв, никто не пострадает, наши друзья из ЕТХ, те самые, которых мы только что видели, сделают все, как надо. Они сумеют. Мы повергнем БазельУорлд в хаос, высокотехнологичный хаос. Напустим дыма и спроецируем лазером лозунг «Космос вместо бриллиантов».
— Но причем здесь вообще эта выставка? — недоумевал я. — Какая связь между часами и колонизацией космоса?
— Прямая связь! — воскликнул Комин. — Я тебе об этом уже полчаса талдычу. Только БазельУорлд — гораздо более глубокий символ, чем эта Банхофштрасе. БазельУорлд, Базельский мир — это и есть мир, в котором мы сейчас живем. Мир, где огромная пропасть между бедными и богатыми. Наручные часы за два миллиона долларов и миллионы людей, живущих на доллар в день. Базельский мир — это отупляющий, развращающий, оболванивающий гламур, пустышка, мишура. Это то, что уже давно отжило, то, что мешает человечеству, то, что должно исчезнуть. Это символ, яркий, сверкающий, мозолящий глаза, поэтому гораздо более заметный для обывателя, чем какой-то там айсберг черт-те где, в Южном океане. Айсберг далеко, а БазельУорлд всегда рядом, не дальше, чем первый попавшийся глянцевый журнал.
И потом, — это часовая выставка, что тоже символично. Часы. Время. Времени больше нет. Пора действовать!
Я понял, что Комин опять декламирует какой-то выученный наизусть манифест. У меня отлегло от сердца. Все, что я услышал, показалось таким мальчишеством и чепухой, что Лещенко, когда я ему об этом расскажу, должен будет оставить, наконец, меня в покое. Я даже невольно рассмеялся.
Комина мой смех задел.
— Думаешь, это все ерунда, несерьезно?
— Ну, — протянул я. — Как бы это сказать…
— Впрочем, думай, что хочешь! — не дал мне закончить мысль Комин. — Есть достаточно людей, которые относятся к этому серьезно. Хотя есть и умники, которые считают меня клоуном. Я к этому привык. Мне все равно!
— Поверь, я не считаю тебя клоуном!
— Проехали! — махнул рукой Комин. — Теперь к делу. Ла-Шо-де-Фон, знаешь такое место?
— Конечно! Столица часовой индустрии!
— Там есть группа мастеров, часовщиков, хранителей традиций, которые имеют зуб на корпорации и, соответственно, на БазельУорлд тоже. Они готовы помочь мне в моем деле.
— Как ты всех их находишь? — восхитился я.
— Просто не сижу на месте, — сухо ответил Комин. — Я должен встретиться с ними на следующей неделе, в среду, чтобы обсудить детали. Но понимаешь, я не в часовой теме, не владею терминологией, когда они начинают говорить что-то профессиональное, я выключаюсь. Я хотел попросить тебя поехать со мной, чтобы ты помог мне переводить с часового языка на общечеловеческий.
— Но я тоже не часовщик…
— По крайней мере, ты знаешь, чем отличается хронометр от хронографа и скелетон от регулятора. Ты знаешь, какие существуют часовые марки. Этого достаточно. Поможешь? — Комин пристально посмотрел на меня.
— Нет, — ответил я. — Не помогу. Извини, Саня, но это несерьезно. Ерунду ты какую-то придумал. Банальное хулиганство. На прошлой неделе здесь в Цюрихе леваки, точно такие же, как твои друзья из ЕТХ, закидали пакетами с краской штаб-квартиру Кредит Свисс. Протестовали против бонусов банкирам, за все хорошее против всего плохого. Полиция их повязала, отсидели ночь в кутузке, заплатили штраф. Прописали про них в газетах, показали по телевизору. Герои. А что толку-то? Для Кредит Свисс это все, как слону дробина. А если бы я на их месте оказался, штрафом бы не отделался, депортировали бы меня к чертовой матери. Кому бы от этого полегчало?
Комин молчал, я увидел, как заиграли желваки на его скулах, и решил свести все к шутке.
— БазельУорлд! Что-то ты, брат, мельчишь! Вот если бы ты ледник в Церматте взорвать решил в ознаменование глобального потепления, я бы, может, подписался…
Комин отреагировал неожиданно серьезно.
— Сам понимаю, что мелковато! — сказал он задумчиво. — Есть планы и покруче. Можно рвануть пару законсервированных нефтяных скважин в Мексиканском заливе, смешать нефть со специальным реагентом, чтобы она на поверхность не поднималась, огромные нефтяные линзы начнут дрейфовать под водой и изменят динамику Северной Атлантики. Гольфстрим подвернет в Гренландии, она снова станет Зеленым островом, как в доисторическую эпоху, а ее растаявшие ледники поднимут уровень Мирового океана на метр-полтора. Много чего можно сделать!
Я покосился на группку японских туристов, притормозивших в метре от нас и без остановки щелкавших фотоаппаратами. Знали бы они, какой тут разговор сейчас ведется, и какая незавидная перспектива вырисовывается для их и без того многострадальных островов.
— Эта штука с БазелУорлдом только на первый взгляд выглядит несерьезно, — продолжал Комин. — Почти все поначалу реагируют, как ты сейчас. Идея должна в голове чуть-чуть отлежаться. Сам поймешь, что это здорово. Это в десятку! Тем более, следующий БазельУорлд юбилейный, ожидают высоких гостей. Так что публика на нашем шоу будет, что надо.
А про депортацию ты не переживай, ты нигде не будешь замешан. Ты занимаешься часовыми консультациями? Окей! Дальше часовых консультаций твое участие распространяться не будет. Сделаем все очень аккуратно. Главное…
Комин осекся, посмотрел в сторону поющей фанерной елки и снова повернулся ко мне.
— Главное, понимаешь, мне нужен человек, такой, как ты. Не исполнитель, не боец, а просто родственная душа. Мы ведь когда-то были друзьями…
— Мы и сейчас друзья, — сказал я. — А насчет БазельУорлда… ты сказал, идея должна отлежаться. Пусть отлежится.
Комин посмотрел на меня и молча кивнул.
На следующее утро я проснулся с больным горлом. Ночное сидение на лавочке обернулось простудой.
Пока брился, перед зеркалом репетировал свой разговор с Лещенко. Главное было убедить его, что Комин — пустяковый кадр, сорокалетний взбалмошный мальчишка, не достойный внимания серьезных людей. Я допускал, что весь вечер за нами следили, возможно, даже прослушивали. Поэтому врать было нельзя. Нужно было надергать из разговора фраз и деталей, которые бы подчеркивали безобидную сумасбродность коминских затей. Обязательно ввернуть пример с леваками, закидавшими краской фасад банка. Связываться с такой публикой никто не хочет. Вот и показать, что Комин — такой же. Юродивый, шут, революционер-переросток. У меня складывался связный и убедительный рассказ, в конце которого нужно было твердо сказать, что я свое дело сделал, связываться с Коминым больше не намерен и пусть оставят меня в покое. «Впредь можете рассчитывать на меня, но только как на часового консультанта», — как-нибудь так. Вяловато, но сойдет. Хрипотцы в голосе подпустить, больное горло — это даже кстати.
Я еще пару раз повторил на разные лады заключительную фразу и, достигнув нужной твердости, набрал номер посольства. Ответила секретарша, она сказала, что Лещенко нет на месте, надо ли ему что-то передать. «Передайте просто, что звонил Завертаев», — попросил я.
Через минуту раздался звонок.
— Привет, Володя! — раздался бодрый голос Лещенко. — Есть новости?
— Да, есть, — ответил я. — Я встретился с Коминым.
— Знаю, — протянул Лещенко. — Как поговорили?
— Хорошо поговорили, только, мне показалось, Александр немного перегорел, я имею в виду, в психологическом смысле. Нервы у него сдают, какие-то идеи странные…
— Что за идеи?
— Ну, БазельУорлд, это выставка часовая в марте… он собирается устроить там акцию, не акцию, даже не знаю, как это назвать…
— Комин был один? — неожиданно прервал меня Лещенко.
— В смысле? — не понял я.
— На встречу с тобой он пришел один?
— Один, — сказал я и тут же осекся. — Пришел один, но потом мы поехали в бар, там было еще три человека, студенты или что-то в этом роде.
— Как их имена? — резко спросил Лещенко
— Не помню, — я чувствовал, что теряюсь, разговор пошел совсем не так, как я предполагал. — Да у них и не имена, вроде клички какие-то…
— Что за клички?
— Вроде Лео, Ник или Вик…
— Какие же это клички, — заметил Лещенко. — Нормальные имена. А третьего как звали?
— Кажется, Батист.
— Откуда они?
— Я не знаю.
— Ты сказал, что они студенты.
— Я сказал, похожи на студентов. Вроде, они из ЕТХ…
— Значит, трое из ЕТХ, — подытожил Лещенко. — Лео, Батист и Вик или Ник. Что еще про них можешь сказать? Какие-то особые приметы?
— Да я их не разглядывал. Выпили пиво и разошлись.
— Вспомни, пожалуйста, будь добр, — в голосе Лещенко зазвенела сталь, которая по идее должна была звенеть в моем голосе.
— Ну, один из них, Виктор, он инвалид, колясочник.
— Так значит, Виктор! — сказал Лещенко. — Не Ник и не Вик, а Виктор! Володя, ты сконцентрируйся. Тут мелочей не бывает, сам знаешь.
— Я понимаю, — я поймал себя на том, что начинаю оправдываться, — просто, по поводу этого БазельУорлда, этой акции…
Лещенко снова не дал мне сказать.
— Комин говорил тебе, что собирается еще с кем-то встречаться?
— Когда?
— Вообще, когда угодно. На этой неделе, на следующей…
— Он говорил, что собирается ехать в Ла-Шо-де-Фон, к каким-то часовщикам, как раз по поводу выставки.
— Когда?
— Вроде в следующую среду.
— Просил тебя поехать с ним?
— Да.
— А ты?
— Я отказался.
— Почему?
— Я не могу. У меня полно работы. Как раз в среду очень серьезный клиент.
— Что за часы?
— Что?
— Что за часы ты собираешься втюхать этому клиенту, Володя? Какая марка?
— «Бреге», — соврал я. Никакого клиента на среду у меня не было.
— Цена вопроса?
— Двадцатка, — выпалил я, не задумываясь.
— Хм, молодец, — похвалил меня Лещенко. — Значит, так. В понедельник, после обеда, к тебе приедет от меня человек. Он возьмет часы за двадцатку, чтобы бизнес твой не страдал. Своего клиента перенеси на другой день, в среду езжай с Коминым, а в четверг жду от тебя звонка. Всё! Бывай здоров, до связи!
— Подожди, так не пойдет! — крикнул я, но в трубке уже звучали короткие гудки.
Я набрал тут же номер посольства.
— Лещенко нет на месте, — ответила секретарша.
Человек от Лещенко назвался Николаем. Он был ростом под два метра и одет в черный костюм, туго стягивающий торс. Шея в обычном анатомическом понимании у него отсутствовала, стриженный бобриком затылок расширялся за ушами и переходил в плечи, раздольные, как палуба авианосца. Когда мы вошли в бутик «Байер», Николай проигнорировал приветствия субтильных менеджеров, лишь ответил на короткий кивок охранника Поля, малого точно таких же пропорций.
Усаживаясь, Николай попробовал на прочность стул, молча отказался от предложенного кофе и застыл, покойно уложив на полированной поверхности стола свои кулачищи.
Старший менеджер Штольц внес в зал поднос с часами и поставил его на стол перед Николаем.
— Вуаля!
Богато вылепленные надбровные дуги Николая остались неподвижными, лишь стул под ним коротко скрипнул.
Чудный хронометр «бреге» мерцал розовым золотом совершенно впустую.
— Не желаете ли примерить? — многоопытный Штольц, привыкший ко всяким клиентам, не терял воодушевления. Он спросил по-немецки и по-английски.
Николай скосил взгляд в мою сторону.
— Примерите? — перевел я.
Из-под рукава рубашки Николая выглядывал рельефный кант сверхпрочных «касио джи-Шок», прикрывающих запястье, как латы легионера. Такие часы способны смягчить удар арматурой, а то и защитить от пули. А золотые «бреге», хоть их и упомянул разок сам Пушкин, в настоящем деле бесполезны.
— Великолепный выбор! Просто великолепный! — щебетал Штольц. — Знаете, у нас бывает много русских клиентов. Я многократно убеждался — русские любят все самое лучшее!
При этих словах я вздрогнул. Штольц уловил мое движение.
— Не правда ли, герр Завертаев? — он сделал изящный пасс руками, предлагая перевести его тонкое наблюдение на русский язык.
— Русские любят все самое лучшее, — повторил я и, не в силах сопротивляться ехидной причудливости мира, добавил: — Тут недалеко есть одно заведение. Там две новеньких бразильянки — огонь!
Николай посмотрел на меня без малейшего удивления, скрипнул стулом и произнес:
— Пусть оформляют.
— Ремешок может оказаться слишком коротким, — не унимался Штольц. — Или… — наконец осенило его, — вы покупаете эти часы в подарок?
— В подарок, — заверил я. — Оформляйте, пожалуйста.
Штольц радостно упорхнул и через минуту вернулся со счетом, зажатым между двух пальцев.
Николай достал из внутреннего кармана пиджака конверт с наличными, согласованно шевеля губами и натруженными боевыми искусствами пальцами, отсчитал требуемую сумму, сгреб со стола пакет с обновкой и двинул к выходу.
Попрощавшись, я услышал за спиной голос Штольца, который в поучительном тоне негромко сказал своему молодому ассистенту:
— Нет, чтобы там ни говорил наш друг Либетрау, а русские все-таки лучше, чем китайцы.
— Лучше! Гораздо лучше! — подобострастно поддакнул ассистент.
Переулки старого Цюриха — торжество неэвклидовой геометрии. Параллельные прямые здесь пересекаются за ближайшим углом, два правых поворота не равны развороту, а сам разворот не означает возвращения. Бродя по этим переулкам сто лет назад, Эйнштейн обнаружил, что пространство и время способны искривляться, и все на свете относительно. Все относительно. «Даже предательство!» — пытался успокоить я себя, кружа по узким мощеным ущельям. Я не предавал Комина, я пытался его спасти. Я вступил в игру из самых лучших побуждений, просто Лещенко меня переиграл. Он хитростью вытянул из меня информацию, потому что он опытный, это его работа. Он каждый день этим занимается, его этому учили. А я маленький человек, у меня семья, в первую очередь я должен думать о семье. О собственной семье, а не о какой-то там колонизации космоса.
К тому же, ничего страшного не произошло. За нами и так следили, нас и так подслушивали, все, что я сказал Лещенко, он и так знал. Да и ничего важного я ему не сказал. Имена студентов, Ла-Шо-де-Фон… Какие тут секреты! А главное, сам Комин, он же не предупредил меня, чтобы я никому о нашей встрече не рассказывал. Это принципиальный момент.
Зато в среду, когда я поеду с Коминым в Ла-Шо-де-Фон, я дам понять ему, что он под колпаком. Намекну, он поймет. А когда поймет, может слить через меня какую-нибудь дезинформацию, чтобы сбить Лещенко с толку. Прекрасный план, по-моему. Прекрасный. Только почему же мне так плохо?
Нужно звонить Анатолию. Без него не обойтись.
Я достал телефон и набрал номер.
— Толик, давай выпьем сегодня.
— Ох, — в трубке раздался тяжкий вздох. У меня похолодело внутри, думал, откажет. — Ну, давай… — смиренно произнес Анатолий.
Толик родом из Кемерово, мы почти земляки. И да, он пьющий человек. Можно сказать, профессионально пьющий. Работает он вице-президентом Банка Ротшильда («другого Ротшильда, не того» — уточняет всегда Толик), специализируется на частных клиентах из российских регионов — нефтяниках, газовиках, областных царьках со свитами. Толик с ними пьет, они доверяют ему свои капиталы. Более эффективного менеджера в Банке Ротшильда, думаю, не было за всю его многовековую историю. Казалось бы, велика наука. А вот в том-то и дело, что велика. Я знал одного австрийца, он мог выпить две бутылки водки и сохранял такую ясность мыслей, что умножал и делил шестизначные цифры без калькулятора. Много лет он пытался делать бизнес в России, пил с кремлевскими чиновниками, с людьми из московской мэрии, поил хозяйственников и силовиков, и все без особого успеха. В конце концов уехал в Намибию и, по слухам, там наконец-то разбогател.
Стиль Толика был другим, он терял ясность мыслей после первого стакана. В его манере напиваться было что-то от шаманизма, возможно, за это луноликие и скуластые клиенты из Салехарда, Нижневартовска и Уренгоя его и ценили. Нескладный, тощий почти до прозрачности Толик обликом походил на ангела, который несет покой и умиротворение. Алкогольные трипы с ним чудесным образом обходилось без скандалов, ругани, драк, битой посуды и поломанной мебели. Без тягостных воспоминаний и угрызений совести, только ощущение приятной опустошенности на выходе.
Это было филигранное искусство. Кого попало вице-президентом швейцарского банка не назначают.
Со мной Толик тоже изредка выпивал. Проку от этого Банку Ротшильда не было никакого. Наверное, он делал это чтобы не растерять форму до следующей командировки в Салехард.
— План такой, — сказал Толик, когда мы встретились с ним через час. — Начнем для тонуса в «Нельсоне», если только там не показывают Премьер-Лигу, затем короткая передышка в «Акуле» на Гесснер Аллее, потом перемещаемся в Четвертый округ, там угар и преисподняя, а под занавес ползем в Вест поближе к моему дому, потому что в такси к этому моменту нас уже не посадят. Получается некая синусоида, — Толик нарисовал пальцем в воздухе волну. — Или тебе хотелось бы чего-то параболического? Или гиперболического?
— Синусоида меня вполне устраивает, — заверил я.
Секрет мастерства Толика был прост и сложен одновременно. Перед собутыльниками принято изливать душу, а это не всегда удобно, это требует усилий, часто разрушительных. Толику не нужно было ничего рассказывать. Как восточный лекарь, который ставит диагноз по пульсу или по роговице глаза и сразу назначает лечение, Толик обходился без лишних слов.
— Что-то ты задумчивый, — сказал он, когда мы уселись за стол, в заполненном шумными англичанами «Нельсоне». — Зря. Задумываться нельзя. Не в нашей с тобой ситуации, дружище.
— А что такого особенного в нашей ситуации? — мне хотелось услышать его версию.
— Вот, например, я, — Толик уже прикончил свой первый «гиннес» и откинулся на спинку стула. — Я раньше жил в деревне, в Форхе, двенадцать километров от Цюриха. Райское местечко, похоже на Ваганьковское кладбище в Москве, — чисто, тихо, дорого. Рядом с моим домом был ресторан, на горке, в красивом месте. Перед рестораном лужайка, столики прямо на лужайке стоят, зонтики, кусты шарами стриженые, статуи кругом расставлены под старину, вид на Альпы. Благодать. В ресторан этот в основном любители лошадей заезжают. После конных прогулок по живописным окрестностям заворачивают в этот ресторан. Лошадей привязывают в сторонке, сами сидят, в лосинах, в лакированных сапогах, какие у нас в армии складские прапорщики носили. Пьют белое вино, любуются видом. Все очень приветливые, очень улыбчивые. Красивые люди. Почти такие же красивые, как их лошади. Благодать. Идиллия. Каждый день я на эту идиллию смотрел, и, знаешь, что я чувствовал?
— Не имею понятия.
— Я чувствовал ненависть, — Толик резко подался вперед. — Жгучую ненависть! — повторил он. — Почему? Откуда? Непонятно. Я им не завидую. Я обеспеченный человек, я могу купить себе лошадь, сапоги, эти блядские лосины. Я могу каждый день сидеть в этом ресторане, пялиться на Альпы, пить шампанское. Но я знаю, что внутренне, сам для себя, я буду выглядеть идиотом. Я не смогу так улыбаться, как они, я буду чувствовать, что мне за мои деньги не доложили ихнего счастья, разбодяжили, подменили. Почему так? — Толик уже немного захмелел, глаза его заблестели. — Почему? — воскликнул он довольно громко.
Компания англичан за соседним столиком обратила на нас внимание.
Толик поднял бокал «гинесса» и повернулся к ним.
— Правь, Британия, морями!
Англичане заулыбались и тоже подняли бокалы.
— Откуда вы, ребята? — спросил один из них.
— Мы скифы, — гордо ответил Толик.
Англичанин не понял, но все-таки сказал «Окей!».
— Вот еще черти, — проворчал Толик, отворачиваясь. — Но сейчас не о них, покончим с лошадьми. Понимаешь, Володя, — он пододвинулся ко мне и понизил голос. — Если я начну задумываться о причинах этой своей ненависти, я могу очень далеко зайти. Можно прийти к выводу, что если уж выпало счастье родиться русским, то в Европу лучше приезжать на танке. Как мой дед. Дед у меня был — вот такой человек! — Толик поднял вверх большой палец. — Вот такой был мой дед! — он показал большой палец англичанам. — Имел он вас всех. Сейчас таких уже не делают. Воин-освободитель. Освободил Европу от гитлеровской чумы, аккордеона «Майстер» и двух чемоданов галантереи. И все были счастливы. Все довольны. Полная гармония. Так может, так и надо, может, это и есть единственный вариант для нас. Раз в сто лет сначала они к нам прут Великой Армией, потом мы к ним — большой и дружной компанией, с казаками, башкирской конницей, как положено. А все остальное время друг от друга отдыхаем. Ты представляешь, куда нас с тобой могут завести подобные мысли?
Толик помахал ладонью перед собственным лицом, как в здешних краях принято обозначать безумие.
— Задумываться вредно, — заключил он. — Поэтому я и съехал с этого Форха, от греха подальше. Давай-ка не отставай, — Толик кивнул на мой недопитый стакан, сам он приканчивал уже второй. — Тут у них вообще не принято задумываться, если ты еще не успел заметить. Думать — это обязательно, иначе вмиг голым и босым останешься, а вот задумываться вредно. Улавливаешь разницу? Я думать рад, задумываться тошно! — продекламировал Толик.
— Я не очень улавливаю разницу, — признался я.
— Это потому, что ты мало выпил, — сказал Толик. — Бери пример с наших соседей, — он кивнул на соседний столик. — Прекрасные люди! Пре-крас-ные! А ты сидишь тут, дундук дундуком. От тебя мировой скорбью на версту веет, как от бомжа мочой. Что невесел, брат? Деньги у тебя есть, живешь ты в лучшей в мире стране — без дураков лучшей в мире, официально, по данным ООН. Так что тебе, зараза, еще нужно?
— Нет, погоди… — запротестовал я.
— Стоп! — поднял руку Толик. — Вот ты опять начал задумываться! Бросай это дело немедленно! Ман-че-стер Ю-най-тед! — громко запел Толик.
Люди за соседним столиком, двое из которых были в красных майках «Манчестера», немедленно подключились. Пить мы продолжили с англичанами.
Потом, в точности следуя запланированной синусоиде, переместились в бар «Акула» на Гесснер-Аллее. Там на маленькой сцене на высоком стуле сидела девушка лет семнадцати с огромной гитарой и пела печальные песни на французском языке. Свет фонарей падал на ее косички, веснушки и нежные коленки. Голос дрожал от волнения, аккорды путались.
Толик неожиданно заплакал. По-настоящему, от души. Крупные слезы катились по его подернутым модной щетиной щекам.
— Прекрасные люди, — сказал он, сдерживая рыдания. — Прекрасные! Я хочу ее усыновить.
— Кого? — не понял я, чувствуя себя уже порядком нагрузившимся.
— Вот ее! — Толик указал на сцену. — Певицу!
— А! Тогда не усыновить, а удочерить, — поправил я.
— И тем не менее! — тряхнул головой Толик. — Как ты думаешь, мне позволят?
— Надо спросить у официанта, — предложил я. — А заодно заказать водки. Или коньяку. Как считаешь?
— Нет! — Толик громко хлопнул по столу ладонью, слезы его моментально высохли. — После пива никакого коньяка! Виноград к винограду, зерно к зерну. Чему вас только в университетах учат… И еще, слушай, какого черта ты целый вечер смотришь на часы!? — грозно спросил Толик.
— Я смотрю? Вовсе не смотрю, — я прикрыл шапировское «открытое сердце» манжетой рубашки.
— Нет, смотришь! Ты куда-то опаздываешь?
— Никуда не опаздываю. Просто это… Это особенные часы, — я приподнял рукав рубашки и повернул запястье к Толику. — Видишь там окошко на циферблате?
— Ну?
— Оно почти закрыто.
— Ну?
— Это значит, я неправильно живу.
Толик, с трудом фокусируя пьяный взгляд, посмотрел на циферблат, потом на меня.
— Завязывай с мистикой, дружище.
— Это не мистика, это механика.
— С механикой тем более завязывай.
После «Акулы» мы поехали в Вест. Там в баре у Толика обнаружилось много знакомых. Прекрасные люди, просто прекрасные, все до единого.
— Ты не переживай, — успокаивал меня Толик. — Бармен знает, где я живу, так что можно немного выпить. Только не забывай, зерно к зерну!
— Но у тебя виноград! — я показал на бокал с вином в руках Толика.
— А виноград к винограду! — назидательно произнес Толик.
Что было дальше, я помню смутно. Помню только, что в какой-то момент сообщил Толику, что сотрудничаю с КГБ.
— Это прекрасно! — уверял меня Толик. — Просто прекрасно, дорогой ты мой человек!
Он рассказал об этом всем своим друзьям в баре, и они все захотели со мной выпить, а некоторые даже сфотографироваться.
Достоверно можно сказать лишь то, что пресловутая синусоида, повинуясь своей бесконечно волнообразной природе, покрыла собой всю ночь понедельника, перекинулась на вторник и захватила ночь среды.
Как я оказался дома в среду утром, и куда, в конце концов, подевался Толик, так и осталось для меня загадкой.
Около полудня заявился Комин. Он оглядел меня с головы до ног и поцокал языком.
— Хорош! Слушай, я и не знал, что ты запойный.
Я хотел возразить, но у меня не получилось, лишь махнул рукой.
— Машину вести, конечно, не сможешь.
— Не смогу, — вздохнул я.
— Тогда поведу я, — быстро решил Комин. — Собирайся, нас ждут в Ла-Шо-де-Фон!
Не обращая внимания на мои слабые протесты, он забрал ключи, затолкал меня на заднее сиденье, сел за руль, и вскоре мы уже выезжали на бернскую трассу.
— Через два часа будем на месте! — объявил Комин.
«Два часа! Чтоб ты лопнул!» — мысленно обратился я к его довольной физиономии в зеркале заднего вида, потом взглянул на часы и моментально протрезвел. Шапировского «открытого сердца» на моем запястье не было! Вместо него — золотой «ролекс дайтона» с черным керамическим безелем. Несколько секунд я бессмысленно пялился на это сокровище ценой в тридцать тысяч долларов, потом медленно начал соображать. «Дайтону» я узнал, это были часы Толика, как они оказались на моем запястье, я решительно не помнил, но если у Провидения осталась хоть капля благорасположения ко мне, «открытое сердце» должно быть у Толика. Дрожащими руками я вытащил из кармана телефон и набрал номер. Толик ответил сразу:
— В пятом отсеке живые есть? — это была его любимая похмельная прибаутка.
— Есть немного, — ответил я. — Толик, у меня твои часы…
— Все правильно! А у меня — твои! — раздалось в трубке.
Я поднял глаза в потолок машины:
— Слава тебе, господи!
— Мы ж с тобой поменялись, забыл, что ли? — перекрикивал шум далекой толпы Толик. — Ты сказал, что ты это «открытое сердце» носить боишься и отдал их мне.
— Боюсь? — переспросил я.
— Ну да, сказал, что они на тебя давят. Психологически.
— Так сказал?
— Да. Ты еще много чего вчера говорил, — продолжал Толик. — Про космос, про семьсот лет жизни. Публика рыдала. Ты в этот бар, где мы вчера закончили, почаще заходи. Тебе там будут бесплатно наливать.
— О боже, — простонал я. — Толик, послушай. Эти часы, «открытое сердце», они не мои. Они очень ценные. Ты с ними, пожалуйста, аккуратнее. И давай сегодня вечером встретимся, поменяемся обратно.
— Сегодня не могу, — ответил Толик. — У меня через сорок минут самолет, — тут до меня дошло, что шум толпы в трубке — это звуки аэропорта. — Улетаю в Москву, потом в Сургут. Вернусь через десять дней, тогда и поменяемся. За часы не переживай, своей «дайтоной» отвечаю. Ты же мне ее сосватал, говорил, лучше часов не бывает. Так что не боись!
Толик дал отбой, а я продолжал сидеть и смотреть на трубку, будто ожидая, что кто-нибудь еще позвонит и расскажет мне, что же, черт возьми, вчера было.
Но никто больше не позвонил. После Невшателя мы свернули с автобана и поехали через невысокий горный перевал. Меня сразу же укачало. Я попросил остановить машину и бегом припустил к кустам. Пока меня выворачивало, Комин прогуливался по обочине и любовался видами.
— Красиво тут! — сказал он, когда я вернулся на место. — Мне очень нравится.
Я жадно припал к бутылке с водой. Когда напился, смог прохрипеть:
— Часовой ландшафт.
— Часовой ландшафт! Гениально! — воскликнул Комин. — Ну-ка расскажи.
Я сделал несколько глубоких вдохов и вытер испарину со лба. И начал рассказывать. Короткими фразами, будто перебежками.
— На южной части перевала больше солнца. Народ занимается виноделием. А там, в Юрской долине, холодные ветра. С севера. Виноград растет плохо. Зимой холодно. Сыро. Метет. Люди по домам. Протестанты. Вера бездельничать запрещает. Нашли занятие. Делают часы. Заказы из Женевы. Горы невысокие. Логистика без проблем. Все одно к одному. Так сложилось. До сих пор большую часть швейцарских часов делают здесь.
— Надо же! — восхитился Комин. — Ну, ты как?
— Плохо, — признался я.
— Садись, я аккуратно поеду.
Мы покатили дальше. Боясь, что меня опять укачает, я осторожно косился в окно. Пейзаж за окном, сдержанный в размерах, красках и пропорциях, будто бы тоже принявший протестантство, действовал успокаивающе.
— А ты молодец! Информацией владеешь! — похвалил меня Комин. — А ты, например, знаешь, где появилась первая в истории республика анархистов?
— У Махно, наверное…
— А вот и нет! Здесь! — радостно сообщил Комин. — Вот в этой самой долине. На полвека раньше Махно. Ну, может, не совсем республика, скажем так, административное образование. И обошлись без тачанок и большой стрельбы, но, что интересно, организовал и возглавил все это дело наш человек — Михаил Бакунин! Он считал швейцарских часовщиков передовым отрядом мирового пролетариата. Так и было — все поголовно грамотные, работящие, с головой на плечах. Он объяснил им теоретические основы анархизма, а на практике многому сам учился у них. Они отказались платить налоги в федеральный центр, точнее, платили только ту часть, которую сами считали справедливой, отказались отдавать своих рекрутов в армию, сказав, что если что, будут защищать себя сами. Учредили свою собственную полицию. Закончилось все довольно традиционно, анархисты перегрызлись друг с другом, но все равно — это был первый опыт, замечательный опыт!
— Ты решил пойти по стопам Бакунина? — ехидно спросил я. — Основать здесь новую республику анархистов? Или космических колонистов?
— Я вижу, ты пришел в себя, — улыбнулся Комин. — Новую республику основывать не будем, но на часовщиков у меня большие надежды.
— Объясни уже, наконец, что тебе от них надо. И с кем ты собираешься встречаться?
— Есть группа старых мастеров. Хранители традиций, так сказать. Они очень недовольны тем, что сейчас происходит в часовой индустрии, все эти международные корпорации, глобализация, вывод производства в Китай и так далее. Они решили объединиться и устроить акцию протеста на следующем БазельУорлде, стенд там арендовали, готовятся очень серьезно.
— А ты здесь причем?
— У нас есть некоторые точки пересечения, — туманно произнес Комин, — но дело даже не в них. Главное, что эти заслуженные аксакалы будут участниками выставки и будут протестовать. Наша задача — этот протест радикализировать и добавить свои требования.
— Радикализировать, — повторил я. — Даже страшно подумать, что ты под этим словом подразумеваешь.
— Ничего страшного, — заверил Комин. — Человеческих жертв не будет. Ты меня знаешь. Но твою озабоченность я разделяю, нам сейчас важно не спугнуть дедушек. Произвести хорошее впечатление. Поэтому я и взял тебя с собой, представлю тебя как влиятельного российского журналиста. У тебя тоже болит душа за будущее швейцарской часовой индустрии. Так болит, что аж весь позеленел, мешки под глазами и руки трясутся. — Комин еще раз оглядел меня. — Пожалуй, ты очень правильно сделал, что напился. Влиятельный российский журналист именно так и должен выглядеть.
За разговорами мы въехали в пригороды Ла-Шо-де-Фон, застроенные аккуратными домиками из светлого камня с черепичными крышами во французском стиле. Перед одним из них автомобильный навигатор сообщил нам, что мы достигли цели.
Комин припарковал машину у невысокой ограды из вечнозеленых кустов и позвонил в звонок.
Из дома вышел высокий старик в домашней кофте.
— Добрый день, добро пожаловать! — сказал он по-английски с сильным французским акцентом. — Меня зовут Кристоф Амман. — Он крепко пожал нам руки.
— Погода сегодня хорошая, поэтому мы расположились в саду. — Амман показал на стол, накрытый под платаном. — Моя жена запрещает мне курить дома, — он со вздохом продемонстрировал свою дымящуюся трубку. — В ресторане курить нельзя, дома курить нельзя, ужасные времена!
— Тебе вообще курить нельзя, лучше подумай о своем здоровье! — из дома вышла приятная женщина средних лет в фартуке и полотенцем в руках.
— О! А вот и моя жена! Достаточно только помянуть ее, и она появляется! — засмеялся Амман. — Дорогая, у нас гости из России!
Мадам Амман оставила свой напускной строгий тон и приветливо улыбнулась.
— Может быть, вам будет холодно в саду? — справилась она.
— Дорогая, я же сказал, месье приехали из России, там плюс десять градусов считается жарой, — сказал Амман.
— Это правда? — простодушно ужаснулась его жена.
Мы с Коминым заверили, что так оно и есть.
— Тогда я принесу вам пледы, — сказала мадам Амман и скрылась в доме.
— Мы простые деревенские люди, без церемоний, — развел руками Амман. — Пойдемте, я представлю вас моим друзьям. — Он повел нас вглубь большого ухоженного сада к столу под большим платаном.
Нам навстречу из-за стола поднялись двое мужчин. Один, помоложе, оказался сыном Кристофа, его звали Франсуа, а второго, Рене, Амман назвал своим старым товарищем.
Как только мы расселись, Комин тут же объявил, что я знаменитый часовой журналист, готовлю материал о независимых часовщиках, и что как только я узнал о том, что у Кристофа и его друзей есть особенные планы, связанные с будущей выставкой в Базеле, я потребовал немедленно организовать встречу. Последовали дружные восклицания и одобрительные кивки.
— Русские знают толк в швейцарских часах, — подмигнул мне Рене, кивая на «дайтону» у меня на запястье.
— Впервые в наших краях? — спросил Амман. — Тогда вы непременно должны попробовать вот это! — он взял со стола бутылку розового вина и разлил по бокалам. — Это самое знаменитое швейцарское вино — «глаз перепелки». Посмотрите на его цвет, он необычный, — Амман поднял свой бокал на уровень глаз, — розовый с легкой примесью серого. Такого цвета глаза у подстреленной перепелки. А аромат, — он погрузил в бокал свой массивный нос, словно созданный для того, чтобы нюхать вино в бокалах. — Это что-то необыкновенное. И вкус… Попробуйте, он вас не разочарует!
Я тоже сунул нос бокал. В моем теперешнем состоянии даже самое знаменитое в Швейцарии вино не могло вызвать никаких чувств, кроме отвращения. Поймав на себе насмешливый взгляд Комина, я все-таки сделал маленький глоток.
— Великолепно! — сказал я. — Просто великолепно.
Амман удовлетворенно кивнул.
— Настоящий «глаз перепелки» может быть сделан только из винограда пино гри, который растет в кантоне Невшатель. На почве Невшателя, под солнцем Невшателя. Однако вы можете найти в магазинах «глаз перепелки» из кантона Вале, есть даже американский «глаз перепелки», чилийский, какой угодно! Трагедия в том, что производители этого замечательного вина не смогли защитить свои права на него. Они скромные виноделы, а не юристы. И теперь «глаз перепелки» — это все, что угодно, и ничего. Ничего! — Амман сокрушенно вздохнул. — И то же самое может произойти со швейцарскими часами!
Он сделал еще один маленький глоток и поставил бокал на стол.
— Я уже старый человек. Мне семьдесят пять лет. Из них шестьдесят лет я делаю гильоше, это особый вид гравировки на циферблате, много-много линий, в которых играет солнечный свет. Мой отец делал гильоше, мой дед делал гильоше, мой прадед, мой прапрадед. Мой сын работает в банке, но он может сделать прекрасную гравировку, потому что я научил его всему, что умею сам. — Франсуа смущенно заулыбался. — Больше того, — продолжил Амман, — мой внук Патрик, которому сейчас пятнадцать, и которого здесь нет, потому что он бегает за девчонками, он тоже умеет управляться с гравировальным станком. Я научил его! Но вот вопрос, станет ли Патрик учить гравировке своих детей? Зачем? Нет заказов! Они производят миллионы часов, но им больше не нужны кабинотье! Гравировку делают станки с компьютерным управлением, которые стоят в Китае. Если я трачу на один циферблат несколько дней, они все делают за пять минут!
И многие считают, что так и должно быть, что это нормальный ход событий. Это и есть прогресс. Но тогда я хочу спросить этих людей, зачем вам вообще нужны хорошие часы? Смотрите время на своих мобильных телефонах, или на этих браслетах с батарейками, которые называются кварцевыми часами. Ешьте свои гамбургеры, неизвестно из чего приготовленные, носите одежду, сшитую несчастными детьми в подвалах Бангладеш. Пейте вино из винограда, выращенного роботами на искусственной почве. Этот китайский паренек, который работает на часовой фабрике, где-нибудь в Шанхае. Что он знает о часах? Ему же все равно, что собирать. Сегодня часы, завтра телефоны, послезавтра телевизоры. И что за часы выходят из его рук? Кусочки железа! Без души, без истории… Умники в галстуках из отдела маркетинга где-нибудь в Лондоне придумают им какую-нибудь историю, и они даже найдут способ, как назвать часы, сделанные китайским пареньком, швейцарскими. Но станут ли эти часы швейцарскими? — не на шутку распалившийся Кристоф окинул нас гневным взглядом.
— Нет! — ответил за всех Комин. — Простите, а кто такие кабинотье?
Кристоф застыл на мгновение. Потом решительно встал из-за стола.
— Пойдемте со мной, я покажу вам!
В это время из дома вышла мадам Амман с тарелкой, накрытой салфеткой.
— Куда же вы собрались? — воскликнула она. — А как же мое печенье!
— Подожди, дорогая! — отмахнулся Амман. — Сейчас не до печенья!
Он повел нас к пристройке с отдельным входом.
— Это мастерская! — сказал он, открывая дверь, — Осторожно, ступеньки!
Мы оказались в просторной светлой комнате, в центре которой возвышалась конструкция, похожая на допотопный фрезерный станок. Амман подошел к нему и благоговейно погладил выкрашенный темно-зеленой краской металлический бок.
— Познакомьтесь, месье, это — Толстая Матильда, — Амман взялся за колесо с деревянной ручкой. — Машина моего деда. Он гравировал циферблаты для больших часовых марок, от многих из них сейчас остались лишь воспоминания, а машина работает, в полном порядке. Дед передал дело отцу, а отец мне. Мы и есть кабинотье! Швейцарские часы не делались на больших фабриках, куда рабочие приходят по звонку и уходят по звонку, это американцы построили такую фабрику на востоке, под боком у Германии.
— ИВЦ в Шафхаузене? — решил я блеснуть осведомленностью.
— Точно! — усмехнулся Амман. — А в наших краях часовщики всегда работали вот в таких «кабинетах», в своих домах, поэтому мы и называемся «кабинотье». Кто-то делает гравировку, кто-то стрелки, кто-то роспись на эмали. А ну-ка, Франсуа, покажи, мальчик мой, нашим гостям, как эта штука работает!
Франсуа с готовностью уселся за станок, включил лампу и размял пальцы, как пианист перед исполнением сложной пьесы.
— В станке уже установлена заготовка, — пояснил Амман. — Чтобы увидеть работу, вам понадобиться магическое стекло! — Он взялся за кронштейн с массивной лупой и переместил его так, чтобы нам было видно. — Начинай, мальчик мой!
Франсуа начал тихонько вращать колесо. Плавное вращение по сложной схеме передалось на патрон с зажатым циферблатом и сквозь лупу мы увидели, как крошечный резец вошел в поверхность циферблата, и побежала плавная линия по дуге от центра к краю.
— Таких линий будет несколько сотен, — произнес Амман, — и мы даем жизнь каждой из них. Каждой! Вот, смотрите, что должно получиться! — он взял пинцет и достал из деревянной ячеистой коробки готовый циферблат. — Вы видите? — он повернул его в свете лампы, — Видите, эти линии живые, они купаются в свете, они радуются! Это не технология! Технологии у китайцев! А это жизнь! Вы видите?
— Потрясающе! — восхищенно выдохнул Комин.
— Если вы хорошенько присмотритесь, — Амман поднес циферблат к лупе, — вы увидите, что края линий не идеально ровные. Идеально ровные линии получаются только на компьютерных станках, а «Толстая Матильда» имеет свой собственный характер, она прорезает свои неповторимые линии! Месье, вы согласитесь со мной, безупречная красота без единого изъяна не греет. В куклу Барби невозможно влюбиться, любить можно только живую женщину, которая, к сожалению или к счастью, всегда неидеальна! То же самое с гильоше «Толстой Матильды». У «Толстой Матильды» есть поклонники по всему миру, в Америке, в Гонконге, в Арабских Эмиратах, я надеюсь, будут и в России! — подмигнул мне Амман. — Они знают ее стиль, ее почерк. Это почерк невозможно воспроизвести на компьютере! Невозможно подделать! Это как ключ с миллиардом комбинаций!
— Это потрясающе! — снова подал голос Комин. — Если это высокое искусство исчезнет под напором глобализации, это будет трагедия! Нужно бороться, чтобы не допустить этого!
— Вот именно, нужно бороться! — Амман похлопал Комина по плечу.
— А теперь пойдемте, попробуем печенье мадам Амман! — скомандовал старик. — Уверяю вас, там тоже нет никаких компьютерных технологий!
Мы просидели в саду за разговорами, пока не начало смеркаться. Хозяин предложил переместиться в дом, отведать выдающихся наливок мадам Амман, но нам предстояла долгая дорога обратно, пришлось распрощаться.
— Какой мощный старик! — восхищался Комин, когда мы подошли к машине. — Такие люди нам позарез нужны! Что скажешь?
— Не знаю, — усомнился я, заметив агитационный плакат Швейцарской Народной партии. Он был установлен на участке Аммана и возвышался над изгородью так, что его было хорошо видно с улицы. На плакате был изображен красный швейцарский паспорт, к которому с разных сторон тянулись руки с хищно искривленными пальцами. Руки были смуглыми — красноватыми, желтоватыми и черными. Комин подошел ближе и внимательно изучил плакат.
— Картинка с душком. Попахивает Германией тридцатых. Похожая эстетика.
— Их фирменная манера, — сказал я. — Это еще довольно безобидный экземпляр, есть и похлеще, с белыми овцами, которые изгоняют черную овцу.
— И чего они хотят?
— Известно чего. Все ж наглядно. Любой обладатель рук такого вот цвета, если он задержался в стране дольше, чем действует туристическая виза — угроза для национальной безопасности. Это значит, что он паразитирует на лучшей в мире государственной системе и тянет страну в пропасть.
Комин хмыкнул.
— Выходит, наш могучий старик тоже так думает?
— Он, и еще треть всех швейцарских избирателей. Народная партия — самая популярная в стране. Мы с тобой, хоть и белые, но тоже у них под подозрением, потому что мы из Восточной Европы. Вряд ли они будут иметь с нами дело. Единственный проект, под который они могут подписаться — если ты предложишь отправить в космос всех швейцарских ауслендеров, иностранцев, в один конец, без права возвращения.
Мы покатили обратно. Стремительно стемнело, небо было ясное, и над Юрской долиной высыпали звезды.
— Там, — Комин кивнул на звездное небо, — все сгодятся, и белые, и черные, и желтые. Общее дело для всего человечества — лучшее решение национального вопроса. Вот увидишь, я сумею убедить в этом Аммана. Он даже китайцев полюбит. Полюбит, полюбит, никуда не денется. Большевики хотели отменить национальности, это ошибка! Национальности должны сохраниться, просто у каждой будет своя зона ответственности.
— Лещенко мне что-то такое говорил, — я покосился на Комина. Лещенко я упомянул намеренно, чтобы дать понять, что я с ним в контакте. — Ему понравилось, что ты собираешься назначить русских передовым отрядом космической колонизации.
— Что значит «назначить»! — Комин, кажется, не понял моего намека. — Я никого назначать не собираюсь. Кто я такой? Все будет решаться сообща, на высшем уровне. Появится международный орган, типа ООН. Всемирная лига колонизации космоса. Как тебе название?
— Люди не умеют договариваться друг с другом, — сказал я. — Из-за ерунды десятилетиями воюют, а ты сразу Всемирную лигу захотел.
— Люди договариваться умеют, — сказал Комин. — Хочешь, давай проверим?
Не дожидаясь моего ответа, он свернул с трассы на заправочную станцию, где светился огнями небольшой павильон с магазином и кафе.
— Что ты затеял? — насторожился я.
— Я покажу тебе, как надо договариваться с людьми.
— Не надо! Пожалуйста! Я тебе верю! — взмолился я. Выходить из машины не хотелось. Этот павильон при заправке на пустынной дороге в горах выглядел не особо гостеприимно.
— Нет, я вижу, что ты мне не веришь! — настаивал Комин. — Все верят, а ты, мой друг, — нет. Я это вижу, — повторил Комин. — Не бойся, это не страшно. И потом, нам нужно взбодриться, выпить кофе, мне надоело смотреть на твою сонную физиономию.
Внутри за кассой стоял тип несвежего вида, в витрине рядом с кофейным автоматом томилась такая же несвежая выпечка. За пластиковым столиком расположилась компания из трех человек, еще один столик был свободен. Едва мы вошли, разговор за столиком прервался, и вся троица принялась нас разглядывать. Видно, поздние посетители в этом заведении были редкостью. Комин бодро пожелал всем доброго вечера, за что удостоился едва заметного кивка кассира.
— Кофе? — Комин указал на автомат. Кассир безразлично пожал плечами — мол, делайте, что хотите.
Пока из автомата тонкой струйкой вытекал кофе, невкусный даже на вид, за нашими спинами возобновился разговор. Можно было догадаться, что говорят о нас, кто мы такие и откуда свалились.
— Что за язык? — спросил меня Комин, прислушиваясь.
— Какой-то из балканских, — негромко предположил я.
Мы купили по круаcсану, лишь для того, чтобы не оставлять кассира без выручки, и уселись за столик. Комин сделал глоток и довольно крякнул. Он излучал приветливость и щенячью жизнерадостность, как турист из Огайо. Я сел лицом к выходу и мог наблюдать все, что происходило в павильоне, в отражении на стекле. Троица была одета в черные кожаные куртки, золотые цепи на шеях, перстни на пальцах — балканский гангстерский шик. Самое разумное было поскорее уносить отсюда ноги. Вместо этого Комин повернулся к соседнему столику и произнес с идиотской улыбкой:
— Извините, вы говорите по-английски?
«Гангстеры» прервали беседу, но не торопились отвечать. Сначала они посмотрели на Комина, потом на меня, потом с усмешками, которые вызвали у меня нехорошие предчувствия, переглянулись.
— Немного, — произнес один из них, самый старший, с красивой сединой во вьющихся смоляных волосах.
— Прекрасно! — обрадовался Комин. — Мы с другом первый раз в этих краях. Очень красиво! Скажите, этой зимой здесь вообще не было снега?
Седой отрицательно качнул головой.
— Кстати, я — Александр, а он — Владимир, — представил нас Комин.
— Владимир? — переспросил седой, глядя на меня. — Русские? — он сказал это по-русски.
— Мы — русские! И вы по-русски говорите?! Здорово! Вы ведь из Югославии? — блеснул проницательностью Комин. — Русские и югославы — братья.
Седой заметно помрачнел, переглянулся со своими приятелями и произнес отчетливо:
— Мы из Косово.
— Так я и говорю! — не унимался Комин. — Косово — это же бывшая Югославия! — Я сильно пнул его под столом, он встрепенулся. — Разве нет? Да неважно, — легко переключился он. — Все люди — братья! Русские, американцы, сербы, хорваты…
При упоминании сербов седой хищно прищурил глаза и заиграл желваками. Мне стало нехорошо, в груди защемило, в висках застучало, я оценил расстояние от выхода до нашей машины и еще больше расстроился.
— Что тебе надо? — зловеще произнес седой.
— Ничего не надо! — Комин невинно улыбнулся и развел руками. — Просто пьем кофе, разговариваем. Small talk, как говорят англичане.
Я толкнул Комина под столом и кивнул на выход. Он помотал головой в ответ — подожди!
— Понимаете, мы только что встречались с одним человеком, он хороший человек, но он поддерживает Народную партию. Вы ведь знаете Народную партию?
— Не понимаю по-русски, — седой опять переключился на английский.
— Окей, — Комин тоже перешел на английский. — Швейцарская Народная партия, ну, вы знаете… Они здорово перегибают палку. Черные овцы, белые овцы. Это глупо! Мы тоже эмигранты. Мой друг живет здесь уже… Сколько ты здесь живешь? — обратился он ко мне.
— Прекрати! — прошипел я.
— Сколько? — не отставал Комин. — Пять лет? Семь?
— Четыре.
— Четыре года! — воскликнул Комин. — И посмотрите на него! Этот нездоровый вид, эти грустные глаза. Похож он на человека, который нашел свое счастье в Швейцарии? Я тоже скитаюсь по свету уже много-много лет. Дома нет, семьи нет. Зато я понял одну вещь! И я ее вам сейчас скажу. Земли обетованной не существует. Ее просто нет! Ни в Швейцарии, ни в Израиле, ни в России, ни в Америке. Нигде! И знаете, это даже Моисей понимал. Тот самый, из Ветхого завета. Он водил свой народ сорок лет по Синайской пустыне, чтобы они тоже это поняли. Он был косноязычный, так в Библии сказано, не мог по-другому объяснить. И люди все поняли неправильно. Поэтому Моисей не стал переходить Иордан. Исчерпал аргументы. Сказал, раз до вас не доходит, тогда, пожалуйста, без меня, лег на землю и умер от огорчения.
За соседним столиком начали шептаться. Седой, которому, должно быть, не хватало знаний английского, наклонился к соседу, тот пересказал ему историю про Моисея. Седому она не понравилась, он сдвинул брови и недобро уставился на Комина.
Комин продолжал, как ни в чем не бывало.
— Искать надо там! — он показал пальцем на облупленный потолок. — Царствие небесное! Почему оно небесным называется, не задумывались? Потому что там счастье для всего человечества. Это я не в религиозном смысле, мировые религии тысячи лет готовили человека к мысли, что ему нет места на земле, а теперь и наука это подтверждает. Все сходится! Одно к одному! И мы с вами, эмигранты, скитальцы, понимаем это лучше других! — Комин сделал паузу, чтобы глотнуть кофе.
Кассир, не теряя сонного вида, сказал что-то по-албански, за соседним столиком засмеялись.
— Что ты продаешь? — сказал седой по-русски.
— Продаю? — удивился Комин. — Ничего не продаю.
— Ты хочешь денег? — спросил седой.
— Нет.
— Что ты хочешь?
— Понимаете, — Комин хотел пододвинуть свой стул ближе к соседнему столику, но один из албанцев выставил ногу и загородил проход. — Окей, — Комин улыбнулся и остался на месте. — Понимаете, я хочу, чтобы вы, чтобы мы все, все люди перестали думать, что можем найти счастье, просто переместившись в страну поприличнее, из Албании в Швейцарию, например.
— Мы из Косово, — напомнил седой.
— Неважно, пусть будет Косово. Или Хорватия. Что угодно!
— Что ты имеешь против Косово? — нахмурился седой.
— Ничего не имею! — воскликнул Комин. — Прекрасное место!
— Это не место, это страна, — лицо седого налилось кровью.
Кассир снова подал голос, что-то неприятное в наш адрес.
Седой тряхнул шевелюрой и сказал по-английски.
— Убирайтесь отсюда! — и добавил по-немецки. — Раус!
— Друзья! Давайте успокоимся! — Комин поднял руки. — Я никого не хотел обидеть! Наоборот!
Седой произнес короткое балканское ругательство. Его приятели начали медленно подниматься из-за стола, один из них взял за горлышко пивную бутылку.
— Я хотел сказать… — начал Комин.
— Бежим! — я схватил Комина за рукав и что было сил потащил к выходу. Стол с грохотом опрокинулся.
Когда я был уже в дверях, в пяти сантиметрах от моей головы, как бомба, грохнула о косяк пивная бутылка, меня осыпало осколками.
Мы со всех ног бросились к машине, впрыгнули в нее и, визжа шинами, рванули с места.
Комин хохотал, как сумасшедший. Я, чертыхаясь, вытряхивал из волос осколки стекла.
— Что ты смеешься, идиот! — заорал я на него. — Они чуть не убили меня!
— Зато ты, наконец, проснулся!
— Иди ты к черту! Чтоб ты провалился со своими идеями! Все люди — братья! Хороши братья! Полюбуйся, кровь! — один осколок больно впился мне в кожу за ухом.
— Они не дали мне договорить! — Комин протянул мне бумажный носовой платок. — Вот провернем с тобой операцию в Базеле, ты увидишь, это будет совсем другое дело!
— Иди к черту со своим Базелем! — невозмутимый тон Комина еще больше взбесил меня. — Спаситель человечества хренов! Дубина! Идиот — вот ты кто! Угробили целый день на то, чтобы послушать сказки про Толстую Матильду! Ты слышал такое слово — «маркетинг»!? Все, чего хочет Амман — продавать свои часы еще дороже. Всё! Вон он и сочинил кучерявую историю, и борьбу с глобализмом приплел. А ты уши развесил! Американцы тебя поматросили, лещенки всякие. Князь Мышкин. Видали? Оставь меня в покое, понял? Не желаю иметь с тобой никаких дел!
Улыбка медленно сползла с лица Комина. Он шмыгнул носом и пожевал губами, словно пережевывал обиду.
— Оставить в покое? — повторил он. — Хорошо.
До самого Цюриха мы не сказали друг другу ни слова.
Католическое рождество и Новый год я собирался встретить с семьей в Копенгагене. В последние дни перед отъездом носился по городу, скупая подарки, спешно доделывал дела. В списке оставшихся дел среди прочего значилось «позвонить Томасу». Для этого звонка, помимо поздравлений с наступающими праздниками, был еще один повод. Старина Томас куда-то запропастился. Я регулярно читал газету «Цюрихзее цайтунг», в которой он работал, и в один прекрасный день вдруг обнаружил, что его фамилия исчезла из редакционного списка на последней полосе. Томас не любил свою работу, гипотетическое увольнение было его любимой темой на протяжении всего нашего знакомства, то он грозился податься в официанты, то собирался уехать в Таиланд или в Сибирь, где, как он думал, можно прожить на два франка в день. Выпустив пар за бокалом пива, Томас тянул ненавистную газетную лямку дальше. И вот — неужели наконец-то решился?
Я набрал номер. Томас обрадовался, услышав мой голос.
— Привет, Володя! Давно собирался позвонить, но сейчас у меня такой период, совершенно нет времени! Выпить кофе? Извини, только после Нового года. Ты не поверишь, нет ни минуты свободной. У меня через десять минут встреча, мы прямо сейчас можем с тобой немного поболтать, — Томас говорил быстро, на бегу, так что я едва успевал вставить слово. — В газете? Нет, не работаю, уволился. Сам уволился. До сих пор не пойму, что я там делал так долго! Дорогой Володя! Я хочу сказать, что я тебе очень благодарен! Очень! За то, что ты взял меня с собой в поездку в Аскону, помнишь? Эта поездка совершенно изменила мою жизнь. Я тогда остался в Асконе, ты помнишь? Я разыскал людей, которые провели эту акцию, ракету в парке, помнишь? Я много с ними разговаривал. Это удивительные, невероятные люди. Есть такое общественное движение, «Кей-френдз», они выступают за то, чтобы все человечество объединилось для общего дела — колонизации космоса. Это потрясающая идея! Такая простая, понятная и очень актуальная! У человечества наконец-то появится коллективная судьба. Я хочу, чтобы моя судьба была общей со всем человечеством, чтобы у меня, в конце концов, просто была судьба! Почему «Кей-френдз»? Алекс Кей, это один американец, он наш лидер. Встречался? Нет, я с ним не встречался. Он недоступен.
Томас сделал короткую паузу, но тут же затараторил вновь.
— Может, для тебя это смешно звучит, но я отношусь к этому очень серьезно. В своей жизни я еще ни к чему не относился так серьезно. Я нашел свое дело, свое место. Мне скоро пятьдесят лет, и это, наконец, произошло! Понимаешь? Я стал членом «Кей-френдз». Там много молодежи, горячие головы, они устраивают какие-то акции, на грани экстремизма — я это не поддерживаю. Я хочу сформировать умеренное, так сказать, консервативное крыло «Кей-френдз». Мы будем издавать книги и журналы, проводить научные конференции, выставки, мы постараемся объединить вокруг себя лучшие умы человечества. Это будет потрясающе, Володя! Я уверен, все получится! Я встречаюсь с людьми, у меня по десять встреч в день, я ищу партнеров, занимаюсь фандрайзингом, собираю деньги. И я уже много собрал! Сам бы не поверил, что мне это удастся! Володя, мы обязательно с тобой встретимся после Нового года, я тебе все расскажу подробно, и ты поймешь, как это здорово! А сейчас, извини, надо бежать…
Я не верил своим ушам.
— Подожди, Томас! Подожди! — я схватил телефонную трубку обеими руками, словно боялся, что она убежит вместе с Томасом. — Что-то ничего не понимаю. Как ты умудрился в это вляпаться, дружище?! Я знаю этих космических колонизаторов… то есть, слышал о них, читал в интернете… Это же дешевая научная фантастика! На уровне комиксов. Как вместе с ними оказался ты? Разумный, взрослый человек!!! Алекс Кей какой-то!.. Кто он такой, этот Алекс Кей?! Почему Алекс Кей?! Почему не Капитан Америка!? Или не Человек-Паук?
Томас кашлянул, голос его стал серьезным, даже строгим:
— Пожалуйста, не надо этой злой иронии, Володя. Я знаю, в наше время почти не осталось моральных авторитетов. Но, слава богу, есть Алекс Кей, я счастлив, что делаю общее дело с таким человеком. Моя жизнь совершенно изменилась после того, как я… — Томас осекся, колеблясь, стоит ли продолжать, наконец, решился. — После того, как я приобщился к его духовным практикам.
— К духовным практикам? — переспросил я.
— Да, — сухо ответил Томас.
— У Алекса Кея есть духовные практики?
— Да.
«Чувство космоса!» — догадался я.
— Знаешь что… — продолжил Томас после короткой паузы, — сегодня вечером будет интересное мероприятие. Предаукционный показ работ в галерее «Слоу Арт». Художники решили пожертвовать часть вырученных средств нашей организации. Я участвую в организации этого показа. Приходи. Спокойно поговорить не удастся. Но минут пять-десять, думаю, найдем. И потом работы действительно интересные. Очень актуальное искусство. Ты должен прийти увидеть это! А сейчас, извини, убегаю! — В трубке раздались гудки.
Мой швейцарский друг Томас никогда прежде не говорил мне, что я должен что-то делать. Свои предпочтения и привязанности — будь то либерализм, пивной бар или любимый писатель, он обычно рекомендовал, или даже не рекомендовал, а предлагал к рассмотрению крайне деликатно: это хорошо, но ни в коем случае не обязательно… На этот раз Томас сказал: «должен прийти!», и я пошел.
С отношением к «актуальному искусству» мне в свое время помог определиться художник Николаев, с которым мы познакомились на посольском приеме еще в бытность мою журналистом.
— Что искусство, а что — нет? Это элементарно, старичок! — говорил он. — Если вещь стоит дороже ста тысяч, значит, искусство, если дешевле, значит, профанация.
Сам Николаев стотысячную планку успешно перевалил. Он тиражировал портреты Ленина кислотной расцветки, городил леса из кремлевских башен. Смотреть на это было больно, однако ж, художественно-арифметические выкладки Николаева оказались полезны в моем часовом бизнесе. Если кто-то из заказчиков спрашивал, почему за тикающую безделушку, даже не украшенную бриллиантами, просят как за роскошный автомобиль, я отвечал: «Понимаете, это не просто часы, это произведение искусства. Воспринимайте это как кинетическую скульптуру у вас на запястье, что-то уровня Дэмиена Херста или Джеффа Кунса». И хотя большинство моих заказчиков смутно представляли себе, кто такие Дэмиен Херст и Джефф Кунс (впрочем, как и я), это работало, и за это я был очень признателен современному искусству.
Галерея «Слоу Арт» делила с десятком других галерей огромное здание бывшего пивзавода на Лимматштрассе. Это можно было принять за нравственный прогресс — искусство вместо пива, если только наблюдать со стороны и не заходить внутрь. Как-то раз я попал здесь на вернисаж, где представляли инсталляцию из мертвых щенков. Щенки были ненастоящие, но сделаны очень правдоподобно. И ажиотаж, помнится, поднялся большой. «Весь Цюрих» пришел посмотреть на несчастных животных. Это была прекрасная возможность встретить нужных людей, которых в других обстоятельствах, без помощи актуального искусства, встретить было очень сложно.
При виде толпы у входа в «Слоу Арт» у меня нехорошо кольнуло внутри: «Неужели опять щенки? Неужели и Томас туда же?». Но нет, обошлось. Проникнув внутрь и бросив беглый взгляд по сторонам, я не обнаружил ничего особо скандального ни на стенах, ни в расставленных повсюду скульптурах. Зато обнаружил Томаса, он что-то объяснял двум важным посетителям в дорогих костюмах. Томас тоже увидел меня и сделал знак, что сейчас освободится и подойдет. Долгожданное обретение судьбы, общей со всем человечеством, пошло на пользу моему Томасу. По крайней мере, внешне. Он как-то весь подобрался, приосанился, приоделся, у него появился яркий шелковый платок, краешком выглядывающий из кармана модного пиджака. Полюбовавшись Томасом, я отправился любоваться актуальным искусством.
Одно из произведений показалось мне довольно любопытным. Это был диптих. Слева — жирная серо-коричневая гусеница, вся в волосках, складках, комках слизи. Справа — симпатичная разноцветная бабочка. В затейливом, тщательно прописанном узоре на огромных крыльях угадывались сплетенные в любовных объятиях человеческие тела. Называлось творение «Космический путь к себе». Перехватив бокал игристого вина, я принялся рассматривать узор.
— Как вы это находите? — услышал я. Повернувшись, увидел рядом даму в изящном красном тюрбане на голове. Дама улыбнулась, приоткрыв ряд безупречных керамических зубов.
Я повременил с ответом, подбирая обтекаемую формулировку.
— Интересно, очень интересно. Только пока не очень понятно, где тут путь и почему он космический…
— Как же?! — дама оживилась. — Гусеница и бабочка! Гусеница — символ земного существования. Она ползает по земле, питается грубой пищей. Ползает-питается-испражняется. — Дама с немецкой серьезностью, без тени смущения, подчеркнуто отчетливо произнесла слово «испражняется». — Такова жизнь гусеницы, ползающий кишечник и ничего более. Бабочка — нечто совершенно другое, это небесное создание, она парит, она пьет нектар, — Дама описала изящную дугу бокалом с вином. — Нектар — сок любви цветов. Она не соприкасается с грязью, лишь с органами размножения цветов. Бабочка — ангел любви. А ведь с точки зрения науки, гусеница и бабочка — один и тот же биологический вид, только на разных стадиях развития. И с человеком это тоже возможно. Тот, кто сегодня гусеница, завтра может стать бабочкой. Это и есть путь. А почему он космический? Потому что в космосе в человеке откроется новое сексуальное измерение. Оно заложено в нас, но пока не открыто. Нужно стараться открыть его, найти космический путь к себе.
«Сколько ей лет? — гадал я, пока дама говорила. — Лицо, зубы, грудь — это понятно, все сделанное. Выдают руки. На поиски нового сексуального измерения тут ушло не менее полувека».
— Вы так увлекательно рассказываете, а не вы ли автор этой картины? — выдал я предположение-комплемент.
— Что вы! — польщенно улыбнулась дама. — Я не художник. Просто я интересуюсь этой темой.
— Космической колонизацией?
— И этим тоже, — немного уклончиво ответила дама, давая понять, что колонизация колонизацией, но узор на крыльях бабочки тут важнее.
— Вы слышали что-нибудь о «друзьях Кея»? — спросил я.
— Конечно, — кивнула дама. — Я им симпатизирую. Поэтому я здесь.
«Ага, вот они какие, коминские сторонники, — подумал я, — вот чего им нужно. Новое сексуальное измерение для тех, кому за пятьдесят. Это многое объясняет».
— А с самим Алексом Кеем вы случайно не встречались?
— Нет, что вы! — всплеснула руками дама. — Алекс Кей живет в Тибете. Он совершенно недоступен.
— В Тибете? — переспросил я.
— Да, его прячут монахи. Алекс Кей, — произнесла дама с придыханием. — Это великий человек. Он как Мандела. Или даже Ганди. Только молодой.
— Надо же! — чуть не вырвалось у меня. — Неделю назад этот молодой Ганди ночевал у меня дома в Рехальпе на диване в гостиной. А теперь он в Тибете, и совершенно недоступен.
Краем глаза я заметил, что Томас освободился, и пока его не перехватили другие посетители, быстро и вежливо извинился перед информированной дамой и поспешил к нему.
Томас сердечно обнял меня:
— Очень рад, что ты пришел! Ты уже успел тут что-то посмотреть? Что-нибудь понравилось? Интересные работы, правда?
Вместе с общечеловеческой судьбой и модным пиджаком флегматичный прежде Томас обрел привычку тараторить.
— Интересно, да, — ответил я. — Кое-что понравилось, да.
— А «Космос внутри» видел? Это моя любимая работа!
— Это про бабочек и гусениц?
— Пойдем, покажу! — он взял меня за локоть и подвел к скульптуре в центре зала. Это был черный зеркальный шар метра полтора в диаметре, в середине шара находилось конусообразное углубление, похожее на воронку. Вся поверхность шара, включая воронку, была усыпана хрустальными стразами. Учитывая размеры и количество страз, цена на аукционе вполне могла перевалить за сто тысяч. По всем признакам перед нами было произведение искусства.
— Что скажешь? — спросил Томас.
Я обошел вокруг скульптуры, заглянул внутрь воронки.
— А нет ли в этом нового сексуального измерения?
Томас сокрушенно покачал головой.
— Ты можешь оставить свой сарказм хотя бы ненадолго? На самом деле, здесь наглядно представлена очень важная вещь. Стань сюда! — он поставил меня прямо напротив воронки. — И смотри туда, внутрь!
Я послушно уставился в искаженное кривым зеркалом собственное отражение среди хрустальных страз.
— Представь, что ты смотришь в ночное звездное небо, но на самом деле ты смотришь в себя. Космос внутри! Понимаешь?
— Понимаю.
— Нет, не понимаешь, — вздохнул Томас.
— Скажи, а ты действительно во все это веришь? — спросил я.
— Во что? — не понял Томас.
— В это! — я обвел рукой вокруг. — В это! — показал я на шар. — В великого и ужасного Алекса Кея, в то, что люди будут жить по пятьсот лет.
— Верю, — ответил Томас. — И очень счастлив, что оказался способен верить. Без веры человек неполноценен. Я хочу сказать это именно тебе, Володя, потому что мы с тобой похожи. Ни в одну идею невозможно поверить, если рассматривать ее под микроскопом, если дать волю своему сарказму, цинизму, скепсису. В один прекрасный день нужно просто открыть свое сердце. Нужно посмотреть в звездное небо, посмотреть в себя. Это очень просто, и это большое счастье! А теперь извини, много дел.
Томас хлопнул меня по плечу и исчез. Я остался стоять перед черной зеркальной воронкой. Заглянуть внутрь больше не решился. Я знал, что увижу.
В Копенгагене мы с дочкой нашли себе увлекательное занятие. Каждый день садились на велосипеды и ехали в Северную Гавань. Все дни напролет лил дождь, иногда с мокрым снегом, и дул пронизывающий ветер, такой, что с велосипедом приходилось управляться, как с яхтой. Ехать против ветра нужно было галсами, контролировать скорость при попутном ветре и остерегаться коварных боковых порывов. Самим датчанам, неразлучным со своими велосипедами круглый год, типичная рождественская погода, кажется, не доставляла совершенно никаких неудобств. Нас то и дело обгоняли бравые молодые мамаши с притороченными позади маленькими детьми, бодрые старички и старушки, пренебрегавшие шапками даже под проливным дождем. Настя в велосипедном потоке чувствовала себя, как рыба в воде, а я, упакованный в непромокаемую куртку с наглухо застегнутым капюшоном, первые дни ездил осторожно, чуть ли не ощупью, но потом освоился и в конце концов решил, что лучшего городского транспорта придумать невозможно.
Первую остановку мы делали у большого щита, установленного на въезде в Северную Гавань. В верхней части щита было написано «Список кораблей».
— Смотри-ка, как у Гомера! — поразился я, когда первый раз увидел этот щит. — Вы «Илиаду» в школе проходили уже?
Настя отрицательно покачала головой.
— А про Троянскую войну слышала? Одиссей, он же Улисс, знаешь такого?
— Нет, а кто это?
— Человек, который очень долго возвращался домой. Как-нибудь расскажу тебе, — пообещал я.
А «Список кораблей» был действительно списком кораблей, не больше и не меньше. На конец декабря приходился пик круизного сезона, огромные лайнеры каждый день заходили в Копенгаген и отправлялись дальше по Северному морю. Я читал список: что у нас сегодня? «Коста Луминоза» ушла, зато появилась «Эмеральд Принсесс»! Вон она, красавица! Над приземистыми пакгаузами возвышалась белоснежная громада лайнера с голубыми панорамными стеклами, словно за ночь в гавани построили новый небоскреб. Налегая на педали, мы мчались к дальнему причалу на свидание с невыразимо прекрасной «Изумрудной принцессой». Останавливались рядом, стояли и смотрели. Внимательно, палуба за палубой рассматривали надстройку, мачты и такелаж, антенны, шлюпки вдоль бортов. Я рассказывал о назначении разных морских штук все, что помнил сам.
— Смотри, вон там, наверху, капитанский мостик. А эти пристройки по бокам называются крылья. Крылья капитанского мостика. Правда, похоже на крылья?
Настя молча кивала. Крылья «Эмеральд Принсесс» выдавались далеко в стороны от надстройки и нависали над бортами на добрый десяток метров на головокружительной высоте.
— Капитану удобно следить за швартовкой, — объяснял я. — А сам мостик до чего ж огромный! По нему на велосипеде можно ездить. Корма выглядит тяжеловато, впрочем, так у большинства лайнеров, зато передняя часть, линия носа — загляденье! Легкая, стремительная, видишь?
Настя кивала. Мы наблюдали за будничной возней команды, люди в рабочей морской форме грузили ящики, переговаривались по рации, спорили друг с другом, смеялись, курили. Я рассказывал, у кого из экипажа какие обязанности на берегу и в море. Рассказывал о своих учебных рейсах, их было всего три, но всяких связанных с ними историй хватило бы на целую книгу. Рассказывал, рассказывал, потеряв счет времени. Настя слушала. Я боялся, что она спросит, почему же я бросил океанологию и стал… стал тем, кем стал. Но она не спрашивала. Она вообще почти не разговаривала, ни со мной, ни с матерью. Такой возраст, объяснила жена. Тем более удивительными выглядели наши поездки в Гавань. Может, она это из вежливости делает? — поначалу предположил я, — может, ей на самом деле скучно? — Наша дочь ничего из вежливости не делает, — успокоила меня жена, — ездит, потому что ей любопытно, что за диковина такая — отец, которого она видит два дня в году.
Вечером, отправив Настю спать, мы с женой пили вино под приглушенное бормотание датского телевидения. Она рассказывала о своих неприятностях на работе. Ее компания закрывает завод в Финляндии, производство стало недостаточно рентабельным. Завод в маленьком городке посреди лапландских болот. Несколько сот человек останутся без работы, и без шансов найти другую работу в этих забытых богом краях. Всем им будет предложен социальный пакет — пособия, какие-то душеспасительные курсы, но в конечном итоге, для тех, кто не сможет уехать, останется лишь лесная глушь и алкоголь. «Ещё несколько сотен рекрутов для космической колонизации», — подумал я. Жена сильно переживала. Она ездила несколько раз в этот городок, встречалась с работниками, видела их глаза. Для них она была виновницей их настоящих и будущих несчастий, посланницей сил зла. Жена должна была объяснить этим людям, что компания, которая тратит сотни миллионов долларов на телевизионную рекламу, на организацию конференций для руководителей на самых дорогих курортах, на лимузины и частные самолеты, на жирные бонусы и «золотые парашюты», не может смириться с падением прибыли от их заводика. Они работали хорошо, честно, на совесть, но мировая экономическая конъюнктура так сложилась, и ничего тут не поделаешь. Моя умная жена должна была найти для этого правильные слова. Этому она училась в школе маркетинга и коммуникаций, одной из лучших в мире. Сейчас она сидела передо мной со слезами на глазах, растерянная и подавленная, и все, чем я мог ей помочь — сказать, что все будет хорошо. Даже поцеловать не мог. Мы не жили вместе уже два года, во всех смыслах не жили вместе. Ее внезапно свалившаяся датская работа была на самом деле лишь поводом, чтобы повременить с разводом, возможностью мирно разъехаться в разные концы Европы, не сильно травмируя Настю. В глазах дочери и большинства знакомых мы по-прежнему были семьей, разделенной волей обстоятельств. Иногда мы и сами чересчур увлекались этой инсценировкой. Жена, помнится, один раз обронила фразу: «вот если бы у нас был второй ребенок…», сказала это так, словно это действительно могло с нами еще случиться. Но тут же сама спохватилась, быстро перевела разговор на другую тему и больше никогда об этом не упоминала.
Жена ушла в спальню, в моем распоряжении был диван. Спать не хотелось. Я лежал на диване и смотрел, как в окне качается от ветра фонарь. Небо черное, в Копенгагене почти никогда не видно звезд.
Вспомнился Томас. «Космос внутри». «Смотреть нужно в себя». Закрыл глаза, попытался представить себе звездное небо. Но не представил, а вспомнил его. Вспомнил звездное небо над артиллерийским полигоном под Выборгом осенью 1986 года. Вспомнил, как шагал под этим небом в рваных сапогах, в портянках хлюпала вода, а я был оглушительно счастлив. За всю мою жизнь это случалось, может быть, всего три или четыре раза, когда я отчетливо, с полной ясностью сознавал, что счастлив. Не мимолетно, не случайно, не ускользающе, и не тихо, по-семейному, а пронзительно счастлив, счастье мое было громадным и прочным, как мост, оно могло выдержать всех людей, которые меня окружали. И настигало такое счастье меня почему-то все больше в странных и совсем не приспособленных для этого местах. В Советской армии, например, куда я попал после первого курса института. В стране разразился лютый демографический кризис, отголосок войны, и почти всех юношей 1967 года рождения забрали в армию — студентов, не студентов, всех годных к службе. Я попал в учебную часть под Ленинградом, где мне предстояло провести два года удивительной жизни, не похожей ни на предыдущую, ни на последующую. Мне эту жизнь выдали будто с чужого плеча, как шинель, и не взять было нельзя — всем выдали. Мы кидали железными кружками в крыс в столовой, воровали лопаты, убирали снег лыжами, потому что наши лопаты тоже кто-то своровал, мыли асфальт тряпками к приезду командования, мерзли, дрались, пили одеколон, ходили гусиным шагом, заставляли ходить гусиным шагом других. Нет ничего хорошего в том, чтобы оказаться действующим лицом в анекдоте про армию. И осенью 1986 года все было из рук вон плохо. Я был сержантом, заместителем командира взвода. Во взводе весеннего призыва на тридцать человек — десять национальностей. Азербайджанцы из аулов, бакинские армяне, кумыки, лакцы, грузины, узбеки, пяток русских. Был даже один ассириец по имени Гамлет. В течение шести месяцев они должны были выучиться на сержантов, то есть запомнить несколько десятков русских слов, научиться ходить строем, рефлекторно тыкать указкой в страны Варшавского договора на политической карте мира, а затем отправиться дальше в войска. Когда эта братия первый раз построилась в казарме, старшина батареи злорадно шепнул мне: «Вешайся!».
Командиром взвода был лейтенант Сальцев, спортсмен, позёр и искрометный, изобретательный садист. У него была молодая жена и множество дел за пределами части, поэтому свои редкие появления перед личным составом он обставлял в духе казней египетских. Одна из казней называлась зловещим словом «кунг». К нам был приписан грузовик с кузовом-кунгом, в котором находился громоздкий электронный тренажер для имитации пусков противотанковых ракет. Тренажер не работал — никогда. Вообще, мы ничтожно мало занимались своей армейской специальностью — этими самыми ракетами. Я не мог этого понять, пока Сальцев не объяснил, что время жизни расчета передвижной ракетной установки на поле боя — десять секунд после пуска первой ракеты. Ровно столько нужно противнику, чтобы засечь пуск и уничтожить расчет. Убегать, прятаться бесполезно. Привел установку в боевое положение, развернул в сторону вражеских танков, нажал кнопку, сосчитал до десяти — всё. Война окончена. Осознав это, я перестал удивляться многим вещам в окружающей меня армейской действительности. Например, тому, что грузовик с тренажером использовался просто как грузовик, чтобы ездить на полигон и обратно. Так как мертвый тренажер занимал собой больше половины объема кунга, поместиться в нем с минимальным комфортом могли человек десять. Нас было тридцать. Тридцать человек тоже могли поместиться в кунге, если расположиться друг на друге и занять собой все причудливые просветы между частями тренажера и стенками. Погрузка всегда сопровождалась криками, руганью, обменом тумаками, и занимала несколько минут. Сальцев решил сократить время погрузки до десяти секунд (эти сакральные десять секунд, должно быть, тоже крепко сидели в его голове). Каждый день взвод выстраивался перед грузовиком, следовала команда «по машинам!», а через десять секунд «отставить!». Много дней, раз за разом, невзирая на разбитые носы и синяки. Сальцев безмерно гордился своим изобретением, он считал, что это упражнение укрепляет дисциплину, сплоченность и поднимает боевой дух. Когда желаемые десять секунд были достигнуты, Сальцев придумал новое упражнение. Расстояние от казарм до полигона составляло пять километров. Он ехал в кабине грузовика, взвод бежал следом. Каждые пятьсот метров грузовик притормаживал, и два первых солдата могли запрыгнуть в кузов, через пятьсот метров еще два, и так далее. Если кто-то сильно отставал, грузовик разворачивался, возвращался, и все начиналось заново. Так прошло лето, а к осени, когда полк выезжал на трехнедельные стрельбы в леса под Выборгом, у большинства солдат шок первых армейских месяцев сменился стойкой ненавистью к офицерам, сержантам и курсантам других национальностей. Старослужащие земляки из батальона обеспечения успели объяснить каждому, как грамотно косить от службы, что на гауптвахту не сажают, потому что это портит статистику, бить до крови сержантам запрещает замполит, что над замполитом батареи есть еще замполит дивизиона, который с ним в контрах и охотно выслушивает все жалобы. И как правильно произносить матерную версию фразы «мне все равно», чтобы она звучала убедительно и нагло, как выстрелившая из бутылки пробка.
На осенние стрельбы от взвода поехали пятнадцать человек, самых худших. Тех, что попокладистей, старшина батареи оставил в части — нести караульную службу и ходить в наряды, те, что поумней, укрылись в медсанчасти.
Эти пятнадцать человек промозглым сентябрьским утром выгрузились из «кунга» на краю полигона, разобрали лопаты, топоры и пилы и построились кривой шеренгой. Грязные, оборванные, за две недели жизни в палатках принявшие совершенно дикий вид.
— Гвардейцы! — высокопарно начал Сальцев. — Перед нашим героическим взводом поставлена важная стратегическая задача — предотвратить затопление командно-наблюдательного пункта. Вот этого самого. — Он указал на укрытое маскировочной сеткой сооружение в сотне метров от нас. — Все вы знаете, что через три дня начнутся итоговые стрельбы, прибудет комиссия из округа, а на командном пункте сыро, вода, понимаешь. Генералы и полковники этого не любят. Чтобы они смогли оценить высочайший уровень боевой и политической подготовки нашего полка, на командном пункте воды быть не должно. На передний край борьбы с этим природным явлением и выдвинут наш взвод. Наша задача — прокопать ров вдоль тыльной части командного пункта глубиной не меньше метра и шириной не меньше двух метров для сбора этой гадской воды. А именно — отсюда сюда, — Сальцев воткнул одну лопату в начале будущего рва, другую в конце, на приличном расстоянии. — Срок исполнения — один день. То есть пока не прокапаете, никто отсюда не уйдет! Задача ясна?
Все хмуро разглядывали воткнутые лопаты.
— Не слышу! — Сальцев хищно сузил глаза. — Задача ясна?
— Так точно, — раздался нестройный хор голосов.
— Выполнять! — рявкнул Сальцев, запрыгнул в грузовик и укатил на политзанятия для офицеров.
Курсанты дружно расселись на заросшие мхом кочки и закурили.
— Обед-то нам сюда, что ли, привезут? — спросил один.
— Привезут, — протянул кто-то в ответ.
— Это хорошо. Когда привозят, всегда больше получается.
Завязался разговор о еде.
Докурив свою сигарету, я скомандовал:
— Становись!
Начали нехотя подниматься. Азербайджанец Алиев и два его земляка остались сидеть.
— Алиев, была команда «становись», — сказал я.
— Не могу, товарищ сержант, нога болит, спина болит, — Алиев осклабился.
— Встать! — за год службы я научился выкрикивать эту команду с правильной угрожающей интонацией.
Алиев медленно поднялся, его земляки тоже.
— Копать не буду, — он взялся за спину. — Не могу.
— Мало по нарядам шуршал, еще захотелось?
Алиев издал пробочный звук, означающий «мне все равно». Его дружки нагло заулыбались, за лопаты они так и не взялись.
Земля сочилась влагой через толстый слой дерна. Любая выкопанная яма моментально заполнялась водой. В тыл командному пункту зашло болото и, наверное, уже много лет вело медленное, но неотвратимое наступление. Толку в нашем рве не будет никакого, это стало ясно после первых ударов лопатами в пропитанный водой грунт. Зато начальство подстрахуется. Меры были приняты, вот ров.
Копали вяло, я не подгонял. Сам тоже взялся за лопату, хотя по заведенному порядку не должен был, хотелось согреться и отвлечься от невеселых мыслей. Угнетала не абсурдность затеи с дурацким рвом. Вся армия — абсурд, если вспомнить те самые десять секунд. Ракетный расчет — десять секунд, танк, говорят, две минуты, а такой командный пункт сколько? Час? Какая разница, сухие будут ноги у генералов или мокрые. Угнетало то, что ноги были мокрые у меня. Прохудились сапоги. Починить негде, новые взять неоткуда. Нужно ждать до возвращения в казармы. А если пойдут дожди?
Ко мне подошел Балаян, носатый бакинский армянин, самый старший во взводе. Он загремел в армию в двадцать три года, а выглядел на все тридцать.
— Товарищ сержант, — начал он вкрадчиво. — Давай Алиеву этому несчастный случай сделаем. Вон то бревно на него упадет. Достал он уже, слушай…
— Отставить, Балаян, — сказал я, продолжая копать.
— Совсем он оборзел, — не унимался Балаян. — Ты копаешь, я копаю, он не копает! Ты не бойся, мы с Копысовым все чики-пики сделаем, бревно само упадет, вот увидишь.
— Балаян, отставить! — повторил я тверже. — Вернись на место!
— Вах! — махнул рукой Балаян и добавил армянское ругательство. На место он не вернулся, отошел в сторону и уселся на кочке. Тут же к нему присоединился Копысов.
— Перекур бы, товарищ сержант! — раздался чей-то голос.
— Перекур, — объявил я.
Нашел сухое место, скинул бушлат, сел, повернувшись спиной к взводу, чтобы никого из них не видеть. Осень выдалась роскошной — сухой, прозрачной, душистой. В воздухе летали паутинки, пахло грибами, откуда-то тянуло дымком. А тут ров, Алиев скалится, и сапоги течь дали. Закрыл глаза в надежде задремать.
Задремать не вышло.
— Товарищ сержант!
Открыл глаза, передо мной Мухаметдинов, узбек.
— Товарищ сержант! — нараспев произнес Мухаметдинов. — Кабаев говорит, неправильно копаем.
— Какой Кабаев? — не понял я.
— Вот этот Кабаев! — высокий Мухаметдинов сделал шаг в сторону и вытолкнул у себя из-за спины маленького Кабаева, который пытался за него спрятаться. Кабаев был самым незаметным курсантом во взводе, щуплый, с цыплячьей шеей. Алиев с кавказскими дружками давно бы сжили его со свету, но узбеки своих в обиду не давали. По-русски он говорил очень плохо, на глаза старался не попадаться.
— Вот как! — удивился я. — Интересно. А как надо правильно копать?
— Там! — Мухаметдинов показал в сторону хилой рощицы. — Там есть вода, надо там одна канава в другая копать, тогда здесь вода уйдет. Мы сейчас посмотрели. Точно тебе говорю.
— Это Кабаев так сказал?
— Так точно! — радостно кивнул Мухаметдинов.
— А ты слышал, что лейтенант Сальцев сказал? Копать отсюда и досюда. Это приказ, Мухаметдинов. А приказы, как ты, наверное, успел заметить, не обсуждаются.
— Ээ, товарищ сержант, — пропел Мухаметдинов. — Здесь вода не уйдет, там уйдет! Кабаев сказал!
— Да кто такой этот Кабаев!?
— Вот он! — Мухаметдинов снова вытолкнул Кабаева вперед.
— Я знаю, что это он! Откуда он может знать, где копать, где не копать?
— Он в техникуме учился, — сообщил Мухаметдинов не без гордости. — Эээ… — он подтолкнул Кабаева локтем.
— Мелиорация, — еле слышно произнес Кабаев.
— Мелиорация! — торжественно повторил Мухаметдинов.
Я вспомнил, что и вправду что-то такое видел в анкете Кабаева. Техникум. Мелиорация. Но к чему эта мелиорация здесь? Узбеки тоже нашли повод, чтобы не копать? Если они не будут копать, кто же остается? Я и белорус Березка?
— Ну, пойдем, посмотрим, — я поднялся на ноги. Нужно было выиграть время, чтобы придумать, как без лишних угроз вернуть узбеков к работе. Угрозы нужно расходовать экономно, это я уже успел понять.
Сразу за рощицей обнаружилось небольшое болото. Вполне возможно, что вода к командному пункту подбиралась именно отсюда. Кабаев оживился, принялся жестикулировать и быстро говорить по-узбекски, изредка вставляя русские слова. Я разобрал два — «туда» и «сюда». Мухаметдинов помогал с переводом.
По другую сторону от болотца был небольшой заросший овраг, который тянулся далеко в обход командного пункта. Кабаев предлагал прокопать ров от болотца к оврагу и спустить в него воду. Предложение выглядело дельным, даже на взгляд человека без специального образования.
Остальные курсанты взвода тоже подтянулись к болотцу. Даже Алиев превозмог боль в спине, любопытство оказалось сильнее. Все с интересом наблюдали за пантомимой Кабаева и разъяснениями Мухаметдинова. Кабаев совершенно преобразился, глаза его загорелись, голос звучал уверенно и звонко.
— Тут и тут копать, тут палками крепко сделать, эти дерева нарубил, палки сделал, как стенка. Копать готово, стенка убрал, туда вода уйдет, всё. — Для убедительности Мухаметдинов добавил в конце русское нецензурное слово и замолчал, глядя на меня. И Кабаев смотрел на меня, и все остальные.
А меня будто что-то подхлестнуло.
— Хорошо! — неожиданно для себя самого сказал я. — Давайте копать здесь.
Курсанты загудели, те, что из Средней Азии — одобрительно, Кавказ и Закавказье — недоуменно.
— Э, товарищ сержант, — подал голос Балаян. — Лейтенант Сальцев придет, увидит, там ямы нет, всем сыктым сделает.
Это было правомерное замечание. Все снова посмотрели на меня. Я подумал немножко и сказал то, что давно хотел сказать.
— Понимаешь, Балаян, мы с тобой в армии. Потому что мы мужчины. Кто тут будет служить, если не мы. Женщины? Моя сестра? Твоя жена? — Балаян ухмыльнулся и отрицательно покачал головой. — А раз мы служим, то должны делать много чего ненужного, идиотского, потому что армия такая, другой нет. Хочешь, не хочешь, два года жизни ты должен потратить. Можно махнуть рукой и превратиться на два года в строевую скотину, а можно оставаться человеком. Всегда есть выбор. Если можешь сделать что-то человеческое, нужно просто это сделать. Только и всего. Вот ты, Балаян, взрослый грамотный мужик, ты понимаешь, что Кабаев дело предлагает. Вода уйдет. Генералы тоже люди, среди них нормальные мужики попадаются. Пусть у них там сухо будет. Это мы сейчас сделаем. Никто нам спасибо не скажет, но мы сделаем. Потому что это по-людски. А сыктым, конечно, возможен. Он всегда возможен, при любых обстоятельствах, на то она и армия. Уловил мою мысль?
Балаян поцокал губами, потом аккуратно взял двумя пальцами пилотку и сдвинул ее на лоб:
— Так точно, товарищ сержант, уловил. Эй, Кабаев, — крикнул он, — мелиоратор-шмелиоратор! Говори, куда копать!
Работа закипела на удивление споро. Четыре курсанта отправились в рощицу нарубить палок для укрепления берегов и строительства плотины. Кабаев задумал прокопать канал всухую, а потом пустить воду. Земля по эту сторону болота была не такой сырой, как у командного пункта, но копать было сложнее из-за корней. Приходилось то и дело пускать в ход топоры. Дело продвигалось медленно, хотя работали дружно. Не хватало рук. Алиев и еще двое азербайджанцев сидели в стороне, посмеиваясь и переговариваясь между собой. У всех у них «болела спина». Я объявил им по два наряда, что вызвало лишь кривые ухмылки и от «спины» не помогло. Кабаев метался, как угорелый, подсказывая жестами, кому и что делать, сам хватался то за топор, то за лопату. В конце концов не выдержал, подлетел к азербайджанцам и заверещал срывающимся голосом на каком-то из среднеазиатских языков. Ухмылочка сползла с лица Алиева, он побагровел, вскочил с места и выкрикнул что-то по-азербайджански. За Кабаева вступился Мухаметдинов. Страсти накалялись, я совершенно не понимал, о чем речь, и уже начал думать, что пора вмешаться, пока не началась потасовка. Останавливало меня лишь то, что приятели Алиева помалкивали. Потом один из них взял Алиева за плечо и начал что-то ему говорить. Алиев стряхнул руку с плеча и заорал на земляка. Тот вспыхнул и заорал в ответ. К спору присоединился третий. Азербайджанский язык устроен таким образом, что любой разговор на повышенных тонах выглядит как жестокая ссора, за которой немедленно должно последовать убийство. Работа замерла, все наслаждались зрелищем. Кончилось тем, что приятели Алиева взяли лопаты и отправились копать. Но маленький Кабаев на этом не успокоился, он подошел к Алиеву и протянул лопату ему. С невозмутимым, непроницаемым видом, напускать на себя который способны только восточные люди. Алиев изверг еще одно шипящее ругательство, но лопату взял и встал в один ряд со всеми. Самое поразительное, что он оказался лучшим работником. Этого детину природа наградила невероятной силищей. Не зная усталости, голыми руками он выдирал из земли сплетенья корней, копал, как заведенный, со звоном загоняя штык лопаты целиком в неподатливую землю, копал, рыча от удовольствия, словно наверстывал упущенное за несколько месяцев сачкования.
Что и говорить, канал удался нам на славу. Вода ушла из болота. Приехавший вечером лейтенант Сальцев так удивился, что даже не смог сходу придумать подходящей казни. Все, на что хватило его фантазии — отправить обратно грузовик порожняком, а нам устроить марш-бросок до лагеря. И это было даже к лучшему, потому что иначе я не увидел бы такого роскошного звездного неба. И не испытал бы приступа оглушительного счастья.
Через месяц после стрельб, когда пришло время отправки в войска, мы расставались друзьями. Алиев до хруста жал мою руку, а Балаян сказал: «Ты хороший человек, товарищ сержант». Потом еще долго переписывались со всеми, кто умел писать по-русски. Я до сих пор вспоминаю этот взвод. Если меня кто-нибудь спросит: «Чего ты добился в жизни, Завертаев?», я отвечу: «Бакинский армянин Балаян назвал меня хорошим человеком». А это, черт возьми, немало.
В январе, начиная с первых чисел и до Старого Нового года, Цюрих превращается в русский город. На Банхофштрасе сплошь родные скифские лица, в бутиках говорят только по-русски, в барах заказывают «хандред-грамс-оф-коньяк-плиз». Для меня это самая горячая пора. Сбор урожая. Время пролетает стремительно, в кутерьме, не оставляя ни воспоминаний, ни примет, лишь мельтешение циферок на банковском счете.
В начале февраля позвонил Лещенко. Он свое слово держал, клиенты от него поступали регулярно и, как мне казалось, он имел в этом деле свой интерес.
— Нужен «Патек Калатрава» в белом золоте, — Лещенко без предисловий сразу перешел к делу. — Для одного очень серьезного ценителя. Часы нужны к 23 февраля, это подарок. У дилеров на эту модель очередь, лист ожидания на несколько месяцев. Сможешь поспособствовать, чтобы как-нибудь побыстрее, без очереди?
— Посмотрю, что можно сделать. Дай мне пару дней.
— Посмотри, будь ласков. Человек действительно очень серьезный. Родина тебя не забудет.
Я собирался уже дать отбой.
— Да, кстати! — раздалось в трубке. — Дружок твой Комин в больницу попал.
— Что случилось?
— Нашли его в гостинице, в ванной, с вскрытыми венами.
У меня похолодело внутри. Вопрос «живой?» застрял в горле.
— Да, жив, жив. Откачали, — предугадал Лещенко. — Посольские туда звонили, идет на поправку.
— Где он?
— У вас в Цюрихе, в Университетском госпитале.
— Когда это случилось?
— На прошлой неделе, в субботу. Горничная зашла в номер прибраться, ну, и обнаружила. Повезло, считай.
— Но что случилось? Почему он это сделал?
— Ну, это ж дело такое… — вздохнул Лещенко. — Переживал он очень, из-за аргентинцев этих, которые погибли. Инцидент с вертолетом в Антарктиде. Слышал?
— Я тут закрутился…
— Ты же журналист, в курсе должен быть, — Лещенко не мог отказать себе в удовольствии лишний раз кольнуть меня. — Аргентинский военный вертолет упал в Антарктиде на прошлой неделе. Шесть человек погибло. Есть несколько версий. Одна из них — рядом был американский вертолет и спровоцировал крушение, а может, просто техническая неисправность. Сейчас разбираются. У американцев с аргентинцами трения большие по поводу Антарктиды, пока без стрельбы, но, видишь, уже с жертвами. А Комин очень близко к сердцу это принял. Он же тоже, так сказать, поспособствовал, чтобы американцы в Антарктиде оказались. Пунктик у него есть, по поводу жертв. Ты знаешь. В общем, не выдержали нервы.
— Как он сейчас?
— Вроде нормально. Выписывают скоро. Ты бы сходил к нему.
— Конечно! Я прямо сейчас…
— Только он там под другой фамилией. Ну, ты понимаешь… Попов. Александр Попов.
Сразу же после разговора я помчался в Университетский госпиталь. Девушка из регистратуры, пощелкав клавишами компьютера, сообщила:
— Герр Попов у нас был, вчера его перевели в клинику доктора Бишофбергера.
— А что это за клиника?
Девушка взглянула на меня поверх модных очков, снова застучала клавишами и написала на клочке бумаги адрес и телефон.
Я позвонил, представился близким другом «герра Попова». Приезжайте до пяти часов, ответили мне.
Клиника занимала первый этаж в безликой бетонной коробке на окраине Цюриха, в районе Хёнг. На белых стенах — живопись из супермаркета, кулер с питьевой водой. Медсестра из-за стойки выдала мне анкету. «Заполните, пожалуйста. В комнате ожидания вам будет удобнее». Я прошел в пустую комнату, устроился в кресле, начал заполнять анкету — имя, адрес… Едва закончил, в комнату вошел высокий мужчина лет пятидесяти.
— Герр Завертаев? Я доктор Бишофбергер. — Он крепко пожал мне руку. — Вы хотите видеть герра Попова? Не могли бы мы прежде коротко переговорить? Прошу в мой кабинет!
Бишофбергер зашагал по коридору, размашисто и твердо, распахнул передо мной дверь. В скучно обставленном кабинете мне бросилась в глаза кушетка, такая, как в фильмах о психоаналитиках.
— Располагайтесь, — Бишофбергер указал на стул перед столом. — Кофе?
Я отказался. Доктор сел за стол, вытащил из папки лист бумаги, пробежал его глазами. На запястье у него я разглядел дорогую модель часов IWC.
— Александр Попов, — произнес Бишофбергер. — Интересный случай, — он положил листок на стол. — Профиль нашей клиники — психологическая реабилитация клиентов, склонных к самоубийству. У нас есть собственная методика, которую мы успешно применяем уже много лет. Клиника небольшая, мы не имеем возможности помочь всем нуждающимся, но случай Александра Попова показался мне интересным. Кстати, кем он вам приходится? Родственник? Друг?
— Друг, — ответил я.
— Прекрасно! — Бишофбергер удовлетворенно кивнул. Я перевел взгляд на его часы. «Большой лётный хронограф — странный выбор для психиатра, — подумал я. — Пилот-любитель? А может, и не любитель…».
— Я уверен, что в случае герра Попова наша методика сработает так, как нужно, — продолжил Бишофбергер, — но нам было бы полезно иметь кое-какую дополнительную информацию о нем. Вы не возражаете, если я задам вам несколько вопросов?
— Конечно, пожалуйста, — я внутренне напрягся.
— Когда вы виделись с Александром последний раз?
— В декабре, кажется.
— Он выглядел расстроенным или угнетенным?
— Нет! Наоборот! Он был очень энергичным, много шутил…
— А вообще, он не был склонен к депрессии или, может, к резким переменам настроения?
— Нет, не замечал.
— А чем он занимался? У нас довольно противоречивая информация на этот счет.
Я задумался.
— Не могу сказать точно, — ответил я. — Мы с ним вместе учились в университете, потом упустили друг друга из виду на двадцать лет. Встретились недавно, можно сказать, случайно.
— А что он делал эти двадцать лет, он вам рассказал?
— Работал, — я пожал плечами. — Что-то связанное с наукой. Я не знаю подробностей. Я уже сказал, что мы не виделись с университета. Поэтому больше вспоминали студенческие годы, друзей… о работе почти не говорили.
— Вспоминали друзей… — повторил Бишофбергер. — А вам известно, с кем еще общался герр Попов в последнее время? Нам важно знать, что за люди его окружали, чтобы понять причину его поступка.
— Нет, — твердо ответил я. — Не имею понятия.
— Может, он называл какие-то имена? Упоминал кого-нибудь? — Бишофбергер непринужденно поигрывал ручкой, но не спускал с меня глаз.
— Нет. Не припомню.
Он сухо кивнул.
— Хорошо! Спасибо вам, герр Завертаев. Медсестра проводит вас в комнату герра Попова.
При виде Комина у меня перехватило дыхание от жалости. Его было не узнать, словно меня и вправду по ошибке привели к некоему Попову, изможденному человеку с серой кожей, тусклым взглядом и перебинтованными запястьями поверх одеяла. Он лежал на кровати в стерильной комнате, где из обстановки был еще стул, несколько картинок с цветами и видеокамера под потолком. Комин посмотрел на меня, бескровные губы скривились, но глаза так и остались тусклыми. Медсестра показала мне кнопку рядом с кроватью, которую нужно нажать, если срочно понадобится помощь, и беззвучно прикрыла за собой дверь.
— Привет! — сказал я, присаживаясь на стул.
Комин лежал, уставившись в одну точку, никак не реагируя на мои притворно-бодрые восклицания о том, что все наладится и жизнь продолжается. В конце концов мне самому это надоело, я покосился на видеокамеру, наклонился и прошептал ему на ухо: «Я заберу тебя отсюда, Саня. Обещаю». Бескровные губы шевельнулись в ответ.
Выйдя от Комина, я снова направился в кабинет к Бишофбергеру.
— Могу я забрать его к себе домой? — выпалил я с порога. — У меня дома ему будет лучше. Никакого стресса, полный покой, дружеское внимание…
— К сожалению, нет, — спокойно ответил Бишофбергер. — Сначала мы должны закончить курс лечения, лишь после этого можно будет говорить о дальнейших действиях.
— Если нужно делать какие-то уколы, я могу организовать медсестру, — не сдавался я. — Я могу привозить его каждый день сюда, в конце концов…
— Сначала закончить курс, — с нажимом повторил Бишофбергер.
Выйдя из клиники, я не сразу сел в машину. Решил немного пройтись, собраться с мыслями. Одна из мыслей была особенно неприятной, склизкая и холодная, как мертвая рыба — я виноват в том, что случилось с Коминым, я предал его. Это вертолет! Аргентинский вертолет! — пытался я вытолкнуть рыбу из своего сознания, но она лишь перекатывалась с боку на бок, холод от нее пробирал до желудка. «Бишофбергер этот — подозрительный тип, никакой он не доктор». Я оглянулся по сторонам. Напротив клиники припаркована машина, серый «ситроен». В ней сидел человек. «Почему он не едет? Чего ждет? Следит? За мной следят?». Я почувствовал, как на лбу выступил холодный пот. Спокойно! — я несколько раз сжал и разжал кулаки. — Без эмоций. Я должен вытащить Комина из клиники. Я должен сделать это! — мертвая рыба скользнула в никуда. — И мне нужен Томас! — добавил я про себя.
К счастью, Томас сразу же взял трубку и легко согласился на встречу.
— Почему у тебя такой голос? Что-то случилось? — поинтересовался он.
— Случилось, — ответил я. — Давай встретимся там, где мы слушали джаз прошлым летом, дуэт из Англии, ты еще сказал, что один из них похож на твоего кузена.
— На Ри… — начал было Томас.
— Да! — быстро перебил его я. — Больше ни слова, встретимся там через сорок минут.
Я сел в машину, медленно тронулся. В зеркало заднего вида заметил, что «ситроен» остался неподвижным, человек в нем говорил по телефону.
— Хрен-то у вас что получится! — вслух сказал я.
Мой план был прост и изящен. Доехать до Централа, там оставить машину и пересесть на фуникулер до Риги-блик. Причем заскочить в фуникулер в последнюю секунду, чтобы отсечь возможных преследователей. На машине догнать ползущий в гору фуникулер невозможно, параллельной дороги нет. Организовать вертолет они вряд ли успеют.
— Хрен-то у вас что получится! — повторил я, довольный своим хитроумием.
Томас поджидал меня у входа в кафе. Мы пожали друг другу руки, и я сразу же увлек его прочь от кафе, в боковую аллею парка.
— Извини, Томас, мало времени, — сказал я. — Я сразу начну с главного, а ты слушай. — Я оглянулся по сторонам, аллея была пустынной. — Алекс Кей, лидер «Кей френдз», его настоящее имя Александр Комин, это мой друг, мы вместе учились в университете.
— Я начинал догадываться, — сказал Томас. — Еще тогда в Асконе, в парке Монте Верита…
— Да, да, — торопливо перебил его я. — Комин попал в большую беду. Он сейчас в Цюрихе.
Томас удивленно взглянул на меня.
— Да! В Цюрихе. В специальной клинике, где… — от волнения и спешки я с трудом подбирал немецкие слова, — где помогают самоубийцам.
— В клинике, где помогают самоубийцам, — повторил пораженный Томас.
— Я только что оттуда, видел его. Он в плохой форме, надо его вытаскивать..
— Ты был в этой клинике? — еще больше поразился Томас.
— Да, час назад.
— Но разве там разрешены посещения?
— Почему нет? Ты знаешь эту клинику? Знаешь доктора Бишофбергера?
— Нет, доктора Бишофбергера не знаю, но клинику, конечно, знаю. Я даже писал о них. Но чтобы там можно было навещать пациентов! Это как-то…
— Это все спецслужбы! — перебил я. — ФСБ, ЦРУ, не знаю, кто… Они пытались вытянуть из меня информацию о его контактах, но я ничего им не сказал. Самому Комину дают какие-то препараты, он лежит там, как овощ. Если мы не вытащим его, он пропадет. Они его убьют, прямо в клинике. Это страшные люди.
— Да, страшные, согласен. Ты знаешь, я не религиозный человек, но я получил католическое воспитание. То, что там происходит, это чудовищно! — Томас побледнел от волнения. — Мы должны действовать немедленно!
Я немного удивился такой бурной реакции всегда сдержанного Томаса. Причем здесь католическое воспитание, я тоже не совсем понял, но согласился с тем, что нужно действовать немедленно.
Я лежал в неудобной позе уже сорок минут, в упор разглядывая тканевый узор на обивке заднего сиденья в маленьком «фольксвагене» Томаса. «Фольксваген» кружил по темному вечернему городу. Томас решил ехать в клинику окольными, одному ему известными путями, чтобы сбить с толку возможных преследователей.
По этой же причине я лежал сзади, подтянув ноги к подбородку и страдая от боли в затекшей спине. Со стороны должно было казаться, что Томас в машине один.
Наконец машина остановилась, Томас заглушил двигатель.
— Полежи пока, я осмотрюсь, — сказал он и вышел.
Осматривался он бесконечно долго, я начал уже поскуливать от боли в спине. Наконец дверь машины открылась.
— Выходи, — шепотом сказал Томас, — иди за мной!
Кровь толчками возвращалась в мои руки и ноги. Двигаясь, как робот, я проковылял вслед за Томасом до запасного выхода с обратной стороны здания.
Томас достал из сумки заготовку ключа и маленький молоток. На руках у него были садовые перчатки — он прекрасно подготовился.
— Я знаю одного бывшего взломщика, — шепотом объяснил Томас. — Писал как-то статью о социальной адаптации преступников. Он показал мне этот способ. Очень полезный навык. Знаешь, сколько тут стоят услуги слесаря…
Томас вставил заготовку ключа в замочную скважину, легонько ударил молотком, потом еще ударил, потом еще раз — с шестой или седьмой попытки замок щелкнул и открылся.
Мы застыли на несколько секунд, ожидая, сработает ли сигнализация. Сигнализация молчала. Взлом удался.
— Где находится его комната? — спросил Томас, когда мы выбрались из полуподвала на первый этаж.
— Где-то здесь, кажется, по левой стороне, — я пытался сориентироваться в сумеречном коридоре, освещенном двумя тусклыми лампочками. Это было непросто. Бишофбергер вел меня со стороны главного входа, а мы вошли с обратной стороны.
— Эта или эта… — я остановился перед двумя дверьми, на одной был номер 5, на другой 6.
— 5 или 6? Вспомни! — прошептал Томас.
— Не помню! — зашептал я в ответ. — Номеров вообще не помню!
Из дальнего конца коридора донесся шум, там включили свет. Я повернул ручку ближайшей двери, она оказалась не запертой, мы с Томасом быстро втиснулись внутрь и прикрыли за собой дверь. В комнате было совершенно темно. По мере того, как глаза привыкали к темноте, я смог различить кровать, которая стояла у дальней стены, не так, как в палате у Комина.
— Кто здесь? — раздался слабый мужской голос.
— Это не Комин, — шепнул я Томасу. — Не та комната.
— Кто здесь? — повторил голос громче.
— Тише, пожалуйста! — шепотом сказал Томас. — Мы сейчас уйдем.
— Кто вы? — донеслось с кровати.
— Пожалуйста, тише! — умоляюще зашептал Томас.
— Вас послала Мириам? — голос стал тише.
— Нет, не Мириам. Не волнуйтесь, пожалуйста! Мы через минуту уйдем.
— А кто вас прислал сюда? Айзек?
— Нет, не Айзек.
— Значит, все-таки Мириам! — заключил голос. — Так вот, передайте ей, что я не жалею о том, что произошло. И она сама скоро убедится, что я был прав. Так ей и скажите, слышите?
— Послушайте, мы не знаем никакую Мириам, — вступил в разговор я. — Вы сами ей скажете все, что считаете нужным…
— Что значит, я сам? Когда я ей скажу? — голос стал удивленным.
— Когда увидите ее…
— Увижу? Что с ней? Она умерла?
— Тише, ради бога! Вы увидите ее, когда вас вылечат, и вы вернетесь домой.
— Вылечат? Вы с ума сошли! Здесь не лечат!
Тут во мне шевельнулось нехорошее предчувствие. Я еще раз обвел глазами темную палату, темный силуэт кровати, и задал вопрос, который в этой ситуации звучал, наверное, чрезвычайно глупо.
— Простите, это Хёнг? — спросил я.
— Что? — донеслось с кровати.
— Это Хёнг? Район Хёнг? — спросил я у Томаса.
— Это Валисхофен, — ответил Томас.
Меня словно током ударило.
— Почему Валисхофен!? — накинулся я на Томаса. — Я же говорил тебе, клиника в Хёнге!
— Ты вообще не говорил, где она находится!
Действительно, не говорил, вспомнил я.
— А почему тогда мы приехали в Валисхофен?
— Ты сказал, что Комин в клинике, где помогают совершать самоубийства… Она одна такая, единственная в мире.
— Я не говорил этого! Я имел в виду, помогают самоубийцам. Лечат их! А не убивают!
— Вот дерьмо! — прошептал Томас.
— Дерьмо! — согласился я.
— Так значит, вы не от Мириам? — раздался голос с кровати.
— Нет, — ответил Томас, — извините, мы ошиблись. Нам надо уходить.
В коридоре, кажется, стихло.
— Подождите, не уходите так быстро! — раздался голос. — Поговорите со мной! Две минуты! Умоляю!
«Как бы он не поднял шум», — подумал я.
— Хорошо, но только две минуты. Нам действительно надо уходить.
— Какая погода там, снаружи? — спросил голос. — Идет снег?
— Нет, снега нет.
— Они обещали снег, — вздохнул голос. — Я читал прогноз. Умирать приятней, когда идет снег…
— А что это вы решили умереть? — спросил Томас.
— Я ужасно болен, неизлечимо, — произнес голос.
— Но вы, кажется, можете слышать, разговаривать… видеть можете?
— Могу.
— И соображаете, кажется, тоже неплохо. Так ли ужасна ваша болезнь на самом деле?
— Ах! — раздался вздох, — если бы я не мог видеть и слышать, если бы не мог «соображать», как вы выразились, наверно, мне было бы легче. Но я вижу, что приношу огромные неудобства всем, кто окружает меня. Я измучил их, и измучился сам…
— Но Мириам, кажется, против того, чтобы вы это делали?
— Мириам, если бы вы только знали! — мечтательно произнес голос. — Это святая женщина! Но я не могу бесконечно пользоваться ее добротой. Тем более, что я ничего не могу дать ей взамен!
— Идиот! — неожиданно вспылил Томас. — Чертов идиот! Мало того, что ты отказываешься от жизни, величайшего в мире дара, так ты еще и бросаешь людей, которые тебя действительно любят! Вот ублюдок!
— Прекратите меня оскорблять! Я позову охрану! — пригрозил голос.
— Тсс! Успокойтесь, пожалуйста! — сказал я и легонечко подтолкнул Томаса, чтобы он не очень кипятился. — Люди, которые вместо Хёнга оказались в Валисхофене, не имеют права никого называть идиотами.
— Хорошо сказано! — злорадно хихикнул голос.
— Пожалуй! — тихо согласился Томас. — Но знаете что, — он снова перешел на громкий шепот. — На том свете вам будет не хватать таких сюрпризов. Наверное, там никто ни к кому среди ночи не вламывается. Райские кущи, амброзия… Хотя вряд ли вы попадете в рай. По-моему, туда не принимают самоубийц.
— Я далек от религии, — парировал голос.
— Я тоже далек от религии, — сказал Томас. — Но повторяю, то, что вы тут затеяли — грех. А точнее сказать, большое свинство. Есть тысячи примеров того, как люди побеждали болезни, которые казались совершенно неизлечимыми. Они дарили надежду и силу другим людям. Даже если у них не получалось, по крайней мере, они пытались, они боролись до конца. А эта чертова клиника — грязный подлый бизнес, вытягивание денег из таких вот слабаков, как вы!
Томаса опять начинало заносить. Теперь я понял, что он имел в виду, когда говорил про католическое воспитание. Забористая штука.
— Тихо! — я услышал шум в коридоре. — Кажется, кто-то идет!
В эту секунду дверь резко распахнулась, и в глаза мне ударил свет сразу нескольких фонариков. Закрыв глаза рукой, я разглядел людей в синей полицейской форме.
— Руки за голову! — раздалась резкая команда. — На выход!
— Мы все можем объяснить! — начал было Томас. — Это ошибка! Понимаете…
— На выход! Быстро! — полицейские были вооружены и слушать объяснения не собирались.
— Эй! Подождите! — заголосил хозяин палаты. — Я передумал! Я не хочу умирать! Слышите? Передайте доктору Лохеру, я передумал! Все отменяется! Слышите? Срочно свяжитесь с доктором Лохером!..
В полицейском участке нас с Томасом разделили. Меня отвели в комнату, похожую на обычный офис — три рабочих стола с компьютерами, кофейный автомат. В комнате было четыре человека в форме, три мужчины и молодая женщина.
Один из них, здоровый, чернявый, со злым лицом, с громкими щелчками натянул на себя резиновые перчатки.
— Лицом к стене! — скомандовал он.
Я послушно повернулся. Он положил мне руку на плечо и грубо подтолкнул. Я уперся руками в стенку. Больно ударяя тяжелыми ботинками по лодыжкам, он раздвинул мне ноги на ширину плеч и принялся ощупывать карманы.
Нас с Томасом уже обыскали прямо у клиники, выгребли все, что было в карманах, и забрали брючные ремни. Теперь процедура повторялась.
Похлопав по карманам и штанинам, чернявый скомандовал:
— Повернитесь!
Я повернулся.
— Снимите куртку!
Я снял и протянул ему. Он отдал куртку коллеге, который принялся прощупывать швы и подкладку.
— Обувь!
Я стащил ботинки и пододвинул к нему.
— Возьмите их в руки!
Я наклонился и поднял ботинки. Тот, что занимался курткой, дал мне пластиковый лоток, как в аэропортах, я положил туда ботинки.
— И носки! — сказал он.
Пол в участке был ледяным.
— Рубашку! — скомандовал чернявый.
В этот момент женщина-полицейский вышла из-за стола и направилась к выходу. Остальные многозначительно переглянулись. Я заметил кривую усмешку на физиономии чернявого.
Меня била дрожь. Я снял рубашку.
— Брюки!
Снял брюки.
— Нижнее белье!
— Это что, стандартная процедура? — спросил я.
— Снимите нижнее белье! — жестко повторил чернявый.
Я снял трусы, изо всех сил стараясь сохранить остатки достоинства, протянул их чернявому, глядя ему прямо в глаза. Чернявый не взял трусы. Его коллега ловко подцепил трусы карандашом, поднял до уровня глаз, осмотрел, как биолог осматривает омерзительную на вид форму жизни, и бросил на ворох остальной одежды.
— Руки вверх! — скомандовал чернявый. Я поднял руки. Он осмотрел подмышки и, саркастически склонив голову, обследовал взглядом пах.
— Повернитесь к стене!
Я повернулся.
— Наклонитесь!
Чуть помедлив, я наклонился.
— Раздвиньте руками ягодицы!
— Что? — я не поверил своим ушам.
— Ягодицы! — повторил чернявый. — Вы понимаете немецкий язык?
— Вы уверены, что это абсолютно необходимо? — я повернулся.
Чернявый ухмылялся, остальные тоже наблюдали за спектаклем с удовольствием.
— Лицом к стене! — повторил чернявый. — Раздвиньте ягодицы.
— Чтоб вы сдохли, сволочи! — сказал я по-русски. Наклонился и раздвинул ягодицы.
Чернявый выдержал паузу, которая показалась мне бесконечно долгой. Из глаз моих помимо воли закапали слезы, такого унижения я не испытывал никогда в жизни.
— Одевайтесь! — раздалось за спиной.
Пока я одевался, полицейские занимались своими делами, просматривали бумаги, переговаривались между собой как ни в чем ни бывало.
— Садитесь! — скомандовал полицейский, который осматривал мою одежду, указывая на стул рядом со своим столом.
— Имя, фамилия, адрес!
Я назвал по буквам имя и фамилию. Продиктовал адрес. Полицейский не торопясь вбивал это в компьютер.
— С какой целью вы проникли в клинику?
— Я не понимаю по-немецки, — сказал я.
— Простите? — полицейский отвел взгляд от экрана монитора и посмотрел на меня.
— Не понимаю по-немецки, — повторил я.
Полицейский не удивился.
— Ваш родной язык?
— Русский.
Полицейский застучал по клавишам. Стучал долго, словно забыв обо мне. Потом отправил документ на печать, отдал на подпись чернявому, они о чем-то переговаривались, посмеиваясь.
В комнату вошел еще один полицейский. Чернявый, не оборачиваясь, через плечо указал на меня большим пальцем.
Меня отвели в камеру.
Камера представляла собой довольно просторную комнату. Лежак, обитый плотной тканью. В углу умывальник и унитаз, никелированные, сверкающие чистотой. Я напился воды из крана и улегся на лежак. Думать я себе запретил. «Надо спать!» — решил я и уснул.
Есть два сна, которые снятся мне время от времени уже много лет. Один про то, как меня по второму разу забирают в армию. Я пытаюсь спорить — я уже отслужил! Показываю военный билет. А мне говорят, знаем, но ничего не поделаешь. Надо еще раз. И я иду. Меня заводят в казарму, показывают койку. Потом отбой, подъем, зарядка и так далее.
Второй сон про то, как я еду в трамвае по ночному Питеру. Я на самом деле однажды так ехал, еще в студенческие годы. Возвращался откуда-то с гулянки поздним зимним вечером, сел в трамвай, и он повез меня очень неспешно, скрипя, дребезжа и петляя, по питерским трущобам где-то в районе Технологического института. В трамвае был кондуктор — здоровый румяный парень в тулупе, похожий на ямщика. Трамвай часто останавливался, хотя каждая остановка, судя по скрипу и скрежету, давалась ему очень нелегко. Заходили и выходили какие-то люди, ночные питерские жители, большей частью пьяненькие. Было так: скрип, скрежет, толчки, остановка. Потом визг гидравлики, трамвайные двери открывались не сразу, с оттяжкой, но после оттяжки — громко и резко, будто кто-то пинал их. В открытые двери снаружи врывались клубы питерской зимней хмари, и в этих клубах появлялись новые пассажиры и исчезали старые.
А за окном — темные доходные дома времен Достоевского, красота зловещая, величественная, кажущаяся нерукотворной, как Большой Каньон.
С тех пор и езжу я в этом трамвае регулярно. Раз или два в год снится он мне, даже не знаю, почему.
На этот раз рядом со мной на дерматиновом трамвайном сидении оказался Томас. Трамвай трясся на рельсовых стыках, скрипел и звенел, все, как обычно. За окном все тот же Большой Технологический каньон. Клубы хмари на остановках. Румяный кондуктор-ямщик.
Я сижу у окна, смотрю в ночь и постепенно замечаю в себе какое-то новое чувство, которого раньше в этом сне не было. Чувство дискомфорта. С ужасом обнаруживаю, что сижу наполовину голый. Голый по пояс снизу. Ни штанов, ни трусов на мне нет.
Я осторожно перевожу взгляд на Томаса. Он в таком же наряде, но при этом спокоен и невозмутим, будто так и нужно ездить в трамваях.
К нам направляется ямщик-кондуктор, я немного сползаю с кресла и пододвигаюсь вперед, чтобы спинка переднего сидения загородила мой срам.
Красное лицо кондуктора остается непроницаемым. Питерского трамвайного кондуктора трудно удивить.
— За проезд оплачиваем, — сказал он, шмыгнув носом.
— Сколько стоит? — я бросился искать свой кошелек, он оказался на месте, во внутреннем кармане куртки.
— Пятьдесят франков, — лениво произнес парень, глядя в сторону.
Я удивился.
— Почему так дорого? Почему во франках?
Сдерживая зевок, кондуктор повторил.
— Пятьдесят франков. За двоих — сто.
Я повернулся к Томасу.
— Ты что-нибудь понимаешь?
Томас уже достал купюру и протянул ее кондуктору.
— Я тебе говорил, — сказал Томас. — Каждый месяц я отдаю пятьдесят франков на благотворительность.
— Так это на благотворительность?! — удивился я.
— На благотворительность, — безучастно подтвердил кондуктор.
— Как же! Помню, — я раскрыл свой кошелек. — Пятьдесят франков на благотворительность, по воскресеньям ходить на референдумы, и будет счастье…
— Совершенно верно! — кивнул Томас.
Кондуктор, принял от меня деньги, остался стоять перед нами, словно ожидая еще чего-то.
— Может, ты еще сможешь объяснить, почему мы сидим без штанов? — шепотом спросил я у Томаса, косясь на кондуктора.
— Конечно, могу, — сказал Томас.
— Ну и почему же?
— А вот почему! — Томас поднялся с сидения, развернулся спиной к кондуктору, наклонился и раздвинул руками свои ягодицы.
Кондуктор сделал полшага назад и слегка присел, чтобы сподручнее было заглянуть в задницу, шмыгнул носом и солидно кашлянул, давая понять, что осмотр закончен.
Томас выпрямился и посмотрел на меня, и кондуктор посмотрел на меня. Выходило, что я следующий.
— Почему я должен делать это!? — возмутился я.
— Такой порядок, — терпеливо объяснил Томас. — Пятьдесят франков на благотворительность, референдумы, ягодицы.
Кондуктор нахмурился и строго кашлянул, всем видом показывая, что своей непонятливостью я отнимаю время у занятого человека.
Я оглянулся по сторонам. На дерматиновых креслах по обе стороны от заплеванного прохода сидели мои швейцарские знакомые — пожилая пара из соседнего дома, менеджеры из часовых бутиков, квартирный хозяин, дантист. Они смотрели на меня так же, как Томас и кондуктор. Выжидающе и с легкой досадой по поводу моей непонятливости.
— Но это черт знает что! Это смешно, в конце концов! — я вцепился обеими руками в спинку переднего кресла, готовясь к тому, что меня будут пытаться поднять силой.
— Это не смешно, — серьезно сказал Томас. — Таковы правила. Ты живешь в этой стране, пользуешься преимуществами государственного устройства, — Томас сделал короткую паузу и добавил, — лучшего в мире!
Мои соседи, менеджеры бутиков и продавцы, согласно закивали. «Лучшего в мире! Лучшего в мире!..» — зашелестело по трамваю.
— Да, лучшего в мире, — повторил Томас. — И ты не хочешь раздвинуть ягодицы! Это нецивилизованно! — припечатал Томас.
— Не-ци-ви-ли-зо-ван-но! — прокатилось по трамваю.
Кондуктор шмыгнул носом и откашлялся.
— Раздвигаем ягодицы или выходим, — сказал он.
— Выходим! — мелькнула мысль. — Бежать отсюда! Спасаться!
Я рывком поднялся с кресла, посмотрел в окно и застыл.
За окном — трущобы Техноложки, темень, мороз. А я по-прежнему без штанов.
— Раздвигаем ягодицы, — произнес я, ненавидя самого себя.
В камере меня продержали почти до десяти утра. И хорошо, успокаивал я себя, пусть сначала Томас им все расскажет, меньше будут меня терзать.
Наконец дверь распахнулась, полицейский кивком пригласил на выход. Меня проводили во вчерашнюю комнату.
Первым, кого я увидел, был Роман Лещенко. Он сидел на стуле, том самом, где ночью сидел чернявый, закинув ногу на ногу и распахнув пальто, и рассматривал меня с ироничной улыбкой.
— Доброе утро! — произнес он по-русски.
На столе рядом с ним стоял пластиковый лоток с моими вещами — кошелек, ключи, телефон, ремень. Лещенко пододвинул лоток.
— Собирайся!
Я посмотрел на полицейских, занятых своими делами. По их безразличному виду было понятно, что задерживать меня никто не собирался.
Я мигом рассовал по карманам вещи. Лещенко встал, громко поблагодарил полицейских и подтолкнул меня к выходу.
— Делать мне больше нечего, — проворчал он, — как только мчаться в Цюрих ни свет ни заря, доставать с кичи часовых консультантов.
Мы вышли на свежий воздух. Лещенко достал сигарету и закурил.
— Куда меня теперь? — спросил я, не веря в столь легкое избавление от неприятностей.
— На Колыму! — Лещенко выпустил дым. — Здесь у них в тюрьмах мест для таких, как ты, нет. На родине отсидишь. Дома, как говорится, и стены помогают.
Лещенко говорил это с совершенно серьезным видом, и хотя я понимал, что он валяет дурака, мне стало не по себе.
— Вы всех соотечественников так выручаете? — поинтересовался я.
— Нет, — сказал Лещенко. — Только самых бестолковых. — Он бросил окурок. — Ну? — он посмотрел на меня. — Пошли? Или хочешь еще здесь побыть?
— А Томас где?
— Дома уже твой Томас, кофе пьет. Не связывался бы ты с этой богемой швейцарской — либеральная интеллигенция, извращенцы и наркоманы, — сказал Лещенко уже совершенно по-отечески. — Не доведут они до добра. Вам повезло, что клиника решила не давать хода делу. Деликатное заведение, сам видел, лишнего шуму не любят. А так бы гремел бы ты уже по полной программе, за двоих, потому что на Томаса твоего где сядешь там и слезешь…
— Так они нас просто отпустили? — выдохнул я с облегчением.
— Просто ничего не бывает, — сказал Лещенко. — Считай, что я взял тебя на поруки. Ладно! Хватит лясы точить! Куча дел еще. Ты куда сейчас, к себе?
Я помедлил, соображая, что делать дальше. Ехать нужно было к Комину, в клинику, но сначала отделаться от Лещенко.
— Могу подбросить, — предложил Лещенко. — Я на машине. Прямо до дома не могу, но до Бельвью могу.
— До Бельвью, да, было бы здорово, — согласился я.
Его машина стояла прямо на полицейской парковке. Номера были обычные, не дипломатические, обратил я внимание.
— Одну минуту, я должен позвонить! — я набрал номер Томаса. — У меня все в порядке! — громко сказал я в трубку, чтобы услышал Лещенко. — Меня забрал из полиции советник российского посольства, он подвезет меня на своей машине до Бельвью.
Лещенко засмеялся.
— Молодец! Грамотно подстраховался! Правда, я не советник посольства, всего лишь помощник советника… Теперь можем ехать?
Я сел в машину, Лещенко вырулил на улицу, ведущую в центр.
— Так все-таки, ты домой сейчас? Или к Комину? — спросил Лещенко.
— Я до Бельвью, — ответил я.
Лещенко усмехнулся.
— Не доверяешь. Правильно. С одной стороны. А с другой стороны — зря.
— Послушай, Рома, — сказал я. — Ты мне все доходчиво объяснил, тогда, на подъемнике. Я все понял. Про доверие вроде как речь не шла…
— Тогда на подъемнике это совсем другое дело было. Служба такая, ты ж понимаешь. Но это уже все закончилось.
— Что закончилось? Тебя что, уволили?
— Нет, — сухо ответил Лещенко. — Меня не уволили. Комина вывели из разработки. Он больше моему начальству не интересен.
— А что же ты тогда здесь делаешь?
— Ну, у меня может быть собственное мнение. Кое в чем я могу не соглашаться с начальством. В свободное от работы время.
— То есть сейчас у тебя свободное время?
— Будем считать, что так, — кивнул Лещенко.
— И это твое хобби — доставать соотечественников с кичи, как ты это называешь?
— А почему бы и нет? Прекрасное хобби, я считаю. Нашим с тобой соотечественникам нужно быть добрее друг к другу, и вообще — добрее. А то живем, понимаешь, как в окопе. Вечный Сталинград кругом. Национальная особенность такая. Ссора с соседом — Сталинград! Царапина на бампере — Сталинград! Только дай повод! Это ж какой боевой дух сидит в народе, какая силища! Этой силище да достойное бы применение найти! Чтоб не за помятый бампер на рожон лезть, а с великой целью! Ведь ясно, что за народ! Вот у меня родственники, в Лодейном поле. Ты извини, я опять про малую родину. Коттеджный поселок у них. Дома по миллиону каждый. Замки, а не дома. Забор, как Китайская стена, и вокруг поселка, и вокруг каждого дома. А дорог нету. Вообще нет. Ни к поселку нет нормальной дороги, так больше того, внутри, за забором, тоже нет дороги. Каждый коттедж — как остров в океане дерьма. Лопухи в человеческий рост, крапива кругом. Я голову сломал — почему? Люди при деньгах, у всех машины дорогущие, гробятся на этих ухабах почем зря, почему не сделают дорогу?
— И я вдруг понял! Осознал! — Лещенко повернулся ко мне и почти бросил руль. — Не нужны русским дороги! Рожденному летать земные дороги не нужны. Мы рождены летать, понимаешь, Володя? Вот почему в России дорог нет! Цари плохие? Вожди плохие? От Читы до Владивостока трассу до сих пор не построили — за пятьсот лет не удосужились. Немцы бы, американцы — первым делом, без всяких царей и вождей, сначала шоссе, потом все остальное. А у нас не так. Цари, вожди совершенно не при делах. Народу это не надо! Нам это не надо! У нас для других дорог предназначенье! И знаешь, кто мне глаза открыл?
Я пожал плечами.
— Комин! — воскликнул Лещенко. — Террорист наш непутевый, самострельщик, чтоб он был здоров. В общем, я решил помогать ему, где возможно, сам решил, без всякого начальства. Ну и друзьям его, вроде тебя.
— Хочешь сказать, что ты идейный? — спросил я.
— Идейный, — ответил Лещенко серьезно. — В моей профессии без идеи нельзя, иначе гадство сплошное получается. Поэтому сейчас я отвезу тебя не на Бельвью, а в клинику к Бишофбергеру. Бишофбергер — нормальный мужик, толковый доктор, свое дело туго знает. Мы сейчас к нему поедем и договоримся, чтобы ты забрал Комина к себе домой. Ты ведь и сам этого хотел, правда?
Я не ответил, но мысленно поразился способности Лещенко предугадывать мои действия на ход вперед, так что мне оставалось лишь всегда и во всем следовать его планам. «Сам хотел»! Конечно.
— Только на будущее, — добавил Лещенко, — давай так: без самодеятельности! Усек?
Я кивнул.
Доктор Бишофбергер на этот раз легко согласился с предложением забрать герра Попова из клиники. Домашняя обстановка и дружеское внимание должны хорошо подействовать на него, сказал он, только нужно еще два дня, чтобы закончить курс клинического лечения. За эти два дня я должен буду продумать программу времяпрепровождения — много прогулок, дозированное общение, положительные эмоции. Вероятность повторения попытки самоубийства Бишофбергер считал низкой, но советовал не оставлять больного надолго одного.
В квартире я приготовил для Комина отдельную комнату, навел идеальную чистоту, перетряс видеотеку в поисках легких комедий, принес из подвала груду глянцевых журналов, забил холодильник вкусной и здоровой пищей, а в своем расписании на несколько дней отменил все встречи с клиентами. И еще я проштудировал историю с аргентинским вертолетом, отобрал мнения экспертов, которые связывали крушение с техническими неисправностями, и сам себя убедил, что эти эксперты правы.
Ни комедии, ни глянцевые журналы в итоге не понадобились. Комин часами лежал на кровати и смотрел в потолок. Когда я звал его обедать, он послушно шел, садился за стол, ковырялся вилкой в макаронах, выпивал стакан воды. Я небольшой мастер вести застольные беседы, мои монологи о погоде, о футболе-хоккее, о том, что хорошего случилось в мире, на самого меня наводили тоску. Тогда я заговорил о вертолете. Я принес приготовленную папку распечаток и разложил их перед Коминым. «Это была техническая поломка! — убеждал я Комина и показывал ему мнения экспертов. — Такие аварии происходят ежедневно повсюду в мире. Вертолет — чертовски опасный вид транспорта! Тем более в антарктических условиях. Низкие температуры, сильный ветер, плохая видимость, ты же сам это прекрасно знаешь. Они там десятками бьются, гибнут люди, их безумно жаль, но что делать? И потом, они военные! Это их профессия — жизнью рисковать. Ты знаешь, сколько военных во всех армиях мира гибнет от несчастных случаев, не связанных с боевыми действиями? Вот здесь есть статистика. Это сравнимо с боевыми потерями в локальных конфликтах. Взгляни!» — я нашел нужный листок и показал Комину. Комин отодвинул распечатки, извинился, встал из-за стола и ушел в свою комнату. Я выждал пару минут, на цыпочках подошел к двери и посмотрел в замочную скважину. Он лежал на кровати. Все колющие и режущие предметы я из комнаты предварительно убрал, равно как и все лекарства из аптечки в ванной комнате — все подчистую, включая йод. Пора переходить к плану «Б», решил я. Перед приездом Комина я разыскал в библиотеке Славянского семинара книгу о Николае Федорове, дочитать до конца ее не успел, но кое-каким материалом для бесед разжился.
Я взял книгу и постучался в комнату. Комин не ответил. Я приоткрыл дверь и заглянул внутрь: можно? Комин молча лежал на кровати.
— Смотри, что у меня есть! — я показал книгу в добротном черном переплете — в Цюрихской библиотеке большинство книг переплетают заново. — Ты это читал? — Я присел на стул рядом с кроватью. — Федоров — вот человечище! К стыду своему, только недавно про него узнал. От тебя. Читаю с удовольствием. Светлая голова! Лев Толстой к нему в друзья набивался, но он с ним был суров. Помнишь эту историю? — Комин взглянул на обложку книги и отвел взгляд. — Но я, собственно, вот что тебе хотел рассказать. Федоров много писал об «обыденных» храмах на Руси, то есть храмах, которые строили всей общиной за один день. Это, кажется, чисто русская традиция, но он считал эти храмы ростками общего дела для всего человечества. Так вот, недавно я ездил с приятелем в Аскону, и там, в парке Монте Верита, какие-то люди за ночь построили огромное сооружение, похожее на ракету. И меня только сейчас осенило — это ведь и был как бы «обыденный» храм! Храм и ракета похожи по очертаниям! Они еще там слово «вечность» написали. Представляешь? Здесь, в Швейцарии, такие вещи происходят.
Бледные щеки Комина слегка зарделись, губы дрогнули. Сложно было понять, положительные это эмоции или отрицательные. Я решил больше его не беспокоить.
— Отдыхай! — сказал я и вышел из комнаты.
Главные надежды мною возлагались на план «В». «В» как Валентина, Валюша, девушка пронзительной красоты и трудной судьбы. В мощном терапевтическом эффекте Валюшиной красоты я имел возможность убедиться лично. Мы с ней познакомились на курсах профориентации при бюро по трудоустройству. Был в моей швейцарской биографии такой скорбный период. Из газеты меня уволили, на дворе бушевал кризис, и ради пособия я был вынужден сдаться в бюро по трудоустройству. Пособие так просто не платили, взамен требовалось отбывать многочисленные неприятные повинности, вроде этих курсов, где объясняли, как правильно искать работу в Швейцарии. Курсы вел англичанин, которого звали Стивен Кинг, его имя и фамилия — единственное, что хоть как-то оживляло беспросветно унылую атмосферу, в которой два курда, два иракца, македонец, сомалиец и я слушали, что мы должны быть напористыми, настойчивыми, излучать оптимизм и повышать самомотивацию. Эта мантра в разных вариациях повторялась по шесть часов с перерывом на ланч на протяжении тринадцати дней. Курды и иракцы болтали друг с другом, наплевав на осуждающие взгляды герра Кинга, македонец гонял змею в мобильном телефоне, сомалиец спал, а я маялся.
Социальный центр, где проводились курсы, стоял вплотную к зданию школы. Я сидел у окна, а в школе у окна сидел рыжий мальчик лет десяти. Нас разделяло два стекла и несколько метров свободного пространства. Было заметно, что мальчик тоже маялся. Однажды наши взгляды встретились. Я нарисовал на листке рыцаря в латах и с мечом и показал ему в окно. Он одобрительно кивнул головой и показал мне большой палец, потом я видел, как он тоже принялся что-то рисовать, и через какое-то время в окне напротив появился листок с космическим кораблем. Я показал, что мне очень нравится. Я написал на листке слово «Владимир» и ткнул пальцем в себя. Мальчик кивнул, написал на листке «Месси» и ткнул пальцем в себя. Возможно, это было его прозвище. Значит, он хорошо играл в футбол, или мечтал хорошо играть. Мы подружились — рисовали друг другу картинки, перемигивались, корчили рожи. Я обдумывал, как передать Месси важное послание — о том, что значение образования в современном обществе сильно переоценивается. Вот взять, к примеру, меня — окончил с красным дипломом вуз, отучился в аспирантуре в академическом институте, имею публикации в научных журналах, владею тремя языками, прочитал гору книг — и что в итоге? Сижу в компании великовозрастных детей гор и пустынь и слушаю заклинания Стивена Кинга, не того Стивена Кинга, другого, тоже короля ужаса, но в ином, более ужасном смысле. Карьера разрушена, сорок два года, перспектив нет. Так играй в свой футбол, Месси, не теряй драгоценного времени! Я уже почти придумал развернутый нравоучительный комикс на эту тему для демонстрации в окне, но в один прекрасный день Месси не пришел в школу. Думаю, он все прекрасно понял и без комикса, уловил мои флюиды, сделал выводы и симулировал простуду. Я порадовался за мальчишку и еще больше расстроился за себя. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы в наш класс посреди занятия не влетела Валентина. Она опоздала к началу курсов на тридцать минут и три дня. Она всегда опаздывала. Стивен Кинг застыл с открытым ртом, курды заткнулись, сомалиец проснулся — в занюханную юдоль профориентации явилась богиня. Огромные голубые глаза бездонной глубины, пушистые ресницы, русые волосы, свободно ниспадающие на плечи, невинная улыбка и бронебойный русский акцент.
Я едва дождался перерыва на обед и галантно пригласил новую жертву Стивена Кинга отведать скудных даров печальной сей земли, другими словами, перекусить в «Бургеркинге» за углом.
— А шо, пошли, — живо откликнулась богиня, которая была рада встретить соотечественника.
Валентина оказалась родом из Белгородской области, из краев, где говорят «шо» и где открывают душу легко и по-детски непосредственно.
Уже за первым обедом Валентина рассказала мне историю своего швейцарского замужества. Ее бывший муж, Ханс-Ули, выписал Валентину из Белгородской области по интернету, то есть, правильнее будет сказать — это она его выписала, хотя ему и не пришлось никуда ехать. Приехала сама Валентина. Все, о чем писал в любовных письмах Ханс-Ули, оказалось правдой. У него был собственный дом под Цюрихом, еще один дом в горах, в гараже стояли три машины, среди которых новенький черный «порш». А главное, Хансу-Ули было семьдесят лет. В городке, где выросла Валентина, семидесятилетних мужчин не существовало. Статистически. Средняя продолжительность жизни мужского населения составляла неполных шестьдесят лет. Очень редко попадались старички, но они выглядели настолько эфемерно и потусторонне, что при виде их хотелось зажмуриться и перекреститься. То есть, по немудреным Валюшиным прикидкам, Ханс-Ули порядком зажился на этом свете и ему, как она выразилась, «на погосте каждый день прогулы ставят». Из-за боязни, что там «на погосте» все-таки спохватятся, Валентина очень торопилась уладить все брачные формальности, готовя себя к почетной роли безутешной швейцарской вдовы. Сразу после процедуры регистрации брака Ханс-Ули на примитивном английском (немецкий Валентине еще только предстояло выучить) объяснил ей, что они сейчас поедут к его отцу. «На кладбище», — решила Валентина, переспрашивать не стала, потому что не знала, как это будет по-английски. Приехали они ни на какое не кладбище, а в дом престарелых, похожий на элитный санаторий. К молодоженам на инвалидном кресле выкатили отца Ханса-Ули. Старику было далеко за девяносто, он весь усох и покрылся пигментными пятнами, волосы остались только в ушах, но как ни удивительно это было для Валентины, был он бесспорно живой. Более того, видя перед собой двух новых родственников, Валентина не могла не заметить, что они разительно похожи. Ханс-Ули был копией своего отца, и отсюда следовало, что его с большой вероятностью ожидает такая же долгая жизнь. «Еще лет двадцать, как минимум», — прикинула Валентина и мысленно обозвала себя дурой за то, что не справилась о здоровье папеньки еще на стадии любовной переписки.
Еще больше она расстроилась, когда увидела, что пригород, где жил Ханс-Ули, населен по преимуществу стариками. Старики ездят на велосипедах, занимаются оздоровительной ходьбой со специальными палками вроде лыжных и даже посещают тренажерные залы. Сам Ханс-Ули три раза в неделю ездил в тренажерный зал, собственно, он писал об этом Валентине в одном из писем, но она не поверила, подумала, что он просто хорохорится перед молодой невестой. Так же как она не поверила, что фотография крепкого бодрого мужчины в годах, которую Ханс-Ули приложил к своему первому письму, — это его подлинная фотография. Она-то подумала, что это и есть тот самый «фотошоп», который превращает ее невзрачных поселковых подруг в первоклассный товар на международном рынке невест. Никакого «фотошопа», Ханс-Ули и вправду был в прекрасной спортивной форме.
Что своеобразно подтверждалось в семейной жизни. Время от времени он Валентину бил. Впрочем, сама Валюша в этом большой беды не видела, вот что ее действительно задевало, так это то, что он заставлял ее мыть стаканчики из-под йогурта, прежде чем выбросить их в мусорное ведро. Он специально проверял мусорку, и если обнаруживал там невымытый стаканчик — устраивал грандиозный скандал. Еще Ханс-Ули велел Валентине покупать продукты только в супермаркете «Альди» — самом дешевом, не только продукты, даже нижнее белье у нее тоже было из «Альди». На черном «порше» Валентина прокатилась всего раза три, Ханс-Ули возил ее показывать родственникам. Роскошная жизнь, которую себе нафантазировала Валентина, никак не начиналась. Все свое время она делила между домом, «Альди» и курсами немецкого языка. Скоро стало понятно, что единственное, что она может получить от этого брака — швейцарский паспорт. Поэтому, как только красная книжечка оказалась в ее руках, она подала на развод. Ханс-Ули не стал перечить, он так и не смог понять, как могут ходить по земле люди, которые не моют стаканчики из-под йогурта. Денег он Валентине не дал совсем, ни копейки. В суд она идти побоялась, поскольку неизвестно, как местные судьи отреагируют на немытые стаканчики, может, ее еще и признают виновной.
А тут случилась еще одна неприятность. У Валентины был сын от первого брака — Павлик. Типичная белгородская история: чтоб не отстать от подруг, выскочила замуж в восемнадцать лет, сразу родила ребенка и вскорости развелась. О Павлике она Ханс-Ули честно предупредила, не в самом начале переписки, некоторое время спустя, когда он уже плотно сидел на крючке Валиного обаяния. Мальчик в Швейцарию не поедет, останется с бабушкой, заверила Валя. Ханс-Ули реагировал спокойно, с Павликом они познакомились на свадьбе, пожали руки, и больше о существовании друг друга не вспоминали. К моменту Валиного развода Павлику исполнилось четырнадцать, проблемный возраст. Бабушка по телефону сообщила, что не может больше с ним справляться, он связался с какой-то компанией, дома не ночует, его уже два раза забирали в милицию, и участковый обещает его «закрыть». Пришлось Валентине забрать парня к себе, благо к тому времени она уже нашла себе работу. Правда, по неопытности ее угораздило устроиться официанткой в кафе, где хозяином был турок. Поторопилась. Ей бы сначала выяснить, почему это к туркам так просто устроиться. Кафе было открыто до последнего посетителя, последними посетителями всегда были друзья хозяина, которые сидели до двух-трех часов ночи, дулись в карты, смотрели телевизор и заказывали кофе и воду. Вместо чаевых официантке полагались скабрезные шуточки. Хозяин нещадно вычитал деньги из без того нищенской зарплаты за битую посуду и пропавшие ножи-вилки. Когда Валентина попробовала возмутиться, он заорал, что она хочет его разорить, схватил за горло и принялся душить. Душил умело, без следов. Валентина испугалась.
Швейцарская жизнь не задалась, вокруг было полно богатых мужчин, она чувствовала на себе их вожделеющие взгляды, но дальше турецких похабных шуток дело не шло, значит, что-то она делала не так. Чтобы прийти в себя и собраться с мыслями, Валентина зарегистрировалась в бюро по трудоустройству, где мы с ней и познакомились. На курсы она ходила всего три дня, за которые успела рассказать о своих приключениях, а потом устроилась официанткой недалеко от центрального вокзала, но только не со стороны Банхофштрассе с бутиками и дорогими ресторанами, а со стороны Фалконштрассе, где на каждом углу шепотом предлагают гашиш. Эта тяга Валентины к злачным местам так и осталась для меня загадкой — с ее внешностью она без труда могла найти себе работу по другую, «правильную» сторону от вокзала. То ли у нее еще с родины осталось убеждение, что деньги на женщин могут тратить только криминальные элементы, то ли все добропорядочные швейцарские граждане ассоциировались у нее с Хансом-Ули. Контакта мы с ней не потеряли, время от времени я заходил в этот бар в ее смену, чтобы выпить пива и устроить праздник для глаз, любуясь ее красотой и стараясь по возможности пропускать мимо ушей неистребимое «шо». Поскольку мы познакомились в скорбных интерьерах социального центра, я для нее навсегда выпал из пищевой цепочки, не считался «мужчиной с деньгами», и у нас завязались легкие приятельские отношения. Почти бескорыстные. Мои акции слегка повысились, когда я как-то раз пришел в бар с Толиком из Банка Ротшильда. Внешность Валентины произвела на Толика предсказуемый убойный эффект. У них получился даже короткий романчик. Короткий, потому что, как мне потом объяснила Валентина, чтобы крутить любовь с пьющим человеком, ей совсем необязательно было уезжать так далеко от дома, ведь по разведанным запасам пьющих мужчин Белгородская область уверенно занимает одно из первых мест в мире.
Вот с этой самой Валентиной и был связан мой план «В». Вечером я сказал Комину: хватит сидеть дома, поедем, выпьем пива. Комин равнодушно пожал плечами, но возражать не стал. Мы быстро собрались и за полчаса доехали до бара, где работала Валюша. Народ в этом заведении начинал собираться лишь ближе к ночи, поэтому когда мы вошли, в зале было почти пусто, над стойкой царила Валентина.
— Володя! — обрадовалась она мне. — Шо ж ты так давно не заходил! Я уж думала, забыл меня, — Валентина бросила быстрый оценивающий взгляд на Комина.
— Это мой друг Александр, — представил я.
Комин всю дорогу был мрачен, не проронил ни слова, бар оглядел брезгливо, но как только увидел Валентину — растерялся. Я мысленно потирал руки, план срабатывал.
— А твой друг по-русски понимает? — Валентина тоже заметила растерянность Комина и теперь закрепляла успех отработанными взмахами ресниц.
Когда я сообщил, что Комин — русский, Валентина протянула ему руку через стойку — приятно познакомиться. Комин торопливо пожал руку, что-то пробурчал и отошел от стойки. Он сел за дальний столик и отвернулся, глядя в окно.
— Странный какой-то, — сказала Валентина.
— Он очень хороший, — заверил я. — Как ты вообще поживаешь?
— А, не спрашивай! — махнула рукой Валентина. — Пашка, наказанье мое, тут такое учудил! Попался в супермаркете, две банки пива стащить хотел, охламон. Те сразу полицию вызвали, полиция — меня, со школой связались, в школе еще масла в огонь подлили, асоциальный, говорят, не интегрируется. Прямо не знаю, что делать, — Валентина тяжело вздохнула. — Недели не проходит, чтобы куда-нибудь не вляпался.
— Да, детки растут… — сочувственно кивнул я. — Не посидишь с нами, Валюша? Посетителей все равно нет.
Валентина без долгих уговоров уселась с нами за столик. Хозяин бара, толстый итальянец выглянул из подсобки, поманил Валентину, она на минуту оставила нас и вернулась с тарелочкой маленьких закусок.
— Комплимент от Марко, — объявила она. — Марко — душка, только у него пятеро детей. А у вас, Саша, есть дети?
Комин отрицательно мотнул головой. Валентина оживилась. Она щебетала без умолку, смеялась. Я любовался ямочками на ее щеках и чувствовал, как у меня в груди разливается тепло. Да и Комин заметно оттаял.
Марко снова выглянул из подсобки и выразительно посмотрел на Валентину.
— Нужно работать, — вздохнула она и выпорхнула из-за стола.
Я подошел к стойке, чтобы заказать кофе.
— Ну и как тебе мой друг? — тихо спросил я, пока Валя возилась с кофейной машиной.
— Симпатичный мужчина, — вынесла вердикт Валентина. — А он богатый?
— Нет. Точно не знаю, но скорее всего, нет.
— А что это у него с руками? — Комин снял свитер, и Валя заметила белые повязки у него на запястьях.
— Вены резал, — сказал я.
— Да ты шо! — Валины глаза вспыхнули от любопытства, она оставила кофейную машину и пододвинулась ближе. — Вены резал? Из-за женщины?
— Нет, не из-за женщины. Как бы тебе объяснить… Из-за идеи.
— Да ты шо! — восхищенно выдохнула Валя.
— Слушай, у меня собственно есть к тебе дело, — начал я, стараясь подобрать нужные слова. — Саша сейчас живет у меня дома. Он уже успокоился, врачи сказали, что больше он этого делать не будет, но надо за ним как бы немножко приглядывать, понимаешь?
— Понимаю, — кивнула Валентина. — Конечно, это дело такое. Надо приглядывать.
— А у меня завтра очень важная встреча. Мне нужно отъехать часа на три, — я внимательно следил за ее реакцией. — Не могла бы ты приехать ко мне домой и побыть с ним? Ты ведь завтра, кажется, свободна?
— А шо, могу, — легко согласилась Валя. — Я тут как-то раз за старичком сумасшедшим ухаживала, попросили меня хорошие люди, очень приличная семья, и старичок был тихий. Я ему книжки вслух читала. Заплатили очень хорошо.
— Вот, вот! — воскликнул я обрадовано. — Побудь сиделкой. Я тебе заплачу.
— Брось, Володя! — махнула она рукой. — Какие тут деньги! Мы же друзья! Приведешь как-нибудь в бар клиента, такого, как Толик, только не сильно пьющего, вот и сочтемся! — она хихикнула и выставила на стойку две чашки кофе.
На следующий день она появилась у меня дома, опоздав всего на двадцать минут, что было для нее верхом пунктуальности. Валентина была густо накрашена, в руках у нее был пакет с едой. Ухаживать за больным она решила по всем фронтам.
— Позаимствовала у Марко, — она выложила на стол итальянскую ветчину, сыр и хлеб. — У вас-то тут поди шаром покати. А где он? — Валя поправила прическу.
— У себя, — я кивнул на закрытую дверь в гостевую комнату. — Он почти не выходит. Саша, Валя пришла! — крикнул я.
Я заранее предупредил Комина о приходе Валентины. Он лишь пожал плечами, но возражать не стал.
— Пусть отдыхает, — сказала Валентина. — Тебе уже пора? Беги, ни о чем не беспокойся.
Совсем не беспокоиться я не мог. Во время встреч все время поглядывал на экран мобильного телефона, боялся пропустить звонок. Потом сам позвонил, предупредить, что немного задержусь — дел накопилось очень много.
— У нас все хорошо, — сообщила Валя.
— Чем занимаетесь?
— Мы разговариваем, — после некоторой паузы сказала Валя. Голос ее звучал как-то очень серьезно, без тени обычной игривости.
Я отменил еще одну встречу, которая, впрочем, была не особо важной, и поехал домой, но сначала купил игристого вина, фруктов и сладостей из «Шпрюнгли» побаловать Валентину.
Комин и Валя сидели на кухне. Вид у них был такой, словно я вторгся в интимный разговор — Комин нахмурился, а Валя смутилась, чего с ней, кажется, никогда не случалось.
— Все хорошо? — спросил я.
— Все хорошо, — Валя встала и суетливо стала собирать свои вещи.
— Куда ты торопишься? Поужинай с нами! — я тряхнул пакетом. — Тут пирожные, специально для тебя.
— Нет, спасибо, — сказала Валя. — Я поеду, мне надо…
Я посмотрел на Комина. Сделал ему знак, чтобы он тоже поучаствовал в уговорах. Комин отвернулся. Если бы он был полностью здоров, я бы мог подумать, что он злится на меня за то, что приехал слишком рано. Выходит, он был здоровее, чем я предполагал, и я зря отменил встречу. Но кто ж знал!
Я пошел проводить Валентину до станции. Она шла молча и смотрела себе под ноги.
— Как все прошло? — спросил я.
— Хорошо, — сказала она.
— О чем разговаривали?
— Да так, — Валентина шмыгнула носом, на улице было холодно.
— А все-таки?
— Саша мне предложение сделал.
— Какое предложение? — не понял я.
— Выйти за него, какое же еще…
Я остановился, пораженный.
— Серьезно?
— Серьезно, — Валя снова шмыгнула. — Он хочет, чтобы я ему ребенка родила, и не одного, он хочет девочку и мальчика. Чтобы они были такими же красивыми, как я, — Валя мельком взглянула на меня. — Это он так сказал. Он говорит, моя красота — это дар, ее нельзя растрачивать по пустякам. Мне ведь уже тридцать пять лет, — Валя смахнула слезу с ресницы. — Только ты не подумай, — быстро заговорила она, — я его ни к чему такому не подбивала. Думала, посидим, просто поболтаем. А он сказал, что еще тогда, в баре, когда первый раз увидел меня, решил, что я должна стать его женой. Не веришь? — Валя взглянула на меня, глаза ее были красными.
— Верю, — сказал я, все еще не в силах отойти от удивления.
— Он сказал, что дети наши обязательно станут космонавтами, и все человечество скоро улетит в космос, и каждый человек будет жить по тысяче лет, он так интересно рассказывает! Прямо хочется верить, — вздохнула Валя.
— А ты ему что сказала?
— Ну, я про космос мало что знаю…
— Да не про космос! Про замужество!
— А про это… — Валя опустила голову и вздохнула. — А шо я могла сказать? Сказала, что подумаю. Я ж понимаю, это у него от болезни. Хотя так красиво замуж меня еще никто не звал. — Она достала платок. — Знаешь, Вовка, вот мы с тобой обычные люди, копошимся тут чего-то, денег мечтаем заработать, а Саша — он такой… такой космический! Может, от таких людей и надо детей рожать? — Валя засмеялась, вытирая слезы.
Подошел ее поезд.
— Ты меня больше сиделкой к нему не зови, — сказала она уже серьезно. — А то боюсь, не устою. А зачем нам проблемы, правда? — Валя махнула мне рукой и зашла в вагон.
Поезд тронулся, скоро его огни исчезли за поворотом. В свете фонаря плавно летели к земле снежинки. «Снежный космос», подумал я. Постоял еще немного, глядя в черное небо, и пошел домой.
Когда я вернулся, Комин все еще сидел за столом. В руках у него была бутылка игристого вина, которую я принес.
— Покрепче ничего нет?
Увидев мою нерешительность, Комин добавил:
— Не бойся, я уже в норме. С сегодняшнего дня можешь считать меня здоровым.
Я достал виски и стаканы. Разлил по чуть-чуть.
— Ну, за выздоровление? — предложил я.
— Угу, — кивнул Комин.
Мы чокнулись, сделали по маленькому глотку. Помолчали.
— Какие планы? — спросил я.
— Уеду, — сказал Комин.
— Куда, если не секрет?
— Домой, — ответил Комин. — В Одессу. А еще лучше в глушь куда-нибудь, устроюсь учителем в сельскую школу, буду жить на чердаке, как Циолковский. Валентину с собой возьму, если согласится.
— Валентина на чердаке жить вряд ли согласится, — заметил я.
— Тем хуже для нее, — произнес Комин.
— А как же БазельУорлд? — осторожно спросил я.
Комин помедлил с ответом, разглядывая пустой стакан.
— Не вышло, — сказал он. — Амман с корешами отказались иметь с нами дело. Категорически.
— Я предупреждал.
— Угу, — кивнул Комин. — Ты предупреждал.
— А без Аммана что ж? Никак?
— Без Аммана никак. Чтоб все получилось, стенд на выставке нужен. Свободных уже нет, ни за какие деньги. Налей еще, — он пододвинул стакан.
— Не налью, — я убрал бутылку со стола. — И что теперь с колонизацией космоса?
— Ничего, — сказал Комин. — Кишка тонка.
— У кого?
— У меня. Ты был прав, мой дорогой друг! — он возвысил голос. — Кругом прав. Просто удивительно, почему такие, как ты, всегда оказываются правы! Вам самим-то от этого не противно?
— Противно, — признался я. — Даже не представляешь как…
Помолчали.
— Может, не стоит так вот сразу ставить крест на всем, — сказал я. — Отдохнешь, соберешься с силами, с мыслями…
Комин сидел неподвижно и смотрел в сторону.
— Запутался я, — сказал он, наконец. — Все пошло не так… Даже не знаю когда. Наверное, с самого начала. Не стоило… — он снова замолк.
— Брось! — сказал я. — Ты такое дело закрутил! У тебя тысячи сторонников по всему миру! Тебя молодым Ганди считают. Серьезно! Лично слышал!
— Это не меня, — сказал Комин. — Это Алекса Кея.
— Так ты вроде и есть Алекс Кей. Разве нет?
— В том-то и дело, что «вроде», — усмехнулся Комин. — «Вроде» да, а на самом деле… Даже не знаю, кто я на самом деле. — Он взял со стола пустой стакан, подержал и поставил на место. — Надо было сидеть на своем камбузе и не рыпаться. Там хорошо было. На завтрак — каша, на обед — борщ, на ужин — голубцы. Куда я полез? Зачем? Почему? А знаешь почему? Из-за тебя! — он повернулся ко мне. Глаза у него были, как у человека, измученного зубной болью.
— Из-за меня?! — я испугался, не нервный ли это припадок.
Но Комин быстро успокоился, провел ладонью по лбу и отвернулся, глядя в угол.
— Но почему из-за меня? — спросил я осторожно.
Комин кольнул меня злым взглядом и снова отвернулся.
— Я там, в Антарктиде, часто вспоминал тебя. Наши разговоры, наши споры. Думал, вот друг-Володька двигает науку, за нас за всех, беспутных, отдувается. Золотой человек. Ты там для меня примером был. Героем. Это ведь Володька Завертаев на третьем курсе, на морской практике, в шторм сорванную антенну доставать полез. Все обделались от страха, а он полез. И достал. Это ведь Володька Завертаев, когда все по кооперативам разбежались, в аспирантуру пошел, на сорокарублевую стипендию. Друг Володька… — Комин замолчал.
Мы долго сидели в тишине.
— Слушай, а давай еще попробуем, — сказал я. — Как ты это делаешь? Ну, чувство космоса это, — я пересел на диван.
— Что? — не понял Комин.
— Чувство космоса! Я пробовал много раз, не получается у меня.
— Сейчас?…
— Ну да, давай попробуем! Должно получиться. Что надо делать, говори!
Комин помедлил.
— Хочешь, значит, научиться? — спросил он.
— Да, хочу, — ответил я. — Серьезно.
Он сел рядом со мной на диван, откинулся на спинку и вытянул ноги. Я тоже откинулся на спинку и вытянул ноги.
— Подыши глубоко, чтоб успокоиться.
— Я спокоен.
— Закрой глаза, — сказал Комин.
Я закрыл. Вечерняя тишина обратилась в монотонный гул, в темноте перед глазами поплыли какие-то мутные круги, и вдруг, как вспышка, мелькнула неожиданная мысль.
— Постой-ка! — я открыл глаза. — Кажется, я знаю, как получить стенд на БазельУорлде.
Ночью я никак не мог уснуть. Коминский герой, «Володька Завертаев», не давал мне покоя. Володька Завертаев, аспирант Института Прикладной математики, знаменитого Келдышевского института, полный надежд, устремлений, благоглупостей, готовый сидеть с утра до ночи в вычислительных центрах. Только все вдруг закончилось, внезапно, в считанные месяцы 1992 года. В отделе Планетных атмосфер, куда я был приписан, из одиннадцати сотрудников за полгода осталось четверо. Великолепная четверка. Мясницкий, неплохой в сущности человек и толковый исследователь, но пьющий. Неуклонно сокращавшийся промежуток между запоями не позволял ему оформить выездные документы. Славин, поэт. Ночами писал белые стихи, без рифмы и очевидного смысла. После обеда появлялся на рабочем месте, чтобы распечатать стихи на институтском принтере. Пока листы серой казенной бумаги медленно ползли из раздолбанного принтера, Славин объяснял мне, что рифмы нет, потому что время сейчас такое, нерифмованное. Появится ли рифма снова — большой вопрос. Закончив с распечатыванием, Славин созванивался с очередной музой и исчезал. Был еще Федя, недавний аспирант, начинающий коммерсант. И я. Мой научный руководитель, член-корреспондент Академии наук Омаров, стремительно уехал в Америку, по едкому пояснению Мясницкого, «преподавать математику в кулинарном техникуме». Мне он оставил ворох смутных инструкций, общий смысл которых было несложно угадать: вали отсюда. Я пытался сопротивляться обстоятельствам. Честно пытался. Во время частых командировок в Петербург питался в основном консервированной морской капустой и хлебом, потому что ни на что другое не хватало денег. Подрабатывал на рынках, репетиторствовал. Это не было трагедией, наоборот, довольно весело. Я был молод, здоров, и готов есть морскую капусту сколь угодно долго, если бы не одно досадное обстоятельство — все, чем я занимался, было решительно никому не нужно. Моя тема была недостаточно проработана, чтобы заинтересовать западных грантодателей, поэтому никого увлечь ею я не мог. Продвигать тему самому, без руководителя, не очень получалось, не хватало знаний.
Единственным человеком, который был готов, из сочувствия, посмотреть на результаты, был Мясницкий. Взамен я должен был слушать, что Мясницкий думает по поводу происходящего вокруг. Происходящее он не одобрял, поэтому пил все больше, и наши встречи случались все реже.
Приятель из бывших младших научных сотрудников затеял издание глянцевого журнала, одного из первых в России. Дело было интересное. Он нашел деньги на проект и позвал работать к себе. Я понимал, что это шанс переменить жизнь, другого такого может и не представиться. Нужно было сделать выбор, и я его сделал: бросил аспирантуру и стал журналистом.
Ну а дальше кривая вывела меня к швейцарским часам. Довольно типичная история, в духе времени. Поддался обстоятельствам. Мог не поддаваться, потерпел бы лет пять-десять, защитил бы кандидатскую. Или не защитил бы. Мог спиться, как Мясницкий, мог сойти с ума, как Славин, или просто сгинуть. Получилось так, как получилось. Что ж теперь терзаться?
Даниэль Шапиро пребывал в сильном волнении. Он вскакивал с места, начинал мерить ателье шагами, усаживался, опять вскакивал. Пил воду, заламывал руки, хватался за сердце, за голову. За окнами давно стемнело, наш разговор продолжался уже больше двух часов.
— Не волнуйся, Даниэль, — успокаивал его я. — Деньги тебе переведут хоть завтра. Рассчитаешься с банком, и еще останется. У тебя есть твое ателье, руки, голова. Запустишь новую марку!
— О, мой «Роже де Барбюс»! Мое дитя! — трагически восклицал Даниэль.
— «Роже де Барбюс» будет блистать на нынешнем Базеле, как ни в чем не бывало. И ты навсегда останешься основателем марки, это будет написано во всех каталогах. Твой ребенок подрос, пора ему начинать самостоятельную жизнь, без родителей. Так всегда бывает с детьми.
— Нет, нет! — замотал головой Даниэль. — Он еще не готов, у меня еще столько идей!
— Даниэль, — вздохнул я, повторяя это в десятый раз. — Ты же сам прекрасно понимаешь, твоим кредиторам не понравится, что ты тратишь кучу денег на участие в выставке. Ты почти банкрот. Когда ты в следующий раз придешь просить об отсрочке выплат, банк заберет у тебя ателье. Тебе невероятно повезло! Серьезные люди заинтересовались твоей маркой! И главное — «Роже де Барбюс» будет на Базеле! Правда, без тебя.
— Но нельзя ли сделать так, чтобы я тоже… — взмолился Даниэль.
— Нет, — решительно покачал я головой. — Я тебе уже сказал, их обязательное условие — ты больше никак не вмешиваешься в дела марки. Никак!
— Я понял! — Даниэля пронзила ужасная догадка. — Я понял! «Роже де Барбюса» покупает русская мафия! — Он схватился за голову и принялся раскачиваться.
Я подождал, пока это маленькое представление закончится, и сказал:
— Мы оба прекрасно знаем, что это не так, но если тебе хочется думать, что «Роже де Барбюса» купила русская мафия — пожалуйста!
— Нет, — произнес Даниэль. Он напустил на себя измученный вид, словно его и вправду ночь напролет пытали. — Я так не могу. Я не знаю, какие намерения у этих людей.
«Еврейское упрямство плюс швейцарская щепетильность — этого мне не одолеть», — подумал я с раздражением. Мой план оказался под угрозой срыва.
— Хорошо, я скажу тебе, какие намерения у этих людей, если ты обещаешь, что это останется между нами, — сказал я.
— Даю слово, — торжественно произнес Шапиро.
— Эти люди намерены взорвать БазельУорлд.
Я ляпнул это больше от раздражения, чтобы встряхнуть старика. Думал, сейчас он скажет «ой!», схватится за сердце, начнет сползать со стула.
Но ничего такого не произошло. Шапиро весь подтянулся, лицо его стало серьезным. Он прочистил горло и переспросил:
— Что?
— Не пугайся! — сказал я. — Взорвать не в буквальном смысле, это метафора. Человеческих жертв не будет, обещаю. Это можно назвать политической акцией, или даже не политической, а гуманистической. Они пустят дым, совершенно безвредный для здоровья, и лазером спроецируют на дымовой стене свои лозунги. Получится световое шоу, как на рок-концерте. Для этого им нужен стенд в первом павильоне, чтобы смонтировать оборудование и все приготовить.
— Они коммунисты?
— Нет.
— А чего же они добиваются? Что за лозунги?
— Они добиваются, чтобы таких глупых мероприятий, как этот БазельУорлд, больше не было. Чтобы интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы человечества распределялись более разумным образом. На большие, высокие цели. На освоение космоса, например.
Даниэль еще раз прочистил горло.
— Ты не поверишь, Владимир! Я сам об этом все время думаю!
— О космосе? — удивился я.
— Нет! О том, что БазельУорлд — это бесполезная, вредная затея. БазельУорлд — это диктат больших компаний, он опасен для часового искусства, мешает свободе творчества. БазельУорлд — это глобальный часовой «мак-дональдс»! Это балаган, уличный цирк для примитивных людей! — Даниэль преобразился, глаза его засверкали, от обычной изможденности не осталось и следа. — Вчера у меня был клиент, он спросил, почему у меня нет видео в интернете! У всех серьезных марок есть десятки видео, а у «Роже де Барбюса» нет ни одного! Я ему ответил, я часовщик, а не голливудский продюсер, я делаю часы и только часы! Если он хочет смотреть кино, пусть идет в кинотеатр! Он ничего у меня не купил, потому что у меня нет видео! Представляешь? Они теперь снимают кино про часы! Спецэффекты, компьютерная графика — и вуаля! Любая дешевая штамповка на экране выглядит, как космический корабль! И этому верят! Этого хотят! Реальность больше никого не интересует! — Даниэль порывисто опустился в кресло. — Я много думал над этим, Владимир! Я понимал, что это мой последний БазельУорлд, и я собирался громко хлопнуть дверью на прощанье. Взорвать БазельУорлд! Это правильно! Я с вами, друзья! Я присоединяюсь!
Такой бурной реакции я не ожидал, и уже не знал, радоваться мне или расстраиваться.
— Даниэль, ты можешь быть с нами только мысленно, я же предупреждал!
— Да, да, я понимаю, — спохватился Шапиро. — Я не могу участвовать, но я могу быть зрителем, не правда ли? Я приду как посетитель, куплю билет, разве это запрещено? Я буду аплодировать этим смелым людям!
— Это сколько угодно, — согласился я.
Через два дня часть денег, необходимых для покупки «Роже де Барбюса», перевел Томас из своего новоиспеченного фонда.
Уговорить Томаса опустошить фонд оказалось совсем несложно. Я устроил их встречу с Коминым. Мое присутствие было лишним, я знал, что обаяние Комина действует на всех, кроме меня, поэтому лучше, если они с Томасом встретятся наедине.
Чтобы соблюсти шпионские традиции, я отправил их в круговой круиз по Цюрихскому озеру на колесном пароходе «Штадт Цюрих». Согласно моему плану, Комин сел на пароход на Бурклиплац, а Томас поднялся на борт в Талвиле. Погода была отвратительной, шел снег с дождем, обычно забитый туристами до отказа пароход оказался почти пустым. Четыре часа, пока длился круиз, я провел в большом волнении. В положенное время «Штадт Цюрих», мощно подрабатывая колесами, ткнулся в причал Бурклиплац. Вместе с группой китайских туристов на берег сошел Комин. Выглядел он расстроенным. Он направился к уличному киоску и заказал себе кофе. Я встал рядом.
— Как все прошло? — спросил я, не поворачивая головы.
— Хреново! — ответил Комин, у меня похолодело внутри.
— Что?
— Туманом все заволокло! Замок в Рапперсвиле вообще не увидели!
— А что Томас?
— Томас сказал, чтобы я не расстраивался, в Рапперсвиль на поезде можно съездить, это близко.
— А деньги, деньги для Шапиро он переведет? — прошипел я.
— Конечно, переведет! — пожал плечами Комин.
— Прекрасно! — я огляделся по сторонам. — Теперь уходим по одному, сначала я, минуты через три ты, но не раньше!
Денег фонда немного не хватило. Недостающую часть добавил Толик. Тот самый, который увез в Сургут шапировское «Открытое сердце». Толик позвонил мне сразу после возвращения из Сургута и предложил встретиться в ресторане «Хильтль».
— В «Хильтле»? — встревожился я. — Что случилось, Толик? Ты здоров? Что-то с часами?
«Хильтль» — знаменитый цюрихский вегетарианский ресторан, считается, что самый старый в мире. Спиртное там подают в гомеопатических дозах, пива не держат, так что встречаться в «Хильтле» с Толиком — это все равно, что справлять День Десантника в кондитерской.
— Я в порядке, и часы в порядке, — успокоил меня Толик. — Приходи, все расскажу.
До ресторана я добрался с небольшим опозданием. Толик уже сидел за столиком и ковырял вилкой капустный шницель с сельдереем. Перед ним стоял стакан свежевыжатого сока. Выглядел Толик изменившимся. Пьющий человек часто выглядит изменившимся, особенно если пьет не все время, а с перерывами. Судя по прямой спине, гладковыбритым щекам и соку на столе, у Толика был такой перерыв.
— С Сургута не пью! — подтвердил мою догадку Толик. — Ем кроличий корм, — он кивнул на шницель. — Пью сок и воду. И все благодаря тебе!
— Вот как!
— Спас ты меня, Володька! Просто спас!
Я удивился еще больше.
— Точнее не ты сам, часы твои спасли! Вот эти самые! — Толик вскинул запястье и продемонстрировал шапировские часы, в целости и сохранности. Я облегченно перевел дух.
— Видишь, «сердце» открыто! Полный завод! — Толик снял часы и протянул мне. — Возвращаю с благодарностью.
Я вернул Толику «дайтону», обмен наконец-то состоялся.
— Так что ж все-таки произошло?
— Произошло чудо, — сказав это, Толик с робкой надеждой оглянулся на далекую стойку бара, где на самой верхней полке, над длинными рядами фруктовых сиропов, сиротливо жались друг к другу несколько бутылок алкоголя. Он будто ждал, что кто-нибудь окликнет его из-за стойки: «Ваш мартини готов!». Но никто не окликнул. Так бывает — стоит случиться одному чуду, человек уже сразу ждет следующего. Толик вздохнул, не без отвращения пригубил сок и начал рассказывать.
— В Сургут я полетел к Упырю. Это я так его про себя называю. По-другому называть его сложно, потому что упырь и есть. Он мой давний клиент. Должны были с ним один трансфер обтяпать, всех дел на сутки: днем прилетаю, вечером подписываем в ресторане бумаги, утром — обратно в Москву. Прилетел, сижу в ресторане, Упыря нет, телефон не отвечает. Дозвонился до его секретарши, через час получил ответ: сегодня ничего не состоится, все состоится завтра. Ни «извините», ни «пожалуйста». Их фирменный стиль. Назавтра ситуация повторяется, а потом еще раз, и еще. Упырь во всей своей красе. А я все эти дни в гостинице. За окном минус тридцать, темень, пурга метет. Гостиница нормальная, бар, ресторан, бассейн, но все равно, на стены лезть хочется. А тут еще часы твои. Ты ж не объяснил толком, как они работают. Сказал только, если я их ношу и окошко закрывается, то типа я подонок. Или как-то так. Ну, у меня окошко, естественно, закрылось. Вручную-то завести их можно, а вот, чтобы сами — никак. И в тренажерный зал с ними ходил, и в ночном клубе колбасился. Что-то там внутри у них происходит, но явно что-то не то. Заело меня. Я, конечно, не святой, но не до такой же степени. Ладно, думаю, сыграем по вашим правилам. Вот сейчас пойду в магазин, накуплю игрушек и отнесу их в детский дом, — Толик закашлялся и смочил горло соком.
— Неужели отнес? — не выдержал я.
— Нет, — грустно ответил Толик. — Уже совсем собрался, но потом представил себе этих сургутских детдомовцев: а, игрушки… спасибо, конечно, дядя. Накуролесили где-то, а теперь к сиротам, игрушками откупаться пришли? А вы на себя в зеркало смотрели? Не просыхаете неделю уж, поди. Нельзя вам в таком виде к детям. Страшно очень.
— Что, пил сильно?
— Пил, — кивнул Толик. — А что там еще делать? Сургут, пурга, Упырь. Тут еще часы твои. Не поверишь, я с ними разговаривать начал! Спорил с ними, доказывал чего-то… — Толик усмехнулся и замолчал, ковыряясь вилкой в тарелке. — А я ведь в сущности не самая большая скотина. — Он поднял на меня глаза, словно ожидая возражений. — То есть я хочу сказать, в моей работе, может, и проще быть скотиной. Продуктивнее. Лизать нужные задницы, топтать тех, кто послабее. Упырь вон, вытирал об меня ноги каждый день, потому что считал меня своей челядью. Он всех считает своей челядью, кроме тех, у кого сам в челяди состоит. Но я не челядь! Я никому ничего вылизывать не буду! — это было сказано достаточно громко. За соседними столиками начали оглядываться. Толик вспомнил, что он не в «Нельсоне», и взял себя в руки.
— В общем, на очередное назначенное свидание с Упырем я не пошел. Просто не пошел и все. Собрал чемодан, поехал в аэропорт и улетел в Москву. Уже в Москве читаю в газете — Упыря взяли, в тот самый день, в том самом ресторане, где мы должны были встречаться. Борьба с коррупцией, понимаешь.
— Он чиновник, что ли?
— И чиновник, и бизнесмен, и главный тамошний бандит. Упырь, короче. Кому-то еще более упыристому дорогу перешел и загремел. И я бы с ним за компанию загремел. Так загремел бы, образцово-показательно! — Толик покачал головой. — Нам ведь с такими людьми иметь дела строжайше запрещено. Это против правил банка. Правила очень интересные: план давай, а с упырями не связывайся. То есть пока все гладко, на это глаза как бы закрываются, есть разные схемы, разные обходные варианты, но если ты попался — на тебе оттопчутся все. Так оттопчутся, что потом даже в таксисты не возьмут. Ох! — Толик отодвинул от себя тарелку. — Не принимает душа. Надо все-таки выпить!
— Не надо! — твердо возразил я.
— Считаешь? — Толик бросил затравленный взгляд в сторону бара. — Да, пожалуй, не стоит. Не то место. — Он снова пригубил сок, словно это было успокоительное лекарство, очень противное на вкус.
— В общем, спасибо тебе, Володька, за часы! — сказал он, когда лекарство подействовало.
— Это надо того, кто их сделал, благодарить, — ответил я, еще не решив, хорошо это или плохо, что я не могу рассказать эту историю Шапиро.
Когда я позвонил Толику спустя почти два месяца после ужина в «Хильтле» и спросил, не хочет ли он вложиться в марку «Роже де Барбюс», Толик согласился без раздумий.
— Только предупреждаю, — сказал я, — инвестиция очень рискованная. Возможны всякие сюрпризы. Лучше тебе официально не светиться.
— «Открытое сердце» мне как инвестору полагается? — спросил Толик, смеясь.
— Пожалуй, что полагается.
— Тогда так, — сказал он уже серьезно, — деньги дам. Считай это предварительной оплатой заказа на десять штук по оптовой цене. Я найду для них сбыт, можешь не сомневаться.
Так я, Владимир Завертаев, стал владельцем часовой марки «Роже де Барбюс» со стендом в Первом павильоне на открывавшейся через месяц выставке «БазельУорлд».
Была у меня еще одна забота. Слова Шапиро о важности видео запали мне в душу. «Этому верят! Этого хотят!». Нам для нашей акции тоже нужно было хорошее видео. Понятно, что на выставке будут сотни репортеров, но что они смогут снять без подготовки, в экстремальных условиях? Нам нужен был собственный надежный видеооператор, с твердыми руками и железными нервами. Один такой был у меня на примете. Мы познакомились еще в бытность мою журналистом, во время официального мероприятия на Сен-Готардском перевале. В годовщину перехода Суворова через Альпы в Швейцарию по традиции прибыла рота воспитанников Суворовского училища. Суворовцы, швейцарский почетный караул, официальные лица, журналисты заполнили тесную площадку перед памятным каменным крестом. С одной стороны от площадки — отвесная скала, с другой — пропасть, по бокам — нагромождение камней и узкая дорожка. Снимать было неудобно, никак не выбрать подходящий ракурс для общего плана, чтобы попали в кадр и крест, и участники мероприятия. Вдобавок погода была наимерзейшая, сентябрь на этой высоте уже глубокая осень — мокрый снег, пронизывающий ветер. Я сделал два заведомо плохих кадра и успокоился. Коллеги вокруг меня поступили так же. Вдруг один из них толкнул меня локтем в бок и показал наверх. В паре десятков метров над площадкой, на скользком, лоснящемся от влаги утесе я заметил одинокую фигуру с видеокамерой. Оператор без всякой страховки вел съемку прямо над бездной, рискуя соскользнуть в ущелье. Вдобавок по ходу съемки он несколько раз менял позицию, перепрыгивая с камня на камень.
— Камикадзе! — решили мы с коллегой.
После церемонии, когда суворовцев и швейцарских солдат повели кормить гречневой кашей из полевой кухни, а штатские набились в ресторанчик у Чертова моста, я разыскал бесстрашного оператора. Мы познакомились. Оказалось, что зовут его Рустам, родом он с Урала, из районного центра в ста километрах от Челябинска. На мероприятии он шабашит для кантонального телеканала, а вообще-то у него собственная студия по производству свадебного видео.
— Какого видео? — переспросил я, с изумлением разглядывая щуплую фигурку, раскосые глаза и ежик коротко остриженных по райцентровской моде волос.
— Свадебного, — повторил Рустам. — Свадьбы снимаю. Тут, и в соседних кантонах тоже.
Я немедленно сгонял в бар еще за водкой и заставил Рустама рассказать свою историю. Она, как и следовало ожидать, оказалась очень интересной.
Свое первое видео Рустам снял еще школьником, на свадьбе старшего брата. Брату так понравилось, что он подарил ему камеру. Ну и пошло-поехало. Приемы съемки и монтажа Рустам освоил очень быстро, бесспорно, у него был к этому талант. Однако же главный талант свадебного оператора — умение оправдать ожидания заказчика. Заказчику нужны простые вещи — чтобы невеста выглядела красавицей, чтобы в кадре не было «пьяных рож», чтобы было где посмеяться, и еще спецэффекты. Спецэффекты, как ни парадоксально, самая легкая часть работы. Сложившийся в районном центре канон свадебного видео содержал строго определенный набор спецэффектов.
— «Огненный поцелуй», «жених-подкаблучник», «летающие сердца», «чудесное исчезновение невесты» — это обязаловка, — рассказывал мне Рустам. — Плюс у татарских свадеб свои нюансы, у бандитских свои. Тут надо сечь фишку строго. Но если эту фишку один раз просечь, дальше все пойдет, как по маслу.
Заказчиками у Рустама были люди большей частью консервативные, охранительно-почвенного склада, отступлений от канонов они не любили, никаких экспериментов и творческих фанаберий не принимали.
— Я все точки съемки в округе заранее «пристрелял». Ракурсы, наезды — до автоматизма. Для спецэффектов — шаблоны сделал, титры с вензелями и золотыми переливами, как положено, — только имена подставляй. Музыки накачал, десять гигабайт одного только шансона, Мендельсона — двадцать вариантов вплоть до хип-хопа…
Рустам поставил производство добротного видео практически на конвейер, запустил свадебный Болливуд районного масштаба.
Года два пожинал плоды заслуженного успеха, а потом заскучал. Тесен стал дня него райцентр. Попробовал сунуться в Челябинск, но там конкуренты уже после второй свадьбы пригрозили разбить камеру.
Рустам хотел было расстроиться, но не успел. Судьба благоволит к мастерам, и вскорости в карьере видеоэнтузиаста произошел головокружительный сюжетный поворот. Одна из поселковых красавиц собралась замуж за швейцарца, разысканного, как водится, по интернету. Жених оказался хорошим, не жадным, поэтому свадьбу решили отыграть два раза. Сначала в поселке, потом тоже в поселке, только в альпийском, на родине жениха. Рустам отработал четко и быстро, в полном соответствии с каноном, уже через три дня вручил молодым стопку ДВД-дисков в нарядных обложках. Швейцарец пришел в восторг, он сказал, что именно Рустам должен внимать и второй дубль свадьбы, в альпийских декорациях, и что он готов оплатить ему поездку.
— Потом-то я понял, что он просто сэкономить хотел, — делился Рустам. — Даже с учетом проезда и проживания, я им в два раза дешевле обошелся, чем местные тарантины.
Как бы там ни было, Рустам оказался в Швейцарии, в горном кантоне Ури, где природа сурова, а люди сдержанны и немногословны. И хотя они чем-то напоминали уральских жителей, Рустам понимал, что канон нужно откорректировать.
— Я перед поездкой кучу свадебного видео из Европы пересмотрел. Удивился очень — они тут вообще почти без спецэффектов работают. Ни «огненных поцелуев», ни «женихов-подкаблучников». Кадр, монтаж, звук — все гладко, не подкопаешься, но, блин, — скучно! Без души. Будто не свадьба, а вручение почетных грамот передовикам производства. В наших краях за такое творчество могут и рожу начистить.
Прибыв на место и немного пообщавшись с женихом, его родственниками и другими жителями деревни, Рустам не нашел ни одной причины, по которой этим симпатичным людям могли бы не понравиться «огненные поцелуи» или, например, «летающие сердца».
«Подкаблучника» следовало убрать просто потому, что не было соответствующей фольклорной базы, а в остальном все должно было выстрелить. Рустам пошел на риск — наплевав на пресных европейских авторитетов, он скроил швейцарское деревенское свадебное видео по слегка измененным уральским лекалам. Рискнул и не прогадал, культурные коды Урала и кантона Ури подошли друг к другу, как ключ подходит к замку. Двухчасовой видеофильм был встречен благосклонно, без громких восторгов, но с рукопожатиями и похлопываниями по плечу — что в Челябинской области, что в кантоне Ури, это означало одну из высших степеней одобрения. Рустам почти сразу получил заказ на еще одну свадьбу, потом еще на одну, а дальше — свадьбы — дело такое — среди праздничной толчеи в соседней деревне нашлась невеста и для русского видео-оператора, и он окончательно перебрался в Швейцарию. Впрочем, о своей семейной жизни Рустам рассказывает скудно и неохотно, а я особо и не спрашиваю.
Дела у него пошли очень хорошо, заказов было много, и то, что он шабашил для местного телевидения — это, как он сам объяснил, не для денег, а для разнообразия, чтобы не замыливался глаз.
Мое предложение к нему тоже должно было заинтересовать его в смысле «разнообразия», и «незамыливания глаза».
На счастье, Рустам оказался в Цюрихе — приехал закупить кое-какое оборудование, мы встретились в кафе в торговом центре, я рассказал ему о готовящейся акции на БазельУорлде, предупредив, что все должно остаться между нами.
Рустам слушал внимательно, не перебивая, а когда я закончил, помолчал немного и произнес:
— Толково, — он сосредоточенно отхлебнул кофе. — По-хорошему, это надо, как минимум, тремя камерами брать, — сказал он как бы самому себе. — Две закрепить заранее, стационарно. Третья с рук…
— Мы заплатим, — вставил я.
Рустам поднял на меня раскосые глаза.
— Ты сам-то там за деньги, что ли?
— Нет, я — нет. Но деньги, в принципе, есть.
— Деньги… — Рустам усмехнулся. — Деньги мне женихи с невестами платят, от вас мне деньги не нужны. — Он помешал ложечкой кофе. — У меня к тебе тоже одна просьба будет…
— Конечно! — с готовностью откликнулся я. — Все, что могу!
Рустам вздохнул, подобрать слова ему было сложно.
— Фильм я задумал сделать, художественный. Надоело, понимаешь, свадьбы, свадьбы… Я еще дома примерялся, но теперь вот окончательно решился.
— Здорово! И что за фильм?
— Ну, как бы, экранизация… — Рустам откашлялся. — Данте, короче. «Ад».
Я подумал, что ослышался.
— Кто?
— Данте, — повторил Рустам. — «Божественная комедия», часть первая, «Ад».
Будь на месте Рустама другой человек, я бы подумал, что он шутит. Но прежде я никогда не видел и не слышал, чтобы Рустам шутил, и выглядел он серьезно, даже заметно побледнел.
— Понимаешь, — сказал он. — Никто этого не снимал. Мне, по крайней мере, не попадалось. А книга классная. Я много раз читал, очень нравится.
— Но… как?!
— Как снимать? — Рустам оживился. — В плане техники ничего особо сложного. Сейчас графические программы, знаешь, какие? Звери, а не программы! Все, что угодно, можно смоделировать.
— А люди… В смысле, актеры… Там же их сотни нужны!
Рустам цокнул языком:
— Вот! Тут заморочка. Массовка есть, это не проблема. С главным героем — проблема. Я сразу о тебе подумал, не поверишь! Еще до того, как ты позвонил. Подумал, вот Володька мог бы Данта сыграть! По всем статьям подходишь!
Я хотел возразить, но Рустам не дал.
— Ты писатель — раз! Возраст подходящий — два!..
— Во-первых, я не писатель…
— Но ты же пишешь в газету, значит — писатель!
— Подожди! — прервал я Рустама. — Спасибо большое тебе за доверие. Мне, честное слово, очень нравится твоя идея. Давай не будем ее портить. Ну какой из меня актер? Я даже на фотографиях всегда плохо получаюсь, камеры боюсь. Предлагаю тебе такой вариант… Пожалуйста, выслушай! — Рустам, открывший было рот, покорно застыл. — Мы тебе все-таки заплатим за твою работу на выставке, а на эти деньги ты наймешь для своего фильма профессионального актера, и он сыграет тебе в лучшем виде хоть Данта, хоть черта лысого.
— Профессиональный актер мне не нужен, — сказал Рустам. — Принципиально. Я хочу делать кино с нулевым бюджетом и непрофессиональными актерами. Знаешь поговорку такую, «Титаник» строили профессионалы, а Ноев ковчег — дилетант. Вот это будет мой Ноев ковчег. Ты подумай, Володя, с ответом не торопись. Можешь завтра сказать. Только не позже. Я с массовкой уже порешал, на субботу договорились.
— На эту субботу? Это что ж, один день всего?
— Да, пока один съемочный день. Я самое начало снять хочу, как Дант с Вергилием в ад входят.
— А Вергилием кто будет?
— Да там один… — нехотя произнес Рустам. — Я, правда, им не очень доволен. Молодой слишком, ветер в голове. У тебя, случайно, на Вергилия никого потолковее нет?
В голове у меня мелькнула неожиданная мысль.
— Кажется, есть, — ответил я.
— Брат! — раскосые глаза Рустама повлажнели. — Дай я тебя обниму!
Он встал из-за столика, и крепко сжал меня в объятиях.
Уговорить Комина не составило большого труда. Собственно, я его и не уговаривал. В пятницу вечером я объявил: «Завтра подъем в шесть, садимся в поезд и едем в Лугано». Комин попробовал вяло протестовать, но я сказал ему: «Послушай, это — свинство! Когда тебе нужна была моя помощь, ты выдергивал меня среди ночи, таскал по горам с жутким похмельем и считал, что так и нужно. А теперь мне, точнее, одному хорошему человеку нужна наша помощь, твоя и моя».
Комин не нашел, что возразить.
— А что надо делать? — спросил он.
— Сниматься в кино. Тебе досталась роль Вергилия.
— Кого? — удивился Комин.
— Вергилия, поэта. Я играю Данте. Это экранизация «Божественной комедии». Мы с тобой будем спускаться в ад.
— А почему в Лугано? Поближе спуска не нашлось?
— Не капризничай, ты пока еще не звезда. Режиссер сказал в Лугано, значит, в Лугано.
— Режиссер… — протяжно произнес Комин и больше ничего не сказал.
Два с половиной часа в поезде он проспал, слова роли учить отказался, всем своим видом показывая полное безразличие к затее. Я добросовестно прочитал свою роль два раза, а на третьем тоже уснул.
На вокзале в Лугано нас встречал Рустам. Он долго тряс нам руки и лез обниматься.
— Ребята, молодцы, что приехали! Как я рад вас видеть!
Мы сели в его машину и поехали в сторону пригородов.
— Все готово! — рассказывал Рустам. — Только вас ждем. Массовка — сто человек, представляешь? Таких съемок у меня еще не было! Я даже и мечтать не смел. Только времени в обрез, очень мало. В три часа нам всем надо в церкви быть.
— А церковь зачем?
— Как зачем? Это же свадьба!
— Свадьба? — удивился я.
— Ну да — свадьба!
— Ты же сказал, что съемки фильма!
— Правильно! — кивнул Рустам. — Сначала съемки фильма, а потом свадьба, точнее, это все одновременно.
Комин на заднем сидении тихо застонал, словно у него разболелся зуб.
— Понимаете, — Рустам повернулся к Комину, отчего машина вильнула в сторону обочины.
— Смотри на дорогу! — прошипел я.
— Понимаете! — снова начал Рустам. — Они мне сказали, что хотели бы чего-нибудь необычного, ну, чтобы это была необычная свадьба. Я им говорю, а давайте кино снимем, всем коллективом, «Божественную комедию». Я давно мечтал об этом, случая не представлялось. Они: О, супер, давай! Только они хотели не «Ад», а «Рай», вторую часть, то есть. Ну, вроде логично, у людей такое событие, начало семейной жизни. А мне «Ад» больше нравится, там все круче гораздо. И потом, «Ад» — это же начало произведения. В общем, мы долго спорили, и мне удалось их убедить. Решили снимать «Ад», первые главы. Для них это элемент юмора такой, им нравится. Да вы не переживайте, ребята! Эти заказчики — хорошие люди, я таких сроду не встречал, полюбил их, как родных. Правда, они все там только по-итальянски говорят. Немного сложно общаться. Я по-итальянски только «дестра» и «синистра» знаю, лево-право, то есть. Еще «переколозо».
— А что такое «переколозо»? — поинтересовался я.
— «Переколозо» значит «опасно», — объяснил Рустам. — Но вы не переживайте, там ничего такого нет. Говорю же, милейшие люди.
По бокам дороги мелькали пальмы, в промежутках между буйной тропической растительностью сверкала изумрудная полоска озера, светило солнце. Думать о плохом не хотелось.
Рустам свернул с шоссе на проселочную дорогу, тянущуюся среди виноградников.
— Вот и приехали! Это здесь, — машина въехала в широкие распахнутые ворота винного хозяйства. На выгоревшей от солнца вывеске можно было разобрать только слово «дегустации». Виноградники прилепились на крутом склоне. У подножия склона стоял красивый старинный дом и чуть в стороне пара таких же старинных сараев. Перед домом были устроены белоснежные навесы, под ними — длинные столы с винами и закусками и множество веселых людей. Похоже, обещанная на вывеске дегустация была в самом разгаре. Появление нашей машины люди встретили радостными возгласами и поднятыми бокалами. Рустам помахал из окна в ответ и направил машину мимо столов, к дальним постройкам.
— Перекусим в перерыве, — объявил он нам. — Сейчас быстро переодеваться!
Мы выгрузились у ветхого сарая, где была устроена гардеробная. Рустам порылся в тюках и извлек кусок белой ткани.
— Это туника Вергилия! — он протянул ее Комину. — Надевай!
Он снова порылся в тюках и достал ворох пестрого тряпья:
— А это тебе!
Мне предназначался цветастый балахон, кожаный пояс с кошельком и тюбетейка. Легкомысленная расцветка балахона внушала подозрения.
— Ты уверен, что это мужское? — спросил я. — Я все-таки Дант, а не боярыня Морозова.
— Мужское, мужское, — торопливо заверил Рустам.
«Послать его к чертям, режиссера этого, — подумал я. — Так ведь отсюда теперь не выберешься, завез, подлец, бог знает куда».
Я посмотрел на Комина, он вертел в руках тунику и думал, похоже, о том же самом.
Рустам почувствовал, что над проектом сгущаются тучи.
— Ну, вы тут переодевайтесь! — пропел он медовым голосом. — А я побегу, дам команду на общее построение. — И растворился в пыльном дверном проеме.
— Прохиндей! — бросил я ему в след. — Вот мы попали! Ты извини, Саня! — повернулся я к Комину. — Я ей-богу не знал, что тут свадьба!
Комин пожал плечами.
— Свадьба так свадьба! Давай одеваться, — он начал натягивать на себя тунику.
Я помог ему расправить складки, а он помог мне с балахоном. Среди разбитой мебели и куч тряпья обнаружилось старинное подслеповатое зеркало с коричневыми пигментными пятнами. Сквозь пыль и трещины в нем проявились две нелепые фигуры — завсегдатая Сандуновских бань и торговца дынями с узбекского рынка.
— Обувь подкачала, — сказал торговец, показывая на кроссовки на ногах у обоих.
Завсегдатай бань согласно кивнул.
— Надо поискать. Может, тут где-то есть сандалии.
Сандалий не нашлось, зато обнаружились старые сапоги для верховой езды и ветхие кожаные башмаки. Сапоги я взял себе, а башмаки достались Комину.
Когда мы закончили переобувание, вбежал запыхавшийся Рустам с бутылью прозрачной жидкости.
— Все готово! — объявил он. — Давайте, быстренько по стаканчику за успех предприятия! Это граппа, домашняя, чистый нектар! Эх, черт! — хлопнул он себя по лбу. — Стаканы забыл! Ну, ничего, из горлышка!
Он приложился первым, протянул бутылку Комину. Комин сделал несколько больших глотков и отдал бутылку мне. Граппа и вправду оказалась на удивление хороша и пришлась очень кстати. Отхлебнув три-четыре раза, я вернул бутылку никакому не банщику, а самому настоящему Вергилию.
Пышная брюнетка с отчетливыми усиками на верхней губе, немного смущаясь, выкрикнула что-то по-итальянски и громко хлопнула киношной хлопушкой.
— Так, ребятки! Пошли! Пошли! — скомандовал из-за установленной на штативе камеры Рустам. — Смотрим по сторонам, вы в волшебном лесу!
Слегка поддерживая друг друга, мы с Коминым тронулись по узкой каменистой тропинке. Никакого леса, ни волшебного, ни даже обыкновенного, вокруг нас не было. Были цветочные кусты, камни и колючие кучи срубленных виноградных лоз. Лес Рустам обещал вставить в фильм потом, на стадии монтажа.
— Стоп! Встали! — раздалась команда режиссера. — Смотрим наверх, видим огненные буквы. Вергилий, поднимай руку! Читай с выражением!
Прямо перед нами возник подросток с большим листом бумаги, на котором крупными буквами был написан текст.
— Я увожу к отверженным селеньям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколеньям, — начал читать Комин.
— Стоп! — закричал Рустам. — Торжественней! Умоляю, торжественней! А ты, Дант, что ты стоишь, будто трамвая ждешь?
— А что ж мне делать?
— Ужасайся!
— Я ужасаюсь.
— Что-то не заметно. Ты нагляднее ужасайся! Нагляднее!
Я промолчал, мысленно запустив в Рустама камнем.
— Еще разок! Поехали! — раздалось из-за камеры.
— Входящие! Оставьте упованья! — торжественно дочитал Комин надпись.
— Отлично! — выкрикнул Рустам. — Вы двое пока свободны. Теперь оркестр! Оркестро, пор фавор!
На тропинке появились люди с духовыми инструментами в цилиндрах и синих мундирах с длинными фалдами. Они быстро и организованно начали строиться в две шеренги.
Мы подошли к Рустаму, нацелившись на его сумку, валявшуюся рядом со штативом. Из сумки торчало горлышко бутылки с граппой.
Рустам быстро все понял и сам достал бутылку.
— В «Божественной комедии» разве был духовой оркестр? — спросил я, принимая бутылку. — Что-то я не припомню.
Рустам смущенно почесал нос.
— Не было, конечно. Но понимаете, у них в местной коммуне очень хороший духовой оркестр. Они кучу призов на всяких конкурсах собрали. Просто молодцы! Короче, устроители свадьбы меня попросили, ну, чтоб я оркестр задействовал. Так, мол, веселее, и вообще. А я что, мне не жалко… Тем более играют они и вправду очень здорово. Да что там оркестр! У них тут певица есть, сопрано, Сильвией зовут, что характерно, простая продавщица из супермаркета. Голос божественный! — Рустам молитвенно сложил руки, копируя своих итальянских заказчиков. — Они в этом деле тут очень здорово разбираются. Говорят, до Ла Скалы чуть-чуть не дотягивает. Вы сами услышите, она сейчас переодевается.
— Эк ты, брат, развернулся! — искренне подивился я. — Когда мы с тобой последний раз виделись, у тебя в арсенале «летающие поцелуи» да «золотые шары» были. А теперь — и сопрано, и оркестр с призами.
Рустам расплылся в довольной улыбке.
— Так растем потихоньку. Только вы не подумайте, что это свадьба ради свадьбы, — сказал он, обращаясь к Комину. — Я настоящее кино давно собирался снять. Вон, Володька подтвердит. Тут просто так совпало, и свадьба, и люди хорошие, и Данте. Все одно к одному.
Оркестр тем временем закончил построение.
— Надо дальше двигаться, — засуетился Рустам. — Вы далеко не уходите, скоро снова понадобитесь.
Над виноградниками грянул бодрый марш. Солнце весело играло в начищенных до блеска трубах, все вокруг улыбались, пахло сухими травами, небо было пронзительно голубым, а граппа мягкой и душистой. Действительно — все одно к одному.
Я развалился прямо на теплой земле, Комин сидел рядом и читал распечатки текста «Божественной комедии», которые я дал ему в поезде.
— Нравится? — спросил я.
Комин пожал плечами.
Вот и пойми, что этому человеку надо.
Я собрался было немного поспать, но перед нами снова возник Рустам:
— Подъем! Ваш выход! Значит, следующая мизансцена такая: Дант с Вергилием идут по дороге, видят накрытые столы, люди пьют и закусывают, Сильвия поет. Вергилий смотрит на все это так, немного отстраненно. Но Дант поражен. Ты поражен, — повторил мне Рустам. — Дант спрашивает: Чей это крик? Какой толпы, страданьем побежденной? Вергилий отвечает: То горестный удел…, и так далее, текст тебе покажут.
— Я знаю текст, — неожиданно сказал Комин.
— Знаешь? Прекрасно! — обрадовался Рустам. — Тогда начинаем! Все на исходные позиции!
— Эй, откуда ты знаешь текст? — я подтолкнул Комина плечом.
— Выучил, — ответил он.
Раздалась команда «мотор!». Заиграл оркестр, но уже не так громко и не марш, а что-то лирическое. Вступила величественная Сильвия со своим знаменитым на всю округу сопрано. На певице было длинное концертное платье с блестками. За накрытыми столами стихли разговоры, все стали слушать певицу, но вежливое молчание длилось не больше минуты, легкомысленное солнечное настроение взяло верх, и над столами вновь зазвучали смешки и засверкали улыбки.
Рустам снимал все это камерой с рук. Он подкрадывался то к певице, то к оркестрантам, то к гостям. Потом направил камеру на нас и подал знак. Мы с Коминым двинулись мимо столов. Я изо всех сил старался выглядеть пораженным.
— Чей это крик? Какой толпы, страданьем побежденной? — спросил я, указывая на счастливые лица нарядных, безмятежно болтающих людей.
Комин гордо поднял голову, сузил глаза, придав взгляду пронзительность, и продекламировал:
— То горестный удел
Тех жалких душ, что прожили, не зная
Ни славы, ни позора смертных дел.
Он выпростал руку из туники и протянул ее к оркестру:
— И с ними ангелов дурная стая,
Что, не восстав, была и не верна
Всевышнему, средину соблюдая.
Их свергло небо, не терпя пятна;
И пропасть Ада их не принимает,
Иначе возгордилась бы вина.
Я поикал глазами паренька с подсказками. Он держал наготове листок с моей репликой.
— Учитель, что их так терзает
И понуждает к жалобам таким?
Комин грозно свел брови.
— Ответ недолгий подобает.
И смертный час для них недостижим,
И эта жизнь настолько нестерпима,
Что все другое было б легче им.
Их память на земле невоскресима;
От них и суд, и милость отошли.
Они не стоят слов: взгляни — и мимо!
— Отлично! Снято! — закричал Рустам. — Всем спасибо! Граци! Граци миле!
Ассистенты засуетились, Комин остался стоять на месте, все еще в образе Вергилия. Он царственно положил мне руку на плечо.
— Жалкие души, что прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел. От них и суд, и милость отошли. Они не стоят слов: взгляни — и мимо! По-моему, гениально!
— Что ты хочешь — Данте! — сказал я, освобождая плечо.
— Я не про Данте. Данте — само собой. Я про это! — Комин обвел рукой пространство вокруг. — Режиссер-то наш большой молодец. Надо же такое придумать!
— Да? — удивился я. — А я вот, честно говоря, не понял задумки. У Данте страдающая толпа, стоны, вопли. А тут довольные сытые физиономии, оркестр. Какой же это ад?
— Так и у Данте это не ад. Таких даже в ад не пускают. «Их память на земли невоскресима, от них и суд, и милость отошли…». Все в точку.
— Ну, это ты напрасно. Что ты так взъелся? Симпатичные люди. Пришли повеселиться на свадьбе.
— Я не про них.
— А про кого?
Комин посмотрел на меня и ничего не ответил.
— Про кого? — повторил я.
Комин развернулся и пошел прочь.
— Про кого? — крикнул я ему вслед.
Для участников съемок накрыли отдельный стол, за которым уместился и оркестр в полном составе, и наша маленькая съемочная группа, кроме Комина, который ушел куда-то в поле и так и не появлялся.
— Володя! Сюда! — позвал меня Рустам, показывая на свободное место рядом.
Я сел, он тут же налил мне вина.
— Ребята, какие же все-таки молодцы! Все получилось просто супер! А Саша где?
— Не знаю, — ответил я. — Он, по-моему, никак не может выйти из роли. Вергилий хренов.
Рустам ничего не понял, но на всякий случай расхохотался.
— Вот объясни мне, — я отодвинул от себя бокал с вином. — Что ты хотел сказать этим своим фильмом?
Рустам жадно уплетал закуски, запивая вином:
— Слушай, Володя, я понимаю, что ты журналист и все такое. Только я интервью давать не умею. И вот это «что хотел сказать», «какая главная идея», «какой месседж» — это вообще не ко мне.
— Я тебя не как журналист спрашиваю. Просто как… как друг. Объясни мне. Ведь это свадьба. Ты — свадебный оператор. Допустим, съемки кино, Данте — это, как ты говоришь, фишка. Ты предложил, заказчик согласился. Он хотел «Рай», ты уговорил на «Ад». Но где здесь ад? Или даже не ад, а что там, у Данте, преддверие? Они же все поют, смеются!
Рустам тоже поставил свой бокал. Откашлялся.
— Трудно объяснить. — Он вытер рот рукой. — Они ведь смеются не потому, что им весело, а потому что так принято. Потому что свадьба, потому что они итальянцы… Им вроде как не полагается грустить. Многие люди и живут так, понимаешь? Как бы на автомате, что-то делают просто потому, что так принято. Делают, делают, делают, делают всю жизнь. А потом оказывается, что ничего и не сделали. Ни хорошего, ни плохого, ничего. Я еще потом хочу снять, как они столы убирают, как тенты сворачивают, и чтобы потом снова чистое поле — без всяких следов. Отыграли свадьбу — и ничего. Снова пустота. Понимаешь?
Я пристально вглядывался в раскосые татарские глаза Рустама, надеясь прочитать в них ответ. Но ничего не увидел.
— Не понимаю, — признался я. — Не понимаю, зачем тебе это? У тебя ж все хорошо. Студия, заказы. Зачем это?
В татарских глазах сверкнул задорный огонек.
— А зачем тебе Базельуорлд? У тебя тоже все хорошо. Зачем тебе это?
— Из-за Комина, — сказал я. — Я его предал. Так получилось. Почти случайно. Теперь отдаю долг. Хотя он про это не знает.
Рустам стал серьезным, на смуглых скулах шевельнулись желваки.
— Ясно, — сказал он. — Я тоже вроде как отдаю долг. Своему отцу. Он у меня знаешь какой был, энтузиаст, комсомолец. Из того поколения. Приехал строить комбинат и проработал на нем всю жизнь. Он моих свадебных дел на дух не переносил. Считал, ерундой занимаюсь. Ругались с ним в дым. Говорил, я своим сыном гордиться хочу, а сын у меня на чужих свадьбах лакействует, хоть и с видеокамерой. Ну, я ему про их энтузиазм идиотский. Так, слово за слово… — Рустам помолчал и вздохнул. — Только после его смерти я понял, что он был прав. Теперь вот наверстываю.
Я стоял перед старинным зеркалом в темном захламленном сарае среди ворохов тряпья и разбитой мебели. Из зеркала на меня смотрел уставший человек, сутулый, с опущенными плечами. Смотреть на него было неприятно, а уж разговаривать и подавно.
— Не понимаю, — вот и все, что я сказал ему.
Из Новосибирска прибыл клиент за «Панераем». Клиент хорошо знакомый, каждый лыжный сезон он обновлял свой часовой парк. Приятный человек, по-сибирски сдержанный, вежливый — после нескольких выполненных заказов мы оставались с ним «на вы». Звали его Николай Петрович. Как обычно, перед покупкой мы встретились в кафе, чтобы проговорить цены и условия. Николай Петрович рассказал про сибирскую жизнь, я поведал скудные швейцарские новости. Заговорили о часах.
— Николай Петрович, скажите, а зачем вам вообще этот «Панерай»?
— Ну, как? — удивился Николай Петрович. — Это же легендарная марка!
— Легендарная? Вы имеете в виду эту историю про итальянских боевых пловцов, якобы они носили такие часы во Вторую Мировую?
— А разве не носили? — насторожился мой собеседник.
— Знаете, есть такой анекдот про итальянский боевой дух. Итальянский окоп под Сталинградом. Дан сигнал идти в атаку. Молоденький лейтенант вскакивает на бруствер, размахивает пистолетом и кричит: «Вперед, храбрые львы! В атаку! Надерем задницу русскому медведю! Ура!». Все солдаты в окопе тут же захлопали в ладоши: «Ах, наш лейтенант, какой смельчак! Какой герой! Браво! Браво!», но никто не тронулся с места. Лейтенант получил свою пулю, и на этом все успокоилось. Этот анекдот мне рассказал знакомый итальянец. Поверьте, я сам нежно люблю итальянцев, но причем здесь боевой дух каких-то мифических пловцов!? Зачем вы верите в эти маркетинговые сказки, Николай Петрович? Вы! Ваш дед сломал хребет Гитлеру! Если вас интересует боевой дух, купите «Луч», или «Стрелу», или «Командирские», в конце концов.
— Вы какие-то странные вещи говорите, — Николай Петрович выглядел обескураженным.
— Почему же странные? Я нахожу свои суждения очень логичными. Готов их отстаивать.
— По-вашему, «Панерай» — плохие часы?
— Я вам покажу хорошие часы, — я снял с руки «открытое сердце», выставочную модель. Шапиро настоял, чтобы я их носил. Как полагается владельцу марки.
Николай Петрович надел другие очки, осторожно взял часы и принялся их рассматривать.
— «Роже де Барбюс», — прочитал он. — Что-то знакомое. Я припоминаю, был такой часовщик…
— Никогда не было! — сказал я. — Роже де Барбюса придумал Даниэль Шапиро. Он и сделал эти часы. Не просто сделал. Шапиро двадцать лет нянчился с этой моделью, поливал ее потом и слезами. Смотрите, как движется секундная стрелка, она будто парит, плавно и в то же время немного нервно. Нервы Шапиро здесь намотаны на барабан вместо заводной пружины, они дают жизнь этим часам.
— Неплохо, — Николай Петрович вернул мне часы. — Но понимаете, «Панерай» знают все, а кто знает этого Шапиро.
— Так он здесь, недалеко, — я показал рукой направление. — У него ателье в пяти минутах ходьбы. Хотите, я вас познакомлю, он будет рад. И вы лично узнаете человека, который сделал эти часы. А вот узнать человека, который делает «Панерай», боюсь, невозможно.
— Давайте, все-таки, остановимся на «Панерае», — сухо предложил Николай Петрович.
— Воля ваша, — развел я руками.
Николай Петрович достал смартфон и быстро пролистал в нем нашу переписку.
— Значит, вы говорите, стандартная скидка, — он нашел нужное сообщение. — А нельзя ли получить больше? Все-таки, мы не первый год у них покупаем.
— Конечно, можно спросить и больше, — сказал я. — Вы же помните их старшего менеджера. Некий Кунц, гусь надутый. Он мнит себя очень умным, и любит учить жизни, особенно в том, что касается Швейцарии и не-Швейцарии. Так вот этот Кунц ответит нам своей фирменной заготовкой: «Видите ли, господа, у нас в Швейцарии сложилась определенная культура скидок». Он так и скажет: «рабатт-культур», по-моему, он это уродливое слово сам выдумал. «Мы не можем предоставлять вам скидки, как в Африке», скажет он. И вот тут, Николай Петрович, я рекомендую вам напомнить господину Кунцу, что согласно данным Швейцарского экономического бюро, доходы часовой промышленности за последний год упали на четверть. И что ехать в Африку за скидками вы не собираетесь, но вам совсем несложно проехать час-другой по автобану, до ближайшего бутика в Германии, где нынче восхитительно дешевый евро и совсем другая «рабатт-культур». Не думаю, что после этих слов Кунц будет продолжать жадничать. Я бы и сам ему это с удовольствием сказал, Николай Петрович, но, вы же понимаете, у меня другое амплуа.
Николай Петрович внимательно посмотрел на меня.
— А какое у вас амплуа, Владимир? Что-то я никак не пойму.
— Ну, я тут вроде зазывалы. Знаете, как на курортах в Греции или Турции, стоят перед ресторанами и хватают прохожих за рукав. Только моя роль не такая определенная. Я на вашей стороне, и на стороне Кунца, довольно трудно разобраться. Слуга двух господ.
— Вы получаете комиссию? — возможно, он начал подозревать, что я собираюсь просить у него больше денег за услуги.
— Не в этот раз, Николай Петрович, — сказал я. — Знаете, наверное, вам лучше в бутик без меня пойти. Я обо всем договорился, часы приготовлены, вас там ждут. Все будет хорошо. А я не пойду. Понимаете, меня давно подмывало пнуть этого Кунца в пах. Сегодня, боюсь, не сдержусь. Желаю вам приятной покупки!
Я оставил безмерно удивленного Николая Петровича в кафе и вышел на улицу. Сам себе я был удивлен не меньше. Хотя я только что лишил себя нескольких сотен франков комиссии, это было скорее приятное удивление. Я посмотрел на часы. Мне подарено два часа свободного времени. Никаких встреч, никаких звонков, решил я, просто прогуляюсь, соберусь с мыслями. И кстати! «Открытое сердце» на циферблате было распахнуто широко как никогда. Я бодро зашагал по улице, прислушиваясь к новому чувству, которое парным молочным теплом разливалось внутри: я сильный, я свободный, я хозяин своей жизни. Погода стояла прекрасная, тёплый фён принес запах весны, будто кто-то вставил в усталый цюрихский февраль новые батарейки, звуки стали отчетливей, краски ярче, небо выше.
— Владимир! — по-весеннему звонко стрельнуло в спину.
Я обернулся. У притормозившего черного «мерседеса» опустилось стекло, первое, что бросилось в глаза — щедро вылепленные надбровные дуги и плечи, как палуба авианосца. За рулем сидел Николай, покупатель золотого «бреге».
— Владимир, есть вопрос, — сказал Николай.
— Какой вопрос? — удивился я.
Николай открыл пассажирскую дверь.
— Давайте немного проедемся, а то здесь нельзя останавливаться.
Останавливаться и вправду было нельзя, улица узкая. Вслед за «мерседесом» уже пристроился мебельный фургон, водитель которого нетерпеливо всплескивал руками.
— Две минуты! — сказал Николай.
Я заметил в салоне на заднем сидении еще одного человека, разглядеть его было невозможно из-за тонированных стекол.
Конечно же, я не собирался садиться в «мерседес» и уже открыл рот, чтобы сказать об этом Николаю, но мебельный фургон истерично засигналил. И я сел.
Николай нажал на газ, «мерседес» сорвался с места.
— Так что за вопрос? — В зеркало я увидел, как пассажир сзади сделал резкое движение, почувствовал слабый укол в шею.
— Какого черта! — заорал я. Хотел поднять руки, чтобы защититься, но руки вмиг оказались неимоверно тяжелыми, и веки, и голова. Не в силах удерживать их, я завалился набок и закрыл глаза.
Темноту прорезал сноп искр, резкая боль тисками схватила всю левую половину головы. Я закричал, но крик мой никуда не вырвался, словно я кричал в подушку. Искры погасли, я увидел в мутной пелене Николая. Своей шкафоподобной фигурой он занимал все доступное для обзора пространство. Кроме Николая, не было ничего. Он коротко размахнулся и ударил меня по правой щеке. Ударил отрытой ладонью, играючи, но ощущение было такое, будто меня саданули доской. Снова искры.
— Ты что, сдурел! — я дернулся и почувствовал боль в запястьях, руки были сведены за спиной, ноги не двигались. Я оказался привязанным к стулу. — Пусти! — заерзал я.
Николай любовно погладил свой кулак и воткнул его мне в солнечное сплетение. Дыхание перекрыло, глаза полезли на лоб. Я извивался на стуле, Николай разглядывал меня с медицинским спокойствием, чуть наклонив голову вбок.
— За что?! — прохрипел я, когда дыхание вернулось. — Если с часами какие проблемы, ты скажи нормально, там заводская гарантия, все решим.
Я повернул голову, чтобы осмотреться, и пропустил момент следующего удара. Снова перекрыло дыхание, потом меня долго рвало слизью. Николай терпеливо подождал, пока закончатся спазмы, и снова ударил.
— Убьет! — мелькнуло сквозь боль. Все вокруг поплыло. Из пелены проявились лица жены и дочки. — Держаться! Не терять сознание! — Николай бил с расстановкой, деловито сопя. Боль больше не отступала, она спеленала тело, как кокон.
— Всё! — вложил я остатки сил в крик.
Что-то произошло. Николай отодвинулся. Пространство, которое он целиком занимал своей тушей, какое-то время оставалось пустым. Белесая размытая пустота. Пустота держалась долго, лишь слегка подрагивала, как знойное марево над шоссе. Потом пятно. Я с трудом сфокусировал взгляд. Мужской ботинок коричневой кожи. Совсем рядом с моим лицом. Немодный фасон, слегка стоптанная подошва, но начищен безукоризненно. Знакомый ботинок. Ботинок Лещенко. Я заплакал, навзрыд, не сдерживая себя. Плакал долго. Лещенко терпеливо ждал. Потом он помог мне подняться, усадил на стул, салфеткой вытер выблеванную слизь с рубашки. Сел на стул напротив. Закурил.
— Что, Владимир, больно? — сказал он, выпуская дым. — А я предупреждал тебя — без самодеятельности. Предупреждал?
У меня опять навернулись слезы.
— Что я сделал? Я все расскажу, не надо бить!
Тонкие губы Лещенко съехали в сторону, как бы говоря: «быстро ты спекся, даже неинтересно…».
— Рассказывай! — Лещенко крякнул от самодовольства и откинулся на стуле.
— О чем?
— О Шапиро рассказывай.
— О Шапиро? — удивился я. — О Даниэле Шапиро?
Лещенко молча сверлил меня взглядом.
— Это… это просто часовщик.
— Николая позвать? — спросил Лещенко. — Второй раз я его могу и не остановить.
— Не надо Николая! — взмолился я. — Я все расскажу. Только ты спрашивай, что не так с этим Шапиро? Я его едва знаю!
— Когда последний раз виделись с ним?
— Неделю назад. Он передавал мне дела, разные бумаги. Мы у него часовую марку купили.
— Взрывчатку он сам делает? — резко спросил Лещенко.
— Что? — я подумал, мне послышалось. — Взрывчатку?
— Да, взрывчатку, — повторил Лещенко.
— Я не знаю ни о какой взрывчатке! Клянусь! Тут какая-то ошибка! Мы не собирались никого взрывать. Я же тебе рассказывал. Только пустить дым и все! Я сам против этой затеи, каждый день отговариваю Комина. Это хулиганство, обыкновенное хулиганство. Никакого взрыва не будет! И взрывчатки нет, и не может быть. Ты же знаешь Комина! А Шапиро здесь вообще не при делах! Он не с нами. Продал марку и все! Я ему даже на стенде запретил появляться, это было условие продажи. Нам от него только стенд был нужен. Только стенд…
Лещенко поднял вверх два пальца с сигаретой, приказывая мне замолчать.
— Позавчера, — медленно начал он, — Шапиро вышел на нашего крота. Он заказал у него компоненты для изготовления взрывного устройства. — Не спуская с меня глаз, он затянулся и выпустил дым. — Что скажешь?
«Часы апокалипсиса!» — вспомнил я. Лещенко заметил, что я что-то вспомнил.
— Часы апокалипсиса, — повторил я вслух. — Он говорил о них, просто упоминал, я даже не вдавался в подробности. Это давно было, еще до продажи марки…
— Ты знаешь, кто ты есть? — спросил Лещенко.
— Идиот, я знаю, я вляпался.
— Нет, не идиот. Гораздо хуже. Шапиро — террорист. И ты его финансируешь. За взрывчатку он собирался платить твоими деньгами. Таких, как ты, карают жестче террористов. Если бы Шапиро вышел не на нашего крота, а на американского, летел бы ты уже с отбитыми почками в грузовом контейнере в сторону Гуантанамо. — Лещенко многозначительно замолчал, давая мне возможность представить картину.
Я представил. Осторожно пощупал свой правый бок, где очень болела обработанная Николаем печень.
— Спасибо за вашу доброту, — сказал я.
Лещенко усмехнулся.
— Не бзди, Николай — хороший специалист. Лишнего не зацепит. Даже синяков почти не останется. Приводи себя в порядок. Чтобы выбраться из задницы, куда ты сам себя загнал, тебе нужно будет очень сильно постараться.
На лестнице перед входом в кафе «Жюль Верн» было сильно накурено. Свободных столиков в кафе не было, здесь никогда не бывает свободных столиков по вечерам. Лучший панорамный вид на старый город и неплохие коктейли сделали это заведение на предпоследнем этаже башни обсерватории Урания суперпопулярным. Мне столик был не нужен. Я ждал Шапиро. Договорились с ним на восемь, но я пришел пораньше, чтобы осмотреться, собраться с мыслями, еще раз прокрутить в голове предстоящий разговор. Взял в баре пиво и вышел на лестницу, где толкались отовсюду изгоняемые, но не унывающие курильщики.
Ровно в восемь двери лифта открылись, и из них вышел румяный от морозца Шапиро. Он снял перчатку и крепко пожал мою руку.
— Роскошный антициклон! — воскликнул он. — Минус два и безоблачное небо. Лучшая погода для астрономических наблюдений! Прошу! — он пригласил меня подняться по лестнице еще на один пролет к малозаметной двери с крошечной табличкой «Обсерватория».
— Даже не знал, что это действующая обсерватория, — признался я, пока Шапиро возился с ключами.
— Это немодное место, — сказал Шапиро. — Раньше пробовали устраивать экскурсии для публики, но сейчас, кажется, прекратили. Нет желающих. Только школьники, студенты. И я.
Мы зашли внутрь. Щелкнул выключатель. Лампы загорелись не сразу, лишь после нескольких прерывистых вспышек, словно завелся киноаппарат, и перед нами возникла декорация из Жюля Верна или какого-то очень раннего фильма о Джеймсе Бонде — куполообразный потолок, обшитый деревянными досками, огромный телескоп, похожий на нацеленную в небо пушку. У телескопа — передвижная платформа со стальными перилами. Множество приборов вдоль стен.
— Так вы еще и астрономией увлекаетесь? — спросил я. Помню, что очень удивился, когда Шапиро предложил встретиться не у него в ателье, а здесь, объяснив это срочным заказом.
— Нет, не астрономией, — ответил Шапиро. — Объект моих интересов — вот. — Он подошел к большим напольным часам и нежно погладил их по боковой панели из полированного дерева. — Уникальный экземпляр, конец восемнадцатого века. Англия, мастер Хатчисон. — Он гладил часы, как увлеченный коннозаводчик гладит и треплет по холке своего лучшего призового жеребца. — Я навещаю их уже больше двадцати лет, со времени, как умер их предыдущий смотритель Андреас Мосснер, если с ними что-то случается, я бросаю все свои дела и спешу на помощь. Вот и сейчас им что-то нездоровится, будем разбираться.
Шапиро раскрыл свой чемоданчик и аккуратно, в строгом порядке выложил необходимые инструменты, как перед хирургической операцией.
— А, кстати, вы, Владимир, не увлекаетесь астрономией?
— Нет, — признался я. — Попробовал как-то объяснить дочке теорию Большого Взрыва, ей было лет шесть тогда. Она внимательно выслушала, потом спросила: а что, собственно, взорвалось? Этот вопрос поставил меня в тупик. Я не смог ответить.
Шапиро захохотал:
— Прелестно! Вы ведь знаете, никто толком не может ответить на вопрос вашей чудесной дочки. Даже Стивен, как его там, Хокинг! Ах! — глаза Шапиро затуманились. — Как я завидую людям восемнадцатого века! Завидую мастеру Хатчисону!
— Отчего же?
— Они жили в абсолютно понятном мире. Сэр Исаак Ньютон нарисовал для них кристально ясную картину Вселенной. Механика и Бог! И ничего кроме. Все работает, как часы. Реки текут, яблоки падают, планеты вращаются. Бог завел этот мир, как заводят часы, и мир должен был послушно тикать до бесконечности, поскольку время абсолютно и бесконечно. Восемнадцатый век — золотой век часового искусства, время великих мастеров! Бреге, Дро, Перле! Все, чем мы, сегодняшние часовщики, занимаемся — в меру сил повторяем их достижения.
Шапиро благоговейно касался миниатюрной отверткой потемневших от времени деталей.
— И что еще важно, — продолжил он, — образованный человек восемнадцатого века, такой, как мастер Хатчисон, например, мог при желании быть в курсе и полностью понимать все, что происходит в науке своего времени. Он наверняка был знаком с математическими работами Леонарда Эйлера, конечно же, знал об биологических изысканиях Карла Линнея, читал Адама Смита. Они имели перед глазами полную картину всего. Поэтому они делали такие прекрасные вещи.
Все закончилось уже в середине девятнадцатого века, когда открыли второе начало термодинамики. Энтропия, мера хаоса, должна беспрерывно увеличиваться. Мир движется от порядка к хаосу. Где же тут место Богу? — спросил он, повернувшись ко мне. Не дождавшись ответа, снова углубился в изучение старинного механизма. — Уже через пару десятков лет после открытия второго начала термодинамики Ницше объявил, что Бог мертв. В начале двадцатого века Эйнштейн поставил крест на абсолютном времени, том самом, которому служил мастер Хатчисон. Потом придумали квантовую механику, и она узаконила тотальную неопределенность — сингулярность. Ученые признали, что они не могут точно сказать, что происходит с кирпичиками Вселенной в определенный момент времени. Потому что время относительно, и вообще не ясно, что считать кирпичиками. Мастер Хатчисон пришел бы от этого в ужас. И знаете, этот ужас, ужас неопределенности сидит глубоко внутри нас, мы не понимаем мир, который нас окружает. Мы, образованные люди, не понимаем. Даже ученые, специалисты, те, кто обязан понимать, они не понимают. Физики собираются на свои конгрессы, один читает доклад, а в зале его полностью понимают человек пять. Еще человек двадцать понимают половину, остальные не понимают ничего или почти ничего. Полной картины не имеет никто. Даже Стивен, чтоб его, Хокинг.
— И потом, — Шапиро снова повернулся ко мне, — раз вы говорите, что все относительно, значит, относительна и нравственность, добро и зло — тоже относительны. Это довольно популярная доктрина. Но ведь это страшно! — в его словах прозвучал упрек, словно я спорил с ним, хотя я молчал, и не имел даже возможности вставить слово.
— Возможно, этот страх и тоска по определенности и заставляет людей покупать себе механические часы, — продолжил Шапиро, — хоть они и здорово проигрывают кварцевым в точности и практичности, зато они понятны. Что творится внутри кварцевых часов — неясно, а здесь — все можно увидеть собственными глазами. Механические часы показывают ньютоновское время, понятное и предсказуемое, уютное.
— Человеку трудно смириться с мыслью, что время — не круги, которые описывают стрелки, а движение, от неведомого нам изначального порядка к будущему хаосу, от рождения к смерти. Повернуть это движение вспять невозможно. Все, что может сделать человек — замедлить или ускорить время. Если человек сопротивляется энтропии — время замедляется. Я ремонтирую часы, привожу их в порядок, отнимаю у хаоса, значит, я замедляю время. Если я создаю вокруг себя хаос и беспорядок — время ускоряется, и Апокалипсис все ближе.
— Кстати, об Апокалипсисе, — наконец-то нашелся повод унять словесный поток мастера. — Вы как-то упомянули часы Апокалипсиса, это ваша новая разработка?
— Часы Апокалипсиса? — Шапиро свел брови, вспоминая. — Наверное, это была просто красивая фраза. Я работаю сейчас над новыми часами, но это не часы Апокалипсиса, а нечто прямо противоположное.
— Противоположное Апокалипсису? Зарождение жизни?
— Скорее, рождение Вселенной. Именно то, что вы не смогли объяснить своей дочке. Большой Взрыв!
Резкий спазм сдавил мне горло. Я откашлялся.
— Но я пока не готов говорить об этом с журналистами, даже с журналистами-друзьями!
«Не готов? Ну-ну», — подумал я, поглаживая внезапно занывший правый бок, и произнес, слегка задумчиво: — Большой взрыв. Биг Бэнг. Это же знаменитая серия часов «юбло»!
Сработало безотказно. «Неготовый говорить с журналистами» Шапиро моментально взвился.
— «Юбло»! Они назвали Большим Взрывом свою самую примитивную компьютерную поделку! В нем столько же от Большого Взрыва, сколько в морковных пирогах, которые за двадцать пять лет так и не научилась печь моя жена. «Юбло»!
— Я вовсе не такой уж большой поклонник «юбло», — продолжал я бередить душевные раны Шапиро, — но нельзя не признать, что они нашли действительно удачное название и использовали его на все сто, выжали, как лимон. Теперь человеку, который задумает вновь использовать словосочетание «Большой Взрыв», будет очень нелегко. Придется представить что-то действительно необычное.
— Уверяю вас! — воскликнул Шапиро. — Это будет нечто действительно необычное. Шарлатаны из «юбло» не способны о таком даже мечтать!
Я постарался изобразить на своем лице тщательно скрываемый скепсис. Шапиро взвился еще больше.
— Часы, которые заводятся от энергии, высвобождающейся при взрыве! Как вам такое?! — Шапиро торжествующе сложил руки на груди. — Это, между прочим, точная метафора начала времени. Большой Взрыв! Банг! — Шапиро взмахнул руками. — Время пошло! Это будет то же самое, только в миниатюрном масштабе.
— Очень интересно! — согласился я. — Но как такое возможно на практике?
— Возможно, — загадочно улыбнулся Шапиро. — Все возможно. Я сейчас много экспериментирую. Конечно, много препятствий, ограничений… Знаете, не так просто в Швейцарии ставить эксперименты со взрывами, да еще стараться сохранять тайну, чтобы шакалы из «юбло» ничего не пронюхали и не украли идею.
— То есть вы действительно где-то что-то взрываете?
— Пока только готовлюсь, собираю необходимое оборудование и материалы. У меня ведь только недавно появились деньги на исследования. Благодаря вам…
— Но это же опасно! Взрывы и все такое…
— Разумеется, я не собираюсь ничего взрывать в своем ателье. Я знаю одно место, далеко в горах, военные там время от времени взрывают что-то свое. Можно будет все устроить так, что никто ничего не заметит. Впрочем, простите, Владимир, я вам и так уже слишком много сказал. Надеюсь, что все это останется пока между нами. Когда придет время, обещаю вам, что вы будете первым журналистом, которому я расскажу о результатах своих исследований.
«Он мне обещает, — подумал я. Снова заныл отбитый бок. — Меня чуть не убили из-за твоих фантазий. Ну, подожди у меня».
— Спасибо за доверие, Даниэль! — прочувствовано произнес я. — Собственно, я пришел, чтобы сообщить вам кое-какую конфиденциальную информацию. Это звучит не менее фантастично, чем ваш концепт, но прошу отнестись к этому серьезно.
— Что случилось? — Шапиро насторожился.
— Поймите, для меня это все тоже стало полной неожиданностью. Я никак не мог предположить такого поворота. Да, наверное, никто на моем месте не мог бы такого предположить…
— В чем дело? — Шапиро побледнел.
— В общем, вас хотят похитить, — сказал я, понизив голос.
Шапиро отложил инструменты, подался вперед и произнес почти шепотом.
— Кто?
— Вы слышали что-нибудь про проект Сколково в России?
— Нет, — покачал головой Шапиро.
— Ну, это любимая игрушка русских лидеров, они хотят создать под Москвой российский вариант Кремниевой долины в Калифорнии, новейшие технологии и все такое. Но это все лишь витрина, пропаганда. Технологии будут разрабатывать в теневом Сколково. Сколково-2. Это так называемая «шарашка» (я произнес это слово по-русски). Вы читали у Солженицына, как при Сталине, лучших ученых и инженеров арестовывали и заставляли работать в специальных тюрьмах? Теперь затевается то же самое, только в глобальных масштабах. Лучших ученых и инженеров будут заманивать в Сколково 2 против их воли. Кого-то шантажом, кого-то будут похищать. Вы у них в списке.
— Я? — ужаснулся Шапиро. — Но почему я?
— Вы им идеально подходите. Вы не очень известный, из-за вас не будут поднимать большого шума, а главное — вы гениальный механик. Программистов, компьютерщиков сейчас везде полно. А хороших механиков почти не осталось. Вы в тройке лучших часовщиков Швейцарии, но похитить, например, Франсуа-Поля Журна у них не получится, он слишком заметен, а вы…
— Вы знаете, да, — Шапиро зашевелил губами, — последнее время я заметил, что за мной следят. Какие-то странные люди, похожие на русских…
«Николай со товарищи», — догадался я.
— Мой бог, неужели такое возможно? — всплеснул руками Шапиро. — В наше время, в этой стране!
— Увы, возможно все, — скорбно и совершенно искренне произнес я. — Я сам по глупости и наивности позволил втянуть себя в эти игры, а заодно и вас… Теперь надо выбираться.
— Но как?!
— Если за вами пока еще только следят, это хорошо. Значит, окончательного решения относительно вас пока еще нет. Иначе мы бы с вами сейчас не разговаривали. Возможно, они ждут приказа. Поэтому нельзя терять времени. Думаю, вам нужно просто исчезнуть, уехать из страны, затаиться на два-три месяца. Сообщите родным, что собираетесь медитировать над очередными часами и исчезайте. Но только, пожалуйста, ничем, кроме медитаций, не занимайтесь, никаких контактов, никаких встреч, никаких телефонных звонков.
— А что изменится через два-три месяца? — дрожащим голосом спросил Шапиро.
— Возможно, они найдут кого-то другого, того, кто есть в наличии. Того же Журна, например. Им главное — закрыть позицию. Через два, нет, через три месяца найдите какой-нибудь способ скрытно связаться со мной. Я вам сообщу, миновала ли опасность. Если, конечно, сам уцелею в этой передряге.
— О мой бог! — Шапиро схватился за сердце.
— Теперь я должен идти, — сурово сказал я. — Помните, нельзя терять времени. Энтропия нарастает.
— Да, да… — пробормотал Шапиро.
Выйдя из обсерватории, я сунул руку в карман и нажал на диктофоне кнопку «стоп».
Лещенко внимательно прослушал запись. Потом еще какое-то время молчал, задумчиво разминая сигарету.
— Вот ведь напасть какая! — произнес он, наконец. — Тебя это не беспокоит, Володя?
— Что? — не понял я.
— Да энтропия эта!
— Нет, — ответил я. — Не особо.
— Не особо, — повторил Лещенко. — Я меня вот беспокоит. Я иногда прямо физически ощущаю, как она, зараза, нарастает.
Лещенко провел руками по лицу и встряхнулся.
— А вообще — отличная работа! Ты молодец! Я тебя, похоже, недооценивал.
Мы сидели в кафе на задворках штаб-квартиры «Кредит Сюисс», там, где произошла наша первая цюрихская встреча.
— Молодец, — повторил Лещенко. — Такие кадры тут, оказывается, пропадают. Слушай, бросай свои часы, давай к нам!
Не успел я открыть рот, Лещенко добавил:
— Шучу, шучу! Знаю, ты «не такой».
«Не такой» он произнес с нажимом.
— Значит, так! — он мягко хлопнул ладонью по столу. — Чтоб не терять времени и не разводить тут лишнюю энтропию, рассказываю тебе про твою дальнейшую жизнь. Ты без всяких фокусов отрабатываешь на БазельУорлде от первого до последнего дня, изображаешь из себя хозяина часовой марки, общаешься с журналистами, с оптовиками, чтоб все, как у людей. После выставки я подгоняю тебе клиента, он покупает у тебя «де Барбоса», всего, с потрохами. Платит в два раза больше того, что ты заплатил Шапиро. Есть такие чудаки, поверь мне. Заплатит, еще и спасибо скажет. Томасу вернешь то, что у него брал, остальное мы с тобой честно поделим. Твоей доли тебе хватит на первый взнос за квартиру в Копенгагене, в районе Вестербро. У тебя ведь жена с дочкой в Вестербро живут? Прекрасный район!
А можешь никуда и не уезжать. Комина скоро отсюда переведут, он опять в цене. Никто тебя беспокоить не будет. Можешь даже продолжать играть в тайные общества со своим другом Томасом, только не переигрывайте. Меня тоже скоро переведут, так что доставать тебя из полиции будет некому.
— Повторяю, все, что от тебя нужно — отработать спокойно в Базеле. Без глупостей, без мальчишества, без идиотизма, без всяких этих акций. Ты взрослый, разумный человек, тебя агитировать за Советскую власть не нужно. Там же техника какая-то задействована. Техника ломается. Иногда сама ломается, иногда ее ломают. Сориентируешься на месте. Сделаешь, как надо, всем будет хорошо, и тебе, и мне, а главное — Комину. Его в эту хрень хулиганскую впутывать нельзя, он фигура другого масштаба, только он, балда, сам это не всегда понимает, не дотягивает до уровня собственных идей. Короче, очень постарайся. Если у тебя не получится, не хочу тебя пугать…
— Можешь дальше не рассказывать, — прервал я Лещенко. — Я все понял.
Лещенко ткнул окурок в пепельницу.
— Вот и прекрасно.
Ночью мне приснился сон про армию. Меня снова забрали. И я снова очутился на артиллерийском полигоне ясным осенним днем. Пахло дымком, летали паутинки. В сапоге была дырка, а в душе тоска.
Передо мной стоял Мухаметдинов и говорил нараспев:
— Товарищ сержант, Кабаев говорит, взрывать надо.
Я сразу понял, что он имеет в виду БазельУорлд.
— Взрывать надо, товарищ сержант, — нудел, как комар, Мухаметдинов.
— Послушайте, ведь это нелепость! — крикнул я. — За что это мне? У меня устроенная жизнь! Она мне нравится! Я счастлив!
— Эээ… — подал голос бакинский армянин Балаян. Он тоже оказался здесь. Это «эээ..» означало «хорош заливать!».
— Ну, если не счастлив, то, по крайне мере, доволен! — уточнил я. — Доволен своей жизнью! Почему я должен делать это? Нелепость! Нелепость! Нелепость!
— Все чики-пики сделаем, — сказал Балаян. — Ты не волнуйся.
За день до открытия БазельУорлда первый павильон выставочного центра напоминал муравейник, в котором обитала муравьиная королева со слабостью к часам. Тысячи ее подданных без устали тащили, везли, несли в ее логово мириады коробочек с тикающими механизмами. Они расставляли их в витринах, красиво подсвечивали, обкладывали всевозможной декоративной мишурой. Муравьиная фантазия не знала границ. На стенде «брайтлинга» устроили аквариум в три человеческих роста, куда запустили тропических рыбок. «Сваровски» создали композицию из бесчисленного множества металлических пластинок, каждая из которых поворачивалась в такт музыке. «Бланпа» закатили на свой стенд два суперкара. «Юбло» устанавливали бронированный стеклянный колпак над густо усыпанной бриллиантами моделью часов с незатейливым названием «Два миллиона евро».
Комин, наблюдая за этой операцией, вдохновенно вещал стоявшему рядом Рустаму:
— Вот! Это в точности то, о чем я говорил. Америка, самая богатая и могущественная страна мира, свернула программу пилотируемых космических полетов из-за недостатка средств. А здесь — сотни миллионов долларов выброшены в никуда, на гламурную чепуху. Человечество не хочет ничему учиться. Десять тысяч лет оно охотнее всего тратит деньги только на две вещи — на войны и на украшения. Всё как во времена Навуходоносора — никакого развития. А завтра на открытие прибудут министры, государственные мужи. Они не скажут: «Люди, вы обезумели! Немедленно прекратите это безобразие!». Наоборот! Они скажут: «Молодцы ребята! Продолжайте дальше оттягивать наши ресурсы, нам они совершенно без надобности!».
Я напомнил Комину и Рустаму, что у нас еще полно работы, и пригласил их обратно на наш стенд. Стенд «Роже де Барбюса» отличался от соседей по главному выставочному залу пуританской скромностью. Клетушка площадью двенадцать квадратных метров с микроскопической кладовкой, из мебели — только стол и несколько стульев. Навуходоносору бы это не понравилось. Зато по высоким технологиям мы обставили всех, включая «Сваровски». Хотя из заявленного оборудования за нами значилась только дешевая кофеварка, на самом деле в нашем арсенале была уникальная лазерная пушка, созданная в цюрихском подвале немытыми гениями из ЕТХ. И еще одно ноу-хау — двести миниатюрных газовых распылителей, замаскированных под сувенирные ручки. Это была коминская идея — раздавать распылители в виде сувениров, гении ЕТХ довели идею до совершенства. Задача была — создать дымовое облако в нужном месте в нужное время. Никакое громоздкое или даже просто сколько-нибудь заметное оборудование использовать нельзя. Вот и придумали распылители в ручках. Сувениры — маленькая слабость посетителей даже самых пафосных выставок в мире. Сувениры любят все. В первый день выставка начинала работу в десять часов, а торжественная церемония открытия назначена на двенадцать. За два часа мы должны распространить среди посетителей двести пакетов со стандартным набором сувениров — каталогом, блокнотом и ручкой. Конечно, многие люди, получив пакет с сувенирами, уйдут из первого павильона. Расчет на то, что хотя бы пятьдесят из них останутся посмотреть на церемонию открытия, тем более, что на ней было заявлено участие восходящей звезды европейской политики, министра экономики Швейцарии Паскаля Ледербергера.
Пятидесяти баллончиков, по расчетам ребят из ЕТХ, было достаточно, чтобы создать дымовое облако нужного нам размера. Ручки-баллончики сработают по сигналу радиопередатчика, который будет у Комина. Его задача — во время церемонии занять правильную позицию не очень близко и не очень далеко от трибуны, потому что сработают только те баллончики, которые находятся в радиусе двадцати метров от передатчика. Мы многократно испытали действие распылителя в лесу под Цюрихом. По команде от передатчика плотное облако белого газа вырывается из пакета с сувенирами. Газ без запаха, инертный, безвредный для здоровья. В течение двух секунд человек с сувенирным пакетом в руках превращается в дымный столб — очень эффектное зрелище, затем газ, поскольку он легче воздуха, поднимается вверх. Он должен собраться под потолком первого павильона и образовать облако, на котором при помощи лазерной пушки будет спроецирован лозунг «Космос вместо бриллиантов!» на всех главных мировых языках. Можно было найти более простой способ распылить газ, например, сделать один большой распылитель, который бы помещался в рюкзаке, но Комин настаивал на множестве маленьких баллончиков, он видел в этом символ слияния энергии большого количества разных людей.
Я, кстати, был с самого начала против ручек-распылителей, но никто меня не слушал. Зато Рустам, как только ему рассказали всю операцию в деталях, сказал, что ручки — это фишка, чем моментально заслужил благосклонность Комина. По выставке они ходили под руку, Комин, заполучив нового слушателя, упражнялся в красноречии, а Рустам, придавленный коминским обаянием, едва успевал вставлять время от времени восторженные реплики.
Вернувшись с обхода строящихся стендов, Комин продолжал вещать.
— Я много раз видел, — говорил он, — как люди, самые разные, молодые, старые, образованные и не очень, сначала отмахиваются, смеются. Потом задумываются, начинают задавать вопросы. Опять задумываются, потом приходят и говорят: «Я с тобой!». Вон, взять, к примеру, Батиста. — Комин кивнул в сторону Батиста, который возился с лазерной установкой. — Я пришел к ним на вечеринку анархистов. За бутылкой пива рассказал о космической колонизации, о русских философах. Естественно, Батист ничего этого не знал. Он только похлопал меня по плечу: «Космос? Что за траву ты куришь, бро?». Потом мы встретились еще раз, он меня узнал, снова засмеялся: «Эй, космонавт, привет!», но в конце подошел и спросил, какие книги он может почитать по этой теме. И теперь Батист здесь, с нами, и друзей своих подтянул. Без них ничего бы не вышло сейчас. Спасибо, бро! — Комин просалютовал Батисту сжатым кулаком. Батист ответил таким же жестом.
«А меня, значит, можно не благодарить, — подумал я с раздражением. — Где бы вы сейчас были, если бы не я».
— Да, идеи — такое дело, — продолжал Комин. — Из ничего, из маленького клика в голове вдруг рождается что-то грандиозное, что-то, что захватывает десятки людей. Или не захватывает, растворяется без следа. И предугадать невозможно. Помню, ровно год назад это было, я прочитал статью в журнале про этот Базельуорлд, и подумал, вот ведь где воплощение суеты, пустого тщеславия, глупости, в конце концов. Разнести бы это в пух и прах на виду у всего мира, взорвать к чертовой матери. Взорвать! Клик! — в голове, и закрутилось. И всего-то за год, с полного нуля, такое дело раскрутили. И лазеры, и баллончики эти, и место в лучшем павильоне. Будто кто-то сверху помогал нам. А ведь никто не помогал, только мешали. Просто идея правильная. Правда за нами! Вот, я что-то покажу сейчас, — Комин полез в карман и достал мобильный телефон. — Батист, Володя! Отвлекитесь на секунду, тоже послушайте. — Комин пробежался пальцами по кнопкам на экране. — Это из блога американского астронавта Рональда Гарана. Он 164 дня провел в космосе на Международной космической станции вместе с русскими космонавтами. Они недавно вернулись, и вот что пишет Гаран: «Я буду скучать по космосу, по этой невероятной красоте. За сутки мы видели, как ночь на Земле сменяет день 16 раз, как закатное солнце окрашивает облака и на темной стороне вспыхивают огнями города. Мне будет не хватать этого». Каково? — воскликнул Комин. — Тут и фотографии есть. Вот где красота! Космос, а не этот бриллиантовый срам!
— Это круто! Чертовски круто! — согласился Батист.
Рустам спохватился:
— Надо места для вспомогательных камер выбрать! Батист, не поможешь?
— Я тоже пойду! — откликнулся Комин. — Володя, здесь побудь!
Это была даже не просьба — распоряжение.
— Яволь! — ответил я, как можно более саркастично.
Они ушли. Батист оставил пластиковый кофр с оборудованием открытым. Черный гладкий цилиндр с кнопкой — передатчик, которым завтра Комин должен будет активировать распылители, — лежал на самом верху. Я взял его в руки, открутил крышку. Внутри — батарейки и сплетенья разноцветных проводков. Всего и делов-то! Вырвать любой из проводков или заменить батарейки на нерабочие. И ничего не будет! Никто даже особо не расстроится! Батист — инженер, он к таким вещам привычный. Рустам быстрее вернется к своим собственным фильмам. А Комин? Комин придумает следующий проект. Лещенко сказал, он снова в цене. Скучать не будет. Я взялся за один из проводков.
«Э-э, товарищ сержант…» — отчетливо прозвучало у меня в голове. Я резко выпрямился и оглянулся. В комнатке никого не было. Голос я сразу же узнал. Это был Балаян. «Что „э-э“, Балаян?» — огрызнулся я. «Э-э», — снова раздалось из ниоткуда. В протяжном звуке было множество интонаций — и разочарование, и осуждение, и предупреждение.
«Черт бы вас всех побрал!» — я завернул крышку и положил передатчик обратно в кофр.
БазельУорлд никогда не был обойден вниманием звезд. На прошлых выставках я перевидал многих голливудских знаменитостей — Леонардо ДиКаприо, Арнольда Шварценеггера, Кэмерон Диас, и даже пожал руку Джорджу Клуни. Но в этот раз самым ожидаемым гостем выставки был не актер и не певец, а политик — стремительно набирающий популярность Паскаль Ледербергер. Господин Ледербергер заканчивал свое пребывание на посту министра экономики Швейцарии и готовился вступить в должность председателя Международного Валютного фонда. Ледербергер прославился своими обличительными речами, направленными против бесконтрольности крупных банков, против биржевых спекулянтов и всевозможных хэдж-фондов. Одними речами дело не ограничивалось — будучи министром экономики, он испортил немало крови швейцарским финансистам, а теперь, выходя на международный уровень, собирался стать кошмаром для воротил с Уолл-стрит и ее аналогов в Лондоне, Гонконге и Токио. Ледербергер резко отличался от других швейцарских политиков, какими их привыкли видеть. Он был молод, обаятелен, остроумен, открыт, он неутомимо раздавал интервью, мелькал на всех телевизионных каналах. И главное — говорил вещи, которые чрезвычайно нравились публике: борьба с деиндустриализацией, возвращение производств из Азии в Европу, структурные преобразования в экономике — устранение перекоса в сторону финансов, контроль над банками и так далее.
Мне казалось, что наш лозунг «Космос вместо бриллиантов» должен был Паскалю Ледербергеру понравиться, хотя я понимал, что он его вряд ли увидит, охрана, скорее всего, уведет его, как только начнется дымная заварушка. Но, по крайнее мере, прочитает в газетах на следующий день, это уже будет кое-что.
С утра все пошло по плану. В десять часов, как только начали пускать посетителей, у нашего стенда появились первые гости. Некоторые спрашивали Даниэля Шапиро, для экономии времени мы говорили, что Даниэль будет позже, просто чтобы не вступать в долгие объяснения, и всем без исключения вручали пакеты с сувенирами.
Я вдруг осознал, что судьбой мне отведено два часа, с десяти до двенадцати, на то, чтобы исполнить роль владельца часовой марки на БазельУорлде, и я горячо взялся за дело. В точности, как Шапиро, я бросался к посетителям, которые проходили мимо, легонько придерживал их за локоть, чтобы не ускользнули, и рассказывал о замечательных достоинствах новой модели «Роже де Барбюса» с большой датой.
— Обратите внимание! Механика без примесей! Ручная работа! Никакой сингулярности! Экологически чистое время, как в эпоху сэра Исаака Ньютона!
Утренние посетители слушали рассеянно и косились в сторону стендов «ролекса» и «патека» с явным желанием поскорее от меня отделаться. «Очень интересно! — говорили они, — Мы непременно зайдем к вам еще раз, а сейчас извините, извините…». Получив в руки пакет, они стремительно исчезали. В результате моих активных действий к началу двенадцатого все пакеты были розданы.
В центре зала была установлена трибуна на невысоком подиуме, откуда Ледербергер и другие гости должны будут произнести приветственные речи. С нашего стенда самой трибуны было не видно, ее загораживала гигантская конструкция, возведенная на стенде «омеги», однако, подходы к трибуне просматривались хорошо. Без двадцати двенадцать у трибуны стал собираться народ.
— Готовность номер один! — объявил Комин.
Батист щелкнул тумблером на своей пушке, похожей на бластер из фантастического фильма, загорелся зеленый огонек. Я готов, сказал Батист.
Рустам взял наизготовку видеокамеру.
Комин вытащил из кофра передатчик и сунул его в карман пиджака.
— «Космос вместо бриллиантов!» — он поднял вверх два пальца.
— «Космос вместо бриллиантов!» — ответили мы.
Комин и Рустам вышли, мы с Батистом остались ждать сигнала. Срабатывание радиопередатчика дублировалось на маленьком приемнике у Батиста, после этого нам надо было выждать тридцать секунд, пока сформируется газовая завеса, и выбегать с пушкой.
Ровно в двенадцать со стороны трибуны раздались аплодисменты — появился Ледербергер и другие официальные лица. Трибуну видно не было, но слышно было хорошо. Первым слово взял один из организаторов, коротко поблагодарил собравшихся и передал слово Ледербергеру. Прежде чем он начал говорить, ему долго хлопали и свистели, словно он был не министр экономики, а кинозвезда. Овация стихла, Ледербергер бодро поздоровался, и вдруг раздался резкий звук, будто что-то лопнуло, в то же мгновенье этот звук распался на тысячи отдельных криков и превратился в рев.
Батист удивленно оглянулся на меня, реакция посетителей на газ показалась чрезмерной. На часах таяли последние секунды из тридцати. Три, две, одна. Вперед! Я выбежал первым, за мной — Батист с пушкой наперевес. Мы быстро миновали узкий проход между стендами, и первым, кого я увидел в открывшемся пространстве главного зала, был Комин, он несся мне навстречу с перекошенным лицом.
— Назад! — махал он руками. — Ледербергера убили! Беги!
Я остолбенел. Вокруг трибуны царила давка, люди цеплялись друг за друга, спотыкались о лежащие тела. Все вокруг заволокло дымом. Это был не наш газ, без запаха, это был едкий вонючий дым с запахом большой беды.
Не зная, что делать, я попятился назад, и вдруг — словно током ударило: знакомые лица в толпе — Николай и его напарник. Они продирались вслед за Коминым, расшвыривая всех, кто попадался у них на пути. Николай тоже меня заметил, остановился, вскинул руку. В руке у него был пистолет. «Всё!» — мелькнуло в голове. Оглушительный хлопок раздался прямо у меня под ухом, один и сразу — второй. Я увидел, как Николай дернулся, будто вздрогнул, и завалился назад, его напарник упал на колени и ткнулся лицом в пол. Я повернулся в сторону хлопков и увидел Лещенко, в метре от себя. Он прикрыл пистолет полой пиджака.
— Обратно на стенд, быстро! — скомандовал Лещенко. — Комина забери!
Комина я уже потерял из виду, но быстро нашел. Он стоял среди мечущейся толпы и, вытягивая шею, оглядывался по сторонам.
— Сюда! — крикнул я ему.
— Тут где-то Валя… — Комин поднялся на цыпочки, чтобы заглянуть поверх голов.
— Какая еще Валя?!! — мне показалось, он сошел с ума.
В эту секунду раздался крик: «Сашка!», из клубов дыма выскочила растрепанная белгородская валькирия в мини-юбке, на высоченных каблуках, и бросилась в объятия Комина. Комин схватил ее в охапку и крикнул мне: «Всё, бежим!».
Когда мы добрались до нашего стенда, там уже был Батист, а еще через секунду в комнатку влетел Рустам.
— Я снял это! — заорал он с порога. — Я снял, как его взорвали! Микрофон, представляешь! Направленный взрыв!
— Кто взорвал? Почему взорвал? Что вообще происходит? Это же не мы устроили? Или мы? — я посмотрел на Комина. Ошарашенный вид друга немного успокоил меня. Кажется, не мы.
— Шо ж теперь будет? — Валентина прижалась к плечу Комина и тихонечко заскулила.
— Не плачь, выберемся, — Комин обнял ее.
— Правильно, вы выбирайтесь, а я побегу еще поснимаю, — Рустам взял камеру наизготовку. — Исторические кадры! Такое пропускать нельзя.
Батист собрался идти с Рустамом. Он в кутерьме потерял свою лазерную пушку и хотел ее найти.
— Черт с ней, с пушкой! Надо ноги уносить! — попробовал я его урезонить.
Кажется, Батисту было совестно из-за того, что он первым прибежал в комнатку, да еще и без своего «оружия», он не стал ничего слушать и побежал вслед за Рустамом. В дверях он столкнулся с Лещенко, который появился весь засыпанный какой-то блестящей пылью, с кровоподтеком на скуле.
— Все целы? — он быстро осмотрел комнатку.
— Что происходит, в конце концов!? — спросил я.
— Что происходит? — Лещенко отряхнул с рукава пыль. — Переиграли меня, демоны. Договорились Комина не трогать, а они вон как… Передали этот вариант смежникам. А меня предупредить забыли.
— Кому передали?
— Смежникам… Но это неважно. Не бери в голову, все поправимо. Главное, все живы… — Лещенко подпер стулом дверную ручку. — А ну-ка, взялись! — Он обхватил руками шкаф и с моей помощью пододвинул его к двери. — Так-то лучше, — Лещенко прислушался к крикам и грохоту, доносившимся снаружи, еще раз попробовал шкаф на прочность, достал пистолет и проверил обойму.
При виде оружия Валентина испуганно всхлипнула.
— Девушка чья? — спросил Лещенко.
— Моя, — Комин обнял Валентину.
Лещенко сунул пистолет за пояс.
— Подождем тут немного, — сказал он. — Они сейчас нас на выходах ищут.
— Мы же ничего не сделали! — воскликнул я. — Только газ пустили!
— Угу, — хмыкнул Лещенко. — Газ пустили, министра взорвали.
— Но это не мы!
— Это вы можете рассказывать, пока живые. Поэтому живые вы их не очень устраиваете.
— Кого это «их»?! — с ужасом воскликнула Валентина. — Нужно звать полицию!
— С полицией успеется, — возразил Лещенко. — Нужно переждать чуток. Пока это самое безопасное для нас мес… — не успел он закончить фразы, сверху на голову ему рухнул человек. Лещенко упал на колени, но тут же вскочил и нанес сильный и точный удар ногой. Нежданный гость сверху отлетел на два метра и распластался в углу. Выглядел он странно — на ногах ботинки и полосатые гетры, на талии — альпинистский пояс с пуком веревок, уходящих вверх, а на голове велосипедный шлем и противогазная маска. Впрочем, от удара маска съехала в сторону, открыв испуганное конопатое лицо. Лещенко выхватил пистолет.
— Не стреляй! — успел крикнуть я. — Это свои!
— Свои? — Лещенко чуть опустил пистолет.
— Даниэль Шапиро, основатель часовой марки «Роже де Барбюс», — представил я.
— Вы тут совсем с ума сошли! — взвизгнул Шапиро.
— Что вы тут делаете, Даниэль? — спросил я.
— Что делаю? — Шапиро с трудом поднялся на ноги. — Спасаю свою выставочную коллекцию часов, вот что я делаю! Я знал, что все это добром не кончится! — Он осторожно ощупал ушибленную челюсть. — Весь этот бред, который вы наплели мне про Сколково, думаете, я поверил хоть слову? — с усмешкой сказал он мне и резко повернулся к Лещенко. — Думаете, это вы за мной следили? Нет! Это я за вами следил! Я за вами следил, и понял, что ваши игры плохо кончатся, мои часы надо будет спасать! И я их спасу! — еще раз пощупав челюсть, он принялся распутывать веревки.
Я посмотрел наверх. Веревки тянулись под потолок и терялись из виду в клубах газа. Стенд «Роже де Барбюса» располагался в углу павильона, рядом с шахтой грузового лифта. Между перекрытиями второго этажа и стенкой лифта был примерно двухметровый зазор. Лещенко тоже смотрел вверх.
— Там что, второй этаж? — спросил он.
— Нет, между первым и вторым этажом есть технический этаж. Трубы, кабели…
— Подняться вы сможете так же быстро, как и спустились?
— Даже еще быстрее, — самодовольно отозвался Шапиро. — По ту сторону лифта — система противовесов. Я дергаю веревку — и через пять секунд я наверху.
— Толково, — кивнул Лещенко.
— Послушайте, Даниэль, — сказал я, — может, вы и нам поможете выбраться?
Шапиро неопределенно хмыкнул, не оставляя своих веревок. Снаружи донеслись какие-то хлопки, что-то ударило в нашу забаррикадированную дверь. Валентина вскрикнула. Глаза, полные слез, и потеки туши на щеках делали ее трогательно беззащитной и оттого еще более прекрасной. Даже Шапиро отвлекся от распутывания веревок и посмотрел на Валентину.
— У меня предусмотрен вариант для эвакуации грузов, — сказал он, обращаясь к ней. — А вы, — кивнул он нам, — освободите эту часть комнаты, перейдите сюда!
Мы быстро переместились в угол. Шапиро дернул за одну из веревок, сверху прилетел и тяжело шлепнулся на пол тюк с сеткой, сплетенной из широких матерчатых полос.
— Грузоподъемность одна тонна, — объяснил Шапиро. — Но, прошу меня извинить, комфорт нулевой, — он ловко развернул туго связанную сетку и расстелил ее на полу. — Вам четверым придется побыть в роли мешков с мукой, ничего делать не надо, просто находиться в сетке и не паниковать.
— А это надежно? — испуганно спросила Валентина.
— По словам вот этого молодого человека, — Шапиро показал на меня, — люди из КГБ собирались похитить меня именно потому, что я хороший механик. Один из лучших в мире, как он сказал. Неужели я не способен рассчитать и изготовить простейшую блочную систему? Впрочем, если вы боитесь путешествовать в сетке, я могу вас, юная леди, пристегнуть к себе. Моя веревка выдержит двоих.
— Нет, спасибо, я с Сашей, — Валентина прижалась к Комину.
— Как угодно, — галантно улыбнулся Шапиро. — Добро пожаловать в сетку!
Я шагнул первым.
— Минуточку, Владимир! — остановил меня Шапиро. — Вы ничего не забыли? — Видя мое недоумение, он мученически закатил глаза: — Часы!! Выставочная коллекция «Роже де Барбюса»! Вы ее новый владелец, и как владелец несете за нее ответственность, вы не должны допустить ее гибели!
— Да-да, конечно! — я поднял с пола пластиковый пакет и шагнул к шкафчику с часами.
— Не в пакет! Вот! — Шапиро достал из своего рюкзака и протянул мне специальный защитный бокс для перевозки часов. — Осторожно, заклинаю вас! Грузите часы, я отправляю этих троих в сетке, чтобы не терять времени, а вы подниметесь со мной. Прошу сюда! — он помог Комину, Валентине и Лещенко правильно расположиться в середине сетки, приподнял ее края. — Встаньте плотнее, держитесь друг за друга! Будет небольшой толчок. До встречи наверху! — Шапиро дернул одну из веревок, плетеные края натянулись, сетка приподнялась, обнявшаяся троица, потеряв опору, повисла в воздухе, «мамочки!» раздался Валин возглас, сетка качнулась, плавно заскользила вверх и скрылась из виду в дыму.
Тем временем я уложил в бокс шесть драгоценных хронометров выставочной коллекции «Роже де Барбюса».
— Готово, — сказал я. — Полетели!
Шапиро стянул с себя противогазную маску, которая болталась на шее, расстегнул альпинистский пояс.
— Не сюда, Владимир. Там, за лифтом есть запасной подъемник.
— А они? — еще не вполне соображая, что происходит, я показал пальцем вверх, туда, где скрылась сетка.
— Они повисят там, пока их не обнаружит полиция. Поверьте, для них это самый безопасный вариант, здесь внизу их могут обнаружить коллеги этого Леченко или Лешенко, как его там…
— Бросьте эти шутки, Даниэль, нам надо быстрее наверх! — Я все еще отказывался верить в то, что Шапиро говорит серьезно.
— Я не шучу, Владимир, — в ясных водянисто-голубых глазах часовщика не были ни намека на шутки. — Я не хочу иметь никаких дел с этими, — он показал пальцем вверх, — господами. Это не моя война, и не ваша. Я не понимаю, что происходит. Они сами не понимают, что происходит. Они играли в какую-то игру, все пошло не так, убили министра. Кто тут преступник, кто жертва, пусть разбирается полиция. Вам, Владимир, я тоже советую выйти из игры сейчас. Это шанс для вас. Через три минуты вы будете в безопасном месте.
— Ах, ты! — кровь ударила мне в голову, я хотел вцепиться часовщику в горло, но сдержался. Я открыл бокс и вырвал из него сразу трое часов, сколько уместилось в кулак.
— Там наверху, — сказал я, изо всех сил стараясь казаться спокойным, — там наверху мой друг и его девушка. Мы сию минуту поднимемся наверх, и ты выведешь нас в безопасное место. После этого ты получишь всю свою коллекцию назад. Если нет — я разобью это, — я поднес кулак с часами к лицу Шапиро, — об твою голову.
Шапиро испуганно отстранился:
— Зачем же так? Причем здесь вообще часы? Давайте разговаривать как цивилизованные люди!
Я сделал замах.
— Хорошо, хорошо! — Шапиро поднял с пола брошенный пояс с веревками и принялся натягивать его на себя. — В конце концов, это тоже неплохо. Я вас вывожу, и коллекция снова моя. Так?
Когда мы поднялись над стендом, я оглянулся вниз. Трое крепких мужчин ломали забаррикадированную дверь. Шапиро тоже это увидел, наши взгляды на мгновенье встретились. Никакого второго пути отхода не было. Я спас этому прохиндею жизнь. Правда, и он спас наши.
— Что ж вы так долго, родимые? — заорал Лещенко. Они так и болтались под потолком, плотно упакованные в сетку.
— Любовались часами, — ответил я. — Выставка же!
— Выпустите нас скорее! — крикнул Лещенко по-немецки.
— Один момент! — Шапиро ловко освободился от альпинистской упряжи, взялся за верхнюю часть сетки, качнул ее и пристегнул карабинами к веревке, протянутой под низким потомком технического этажа. — Вам предстоит еще одно короткое путешествие вниз, и тогда я вас выпущу.
— Эй, почему вниз, что это значит? — я снова заподозрил подвох.
— Не волнуйтесь! — успокоил Шапиро. — Здесь оставаться нет смысла. Мы спустимся вниз по вентиляционной шахте. Система вентиляции первого павильона сообщается с вентиляцией подземного паркинга, а воздухозабор паркинга выходит наружу в двухстах метрах от здания.
— Только без глупостей! — шепнул я Шапиро, положив руку на бокс с часами.
Вдвоем мы налегли на сетку, и она заскользила по веревкам к мерцающей в полумраке огромной жестяной вентиляционной трубе.
Троица в сетке стойко терпела все мучительные неудобства, связанные с перемещениями, лишь Валентина слегка повизгивала, а Лещенко приглушенно матерился.
Шапиро открутил четыре болта, снял с трубы большую боковую панель, в темном гудящем жерле обнаружилось еще множество веревок. Гений механики хорошо подготовился к эвакуации с выставки крупногабаритных грузов. Что же он на самом деле собирался вывозить? — мелькнул в голове вопрос. Однако времени на поиски ответа не было. Груз в сетке был нестандартный и плохо вписывался в исходную позицию для спуска вниз. Слушая команды Шапиро, я изо всех сил тянул за веревочные концы, толкал, подтягивал, просил товарищей в сетке подобрать локти, ноги, колени и головы. Товарищи в сетке больше не считали нужным сдерживаться, визжали, ругались и больно брыкались. Когда сетка наконец-то оказалась в трубе, Шапиро объяснил следующую задачу: он спускается вместе с сеткой, верхом на ней, точнее, верхом на головах несчастных пассажиров, за что он заранее очень извиняется, а я должен спускаться следом самостоятельно. Хитроумный спусковой механизм предусмотрен лишь для сетки, поэтому я должен рассчитывать только на силу своих рук и ног.
Сетка благополучно спустилась вниз, о чем мне сообщили, три раза дернув за веревку, которую Шапиро назвал «сигнальной». Я полез следом, руки дрожали, в трубе воняло дымом и не хватало кислорода. Кружилась голова. Я спускался, сжимая веревку в руках и переступая ногами по стенке трубы. Получалось медленно, до конца спуска сил могло не хватить. Тогда я попробовал отталкиваться ногами от стенок и скользить вниз. Один раз оттолкнулся и больно ударился боком о стенку, второй раз получилось. Третий раз оттолкнулся — и сорвался. В ту секунду, пока я летел вниз, в черную гудящую бездну, мне вспомнился Вергилий. «Смертный час для них недостижим» — продекламировал он голосом Комина, и гудящая бездна поглотила меня.
Сквозь сон где-то совсем близко я услышал жалующийся голос:
— Он меня вообще ни во что не ставит. Конечно, такой возраст сейчас, рядом мужик нужен, мужчина. Чтоб где надо пример показал, а где надо и рявкнул. Чтоб по-мужски. А я что? Мать для него не авторитет. Хоть в лепешку расшибись, внимания — ноль.
«Валентина, — догадался я. — Опять про сына рассказывает».
Лежать мне было удобно, мягко, лишь немного покачивало. Едем в машине, определил я. Только не открывать глаза! Ни в коем случае не открывать глаза! Это ведь все мне приснилось, и взрыв, и бегство, и чудовищная темная труба. Этого всего не было! Не могло быть! Ведь сейчас так спокойно, голос у Валентины такой родной, такой теплый, хотя, кажется, она вот-вот заплачет. Ну так это она из-за сына… А почему у меня болит нога? Сильно болит левая нога. Значит, все-таки что-то было?
— А мы сейчас вот что сделаем, — раздался голос Комина. — Я скажу ему: Павел, ты знаешь вообще, кто такая твоя мать? Она одна из нас, революционеров, борцов за светлое будущее человечества. Кто такие мы, он сегодня из теленовостей узнает. А ты одна из нас. Более того, ты — наш тайный лидер. Наша Софья Перовская и Вера Фигнер. И он, Пашка, за твою безопасность головой отвечает, пока я не вернусь.
— Да что ты такое придумал!? С ума сошел! — испугалась Валентина.
— Для пятнадцатилетнего пацана это именно то, что надо, — возразил Комин. — Он тебя так зауважает, сама еще не рада будешь.
— Не надо ничего такого говорить, пожалуйста!
— Ладно, на месте разберемся, — сказал Комин. — Должен же я ним, наконец, познакомиться! Должен или нет?
— Должен, — всхлипнула Валентина.
— Вот то-то!
Я открыл глаза. Валентина была рядом со мной на заднем сидении автомобиля. Впереди сидел Комин, за рулем — Лещенко.
— Ой, Володя проснулся! — радостно воскликнула Валентина.
— Очнулся, скалолаз? — Комин повернулся назад. — Как самочувствие?
— Вроде неплохо, — ответил я. — Только нога болит.
— Специалист сказал, что кости целы, — Комин кивнул в сторону Лещенко.
Лещенко посмотрел на меня в зеркало заднего вида.
— Попробуй пошевелить.
Я выпрямился на сидении и подвигал ногой.
— Больно?
— Терпимо.
— Значит, жить будешь.
— Шапиро твой все предусмотрел, — сообщил Комин. — На случай падения он в трубе заранее маты постелил.
— А он сам где? — поинтересовался я.
— Растворился в тумане, — сказал Комин. — Мавр сделал свое дело, мавр может соскочить. Он, кстати, коробку с часами забрал. Сказал, у вас с ним договоренность была. Была?
— Была.
— Не соврал, значит. Вообще, неплохой мужик. Только нервный очень.
— Станешь нервным, — вздохнула Валентина, — когда такое вокруг, они же тут не привыкли…
Какое-то время ехали молча. За окном потянулись кварталы серых домов.
— А куда мы едем? — Я специально не торопился задавать этот вопрос, чтобы не расстраиваться раньше времени, потому что понимал — утешительного ответа на него быть не может.
— Валю надо к сыну завезти, — ответил Комин.
— Он здесь подрабатывает учеником автослесаря, — пояснила Валя, — еле уговорила, чтоб взяли.
«Или они все сошли с ума, или я», — подумал я.
— Приехали, — Лещенко свернул с дороги и притормозил около гаража под ярким желто-красным рекламным щитом. — Судя по адресу, здесь.
— Здесь, здесь, — подтвердила Валентина.
Комин вышел из машины, открыл заднюю дверь и подал Валентине руку.
— Ребята, у вас на все про все семь минут, — предупредил Лещенко. Комин кивнул, огляделся по сторонам и, придерживая Валентину за локоть, быстрым шагом направился с ней к стеклянной двери гаражного офиса.
Лещенко проводил их взглядом и усмехнулся.
— Ты пока в отключке лежал, пропустил тут бурю страстей. Я им говорю, давайте, когти рвать пора, в горы уходить. А Валентина ни в какую, у меня сын, говорит, мне к нему надо. Слезы, крик. А тут еще Шапиро с часами этими пристал. Даже немного стукнуть его пришлось, чтоб не верещал. — Поймав мой взгляд, Лещенко добавил: — Чисто символически. Без увечий. А с Валентиной-то, так просто не решается. Вот, пришлось везти. Тут, кажется, к свадьбе дело идет. Не в курсе ты?
— Нет, не в курсе, — ответил я.
— Пусть попрощаются, и махнем в горы. У меня там дачка, дня три-четыре отсидимся, пока ситуация прояснится. Там не найдут.
— Кто не найдет? «Смежники»? — вспомнилось зловещее словечко.
— Никто не найдет, — ответил Лещенко.
— А можно подробнее? И, желательно, с самого начала.
— С самого начала, — Лещенко усмехнулся. — Ишь, чего захотел!
Во мне вспыхнула злоба.
— Хватит строить из себя Джеймса Бонда! Чуть не поубивали всех! Какого черта!
Лещенко серьезно посмотрел на меня в зеркало. Провел руками по рулю, словно смахивая пыль.
— Комин был «активистом», — начал он. — Так у нас называют кадров с идеями, которые готовы на решительные поступки. На очень решительные. Сами идеи не так важны, это может быть все что угодно — религия, экология, марксизм, маоизм. Спецслужбы плотно работают с такими «активистами», направляют их, если нужно, защищают, а когда приходит время, «активист» срабатывает. Там, где нужно. Чаще всего активисты не знают о конторской опеке, в некоторых случаях им представляется какая-то версия о помощи со стороны конторы, которая позволяет им сохранить лицо. Это очень старый метод. Вспомни попа Гапона, Азефа. В каком-то смысле активистом был Ли Харви Освальд, и точно им был Мехмет Агджа, тот самый, что стрелял в папу римского. Неплохо было сработано, Ватикан порешал свои внутренние проблемы, а списали все на болгарские и советские спецслужбы, которым, если подумать, какое вообще дело до папы и Ватикана.
Контора берет под опеку активиста на ранней стадии и дальше ведет его, «растит», что называется. Готовый активист — это еще и товар, предмет торга и обмена между разными отделами внутри конторы или разными конторами. Мы же сейчас с американцами на почве борьбы с терроризмом дружим, так что тут практикуется обмен активистами. Комина взяли в разработку в Антарктиде американцы, он там свое дело сделал, проявил себя как ценный кадр с большим потенциалом. Наша контора им тоже заинтересовалась. Его передали. В порядке «перезагрузки» российско-американских отношений, так сказать. Меня назначили его куратором. Никаких конкретных планов на него пока не было, была поставлена задача «растить». То есть позволить ему побыть в роли идейного борца, накапливать вес, собирать единомышленников, устраивать какие-то акции в определенных рамках, но и помогать в случае форс-мажоров, как это было в Генуе.
— Это когда он вдруг исчез? — вспомнил я.
Лещенко кивнул:
— «Активисты» — мой профиль в конторе. Это трудная работа, многим конторским она не под силу, потому что, чтобы понимать активиста, надо самому быть немножко «активистом», нужно иметь собственные идеи, нужно иметь мечту. Для большинства конторских мечты и идеи — вредный балласт.
— И какая же у тебя мечта, если не секрет?
— Не секрет, — ответил Лещенко, — я тебе много раз о ней говорил. Моя мечта — это новая Россия, сильная и счастливая. Сейчас уже поистрепали слово «национальная идея», я его даже произносить не хочу. Новая Россия — это такие люди, как Комин, мечтатели, готовые бороться за свою мечту. И такие, как ты.
— Я?
— Да, ты. Вы с Коминым идеально друг друга дополняете. Горячее сердце и холодная голова. И оба со стержнем. Это вообще редкость. Когда велел тебе испортить оборудование перед выставкой, я знал, что ты не сделаешь этого, знал, что пойдешь до конца.
— А то, что будет покушение на министра, ты знал?
— Не знал, — сокрушено покачал головой Лещенко. — Хотя, конечно, должен был знать. В конторе я много лет уже продвигаю собственный проект, отбираю и разрабатываю в среде эмигрантов полезных людей для новой России, возможно, будущих ее лидеров. Для конторы это, конечно, ересь. Я бы не продержался и дня, но у меня был один высокий покровитель, который мои идеи разделял и поддерживал. В последнее время там произошли перестановки. В общем, покровителя моего задвинули в тень, и всех его протеже тоже. Только нам, малым сим, об этом не сообщили. Я уже договорился, чтобы Комина вывели из программы «активистов» и перевели в мою программу. Вроде как добро было получено на всех уровнях. По моей задумке вы должны были пустить дым на выставке, нахулиганить на пару недель тюрьмы, чтобы перевести вас обоих на нелегальное положение и дальше спокойно работать. Но видишь ты, смежники решили использовать активиста Комина в операции по ликвидации Ледербергера. Если рассуждать трезво, их можно понять, карты легли очень удачно. Все сошлось. Комин — полусумасшедший экстремист, недавняя попытка самоубийства, диагностированный маниакально-депрессивный психоз. То, что я бы на такое никогда не согласился, они обошли очень изящно. Просто не поставили меня в известность. Мне сказали, Комин выведен, а сами никуда его не вывели. Я должен был догадаться, должен! Как только произошла попытка самоубийства, я должен был понять — это сигнал. Я вне игры.
— Он не сам это сделал? Я имею в виду тогда, в гостинице, не сам себе вены резал?
— Кто их резал, неважно, — ответил Лещенко. — Мог сам, мог не сам. Технически оба варианта возможны. Есть определенные препараты, определенные методики. Речь сейчас не об этом. Я упустил ситуацию.
— Но ты вроде как был готов к сюрпризам на выставке. Разве нет?
— Конечно, был страховочный вариант. Но именно что страховка. Я должен, просто обязан был сыграть на упреждение.
— А кто такие смежники?
— Смежники — это смежники. Есть контора, а есть смежные организации. Как везде.
— А зачем им понадобилось убивать Ледербергера?
— Ну, это праздный вопрос. Поступил заказ откуда-то сверху. С какого верху, гадать бессмысленно. Зачем Агджа стрелял в католического папу?
— И что теперь? — спросил я. — Отсидимся мы три дня на твоей дачке, а дальше?
— Дальше все будет гораздо лучше. Покушение сработали очень топорно. Руки поотрывать за такую работу. Самая большая ошибка — то, что они упустили вас. В полиции и местной конторе тоже не дураки сидят. У них сейчас есть три дня, чтобы во всем разобраться, чтобы не наломать дров сгоряча. И они разберутся.
Знаешь, когда случается провал, всегда можно найти расклад с минимальной потерей лица для всех задействованных сторон. Я думаю, в таком раскладе будут заинтересованы и наша контора, и местная, и смежники, и их заказчики. Самое главное, чтобы в этом раскладе вам была отведена роль живых персонажей. Не мертвых, а живых. Это надо спокойно продумать. Такой сценарий возможен. Три дня. Нужно три дня.
Вернулся Комин. Молча сел в машину и отвернулся, глядя на закрытую гаражную дверь.
— Как все прошло? Как пацан? — спросил Лещенко.
— Хороший пацан, — ответил Комин, не поворачиваясь.
— Ты им еще раз проговорил, как и что делать?
— Проговорил.
— Все будет нормально, — Лещенко повернул ключ и резко тронулся с места.
В ранних сумерках мы въехали в Бернское Нагорье, долго петляли по серпантину, потом свернули на пустынную грунтовую дорогу. Остановились перед большим дощатым сараем. В таких сараях фермеры хранят сено. Никаких признаков жилья поблизости видно не было.
— Вот она, моя дачка! — Лещенко заглушил мотор.
Мы вышли из машины. Воздух был морозным и пьяняще чистым, пахло сеном и старыми досками. Дверь в сарай была приперта снежным сугробом, почерневшим от ранней оттепели.
Лещенко, проваливаясь в снег и чертыхаясь, ушел за угол. Вернулся с лопатой. Быстро расчистил вход, отпер висячий замок.
— Добро пожаловать!
Изнутри дом оказался совершенно пустым. Дощатый пол с огромными щелями, в которых легко может застрять нога, высокий потолок, темное гулкое пространство.
Лещенко включил фонарик. Луч зашарил по темноте.
— У меня тут все припасено! — он отодрал две доски в полу и извлек сначала один большой туристический рюкзак, потом второй. — Правда, на двух гостей всего. Но ничего, поделимся. Еда, одежда, все есть! — он еще раз запустил руку в дырку под полом. — Вот еще кое-что, — он достал керосиновую лампу. — Винтаж, понимаешь… Спички есть?
Я механически похлопал себя по карманам, Комин тоже. Спичек не было.
— Посмотрите в рюкзаке, в кармашке! — сказал Лещенко, а сам снова нырнул под пол. И тут же вынырнул.
— Тихо!
Мы замерли и начали вслушиваться. Снаружи доносилось слабое гудение, похожее на звук автомобильного мотора. Лещенко вскочил на ноги, подошел к распахнутой двери и начал вглядываться в темноту. Два луча скользили в ночи, точно повторяя повороты серпантина. Машина ехала к нам.
— Засекли, — едва слышно произнес Лещенко.
— Кто это? — спросил я.
Лещенко застыл, словно загипнотизированный шарящими в темноте лучами, в лунном свете его лицо казалось гипсовой маской, снятой с покойника. Мне стало не по себе.
— Кто это? — снова спросил я. — Смежники?
Лещенко вышел из оцепенения:
— Хватайте рюкзаки и дуйте отсюда! — быстро заговорил он. — Идите вверх по тропе, а дальше, как хотите. Высоко не забирайтесь, замерзнете. На дороги не выходите. Ночью огня не зажигайте. Спальники, одежда, еда — все там. — Он схватил рюкзак и кинул его Комину, второй мне. — Три дня сидите в горах, на глаза никому не попадайтесь, потом выходите и сразу в полицию.
— А ты? — сказал Комин.
— Я постараюсь их задержать. Шевелитесь, шевелитесь! — Лещенко помог нам надеть рюкзаки и вытолкал из домика во тьму.
Легкий морозец щипал уши. Никакой тропы не было, лишь едва заметный теневой штрих на бугристой снежной целине. У меня на ногах легкие туфли, предательски скользкие. Бег в них по снегу, да еще в гору, хромая, походил на нелепый цирковой номер. Комин схватил меня за локоть и потянул за собой. Так мы преодолели пару сотен метров открытого пространства, дальше начинался небольшой редкий лесок, за ним снова поле. Очутившись среди деревьев, мы остановились передохнуть. Я вспомнил — Лещенко сказал, в рюкзаках есть теплая одежда, может, и обувь тоже?
Я раскрыл свой, нашел теплую куртку, перчатки, шапку. Ботинки! Черт! Сорок первый размер! Низкорослый Лещенко приготовил все это снаряжение для себя. И для Комина. У него в рюкзаке оказались ботинки по его размеру — сорок второй. А мне нужен сорок четвертый. Комин протянул свои ботинки мне: он в сорок первый влезет, мне предстояло влезть в сорок второй. Я выдернул шнурки — все равно малы, ступня скрючена. Встал, сделал несколько шагов. Как на копытах. Больно, нелепо! Аж слезы из глаз. Все равно, это лучше, чем туфли, сказал Комин. Я нашел в рюкзаке нож, хотел отрезать у ботинок носок. Но в это время снизу со стороны домика раздался сухой хлопок, потом сразу еще два, потом еще.
— Потом отрежешь, — сказал Комин. — Побежали!
«Побежали!». Каждый шаг был для меня пыткой, вдобавок разболелась ушибленная при падении в шахту нога. Тропы больше не было, вообще никакой. Несколько раз я спотыкался о припорошенные снегом острые камни и больно падал, разбил в кровь колено. Вдалеке маячил лесной массив, в котором, наверное, можно было бы спрятаться. Но до него больше километра через развалы камней и снежную целину.
За спиной хлопало довольно долго, потом стихло. Боль в ноге стала нестерпимой.
— Стой! Больше не могу! — крикнул я Комину и без сил рухнул на камни.
Комин помог мне снять рюкзак. Мы уселись, упершись спинами. Говорить не хотелось.
Наступившая тишина пугала больше, чем звуки выстрелов, больше, чем разбавленная лунным светом темнота вокруг. Следы на снегу хорошо заметны, они выведут тех, кто стрелял, точно к нам. Сколько еще есть времени? Полчаса? Двадцать минут? Холодно. Ноги не двигаются. Остается сидеть и смотреть на небо, подпертое пепельно-серыми горами. На дымчатые пятна ночных облаков, бриллиантовые пылинки звезд между ними. Если закрыть глаза, бриллиантовые пылинки не исчезнут, будут мерцать и подрагивать. Красиво. Даже не надо открывать глаза. И бежать никуда не надо. Бесполезно, нет сил и нет смысла. Звездное небо со мной. Я медленно скатывался в сон, мешало только покалывание в левом запястье, не сильное, но раздражающее, досадное, как камешек в ботинке. Покалывание тормозило плавное скольжение в бесконечность, что-то я забыл, что-то я должен был сделать, прежде чем раствориться без следа в черной бездне. Что-то… что-то… И вдруг, как вспышка: вспомнил! Северная Гавань, Копенгаген, декабрьский промозглый день, «Список кораблей». Я обещал рассказать дочке о Троянской войне! Одиссей, он же Улисс, долгий путь домой. Мой дом там. Там, где эти смешные косички и глаза, похожие на мои. Я должен быть рядом с ними. Всегда рядом с ними. Покалывание в левом запястье стало сильнее. Я рывком поднял руку. «Открытое сердце». В окошке на циферблате мерцал в лунном свете маленький рубин, и билась пружина: Вставай! Вставай! Вставай!
Я толкнул локтем Комина: Вставай! Он зашевелился, поднялся и помог встать мне. Нога не слушалась, я ступил раз и едва удержался, чтобы не упасть. Комин завел мою руку себе на плечо, так мы поковыляли в сторону леса. На краю леса обнаружилась грузовая канатная дорога. Металлическая опора и дощатая платформа с надписью «перевозка людей категорически запрещена». На таких платформах лесники спускают вниз срубленный сухостой. Металлические канаты круто уходили под склон, нижней опоры не было видно. Я взялся за обод большого колеса и крутанул его. Колесо легко поддалось, механизм был в порядке. Вращая колесо, платформу поднимали наверх, а спускалась вниз она сама, под тяжестью груза. Колесо блокировалось рычагом. Для контроля скорости спуска, оно обжималось резиновыми брусками по принципу велосипедного тормоза.
— Ты, кажется, в космос собирался? Вот тебе и ракета! — я освободил тормоз. — Только летит не вверх, а вниз. Но нам сейчас это без разницы.
— Эта штука работает? — Комин с сомнением тронул колесо.
— В Швейцарии все работает. Залазь в люльку!
Я оглянулся, на дальнем конце поля замелькали темные силуэты.
— Скорее! — поторопил я Комина.
Комин первым влез на платформу, попрыгал на ней, пробуя на прочность, затем втащил меня. Мы распластались на дощатом полу, ухватившись за веревочные петли по краям. Платформа покачивалась на стальном тросе, но никуда не двигалась.
— Не работает! — Комин перевернулся на спину и пнул ногой в низкий борт. — Заело!
Он принялся раскачивать конструкцию. Канаты заскрипели, с верхушки мачты упала снежная шапка, но платформа не тронулась с места.
Ветер донес с дальнего края поля обрывки команд. Нас заметили.
Чертова платформа! Мы метались на ней, подпрыгивали, били кулаками, пинали ногами. И вдруг меня осенило: рычаг! Нужно было не только раскрутить тормоз, но и отжать рычаг стопора. Рычаг находился у основания мачты, с платформы до него не дотянуться. А если спрыгнуть и отжать рычаг, то как обратно?
Вдалеке раздался хлопок, пуля звонко чиркнула по металлическому ободу. Я прыгнул вниз. Вспышка боли от поврежденной ноги ударила в мозг и погасила свет. Пару секунд я полз вслепую, на одних рефлексах, как обезглавленная курица, туда, где должен был быть рычаг. Когда зрение вернулось, металлическая ручка была прямо перед носом. Рванул ее. Покрытый инеем край платформы медленно тронулся. Комин свесился вниз и протянул руку: хватайся!
Нужно был встать и прыгнуть. Сделать шаг и прыгнуть. Сделать два шага и прыгнуть. Три шага. Платформа уплывала в ночь, все дальше и дальше, ее не догнать. Я встал, шагнул, ничего не чувствуя, будто чужими ногами. Из последних сил оттолкнулся и полетел, выставив руки вперед, как ныряют в бассейн, только я нырнул в ночное звездное небо. И время остановилось, превратилось в один упоительно долгий сверкающий миг. Я летел к своей дочке, и не было больше ни страха, ни боли, ни сомнений. Я был счастлив, и счастье мое было огромным, как космос.
Комин ухитрился схватить меня за руку, потом за шиворот и втянул на платформу.
— Ракета, говоришь? — он вытер залепленное снегом лицо и захохотал.
Дощатый ящик с бешеной скоростью несся вниз в колючем снежном вихре.
Цюрих, 2011-2014Автор выражает искреннюю признательность Игорю Нарижному, Андрею Фатющенко, Роману и Елене Маронам, Сергею Клишису, Ларисе Бернштейн за помощь в работе над книгой.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




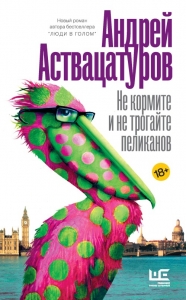







Комментарии к книге «Базельский мир», Всеволод Бернштейн
Всего 0 комментариев