Карл-Йоганн Вальгрен Живописец теней
© Carl-Johan Vallgren, 2009
© Перевод. Штерн С. В., 2010
© Издание на русском языке, перевод на русский язык. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2010
© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015
1
Смерть Виктора Кунцельманна ошеломила всех, и в первую очередь его адвоката, нашедшего Виктора мертвым – в плетеном кресле перед мольбертом, с кистью в руке.
Усопший до самого последнего момента был на удивление бодр, его миловали болезни. Несмотря на свои восемьдесят три года, он прекрасно выглядел, играл в теннис и шахматы, был заметной фигурой в общественной жизни Фалькенберга – города, где прожил последние сорок лет и где выросли, в стороне от штормовых ветров большого мира, его дети – Иоаким и Жанетт.
Карьеру Кунцельманна-старшего, знаменитого реставратора картин, можно было назвать легендарной. Эксперт в самых разных областях – от барочной скандинавской живописи до прусского золотого века. Незаменимый советник всех скандинавских художественных музеев. Коллекционер с европейской известностью… истинный интернационалист, как он сам себя называл. Интернационалист на службе Святого Искусства.
Известие застало Иоакима Кунцельманна, уже почти сорокалетнего сына Виктора, на Готланде, где он полгода назад купил дом. Собственно говоря, покупка была не по карману: выплаты намного превышали его скромные доходы журналиста-фрилансера. Сознание, что он отхватил кусок не по зубам и скоро придется за это расплачиваться, сильно отравляло ему жизнь этим летом. Шесть лет назад, когда его оставила первая (и доселе единственная) жена Луиза, он, чтобы утешиться, взял кредит и купил квартиру на Кунгсхольмен в Стокгольме, слишком большую и слишком дорогую для холостяка. Неудачные операции с акциями в конце девяностых и охватившая его неуемная потребительская лихорадка подорвали бюджет окончательно. Кстати, дом на Готланде в поселке Бурс он купил после пары джойнтов[1] и половины трехлитрового «бэг-ин-бокс» калифорнийского каберне марки Chill Out… И теперь ежемесячные выплаты подскочили до двадцати с лишним тысяч крон. Долго так продолжаться не могло – это было ясно всем, за исключением его доверчивого банковского клерка. Но того удалось обмануть сравнительно профессиональными, хотя и полностью лживыми финансовыми отчетами за последние два года, состряпанными самим Иоакимом. Он даже мастерски подделал подпись ревизора. Глянув на эту липу, банковский служащий без лишних слов оформил кредит, который Иоаким смог бы погасить из собственных средств разве что во сне.
Поэтому известие о смерти отца, помимо горечи утраты, принесло Иоакиму некоторое облегчение: состояние отца, заключенное в багетные рамы и поровну поделенное между ним и сестрой, поможет решить все его финансовые ребусы легко и безболезненно. Но он не хотел заранее праздновать победу, поэтому и решил провести этот июньский вечер 2004 года перед экраном телевизора с бокалом в руке, сдержанно оплакивая отцовскую кончину.
Отцовский адвокат, и по совместительству бухгалтер, нервный господин по фамилии Сембурн, позвонил ему как раз в тот момент, когда начинался матч чемпионата Европы между Швейцарией и Англией. По случаю такого события Иоаким с легким сердцем отложил статью о Самюэле Хантингтоне[2] и геополитической ситуации нового тысячелетия, обещанную некоему загадочному политическому журнальчику, издаваемому где-то между Тимбру и остальной частью вселенной.
– Отец… От чего он умер? – спросил он, уменьшая звук и пытаясь вспомнить, как он вообще здесь оказался. Перед экраном 14-дюймового телевизора, в доме, который был ему не по средствам, на продуваемом всеми ветрами острове посреди Балтийского моря.
– Врач говорит – отравление. – Голос адвоката дрожал. – Это я его нашел. Заскочил на минутку, спросить кое-что по его декларации. А он сидит в своем плетеном кресле… На мольберте старая картина – похоже, хотел где-то цвет восстановить или, может быть, сделать копию… Ничего не понимаю… Точно такая картина висит у меня в офисе, оригинал Нильса Трульсона Линдберга, варбергская школа, если тебе это что-то говорит. Я купил ее у твоего отца в середине семидесятых, довольно дорого… И насколько я знаю, есть только одна-единственная версия этого полотна, и она сейчас у меня перед глазами… Виктор как раз положил пару мазков на щеку этой хуторянки… ну, которая варит сыр.
– Вы имеете в виду, отец сделал копию?
– Я не знаю, что я имею в виду… все вверх ногами. Мало того, на соседнем мольберте незаконченная картина… Дюрера! Ты подумай – Дюрера! И куча каких-то реактивов, будто это вовсе и не мастерская реставратора, а химическая лаборатория. Вестергрен не исключает отравления. Я приношу мои соболезнования! – вдруг вспомнил он.
Спортивный комментатор Петер Йиде в безвкусно оформленной студии что-то с воодушевлением комментировал – насколько Иоаким понял, статистику угловых в первом тайме.
Он попытался погрузиться в глубины подсознания – по методу, предложенному недавно его психотерапевтом. Суть метода заключалась в противоречащем законам хронологии сопоставлении взрослого Иоакима Кунцельманна с шестилетним Иоакимом Кунцельманном. Психотерапевт с многозначительным именем Эрлинг Момсен[3] почему-то был уверен, что шестой год – критический период в жизни любого растущего без матери мальчика.
На этот раз попытка заняться самоанализом ни к чему не привела – как он ни старался, он не чувствовал никакого горя. Единственное, что не давало Иоакиму покоя, – он не мог понять, при чем тут отравление. И почему Виктора нашли в кресле перед мольбертом с намертво зажатой в руке кистью? Виктор, конечно, учился когда-то живописи, но по мере того, как росла его репутация блистательного реставратора, писать перестал… а если бы и в самом деле взялся за кисть, Иоакиму было бы об этом известно. Он слишком хорошо знал отца – тот тут же начал бы хвастаться всем и каждому своими живописными достижениями. И совсем уж удивительно, что он начал что-то писать в стиле варбергской школы. Может быть, по работе ему и приходилось иметь с ней дело, но художники эти были вовсе не в его вкусе. А уж что касается Дюрера, Иоаким просто не знал, что и подумать.
Все эти вопросы повергли его в недоумение. Уголком сознания он отметил, что комментатор Петер Йиде тоже недоумевает: на экране возникли кадры, никакого отношения к его комментариям не имеющие, – должно быть, режиссер перепутал камеры. Единственное, что не обесценивается в спекулятивной экономике третьего тысячелетия, – это искусство, решил Иоаким. Нажатием кнопки он отправил комментатора в небытие и заставил себя прислушаться к излияниям адвоката.
Искусство вечно… отец был прав, он пришел к такому же заключению полвека назад, когда начинал свою вторую жизнь в Стокгольме. Только искусство и вечно. Каждый эре[4] отец вкладывал в самое одухотворенное из человеческих ремесел. У него, насколько было известно Иоаки му, не было ни фондов, ни акций, ни пухлых банковских счетов – но какое это теперь имело значение? Клее, купленный Виктором за пять тысяч крон на выставке в конце пятидесятых, сегодня просто не имеет цены. За маленькую работу Сигрид Йертен[5] с арлекином на коне он заплатил когда-то старьевщику в Авесте семьсот пятьдесят крон. А через тридцать лет финансист Томас Фишер предлагал ему через посредника полмиллиона, но Виктор даже не потрудился ответить. Идиоты вроде Семборна пытались внушить нервным провинциалам, что акции и государственные облигации приносят верный доход. Чистая ложь! Никакие инвестиции не могут соперничать с ростом цен на признанное искусство.
У Виктора даже не было кооперативной квартиры – во-первых, само это понятие в маленьком Фалькенберге было почти неизвестно, а во-вторых, в его коллекционерском мозгу вряд ли могла даже возникнуть идея такой покупки. Все, что ему было нужно, – съемная квартира на Чёпмансгатан, где разместились два десятка картин. Остальные он держал в банковском хранилище. Единственным вложением Виктора в недвижимость стала постройка дома на берегу моря к северу от Фалькенберга, где он оборудовал реставрационную мастерскую и ателье. То самое ателье, где Семборн нашел его мертвым, с признаками отравления… но чем?
– Может быть, самоубийство? – спросил Иоаким с ощущением, что эти дикие слова вместо него произносит кто-то другой.
– Возможно. В тканях обнаружено повышенное содержание свинца. И еще каких-то соединений, не помню названий.
– Свинца?
– Ну да. Не револьверных пуль, разумеется… Химического элемента – свинца.
– Откуда вам это известно?
– Вестергрен взял какие-то пробы. Он говорит – отравление.
– Но если отец покончил с собой, должно же быть предсмертное письмо?..
– Ни буковки. Ты прав, конечно. Самоубийцы обычно оставляют подробное письменное объяснение своего неожиданного ухода. При моей профессии то и дело встречаешься с такими полубезумными завещаниями, написанными шариковой ручкой за пять минут до того, как веревка затянется вокруг шеи… на салфетках, пивных подносах, в фирменных блокнотах. Но Виктор-то сидел с кистью в руке… Впрочем, Вестергрен может дать тебе более подробный отчет о причинах смерти. Я продиктую его телефон…
Должно быть, в какой-то момент адвокат все-таки повесил трубку, потому что Иоаким вдруг обнаружил себя сидящим в кресле со старым фотоальбомом – зачем-то он прихватил его с собой на Готланд. Потягивая виски, он рассматривал фотографии Виктора, позирующего в английской морской форме, с наградами за проявленное в морских боях мужество. Судя по карандашной пометке на обороте, отец был запечатлен для потомков в мае 1943 года.
Жизнь Виктора Кунцельманна, спроецированная на европейскую историю двадцатого столетия, напоминала кадр с двойной экспозицией. Иоаким никогда не задумывался над парадоксами в отцовской биографии.
Вот этот человек в британской морской форме – его отец. Он вырос в Берлине – стопроцентный немец, даже ариец, если пользоваться странными критериями его современников. Он родился в Митте[6], рано потерял родителей и воспитывался в католическом приюте. Вскоре после начала войны его призывают в армию, но он дезертирует и бежит в Голландию, откуда помогающая беженцам организация переправляет его в Дувр. В Лондоне он поступает в знаменитый Институт искусств Курто[7], чтобы изучать живопись (точнее, продолжить изучение живописи, начатое еще в довоенном Берлине в Академии искусств). Но в 1941 году приходит в комиссариат военного флота в Брайтоне и вербуется во флот. Мотивы такого решения туманны. Как-то он заявил, что в то время симпатизировал коммунистам; потом выяснилось, что на его юношеское сознание оказали магическое воздействие антинацистские речи Томаса Манна в немецкоязычных программах Би-би-си…
Иоакима не оставляло чувство, что именно эти противоречия и заставили отца предъявить на первом домашнем «суде присяжных» снимки, где он вроде бы стоит на мостике английского «морского охотника» в Северном море. И еще одна фотография из того же альбома: отец в гражданской одежде, с повязкой на руке. Подвергнутый перекрестному допросу десятилетней Жанетт и двенадцатилетним Иоакимом, только что прочитавшими о Второй мировой войне в школьном учебнике, «подсудимый» показал, что второй снимок сделан в лагере для военнопленных в Бранденбурге. Его, панически боявшегося, что англоязычные переводчики гестапо обнаружат его немецкий акцент, поместили туда после того, как «морской охотник» был торпедирован немецкой подлодкой… И вот, в страшный шторм весь экипаж – как пояснил Виктор замершим в восхищении детям, – весь экипаж чудом поместился в единственную неповрежденную спасательную шлюпку. А затем по приказу никак не меньше чем самого адмирала Карла Деница был поднят на борт немецкого «миноискателя», случайно находившегося там же, во враждебных водах Дании.
После разговора с адвокатом Семборном Иоаким попытался вспомнить, когда он последний раз виделся с отцом. Да, пришел он к выводу после недолгого размышления, это было недели три назад. Тогда он сделал безуспешную попытку занять у отца денег. Принимая во внимание расходы, вызванные покупкой дома на Готланде, сумма была до смешного малой. Какие-то тридцать тысяч крон, только чтобы заткнуть самые зияющие дыры в его бюджете.
Прошло уже полгода, как Иоаким приобрел этот дом в Бурсе. Лысый маклер из Висбю с жаром убеждал его, что он стоит на пороге самой удачной в своей жизни сделки. Недвижимость на Готланде, сказал маклер, дорожает примерно на десять процентов в год – это чуть ли не вдвое больше, чем в среднем по стране. И даже если цена на старую деревенскую хижину несколько завышена – особенно если вспомнить о некоторых недостатках: водопровода нет, только колонка во дворе, разбитые стекла в отхожем месте, дырявая крыша во флигеле, засоренные дымоходы (все до одного), обвалившаяся штукатурка (семьдесят процентов фасада), плесень в кухне, мох на чердаке, потолочная балка вот-вот обвалится под собственной тяжестью, та же участь ожидает сложенный из известняка сарай, – несмотря на все это, сказал маклер, Иоаким может быть уверен, что через пару лет сумеет при необходимости продать этот дом за сумму, намного превышающую назначенные (из чистой щедрости, разумеется) 1,6 миллиона. Бурс – фактически последнее селение на острове, не затронутое массовым туризмом, сказал маклер, нервно прикуривая одну сигарету от другой. И близость к Стурсудрету нельзя недооценивать… Скоро миллионерам и членам академии из Вамлингбу[8] понадобится Lebensraum[9], и первым на очереди будет юго-восточное побережье. Мысль о юных миллионершах и дочках академиков стала для Иоакима решающей. Перед таким коктейлем из денег, изысканного гуманитарного общества и сексуальных перспектив устоять он был просто не в силах. Даже не пригласив строительного инспектора, чтобы реально оценить состояние дома, и четко понимая, что с сегодняшнего дня банк будет ежемесячно снимать с его счета двадцать тысяч (а поскольку его доходы составляли не больше половины этой суммы, воздушный замок его личной экономики разлетится на куски), даже сознавая все это, он подписал контракт.
Но нельзя сказать, что его генеральный план был полностью лишен смысла. В Стокгольме он просто-напросто не мог работать – воздух в его квартире был необратимо отравлен дурными привычками. Последний год Иоаким посвятил созерцанию рисунка обоев в кабинете, складыванию нераспечатанных конвертов со счетами в кучу под кроватью и безвольному блужданию в Интернете в поисках голых женщин, на мгновение утоляющих его неизвестно куда направленную страсть.
Кухня представляла собой собрание пустых винных бутылок по шестьсот крон за штуку (Шато Бе-Сежур Бекот-82, Айтельбахер Картхойзерхофберг Рислинг Ауслезе-89, Поммар Гран Кло дес Эспенотс-99). На автоответчике скапливались раздраженные монологи – от друзей, которым он задолжал деньги, и от редакторов, которым он задолжал тексты статей. Ему нужно было что-то новое… как-то реализоваться, наконец.
И сама мысль о фантастическом острове Готланд, жемчужине Балтики, немедленно подтолкнула его угасающий творческий потенциал. Там-то он найдет все, что ему нужно, решил он, морской воздух и просторы помогут подзарядить батареи. Один и шесть десятых миллиона были долгожданной инвестицией в его творческую мощь. И это вложение окупится многократно в виде вороха статей и успешно продаваемых книг. На обороте контракта он тут же набросал несколько возможных тем для статей, тут же родившихся, словно задаток будущего неизбежного вдохновения: «Скрытые суицидальные метафоры в ранней лирике Симуса Хини»[10], «Фаллический ужас в „Игре снов“ Стриндберга», а также «Сексуальные дискурсы на попсовом чат-форуме „Lunarstorm“».
Через несколько месяцев внезапное творческое извержение, а точнее сказать, задаток творческого извержения в виде небольшого дымка из кратера иссяк в потопе счетов и финансового самообмана. Он задолжал друзьям около ста пятидесяти тысяч. Один из них, к ужасу Иоакима, угрожал нанять байкеров, которые, помимо основной деятельности по торговле живым товаром и контрабанде кокаина, сколотили в Сольне банду по выбиванию долгов, или, как теперь это называется, создали коллекторскую фирму… Что за идиотский эвфемизм! Эрлинг Момсен, психотерапевт, грозил прервать лечение, поскольку Иоаким задолжал ему за полгода. А его последняя подружка, неотразимая Сесилия Хаммар, редактор гламурного журнала по интерьеру, неожиданно выказала вкус к роскоши. Эту роскошь Иоаким мог предложить ей, только занимая деньги у новых знакомых. Поэтому он и позвонил тогда отцу, надеясь, если возможно, получить кое-что из отцовского наследства авансом. Но ожидаемого припадка щедрости не случилось. Продай дом, коротко сказал отец. Иоаким так бы и сделал, но тут выяснилось, что маклер его надул: рыночная цена на его дом не превышает шестисот тысяч крон.
Унижение, испытанное в разговоре с отцом, навело его на мысль: почему ни у него самого, ни у сестры Жанетт нет детей? В те периоды, когда он жил с женщинами, сама мысль перекачать кунцельманновскую ДНК грядущим поколениям казалась дикой по каким-то ему самому неясным причинам. Он оправдывал собственное нежелание размножаться чем угодно: пока еще нет достаточной материальной базы; он в той жизненной фазе, где нет места для младенца; войны, экологические катастрофы, терроризм; несчастная, перенаселенная, обреченная планета, внезапно попавшая в круг его повседневных и неустанных забот… Все это он подкреплял несколькими высокопарными цитатами, почерпнутыми из теории Лавлока[11]. Короче говоря, приводил все возможные и невозможные объяснения простого факта, что в акте размножения его интересует только чувственный, а отнюдь не биологический аспект. А еще менее ему интересна подгнившая генеалогическая крона, где Кунцельманны – не более чем крошечный и малозаметный сучок. До поры до времени все подружки делали вид, что его понимают.
Раскусила Иоакима только бывшая жена, Луиза. Она прощала ему измены, неумение любить, небрежность и летаргию, эмоциональную тупость, неприлично обширную коллекцию «Playmates of the year»[12], прощала невнимательность, нашедшую лучшее подтверждение в том, что он забывал день их свадьбы семь лет подряд… прощала бытовую неопрятность. Даже при всем этом она не ушла бы от него, если бы не генетическая халатность. После восьми лет супружества ее женский биологический будильник начал звонить почти истерически: ты миновала свой самый плодородный возраст, у тебя совсем нет времени! Прыгая в спасательную шлюпку с осклизлой палубы идущего ко дну семейного корабля, она тактично умолчала об истинных причинах ухода, но Иоаким, несмотря на всю свою эмоциональную черствость, был вовсе не дурак. Через год, случайно встретив Луизу, он сразу понял, отчего дала крен их шхуна: она была на пятом месяце беременности.
А вот по каким мотивам не было детей у его сестры, он и понятия не имел. Жанетт уехала из Фалькенберга в Гётеборг изучать историю искусства и уже семнадцать лет жила с одним и тем же мужчиной, но брак был бездетным. Она моногамна на грани с аутизмом, определил как-то Иоаки м. Он готов был держать пари на любое полотно Карла Нордстрёма из коллекции отца, что сестре даже в голову не приходит завести интрижку на стороне. Как-то в пастельные восьмидесятые отец помог ей открыть галерею на Васагатан в Гётеборге. Виктор подарил дочери серию коллажей отодвинутого Малевичем и Родченко на второй план Лисицкого, а также дал адреса знакомых коллекционеров и знатоков искусства в Гётеборге, которых она должна пригласить на первый вернисаж, чтобы не остаться незамеченной.
Бедняжка Жанетт! Его застенчивая сестренка, имевшая классический облик победительницы конкурса «Мисс Швеция», в то время сражалась с легионом одолевающих ее комплексов. Она была очень красива, но красота ее была несколько холодноватой… Ее словно только что вынули на свет божий из погреба. Мужчины говорили с ней о ее прекрасной душе и загадочности ее ослепительного интеллекта – старый гостиничный трюк, чтобы переспать с неуверенной в своей привлекательности девушкой! И они раз за разом разбивали ей сердце. Что не только усугубляло ее застенчивость, но и добавляло красоте оттенок боли, совершенно неотразимый для мужчин со скрытыми садистскими наклонностями.
Богемная атмосфера вернисажей была тогда для нее невыносима – она обычно начинала краснеть, если в помещении было больше двух незнакомцев одновременно. Но на первую же выставку пришло двести сорок человек и девятнадцать породистых собак. Не успел рислинг согреться в пластмассовых стаканчиках – как все было продано! Событие описали в дюжине местных газет. А в «Западных новостях» обозреватель решился на осторожное предположение, что, похоже, приходит новое поколение бесстрашных галеристов, которым интересен не только классический авангард, они решаются бросить публике вызов работами полузабытого русского супрематиста и новатора.
Вскоре после нашумевшего вернисажа за ней стал ухаживать доцент с кафедры социологии, чья работа неведомыми научными нитями была связана с искусствоведением. Его звали Эрланд Роос, в душе он был коммунистом. Иоаким запрезирал его с первого взгляда.
Эрланд, как он считал, типичный культурпсихопат: академический сноб, одержимый своей значительностью и превосходством над недоумками, еще не овладевшими системой построения теорий в его научной сфере. Ко всему прочему, он был еще и левым сектантом, напоминающим Фиделя Кастро – как внешностью, так и авторитарными политическими идеями. Иоаким не мог понять, как этому бородатому коммуняке удалось заманить его красивую сестру в силки, сплетенные из научного пустозвонства и студенческих комплиментов, – это была загадка на уровне теоремы Ферма. Эрланд-Кастро увенчал карьеру завоевателя победой над одной из самых красивых и одаренных женщин, когда-либо учившихся в Гётеборгском университете… Нет, совершенно непостижимо, с чего она на него запала? Только теперь Иоаким начал понимать, что его сестре вовсе не нужен был какой-то определенный тип мужчины. Ей был нужен образ отца.
Иоаким в последние годы неудачно продавал и покупал акции, затевал несостоявшиеся книжные проекты, все больше употреблял алкоголя и все меньше писал статей. Заводил связи с несчетным количеством женщин неопределенного возраста и происхождения – как он себя убеждал, чтобы стереть из памяти бракоразводные неурядицы. Жанетт тем временем стала крестной матерью целых четырех детишек ее подруг. Она относилась к этому с такой серьезностью, будто и вправду ожидала, что дети вот-вот останутся сиротами и ей придется выполнять свой крестно-материнский долг. Прежде она и сама мечтала иметь много детей, и как можно раньше… Здесь, по-видимому, и была зарыта собака фрейлейн Анны О.[13], если пользоваться одним из неудачных сравнений Эрланда, почерпнутых в затхлом фрейдистском сундуке, где он, впрочем, и черпал большинство своих идей: конечно же роковую роль сыграло отсутствие матери!
Может быть, может быть, думал Иоаким. Почему бы нет? Смерть матери вполне могла каким-то образом сцепиться в подсознании Жанетт с деторождением или с пугающей возможностью, что история повторится и ее дитя тоже может рано остаться без матери…
У Иоакима всегда было чувство, что в официальной истории смерти их матери что-то не стыкуется. Например, в семье сохранилась только одна ее фотография. Единственная – портрет в паспарту, с незапамятных времен стоявший на письменном столе Виктора на Чёпмансгатан в Фалькенберге. Обычная женщина, лет тридцати, в грубошерстном пальто до колен и лыжных брюках. Пейзаж явно норрландский – это они с Виктором в 1963 году катались на лыжах. Снимок сделан одним из первых появившихся инстаматиков[14]. Каждый раз, когда Иоаким смотрел на эту фотографию, его охватывало странное чувство – смесь холодного равнодушия и безграничной боли утраты.
На вопрос, почему у него нет других снимков матери, Виктор обычно лаконично отвечал – исчезли при переезде… В общем, вокруг этого снимка сорокалетней давности всегда клубился мерцающий туман некой тайны.
Женщина, одетая для лыжной прогулки, по имени Элла Симоне… Виктор рассказывал, что она была из состоятельной семьи, но порвала с ней по неизвестным причинам, поэтому ее родственники никогда и не пытались наладить контакт с братом и сестрой Кунцельманн. Ни Иоаким, ни Жанетт похожи на нее не были, хотя Виктор утверждал, что сын унаследовал ее цвет глаз, а дочь – на редкость чувствительную натуру. Через полгода после рождения Жанетт мать умерла от загадочной болезни печени.
Если верить Виктору, они встретились в начале шестидесятых на выставке фламандской живописи в Стокгольме, куда оба были приглашены в качестве экспертов. Работая вместе, они полюбили друг друга.
Иоаким не припоминал, чтобы отец когда-нибудь выказывал сентиментальные чувства по поводу смерти Эллы. Насколько ему было известно, он даже не был на ее могиле – хотя могила Эллы не была в прямом смысле могилой: она завещала развеять ее прах в памятной роще под Стокгольмом.
Будучи вдовцом, он никогда никаких отношений с женщинами не заводил. Дети, по крайней мере, об этом не знали. Но связь между смертью Эллы и воздержанием Виктора вовсе не была сама собой разумеющейся. В возрасте семи или восьми лет, когда дети начинают задумываться над экзистенциальными вопросами, Иоаким и Жанетт спрашивали его о матери, но он отвечал односложно. Дети замечательно приспосабливаются к окружающей среде, у них нет другой жизни, кроме той, что дали им родители. Они заметили, что отец говорит об этом неохотно, и перестали спрашивать.
Известие о смерти отца застало Иоакима вечером. Поговорив с Семборном, он сделал стоическую попытку дописать начатую статью, но сам посыл казался диковатым. Интегрировать «Фоносимволизм и металипсы» в антиутопии Хантингтона с «трансгрессивными лабиринтами в сознании самоубийц 11 сентября» оказалось намного труднее, чем он себе представлял. Иоаким приложил немало усилий, чтобы выражаться четко и ясно (надо же потрафить редактору) и в то же время вставить пару новых и в меру снобистских формулировок, дабы произвести впечатление на интеллектуального, как он надеялся, читателя. Но такие понятия, как «метаморфозный терроризм» или «итеративная мания убийства в сингулятивном повествовании об арабах», при четвертом прочтении казались маловразумительными даже для него. К тому же он опасался, что употребленное им слово «гиполаз» существует только в его разгоряченной фантазии, а проверить было негде, поскольку сетевой абонемент «Энциклопедия „Британика“» предлагал исключительно напоминания о неоплаченных счетах. Гонорар за натужный поиск связи между теорией конфронтации в «Конфликте цивилизаций» Хантингтона и последним письмом к другу в Гамбург-Альтона погибшего 11 сентября террориста Мохаммеда Аттаса составлял три тысячи крон (до вычетов). Если вообще удастся эту статью продать. Три тысячи… то есть четыре с половиной кроны в час, до вычетов, если он будет продолжать в усвоенном им за последний год темпе…
В кухне по радио мололи что-то о предстоящем назавтра матче между Швецией и Италией… Иоаким вздрогнул: ему показалось, что он случайно поймал радиостанцию с другой планеты.
Он приготовил себе коктейль водка – тоник (правда, без тоника), сделал два глотка и вылил остаток в раковину. Подумал, не позвонить ли Сесилии Хаммар и не пригласить ли ее на любовный уик-энд в дом на Готланде. Но Сесилия соглашалась на подобные развлечения, только если за нее кто-то платил, а Иоаким, по крайней мере в ближайшие несколько недель, об этом не мог даже мечтать.
Подсознание, старательно избегая оформленных мыслей, попыталось подбодрить его переводом в наличные заключенного в багетные рамы наследства Виктора – получалась сумма, которую он даже не решался произнести вслух… Собрание отца было, наверное, самым значительным в Западной Швеции. Венчали его полотна Дега и Менцеля, а также редкостная смесь немецких модернистов, во главе с Францем Марком и Отто Диксом, с многочисленными работами душевнобольных русских супрематистов. Даже шведская часть коллекции заставила бы позеленеть от зависти директора любого провинциального музея: Агуели, Грюневальд, Йертен, штук двадцать гётеборгских колористов, не считая менее известных художников, чья слава только начала приближаться к вершине.
Мысль о положительных счетах согрела его, и тут он обнаружил, что сжимает в руке бумажку, где записал телефон отцовского врача.
Он вышел с мобильником в сад и набрал номер. Врач, Вестергрен, ответил так быстро, что Иоаким заподозрил, будто тот в ожидании звонка сидел в засаде.
– Это Иоаким Кунцельманн, – представился он. – Что это за болтовня, будто бы отец покончил с собой?
Врач с профессиональным сочувствием разъяснил ему обстоятельства смерти Виктора. Семборн позвонил Вестергрену из мастерской в два часа, и через десять минут он был на месте. Смерть наступила не более шести часов тому назад. Причина не совсем ясна, но определенные признаки указывают на хроническое отравление. Вскрытия не будет, если только не пожелают Иоаким и Жанетт.
– Сомневаюсь, что отец принял яд, – сказал Иоаким. – Он не доверял даже обезболивающим таблеткам. А этого человечка, рекламирующего ипрен[15], он просто побаивался.
– Я говорю о хроническом, длительном отравлении, – терпеливо повторил Вестергрен.
– Не понимаю – что значит длительном?
– Длительное воздействие вредных субстанций: свинец, кадмий, сульфид мышьяка. Точное количество ядов указать трудно.
– Мой отец был коллекционером, а не фармацевтом. Откуда он все это взял?
– Живопись… эти копии, которые он изготавливал, судя по всему.
Иоаким стоял в тени полуразвалившегося каменного сарая, стены которого были когда-то крепки и надежны, как был крепок и надежен отец… И вдруг по телу прокатилась волна горя, ощутимого физически, как боль… Иоакиму показалось, что он вырван из реальности и брошен на произвол какой-то древней силы: он внезапно осознал, что уже привычно говорит о Викторе в прошедшем времени. Уже очень давно он не был так близок к тому, чтобы разрыдаться.
– Виктор прекратил заниматься живописью, когда переехал в Швецию, – выдавил он из себя наконец. – Ателье… это же просто любительская мастерская. Он иногда делал рамы на заказ, приводил в порядок коллекцию, копался в каталогах. Может быть, писал пару акварелей в год – не больше. И как реставратор он уже лет двадцать не работал. Да что там говорить, чтобы поглотить такое количество ядов, надо простоять полжизни в красильной камере без респиратора. Я не понимаю, о чем вы говорите!
Вестергрен вздохнул:
– Он умер за мольбертом с картиной Трульсона Линдберга. Варбергская школа. Вы знаете, этот художник здесь очень популярен. А на другом мольберте – наполовину готовый Дюрер. Должно быть, он делал что-то вроде пастиша[16]…
– Простите меня, Вестергрен, что вы знаете о Дюрере?
– Не так много, но на столе рядом лежали книги с фотографиями оригинала. А также открытая на главе о немецкой живописи «История мировой культуры» Хью Хонора и Джона Флеминга, издательство «Лоуренс Кинг». Я вовсе не считаю себя знатоком, но, судя по всему, он делал… как это называется… старое панно.
– Что значит – панно?
– Ну, старую картину на доске. Она так и выглядела, будто ей лет пятьсот. И краски он использовал… не современные, скажем так.
– Может быть, он занимался реставрацией? Вдовцы и пенсионеры часто ищут себе занятия…
– Реставрацией? Подлинного Дюрера?! Иоаким, там даже дверь была не заперта!
Впрочем, Иоаким и сам прекрасно понимал, насколько невероятно это звучит: Альбрехт Дюрер в щелястом ателье на берегу в окрестностях Фалькенберга.
– Как бы там ни было, – продолжил врач, – я позволил себе оглядеться немного в мастерской… целая аптека, причем не из простых. А еще точнее, химическая лаборатория, куча странных химикалий, которыми сегодня вряд ли кто из художников пользуется. Знаете, откуда это мне известно? Я как-то ходил на курсы истории искусств в ABF[17], которые вел не кто иной, как ваш отец. Он рассказывал о секретных рецептах старых мастеров: туда входили в высшей степени токсичные элементы. Кадмий, например… Чуть побольше доза – и привет родне!
– Что вы хотите сказать? Что мой отец годами тайно изготавливал старинные краски и в результате отравился?
– А что тут невозможного? Во всяком случае, при таком раскладе версия самоубийства отпадает. Вы не знаете, он долго этим занимался?
– Чем – этим?
– Копировал старые картины.
Господи, да не копировал он никогда и ничего. Это было просто невероятно, его отец не мог делать копии, он был реставратором. Максимум, на что он был способен, – несколько акварелек в старинном романтическом стиле.
– Это, конечно, могло быть и сердце, – осторожно сказал Вестергрен, – но, насколько мне известно, кардиологических проблем у него никогда не было. Простите, Иоаким, но мы, врачи старой школы, привыкли доверять интуиции. Молодые сегодня знают все про компьютеры, замысловатые препараты, генную терапию и бог знает что, но чувство диагноза у них отсутствует. Я почти уверен, что в данном случае речь идет о хроническом отравлении.
– А разве от хронического отравления умирают внезапно?
– Вообще-то нет… – неуверенно сказал Вестергрен. – Обычно это длительный процесс…
– Моей сестре кто-нибудь позвонил?
– Пытались – и я, и Семборн, но никто не отвечает, ни дома, ни в галерее. Вы хотите, чтобы я продолжил ее разыскивать?
– Нет, спасибо, я сам этим займусь… Где сейчас папа?
– В похоронном бюро.
Иоаким попытался представить себе Виктора на носилках, укрытым простыней… в каком-нибудь морозильнике с вентилятором, настроенном в осторожном миноре. На столе наверняка стоит букет цветов в граненой вазе… Странно – для новопреставленных предусмотрено специальное помещение, своего рода отель для убывающих в неизвестность.
На другом конце провода Вестергрен, профессионально выразив соболезнования, повесил трубку – и Иоаким остался наедине со своей пунктирной пародией на сыновнее горе.
Остаток дня он посвятил практическим делам – поговорил с секретарем в похоронном бюро и попросил священника церкви Святого Лаврентия, где Виктор состоял в общине, отслужить поминальную службу. Потом связался с конторой Семборна, чтобы получить хоть какое-то представление о проблемах налогообложения с наследства, которые уже громоздились на горизонте, набросал некролог для местной газеты «Халландские новости» и для «Свенска дагбладет», с чьей помощью он надеялся разыс кать старых музейных знакомых отца в столице. Напоследок Иоаким заказал через Интернет билет на самолет. На его счастье, одна из кредитных карт была еще не заблокирована. Завтра он будет в Стокгольме.
Ближе к вечеру он позвонил по всем трем телефонам Жанетт и на каждом оставил сообщение. В конце концов разговор оказался переведен на Эрланда, и Иоаким, нечеловеческим усилием придав голосу приветливые интонации, оставил сообщение и там. В результате, чтобы отрезать своей недоступной сестре все пути к отступлению, он написал ей длинное и эмоциональное электронное письмо – известил о смерти отца и даже поделился своими чувствами по поводу горестного события. В конце письма он попросил ее незамедлительно с ним связаться.
Когда он наконец совершил все эти действия, на него навалилась такая усталость, словно он пробежал марафон. Погода после пары холодных июньских недель заметно улучшилась. Он вышел в сад, улегся в гамак и, прищурившись, посмотрел на светлое небо, видневшееся сквозь кружевной узор листвы.
Отца больше нет. Ни слова на прощание. Что ж, повестка вручена… теперь его очередь. Или Жанетт. Кто знает? Теперь они остались совсем одинокими, ни одного кровного родственника, ни одного звена в генеалогической цепочке ни до, ни после них.
Всю неделю до похорон Виктора Иоаким просыпался каждую ночь в глухой предрассветный час – его с корнем выдирали из сна автобиографические кошмары. Детство раз за разом всаживало худенький кулачок в солнечное сплетение совести. Его мучили воспоминания, как он в восьмилетнем возрасте отрывал кузнечикам задние лапки и сажал в спичечные коробки. А потом устраивал для насекомых-инвалидов своего рода параолимпийские игры (кузнечикам предлагалось преодолеть препятствия на игрушечной железной дороге «Горги Тойс», подаренной отцом на Рождество; Иоаким с приятелями ставили на победителя игрушечные деньги из «Монополии»). Еще более терзали его воспоминания, как он в том же возрасте отрезал лапки лягушкам, жившим у них в Фалькенберге в аквариуме на балконе.
Эти безногие амфибии посещали его с такой регулярностью, словно кто-то хотел преподать ему высший урок. Они мстительно глазели на него выпученными глазами… в своем лягушачьем царстве мертвых они, должно быть, воспринимали Иоакима с его садистскими экспериментами как лягушачьего доктора Менгеле[18], выбравшего орудием своих преступлений кухонные ножницы. Лягушки яростно квакали, и Иоаким, оказывается, прекрасно понимал лягушачий язык: они с наслаждением описывали адские муки, предстоящие Иоакиму в наказание за причиненные им страдания.
Но даже вопиющие о возмездии земноводные не шли в сравнение с теми страданиями, которые причиняли ему воспоминания о бесстыдном аутоканнибализме, которому он предавался в возрасте от девяти до двенадцати лет. В бессонные предрассветные часы он вспоминал кисло-сладкий вкус засохших корочек на ссадинах или затхлый запах гноя, когда он воровато прикасался губами к воспаленной ране. Он помнил солоноватый привкус добываемых им из собственного носа образований, в просторечии именуемых козами; по вечерам, закрыв жалюзи и заперев дверь, он с жадностью поедал побочные продукты своего организма. Он помнил легкое сопротивление этих самых коз, когда он проверял их консистенцию передними зубами, помнил слизистое ощущение в глотке, когда он их глотал, словно кисло-сладкие драже из неисчерпаемой конфетницы носа. Они были клейкими, эти козы, так что иногда он позволял себе воздержаться от пиршества и приклеивал их к нижней кромке кровати, как использованную жвачку. Свои гурманские ощущения он попытался передать в классификации коз в зависимости от их плотности, сухости, вкуса, размера и цвета. Коза, тип II А, содержит примесь крови из носа, особо соленая. Степень сухости 4, легко крошится, слабый запах железа. Коза, тип IV Б, высокое содержание слизи, цвет оливково-зеленый, более водянистая, чем ее кузина типа IV А, имеющая ванильно-желтый цвет. При соприкосновении с твердым нёбом тает.
Несколько лет подряд он систематически занимался утилизацией вторичных продуктов жизнедеятельности – сопли, ногти, отшелушивающаяся кожа, гной, кровь, волдыри, ушная сера. Подсохшие кровяные корочки составляли едва ли не наибольший деликатес в его меню, само название заключало в себе намек на замысловатый кулинарный изыск.
– Перестань! – обычно говорил Виктор, видя, как сын осторожно приподнимает краешек присохшей корочки.
– Почему?
– Потому что ссадина никогда не заживет, если ее теребить.
Но шрамы и проблемы гемокоагуляции беспокоили его не больше, чем брезгливая реакция сестры на бесстыжие попытки съесть самого себя по частям – она с негодованием отворачивалась. Он был не в силах противостоять страсти к самоуничтожению. Бесконечная возня со ссадинами, ранками и порезами привела в конце концов к непонятной экземе, причину которой врачи определить не могли. Виктор водил его ко всем ведущим кожникам провинции, пока один из них не выбросил полотенце и не выписал Иоакиму направление к детскому психологу.
Аутоканнибализм – поставил тот диагноз его заболеванию. Или, может быть, Иоаким сам выдумал этот термин, может быть, это одно из его филологических открытий, вроде загадочного слова «гиполаз»?
В седьмом классе он всю осень посещал психолога – тот принимал больных в просторном доцентском доме в квартале «Любовь» в Хальмстаде.
– Мальчик стремится наказать самого себя, – объяснял он Виктору через голову Иоакима. – Вы часто уезжаете, и мальчик считает, что это его вина.
– Никакой его вины в этом нет!
– Конечно нет. Но родительское отсутствие часто наводит детей на исключительно деструктивные мысли. Ребенок потерял мать, вы все время путешествуете. Он воспринимает это так, как будто он для вас плох и вы его отталкиваете!
Может быть, в его словах и была доля правды, подумал Иоаким. Почему бы и нет? В театре теней его детской памяти всегда присутствовало ощущение одиночества и слишком рано появившейся ответственности за Жанетт… Долгие периоды душевной полутьмы, когда Виктор был в отъезде и мальчик чувствовал, что дом лежит на нем.
Иногда приходила нянька. Она оставалась на неделю, следила, чтобы у них была еда и чистое белье, уговаривала Иоакима оставить в покое корочки на ссадинах.
Но как только они немного выросли, им пришлось обходиться своими силами. Виктор часто уезжал по делам, как он это называл. Музеи по всей Европе нуждались в его искусстве реставратора, его звали на аукционы оценщиком, частные коллекционеры обращались с просьбами установить подлинность произведения. Он использовал эти поездки и для пополнения своей коллекции. Виктор присылал из своих поездок яркие открытки – Берлин, Копенгаген, Лондон, Вена. Но, приезжая, он никогда не рассказывал о своих путешествиях и на все вопросы отвечал загадочной улыбкой.
Само собой, шаг от заброшенного ребенка до аутоканнибала был невелик, а еще меньше – от аутоканнибала до чуть повзрослевшего онаниста, беззаветно мастурбирующего шесть-семь раз на дню… Он мог бы превысить этот рекорд, если бы не уроки и разного рода хобби, вынуждающие его иногда сделать паузу. Дрочильный марафон продолжался два года, с тринадцати лет, когда он открыл для себя ни с чем не сравнимую привлекательность этого занятия, до пятнадцати, пока кто-то из его ровесников – кто из этих, с двусложными именами – Рогер? Тумас? Стефан? – в общем, кто-то из них напугал его, что, дескать, постоянные семяизвержения могут привести к душевной болезни.
– Если все время дрочить, мозги повредишь, – изрек этот двусложный некто, когда они сидели в своей обители греха, закрытой для посторонних глаз комнатушке на чердаке кунцельманновского дома, разложив перед собой с десяток порнографических журналов. – Каждый раз, как кончаешь, в мозгу прожигается дырочка. А как их будет побольше, так человек заболевает… это вроде бешенства. Ты поосторожней с этим, Йокке…
Преувеличение в его словах если и было, то небольшое, если вспомнить то количество психоделического белка, вызывающей бешенство семенной жидкости, фруктозы и прочих веществ, которые он извергал в то время из себя, как из рога изобилия.
На следующий день, сдавая багаж в окошке «Скайуэйз», рейс JZ 2924 из Висбю в Бромму, Иоаким все еще вспоминал о своем безудержном онанизме. И воспоминания эти, кстати, оттеснили другую, косвенно связанную с ними неприятную мысль. В памяти некстати выплыло эссе, начатое еще полгода назад, но тут же отложенное в долгий ящик, поскольку он, скрываясь от кредиторов, записался на военную службу. Надо закончить эссе как можно скорее, подумал он, эта работа, возможно, принесет мир его душе, поможет избавиться от чувства вины, подпитываемого детскими прегрешениями. Эссе называлось «Онанизм и ранний капитализм» и предназначалось для газеты «Поляна». Или, может быть, для другого, еще менее известного сконского журнала «Республика», где редактор, по его сведениям, питал известную слабость к альтернативной идейной истории в духе Фуко.
В общих чертах (кстати, главный тезис эссе Иоаким позаимствовал из статьи в «Экономисте») речь шла о том, что истинный, серьезный онанизм родился одновременно с капитализмом. До этого он был просто сексуальным времяпрепровождением, одним из многих, и воспринимался без всякого осуждения. Но сама суть онанизма, стоящего на трех китах: секретность, фантазия и ненасытность, – прекрасно укладывалась в три главных столпа капиталистической буржуазности девятнадцатого века: частная жизнь, скрытая от всевидящего ока государства и церкви, изобретательность промышленников и, наконец, слепая вера в неостановимый рост потребления, поднимающий прибыль игроков свободного рынка на доселе невиданную высоту. Короче говоря, ранний капитализм увидел в мастурбации собственное отражение и ужаснулся. Глубоко спрятанный стыд за собственную, отраженную в онанизме экономическую непорядочность вызвал к жизни гонения на самоудовлетворение по всей Европе.
– В проходе или у окна? – неожиданно прервала поток странных мыслей девушка в форме «Скайуэйз». Он огляделся. Оказывается, задумчивость помешала ему обнаружить (или быть обнаруженным ею) неверную Сесилию Хаммар… Уж не тем же рейсом она летит? Просто невероятно…
– В проходе! – твердо сказал он. Размышления о неоконченном эссе (или это было неосознанное, но каким-то образом ухваченное им присутствие Сесилии?) повели его совсем уж неожиданным путем: он начал размышлять о женщинах в мундирчиках с этими забавными пилотками, об этой девушке… Ему представилось, как он постепенно раздевает ее, снимает одну часть туалета за другой, пока не останется только пилотка и гигантская, характерная для большинства стюардесс грудь… И вот, в разреженном воздухе северной стратосферы он, почему-то в жестяной бочке с пропеллером, подлетает к этому огромному бюсту и вцепляется в него намертво…
Двадцать минут спустя он сидел в своем кресле у прохода в клаустрофобичном «фоккере». Сесилия и в самом деле летела тем же рейсом, и летела она не с ним.
Она сидела впереди наискосок, в четырех рядах от него. И она была не одна. Рядом с ней был тип, которого Иоаким никогда раньше не видел. К тому же рука этого типа шарила по ее бедру.
Под прикрытием прихваченной в зале ожидания «Афтонбладет»[19], открытой на развороте с материалом об артисте Торстене Флинке[20], он размышлял, какой шахматный ход мог бы помочь ему разрулить эту щекотливую ситуацию.
Конечно, по своей ревнивой натуре Иоакиму впору было бы устроить сцену на высоте пять тысяч метров, но этому мешали два обстоятельства.
Обстоятельство первое: он был должен Сесилии Хаммар деньги, десять тысяч крон. Он занял их апрельским вечером в минуту вдохновения, с обещанием возвратить не позже чем через неделю. Ему удалось отсрочить платеж с помощью тактических уловок в виде дорогих подарков – набор подсвечников от «Шведского олова», золотое кольцо с маленьким рубином от почтенного «Болинса», платье от «Берберри» из «НК»[21]. Стоимость этих даров намного превышала занятую сумму. Но он оплачивал их, дополнительно занимая деньги. И самый большой из этих вторичных займов, как он опасался, скоро будет востребован с помощью «торпед» из Сольны. Но Сесилию Хаммар умаслить было нелегко, она дала ему это понять, когда в конце мая поток подарков начал иссякать.
И второе, решающее обстоятельство: рука, шарившая у Сесилии под юбкой, была настолько убедительной, что могла бы принадлежать члену русской сборной по борьбе.
Перекрест зрительного нерва подвел итог: стокилограммовая гора мышц, перебитый нос, шея, напомнившая Иоакиму колоду для колки дров на Готланде, крашеные русые волосы – уголовная шевелюра, вызывающе контрастирующая с умеренными прическами соседствующих с ним бизнесменов.
Под мятым костюмом наверняка десяток тюремных наколок. Интересно, что делает утонченная, образованная, увлеченная искусством Сесилия Хаммар в обществе такого субъекта? На некоторые вопросы ответов просто-напросто не существует. Торстен Флинк в газете с его нахальной физиономией – того же борцовского поля ягода, подумал Иоаким, наклоняя «Афтонбладет» под углом в тридцать градусов, чтобы сохранить инкогнито… но нет, не то, конечно, не то… что там Флинк! У этого и грудная клетка… такая грудная клетка могла бы, ей-богу, принадлежать Александру Карелину, семикратному победителю Тумаса Юханссона на чемпионатах мира.
Чтобы отвлечься, он сделал попытку углубиться в статью. Оказывается, Торстен Флинк – бунтарь и аутсайдер в постоянном конфликте с деградирующей культурой и средствами массовой информации. Это утверждение немедленно опровергалось фактом, что Флинк согласился дать интервью не кому-нибудь, а именно «Афтонбладет», причем между строк легко читалось, что он сам позвонил в редакцию, чтобы, как он выразился, «выговориться», то есть рассказать о своей жизни в непримиримой борьбе с деградацией культуры и средств массовой информации. Торстен Флинк был из тех актеров, что приводили Эрланда Рооса в восхищение по идеологическим причинам: Флинк был «левый», прожил тяжелую жизнь, а это, по мнению Эрланда, подчеркивало его «настоящесть». По мнению же Иоакима, Флинк относился к категории… сейчас он сформулирует… вот: «ханжески заигрывающий с прессой психопат от культуры с умещающейся в наперсток самооценкой, из тех, что никогда не упускает случая выблевать свои личные проблемы на развороте желтой прессы, чтобы окончательно не погрязнуть в презрении к самому себе». Вот так, подумал он. «Торстены Флинчики, Регины Лундинчики[22], брюнеты, шатены, блондинчики», – бубнил он, словно мантру, пытаясь переварить разыг рывающуюся в четырех рядах от него омерзительную сцену.
О, эти людишки! Они выставляют напоказ дурные наклонности, наркоманию, алкоголизм, скандалы, беременности или (почему бы нет?) свою якобы фанатичную до невыносимости веру в Бога, а минуту спустя – бац! – они уже преследуемые, чуть не распинаемые, непонятые художники, ведущие яростную борьбу со скандальной прессой, в чей желтый пламень они сами годами подливали высокооктановый бензин! Они сами и есть живые символы этой ханжеской до мозга костей нации!
Недавно Иоаким со злорадным восторгом прочитал в одной вечерней газетенке следующие новости: 1) второразрядная принцесса шлягеров Лена Филипссон получила престижнейшую стипендию Повеля Рамеля[23], 2) пастор в евангельской церкви Троицы из деревушки Кнутбю жил сразу с двумя женщинами, причем в одном и том же доме, только на разных этажах (одна из них в конце концов убила соперницу) и 3) любимая команда его приятелей из средств массовой информации, футболисты «Хаммарбю ИФ», проиграли на выезде «ИФК Гётеборг», забив мяч в собственные ворота.
Все эти события подтолкнули его еще к одной формуле: «Швеция – географическая область на Скандинавском полуострове, где попсовые певички получают самые престижные культурные премии, где евангельская церковь способствует скорейшей деградации общества и где судьбу важнейших футбольных матчей решает гол в свои ворота». Анализ пугающий, но, как он считал, в высшей степени правдивый.
Пригибаясь за разворотом «Афтонбладет», Иоаким предпринял нечеловеческое усилие, чтобы расслышать, о чем Сесилия говорит с русским тяжеловесом, но слов так и не уловил… Только звуки, напоминающие кудахтанье призывающей петуха курицы. Он прекрасно знал, что означает этот звук: намерение заняться стопроцентно безответственным сексом.
За несколько месяцев до этого он и сам стал жертвой такого кудахтанья. Они встретились на вечеринке с глёггом[24], куда Иоакима пригласил знакомый в надежде, что бесплатная выпивка развеет его декабрьскую хандру.
Знакомый этот был редактором небольшого и очень критического по отношению к другим массмедиа журнала. По-видимому, его мучило чувство вины перед Иоакимом, поскольку он отказал ему в публикации трех статей подряд. Рассыпаясь в пространных и витиеватых извинениях, упомянув, в частности переизданную, эталонную работу Маршалла Маклюхана «Медиа», он представил его Сесилии. Парень точно знал, как искупить старую вину, – Сесилия, несмотря на строгие юбки и просторные блузки на завязках, оказалась самой настоящей дикаркой. К тому же она была лучезарно красива, наверное, самая красивая женщина из всех, когда-либо встреченных Иоакимом.
Вечеринку устраивал некий глянцевый журнал в бывшем цехе на Сёдермальме. Выпили глёгг, обменялись сплетнями… модный поэт, которому Иоаким патологически завидовал, прочитал свои стихи.
У Кунцельманна-младшего не было женщины уже четыре месяца, он сохранял свое либидо для цифровых красоток на сайте «sexxplanet.com». Поэтому в тот вечер обмен веществ в его организме полностью прекратился, уступив место свирепому шторму с участием всех известных науке мужских гормонов. Каков был спусковой механизм, трудно сказать – возможно, ее внешность училки, этакая суховатая похоть, сочетание очков, юбки и сетчатых колготок, напомнивших ему утреннее путешествие на вновь открытую планету, а точнее, на ее спутник, «MILF Teacher and her Pupils»[25], обнаруженный им, к своему удовольствию, под рубрикой «Mature in pantyhose»[26].
Поскольку большинство визитеров на интернетовских секс-сайтах, если верить статистике, составляют мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати восьми, порнозвезды в категории «Mature» были старше тридцати, и это особенно привлекало Иоакима. А если войти в рубрику «Pantyhose» – и пожалуйста, все в колготках.
Редактор журнала по дизайну Сесилия Хаммар была невероятно похожа на виртуальную даму, облегчившую его страсть не далее как этим же утром. Настолько похожа, что Иоаким подумал: не клон ли это? Или еще того чище – это она и есть, с ее впечатляющим искусством развращать юного, впрочем, довольно рослого и прекрасно оснащенного школьника в гимназической форме. Единственным способом установить истину было раздеть ее и по пути к сексуальной нирване первым делом проверить, не те же ли это, цвета шиповника, лепестки у входа во влагалище и нет ли у нее татуировки в виде паука Latrodectus прямо над идеально выбритой вульвой. После седьмой чашечки щедро сдобренного водкой глёгга он хотел было уже посвятить ее в свою забавную тайну, но удержался – из тактических соображений.
Он разработал долговременную стратегию, заключающуюся в инвестициях в ее всеобъемлющую тягу к шикарной жизни. Кокетничанье феминистскими построениями вроде теории подчинения и распределения половой власти было отнюдь не в духе Сесилии Хаммар; он понял это, пока они болтали за столиком с глёггом. «О чем я мечтаю, так это о богатом мужчине, который бы меня баловал», – заявила она. Все вокруг засмеялись удачной шутке, но Иоаким-то знал, что это никакая не шутка. Для начала он предпринял тактический маневр – пригласил ее вместе с редактором в «Кафе-Опера», соврав, что продал большую серию статей в некую газету, чей щедрый гонорар позволяет ему отметить этот успех шампанским. Старый трюк сработал – уже в такси по дороге в Кунгстредгорден они с Сесилией затеяли замысловатый флирт ногами.
Весь вечер до закрытия кафе он щедро швырялся деньгами – восемь тысяч крон, – взятыми в кредит в каком-то немецком банке-выскочке, не позаботившемся навести справки о платежеспособности клиента по имени Иоаким Кунцельманн. Когда редактор в конце концов уснул в кожаном кресле, все пути были открыты – в половине второго ночи они уже сидели в такси по пути к нему домой.
Для начала Сесилия Хаммар удивила его, отказавшись от портвейна (Квинта до Новаль-86, 900 крон бутылка). Она немедленно освободилась от всего текстиля, покидав его в живописную кучу на коровьей шкуре в гостиной, вульгарно облизнулась в бордельной подсветке от скрытой в стеклянном шкафу лампочки и, бросая на него явно позаимствованные из порнофильма взгляды, нежно сообщила, что она законченная блядь. Без одежды она оказалась пухлее, чем он себе нафантазировал, но после четырех месяцев воздержания ему было на это наплевать… Наплевать и на выпивку, которой он поначалу решил себя подкрепить, наплевать и на презервативы марки «Хо-Сан», стратегически помещенные под салфеткой в баре. Наплевать и на любимый, специально предназначенный для подобных случаев компакт-диск с записью сладкого хита слепого Андреа Бочелли. Вместо всех этих приготовлений он представил себя в роли мальчика-переростка в школьной форме… и вот нахальная училка, ухватившись проверенным приемом за скромный форменный галстук, валит его на дорогой английский диван, купленный в кредит.
Сесилия Хаммар каким-то образом вызвала в его сознании все эти порноклише… А похотливая самка в обличье учительницы должна подвергнуться наказанию – в соответствии с современной учебной программой. Она же нарушает профессиональный этический кодекс – разве позволено распалившимся училкам вытворять такое со своими учениками?
Она, издав шаловливый стон и, к его немереному восторгу, не сняв очки, встала перед ним на четвереньки, и ягодицы слегка распались, как половинки спелого фрукта. На него ободряюще глянул подведенный смуглыми тенями глазок. Он медленно ввел туда большой палец, будучи почему-то уверенным, что этот веселый глазок подмигивал ему именно с целью внести такое предложение. И уж вовсе не сомневался, что Сесилия отнесется к его действиям с искренним одобрением…
После этого вечера они встречались более или менее регулярно. Сесилия никогда не показывала, что понимает его экономические сложности. Возможно, она принимала его за преуспевающего журналиста и богатого наследника, за которого он себя выдавал и которым, по сути дела, являлся: рано или поздно состояние Виктора должно было перекочевать к нему. А покуда расходы на Сесилию стоили каждой кроны. Они проводили выходные в шикарных пансионатах в Сандхамне и Смодаларо, в апартаментах «Шератона» и «Гранд-отеля». Они ужинали в дорогих ресторанах как минимум дважды в неделю и заканчивали вечер в гурме-клубах на Стуреплане, где Сесилия методично осваивала меню коктейль-бара и настаивала на устрицах – самая подходящая ночная еда, как она утверждала.
Все эти расходы покрывались за счет новых займов. Его платежеспособность в нескольких новых, только что появившихся банках («Икано», «Кауптинг», «Флексиль Финанс») почему-то не подвергали сомнению… да если бы и подвергали, в его эротическом раю места для экономических расчетов просто не оставалось.
Пробуждение в объятиях незнакомой женщины вызвало обычный приступ экзистенциального ужаса, но ужас этот, по крайней мере, не сопровождался СПИД-паранойей, что было бы вполне объяснимо после эротического приключения без мелкобуржуазного, но все-таки надежного резинового «Хо-Сана». К тому же количество выпитого им накануне спиртного было бы уместно разве что где-нибудь за Уралом. Никаких воображаемых первичных очагов, никакого разглядывания языка перед зеркалом в ванной, никакого панического узнавания первых симптомов вирусной инфекции. Ни простуды, ни лихорадки, ни увеличенных лимфоузлов. Только благодарность и предвкушение новой встречи с этой посланной свыше порноучилкой.
Никогда у него не было любовницы лучше Сесилии. В ее сексуальной бесшабашности угадывалась железная воля рекордсменки. На каждое новое свидание он приходил вооруженный до зубов идеями, почерпнутыми на эротическом небесном теле «sexxplanet.com», с намерением еще раз подтвердить догадку, что у Сесилии нет пробелов в сексуальной подготовке. И не было ни одного выверта, ни одного нюанса разврата, который не был бы ей знаком и который она не соглашалась бы с удовольствием проверить на практике. На его вновь открытой планете, посещаемой им практически каждое утро, было все, о чем может мечтать истинный ценитель, и Сесилия, этот очкастый ангел, воплощала мечты в действительность.
Новый поисковый механизм на сайте помог ему еще глубже погрузиться в райские загадки. Например, в ответ на набранные ключевые слова «зрелость плюс Кения плюс оральный плюс джунгли» он получил, как ни удивительно, прелестную, полноценную, на 520 килобайт, картинку, представляющую средних лет кенианку, вдохновенно исполняющую отсос чем-то похожему на Иоакима парню на фоне роскошного девственного леса в парке Серенгети. Этот сайт был просто-напросто золотой жилой. Он каким-то образом активировал неизвестный поисковый мотор и мгновенно закачивал бесплатные эротические звенья со всех концов бескрайнего киберпространства. А может быть, это была какая-то молниеносная функция фотошопа, связывающая воедино тысячи извращенных цифровых фантазий в готовый монтаж. Богам этой планеты было доступно все, и ни одна из идей, которые он свеженькими доносил до Сесилии Хаммар, не была встречена непониманием. Тут же делалась попытка проверить теорию практикой.
Самолет начал снижаться. На высоте две тысячи метров Иоаким лихорадочно листал газету, лишь бы не глядеть на художественно-страдальческую физиономию Торстена Флинка. Пилот напомнил о себе голосом в репродукторе – что-то там насчет погоды и еще какие-то никому не нужные навигационные подробности. А в четырех рядах впереди Сесилия Хаммар повысила голос, чтобы перекричать информацию о направлении ветра в Бромме, турбулентности и температуре воздуха в аэропорту. Он прятался за мерзкой статейкой про суд в Кнутбю, но небольшая стайка слов все же долетела до его ушей: «…это недалеко от Кнусмюнтагорден… или как он там называется, этот похожий на саванну мыс в Югарне… О, как здорово, я бы с удовольствием попробовала…»
Стюардесса принесла кофе и черствые миндальные печенья. На этой линии, Висбю – Стокгольм, никакой конкуренции, подумал Иоаким. Скоро начнут подавать заплесневелые сухари с балтийской водой, и все равно пассажирам деваться некуда, будут летать.
Удерживая газету на высоте глаз, он вступил в короткую борьбу с соседом за минимальное жизненное пространство, необходимое, чтобы поднести чашку ко рту.
– Превосходно! – услышал он голос Сесилии Хаммар. – Я просто рассчитываю на это! Это будет прекрасный вечер!
Иоакиму очень хотелось потребовать от нее объяснений, но пока он решил воздержаться.
Не так давно, в конце марта, она пригласила его к родителям матери в Норрчёпинг на седер[27]. Сесилия Хаммар была еврейка, а поскольку Иоаким во время своих блужданий по «sexxplanet.com» узнал, что этнос может сообщать сексу ни с чем не сравнимую пряность, то предложение он принял.
Сесилия была безбожница до мозга костей, но большие религиозные праздники соблюдала – древний рефлекс, унаследованный с кровью. Иоаким наслаждался четырехтысячелетней ближневосточной аурой, окружавшей его вполне современную Юдифь, запахом благовоний от ее волос, ее внешностью наложницы вавилонского гарема. Он просто задрожал от восторга, когда она в споре с патриархальным дедом вставила пару слов на идиш. Он с удовольствием поедал восточноевропейские лакомства… К тому же его по-настоящему волновал обязательный ритуал седера с крутыми яйцами, мацой и хреном. Запасная кипа, предусмотрительно захваченная родственником из Умео и нахлобученная ему на голову, едва он успел переступить порог, придавала событию экзотический, даже таинственный характер, что он тоже с благодарностью записал на счет Сесилии. Малопонятные молитвы на иврите почему-то возбудили в нем острое желание, и он набросился на Сесилию, не успели они переступить порог купе, на обратном пути. Даже кипу не снял.
А сейчас, три месяца спустя, она встала и направилась в туалет в хвосте самолета с такой непринужденностью, словно состояла членом элитного воздушного клуба. Ему страшно хотелось выяснить, в чем дело, и немедленно, в ближайшие две минуты, стать членом этого ордена похоти, где Сесилия Хаммар была почетным церемониймейстером. Если не выйдет, умру, подумал он.
Карелин засмеялся и шутливо дернул ее за юбку. Она, хихикнув, освободилась от этого уголовного типа. И чтобы не быть узнанным, Иоаким прикрыл лицо газетой с крупным планом пастора-убийцы Хельге Фоссмо и откинулся в кресле, изображая утомленного бизнесмена, позволившего себе несколько минут сна между двумя важнейшими деловыми встречами в быстроразвивающемся регионе Балтийского моря.
Через пять минут он понял, что она возвращается на место – ее духи «Кензо» буквально взорвались у него в голове. И взгляд его был, по всей видимости, настолько отчаянным, что она почувствовала, как кто-то за ней наблюдает, и повернула голову. Он едва успел закрыться все тем же негодяем Хельге из Кнутбю и притворился спящим.
Но на том его испытания в этот нелепый день не кончились. Невесть откуда появилась стюардесса с грохочущим вагончиком и наклеенной улыбкой и взяла его за руку.
– Не могли бы вы поднять кресло и закрыть столик? – сказала она. – Мы заходим на посадку.
Иоаким кожей чувствовал, что именно в этот миг Сесилия Хаммар смотрит в его сторону. Она была очень любопытна, особенно когда в дурацкое положение попадал кто-то другой, поэтому он сделал вид, что не слышал замечания.
– Не могли бы вы поднять кресло? – повторила стюардесса. – Мы садимся!
– Я сплю! – квакнул он из-под газеты.
Назойливая блондинка ему не поверила.
– К сожалению, я вынуждена настаивать, чтобы вы подняли кресло и пристегнули ремни. Мы идем на посадку.
Он не пошевелился. Выдать себя Сесилии было выше его сил.
– Я прошу вас соблюдать правила безопасности!
Ситуация явно выходила из-под контроля. Стюардесса взяла его за руку. Все пять чувств, обостренных унижениями последних месяцев, подсказали ему, что чуть ли не все пассажиры смотрят на него. Несколько дам за спиной вполголоса обсуждали его поведение.
Одной рукой он прижал к физиономии «Афтонбладет», а другой попытался нащупать откидной столик. Из репродукторов послышался звоночек, призывающий экипаж занять свои места.
– Справлюсь сам, – прошипел Иоаким, не убирая газету. – Идите и делайте свое дело, а я приготовлюсь к посадке.
Одна рука по-прежнему удерживала у лица газету с портретом преступного пастора Хельге Фоссмо, а другая… другая вряд ли сама понимала, чем занимается, скорее всего, пыталась нащупать кнопку приведения кресла в вертикальное положение, но вместо этого ухватила соседа за галстук. Растерянная стюардесса со страхом смотрела на сумасшедшего пассажира, откинувшего под углом в сорок пять градусов голову и скрывающего лицо под вечерним номером «Афтонбладет», где, кстати, есть очень интересное интервью с Торстеном Флинком. Пьяный? Может быть… Ведет себя загадочно? Еще как! Согласно новым правилам безопасности, введенным после одиннадцатого сентября, она обязана вмешаться. В таких случаях рекомендовано прибегнуть к помощи пассажиров, желательно крепких и тренированных мужчин… к примеру, вон тот, в мятом костюме, в третьем ряду… Ну наконец… спинка кресла поднялась, и предположительно пьяный пассажир чуть не потерял свою отпечатанную в типографии «Шибстедтс» цветную венецианскую маску.
Самолет резко накренился, уходя из зоны турбулентности, и несговорчивого пассажира спасло от окончательного конфуза только то, что он судорожно вцепился свободной рукой в сиденье кресла. Он по-прежнему пытался застегнуть ремни безопасности, но для этого требовалось участие обеих рук, а опустить газету он не хотел, боясь, что его заметит неверная Сесилия.
– Можете мне помочь застегнуть ремни? – прошипел он стюардессе.
– Вы и сами справитесь, если дадите мне подержать газету.
Наша культура деградирует, подумал Иоаким. Все на это указывает – размытая мораль, никуда не годная литература… В искусстве властвуют позорные реалити-шоу. Евангельский пастор – убийца. Принцессы крутят романы с владельцами фитнес-клубов. Газеты просто невозможно читать, а стюардессы забыли, что их главная обязанность – помогать пассажирам.
У него вдруг возникло почти непреодолимое желание швырнуть газету в лицо стюардессе и удрать в туалет. Там, в облаке запахов, оставленных Сесилией Хаммар, он мог бы самоудовлетвориться над крошечной стальной раковинкой, вспоминая их первые объятия на его английском диване… а потом выкурить сигарету, пока не сработает пожарная тревога, а потом самолет приземлится в Броме. И плевать, что его уведут в наручниках.
– Оставь меня в покое! – тем же свистящим шепотом сказал он стюардессе. – Если хочешь, чтобы пассажиры были пристегнуты, возьми и пристегни их сама… Это не я придумал ваши дурацкие правила…
К его удивлению, стюардесса с помощью хорошо воспитанного соседа в галстуке все же застегнула его ремни. Пока они возились с замком, у него внезапно возникло видение: он и Сесилия в недавно купленном доме на Готланде, у нее на руках малыш, мальчик, невероятно похожий на Виктора, а сам он счастливо улыбается, у него нет долгов, а на голове – та самая запасная кипа, бело-голубая, как флаг государства Израиль.
Я должен ее вернуть, решил он. Последнее слово в комедии не останется за этим уголовником с рукой на ее ляжке. Любой ценой я верну ее, эту шалаву. Сейчас я нищий, но вот продам хотя бы пару гениальных картин моего покойного отца, и снова на коне, и она получит все, что захочет!
«Фоккер» вздрогнул, коснувшись колесами посадочной полосы. Продолжая прятать лицо под фотографией распутного пастора-убийцы из Кнутбю, он считал секунды, пока подкатят трап. Его хорошо воспитанный, а может, просто перепуганный насмерть сосед терпеливо ждал, пока салон опустеет. Тогда он похлопал Иоакима по плечу – все, можно больше не прятаться. Сесилия исчезла в зале прилета, так и не раскрыв его импровизированного инкогнито.
Все же удача не совсем отвернулась от него. Он договорился с водителем такси, что тот остановит машину, когда на счетчике выскочит сто шестьдесят крон – ровно столько, сколько было у него в кармане, причем мелочью. Роковая цифра появилась в пятидесяти метрах от дома. В этом-то и заключалась удача, потому что у подъезда маячили два здоровенных бородатых мужика, опираясь на свои мотоциклы.
Он проскользнул за угол и пошел по асфальтовой тропинке вдоль дома. Как он и надеялся, окно в прачечную было открыто. Он тихо спустился на гладильную машину, приоткрыл дверь – никого. Иоаким вышел на площадку первого этажа и вызвал лифт.
Тело его действовало словно бы независимо: он, например, с удивлением увидел свой указательный палец, нажимающий кнопку четвертого этажа, хотя квартира его была на третьем. Его наивное сознание никак не могло примириться с мыслью, что кто-то хочет ему зла, но тело предусмотрительно действовало в соответствии с инстинктом самосохранения. Оно, то есть тело, неслышно соскользнуло на один марш лестницы, пригнулось за решеткой и осторожно посмотрело вниз, чтобы убедиться, не дежурит ли на площадке еще один бородатый монстр. Там никого не было.
На полу в прихожей громоздился сугроб крайне агрессивных писем. Он с дрожью перешагнул его и двинулся дальше, оглядывая по пути руины своей холостяцкой жизни. Пустые картонки из-под вина рассекали акваторию архипелага, образованного кучами грязного белья, там и тут валяющегося на полу. Книги из университетской библиотеки, которые надо было вернуть еще в прошлом тысячелетии, мусор, танцующие комки пыли, похожие на крошечные перекати-поле… напоминание о многих годах в осаде одиночества, о его безудержном падении…
Выглянув в окно, он убедился, что типы с мотоциклами никуда не делись. Они мрачно молчали и курили, время от времени оглядываясь – не появится ли на улице тот, кто сейчас наблюдает за ними из-за дорогих тонких штор с десятиметровой высоты?
На журнальном столике злобно мигал автоответчик, красный глазок напомнил ему рубильник электрического стула. Он нажал кнопку.
– Привет, – весело сказал голос, принадлежащий Андерсу Сервину, его сокурснику и последнему другу в этом мире – Иоаким пока еще не успел занять у него деньги. – Хотел узнать, в городе ли ты или уже уехал на Готланд. Позвони, надо обсудить возможную работенку…
Интересно, что это за «работенка»? Иоаким примерно представлял себе, о чем идет речь. «Продакшнс АБ» была компанией, близко связанной со «Стрикс ТВ» – они нашли нишу в виде нового формата псевдодокументального мыла для следующего поколения. Предприятие, где Андерс был совладельцем, выдумывало соревнования для экстремалов, в общем, для тех, кто не задумываясь мог в прямой трансляции всадить нож в соперника, если бы это принесло ему даже минимальную выгоду: просто-напросто психи, материал для планомерного унижения публики в лучшее экранное время. В основе одного из проектов компании была идея снимать круглые сутки неблагополучные семьи, обеспечив им свободный доступ к спиртному. Еще одна идея: собрать на островке в стокгольмском архипелаге несколько человек с синдромом Аспергера[28] и посмотреть, что из этого получится.
С полгода назад Иоаким даже участвовал в их совещании – его подвигла на это надежда отыскать нового кредитора. О какой-либо морали говорить в этих стенах было просто смешно, и он быстренько придумал полубезумный проект: свезти на остров Робинзона бывших заключенных Кумлы[29]. Первым призом в соревнованиях различного рода будет машина инкассатора с миллионом крон. Победитель получит немного динамита, чтобы взорвать сейф в машине. Он тут же и название придумал – «Друзья Робинзона». А в качестве ведущего предложил режиссера и драматурга Ларса Нурена, известного, в частности, тем, что для своих театральных постановок он привлекал профессиональных уголовников. К его несказанному удивлению, идея, родившаяся под парами полбутылки представительского виски, встретила бурное одобрение, за исключением разве что кандидатуры Ларса Нурена. Еего решили заменить на известного специалиста по ограблению банков по имени Лиам Норберг. Один из дизайнеров немедленно уселся за компьютер набрасывать правила соревнований.
– Старик, у тебя настоящий талант, – сказал ему Андерс Сервин, когда они всей компанией отправились в «Театр-грилль» потусоваться в компании таких же, если не более аморальных, коллег из журналистского корпуса. Насколько Иоаким понял, в словах Андерса не было ни малейшей иронии. – Ты мыслишь правильно, хотя пока еще плохо представляешь себе лимиты жанра. В нашей отрасли мы должны планировать границы дозволенного, то есть каждый раз начинать с рубежа бесстыжести, достигнутого предыдущим шоу. И дальше развивать успех, не слишком медленно, но и не слишком быстро. Нет такой бездны, куда не свалился бы человек, если дать ему время попривыкнуть и шанс разбогатеть…
Иоакима неприятно кольнула мысль, что, если бы не смерть Виктора сутки назад, он наверняка согласился бы на любое грязное предложение Андерса.
Таким образом, коллекция картин спасла его от моральной пропасти.
Он снял автоответчик с паузы.
– Это Свен-Улуф Валлин! – прорычал голос, который когда-то, пока Иоаким таскал его обладателя по дорогим кабакам, был образцом дружелюбия. – Я насчет моих двадцати тысяч…
Он прослушал еще не меньше дюжины тревожных сообщений с флангов экономических боев, прежде чем услышал успокоительный голос Эрлинга Момсена. Облагороженный фрейдианским терпением голос все понимающего опытного психолога, который даже требование о возврате денег облек в насквозь психотерапевтическую форму:
– Привет, Йокке! Думаю, что твоя неспособность заплатить долги зависит как раз от того фактора, который мы упоминали в последней беседе. Ты восстаешь против обязывающей функции подсознательного, против голоса так называемой совести, он для тебя ассоциируется с голосом умершей матери. Приходи на прием, когда захочешь… очень важно, чтобы чувство вины не взяло верх… и мы можем вместе разработать план выплаты твоего долга, а заодно поговорим и о злоупотреблении порнографией.
Если бы мы жили в справедливом мире, подумал Иоаким, автоответчик был бы переполнен соболезнованиями по поводу кончины отца. Оттуда лились бы голоса, полные понимания и сочувствия, надломленные горем… или хотя бы одухотворенное молчание, когда у сочувствующего вроде бы не хватает слов, чтобы выразить свою печаль… Но даже собственная сестра не озаботилась ему позвонить.
На ленте осталось только одно сообщение – от Луизы; она интересовалась, не сохранились ли у него фотографии их поездки во Францию десять лет назад.
– Я хочу показать их Винсенту. Мы читаем сказку, а дело происходит в Париже… Позвони, когда получишь это сообщение.
Четверть часа спустя, стоя голым перед зеркалом в ванной, Иоаким подумал, что похож на сексуального маньяка в розыске: прямо на физиономии отпечатались черные газетные буквы, а разводы типографской краски на лбу явно напоминали нос преступного пастора Хельге Фоссмо. Смывая под душем воспоминания о пережитых унижениях, он размышлял, что сказать бывшей жене. Ему нужны были деньги на авиабилет в Фалькенберг и еще хотя бы тысячу на непредвиденные расходы. Может быть, Луиза согласится дать ему денег – в обмен, так сказать, на парижские фотографии?
Гардероб выглядел так, словно там разорвалась граната. Все же ему удалось найти немного марокканского хаша в кармане куртки от Пола Смита. Он свернул себе джойнт и начал разыскивать снимки в битком набитых картонных коробках. Поиски заняли немыслимо много времени. Резиновые нити ассоциаций все время отвлекали его от поисков. Сувенирный коралл… открытка без обратного адреса, бог бы с ней, но яркая картинка (заход солнца на Средиземном море) оказалась настоящей психоделической бомбой: она вызывала поток мыслей, ничего общего с действительностью не имеющих… Наконец фотографии нашлись. Набирая номер бывшей жены и преисполняясь глубокой благодарности «Телии»[30], что она, несмотря на многомесячную неуплату, все же не отключила телефон, Иоаким вдруг понял, что немного перебрал с хашем. На счастье, Луиза голосом автоответчика сообщила, что она в саду.
Он выглянул в окно – ничего утешительного: мотоциклисты на месте. Один листал вечернюю газету, другой закурил сигарету. Время словно бы не двигалось. Сколько они уже здесь стоят? А может быть, они просто живут где-то поблизости… или ждут какую-нибудь не менее мускулистую даму, почему-то забредшую в их дом?
Он подошел к окну, выходящему во двор, и увидел нечто, что мигом развеяло не только всю дурь от каннабиса[31], но и слабую надежду, что мотоциклисты дежурят у его подъезда по каким-то еще, не имеющим к нему отношения причинам. Мало того что третий субъект занял пост у задней двери, он к тому же наблюдал и за открытым окном в прачечную, тем самым, через которое Иоаким недавно проник в дом.
В куче грязного белья на полу он раскопал две великолепные шелковые простыни – они когда-то стоили в «НК» целое состояние – и связал их между собой. После чего надел короткую кожаную куртку (тоже Пол Смит) и альпинистские ботинки, приобретенные для поездки на горнолыжный курорт с Сесилией Хаммар, – и покинул квартиру.
Он поднялся по лестнице на последний этаж, открыл дверь универсальным ключом[32] и оказался на пропахшем плесенью чердаке. Его удивила странная тишина – не было слышно ровным счетом ничего, кроме слабого шума ветра. Здесь был иной, девственный мир, где его проблемы просто не существовали.
Пройдя метров двадцать пять, Иоаким открыл еще одну дверь и оказался на лестничной площадке верхнего этажа соседнего дома. Чуть поодаль была лоджия общего пользования, используемая главным образом как курилка.
Он осторожно выглянул на улицу – никого; окружить квартал коварные сборщики налогов еще не успели. Он привязал конец простыни к стойке балкона и опустил вниз ниточку, на которой в буквальном смысле висела его жизнь. Пары метров не хватало, но конец успокоительно покачивался над кустом рододендрона.
Под воздействием каннабиса он вдруг осознал весь комизм своего положения и, спускаясь по импровизированной веревочной лестнице, начал неудержимо хохотать. Надо бы почаще курить хаш, сказал он себе, тогда легче примириться с миром. Можно посмеяться над неудачами, над страхом встречи с бородатыми бандитами, над нищетой, над тем, что он висит на простыне в десяти метрах над землей, над странной смертью бедняги Виктора от отравления (что, не мог, как все порядочные старцы, умереть от инфаркта или рака предстательной железы?), над отсутствием вкуса у Сесилии Хаммар (что это за борцовскоуголовный тип?), над унизительным выклянчиванием денег у бывшей жены, над тем парнем с собакой, что смотрит на него и размышляет, не позвонить ли полиции (кто это? взломщик?.. или кино снимают?)… можно посмеяться над его собакой, удивленной не меньше, чем хозяин, над этой забавной семьей в окошке – мама, папа, младенец, – мимо чьего кухонного окна он только что проскользнул, словно цирковой гимнаст на трапеции, возвращающийся из-под купола после исполнения особо опасного трюка, без лонжи и сетки… они смотрели на него разинув рты, как выброшенные на берег рыбы… А чем не повод для смеха, что в какой-то момент, вопреки здравому смыслу, совершенно поглощенный трагикомедией своей жизни, Иоаким решил помахать рукой этой идиллической семейке и, разумеется, тут же грохнулся, воя от восторга, с четырех метров в далеко не такой гостеприимный, каким казался сверху, куст рододендрона. Просто сдохнуть со смеху над этой кунцельманновской жизнью… Бастер Китон[33], да и только!
Остекленная дверь подъезда в доме Луизы в Старом Эншеде отразила вовсе не того человека, каким ему хотелось бы предстать перед бывшей женой. Правая брючина разорвана, куртка в земле, засохшая кровь на лице. Правая щиколотка болела – чем дальше, тем хуже.
Маленький Винсент, которому только что исполнилось пять лет, открыл дверь, даже не пытаясь скрыть враждебности – к чужакам вообще, а к этому конкретному чужаку в особенности.
– У тебя кровь на носу, – сказал он.
– Я знаю. Слезал с балкона и поранился. А мама дома?
Иоаким соорудил на лице некое подобие всепонимающей взрослой улыбки. Но ребенок на него даже не поглядел – развернулся на каблуках и ушел в дом, разочарованно шаркая ногами.
Из двери пахнуло семейным счастьем – свежеиспеченный хлеб, только что вымытые полы, детский шампунь… очень много любви на квадратный метр. Оказывается, юг Стокгольма купался в лучах какого-то другого солнца, случайно забредшего из иных, неизвестных ему измерений. Запах гриля из сада, детский смех… женщина, которую он когда-то любил и на которой был женат, встретила его в прихожей, оборудованной в индийском стиле.
– Что случилось? – спросила она. – Ты пьян?
Следуя своему правилу, что правда – не что иное, как семантический компромисс между двумя не желающими ссориться людьми, он отверг ее версию.
– Что произошло? У тебя все лицо в крови!
– Упал в кусты… Пожалуйста, не надо, объясню в другой раз.
– О’кей, – сказала Луиза. – Заходи. Кстати, насчет кустов – я как раз вожусь в саду. Фотографии захватил?
В незапамятные времена, когда двадцатичетырехлетний Иоаким приехал в Стокгольм учиться на литературо-и киноведа, вид этой женщины приводил его в транс, из которого он вышел, только женившись на ней и систематически обманывая ее восемь долгих лет. Он даже не был уверен, что его чувства к ней можно назвать любовью. Скорее она была для него своего рода лекарством, он принимал этот препарат от одиночества, принимал профилактически, не думая о тяжелых побочных эффектах… а потом пытался эти побочные эффекты лечить тем же способом.
Они встретились в старом добром ресторанчике «Тимс» на Тиммермансгатан, где она отмечала с приятелями сданный экзамен. Разогретый приличной выпивкой, слегка покачиваясь, Иоаким подошел к бару, где она стояла с двумя подругами. Оказалось, они земляки – она тоже из Халланда, даже из того же города, что и он. И он никак не мог уразуметь, как это он ничего о ней не слышал и почему они никогда не встречались. Луиза выросла в семье миссионеров, они по полгода проводили в страдающих от эпидемий африканских странах, меняющих название с каждым новым диктатором. Она училась в интернациональных школах за границей, а в те редкие периоды, когда родители возвращались в Фалькенберг, занималась дома. В семнадцать лет ей надоела кочевая жизнь, и она упросила родителей отпустить ее в школу-интернат под Стокгольмом.
И сейчас, когда Иоаким увидел, как покачивается ее зад, облаченный в мешковатые плотницкие штаны, ему показалось, что их развод был ошибкой. Они должны были остаться вместе. И это у них должен был расти мальчик, копия Винсента, и это они ездили бы по чартеру раз в году, раз в пять лет меняли бы мягкую мебель из «ИКЕА» на такую же, играли в гольф, читали «Красивый дом», говорили о воспитании детей. Следили бы за калориями. Иногда, при благоприятном расположении планет, занимались бы сексом… Препирались бы, кому на этот раз вести машину после вечеринки у друзей с такой же мебелью и такими же клюшками для гольфа.
В крошечной кухне на него со всех сторон напирало семейное счастье. Детские рисунки на стенах – диковатые эксперименты с центральной перспективой, изображения мамы и Винсента, а также папы Леонарда, который после года не особо мирного сосуществования с Луизой сбежал к своей первой жене в Мальмё.
На столе разложен детский пазл с диснеевским мотивом, на полке, пристально уставившись на Иоакима, сидит плюшевый зверь с антропоморфной ухмылкой. В духовке поспевает пара дюжин коричных булочек, их аромат прочно ассоциируется с семейной идиллией… И он мог бы так жить, если бы природа не создала его таким идиотом.
– А негативы тоже захватил? – спросила Луиза, вынимая противень с булочками и ставя новый. – Я хотела бы сделать копии.
– Конечно! – Иоаким потряс конвертом из фотолаборатории.
– Смешно… Мы сейчас читаем сказку, и действие разворачивается как раз в том квартале, где мы жили, помнишь? Хорошая была поездка…
У Луизы была на редкость избирательная память. Только благодаря этому свойству она вообще позволяла ему переступать порог ее дома. Мало этого, если бы не избирательность памяти, она бы вряд ли выдержала его почти десять лет. Иоаким, например, вспоминал эту поездку в Париж как непрерывную цепь бессмысленных ссор и ритуальных постельных примирений в отеле, готовом к сносу, с тараканами такой величины, что уборщица в панике убежала куда глаза глядят, с обязательными экскурсиями в Лувр и на Эйфелеву башню. Скучные вечера в дешевом североафриканском ресторане, насквозь провонявшем чесноком и фритюром, четырнадцать вечеров с дешевым красным вином, кошмарным похмельем… Все это кончилось тем, что Луиза уехала домой, не дождавшись чартера, после грандиозной ссоры, причины которой он вспомнить не мог.
– Как с писательством? – спросила она, перебирая фотографии. – Статьи для газет?
– Не жалуюсь. С замыслами, по крайней мере, все нормально. Только сегодня, кстати, мне пришла в голову мысль провести журналистское расследование, как в Швеции работают коллекторы… Какими методами они вышибают долги из неплательщиков. В этакой, знаешь ли, исторической перспективе… начиная с наемников Густава Васы, сшибающих колокола с деревенских церквей, до «Фактаб Финанс» и мафиозных банд байкеров вроде «Хелл Энджелс».
– Тебе булок не дадут, потому что ты дурак, – философски заметил Винсент, слизывая с палочки эскимо. Он смотрел на Иоакима со странной смесью ненависти и презрения. Что именно преобладало, Иоаким так и не понял.
– Булочки еще не готовы, дорогой. – Луиза улыбнулась всепрощающей материнской улыбкой, что спасло Иоакима от дальнейшего углубления в придуманную под действием хаша версию о многовековой истории шведских торпед. – Винсент немножко болел – простудился, пока был у отца. Вы же были в «Тиволи» в Копенгагене, я правильно поняла, малыш?
– Этот кровавый тип булок не получит, – упрямо сказал Винсент.
Иоакима это высказывание нисколько не удивило.
– Как у вас тут хорошо, – сменил он тему. – Может быть, сдашь комнатку бедному бывшему мужу? Моя квартира мне, похоже, не по средствам, к тому же я купил дачу на Готланде, вернее сказать, не дачу, а хуторок, и за него тоже надо платить… К тому же это за мной, а не за кем-то еще начнут охотиться «Хелл Энджелс», если я сокращу ежемесячные выплаты.
Он принужденно засмеялся, дабы убедить жену, что это всего лишь невинная шутка, вполне уместная между бывшими супругами. Но Луиза к шуткам расположена не была:
– Я живу одна, и так и будет в дальнейшем. Мне не везет с мужчинами, Иоаким. И ты тому живой пример. Я не хочу тебя обидеть… Но меньше всего мне хотелось бы делить жилье именно с тобой.
– Я же пошутил!
– Смешно, – сказала Луиза без улыбки. – Но я-то не шучу. Поразительно, на то, чтобы понять, что мне лучше всего с самой собой, ушло десять лет. Знаешь, когда я искала дом, я поставила целью найти что-то в этом духе. Небольшая жилая площадь, но большой сад. В моей спальне наверху умещается только односпальная кровать. Маклер говорил, что это единственный недостаток, все остальное замечательно – гостиная, кухня и спальня внизу. Но как раз именно та крошечная комнатка мне больше всего и понравилась. Здесь уместится только односпальная кровать, подумала я, а детская будет внизу, в комнате побольше. Не сомневайся, Луиза, сказала я себе. Это как раз то, что тебе нужно!
Внезапный вопль Винсента помешал нежелательному развитию беседы. Ребенок вставил между щек палочку от мороженого, отчего сделался похожим на лягушку, и никак не мог ее вынуть. Пока Луиза занималась ортодонтологическими проблемами сына, Иоаким попытался представить, как выглядит ее грудь под блузкой. Он не видел ее голой уже лет шесть… наверняка тяжелая беременность и роды мало что оставили от природной красоты ее тела, не говоря уж о пролетевшем времени… Он попытался вызвать в памяти какие-то чувственные эпизоды с ее участием, но ничего не приходило в голову. Единственное, что ему удалось вспомнить с легким содроганием, как он когда-то практиковал семяизвержение на эту самую грудь – и то чаще в отчаянии, чем в эйфории. Им даже никогда не было особенно хорошо в постели, напомнил он себе. Их половая жизнь постепенно превратилась в средство примирения, быстрые и неряшливые соития после завтрака в их двушке на Лилла Эссинге, почти не раздеваясь. В холодном поту нежности, смешанной с ужасом, они, словно с трибуны стадиона, наблюдали, как тает их любовь… Луиза уходила на работу – она тогда проводила исследование рынка для какой-то продуктовой компании, – а он занимался самообразованием, студент-недоучка, живущий на средства жены и мечтающий… О чем, собственно, он тогда мечтал?
Да ни о чем. Едва только за Луизой закрывалась дверь, его начинала мучить все та же эротическая чесотка. Его охватывал нестерпимый похотливый зуд, сопровождаемый взрывами сексуальных фантазий, но Луиза никогда в них не присутствовала. Зуд начинался в голове и распространялся по всем телесным и душевным закоулкам. Он наполнял кровью его мужской орган, разъедал совесть, сыпал чесоточный порошок в его нервную систему и мог быть удовлетворен, только когда он находил особу противоположного пола и трахал ее в любом подходящем и неподходящем месте. В крошечной студенческой комнатке. Или в «коллективе», где она жила. Или в элегантной пятикомнатной квартире на Эстермальме, которая буквально вопила в подтверждение банальной истины, что деньги не приносят счастья…. Или в однокомнатной лачуге в пригороде, убедительно доказывающей противоположное, что деньги все-таки кое-какое счастье приносят… Там можно было поранить ногу о разбросанные по полу элементы конструктора «Лего», хозяин конструктора спал на выдвижной койке, а его отчаявшаяся одинокая мама умоляла ночного гостя вести себя потише. Или на улице, в контейнере (такое тоже случалось), в темном углу Бьорнс Тредгорд – а куда еще идти, если предмет своего вожделения он находил без четверти три утра, притулившейся у стойки бара в ресторане «Мельница»?.. Ничего необычного в этом не было. С этим зудом можно было справиться только одним способом – эякулировать его из тела, и к любви эта терапевтическая процедура не имела ни малейшего отношения.
А завершала приступ чесотки ложь, наспех придуманное алиби, отвлекающая внимание перебранка – все что угодно, что могло бы хоть немного успокоить муки совести.
– А знаешь, что я думаю о нашем браке? – Луиза словно прочитала его мысли.
– Я почему-то знал, что раньше или позже ты задашь этот вопрос.
– Он не стоил ни гроша.
– Спасибо. Твои слова согревают душу.
– Факт есть факт. Восемь лет никуда нас не привели. Вернее, привели в никуда. Я много думала об этом в последнее время. От отца Винсента остался, по крайней мере, Винсент… – Она сделала широкий жест в сторону мальчика. – Эта связь имела смысл, хотя и была короткой и уж никак не счастливой. Но мы-то с тобой, Иоаким, мыто не достигли ничего, кроме горя… горя, горя и горя… просто горная цепь. Я даже не уверена, научились ли мы чему-нибудь друг от друга, кроме твердого знания, что так жить нельзя и что такое никогда не повторится.
– Ты весь в грязи! – вставил Винсент, обращаясь к Иоакиму. – И ты мне не папа!
Эти проникновенные слова мальчика вызвали у матери улыбку. Она как раз вынимала из духовки очередную партию булочек. Совершенно генетическая улыбка, подумал Иоаким, она передавалась по материнской линии со времен величия австралопитеков в африканской саванне, улыбка неисчерпаемой любви к своему потомству и к своему мужчине.
– А как его папа? – спросил Иоаким, сглотнув комок величиной с яблоко.
– Я о нем мало что знаю. Деньги платит вовремя. Винсент иногда к нему ездит.
– Папа, папа, – заныл Винсент. – Хочу к папе!
Он выглядел очень довольным собой: ему удалось добиться подтверждения, что ни в каком родстве с этим грязным и подозрительным незнакомцем он не состоит. С неестественной скоростью он спрыгнул на пол и начал колотить ногой в дверь кухонного шкафа.
– Хорошие мужики на дереве не растут, – продолжила Луиза. – И это и есть главная трагедия молодых одиноких женщин. В этом городе живут тысячи интересных одиноких женщин, а где же мужчины, Иоаким, я тебя спрашиваю, где же мужчины? Трудоголики в скучных костюмах, спившаяся богема… Орущие футбольные фанаты… а где изящество, элегантность, стиль? Где прячутся честные и романтические мужчины?
Луиза вздохнула и начала прибирать на кухонном столе. Иоаким решил, что сейчас самое время рассказать о смерти Виктора.
Какое-то время его бывшая жена и отец были очень близки… Это стало особенно заметно, когда их брак уже шел к концу и Луиза в отчаянии искала утешения у Виктора. Они долго и тихо говорили по телефону по вечерам, покуда Иоаким в соседней комнате размышлял, какой бы повод изобрести, чтобы удрать в заповедник секса под названием «Мельница». Они продолжали и продолжали говорить, и в конце концов он просто исчезал, без всяких объяснений, иногда на несколько дней. Заводил пошлые знакомства, ночевал на диванах у собутыльников, тупо ворочался в собственном эмоциональном болоте… Условия жизни ему диктовал член, член был его посохом, картой, компасом и поводырем в джунглях сексуальных возможностей… Он готов был сделать что угодно, пойти на любую ложь, лишь бы избежать гробового молчания за обеденным столом в шесть часов, вздохов по поводу новостей в девять и душещипательных сахарных пилюль вечернего фильма.
– Твой долг – спасти брак, – сказал ему Виктор, когда они в последний год их совместной жизни приехали к нему в Фалькенберг на Рождество. – Поверь мне, ты даже понятия не имеешь, что это такое – одиночество. Настоящее одиночество пробирает до костей.
А что сказал Виктор Луизе, Иоаким даже и не знал. Сам он был отнюдь не в настроении выслушивать чьи-либо советы, и уж во всяком случае не советы Виктора.
Маленький Винсент погрузился в мистические размышления пятилетнего ребенка. Он с увлечением ковырял указательным пальцем в носу. Точно как я когда-то, подумал Иоаким и почувствовал, как на его лице расползается дурацкая, спровоцированная улетучивающимся хашем улыбка… Если бы он тогда послушал Виктора, никакого Винсента не было бы… хотя, может быть, был бы кто-то другой, наполовину этот же, но все же другой, с участием и моего генетического кода…
Он заметил, что Винсенту удалось выудить из ноздри величественную козу. Малыш тут же с миной заправского дегустатора отправил ее в рот.
– Не надо этого делать, дорогой, – сказала Луиза. От ее ястребиного материнского взора не ускользала ни одна мелочь.
Иоаким вдруг почувствовал страстное желание тоже выкопать из носа козу и сунуть ее в рот, вернуть то незамысловатое душевное равновесие, когда человек может есть собственные сопли и нимало этого не стесняться. Просто потому, что это ему нравится, потому что ему вкусно, а на мнение остального человечества ему совершенно наплевать. Но подвернутая нога опять дала о себе знать резкой болью, и он понял, что ему необходим врач.
– Умер Виктор, – сказал он своей бывшей жене. – Вчера утром. Говорят, от отравления. У меня нет денег даже поехать на похороны, мало того, мне даже не на что пойти к врачу и что-то сделать с ногой. Можешь одолжить мне немного денег?
Несколько часов спустя он сидел в вагоне метро по дороге на Кунгсхольмен с профессионально наложенной повязкой на голеностопном суставе. Оказалось, сломана кубовидная кость, но смещения нет, так что гипса не потребовалось – заживет и так.
Все пока складывалось удачно. Простое сочувствие ближнего, как обычно утверждал Эрлинг Момсен, может утешить страждущего. Луиза проявила сострадание в самом напряженном месте сценария. Даже маленький Винсент, казалось, был тронут его жалким положением и временно прекратил охоту за козами.
Ощущение было такое, что жизнь налаживается. Луиза одолжила ему денег, и жизнь сразу наполнилась смыслом. Странно, что какая-то несчастная тысяча крон плюс банка ситодона, сильных болеутоляющих таблеток с кодеином, выписанных врачом, подняли настроение чуть не до состояния левитации, несмотря на смерть отца. Дополнительную порцию антидепрессанта он получил, когда, хромая, подошел к дому и обнаружил, что непрошеная охрана исчезла: байкеры, очевидно, закончили рабочий день и поехали отчитываться в свою контору в Сольне.
Намного, намного легче. Очень скоро половина некоей коллекции живописи перейдет к некоему наследнику, обремененному некими финансовыми проблемами… Собственно, сейчас у этого наследника было ощущение, что единственная его серьезная проблема – некая женщина, поразившая его в самое сердце своей непростительной неверностью… Нет, конечно, нельзя забывать, что его родителя, человека, занимавшего его чувства и мысли сорок лет, больше не существует. С этой точки зрения предательство Сесилии не такая уж серьезная проблема. Такие проблемы решаются, подумал он в лифте, с живыми всегда можно договориться. На мертвых не действуют ни угрозы, ни обещания.
Приятную ноту в ощущение гармонии с внешним миром внес и тот факт, что на автоответчике он нашел сообщение от сестры. Он набрал номер, и она тут же взяла трубку. Жанетт была на удивление покладиста, они обсудили практические детали похорон. Сестра полностью соответствовала образу человека долга, умеющего принимать решения в тяжелые минуты жизни. Она четко определила, что именно должна сделать она и что должен сделать он.
Внезапная легкость существования, поддержанная двойной дозой болеутоляющих таблеток с заметным наркотическим эффектом, подвигла его на героическое решение прибраться в квартире, напоминающей зону военных действий: разобрать завалы одежды, атаковать пагоды грязной посуды, навести порядок на письменном столе. Он даже, к своему удивлению, начал набрасывать план дорогого, но совершенно необходимого ремонта ветхого дома на Готланде. Ремонт уже не казался недостижимым – он теперь богатый наследник.
Но даже и этого ему показалось недостаточно: без четверти час ночи из подземного моря замыслов медленно, как рыба из омута, выплыла идея, подсказанная ему покойным отцом и бывшей женой, хотя сами они об этом понятия не имели. Взяв за исходный пункт несколько собственных пометок на полях книги «Рост сетевого общества», том 1, Мануэля Кастелля (обнаруженной, кстати, под грудой картонок из-под пиццы, пустой бутылкой хереса Люстау Драй Оролозо за 742 кроны и пачкой распечатанных фотографий из «sexxplanet.com»), а также основываясь на биографии Виктора Кунцельманна, он начал писать следующее:
«Война уже не является эмпирической данностью европейцев. Отсутствие военного опыта у современных мужчин приводит к глубокому нарушению самосознания. Если не принимать во внимание необходимость для мужчин жертвовать своей жизнью на войне, невозможно понять, как могли женщины смириться с патриархальными структурами. Мужчины с детства знали, что в отпущенный им период жизни непременно разразится война и что они будут обязаны в ней участвовать. Это давало им привилегированное положение и в мирное время. Но сейчас, когда уже несколько поколений живет без войны, наступает новый этап человеческого развития – отмирание патриархата!»
«Церковь Святого Лаврентия названа в честь покровителя бедных, святого Лаврентия» – так было написано в кем-то забытой брошюре о достопримечательностях Фалькенберга, лежавшей на скамейке рядом с Иоакимом… – ага, Святого Лаврентия, «римского дьякона, погибшего мученической смертью на костре в 288 году после Рождества Христова». Вполне последовательно, где же еще прощаться с отцом, как не здесь, – через несколько часов отец тоже превратится в пепел в городском крематории. Интересно, не думает ли его сестра о том же самом? Должно быть, нет. Жанетт вовсе не предавалась философским размышлениям, она была погружена в текст двести сорок девятого псалма: «Только день, только мгновение…»
Все изменилось. С тех пор как он был здесь в последний раз (по какому случаю, он и сам не помнил), церковь отремонтировали. Да и сам Фалькенберг на себя не похож, хотя, казалось бы, это и есть его главная задача – быть похожим на Фалькенберг. Каждое утро предлагать жителям одну и ту же версию себя самого, чтобы их, не приведи господи, не напугать. Он прогулялся с утра по центру и, к своему удивлению, обнаружил, что в бывшем рыбном магазине разместилась пиццерия «Чарли Чаплин» (собственно, она там и была последние пятнадцать лет, но вывеска появилась недавно), а в бывшем музыкальном магазине Вальдеса, известном всему городу, теперь бойко торгуют турецкими деликатесами. В большой витрине вместо хагстрёмовского усилителя и античных гитар работы Левина теперь лежали оливки, бараньи сосиски и пакетики с разнообразными пряностями. Вокзал по распоряжению железнодорожного начальства собирались перенести в район Тройнберга, а на Этране возле пристани появилось несколько омерзительных скульптур, застрявших в городе после недавней выставки.
За окном было пасмурно. Набухшие дождем облака волочились чуть ли не по земле, выливали содержимое на городские улицы и уходили на восток. Даже и погода на себя не похожа, хотя очень подходит для такого дня.
– С грустью и болью мы собрались здесь сегодня, – монотонно читал пастор. – Но в этом горе есть и крупицы радости – радости, что мы знали Виктора Кунцельманна, любимого отца и прекрасного друга, общественного деятеля и замечательного профессионала…
Виктор, напомнил себе Иоаким, это же вон та неподвижная фигура в деревянном ящике у хоров, под бархатным покрывалом с рельефным изображением римского креста… в гробу модели «Фуга 25», 6995 крон, включая налог на добавленную стоимость.
– Модель вполне бюджетная, но выглядит недешево, – бодро объяснил брату и сестре Кунцельманн три дня назад владелец похоронного бюро Рутгер Берг, притворяясь, что не узнает их, хотя они учились в одной и той же фалькенбергской гимназии. – Есть, конечно, более дорогие модели, – добавил он, бросая тщательно отрепетированный скорбный взгляд на выставочный экземпляр. – Но поскольку вы решили кремировать покойного, не думаю, что вам стоит тратить много денег на гроб. Лучше купить убранство побогаче и достойную плиту.
За окном дождь совершенно неожиданно перешел в град. Это необычное в июне явление окончательно укрепило Иоакима в мысли, что в мире что-то не так: погода, город, его отец, ни с того ни сего старающийся убедить сына, что он мертв. Даже Рутгер Берг – он помнил Рутгера как веселого парня; по слухам, тот соблазнял девочек, предлагая им сеанс экзотической любви между двух гробов в похоронном бюро отца.
– Что вы хотите делать с прахом?
Иоакима, перелистывающего маленькую папку под названием «Советы родственникам», вопрос застал врасплох.
– С прахом?
– Я имею в виду – могила или урна?
– Мы думали об урне.
– И сколько персон вы себе мыслите? Наш колумбарий рассчитан на восемь персон за двадцать пять лет… если вы выберете захоронение праха без урны, то возможностей меньше… не больше четырех персон… Тесновато в нашем городе покойникам, если позволить себе выразиться неформально…
Все эти подробности, словно позаимствованные из второсортного фильма… и он никак не мог понять, почему шведская церковь не отстегнет хотя бы сотую долю процента от своего состояния и не поставит в храмах скамейки поудобнее.
Пастор закончил свою надгробную речь вымученным уподоблением искусства живописи божественному просветлению духа. Иоаким опять начал думать о том, о чем старался не думать со дня приезда в Фалькенберг и о чем охотнее бы не думал и сейчас: у Виктора за несколько недель перед смертью развился острый психоз, и цена этого психоза измерялась во вполне реальных деньгах.
– Папа уничтожил картины, – такими словами встретила его потрясенная сестра в квартире на Чёпмансгатан. Сейчас ему казалось, что это было много лет назад. – Посмотри сам… здесь как черт разорвался.
Она провела его в салон. Светлые прямоугольные пятна на стенах свидетельствовали, что там когда-то висели картины. Кунцельманн-старший работал методично и тщательно: он снимал картины с крючков, срезал их с рам… а потом – в это трудно было поверить – кромсал ковровыми ножницами. Ножницы и сейчас лежали на полу, словно бы специально для убеждения маловеров. Несколько картин были просто-напросто замазаны дешевой синей малярной краской. Никакого другого объяснения, кроме внезапного помешательства, они придумать не могли.
– А ты уверена, что квартиру не взломали? – Иоаким никак не мог примириться с увиденным.
– Не думаю… нет, конечно. Все на месте. И сигнализация была включена… Я сама набирала код. Не понимаю… он словно внезапно возненавидел то, что любил больше всего на свете. И даже страховку не получишь, поскольку все убытки нанесены самим хозяином.
Из четырех полотен Карла Кильберга[34] оставались только узкие полоски пестрого холста. Полпоколения шведских живописцев межвоенного времени исчезло из этого мира. И что еще хуже, единственное отцовское полотно Дика Бенгтссона, этой знаковой фигуры шведского постмодернизма, полотно, случайно попавшее Виктору в шестидесятые годы… бесценное полотно, которое полагалось бы хранить не в городской квартире, а в банковском хранилище, выглядело как палитра маляра, пробовавшего синюю краску для заборов фирмы «Беккер». Эта работа – обычный сельский сарай, выкрашенный фалунской красной краской с провокационным граффити в виде свастики на окне, обработанная лаком и утюгом, как обычно поступал эксцентричный художник, – была, как говорил Виктор, совершенно не известна знатокам Дика Бенгтссона. Иоаким с удовольствием повесил бы ее в своей квартире на почетном месте. Только сознание, что истинные жемчужины отцовской коллекции лежат под надежной охраной в банке, удержало его от громких проклятий. Целое состояние было замазано дешевой заборной краской и изрезано на узкие ремни. Сестра, похоже, этого не понимала. Она была напрочь лишена способности ассоциировать происходящее с толстыми пачками денег.
– Бедный, бедный папа, – вот и все, что она могла из себя выдавить. – Что могло случиться?
Этого не знал никто. Последние недели перед смертью Виктор полностью уединился. Жанетт пыталась дозвониться ему, но безуспешно. И не только она – автоответчик был переполнен и яростно мигал в руинах западно-шведского искусства первой половины двадцатого века.
Многие из звонивших были сейчас здесь, в церкви. Например, Семборн. Адвокат пришел со своей похожей на мышку-полевку женой. Иоакиму не хотелось вспоминать оставленное им сообщение, равно как и то, о чем адвокат позже говорил в своей конторе. Согласно законам энтропии, ситуация становится тем беспорядочней, чем больше ты нуждаешься в порядке и стабильности. Он постарался выкинуть из памяти голос адвоката и всю его речь с совершенно обескураживающими намеками… Адвокат заявил, что многие из купленных Виктором за многие годы работ не что иное, как подделки, и что он хочет немедленно получить по этому поводу разъяснения.
Рядом с адвокатом сидел местный галерист Окессон, который сорок лет пользовался энциклопедическими знаниями Виктора, его советами и подсказками. Позади него на скамейке сидел еще один галерист, кажется из Варберга. Имени его он вспомнить не мог. А чуть подальше – знакомые еще с отроческих лет фигуры: председатель ABF, трое членов совета по оформлению города, шеф управления культуры, которого Виктор в свое время уговорил открыть в коммуне художественную школу. Были еще пара рабочих-реставраторов, соседи, несколько шахматных и теннисных энтузиастов, а также двое ушедших на пенсию смотрителей музеев в Стокгольме и Гётеборге.
Они скорбят по моему отцу, растерянно подумал Иоаким, по человеку, с которым я вырос, с которым я совсем не так давно сидел на причале и ловил уклейку. Здесь, в этом городе, отец как-то посадил меня на плечи, чтобы я увидел мир глазами взрослого. Здесь, буквально за углом, на Стургатан, есть кондитерская, куда мы ходили по субботам (в Берлине это традиция, говорил отец, Frühschoppen jeden Samstag[35]). По этим булыжным мостовым, пятнистым от помета чаек, Виктор водил его в школу, на футбол, пинг-понг, гандбол, в кружок скаутов, где бородатый мужик по фамилии Браск командовал четырьмя десятками белобрысых пацанов в голубых рубашках… Это здесь, в Фалькенберге, Виктор, как опытный лоцман, провел его через коварный архипелаг юношества, со всеми его опасными омутами, подстерегающими подростков вроде Иоакима. Виктор выпустил его во взрослую жизнь с ее вечными ветрами и туманами, укрывшими землю от берегов Халланда до Шетландских островов… Это он, Виктор, останавливался на каждом углу поговорить со знакомыми – близких друзей у отца не было, зато знакомых было множество.
Тот, кто лежал в гробу, кого пастор по непонятным причинам все время называл Виктором Кунцельманном, тот, с кем они сейчас прощались в церемониальном зале похоронного бюро Рутгера Берга, не имел ничего общего с живым любящим отцом, когда-то помогавшим ему с уроками на кухне в квартире на Чёпмансгатан, рассказывавшим ему сказки. Тому не составляло труда справиться с любыми горестями подрастающего без матери мальчика по имени Иоаким. Тот был жив, а этот, в гробу, бесстыдно мертв.
Но какой из Викторов установил в квартире фальшивую сигнализацию? Он что, собирался обезопасить свою коллекцию, чтобы незадолго до смерти изрезать полотна в куски? Здесь было над чем подумать…
Когда Иоаким, в технических вопросах не особенно доверявший своей сестре с ее гуманитарным складом ума, вышел в прихожую проверить, действительно ли была включена, как она утверждает, сигнализация и не взломали ли и в самом деле квартиру, он немедленно обнаружил, что никакой сигнализации нет. Всего лишь макет, так называемая дурилка, прозрачный пластиковый ящичек с мигающей лампочкой, – авось вор испугается и убежит. Странно, что он не обнаружил этого раньше – коробочка с двумя проводками, кнопки, чтобы набирать бессмысленный цифровой код, и красная лампочка, работающая от девятивольтовой батарейки. Снабженная шильдиком «сигнализация Секуритас», это нехитрое устройство вполне могло годами обманывать как брата и сестру Кунцельманн, так и двух-трех городских медвежатников.
Открытие подтолкнуло целую лавину версий, в которые он, впрочем, сестру не посвящал – что-то подсказывало ему, что ей лучше пребывать в убеждении, что квартира была поставлена на сигнализацию.
Что, например, если квартиру и в самом деле разгромили взломщики? Но почему они тогда ничего не унесли? А может быть, ценность картин в собрании была не так уж велика и Виктор решил не утруждать себя ненужными хлопотами с сигнализацией?
Это допущение пугало его больше всего… он вполуха слушал отпевание и размышлял о подозрениях Семборна.
Пастор перешел к последней, надгробной молитве. Иоаким все время возвращался мыслями к встрече с адвокатом два дня назад. Семборн позвонил ему на домашний телефон Виктора и, произнося малопонятные тирады насчет коллекции, попросил о встрече «с глазу на глаз».
– Я знаю, время выбрано неудачно, – сказал он, не успел Иоаким перешагнуть порог его конторы в обеденный перерыв. – Ты, конечно, очень занят подготовкой похорон и всей этой суетой… Но я ничего не понимаю, и никто не может ответить на мои вопросы. Я наверняка не стал бы этим заниматься, если бы не нашел твоего отца в ателье перед незаконченной картиной Трульсона. И не просто картиной, а точно такой, какую он продал мне, уверяя, что это единственный экземпляр.
Семборн показал на стену, где между разного рода адвокатскими дипломами висел халландский[36] девятнадцатый век. Перед бревенчатым домом стоят двое ребятишек и голодными глазами смотрят, как мать прогоняет через сепаратор молоко для сыра. Низкое солнце, красно-оранжевая листва на деревьях… Порядочный, в общем, китч.
– Я думал, все уже прояснилось тогда, по телефону. Папа делал копии для собственного удовольствия! Он же был реставратор. А может быть, отрабатывал технику. Набивал руку. Что здесь непонятного?
– А я не понимаю ни бельмеса! – Голос Сембурна звучал почти истерично. – И я говорю не о Трульсоне, хотя и с Трульсоном довольно скверно…
– А о чем вы говорите?
– О редкостях. Два небольших полотна, все эксперты утверждают, что и то, и другое – оригиналы. Я говорил со специалистами и в Копенгагене, и в Гётеборге. Они загорелись, как юнцы, – подумать только, вновь открытые картины… Парный портрет – Хольгер Драхманн и Отто Бенцон на веранде… Никому ранее не известный этюд: Мария Кройер со своей собачкой на берегу у Брондумского пансионата… Но я случайно встретил его правнучку, или что-то в этом роде, в общем, родственницу, и она совершенно уверена: писал картину не ее дед. Стиль абсолютно тот же, все правильно, и мотив вполне мог быть его… но это не картины деда, сказала она, если бы они были его, она бы их знала.
Адвокат остановился, чтобы перевести дыхание.
– О чем вы? – еле успел вставить Иоаким.
– О моих картинах Кройера… Художник из Скагена! И его наследница, внучка сына или дочери… Не помню, чья она внучка… представь себе, она живет в Гётеборге, и у нее есть свой каталог, она его от кого-то унаследовала…. И там описан каждый его этюд, каждый набросок, каждый рисунок, чуть не каждый мазок кисти… Месяц назад я был у нее… Виктор еще был жив… я положил картины в багажник и поехал в Сконе, пусть, думаю, посмотрит, ей чуть не девяносто…
Семборн, очевидно, понял, насколько маловразумительно звучит его тирада, и остановился на полуслове.
– Значит, отец продал вам две неизвестные работы Кройера… А откуда он их взял?
– Этого я не знаю. И никаких поводов для расспросов у меня не было. Я сорок лет покупаю картины у Виктора. И он с меня дорого не брал… если, конечно, это оригиналы.
– Если вы купили их у Виктора, то можете не сомневаться – это оригиналы.
– Но все были донельзя удивлены, Иоаким, что их нет в каталоге. Хотели сделать более тщательный анализ пигмента и полотна, чтобы ликвидировать все сомнения, но я воспротивился. Вся это история привела меня в полную растерянность. Речь все же идет о полотнах гигантской стоимости…
Адвокат достал носовой платок и нервно вытер шею.
– Не пойму, какое отношение к картинам имеет выжившая из ума девяностолетняя старуха в Хельсинборге… В конце концов, это смехотворно. На что вы намекаете?
– Не исключено, что Виктор продал мне подделки. Несколько штук, если считать за все годы. Скорее всего, он и сам этого не знал. Я попросил эксперта посмотреть на моего Рагнара Сандберга. Ты знаешь, этот гётеборгский колорист… И в одном полотне он не уверен. На восемьдесят процентов – подлинник, сказал он. Восемьдесят процентов – это не сто! Я заплатил за полотно пятьдесят тысяч крон – и это в семидесятые годы! – и заплатил не за восемьдесят процентов подлинности, а за сто! И вот еще что… мне очень жаль, что приходится говорить об этом за два дня до похорон, но, если ты помнишь, нашел его мертвым я – и нашел перед копией Нильса Трульсона… и еще того чище – полузаконченной имитацией Дюрера! Альбрехт Дюрер! Один из величайших гениев за всю историю человечества… Не знаешь, что и думать.
– Не надо валить все в одну кучу, Семборн. Виктор в свободное время делал пастиши для собственного удовольствия, и никакой связи с вашими работами нет и быть не может. И в конце концов, что вы хотите от меня?
– Я хочу гарантий. Я хочу быть уверенным, что твой отец никогда не занимался ничем противозаконным.
Наступило молчание. Собеседники неприязненно уставились друг на друга.
– Можете быть спокойны, Семборн, – прервал наконец паузу Иоаким. – Отец был сама порядочность. И ваша девяностолетняя сивилла ошибается. Вы же сами сказали, что все эксперты подтвердили подлинность вашего Кройера. Пусть они проведут пигментный анализ, и вам будет спокойнее. И если и в этом случае подлинность картин будет доказана, а я уверен, что так и будет, можете считать их подлинными. В этом же и смысл их работы! Эксперты для этого и существуют! Это они и никто другой определяют подлинность всего, что есть в этом мире. И нам остается только положиться на их суждение.
Сейчас, сидя на церковной скамейке, Иоаким попытался поиграть с мыслью, что будет, если адвокат прав. Тогда можно как-то объяснить разгром, учиненный Виктором в квартире. Если додумать эту мысль до конца, получается, что Виктор, допустим, обнаружил, что произведения искусства, которые он собирал долгие десятилетия, могут оказаться фальшивками… и тогда он в припадке гнева, или отчаяния, или и того и другого искромсал не меньше двадцати полотен. А может быть, он просто не хотел, чтобы эти сомнительные работы бросали тень на главную часть коллекции, спрятанную в банковском хранилище Общественного сберегательного банка?
Ну нет. Не может быть. Уж кого-кого, а Виктора в вопросах изобразительного искусства обмануть было практически невозможно – по той простой причине, что оценка подлинности и была его главной специальностью. Он был непререкаемым авторитетом в этой области. Если музейных работников начинали грызть сомнения, они обращались именно к Виктору, и так продолжалось десятилетиями. Он был не просто известен, он был легендой.
И даже если это подделки, думал Иоаким, они настолько совершенны, что само понятие «подделка» теряет смысл. Если подделку невозможно отличить от оригинала, тогда, может быть, удалось бы обмануть и Виктора. И тогда это не подделка.
Единственное, что его смущало: почему отец продал два неизвестных полотна Кройера, этого самого знаменитого датского живописца, какому-то провинциальному адвокату, едва разбирающемуся в живописи? Почему, если ему удалось купить их задешево, он не оставил эти работы себе? Две совершенно неизвестные работы, какими бы маленькими они не были, – сенсация в истории живописи, это понимал даже Иоаким.
Церемония предания тела усопшего земле приближалась к концу. Органист с чувством доиграл двухсотый псалом «В этот чудесный летний день», и пастор подал знак всем встать. Пришло время прощания.
А может быть, отец испытал припадок sancta simplicitas, святой простоты? – подумал Иоаким, подходя к гробу рука об руку со своей красивой скорбящей сестрой. Что еще могло подвигнуть отца перед смертью уничтожить бесценные полотна? Приступ гнева, вызванный причинами, которых они никогда не узнают?
Странно, подумал он. Когда дети покидают родителей, они уверены, что оставляют позади некий статический мир, своего рода коагулированное время, в котором продолжают жить родители, завернутые, словно в кокон, в бессобытийное настоящее, ничем не отличающееся от прошлого. И когда мы возвращаемся, скажем, на Рождество, эти догадки только подтверждаются: тот же семисвечник, мебель стоит так же, как и годы назад… детская комната, словно выставочный экспонат ушедших времен, знакомые запахи, знакомые традиционные шутки, старомодный синтаксис… и мы приходим к заключению, что с последнего раза ничего не изменилось.
На самом деле измениться могло очень многое.
Скажем, Виктор уничтожил картины в припадке ревности или чтобы произвести на кого-то впечатление? Такая модель поведения была Иоакиму знакома: он как-то шарахнул об пол винный бокал оррефорского стекла за 675 крон, чтобы доказать свою пламенную любовь к Сесилии Хаммар….
Гроб, стоящий перед ним, напомнил, что на все эти вопросы он вряд ли когда-нибудь получит ответы. Смерть – идеальный похититель информации, она совершает бессмысленный взлом и исчезает со своей поживой… искать не стоит труда. Смерть вне времени и пространства.
Жанетт положила на гроб букет цветов. Краем глаза Иоаким заметил на скамейке Эрланда с бородой под Фиделя Кастро – тот закрыл лицо руками. Вот мы стоим, вдруг подумал он, живые, живее некуда. Где-то в этой комнате проходит граница, только мы ее не видим. Граница между нами и тем, кто лежит в гробу.
Он дотронулся до драпировки, и на этом закончилось его прощание с покойным Виктором Кунцельманном…
– Хочу поблагодарить вас за в высшей степени достойную церемонию в церкви, – сказал председатель ABF Польссон и отечески сжал руку Иоакима. Они стояли с Жанетт на веранде «Гранд-отеля» и принимали соболезнования. – И еще должен сказать, что я и моя жена скорбим вместе с вами. Ваш отец был замечательный человек… один из лучших! Помню, как встретил его в первый раз. Это было в середине шестидесятых… Тогда проф союзные шишки из Стокгольма буквально заездили нас с народным образованием: все эти бесконечные курсы для пивоваров с Фалькена, курсы автомехаников, математика, техника… И тут приходит Виктор Кунцельманн и все ставит с ног на голову своими вдохновенными лекциями по истории искусств. И знаете, что поразительно? Он не хотел брать деньги, выступал совершенно бесплатно!
– Спасибо, – сказал Иоаким, – мне очень приятно это слышать. И спасибо, что вы пришли.
– Он много сделал, чтобы наш прелестный городок стал еще лучше, – продолжил председатель свою оду. – У нас уже два года положительные цифры по народонаселению, люди к нам приезжают, и, думаю, в этом немалая заслуга вашего отца. Он, как никто, способствовал созданию позитивного духа в коммуне. Он принес в маленький Фалькенберг дыхание мира! Вы, его дети, давно уже разлетелись кто куда, но поверьте, здесь происходят интереснейшие вещи! Стефан и Кристер известны по всей стране. Роберт Веллс купил виллу в Скреа. Представьте только: Роберт Веллс! Пианист мирового класса! А в прошлом году благодаря вашему отцу мы устроили скульптурное биеннале! По всей набережной стоят современные скульптуры, вы их видели наверняка, если успели прогуляться по Хамнгатан к горшечной Торнгрена. Даже в центральных газетах писали… Кто бы мог подумать, что маленький Фалькенберг окажется на карте художественных центров? Но, как видите, это факт, и все благодаря Виктору. Но извините, я вернусь к своему кофе. Другие тоже хотят выразить свое сочувствие.
К Иоакиму подходили знакомые и незнакомые люди, произносили соболезнующие слова, а он вспоминал время, когда в «Гранд-отеле» устраивали танцы для школьников. Вон там, в углу у мужской уборной, его как-то вырвало всем праздничным меню, состоявшим из укропных чипсов «OLW» и дешевого французского вина; самое невероятное, что при этом он умудрялся планировать боевую операцию, состоявшую в проникновении его руки под резинку трусов некоей Розиты Осслер. На втором этаже он перещупал всех одноклассниц, а за ширмой у винной стойки, где сейчас Эрланд Роос щедро наливал бокалы из двух ящиков найденного в отцовском погребце Брюндльмайер Грюнер Вельтлинер Альте Ребен 1992 года (с разрешения метрдотеля, который дал понять, что не имеет ничего против, если они принесут свое вино), – так вот, за этой самой ширмой один из его друзей давным-давно, бурным майским вечером, потерял невинность.
– А кто это? – спросила сестра, показывая на лысого господина, опиравшегося на клюшку.
– Понятия не имею. Должно быть, кто-то из папиных стокгольмских друзей.
– Его, по-моему, в церкви не было. Может быть, он просто забрел не туда?
– Что мы вообще знаем о людях, с которыми встречался Виктор? – вздохнул Иоаким. – Ровным счетом ничего. Честно говоря, мы забросили отца в последнее время. Надо было бы проследить, хорошо ли он себя чувствует, как у него с мозгами… тогда бы он, глядишь, и не изуродовал свои полотна.
– Бедный папа!
– Я бы сказал, бедные мы… Ты хоть имеешь представление, во сколько нам обошелся его психоз?
– Осталось гораздо больше, если ты беспокоишься о наследстве.
– А ты уверена? Хорошо, будем надеяться, что он из квартиры не отправился в банк – с кухонным ножом, банкой краски и злобным умыслом окончательно разорить наследников, – мрачно заявил Иоаким, наливая себе еще бокал в намерении хоть немного поднять настроение. Он уже выпил почти целую бутылку дорогого винтажного вина, доел последние пилюли счастья под названием «ситодон», но желаемого эффекта не добился.
– Может быть, я ошибаюсь, Иоаким, но мне кажется, ты думаешь только о его деньгах.
– О моих деньгах. И твоих. Я рассчитывал, что кое-что останется… Ты, случайно, не знаешь, папа ни с кем не встречался в последние годы?
– Ты имеешь в виду – с женщиной?
– А что еще заставляет людей совершать безумства? Что приводит людей в отчаяние в мирное время?
Сестра взглядом заставила его замолчать.
– Потом поговорим. Лучше скажи мне… вон там стоит, случайно, не Окессон?
Это был и в самом деле местный галерист. Он кружил между одетыми в черное гостями и пожимал всем руки.
– Это был шок, – грустно сказал Окессон, подходя. – Мы должны были встретиться в тот самый день, когда Семборн нашел его мертвым… Самые искренние соболезнования… Странно, я видел его пару недель назад, он был в прекрасной форме. Никаких признаков болезни. Я был совершенно уверен, что он доживет до ста. Прошлым летом мы играли в теннис. Каждую неделю! За десять матчей я не взял ни одного сета, а он ведь на двадцать два года старше меня! А наш последний матч! Мы играли на гравии у Страндсбаден, и я потом сказал жене: «Мне кажется, Виктор изобрел эликсир жизни!» И что я буду без него делать? Я ведь, понимаете ли, только его советам и следовал! Если Виктор говорил, что стоит, к примеру, посмотреть выставку в Мальмё, я тут же садился в машину и ехал. Если он советовал купить картину никому не известного художника, я покупал, не задавая вопросов. У него, знаете, такой глаз был… тут же определял, что хорошо, а что так себе. За все годы он ошибся только один раз… еще в семидесятые годы. Как раз начал входить в моду Ула Бильгрен из Мальмё. «Плагиатор, – сказал Виктор. – Забудь про него. Кто захочет вкладывать деньги в художника, которому нечего сказать? Мастерством он владеет, согласен, – сказал он, – освоил все стили. Тут тебе и абстрактная живопись, и конкретная, и фигуративная, и нон-фигуративная… беда только в том, что он совершенно не самостоятелен. Ворует все свои идеи у гения. А гений этот – немец по имени Герхард Рихтер! Как только у Рихтера персональная выставка в Кёльне, Ула тут как тут, изучает картины, потом едет домой, запирается в ателье и переписывает все подряд…» Я послушался – и зря! Такой подход не для продавца картин. – Окессон постучал пальцем по виску. – Что хорошо, а что плохо, в конечном счете определяет рынок. То есть такие люди, как я! А сейчас Ула Бильгрен – один из самых дорогих художников! В прошлом году Буковскис в Мальмё продал совсем небольшую работу маслом за полтора миллиона…
Жена Окессона, женщина с гипсовой после многочисленных подтяжек физиономией, подошла пожать им руки.
– Как это грустно… – сказала она. – Спасибо за предоставленную возможность попрощаться с усопшим. К сожалению, мы должны идти – внуки сегодня на нас.
Намекает, подумал Иоаким. Виктор так и не дождался внуков. Для Фалькенберга – страшный грех.
– Я знаю, что сейчас не время, – твердо сказал Окессон, – но что вы будете делать с оставленными Виктором картинами? Ты же не можешь продать в Гётеборге все, Жанетт?
– Мы еще об этом не думали, – сказала сестра. – Сначала мы должны сесть и посмотреть, что же папа оставил. Убедиться, что нет никаких распоряжений… может быть, он хотел что-то подарить. У меня такое чувство, что некоторым работам место в музее.
– Чтобы не перенасытить рынок, надо привлечь коллекционеров из разных мест, – не унимался Окессон. – У меня есть все необходимые контакты, и я могу взять на себя продажу, за вознаграждение, разумеется. Уж я-то знаю, где найти покупателей на западных шведских художников, даже если некоторые из них и не принесут больших денег, как вы, наверное, рассчитываете. От Олле Шёстрёма, например, в наших местах не избавишься. Но существуют такие… чуть не сказал – идиоты, которые готовы заплатить состояние за «Таможенный мост» того же Шёстрёма. Или за «Руины Фалькенбергской крепости в тумане».
Иоаким заметил, что сестра с трудом сдерживается, поэтому, чтобы разрядить атмосферу, а главное, не рассердить Окессона, которого он рассчитывал использовать именно так, как тот и предлагал, он вежливо проводил торговца картинами с женой до двери…
На тротуаре под верандой отеля стоял доктор Вестергрен с сигаретой. Иоаким воспользовался случаем расспросить его, не появилось ли чего-то нового в установлении причин смерти Виктора.
– Так странно, что он просто взял и умер, – сказал он, беря сигарету из протянутой пачки.
– Да, можно и так сказать… Поэтому я и не исключаю хроническое отравление.
– Когда он последний раз обследовался?
– В мае. Двадцать восьмого.
– Какая точность!
– Я прекрасно помню тот день, потому что была страшная жара. Двадцать восьмого был установлен новый рекорд температуры. Я обливался потом, а Виктору хоть бы что. Такие мелочи, как температура воздуха, его не интересовали.
– И ничего странного вы не заметили?
– Странного – нет. Если, конечно, не считать странным, что его физическое здоровье было, как у пятидесятилетнего. Виктор, сказал я ему, я даю тебе еще лет десять. А если ты обзаведешься женщиной и не бросишь играть в теннис, то все пятнадцать.
– Вы хотите сказать, что он мог дожить и до ста?
– Так я думал. У него было образцовое здоровье.
– Я понимаю, что сейчас не время для подобных вопросов, – сказал Иоаким. – Мне самому неприятно об этом говорить, но… самоубийство вы исключаете?
Вестергрен погасил окурок о подошву и лихим щелчком отбросил его в сторону, что было совершенно неожиданно для уважаемого сельского врача.
– Что я могу вам ответить? Виктор был одним из самых организованных людей из всех, кого я знал. И если бы он решил покончить с собой, он сделал бы это так, что никто ничего бы не заподозрил.
– То есть такая возможность не исключена?
– Думать можно о чем угодно.
Они помолчали. В уголке глаза у доктора блеснула слеза. Иоаким так и не понял, слеза ли это скорби или просто в глаз попал дым.
– Очень странно было делать вскрытие. Я повидал немало мертвецов в своей жизни. Думал, привык ко всему. Но с Виктором было все не так… Он – улыбался. Первый раз в жизни я видел, чтобы покойник по-настоящему улыбался. Можно сказать, что он улыбался всем телом – губы, выражение лица, руки… не знаю, как объяснить.
– Может быть, какой-то наркотик… или лекарство? – предположил Иоаким. Он сообразил, что последняя обезболивающая таблетка уже улетучивается из кровотока. Старый врач и друг отца вполне мог бы ему в этом помочь.
– Я думал и об этом, – сказал Вестергрен. – Но нет, уверен, что нет… Он улыбался своей картине… Это был настоящий шедевр.
– Я еще не был в ателье, но думаю, вы имеете в виду это загадочное панно Дюрера. Завтра поеду и посмотрю. Дело в том, что у меня сломана какая-то маленькая косточка в голеностопе. Как только я достану рецепт на…
Он не успел закончить, потому что в эту секунду материализовался Семборн с горящим взглядом и тарелкой с тортом в руке. У Иоакима не было никакого желания беседовать с адвокатом о чем бы то ни было, но все пути к отступлению были отрезаны.
– Только пару слов с глазу на глаз, – Семборн взял его за руку и потащил за собой. – Я прошу меня извинить…
Иоаким похромал за ним к набережной. Там-то они могли говорить без помех.
– Извини, что я помешал вашей беседе, но у меня из головы не выходит наша последняя встреча. – Голос адвоката был полон раскаяния. – Должен сразу сказать: ты прав, Иоаким. Я должен считать все мои картины подлинниками, пока не будет доказано обратное.
– Рад слышать. Окессон только что предложил помощь в продаже картин, так что вряд ли тут можно говорить о каких-то подозрениях. И если вы присмотритесь к публике в зале, вы увидите, что здесь полно профессионалов, которые годами слепо доверяли Виктору. Могу поклясться, что с вашим Кройером все в порядке, и еще раз поздравляю вас с самой удачной в жизни сделкой. Мой совет – забудьте ваши сомнения.
– Я приношу извинения, Иоаким. Мы все немного не в себе в эти дни. Бог ты мой, я же знал твоего отца полжизни… Приходи ко мне в контору, как только появится время. Надо разработать стратегию относительно налога на наследство…
Вернувшись на веранду, Иоаким увидел сестру, махавшую ему рукой, – Жанетт хотела, чтобы он присоединился к беседе с ушедшим на пенсию интендантом Стокгольмского музея. Иоаким поискал глазами врача, но тот куда-то исчез. Ему вдруг стало очень грустно. Через всю застекленную веранду тянулись эластичные нити воспоминаний исчезнувшего времени, когда Виктор был жив, когда он был образцом для него, тогда еще совсем юного… Образцом отца и мужчины, с которым сын находился в вечной борьбе и с которым хотел сравняться.
Интендант представился: Хольмстрём из Национального музея… Иоаким вдруг почувствовал приступ настоящего горя, никак не связанного с желанием выпить или принять очередную болеутоляющую таблетку с кодеином. Ему хотелось говорить о Викторе как о живом отце, а не о безжизненном теле в катафалке по дороге в печь крематория в компании Рутгера Берга и его похоронных сотрудников.
– Вы с сестрой были еще совсем детьми, когда я вас видел в последний раз, – сказал интендант. – Отец взял вас с собой в Стокгольм. Мы попросили его сделать для нас одну работу.
– У меня эта поездка почти не сохранилась в памяти. Помню только какую-то из ваших мастерских за городом – огромное помещение с лампами дневного света и антресолями… Для нас, детей, это было похоже на замок.
– Вы бегали сами по себе, – улыбнулся интендант. – Виктор работал целый месяц по десять – двенадцать часов в день, и за все время я ни разу не слышал, чтобы вы жаловались. Помню, я как-то застал вас за столом вахтера с мелками и альбомом для рисования – вы утверждали, что тоже реставрируете картины!
Хольмстрём снова улыбнулся. Он был примерно ровесником Виктора, может быть, чуть помоложе. Незаметный слуховой аппарат… Вся жестикуляция и манера говорить выдавали в нем человека, привыкшего распоряжаться, – уверенного, располагающего, не терпящего возражений.
– Мы рано стали самостоятельными, – сказал Иоаким. У него снова подступил к горлу комок. – А кстати, как вы познакомились с отцом?
– Мы встретились в пятидесятые годы. Он реставрировал плафон Эренштраля в Рыцарском замке. Какая была работа! Потом был государственный заказ – привести в порядок коллекцию в замке Стрёмхольм. Многие полотна были в жутком состоянии. Потрескался грунт, красочный слой деформирован… в начале прошлого века реставраторы явно схалтурили. Ваш отец сотворил чудо. Восстановил утраченные детали. Изобрел совершенно новую технику ретуши. Мы не хотели упустить такой талант и предложили ему работу в музее. Он отказался. Сказал, что будет помогать – но только как фрилансер. Он работал для нас чуть не до конца семидесятых, хотя жил в Фалькенберге.
– А нашу мать вы когда-нибудь видели?
– Нет… – Хольмстрём посмотрел на него странным взглядом. – Виктор был довольно скрытен. Личную жизнь он на работу не брал – оставлял дома.
– Они встретились на выставке в Стокгольме. Во всяком случае, отец так говорил. Она была из очень состоятельной семьи.
– Я слышал о ней, но наши пути никогда не пересекались.
Рядом один из гостей что-то писал в книге соболезнований. Иоаким скосил глаза. «Скоро увидимся, Виктор». Он позавидовал такой невинной вере в жизнь после смерти.
– Смерть никогда не упускает случая прийти неожиданно, – сказал музейный интендант. – Даже если думаешь, что ты к ней подготовился, она все равно приходит неожиданно. В прошлом году умерла моя жена. Мы прожили сорок шесть лет. У нее была хроническая почечная недостаточность с восемьдесят третьего года. Последние десять лет она умирала… поистине марафонская смерть, если вы понимаете, что я хочу сказать. Казалось бы, я должен был привыкнуть к этой мысли – та, кого я люблю и кто мне так близок, в один прекрасный день меня покинет. И постоянное напоминание – отвратительное жужжание диализной установки дважды в неделю… Но конца все равно не ждешь. Словно натыкаешься на невидимую стену… и… какая это боль!
– Отцу исполнилось бы восемьдесят четыре, – сказал Иоаким. – В этом возрасте люди либо умирают, либо впадают в детство. А он до самого конца был настолько бодр, что я думал, он будет жить вечно. Когда вы его видели в последний раз?
– Двадцать лет назад. На каком то официальном ужине, не помню, по какому поводу. Я очень благодарен, что вы поместили извещение в центральных газетах, а то бы у меня не было возможности попрощаться с Виктором. Непревзойденный профессионал.
– Я все время спрашиваю себя… – сказал Иоаким. – Странно, но раньше я об этом не думал: почему он переехал в Фалькенберг? Он появился в Стокгольме сразу после войны, сделал себе имя, нашел жилье, источник доходов. Он даже умудрился найти друзей, а вы понимаете, как это трудно в маленькой северной стране, где люди стараются держаться друг от друга на расстоянии – в благой вере, что это наилучший способ общения с согражданами. В Стокгольме он главным образом и работал, во всяком случае зарабатывал… И вдруг в шестидесятые годы все бросает… все, что с таким трудом построил. И переезжает сюда, в Фалькенберг.
– Может быть, у него здесь были друзья?
– Мне об этом ничего неизвестно. Я надеялся, что вы или кто-то другой даст мне ответ на этот вопрос. Его самого я спросить не успел…
Интендант музея поправил слуховой аппарат, сидевший у него за ухом, как таинственное насекомое из научно-фантастического фильма.
– Мы с Виктором встречались на профессиональной почве, – дипломатично сказал он. – В личном плане… разве что ужинали вместе пару раз… иногда играли партию в шахматы. Но я слышал, у него в Стокгольме были какие-то проблемы.
– Это что-то новое. Какие проблемы?
– Он старался помочь какой-то художнице выбраться из сложной жизненной ситуации. Кажется, он считал, что для нее будет лучше, если он уйдет с арены.
Это был день сплошных новостей. Загадочный церемониал похорон. Вопросы требуют ответа. Тайное становится явным. Тени появляются и исчезают… но далеко не все. Одна загадка рождает другую, они упакованы друг в друга, как китайские коробочки. Ему следовало бы давным-давно распаковать эти коробочки и поставить их все в ряд перед Виктором, пока тот был еще жив. Почему из всех городов он выбрал Фалькенберг, что за отношения были у него с Эллой, почему он когда-то решил эмигрировать именно в Швецию и что это были за проблемы с какой-то неизвестной художницей? Что имел в виду Хольмстрём?
– Виктор никогда не говорил ни о каких проблемах или трудностях, – вслух сказал он. – И я просто не могу представить, чтобы человек отцовского благородства мог нажить себе врагов.
– Честно говоря, я тоже. К тому же все это было так давно! Похоже, он принял решение переехать сюда совершенно спокойно.
– А вы тоже коллекционер?
– Да. Но, конечно, не такой, как ваш отец.
– А вы когда-нибудь видели его коллекцию?
– Как ни странно, нет. Он почему-то не любил о ней распространяться. Все держал в секрете… или скромничал, тут можно по-разному посмотреть. Но коллекция, судя по всему, бесценная. Масса редкостей… и шведские мастера, и зарубежные. Причем в самых разных манерах, как я слышал.
– А каким он был экспертом? Я имею в виду установление подлинности работы?
– Феноменальным… Устроит вас такое определение? Он видел словно бы в четырех дополнительных измерениях, совершенно для нас, смертных, не известных. А мастерство! Виктор владел старинной техникой, как никто. Уникально! Материалы, старинные рецепты пигментов, классический мазок…
– Он не мог ошибиться в подлинности, скажем, Кройера?
– Скагенского художника? Не думаю. В шестидесятые годы Виктор входил в государственную экспертную группу. Они занимались исключительно разработкой новых методов выявления подделок. Мало того, за эти годы он нашел для нас огромное количество шедевров, и мы доверяли его оценке безоговорочно. В основном немецкая живопись девятнадцатого века, но и рококо, и северное барокко. Как-то, помню, он отсоветовал нам покупать Адольфа Менцеля – и картина оказалось фальшивой. В другой раз благодаря ему мы приобрели у частного собирателя в Париже ранее неизвестного Рослина.
– Я понимаю, что мой вопрос звучит странно, но как это все начиналось?
– Мне кажется, он начал покупать картины у эмигрантов сразу после войны. Люди сломя голову бежали в Швецию… брали только самое ценное: паспорт, пачка швейцарских франков, несколько полотен. Он постоянно ездил… Тогда на рынке циркулировало очень много предметов искусства, людям нужны были деньги. Виктор в послевоенной Европе был как бы связующим звеном между коллекционерами и людьми, которые позарез нуждались в деньгах. У него везде были связи… Как-то раз, помню, мы не послушались его совета… речь шла о портрете Эренштраля. Виктор пронюхал, что в Западной Германии есть эта никому доселе не известная работа. Продавец много не просил, но наш старый эксперт по барочной живописи никак не мог решиться. Он свои подозрения не уточнял, но утверждал, что это подделка – близкая к совершенству, но подделка. Виктор не настаивал… он, собственно, никогда не настаивал, но утверждал со всей определенностью, что мы ошибаемся. И по всей видимости, он был прав… За несколько лет до этого он сам разоблачил подделку того же Эренштраля в Финляндии… Никаких сомнений нет, он был выдающимся экспертом… А теперь, господа, хочу вас поблагодарить за в высшей степени достойную церемонию и, конечно, за извещение в газете. Без него я никогда бы не узнал о смерти Виктора, и это мучило бы меня все то недолгое время, что мне осталось.
Старик посмотрел в сторону вестибюля, где за стеклянной стенкой размещалась администрация.
– Я переночую в отеле – не хочу пропустить чемпионат Европы. Златан, похоже, в хорошей форме. А какой вид на Этран из моего номера!
Похороны и будни почти ничем не отличаются друг от друга, думал Иоаким позже, подводя итоги этого насыщенного дня. Но все равно, день похорон требует… как бы сказать… большего порядка, что ли. Он только что попрощался с престарелым интендантом и пошел к буфету взять седьмой или восьмой бокал вина, но тут к нему подошел тот самый лысый господин с клюшкой, взял бутылку и начал внимательно разглядывать этикетку.
– У меня не было случая представиться, – сказал он. – И вдобавок я еще пропустил траурную церемонию – транспорт подвел. Я так понимаю, вы – сын Виктора.
Роста он был небольшого. Судя по глубине морщин, он был едва ли не старше Виктора. Взгляд дружелюбный, трудноопределимый акцент.
– Я приехал из Берлина вчера вечером. Но если паром из Ростока в Треллеборг хоть чуть-чуть опаздывает, вы уже не успеваете на поезд. Логистика на железной дороге не та, что была… опоздаешь на какую-то пару минут – и все, жди следующего поезда. К тому же костыль не способствует быстрому передвижению…
– Мне очень жаль, – сказал Иоаким, пытаясь сообразить, каким образом весть о смерти Виктора дошла аж до Берлина.
Но его собеседник, похоже, не собирался давать никаких объяснений. Он прислонил клюшку к стойке, достал очешник из внутреннего кармана пиджака и укрепил на носу очки в тонкой оправе.
– Очень забавно, – произнес он, изучая этикетку на бутылке, – мне показалось на секунду, что это подделка… Грюнер Вельтлинер, несомненно. Но, может быть, от какого-то поставщика подешевле… из Венгрии, скажем… а разлито в бутылки получше, с поддельной этикеткой… Но это не так – вино, похоже, настоящее.
– С чего бы ему быть фальшивым?
– О, Виктор! – рассмеялся старик. – Это его развлекало иногда… пригласить на дешевое вино, разлитое в бутылки от лучших виноделов… «Пойяк» сорок четвертого года, тридцатилетнее «Монроз» или «Боул»… Люди обманываются с радостью…
– Мне кажется, вы не успели представиться… – растерянно сказал Иоаким.
– Какое значение имеют имена?! Имена – это тоже своего рода этикетки… в переносном, конечно, смысле… Ваш отец, например, использовал разные имена, в зависимости от того, где находился… и, самое главное, от того, что за дело ему предстояло.
Потом Иоаким вспомнил, как он тут же отверг мысль, что старик с клюшкой его разыгрывает: странно было предположить, что пожилой и с виду достойный человек подшучивает над усопшим на его похоронах. Скорее всего, старческое слабоумие… полубезумный старикан каким-то образом узнал о поминальной церемонии в отеле и ударился в сенильные рассуждения по поводу всего, что взбредет в голову.
– В Швеции он был, разумеется, Виктором Кунцельманном. А в Германии его чаще всего называли Густав Броннен… Если вспомнить, что в одном и том же человеке часто уживаются самые различные черты, одного имени явно мало. Это было бы просто убожество – всего одно имя… Мы подсознательно это понимаем, не правда ли… откуда тогда два или три имени при крещении, прозвища, клички… имена второй, третьей, четвертой живущих в одном и том же человеке личностей.
Он почесал голень острием клюшки и добродушно улыбнулся.
– У вашего отца было несколько nom de guerre[37]. Как поставщик… как бы это сказать… новообретенных шедевров, вновь открытых работ старых мастеров, он всегда учитывал все – спрос, провинанс[38], риск разоблачения. И его имя было безупречным – оно олицетворяло историческую правду, качество… Доверие к нему не знало границ.
Что он такое говорит, подумал Иоаким, чушь какая-то… И в то же время все происходящее почему-то не вызывало удивления, словно это и были ответы на те вопросы, про которые он даже не предполагал, что они у него есть.
– Насколько хорошо вы знали отца?
– Вы можете называть меня Георг. Георг Хаман. Когда-то, много лет назад, у нас с вашим отцом был магазин филателии и автографов в Берлине. Мы познакомились еще до войны. Вам это, должно быть, кажется странным. Вы меня никогда не видели и наверняка никогда обо мне не слышали.
У выхода Жанетт беседовала с соседями Виктора. Эрланд Роос одиноко сидел в углу. Похоже, его не устраивала политическая ситуация в Южной Скандинавии. Большинство гостей были знакомы не один десяток лет, они стояли группами, разговаривая о Викторе. Все как всегда, подумал Иоаким. Нормально, если в этом слове вообще есть какой-то смысл.
– Виктору тогда было семнадцать, – сказал Хаман. – Наша встреча была довольно драматичной. Я был на несколько лет старше, и мне выпала роль… не знаю, как определить… за неимением лучшего, скажем так: роль ментора. Последний раз мы виделись… – он неожиданно поглядел на наручные часы, – восемь дней и семь часов назад. Я заказал картину и приехал ее забрать. Дюрер. Поддельный Дюрер, скажет невежа. Но ваш отец не успел закончить работу.
– Мне кажется, это глупость – подделывать Дюрера.
– В нормальных условиях – разумеется. Слишком много возникает подозрений. Но не в этом случае. Мне удалось найти покупателя, а тот в свою очередь запасся воистину доверчивым заказчиком.
На какую-то секунду Иоаким понял, почему понятия «головокружение» и «мошенничество» в шведском языке обозначаются одним и тем же словом – svindel. Этот двойной смысл имеет глубокие семантические корни, подумал он. Блеф, который заставляет человека терять опору, у него начинает кружиться голова, и он мало что соображает… весь миропорядок рушится…
Они перешли в вестибюль отеля и уселись в кресла. Незнакомец продолжил свой рассказ, в голосе его сквозили минорные ноты. Наконец он спросил:
– Вам, наверное, интересно, почему я все это вам рассказываю. Но если прожить жизнь так, как мы с вашим отцом, непременно начинаешь запутываться в собственной лжи. Правда кажется непреодолимой, вернуться к ней невозможно, то есть помехой правде является сама правда…
Иоаким все еще держал в руке пустой бокал. Он чувствовал себя на удивление трезвым, трезвее, чем когда-либо за много, много лет.
– Я покажу вам ателье отца, – сказал старик. – Завтра у нас будет такая возможность. Думаю, вы и понятия не имели, что оно из себя представляет. Виктор, разумеется, показывал вам то, что хотел, чтобы вы увидели.
Репродукции оригиналов лежали на столе, свидетельствуя о несравненном мастерстве Виктора-копииста. Альбом Дюрера развернут на снимках из Купферштик-кабинета в Берлине и музея Цвингер в Дрездене. Мотив одной из гравюр, изображающей купальню, Виктор скомбинировал с ксилографией под названием «Христос в Гефсимане». Он написал мотив маслом, в манере раннего Дюрера. Сцена имеет ярко выраженный гомоэротичный характер: несколько обнаженных юношей в купальне. На заднем плане один из них наклонился к партнеру для поцелуя. Тела написаны до жути великолепно, но лица отсутствуют, разве что один из купальщиков имеет явное сходство с Виктором… На мольберте рядом – халландская жанровая картина из офиса Семборна… Копия, разумеется.
– Какое мастерство, а? – сказал Хаман. – Жаль, что Виктор не успел. Заказчик был бы счастлив выше головы.
– И сколько ему надо было времени, чтобы закончить? – спросил Иоаким.
– Неделю, чтобы завершить картину. И еще несколько дней кропотливой работы, чтобы состарить ее на пятьсот лет.
Угольные карандаши рассортированы по банкам. Куньи кисти, барсучьи кисти… Небольшой столик, когда-то стоявший у них в детской, заставлен баночками с пигментом и еще чем-то, что легче всего описать в бакалейной терминологии: вино, уксус, яйца для темперы, льняное и ореховое масло, деготь. На стене висели наброски мелом, очевидно, к картине Дюрера.
– Натуральный мел… любимый материал вашего отца, – сказал Хаман, проследив взгляд Иоакима. – Химический состав тот же, что и у старых мастеров, поэтому возраст определить невозможно. Мел, как вы понимаете, и тогда был мелом.
– Любимый материал фальсификаторов, вы хотите сказать?
– При условии, что вы найдете бумагу соответствующего возраста… Найти старую не пигментированную бумагу не так трудно – один визит к хорошему букинисту. Форзац Библии восемнадцатого века многим фальсификаторам помог наскрести на квартирную плату. Но если вы хотите работать aux trois crayons[39], а это уже совсем другие деньги, тогда начинаются трудности. Зеленую бумагу раздобыть очень трудно…
Полкомнаты занимала мастерская с самыми разными механизмами и инструментами. Электропила со стуслом для изготовления рам напоминала модернистскую скульптуру, установленную на металлическом постаменте. Над верстаком, в металлическом шкафчике, к которому Иоаким у раз и навсегда было запрещено приближаться, содержались различные химикалии: сульфат железа, витриол, гуммиарабик. Угрожающие канистры с черепом – порошок свинцовых белил.
– А кто заказчик?
– Известный финансист и продавец картин. Жулик до мозга костей. И к тому же с контактами в Китае. Новые китайские богачи просто помешаны на классической европейской живописи.
У стены на длинных полках стояли книги по искусству. В свете последних новостей от них исходила аура махрового жульничества: каталоги музеев и выставок, монографии о художниках, обзоры Ташена и Лоуренс Кинг. Пачки старинных бумаг – реставрационная техника, рецепты красок, справочники на полдюжине языков, полные описания работ сотен художников, учебники материаловедения для художников… вот, например, знаменитая рецептурная книга красителей Ченнини или «Le Memorie di un Pittore di Quadri Antichi»[40] Федерико Йони.
– Он обладал феноменальной зрительной памятью, – сказал Георг. – Тридцать секунд перед работой Менцеля в Национальной галерее в Берлине хватало, чтобы он запомнил полотно на всю жизнь, причем в мельчайших деталях. В книгах он только искал сведения о применении материалов.
Он поднял клюшку и показал наконечником на длинный ряд справочников.
– Вот, к примеру, монументальный труд Бенезита «Словарь художников, скульпторов, дизайнеров и граверов». Виктор говорил: «Если чего-то в этой книге нет, значит, этого и на самом деле нет».
У Иоакима с детства застряла в памяти картинка, как отец сидит, углубившись в эту книгу, в снопике света от мансардного окна, и во взгляде его что-то такое, что заставляет их, детей, держаться подальше… Им кажется, что он совершает какой-то тайный ритуал… Оказывается, все так и было, только немножко по-иному, чем они себе воображали. Все представлялось теперь Иоакиму в новом свете.
На столе – развернутый фолиант. На полях слева – изображения печатей известных коллекционеров. А совсем рядом, в маленьком запирающемся металлическом сундучке, – штук пятьдесят печатей, каждая со своей подушечкой.
– Виктор ничего не оставлял на волю случая. Ведь при малейшем подозрении, если что-то не так, покупатель может обратиться за экспертизой… Уже в последние дни он скопировал подходящую печать из «Les marques de collection de dessins et d’estampes»[41]. Собственно, именно я попросил его создать внушающий доверие провинанс для моего маленького заказа…
– Я помню этот сундучок, – сказал Иоаким. – Папа говорил, что там лежат деньги… он называл его кассой.
На развороте книги, в самом верху, красовался герб, представляющий двух единорогов.
– Знаменитое коллекционное клеймо барона Милфорда! Возможно, Виктор предназначал его для моего Дюрера. Или эстампилль[42] П. Дж. Мариетта с роскошным львом. Посмотрите, здесь клейма всех крупных коллекционеров: Эрл Спенсер, граф Селоцци, А. П. Леру, Барди, Косуэй – все позапрошлого века, еще до первых больших инвентаризаций… Подлинное по всем признакам клеймо на обороте подлинного по всем признакам старинного полотна успокаивает покупателя и внушает ему доверие.
Георг закрыл книгу, взял свой костыль и захромал к нише, где стоял сейф. Иоаким двинулся за ним, тоже хромая, – что еще ему оставалось делать? Старик наверняка решит, что Иоаким его передразнивает.
– Сейчас я вам покажу, что осталось от знаменитой коллекции вашего отца, – сказал Георг Хаман, набирая комбинацию на замке. – Это он не успел уничтожить…
В сейфе оказался ящик. Хаман вынул оттуда пачку рисунков. Стараясь не дышать, кончиками пальцев взял верхний лист. Этюд в стиле рококо, aux trois crayons, на зеленой бумаге. Несколько амуров на облаке.
– Подлинный лист восемнадцатого века. В цвете. Достать невозможно. Набросок к фреске Буше. Никакой подписи не требуется – Буше не затруднял себя сигнатурами на подлежащих уничтожению набросках. Эксперт должен полагаться на стиль и на возраст бумаги, а дальше вещь переходит в другой юридический статус. Покупателю предстоит самому определить, подлинник это или нет, и он наверняка сочтет его подлинником, если ему помогает эксперт с безупречной репутацией.
Иоаким плюхнулся в кресло. Ему вдруг показалось, что даже и эта мебель – подделка, как и старик перед ним… иллюзия, фальсификация действительности, созданная с натуры, но существующей только в воображении… Вот он сидит в подделанном наброске кресла с подделанным наброском загадочного старикана, знакомого его отца. А отец, в свою очередь, тоже подделанный набросок кого-то совсем другого, не того, кого знал Иоаким… У него было такое чувство, что все окружающее, в том числе и он сам, вот-вот изойдет дымом и исчезнет.
– Думаю, ваш отец сохранил эти рисунки из сентиментальных соображений, – сказал Георг. – Виктор встретил своего первого заказчика в Стокгольме в Национальном музее. Они подошли к одной и той же картине Буше… Эстонец по фамилии Туглас. Очень известный в то время реставратор. Он очень много значил для вашего отца…
Он нагнулся и достал из глубины сейфа маленькое полотно маслом, представляющее женщину на берегу.
– Кройер? – спросил Иоаким.
– Есть еще два таких. У него был период, когда он специализировался на датчанах… вернее, на втором золотом веке датской живописи, поскольку ему пришлось реставрировать очень много таких работ. Проблема заключалась только в поисках доверчивых покупателей.
Георг достал еще два полотна, тоже, по-видимому, написанных в Скагене.
– Первый международный заказ пришел Виктору как раз из Копенгагена, из собрания Хиршпрунга.
– Где он всему этому научился?
– Для начала – в Берлине. Там он сделал свои первые фальсификации. Но война начала ставить нам палки в колеса.
– Мой отец был в Англии во время войны. Во флоте. А под конец ему не повезло. Оказался в немецком плену.
Георг погладил покрытый старческими пятнами лысый череп.
– Ваш отец никогда не покидал Германию. В последние годы войны он и в самом деле был в лагере. Его осудили за то, что тогда называлось содомией. Такой приговор – разврат с мужчинами – означал при нацистах верную смерть. Но Виктору повезло… можно сказать, подделки спасли ему жизнь… Все в жизни взаимосвязано, – сказал Георг и посмотрел на фальшивого Дюрера. – За каждым мазком скрывается личная история. Дюрер, Буше, Кройер… После войны у Виктора был роман с молодым коллекционером в Стокгольме. Виктор рассказывал, что у того в спальне висела копия дюреровской «Купальни».
Он достал из сейфа последнюю картину. Это была темпера, примерно шестьдесят на шестьдесят, написанная на старинной доске. На опушке в тени пинии двое юношей перебрасываются яблоком. Один из них, несомненно, похож на Виктора. Другой на голову выше. Черные, блестящие, похожие на лесных слизняков локоны, очень красивое лицо.
– Картина изображает вашего отца и его первую любовь. Но подписана она Бацци.
– Кем, сказали вы?
– Джованни Антонио Бацци. Очень известная фигура Ренессанса. Если вы спросите меня, я скажу, что он не слабее Микельанджело. Он избрал себе псевдоним Il Sodoma, Содомист. Были эпохи, куда более терпимые к сексуальным меньшинствам, чем та, в которой довелось жить мне и вашему отцу… Но эта подделка – само совершенство! Я бы сам мог ее купить, если бы у меня было много миллионов и я бы не знал, что это работа вашего отца.
Иоаким вжался в кресло. Он тосковал по ситодону.
– Вы сказали, что отец попал в лагерь потому, что был гомосексуален. И ему в чем-то повезло…
– Вот именно. Мы оба оказались не по своей воле вовлечены в историю… так называемая «операция „Андреас“». Может быть, вы слышали краем уха, как нацисты собирались развалить британскую экономику при помощи фальшивых фунтов стерлингов? Лучших фальсификаторов со всей Германии собрали в одном месте, чтобы они работали фальшивомонетчиками. Несколько человек были гомосексуалами.
Я вам не верю, хотел сказать Иоаким. Но вместо этого, в наступившей внезапно тишине, в странной дыре времени, куда, как ему вдруг показалось, уместилась вся жизнь его отца, он тихо спросил:
– А от чего умер мой отец? Его врач утверждает, что от отравления…
– Кто знает? Вряд ли… Он слишком хорошо разбирался в материалах и был очень осторожен… Скорее всего от старости… или от воспоминаний. Некоторые из них были слишком тяжелы, чтобы все время носить их с собой.
– Он уничтожил массу картин в квартире перед смертью. Я не могу понять почему, пусть даже речь идет о подделках.
Георг улыбнулся ему тепло и ласково, как улыбаются детям самых дорогих друзей. И Иоаким понял – да, этот человек действительно был очень близок с его отцом.
– Ваш отец, как это ни парадоксально, был невероятно совестливым человеком. Думаю, он заботился о своей посмертной репутации.
– А что вы знаете о моей матери?
– Почти ничего. Там какая-то запутанная история.
Георг посмотрел на прислоненные к сейфу картины.
– Я почти уверен – то, что вы перед собой видите, можно обратить в хорошие деньги, если найти правильного покупателя. Думаю, это все, что осталось от вашего наследства. Если бы я не дал себе слово уйти на пенсию, я бы вам помог продать эти картины. Но мое сотрудничество с Виктором с этой минуты завершено.
2
Странно, за несколько минут до смерти Виктор Кунцельманн вспомнил именно этот короткий марш-бросок шестьдесят четыре года назад. От грузовика до ворот лагеря. Приближающийся конец жестоко выудил этот эпизод из сумерек памяти, как пасторальную открытку из ада.
Стояло жаркое августовское утро. Он с необыкновенной ясностью вспомнил песнь дрозда и стаи ворон, вычерчивающих в небе каллиграфические узоры.
Их возили по кругу, сообразил он, чтобы они потеряли ориентацию. Из исправительной тюрьмы в Гамбурге ехали больше суток, но на рассвете ему удалось сквозь дырку в брезенте выглянуть наружу, и он понял, что они приближаются к Берлину…
Он шел в строю к комендатуре, не решаясь повернуть голову, и вдыхал знакомые запахи бранденбургских каштанов, шиповника, бурого угля и жаркого континентального лета. Запахи жизни, которая никогда уже к нему не вернется.
Ворота лагеря приоткрылись, они миновали сторожевую вышку. В ее тени стояли вооруженные эсэсовцы. Потом за ними закрылись еще одни ворота. Жара была удушающей. Она давила на него, как будто его завернули в свинцовое одеяло, как будто гравитация поднатужилась специально, чтобы досадить именно ему. Кто-то крикнул «Хальт!». Время испуганно вздрогнуло. Они увидели виселицу с повешенным, словно выгравированную на сине-стальном небе. Казнь, судя по всему, совершилась уже давно. Распухшее, с почерневшей кожей тело было совершенно неподвижно, над ним заинтересованно кружились вороны.
За виселицей простирались бараки. Низкие, выкрашенные синей краской деревянные сооружения с открытыми по случаю жары окнами. Виктор мысленно поинтересовался, который сейчас час, но тут же понял, что он вряд ли мог бы с уверенностью назвать даже год. Ощущение времени здесь исчезло, календарь превратился в аморфную кашу расползающейся хронологии. Будущее уже позади, а прошлое принадлежит будущему.
На аппельплацу стояли конвоиры с овчарками… Надо всей этой сценой словно витал дух Ван Гога: кричащие, клаустрофобические цвета… мучительные, как взгляд на солнце.
С запада к лагерю примыкал большой фабричный комплекс. Зона безопасности с двойным рядом проводов под напряжением. Множество объявлений предупреждало, что при приближении заключенного к ограде охрана будет стрелять. Это подчеркивало абсурдную логику лагерной жизни. Заключенные должны умирать по правилам, а не кончать жизнь самоубийством, бросаясь на провода высокого напряжения.
Сторожевая вышка напоминает деревенский вокзал, подумал Виктор, в ней есть что-то идиллическое, сельское, и еще эти цветы в окне второго этажа… Там происходила какая-то жизнь, кто-то нес чайник из одной комнаты в другую, но с балкона торчало дуло пулемета.
На крыльце появился комендант с мегафоном и объявил, что они находятся в концентрационном лагере. Тот, кто будет хорошо работать, может рассчитывать на хорошее обращение. Тех же, кто нарушает правила, отлынивает от работы, симулирует болезни, нарушает дисциплину, что весьма типично для таких подонков, как они – уголовники, жидолюбы, коммунистические свиньи, гомосексуалы, – тех ждет суровое наказание.
Виктор не слушал. Вот уже три месяца к его тюремной робе был пришит розовый треугольник, нарушение параграфа 175… невероятно, но благодаря удаче, случаю, недосмотру судьбы он был все еще жив.
Очевидно, только что прозвучал какой-то сигнал; отовсюду поползли ручейки заключенных в полосатых робах, истощенных до скелетоподобия, в чесотке, в лишаях, бритых наголо, вшивых, покрытых высыпаниями, похожими на брызги от приближающегося кадила смерти… ручейки сливались в притоки, притоки – в реки, заполняя плац тихим приливом отчаяния.
Прямо за ним стоял узник, он знал его имя: Нойманн, коммунист, он прибыл тем же транспортом, что и Виктор. Они обменялись в дороге несколькими словами… Виктор с трудом понимал, что тот говорит: Нойманну в отделении гестапо в Альтроне молотком выбили зубы. Речь его напоминала странную смесь шипения и чмоканья на твердых согласных, словно бы слова были маленькими острыми камушками и ему приказали разжевать их и выплюнуть в песок.
Виктор не знал, почему их везли вместе. У них даже робы были разные: у Нойманна пришит красный треугольник: политзаключенный. У остальных треугольник зеленый – профессиональные преступники, возможно, убийцы… все что угодно.
Он не понимал логики. Он не понимал, почему его осудили по параграфу 175, «гомосексуальный разврат», хотя суд мог бы разделаться с ним гораздо короче по двум другим статьям: «подделка документов» и «уклонение от воинского долга». Но вместо этого ему пришили розовый треугольник и переправили в гамбургскую тюрьму. Либо провидение, рассудил он, либо какой-то неизвестный мне план.
Перекличка продолжалась довольно долго. Жара набирала обороты. Удивительно, что никто не упал в обморок. Должно быть, их удерживает страх смерти, подумал Виктор. Но лишь до определенной границы… потом наступает страстное желание покончить разом с мучениями, голодом, жарой, стужей, недосыпом, слабостью, слезами… отсутствием слез, безнадежностью. Достаточно было на утренней перекличке бессильно опуститься на колени – и палачи делали свое дело. Они особенно ожесточались, когда видели даже такие жалкие проявления свободной воли. Они ненавидели самоубийц – рассматривали их как беглецов.
Слева от него в строю стояла группа заключенных из ближайшего барака. Лицо одного из них показалось Виктору знакомым… Но нет, не может быть, решил он, это, должно быть, жара, пришедшая с востока, из России, где, по слухам, немецкая армия застряла в неоглядных степях. Слухи оптимистически утверждали: война проиграна, и прорыв фронта – всего лишь вопрос времени.
Колонна заключенных направлялась к какому-то сооружению, напоминающему беговую дорожку. Он присмотрелся – нет, не беговая дорожка, а своего рода выставка различных видов дорожного покрытия: политый битумом гравий, щебенка, песок, булыжная мостовая, брусчатка, бетон… Эта псевдобеговая дорожка шла полукругом вокруг аппельплаца.
– Они испытывают сапоги для армии, – шепнул ему сосед, тот самый, показавшийся ему знакомым, – смотри, чтобы не попасть в штрафники, там и дня не протянешь. Они нагружают рюкзаки камнями и заставляют маршировать, пока не склеишься. А потом анализируют износ подошв.
На беговой дорожке рядами по пять человек выстроились изможденные люди с рюкзаками за спиной и в сапогах вермахта. Их погнали вперед плетьми и прикладами. У многих подгибались ноги.
– Новенький? – прошептал сосед. Он, казалось, никак не реагировал на происходящее. – Я видел, вас грузовик привез. Вы, наверное, важные птицы… никого не били, по крайней мере. Не пугайся, мне поручено узнавать новости у вновь прибывших и распространять их… по ту сторону оцепления… Меня зовут Рандер. Найдешь меня в прачечной.
Виктор пожал плечами. Провокатор? Или просто интересуется молодыми парнями? Лагерная жизнь порождала куда больше гомосексуалов, чем все клубы Берлина, вместе взятые.
– Мы пытаемся наладить сопротивление, – прошептал Рандер, почти не шевеля губами и глядя на конвоиров. – Нам нужны люди оттуда. Те, кто видел что-то в других закоулках системы… молодые люди, у которых есть шансы выжить. Если будет возможность, приходи в прачечную.
Перекличка закончилась. Заключенные строем двинулись за пределы лагеря – Виктор решил, что на фабрику, там их, наверное, используют на принудительных работах. Подул слабый, не приносящий прохлады ветерок. Казалось, он вдувает жар прямо в и без того раскаленные бронхи.
Колонна, в которой был Рандер, развернулась кругом и направилась к баракам. Виктор сделал усилие и вспомнил, где он его видел: много лет назад в баре на Паризер-плац, перед переполненной пепельницей и с рюмкой в руке. Рандер был не только гомосексуалом, он был еще и активистом давно запрещенной к тому времени компартии. Виктор удивился, как он все это вспомнил. Плавное течение времени уже не относилось к разряду само собой разумеющихся понятий….
В восточной части лагеря был выделен небольшой участок, своего рода лагерь в лагере. Четыре выкрашенных не в синий, а в зеленый цвет барака стояли по квадрату, ограничивая небольшой двор. Недавно высаженные по периметру деревья отгораживали эти бараки от остальных строений. На входе даже зеленел газон. Окна зачем-то закрашены белым… Только один вход, остальное обнесено колючей проволокой. После переклички всех, кто прибыл с Виктором, погнали на санитарную обработку. Охранники оставили их ненадолго, и Виктор успел расспросить, за что осуждены остальные. Оказалось, все они работали в типографии, попались на производстве поддельных билетов денежной лотереи. Из отгороженных бараков доносился странный звук, который будет преследовать Виктора десятилетиями, – ухающие равномерные удары печатного пресса. Один из охранников сунул голову в душевую и не предвещавшим ничего хорошего мирным тоном попросил поторапливаться.
В соседней комнате им выдали одежду, к его удивлению, гражданскую. Уже много месяцев он не ощущал прикосновения к телу чистой хлопковой ткани, но тут же инстинктивно понял, что одежда взята у мертвых. И у него появилось жутковатое чувство, что он следующий на очереди.
Их зарегистрировали в канцелярии и отвели в барак. Прибранная комната, койки на удивление чистые и, похоже, удобные, даже застелены. У стола конвоиры играют в карты. В углу патефон, в звуки музыки ритмически вплетаются удары пресса с той стороны двора…
Вскоре их привели в конторское помещение, где за столом, с сигарой в зубах, сидел майор СС. Он объяснил им, что с этого момента им доверяют государственную тайну и они под угрозой смерти не имеют права ее разглашать. У Виктора все время было чувство, что это какой-то розыгрыш у врат ада. Что все, что происходит, составляет часть дьявольской шутки, и его собственное сознание после многих месяцев психических испытаний начинает подыгрывать этому розыгрышу: он уже встречался с этим майором. Крюгер. Полгода назад Виктор по его просьбе устанавливал подлинность каких-то документов.
Через приоткрытую дверь видна была мастерская. За длинным столом, согнувшись, сидели заключенные, все в гражданском, но с наручными повязками. Странно, но конвоиров видно не было. Ни окриков, ни собачьего лая, ни глухих ударов дубинками. Никто, казалось, не принимал его розовый треугольник за повод избить его, зажать мошонку рукой в перчатке – только ради удовольствия посмотреть, как его рвет от боли, так было в Гамбурге… При этом его осыпали насмешками, называли педрилой, фикусом[43], выродком, недочеловеком, всем, что могли отыскать в своем убогом лексиконе.
Крюгер притворился, что не узнал его. Он разговаривал совершенно нормальным тоном, даже выразил сожаление по поводу неприятного инцидента с зубами Нойманна… попросил не забывать, из какого кошмара они вырвались, поэтому он имеет право ждать от них определенной признательности. Он пообещал достойное питание, дневной рацион сигарет, возможность получать и отправлять почту – после военной цензуры, разумеется. А когда война кончится, добавил Крюгер, они займут достойное место в пантеоне победителей, поскольку их главная задача – помочь Германии выиграть войну.
Он сделал тщательно продуманную паузу. Вы были избраны исключительно благодаря вашему выдающемуся мастерству профессиональных фальсификаторов, объяснил он, и вы должны сослужить отечеству важную службу. Вы будете делать фунты стерлингов. Фальшивые фунты стерлингов. Миллионы фальшивых фунтов стерлингов. Наконец-то ваша преступная деятельность послужит благой цели.
Заключенный, которому было поручено ввести их в курс дела, представился: Вильфред Шпенглер. Он здесь с февраля 1942 года, с самого начала. Их тогда было не более двадцати. Все граверы. Крюгер собрал их в концлагере Заксенхаузен к северу от Берлина. В основном это были евреи из Бухенвальда… никто из них понятия не имел, что их ждет. Основное производство и сейчас в Заксенхаузене. Но с тех пор, как воздушное господство над Германией окончательно перешло к союзникам, руководство СС решило из соображений безопасности рассредоточить производство. Выбор пал на небольшой лагерь к западу от Потсдама, Хавеланд, где они и находятся. Самого Шпенглера перевели сюда полгода назад. Заключенные здесь – исключительно немецкие фальшивомонетчики, лучшие из лучших, со всех концов страны.
В первом же помещении, куда их привели, вдоль стен стояли метровые штабеля бумаги с напечатанными ассигнациями – по четыре на лист. Человек десять сидели за длинным столом и нарезали их вручную. Они укрепляли бумагу на рейсшине и аккуратно отрывали по стальной пластинке. Это важно, объяснил Шпенглер, края с трех сторон должны слегка махриться. Четвертая сторона абсолютно ровная, это одно из требований Банка Англии.
…Комната освещена мощными лампами, на полке жужжит вентилятор. Все тщательно прибрано, даже по-своему уютно. Двое десятников собирают готовую продукцию. У короткой стены – четыре сундука, заполненных готовыми деньгами. Миллионы фунтов, вспомнил Виктор.
Полагалось бы удивиться, подумал он. Все это секретное предприятие, поддельные деньги, сигареты в рационе вместо казни… Похоже было, что он, Виктор Кунцельманн, находится в эпицентре шторма, где всегда царит полный штиль, и временно вне опасности, по крайней мере в ближайшем будущем. Он понял наконец, почему он сюда попал, почему он выжил в каталажке, да еще под чужим именем, и даже понял, почему его арестовали в Тиргартене четыре месяца назад.
Оказывается, полиция следила за ним гораздо дольше, чем он мог предположить. Они знали о нем все, знали обо всех его подделках – документов, продуктовых карточек, марок, картин, знали обо всей его и Георга Хамана деятельности. И тюремное заключение в Гамбурге было своего рода карантином. Даже индульгенция Германа Геринга, выписанная на его имя, спасти его не могла. За всем этим стоял Крюгер.
Подделки сами по себе никакой ценности не имеют, подумал он. Искусство, так же как и эти фальшивые ассигнации, которые на его глазах упаковывают в ящики, приобретает ценность, только когда люди начинают в него верить. Знание, что человек устроен именно так, изменило в свое время ход его мыслей и сделало его блистательным фальсификатором. Люди хотят верить в лучшее будущее и становятся заложниками этой веры… надо только простимулировать их отчаянное желание почувствовать разумность мироустройства. Тогда увиденное становится подлинным только потому, что кажется подлинным… вся жизнь основана на вере в подлинность бытия. Вот он и стал выдающимся специалистом по введению людей в соблазн верить, и, словно в наказание за этот жизненный выбор, судьба, иронически ухмыляясь, привела его именно сюда…
Они прошли в следующее помещение, где за подсвеченными снизу столами сидело человек двенадцать рабочих. Здесь проверяется качество, разъяснил Шпенглер. Ассигнации сортируют на четыре класса. Неудачные экземпляры уничтожают. Крюгер давно еще вместе с главным гравером лагеря, профессиональным фальшивомонетчиком, разработал соответствующие стандарты.
Только сейчас Виктор обратил внимание, как громко и вдохновенно говорит Шпенглер, почти кричит, и это не из-за шума печатного станка или звуков патефона. Он догадался почему. Страх. Даже здесь, невзирая на сигареты, музыку, невзирая на иллюзию, что они живут почти нормальной жизнью, делают почти нормальную работу, невзирая на их гражданскую одежду… все это, понятно, задумано, чтобы внушить им мысль, что они не пленники… несмотря на это, они все на волосок от смерти. И увлеченный профессиональный тон Шпенглера предназначался не им, а людям СС, невидимым слушателям. Они могли в любой момент появиться в мастерской.
Нет, должно быть, он понял причину этого пафоса по контрасту, когда Шпенглер вдруг понизил голос и ответил им на незаданный вопрос: куда идет их продукция? Один из десятников, завоевавших доверие Крюгера, все с тем же хорошо сыгранным энтузиазмом утверждал, что чемоданы посылают в немецкие посольства в союзнических и нейтральных странах. Они идут как диппочта и не подлежат таможенному досмотру. Что с деньгами делают дальше, он не знает, возможно, раздают агентам, и те отмывают их через банк.
Шпенглер снова заговорил в полный голос. Виктор так и не понял – неужели он и в самом деле доверил им какую-то тайну? Теперь Шпенглер ударился в подробности техники ретуши, рассказал о ювелирной работе с печатью и орнаментом – на подлинных фунтах, выпущенных Банком Англии, они часто не идеально резкие, поэтому и здесь граверы должны быть чуточку небрежными.
В следующей комнате стены были обиты звукоизоляцией, сюда шум печатного пресса не проникал. Вообще ничего не было слышно, кроме тихого поскрипывания граверных игл по медным пластинам. Кое-кто из мастеров поднял голову и кивнул вошедшим, другие, похоже, их даже не заметили… Да, почти наверняка: Шпенглер, когда перешел на полушепот, хотел, чтобы сказанное осталось между ними, потому что сейчас он, предварительно убедившись, что поблизости нет никого из охраны, снова понизил голос. Есть еще планы производства долларов, прошептал он. Гиммлер приказал ускорить производство, но пока результаты так себе. Современные американские методы светопечати очень трудно воспроизвести на немецких станках. Впрочем, пробную партию запустили, негативы отретушировали. Несколько недель ушло на мелочи: искорка в глазу Джорджа Вашингтона, тень на знаках отличия на вороте мундира генерала Гранта, складка на манжете Авраама Линкольна. Все должно быть идеально точно, объяснил Шпенглер; подделку можно распознать по минимальной нерезкости, по отсутствию микроскопической, невидимой невооруженным глазом детали. Здесь Крюгера не обойдешь. Если ассигнации не будут соответствовать требованиям, можно считать, что вас уже нет в живых. Но есть куда более безопасный метод саботажа, он разъяснит попозже, может быть уже вечером, после отбоя, когда их запрут в бараке.
Система была – не подкопаться, понял Виктор чуть позже. Крюгер и его подчиненные продумали все до мелочи. Соответствие номеров, даты, совпадающие с каталогами Банка Англии. Все цифровые коды расшифрованы агентами, за много лет до этого внедренными в английскую банковскую систему. Были обнаружены даже намеренно допущенные ошибки – своего рода ловушки. Короче говоря, обнаружить подделку было фактически невозможно – если только не допустить исчезающе малую вероятность, что у кого-то одновременно окажутся в руках фальшивая и поддельная купюры с одним и тем же номером.
В базовом лагере в Заксенхаузене Крюгер даже организовал специальную «булавочную команду». Лондонские купцы имели привычку скалывать деньги булавками в аккуратные пачки, прежде чем отнести в банк. Поэтому группа необученных заключенных занималась только тем, что перед упаковкой и отправкой прокалывала в ассигнациях маленькие дырочки. Им же было поручено слегка потереть деньги золой, чтобы создать иллюзию, что они уже побывали в обороте…
Они добрались наконец до типографии. Прессы не работали. Поодаль стоял круглый репродуктор. Хриплый голос министра пропаганды вещал что-то о жертвах, которые обязан принести немецкий народ, чтобы выиграть войну. Виктор до сих пор не был уверен – неужели Шпенглер и в самом деле пытался призвать их к саботажу? И если да, то почему? Он вспомнил заключенного на плацу, Рандера. Неужели все это входит в проверку – зачем? В Берлине, в барах, в парках – Монбижу, Тиргартене, Хасенхайде, – он вполне мог бы разоблачить провокатора, но здесь его интуиция не работала. Может быть, Шпенглер говорил о чем-то другом, просто он его неправильно понял. Недосып, недоедание, телесные недуги взяли верх над сознанием Виктора Кунцельманна. Все сплошная иллюзия – искусство, деньги, это проклятое место, даже немецкий язык… все только иллюзия, уж во всяком случае с тех пор, как Гитлер и его подручные пришли к власти.
– А откуда бумага? – спросил он.
– С заводов в Касселе. Типографские краски от Хуго Шмидта в Берлине. Клише, как и материалы для гальваники, делают на химико-графическом заводе РСХА во Фридентале. СС даже не позаботилась убрать с упаковок собственные печати. Нас все равно убьют, – прошептал Шпенглер, – как только война кончится и наша работа станет не нужна. Так и будет, сколько бы Крюгер ни пытался заморочить нам голову…
Они вернулись в спальное помещение. Десятник показал им их койки и коротко объяснил, как будет выглядеть рабочее расписание. Но Виктор не слушал. Мысли его были далеко – на Горманнштрассе, в магазине филателии и автографов, в их с Георгом Хаманом магазине. Если его подозрения имели под собой основания, Георга тоже должны были взять, если, конечно, ему в последнюю минуту не удалось скрыться.
В беспокойные годы после Первой мировой, когда развалились и русская, и германская империи и никто, похоже, особенно по ним не горевал, когда страны Балтики избавились наконец от своего могущественного восточного опекуна, когда экономический кризис уничтожал ранее нажитые состояния так же легко, как создавал новые… в эти годы мать Виктора, Беатрис Кунцельманн, покинула город, где она родилась и выросла, – столицу Литвы Каунас[44].
Ее муж, Максимилиан Кунцельманн, был страховым агентом. В десятые годы он сколотил приличное состояние на страховании русских пароходств. В газете, попавшейся Виктору много лет спустя, было написано, что Максимилиан Кунцельманн был убит собственными слугами, подстрекаемыми большевиками к революции, а его жена на седьмом месяце беременности была вынуждена бежать в город, куда стекались в то время изгнанники со всей Европы: Берлин.
Она родила своего первого и единственного ребенка в зале ожидания больницы Шарите девятого ноября 1920 года. Эта дата послужила предметом бесчисленных изысканий нумерологов, настолько часто она была связана с драматическими событиями в немецкой истории. Девятого ноября 1918 года была провозглашена Веймарская республика, в этот же день в 1932 году провалился подготовленный Гитлером мюнхенский путч, девятого ноября 1938 года – Хрустальная ночь, а через полвека, девятого же ноября, пала Берлинская стена. И Виктор, зная о мистических свойствах этой даты, не особенно удивлялся, наблюдая осенью 1989 года за круглосуточным телевизионным репортажем о событиях, навечно вошедших в мировую историю.
Падение его матери по социальной лестнице было даже не падением, а обвалом, возможно, даже опередившим обвал немецкой марки. Она, превратившись из супруги преуспевающего каунасского буржуа с личным шофером и дорогими привычками в нищую берлинскую вдову, перебивающуюся случайными заработками, заболела и умерла. В свидетельстве о смерти было написано, что она скончалась от истощения в ночлежке в легендарном берлинском квартале Шойненфиртель, где жила беднота. Виктору едва исполнился год. Соседи обнаружили тело только через сутки; говорили, что Виктор остался в живых только потому, что сосал грудь умершей матери. У нее не было никакой родни. Мать ничего после себя не оставила – ни письма, ни фотографии… Он ничего о ней не знал, не помнил ее, и спросить было не у кого. Он был человеком без семейной истории…
Берлин в начале двадцатых был одним из самых бедных городов Европы. В трущобном районе, где Беатрис Кунцельманн провела последний год своей жизни, ловили и ели бродячих кошек. Церковь и благотворительные организации делали все, что могли, чтобы позаботиться о беспризорных детях, по крайней мере, обеспечить их крышей над головой. Виктору повезло – он был одним из сорока несчастных, кто получил место в детском доме при больнице Святой Хедвиги на Гроссе Гамбургерштрассе в Митте.
Этот квартал жители называли Кварталом Толерантности. Три конфессии жили здесь в мире и согласии: берлинские евреи шли в синагогу на углу Ораниенбургерштрассе, в Софиенкирхе шла лютеранская служба, а рядом расположилась католическая больница при монастыре с небольшим детским домом, где и рос Виктор.
Первые шесть лет его жизни были окутаны мраком, лишь изредка освещаемым вспышками памяти: строгая аббатисса Матьесен, похожая на непонятого ангела, шуршание серых шерстяных одежд монахинь, проповеднические интонации воспитательницы. Помнил он и добродушного сторожа Кернера, у него в клетке жили два попугая, и квартального пекаря с его примитивным немецким – он привозил детям хлеб. Католический епископ Берлина приезжал на каждое Рождество и привозил подарки. И на всю жизнь запомнил он самоотверженную любовь послушниц, занимавшихся их воспитанием: сестру Элизу, она пришепетывала и легко ударялась в слезы, сестру Агнес, у нее был очень красивый певческий голос, сестру Мелани – она первая ввела его в загадочный мир живописи.
Его дар проявился очень рано, как будто он с ним родился. И достаточно было в один прекрасный день дать ему бумагу и карандаш, как все стало ясно. Изображения жили в окружающем его мире – и одновременно в нем самом, так что ему оставалось только наилучшим образом их совместить. Он понял, что цельность – всего лишь иллюзия, оптический обман, состоящий из миллионов деталей, и эти детали, если захочешь, можно абстрагировать до бесконечности, до мельчайших строительных камешков вселенной. Картина – не что иное, как комбинация светотени, едва заметных изменений оттенков и геометрических узоров, и объединяются эти детали в единое целое только в человеческом сознании. Он видел в изображаемом предмете лишь некое упрощение запредельно сложной геометрии.
Монахини приходили в восторг – ребенок, дошкольник рисовал их карандашные портреты, ему удавалось передать мельчайшие детали облика; мало этого, он подмечал типичное выражение лица или жест, и это служило ему поводом для мастерской карикатуры. Он изображал все, что его просили, с почти фотографической точностью. Он рисовал натюрморты акварелью, копировал тушью иллюстрации к Библии, перерисовывал фотографии, пейзажи, здания, людей и животных. Он словно сам существовал в создаваемой картине, и пока он в ней существовал, он не мог из нее выйти. Он не слышал шума улицы, разговоров, он словно находился во вселенной, где погасили все огни – и остался только один-единственный освещенный уголок, и в этом уголке притулился он сам со своим блокнотом.
Осенью 1931 года, когда ему исполнилось одиннадцать, сестра Мелани первый раз взяла его на Музейный остров – посмотреть настоящую живопись. Странная, почти сакральная тишина; люди, целеустремленно бродящие по залам и внезапно замедляющие шаг у заинтересовавшего их полотна; свет, струящийся из огромных окон, – все вместе произвело на него неизгладимое впечатление. Он инстинктивно понял, что вся его жизнь в будущем связана с местами вроде этого.
«Остров смерти» Бёклина раз и навсегда изменил его восприятие мира. Виктор запомнил это полотно навсегда. Оно настолько впечаталось в его сознание, что много лет спустя он без всякого труда мог воспроизвести его на экране памяти, увидеть в городском пейзаже, в других картинах и фотографиях – везде, где автор сознательно или бессознательно использовал мотив Бёклина: грозные кипарисы, странный, словно увиденный во сне замок, приближающаяся к берегу лодка, на носу фигура в белом (сам Виктор в далеком будущем).
Каспар Давид Фридрих и Карл Блехен стали его фаворитами. Виктор считал, что эти немецкие романтики стали непревзойденными пейзажистами, потому что впервые осознали, что пейзаж может отражать состояние души. На него произвели впечатление и рисунки Шинкеля, и такие художники, как Керстинг, Фор, Филипп Отто Рунге и невероятно плодовитый Адольф Менцель.
Итальянские мастера открыли ему глаза на барокко и ренессанс: Строцци, Мантенья, Беллини, Тинторетто и в первую очередь неподражаемый Караваджо, чьи работы он до этого видел только в альбомах. Для него едва ли не самым страшным ударом в жизни стало известие, что картина «Матфей и ангел» Караваджо погибла во время бомбежки Берлина в конце войны. Это была одна из первых картин, к которой подвела его сестра Мелани, и он часто вспоминал, что она произвела на него впечатление разорвавшегося снаряда. Это было просто чудо. Старый мастер, используя всего три основных пигмента, добился потрясающего, почти невозможного эффекта. Когда Виктор узнал, что работа Караваджо уничтожена, он поклялся, что когда-нибудь обязательно восстановит полотно – его память сохранила каждый слой краски, каждую светотень, каждый мазок до мельчайших деталей.
Эта экскурсия словно бы задала тон последующим годам жизни Виктора. Каждую неделю сестра Мелани водила его в какой-нибудь из музеев. Вооружившись книгами по искусству и каталогами выставок, они досконально изучали художественные сокровища города: Национальная галерея, Музей гравюр, Галерея живописи, Музей кайзера Фридриха. Он побывал во всех уголках этих зданий, знал наизусть каждое полотно и каждый рисунок. Он мог часами сидеть с блокнотом на коленях, добиваясь, чтобы рисунок стал частью его самого, не только визуальной, но и чувственной копией оригинала. Он не замечал возгласов восхищения проходящих посетителей, не замечал сестру Мелани, заглядывающую через плечо, – она судорожно вздыхала, ошеломленная талантом своего питомца.
За пару лет, пока новые политические ветры не изменили Германию до неузнаваемости, в Берлине не осталось ни одной работы, которая не была бы ему досконально знакома. Немецкая, английская, французская живопись. Великие голландцы: Ван Дейк и Кейп, де Хоох и Вермеер, Босх и Рубенс. Он углубился в современную живопись: фовизм, кубизм, выставка «Новой вещности»[45] в галерее на Курфюрстендамм, экспрессионизм, футуризм и дадаизм. Искусство округляло бесконечные мантиссы бушевавших в нем чувств до ясных и непререкаемых в своей красоте значений… Он принимал живопись безусловно, полностью открываясь рождаемым ею мыслям, совершенно не обращая внимания, знаменит художник или неизвестен. Поэтому для него стало страшным ударом, когда некоторые из его любимцев вдруг исчезли из музеев. Почему Матисс остался, а Леже исчез, они же так похожи? Почему в залах висит Боннар, а Тулуз-Лотрека как не бывало?
В четырнадцатилетнем возрасте Виктора зачислили учеником в ателье художника Майера на Шкалицерштрассе в Кройцберге. Шел 1934 год. Это было началом его извилистой дороги к зрелости.
Герберт Майер, старый еврей лет семидесяти, выглядел очень молодо. Он сделал себе имя в Берлине как портретист. Его ателье изготавливало также копии классических работ для крупных музеев и рисунки с берлинскими мотивами для фабрики открыток. Виктор стал одним из десяти учеников – их всех разместили в большой комнате над мастерской. В их задачу входило грунтовать холсты и намечать контуры для заказанных картин.
Если сестра Мелани открыла ему двери в мир искусства, то Майер стал его личным проводником. Этот седоватый человек, отец шестерых детей, уехавших искать счастья в Америку, был не только отменным художником, но и выдающимся педагогом. У него было безошибочное чутье на талант. От него не укрылись не только редкое дарование Виктора, но и пробелы в его образовании. Возможно, он видел в Викторе самого себя в юности – одаренный юноша без гроша в кармане, чьи мечты о великом искусстве могут быть легко разбиты горькой действительностью. У Виктора просто-напросто нет денег на обучение, самому же Майеру в свое время было отказано в продолжении художественного образования по откровенно антисемитским соображениям. Он просто не мог не воспользоваться случаем передать свои незаурядные знания молодому художнику, и Виктор получил в дар почти алхимические сведения о свойствах материалов и пигментов, о не поддающихся словесным описаниям тайнах перспективы, а самое главное – умение мыслить руками и глазами, веками передаваемое в наследство от мастера к ученику…
В год поступления в Художественную академию он сделал для Музея кайзера Фридриха свою первую копию барочного полотна. На этом настоял Майер. От Виктора также не потребовалось больших усилий, чтобы произвести впечатление на консервативную приемную комиссию. Он стал едва ли не самым юным студентом в истории академии. Живописное полотно в импрессионистском стиле Тернера было принято восторженно, так же как и несколько набросков углем в духе Шинкеля. На экзамене по рисованию с обнаженной натуры он потряс экзаменаторов каким-то сверхъестественным ощущением анатомических пропорций. И все же образование было бы ему не по карману, если бы сестра Мелани не походатайствовала за него перед епископом. Специально для него католическая община Берлина учредила стипендию, и он поступил в класс профессора Ротманна.
Виктор прожил свои юношеские годы с кистью в руке, совершенно не обращая внимания, какие политические штормы бушевали вокруг. Лишь краем глаза он видел перемены: крикливая пропаганда, вульгарные антисемитские карикатуры в газетах; ни с того ни сего Йозеф Торак и Арно Брекер, любимые скульпторы Гитлера, получают все официальные заказы… он вдруг замечал новую архитектуру, грозную издали и смехотворную вблизи. Время словно ожидало приказа двинуться к катастрофе… Более всего он замечал перемены по экспозициям в музеях: его любимые полотна исчезали, одно за другим, и никто не спрашивал об их судьбе, они оставляли за собой белые квадратные следы на стенах, своего рода эхо никогда не изданного звука; он наблюдал бесконечные полувоенные парады чуть ли не на каждой улице, достаточно широкой, чтобы их вместить, и достаточно тихой, чтобы проникнуться к ним уважением и страхом… И в первую очередь он не мог не заметить плохое настроение и растущую тревогу Герберта Майера и нервозность своих приятелей по Ноллендорфплац.
Насколько Виктор себя помнил, его всегда тянуло к мужчинам. Он этого не стеснялся, хотя и не гордился; это был факт его жизни, такой же естественный, как наличие у него рук и ног и страсть к живописи. К тому же его влюбленности были чисто платоническими, он был стеснителен и любил на расстоянии. Он был слишком молод, чтобы почувствовать преследования, начавшиеся сразу после прихода к власти диктатора. А в первое же лето, когда он решился посетить развлекательный клуб – Виктор был высок ростом и выглядел старше своих лет, – власти сделали послабление: было велено превратить город в «немецкий Париж». Это был 1936 год, год Олимпиады. Закрытые в первые годы нацистской диктатуры клубы открылись вновь, преследования гомосексуалов прекратились. Зарубежная пресса должна понять и почувствовать, что диктатура вовсе не так беспощадна, какой ее некоторые стараются изобразить. Пропаганда пропагандой, но в будничной жизни Виктор почти не замечал поощряемой государством гомофобии, к тому же он совершенно не интересовался политикой. Артист Густав Грюндгенс, за которым годами тянулись слухи о его гомосексуальности, недавно был назначен шефом Прусского государственного театра. Вожди СА – Рём, Хайнес[46] – были откровенно гомосексуальны, и большую чистку в «ночь длинных ножей» многие связывали с борьбой за власть, а не с их «извращенными оргиями», о которых без конца писали газеты.
Столица десятилетиями была прибежищем людей одинаковой с Виктором ориентации, и пройдет еще немало времени, прежде чем нацистам удастся искоренить эту весьма и весьма живучую субкультуру. Может быть, поэтому он воспринимал свои юношеские годы как радостное и беззаботное время. Рабочий день в мастерских Майера кончался в четыре. Он садился на трамвай и ехал в академию, работал до полуночи в одной из учебных студий, а потом шел в один из полулегальных клубов на Ноллендорфплац. Он работал, писал, влюблялся – и так же, как ему не нужны были слова для живописи, так и не нужны они были, чтобы выразить или, по крайней мере, определить свою влюбленность.
Его любимым заведением стал клуб «Микадо» в Шёненберге. Осенью 1937 года – той самой осенью, когда жизнь его изменилась раз и навсегда, – посетители этого клуба представляли собой самую невероятную смесь рабочих, клерков и комиков из соседнего кабаре. Клуб посещали исключительно мужчины (формально – члены музыкального общества), но до сих пор никаких подозрений у местных властей не возникало. Возможно, это объяснялось тем, что сам клуб вовсе не ставил целью привлечь к себе внимание – полуподвальное помещение в темном заднем дворе, никаких афиш, не было даже вывески, извещающей, что здесь находится увеселительное заведение… но есть и другое объяснение: история по неизвестным нам причинам многое оставляет на волю случая.
Для того чтобы посещать «Микадо», надо было стать членом клуба. Разрешалось приводить с собой только одного гостя. Клуб в юридическом отношении находился на своего рода «ничейной земле». Статус частного музыкального общества был надежно защищен законом о некоммерческих организациях, который нацисты к тому времени еще не успели отменить, так что клуб «Микадо» долгое время продолжал спокойно существовать в эпицентре шторма. Виктор стал членом клуба по протекции одного из приятелей по академии.
Для того времени клуб был обставлен весьма оригинально: плетеная бамбуковая мебель; баром служили несколько пальмовых пней, обтянутых мешковиной; на полу – дециметровый слой песка: владелец каждый год завозил вагон свежего песка с берегов Рюгена. Напитки подавались в скорлупе кокоса с натуральными соломинками. Стены были оклеены фотообоями, изображающими пальмовую рощу на берегу тропического океана. Но самой главной достопримечательностью была детская электрическая железная дорога производства фирмы «Мерклин». Крошечный поезд бежал по периметру зала, а декорации представляли собой мангровые болота в миниатюре, заросли пальм, песчаные берега, пышные плантации, даже искусственные водопадики, приводимые в действие замысловатым гидравлическим механизмом. На платформах вагонов стояли сувенирные рюмочки с аквавитом, и при желании можно было нажатием кнопки остановить поезд и взять свой шнапс.
Патефон был предоставлен гостям. К услугам посетителей было множество американских пластинок – владелец «Микадо» покупал их у контрабандистов. В то время, всего через несколько лет после введения диктатуры, музыкальная цензура была еще не такой жесткой. Имелась также небольшая комнатка, куда могли удалиться страстно влюбленные пары… это убежище было переделано из склада и обставлено в стиле доисторической пещеры: лаз был таким низким, что туда приходилось заползать на четвереньках.
Необычным был и персонал. Два бармена, в коротких штанишках и гольфах, стояли за стойкой бара. Третий днем работал реквизитором в оперном театре, а по вечерам менял имя – становился Лолой, носил вызывающе скроенное вечернее платье и блондинистый парик с волосами до лопаток. С сигаретой в длинном черном мундштуке он был невероятно похож на Марлен Дитрих в «Голубом ангеле».
После короткой передышки, связанной с суетой вокруг Олимпиады, сборища людей сомнительной сексуальной ориентации вновь стали вызывать интерес властей. Облавы, аресты, погромы – они не брезговали ничем. Кирпич, брошенный в окно, или письмо с угрозами – и неосторожные хорошо понимали, что их ждет. Клубы закрывались один за одним – в равной мере из страха и соображений разума. Владельцы устали от постоянного напряжения, от появлений гестаповцев в гражданской одежде – те заказывали выпивку и долго наблюдали за происходящим в надежде обнаружить признаки «содомистской» деятельности. Они и в самом деле устали. Они вздрагивали каждый раз, когда входная дверь открывалась слишком резко или слишком поздно, когда приходили незнакомцы, они устали притворяться, что ничего противозаконного не делают: дескать, клуб как клуб, кафе как кафе, общество как общество, – они старались, как могли, предотвратить облаву, но все было напрасно. «Микадо» не был исключением. Нежелательный визит стал неизбежностью, это был всего лишь вопрос времени.
Когда разразилась катастрофа, Виктор был в клубе. Поезд с аквавитом как раз остановился перед столиком, где он сидел рядом с незнакомцем, углубившимся в газету. Дверь с грохотом отворилась, и в клуб вломилась дюжина парней в форме. Они начали переворачивать столы, кто-то выстрелил в воздух. Виктор инстинктивно бросился на пол.
В суматохе ему удалось незаметно отползти к входу в «пещеру». Он быстро забрался туда, огляделся, чем бы замаскировать вход, и обнаружил, что его насмерть перепуганный сосед ищет, где укрыться. Виктор схватил его за ворот, втащил в грот и прикрыл вход фанерным щитом.
Из зала доносились звуки, похожие на взрывы, – там явно били посуду. Маленькая красная лампочка почти не освещала их убежище. Виктор никогда здесь раньше не был, ему мешала застенчивость. Он с любопытством огляделся, словно происходящее за стеной не имело к нему никакого отношения. С потолка свисали искусственные сталактиты. В песке – пепельницы на высоких ножках. Стены были выкрашены слабо фосфоресцирующей краской, а на полу посредине комнаты стояли удобные козетки. На сервировочном столике – пустые бутылки из-под шампанского и портрет Марлен Дитрих с автографом. Здесь мужчины занимаются любовью с мужчинами без всякого стеснения, успел подумать он, но тут его вернули к действительности донесшиеся из зала пистолетный выстрел и душераздирающий крик. Он никогда раньше не слышал, чтобы человек так кричал, это был даже не человеческий, а звериный вопль, и Виктор понял, что так может кричать только тот, кто чувствует неизбежный и скорый конец. На что ему было надеяться? Он рассчитывал, что тут есть хотя бы пожарная дверь на задний двор, но в помещении не было даже окна.
– Что будем делать? – спросил незнакомец так тихо, что Виктор еле его расслышал.
Темноволосый южанин, его ровесник или чуть постарше. Черты лица нерезкие от ужаса, будто он не в состоянии придать им какое-то выражение.
– Не знаю, – ответил он, пытаясь нащупать выключатель.
Наконец выключатель обнаружился прямо за его спиной. Он погасил лампу.
– Рано или поздно они нас найдут. Ты ведь знаешь, что они делают с такими, как мы…
– Как тебя зовут? – спросил Виктор. Он чувствовал, что собеседника вот-вот покинут остатки самообладания. Может быть, простой вопрос поможет ему немного успокоиться.
– Хаман. Георг Хаман… какая разница? Мы должны во что бы то ни стало выбраться отсюда… О боже, здесь нет ни дверей, ни окон…
Из ресторана доносились ругань, односложные выкрики, какие-то короткие приказы. Еще два выстрела прозвучали до странности глухо, будто кто-то ударил молотком по толстой чугунной болванке. Потом послышались всхлипывания, похожие на плач ребенка.
Глаза Виктора постепенно адаптировались к темноте – теперь единственным источником света было вентиляционное отверстие. Хаман держал в руке портрет Марлен Дитрих.
– Это я сделал, – прошептал Хаман.
– Ты фотограф?
Снова донесся грохот разбиваемой посуды, должно быть, о человеческие головы, подумал Виктор, а может быть, бьют прямо по лицам, нанося страшные, долго не заживающие раны. Невероятно, но кто-то поставил пластинку; звуки джаза заглушали крики.
– У меня даже фотоаппарата нет. Я купил портрет у букиниста. Очень дешево. Народ избавляется от портретов Дитрих.
– Это что, запрещено – иметь портрет Дитрих?
– Не напрямую, но с момента ее эмиграции это выглядит… скажем так, вызывающе. Во всяком случае, былого спроса нет, и я купил портрет задешево… Сейчас в моде Сёдербаум и Леандер… все эти шведские звезды. Ну и кто угодно, главное, чтобы был предан партии. Приятели Геббельса. Карл Раддац и ему подобные типы.
Беседа его заметно успокоила. Он даже оживился.
– Автограф я сделал сам и продал хозяевам «Микадо» – они обожают Марлен! И дешево продал… для настоящего автографа.
– Но он же не настоящий.
Хаман улыбнулся.
– А какая разница? Автограф сделан идеально. Никто и никогда не отличит его от оригинала.
– Ты хочешь сказать, что продал им подделку?
– Дешево! Десять марок и клубная карточка. Собственно, меня именно карточка и интересовала. Я не прохожу по возрасту… мне всего девятнадцать.
– Ты их надул!
– Я бы это так не назвал. Я сделал их счастливыми за очень и очень умеренную плату. Лола даже прослезилась. Автограф Марлен!.. Кстати, если ты член клуба, думаю, ты тоже соврал насчет возраста. Ты не старше меня.
Хаман замолчал и прислушался. Из зала донесся странный звук, как будто что-то волокли по песчаному полу. Мебель? Или тела убитых? Виктор сделал глубокий вдох и задержал дыхание.
– Фокус в том, чтобы перевернуть подпись вверх ногами, – еле слышно продолжал Хаман. – Ты как бы обманываешь самого себя – перед тобой уже не имя, а просто какая-то загогулина, и ты спокойно ее перерисовываешь. Куда труднее копировать известное имя, чем бессмысленную закорючку.
Это логично, подумал Виктор. Лишенную смысла фигуру и в самом деле легче скопировать, чем подпись. Так устроен наш мозг: геометрическое мышление.
– Так это то, чем ты занимаешься? Подделываешь автографы?
– И этим тоже. Надо же как-то крутиться… Меня выгнали из дома, когда узнали, что я… ну, ты знаешь… не такой, как все.
Виктор вдруг обратил внимание, что в зале стало тихо. Музыка прекратилась; слышен был только скрип патефонной иглы, царапающей пластинку. Хаман был совсем близко. Он сжал его кисть ладонями: они были холодные и влажные, будто он только что вынул их из ведра с ледяной водой.
– Ты боишься? – спросил он.
– Что за вопрос? Конечно, боюсь.
– Нет-нет, я имел в виду вообще… тебе не страшно, что будет потом? Куда идет страна?
– Пожалуйста, говори потише. Немного подождем, а потом попробуем выбраться отсюда.
– Ты же понимаешь, они не успокоятся, пока мы не исчезнем с лица земли… пока они нас не ликвидируют, всех до одного… извращенцев, уранистов, психических гермафродитов… или как там еще они нас называют.
Они стояли так близко друг к другу, что Виктор чувствовал тепло его кожи. От незнакомца исходил сладковатый запах пота, одеколона для бритья… и еще какой-то трудноопределимый запах… запах оптимизма, воли к сопротивлению.
Хаман наклонился и поцеловал его. Это было настолько неожиданно, что Виктор даже не успел удивиться. Его никогда до этого не целовал мужчина. Он всегда мечтал об этом, но не решался. Уже два года он постоянно посещал клубы вроде «Микадо», нелегальные бары, работающие под видом певческих или шахматных кружков, – и все два года надеялся, что это когда-нибудь произойдет. Мужчины флиртовали с ним, более зрелые и опытные пытались познакомиться с ним поближе, но застенчивость не позволяла ему пойти дальше чем рукопожатие, короткая ласка, прикосновение к прикрытому одеждой телу… Язык, этот маленький влажный зверек, коснулся его десен, нёба, уздечки верхней губы, обвился вокруг его собственного языка… очень мягко и очень нежно. Он вдруг представил себе брачные игры аквариумных рыбок. Чувства не переставая телеграфировали ему: Хаман пахнет табаком и простудой, отросшая щетина на бороде трет ему щеки, как наждачная шкурка трет грунт на полотне, глухой щелчок, будто столкнулись две фарфоровые чашки, – это их передние зубы коснулись друг друга… Они улыбались, не прерывая поцелуя. Виктор потрогал ягодицы Георга, провел пальцами вокруг талии, по шву брюк, коснулся гульфика… но тут он почувствовал что-то, какой-то холодок – и они отпустили друг друга.
– Я не могу, – сказал Хаман. Глаза его печально светились в полутьме. – Я здесь не один… и так нельзя, это неблагородно… А может быть, он ранен? Или убит?
Момент прошел, сейчас казалось вообще невероятным, что между ними пробежала эта искра – только что Виктора сводила с ума нежность, теперь ее сменил страх.
– Ты постоянно с ним?
– Да, уже год. Он спортсмен… борец. До него мне все изменяли… я не хочу его потерять… Наверное, там никого нет… тишина…
Момент безумия, внезапная страсть, насаженная на штык страха… ее как будто и не было. Они подползли на корточках к выходу и отодвинули щит. В зале повсюду валялась мебель, поставленная на попа стойка бара возвышалась над ними, как средневековая башня, прикрывая вход в убежище. Это их, по-видимому, и спасло.
От «Микадо» осталось одно воспоминание. В песке лежали ножки стульев, кокосовые орехи, миксеры, поломанные столы, битое стекло, бутылки… все это выглядело как остатки кораблекрушения. На стене были видны темно-красные пятна, и у них не было никакого желания устанавливать их происхождение. В мойку из крана текла вода, заливая месиво из кусочков льда, песка, поломанных бамбуковых палок и еще чего-то… похоже на парик Лолы. Игла продолжала ритмично царапать пластинку, напоминая стихотворение о бессмысленности существования.
– Мы уцелели, – сказал Хаман. – Если и были убитые, они уволокли их с собой.
Игрушечный поезд потерпел крушение в спичечной бамбуковой роще; пролитые рюмки аквавита и кюммерлинга[47] валялись рядом с мигающим семафором; миниатюрный шлагбаум беззвучно поднимался и опускался каждые пять секунд.
«Жоподёры» – гласила надпись губной помадой на зеркале над входом. Это помада Лолы, вдруг понял Виктор. Ее платье валялось на полу. Лужи крови впитались в песок, образовав ржавые комки.
– Если не возражаешь, – сказал Хаман и вытащил из кассы горсть купюр, неизвестно каким чудом оставшихся нетронутыми. – Там, где Лола сейчас, вряд ли думают о вечерней выручке.
Плафоны на потолке тоже были разбиты, голые лампы светили ярко и неприятно. У Хамана, разглядел Виктор, на переносице и скулах было множество веснушек. Шрам, похожий на сабельный, шел от уголка рта к виску, что придавало ему веселый вид – он чем-то напоминал клоуна.
– Коричневорубашечники, – сказал он и потрогал щеку, как раз в том месте, куда смотрел Виктор. – Два года назад в Тиргартене… ну там, где наши встречаются, ты знаешь… Они прятались в кустах. Я легко отделался – парень, с которым я был, получил пулю в живот. А меня они полоснули ножом и отпустили.
– Мы встретимся еще?
– Может быть… возьми вот это…
Он протянул визитную карточку. «Г. Хаман, – стояло там. – Филателия и автографы. Кнезебекштрассе 27, Берлин, Шарлоттенбург».
– Я снимаю комнату. Квартирная хозяйка не позволяет пользоваться телефоном. Ты можешь заглянуть ко мне, скажи только, что интересуешься марками… Она уверена, что я помолвлен. «Не пора ли жениться, господин Хаман, – повторяет она каждую неделю, – пора уже вести вашу девушку в ратушу, не забудьте только спросить у нее справку об арийском происхождении, прежде чем давать клятву верности». У меня иногда появляется желание сказать: «Ничего подобного не будет, госпожа Хайнце, меня интересуют только мужчины. Большие и волосатые, маленькие и лысые, худые и толстые, любой подойдет, был бы хороший огурец между ног». Честно говоря, я бы дорого заплатил, чтобы увидеть ее физиономию. Она член их партии, квартальный надзиратель в Volkwohlfahrt. Во всех четырех окнах флаги – пропустить невозможно. Так что заходи, если надумаешь…
Мы не сделали ничего плохого, подумал Виктор. Ничего грешного. Это не мы уроды. Уродлив мир. Никому мы не причинили вреда, это не мы разгромили «Микадо»… Вот так устроена жизнь: протягивает визитную карточку из бездны, сводит посреди кровавой катастрофы двух юношей… и нельзя определить, что плохо, а что хорошо, и никому не придется ни за что отвечать, потому что бытие лишено справедливости.
– А ты не интересуешься автографами?
– Поддельными?
– Недорого. Ты хорошо целуешься. Что скажешь, например, об автографе парня, который за всем этим стоит? Самого Адше, нашего любимого вождя?
Из внутреннего кармана пиджака он достал пачку фотографий; на самом верхней был изображен Гитлер у чайного стола со своей любимой овчаркой, в гражданском платье. Автограф гласил: «С лучшими пожеланиями, Адольф Гитлер».
– Возьми любую. На память. Хорошо заработаешь. Партийные фанатики отдадут последнее за подлинную фотографию фюрера… У меня и Геринг есть, в старой летной форме. И Рифеншталь… она после Олимпиады распоряжается огромными деньгами. То же со Шмелингом; у меня есть его фотография в белых боксерских перчатках, запачканных кровью. «Спортивный привет от Макса» – и подпись.
Виктор взял несколько подписанных фотографий.
– Пошли отсюда, – сказал Хаман, – а то они вспомнят, что забыли раскурочить железную дорогу Мерклина, и вернутся. В полиции нравов служат основательные типы.
И они ушли вместе, непокорно выпрямив спины… Они вышли на задний двор, где обыватели приседали за полузакрытыми шторами, потом на улицу… и пошли, пошли, словно бы ничего особенного и не случилось на Ноллендорфплац.
Когда Виктор тем же вечером доехал надземкой до Гёрлитцен Банхоф, была уже полночь. Пережитый им ужас постепенно перешел в желание хоть как-то запечатлеть его в изображении. Тушь… или акварель, какой-нибудь материал с высокой энтропией, только не масло с его неторопливостью. Мотив рос, обретал динамику и форму – надо было спешить. Будущий рисунок заполнил всю его душу, все эти странные залы и чуланы сознания, где создаются и хранятся цветовые и пластические аккорды… но недолго, совсем недолго: их вытесняют другие, а потом и те растворяются – слишком большой объем, память с ее ограниченными ресурсами не в состоянии хранить столько информации. Но сейчас он шел по улице, и мотив обрастал деталями, элегантными формами, трущимися друг о друга геометрическими узорами, размытой перспективой. На своем внутреннем полотне Виктор уже создал этот рисунок, но он знал, что он недолговечен, надо как можно скорее перенести его куда-то, прежде чем он утонет в себе самом.
Картина должна была представлять разгромленный «Микадо», а среди разгрома – люди с портретов, лежащих у него во внутреннем кармане пиджака. И сам он тоже там, как и фальсификатор автографов Георг Хаман. Высвобожденные из оков центральной перспективы, они целуются на заднем плане со всей страстью, которую только можно передать посредством теней на лицах влюбленных. Они невидимы для преступников, словно ангелы в земных одеждах, губы страстно приоткрыты, вьются языки, словно две яркие коралловые рыбки… а Макс Шмелинг и Лени Рифеншталь (один в окровавленных боксерских перчатках, другая с неизменной кинокамерой) с удовольствием любуются результатами погрома. Хромой Геббельс блюет в раковину с Лолиным париком на голове, а Гитлер оставляет автограф – губной помадой на входе в грот, где они прятались.
Он был в Кройцберге, чуть к юго-западу от центра Берлина, в двух шагах от мастерской Майера. Его словно привела сюда невидимая рука – настолько необоримо было желание взять в руки карандаш, настолько страшно было пережитое.
На улице не было ни души. Фонари погашены. В витринах свастики… эти свастики, как и другие детали, походя впечатывались в палитру. Он вдруг увидел другую картину: игрушечный поезд везет рюмки с кроваво-красным содержимым. На первом плане – Лола. Она стоит у входа в «Микадо» с песочными часами в руке… нет, это было бы чересчур аллегорично. Лола уступила место волку в женском платье – волк сурово проверял членские билеты у полицейского патруля, которому не терпелось полюбоваться погромом.
Он свернул за угол и пошел по Шкалицерштрассе, поглощенный внутренними видениями. Воображение подкидывало ему картинку за картинкой, они были ничуть не менее реальными, чем улица, по которой он шел. Они занимали уже законное и неоспоримое место в четырех измерениях физического универсума, как, допустим, брусчатка под его ногами, или судорожно глотаемый холодный октябрьский воздух… или пережитый им страх смерти, еще шевелящийся в груди. Он шел и работал, молча, погруженный в себя. Надо было сразу решить формальную проблему встречи основных тонов с перспективой, он добавлял и отбрасывал детали… Вдруг ноги его остановились, хотя он как будто никакого приказа им не отдавал – он понял, что находится в двадцати метрах от мастерской Майера.
У дома, заехав передними колесами на тротуар, стояла полицейская машина, освещая фарами фасад. Никого не было видно, только в соседских окнах шевелились шторы. Дверь подъезда открылась, и полицейские в гражданской одежде выволокли на улицу двоих насмерть перепуганных людей.
Все это происходило в полном молчании, запомнившемся Виктору на всю оставшуюся жизнь. Живопись лишена звуковой палитры, она может звучать разве что в фантазии зрителя, так и сейчас, несмотря на тишину, он слышал какой-то внеакустический, пронзительный звук. Нос Майера был разбит и свернут на сторону, верхняя губа лопнула, напоминая врожденный дефект, зубы выбиты. Госпожа Майер была совершенно голой, на ней не было даже ночного белья, и самое страшное, страшнее, чем окровавленное лицо, было вот что: в руке она сжимала вставные зубы, словно последнюю ниточку, позволяющую ей сохранять достоинство.
Все так же, в молчании, полицейский открыл дверцу и с неожиданной осторожностью помог супругам Майер влезть на заднее сиденье. Машина зажужжала, как насекомое, и медленно выехала на улицу. Только когда она исчезла, мир вновь наполнился звуками: где-то залаяла собака, скрипнуло окно у соседа, с грохотом, как внезапные раскаты грома, промчался поезд надземки…
Герберт Майер вернулся через две недели, чтобы закрыть мастерскую. Вышел новый закон – неарийцам было запрещено заниматься связанной с искусством коммерческой деятельностью. Его и супругу якобы заподозрили в нарушении этого закона, арестовали и отвезли в тюрьму в Тегеле. Никто так и не узнал, как ему удалось выйти на волю, никто так и не узнал, что случилось с его женой. Он приехал один, сразу после полудня, и не обмолвился ни словом ни о судьбе жены, ни о том, где он был и что с ним делали. Ученики его не узнали. Он совершенно поседел, как-то съежился, одежда висела на нем как на вешалке… он лишь отдаленно напоминал их учителя. Он коротко объяснил, что прекращает свою деятельность и собирается как можно скорее покинуть страну. Все свободны. Он, к сожалению, не может им предложить ничего, кроме материалов и инструментов в мастерской.
Семнадцатилетний паренек стоял крайним слева среди учеников, окруживших своего учителя. Он был на распутье. В его юной жизни настал час ноль. Без работы, это-то он понимал прекрасно, оплачивать обучение в академии будет нечем.
– Коричневая мразь только и думает, как бы нас уничтожить. У них из-за нас бессонница, они ночью таращат глаза в темноту и думают, как избавиться от этой язвы. Им даже извиняться не нужно. Германская раса под угрозой, а наше существование – угроза всеобщему размножению. Мы же постоянный источник опасности разложения нации, мы с нашим искусством обольщения в состоянии развратить множество честных немецких рабочих со скрытыми педерастическими наклонностями, о которых они и сами не подозревают! Взгляд в лифте, вовремя подставленное бедро в трамвае – этого довольно, чтобы невинного доселе человека заразить вирусом гомосексуальности. А дети! Они утверждают, что мы и детей вовлекаем в разврат, не успеет ночь спуститься над Тиргартеном. Онанирующий гомик в кустах, разве можно с таким мириться? Вот он сопит с пакетиком сливочной колы в руке: «Иди сюда, малыш, обними дядю, получишь карамельку, и обещай, что никому не расскажешь!» И солдат из нас не сделаешь, разве что из моего борца Морица. В ночных кошмарах генерального штаба без нас тоже не обходится: они уверены, что армия может превратиться в змеиное гнездо, они боятся гомосексуальных оргий, драк между бородатыми парнями в форме, которые обожают оперу и успевают попудриться, когда командир отвернется. А что начнется в казармах! Кокетливые мужики в париках сидят и дрочат круглые сутки, и никто не слушает команду. Эти поганые коммунисты и то лучше, у них все-таки есть партийная программа и хоть какая-то дисциплина. На шкале мерзости мы стоим ниже всех, просто-таки неполноценные, вроде евреев, вонючий вырост на чистом теле народа, который надо отрезать, пока не распространилась зараза…
Георг Хаман замолчал и критическим взором оглядел вывеску, которую Виктор привинчивал на фасаде над магазинчиком по Горманнштрассе в Восточном Берлине.
– Чуть левее… вот так, затяни верхний болт. И поосторожней, я не хочу, чтобы ты загремел оттуда и пополнил статистику несчастных случаев среди немецких содомитов.
На эмалированной вывеске было написано готическим шрифтом: «Братья Броннен. Филателия и автографы». Итак, они теперь братья, по крайней мере в деловом отношении. А ничего не говорящая фамилия Броннен, идеально немецкая и идеально мелкобуржуазная, – что может быть лучше в стране, возведшей все немецкое и мелкобуржуазное в идеологическую догму.
– И все же немножко косо… Возьми уровень… и пожалуйста, внимательнее, ступеньки обледенели.
– Все в порядке, Георг, не волнуйся, лучше передай мне отвертку.
– Роберт! – воскликнул Хаман. – С сегодняшнего дня – только Роберт. Так в бумагах: Роберт и Густав Броннен. Беженцы из Судет. Погодки – двадцать два и двадцать три. Совершеннолетние, имеют право заниматься коммерческой деятельностью. Попытайся вбить это в свою мечтательную художественную башку. Нельзя же путаться в таких основах, как собственные имена. Вся наша работа построена на доверии заказчиков – они должны твердо знать, с кем имеют дело. Мы честны, благородны, расово чисты и всегда готовы положить глаз на блондинку с высокой грудью с целью производства нового солдата для вермахта. Одна лишь проблема, Виктор, – народ все туже затягивает пояса.
– Густав, если мне дозволено будет заметить, дорогой старший братец. Не Виктор, а Густав. И держи крепче лестницу, я закончил.
Густав Броннен, он же Виктор Кунцельманн, вновь родившийся молодой человек с новым именем, новым годом рождения. Этот генеалогический саженец, готовый начать жизнь с нуля, спустился на землю и критически осмотрел витрину филателистической лавки. В самом центре витрины лежал плакат, изображающий французскую пятнадцатисантимовую марку, зеленую, первого завода знаменитого 1873 года, – это была лакомая наживка для филателистов Митте.
Жизнь полна неожиданностей. Документы их не вызывали никаких сомнений: они раздобыли их с помощью подделанной чешской выездной визы. Поставили в Праге печать на подлинном бланке немецкого консульства, достали справку от благотворительной организации в Судетах, подтверждающую их статус беженцев и право на возмещение утраченного имущества во время предшествующего оккупации спонтанного бунта (утрачена была лишь крошечная филателистическая лавка, но все же!), и самое главное – врачебное заключение об освобождении обоих братьев от воинской повинности (хронический туберкулез). В эту зиму, когда бряцание оружием стало оглушительным, такая справка была важнее всего.
Еще не было восьми. По главной улице квартала, Розенталерштрассе, грохотали трамваи, везя рабов канцелярий на Александерплац. Там они рассеивались в подземном круге городского кровообращения, по венам и артериям метрополитена. Господа с напомаженными усами в костюмах и толстых драповых пальто, секретарши с наклеенными арийскими улыбками в плиссированных юбках, эсэсовцы в начищенных сапогах, понурые рабочие, не выказывающие ровным счетом никаких политических симпатий, мелкие служащие с шикарными шевелюрами и в стертых на локтях пиджаках… Кислые прусские физиономии, коробки с едой, теснота, ругань, гитлерюгенд, пропагандистские плакаты на каждой тумбе между Ораниенбургерштрассе и площадью Хорста Весселя: «Нужна твоя помощь!», «Содержи Германию в чистоте!», «Евреи – вон!»… И наверняка среди этого люда найдется немало филателистов.
Похолодало – минус четыре. С небес цвета заветренного мяса сыпал колючий снег. На Горманнштрассе под вывеской «Братья Броннен» стояли двое молодых людей и, не замечая непогоды, курили сигариллы.
– Здесь рядом была первая контора Хиршфельдта, – сказал Георг. – Потом он переехал на Бетховенштрассе. А на углу Мулакштрассе – ресторан Содкеса, традиционное место встречи единомышленников. Мы, можно сказать, в знаковом районе.
– Содкеса я знаю, а кто такой Хиршфельдт?
– Магнус Хиршфельдт! Это же верх невежества – не знать, кто такой Хиршфельдт! Известный исследователь сексуальности. Защитник гомосексуалов. Сам гомофил. Руководил созданным им институтом сексологии. Издавал газету для педерастов «Третий пол». Основатель извращенческого «Немецкого общества дружбы». Едва нацисты пришли к власти, тут же спалили институт до основания. Даже с еврейским вопросом они так не торопились… одним ударом убили трех зайцев: парень был не только педераст, но еще и еврей, а в довершение всего – социал-демократ. Апостол разврата, как его называли штурмовики.
– Не говори так громко, брат Роберт. Зайдем в помещение.
– Дай мне насладиться сигариллой! И потом, мы одни. Еще и восьми нет.
Он был прав. На Горманнштрассе было пусто, если не считать понурого коняги, прозванного местными остряками Бисмарком. Бисмарк был запряжен в телегу с коксом угольщика Краузе.
– И то, что они первым делом сожгли институт Хиршфельдта, показывает, насколько для них важен вопрос о гомосексуалах. Сначала занялись гнусными содомитами, а потом уже всем остальным. Это называется демографической политикой… лучше бы назвали диктатурой размножения. Гомосексуалы не делают детей. Их семя расходуется на извращенческие удовольствия. Альфред Розенберг и другие партийные идеологи на полном серьезе полагали, что от нас исходит опасность, что мы с Рёмом, Хайнесом и их мальчиками во главе можем захватить власть в государстве. Гомосексуальный заговор! Поверь мне, тут-то плотина и лопнула. После этого все уже было дозволено. Ату их, педрил, коммунистов, недочеловеков! Сожги их клубы, партийные конторы, синагоги! Но ты, может быть, ничего этого и не заметил в академических студиях?
Виктор вспомнил Майера. Из надежных источников он знал, что тот в Англии, в безопасности. Успел в последнюю секунду.
– Я знал многих, кто исчез… Скульптор с моего курса сидит в каталажке. Нарушение параграфа 175.
– Ну, это он легко отделался. Ходят слухи, что они кастрируют гомосексуалов. Зачем? Мы же не собираемся размножаться… – Хаман бледно улыбнулся. – В этом городе не осталось ничего, что я любил… Куда делись атмосфера, чувство свободы, либеральный дух? Мне было пятнадцать, когда я приехал сюда из Гейдельберга. Отец, как ты знаешь, был профессиональным военным. Дома царила казарменная дисциплина. Даже пустые бутылочки в кухонном шкафу выстраивались в кавалерийские формации. А потом меня выгнали из дома, чему я, кстати, был очень рад, – и вот в один прекрасный день я стоял на Анхальтер Банхоф и вдыхал запахи Потсдамерплац. Я начал ошиваться по клубам с первого же дня… не спрашивай, откуда у меня были деньги, а то мне придется вываливать кучу безвкусных подробностей… похотливые старики в Хазенхайдпаркен… но клубы, Виктор, клубы! «Эльдорадо» и «Зауберфлёте», «Дориан Грей» на Бюловштрассе. Бар «Монокль» в Вестенде, «Силуэт» с фонтанами из шампанского и голыми до пояса официантами. В «Мильхбар» работали три африканца… куда они делись, можно только догадываться. «Кумпельнест» был совсем рядом, на Вайнбергвег. Сейчас это клуб «Гитлерюгенд». Ты когда-нибудь состоял в гитлерюгенде?
– У католиков были свои скаутские клубы.
– А я состоял… незадолго до того, как меня выперли из дома… как я ненавидел весь этот тирольский йодль, пешие марши… Борьба в вонючей грязи под звуки Баденвайлер-марша. Бодрые песни в строю. Бабаханье в лесу из деревянных ружей. Ломающиеся голоса и пробивающиеся усики… В летнем лагере в Гейдельберге я впервые поцеловался. Парень был перепуган до смерти – это же очевидное нарушение сто семьдесят пятого параграфа!
Несмотря на всю свою мечтательность, Виктор знал, о чем говорит Хаман. Параграф 175, или, как его называли в народе, педрильный закон, был введен почти сразу после прихода нацистов к власти. Нарушителям грозили большие сроки. А в случаях, когда были замешаны эсэсовцы или речь шла о совращении малолетних, – смертная казнь. «Все злобные поползновения еврейского духа собраны в гомосексуализме» – прочитал он недавно в «Фолькишер беобахтер»[48], попавшейся ему в кафе на Ку-дамме[49]. А совсем недавно, на заседании Министерства юстиции, президент сената Клее подвел итог: «Государство крайне заинтересовано, чтобы в основе нашей жизни лежало нормальное общение полов, избавленное от влияния гомосексуализма и других извращений».
– Это всего лишь начало, – сказал Георг. Вид у него был такой, словно он только что проглотил яд. – Будет только хуже, я это ясно чувствую. Осторожность, Виктор… главное слово для нас – осторожность. Государственный центр борьбы с гомосексуализмом, новое любимое детище дядюшки Гиммлера в полиции безопасности, получил фактически неограниченные полномочия. Шефа зовут Майзингер, Йозеф Майзингер… запомни это имя. Людей, если не убивают на месте, то загоняют в концлагеря, как Лолу и других из «Микадо». У них полно осведомителей, провокаторы пристают к мужчинам, чтобы проверить их ориентацию. В городе не осталось ни одного клуба, люди перепуганы до смерти. Многие даже перестали здороваться со старыми знакомыми.
– Давай зайдем в помещение, – сказал Виктор, – я замерз.
– О черт! Я пытаюсь вбить тебе в голову, насколько все серьезно. Мы и так занимаемся небезопасным делом, но еще опаснее, если обнаружится, что тебя интересуют мужчины. Честно говоря, нам следовало бы обзавестись прикрытием… раздобыть каждому по невесте.
– Надо подумать… Слушай, я совершенно заледенел.
– Только думай не слишком долго. И если тебе в трамвае начнет улыбаться какой-нибудь красавец, смотри в пол…
В филателистической лавке на Горманнштрассе стоял только что купленный камин. После пронзительно-холодного берлинского воздуха он казался чудом. Виктор и Георг наслаждались атмосферой своего заведения – они потратили несколько месяцев, чтобы сделать его привлекательным для филателистов Восточного Берлина. Планшеты с известными марками украшали стены: Тоскана номиналом в три лиры 1860 года, прекрасный тет-беш[50] 1849 года, несколько редких кайзеров начала века. «Раритеты» были выставлены в стеклянных стендах вдоль стен: квартблоки со всех углов Европы, конверты первого гашения и редкие колониальные марки. Большинство марок было куплено на аукционах – Георг получил небольшое наследство, но не так уж мало было и подделок, изготовленных неким Виктором Кунцельманном. Оказалось, у него незаурядный талант в этой области. Настолько незаурядный, что Георг в последнее время занимался исключительно деловой стороной, а всю тонкую и не прощающую ошибок работу с цинковыми пластинами и высокой печатью передоверил своему академически вышколенному коллеге.
На втором этаже они снимали квартиру под новыми, судетскими, именами: две комнаты с кухней и ванной. Соседей никаких не было – дома по соседству подлежали сносу.
За кассой висели несколько подписанных портретов, поскольку, как гласила вывеска, здесь торговали также и автографами. Какие из них подлинные, а какие нет, они и сами уже не могли определить. Роберт Броннен один день в неделю посвящал стоянию у подъезда киностудии УФА с портфелем, набитым фотографиями кинозвезд. Когда кто-то из них мелькал в окне «мерседеса», юный Роберт Броннен, с заискивающей улыбкой фанатика и парой заранее подготовленных комплиментов, был из первых, кому удавалось раздобыть автограф. За короткое время ему посчастливилось раздобыть подписанные портреты Вайта Харлана (прославленный режиссер «Юности», «Бессмертного сердца» и «Скрытого следа», все с Кристиной Сёдербаум в главной роли), Ольги Чеховой, Ильзе Вернер, Хайнца Рюмана и ни больше ни меньше как автограф жены самого министра пропаганды, Магды Геббельс. Эти палеографические редкости висели теперь на почетном месте в лавке братьев Броннен, обещая беспечальную жизнь тем, кто был готов их купить. Помимо этого, были автографы и других кинозвезд, певиц и спортсменов, аккуратно разложенные по папкам в алфавитном порядке… подделанные, разумеется, но настолько искусно, что само слово «подделка» теряло свой этимологический смысл. Цены, скажем, на портрет австрийского суперфутболиста Карла Зишека или кинодивы Марики Рокк были вполне приемлемыми. Не говоря уже о смехотворно дешевых автографах политических героев дня, вроде похожего на лунатика Гесса, бывшего торговца шампанским Риббентропа (его фигура и в самом деле напоминала бутылку из-под шампанского). И даже подпись самого Гитлера, сделанная на картонной подставке под кружку из мюнхенской пивной Бюргбраухоф, стоила сравнительно недорого. По датам получалось, что фото подписано в состоянии аффекта за день до мюнхенского путча в 1923 году. У них была дюжина экземпляров «Майн Кампф», не считая стопки «Мифов ХХ века», с дружеским приветом от идеолога партии Альфреда Розенберга. Прочитать «Майн Кампф» Виктор так и не удосужился.
– Надо бы повесить на стену портрет нашего великого вождя, – сказал Георг, словно перехватив мысль своего компаньона, – чтобы ясно показать, каковы наши политические взгляды в эту годину провокаций против отечества.
– А это не будет… преувеличением?
– Почему? Все деловые люди вешают. Страна на грани войны. Англичане ставят нам палки в колеса, не соглашаются с законностью нашей территориальной экспансии. Французы прекратили экспорт сыров. Поляки без конца провоцируют нас на границе. Чехи, похоже, не особо довольны нашей бескорыстной помощью. Скоро только один Муссолини останется… Немного патриотизма очень уместно в такие времена. Представь себе – Великий Вождь между Ольгой Чеховой и Гансом Альберсом среди других кинозвезд. Крупный формат. Овчарка у ног, готовая по команде «апорт!» принести ему в зубах утраченную честь нации…
Георг запустил руку в карман брюк и извлек два значка. Один протянул Виктору – это была эмблема партии.
– Потрясающе, Роберт! Ты записал нас в партию! Когда я получу партбилет?
– Через несколько дней по почте. В местной партийной канцелярии страшная суматоха. Очередь желающих не кончается никогда. Но для влиятельных судетских немцев сделали исключение.
Они укрепили значки на лацканах только что купленных пиджаков, кобальтово-синих, с названием фирмы «Братья Броннен», вышитом на нагрудном кармане.
– А в самом деле, Виктор, почему бы тебе не написать его портрет?
– Лучше купим в ближайшем сувенирном ларьке плакат в раме и повесим.
– Я не шучу. Как мера безопасности… Чем более преданными партии мы покажемся, тем лучше пойдут дела. В мастерской есть кисти и холст…
Первым посетителем их лавки оказался рассыльный Мориц Шмитцер, для посвященных – приятель Георга по прозвищу Митци, а для более широкой общественности – Волк, чемпион Берлина по борьбе в легком весе.
– Как коммерция? – спросил он, стряхнул с кепки снег и огляделся. – Карточки на кокс вам, похоже, не нужны – здесь как в сауне за час до взвешивания.
Мориц поцеловал своего любовника в щеку, и Виктор почувствовал легкий укол ничем не мотивированной ревности.
– У меня матч вечером, – продолжил Митци. – Соперник решился наконец прислать вызов. Офицер. Если хотите, оставлю вам билеты.
– Сегодня мы хотим поработать допоздна, – сказал Георг. – Надо привлечь клиентов. Скидка на все подборки марок. Автографы за полцены.
– Матч начинается поздно, успеете. Соперник, как я уже сказал, офицер, чемпион полка из Потсдама. Говорят, суровый господин… капитан СС. Специалист по захвату, как говорит мой тренер, опасен в партере…
Из наплечной сумки Митци торчал цилиндр пневматической почты. В Берлине были проведены сотни километров труб для срочной пересылки конфиденциальной корреспонденции. И благодаря Митци, который работал в центральной конторе пневматической связи, им удалось раздобыть подлинные бланки документов и начать жизнь под новыми именами.
– У тебя такие связи, Мориц… У тебя, случайно, нет на примете девушки, за которой Виктор мог бы поухаживать? Мы, разумеется, заплатим.
– А что?
– Я пытаюсь растолковать нашему мечтательному другу, что теперь, когда мы начали дело, надо быть вдесятеро осторожней. Никто нас так не ненавидит, как партийцы с такими же наклонностями. Они были бы куда спокойнее, если бы сами себя так не презирали…
Мориц когда-то был членом так называемого «Круга», довольно аморфной организации, объединяющей самого разного рода криминальные и полукриминальные элементы. Сейчас «Круг» прекратил свое существование, но кое-какие связи у Морица остались.
– А какая девушка вам нужна? – сказал он. – Я знаю самых разных. Но зачем платить? Почему не найти кого-то с такими же проблемами?
Он подошел к стене с кинозвездами.
– Ганс Альберс! – сказал он с восхищением. – Лилиан Харви… Ильзе Вернер. Я вижу, вы даром времени не теряли.
– Нет-нет, мы начинаем потихоньку. Когда завоюем репутацию, начнем торговать настоящими редкостями. Письма Наполеона к мадам Помпадур. Карта Америки, подписанная Христофором Колумбом. Последняя записка пламенного революционера Марата, написанная им в ванне за минуту до того, как быть убитым Шарлоттой Корде.
Георг незаметно улыбнулся реакции Виктора: тот был чуть ли не испуган перечислением имен, о которых он имел самое смутное представление… а сказать честно, не знал ничего, кроме того что они неслыханно знамениты.
– А почему нет? Люди безгранично доверчивы. Правильно подобранный объект в сочетании с правильно подобранным болваном – и все возможно… А потом, у нас есть гений – мой брат Густав Броннен!
Странно, как быстро человек может переменить род занятий, подумал Виктор. А еще странней: мне кажется, будто я создан для этого… Когда Георг год назад посвящал его в непростое искусство подделки, он не мог избавиться от неприятного чувства: то, чем он собирался заниматься, было не просто нарушением закона, но еще и жульничеством, что делало их предприятие еще более неприглядным. Но очень скоро его сомнения уступили место истинной увлеченности. Ему нравилась азартная охота Георга за поддельными документами, ему импонировали его усилия раздобыть им новые удостоверения личности. Георг к тому же был хороший рисовальщик, не в такой степени, как Виктор, разумеется, но у него было замечательное чувство иллюзии подлинности. Он точно знал, на каких деталях он должен сосредоточиться, потому что понимал, куда в первую очередь критики направляют свой взгляд. Ко всему прочему, Георг был просто чемпионом по части добывания необходимых материалов; он мог бы читать курс «Материаловедение для фальсификаторов».
Но если Георг был непревзойденным профессионалом, то в лице Виктора он нашел самого одаренного ученика, которого только мог вообразить. Виктор преобразился; совершенно новые понятия стали частью его будней. Например, он узнал, что за штука полнописьменный фальсификат: наклеить подлинную марку на конверт и погасить ее поддельной печатью. В исходном материале и конверт, и марка были подлинными, хотя изначально никакого отношения друг к другу не имели; они компоновались в нечто совсем новое, и стоило это новое многократно дороже. Он научился изготавливать водяные знаки, подделывать рельефную и высокую печать, покупать поврежденные марки и реставрировать их, заново гуммировать, гравировать орнаменты и наносить перфорацию.
В сейфе, содержимое которого показывали только самым наивным коллекционерам, поскольку подделывать ценные экспонаты было особенно рискованно, – в этом сейфе хранились жемчужины фирмы: черный пенни с королевой Викторией, письмо с неразделенной парой кирпично-красных французских однофранковиков, классический Брауншвейг-1867 без зубцовки… Георг Хаман говорил, что курс шведских марок очень высок, особенно среди филателистов, близких к партии. Может быть, это имело отношение к расовой влюбленности в своих северных братьев, но скорее всего зависело от мистической ауры вокруг едва ли не самой известной в мире марки: трехшиллинговый желтый банко. Поэтому братья Броннен смонтировали за кассой стенд, названный ими «северное собрание», где были настоящие сокровища: желто-зеленый квартблок по пять эре 1858 года и ультрамариновая 12 эре 1862 года.
У гравера на Августштрассе они заказали фальшивые печати для гашения, а в том же квартале увязший в долгах типограф отпечатал целые партии тщательно отобранных марок. Клише Виктор делал сам в мастерской в подвале. Технологию гравировки на цинковых пластинах он освоил еще в академии, но никогда не думал, что эти знания принесут ему пользу.
И за всем наблюдал заботливый глаз Георга Хамана. Георг составлял и вел каталоги подделок. Он находил подходящие справки о подлинности, желательно на английском языке, от Хармерса или Робсона Лоуи в Лондоне, торговые контакты с которыми были практически разорваны. Он же контролировал готовую продукцию: совпадает ли толщина бумаги, нет ли отклонений цвета на периферии? Под конец оставалась только зубцовка, для чего братья Броннен сами сконструировали линейную машину. Это было маленькое чудо инженерного искусства в фальсификаторской промышленности, созданное долгими бессонными ночами в подвале, эпицентре их скрытой от посторонних глаз неутомимой работы.
Ближе к вечеру в лавке появился человек лет пятидесяти и предъявил полицейский жетон.
– Покажите все бумаги, включая личные, – сказал он. – Господа могут пока посидеть. Это чистая рутина, вы знаете, когда открывается новое предприятие здесь, в квартале, мы обязаны…
Констебль в штатском довольно долго рассматривал регистрационное налоговое удостоверение и их паспорта. Хотя Виктор знал, что их бумаги безукоризненны, сердце в груди прыгало, как белка.
– Отлично! – сказал посетитель. – Все в порядке. Моя фамилия Янсен. Я полицейский, но в свободное время коллекционирую марки и автографы. Вот прочитал в газете, что вы предлагаете серии из бывших немецких колоний… У меня как раз пробелы в западноафриканской птичьей серии… И коллекцию автографов хотелось бы пополнить. Как вы думаете, можете вы мне помочь?
Констебль пробыл у них больше часа. По части западноафриканских пернатых братья оказались бессильны, зато у них нашлись другие заинтересовавшие его редкости. Перед самым закрытием он покинул магазин с подписанными фотографиями актрисы Гизелы Улен и куплетиста Гарри Мосса.
– А что у вас есть… как бы это сказать… необычного? – спросил он, нервно поглаживая моржовые усы. – Вам не надо беспокоиться, господа. Я в полном восхищении от успехов господина Гитлера – как изменилась страна! Но к моему хобби политика не имеет отношения.
– Я не совсем понимаю, что имеет в виду господин констебль, – сказал Георг. – Необычного? Вы хотите сказать – необычных актрис?
– Не обязательно. Не собираюсь скрывать – я настоящий коллекционер. Даже можно сказать, типичный коллекционер: одиночка, бухгалтерские наклонности, люблю порядок и четкость. Если бы не мои увлечения, я просто не знал бы, что делать по вечерам… Жизнь потеряла бы интерес.
Он вытер шею носовым платком.
– В участке я белая ворона… Мои коллеги интересуются только работой, ну, может быть, спортом… а я вожусь со своими марками, пополняю коллекции… пишу знаменитостям, собираю автографы… Только ближайший начальник понимает меня, комиссар Хоффнер, он тоже филателист, специалист по французскому цветочному мотиву… но с автографами я один на один. Могу написать больше двадцати писем в неделю… и как вы думаете, сколько из наших так называемых знаменитостей отвечает?
– Надеюсь, большинство, – сказал Виктор. Продолжать молчать было неудобно.
– Ошибаетесь, молодой человек. В лучшем случае один. – Янсен понизил голос. – А еще больше проблем с нашими знаменитостями в изгнании. С ними просто невозможно наладить контакт, не вызывая подозрений.
– Только коллекционер поймет коллекционера, – грустно произнес Георг, изобразив на физиономии сочувственную гримасу.
– Вот именно! Поэтому в последнее время я пытаюсь ограничить мои интересы исключительно Германией, хотя не столько из патриотических, сколько из практических соображений. Как вам, несомненно, известно, наша страна в кольце блокад. И марок это тоже касается. Еще месяц назад наши импортеры могли приобретать индийские марки с премьерным гашением не позже чем через месяц после выпуска. Этот канал пересох. Мы как будто еще не воюем, но почтового сообщения с Англией фактически не существует. А если начнется война, к которой так стремятся наши враги, мы в обозримом времени не увидим ни одной заграничной марки…
– А что вы ищете?
– Минуточку терпения, – сказал обстоятельный констебль. – Последние годы меня интересуют в равной степени марки из старых немецких колоний и немецкие ученые. Я говорю не только о марках, но и об автографах. У вас очень широкий ассортимент, вы, скорее всего, подбирали его много лет…
– В Судетах можно было купить любой автограф, по крайней мере до определенных событий… – произнес Георг. – Как вы видели из наших бумаг, мы в Берлине недавно. Но кое-что из старых запасов нам удалось вывезти.
– С политической точки зрения ситуация по другую сторону границы, естественно, немного отличалась… Но и судьба обошлась с нашими странами по-разному… Господин Гитлер не особенно церемонился с оппозицией, и строгость эта вполне оправданна. Пятая колонна чуть не взорвала нашу страну изнутри. Цензура была необходима, как и контроль над почтовыми отправлениями. Изгнание наших противников – тоже необходимый шаг. Я полностью понимаю и одобряю все эти действия, хотя они и наносят ущерб моим интересам коллекционера. В Чехословакии, я уверен, положение было проще. По крайней мере, до нашего прихода.
– Мы встретили ваш приход с восторгом, как все настоящие патриоты.
– Ни минуты не сомневаюсь. И могу вас уверить, господа, я тоже патриот до мозга костей. И мое отвращение к евреям ничуть не меньше вашего. Но то, что евреи могут быть крупными учеными, это даже господин Штрайхер не может опровергнуть в своем во всех отношениях замечательном антисемитском еженедельнике, – констебль нервно проглотил слюну. – Что ж, к делу! Моя мечта… моя самая большая мечта – украсить свою коллекцию автографов ученых подписанной фотографией самого знаменитого из ученых евреев: Альберта Эйнштейна!
Наступило долгое молчание. Констебль с покрасневшей физиономией изучал несуществующее пятно на идеально начищенном башмаке.
– Мы из принципиальных соображений не торгуем автографами врагов народа, – выговорил наконец Георг Хаман оскорбленным тоном.
– Вы должны меня правильно понять. Я вовсе не ставлю под вопрос вашу лояльность; я же вижу ваши партийные значки. Просто мы должны научиться отличать коллекционирование от политики. Эти два предмета не имеют ничего общего. Помимо этого, я ищу, по просьбе одного знакомого, автографы двух известных, но, к сожалению, непатриотичных писателей.
– Кто бы это мог быть?
– Братья Томас и Генрих Манн. Давно эмигрировали. Мой знакомый, который передает эту просьбу, занимает высокий пост в партии. Нас свели общие интересы; подумайте, простой полицейский и влиятельный политик! Гарантирую, что, если вы выполните его просьбу, это только пойдет вам на пользу. Вы обзаведетесь могущественным покровителем. И по слухам, о которых вы наверняка сами позаботились, вы вполне в состоянии раздобыть запрещенные раритеты.
Это соответствовало истине. Через Морица они пустили слух, что для братьев Броннен нет ничего невозможного, они могут раздобыть все что угодно, это только вопрос времени.
– Что скажешь, Роберт? – спросил Густав.
– Мы должны подумать. И прозондировать наших посредников. Посмотрим, что мы сможем сделать.
– Деньги не проблема, – сказал констебль. – Мой знакомый готов заплатить, сколько вы запросите, но лично я попросил бы вас о скидке в качестве благодарности за помощь в делах. Полицейская работа – это призвание, и никто не идет в полицию ради зарплаты… Сколько вам понадобится времени?
– Примерно неделя, – в унисон сказали братья Броннен.
– Я зайду ровно через неделю. Хайль Гитлер!
Вечером, когда Виктор и Георг шли в борцовский клуб на Софиенштрассе, Берлин погрузился во мрак. Погасили уличные фонари, трамваи выключили фары – власти организовали учебное затемнение.
– А в самом деле, сколько времени нам понадобится, чтобы достать портреты антипатриотичных писателей? – спросил Виктор, чуть ли не на ощупь пробираясь вдоль фасада дома.
– Полдня уйдет на то, чтобы добыть фотографии. Полминуты на подписи. Я их знаю наизусть.
– А как с Эйнштейном?
– Примерно то же самое… плюс пять минут, чтобы набить руку на почерке. Странно, раньше я никогда не копировал его подпись.
– А цена?
– Сто марок за все три. Это вполне рыночная цена. А Янсен пусть сам разбирается со своим влиятельным приятелем.
Виктор остановился. Он почти не различал лица Георга. Ему вдруг показалось, что эта темень, эта временная слепота не просто так. Это знак из будущего.
– А ты уверен, что он не провокатор?
– Абсолютно уверен. Я знаю этот тип. Фанатичный коллекционер. Пойдет по трупам.
Первый день прошел не особенно успешно. Если не считать Янсена, у них был всего один посетитель – прыщавый юнец, который так ничего и не купил. Именно об этом размышлял Виктор, когда они свернули в проходной двор к борцовскому залу.
– Не беспокойся, – сказал Георг. Он и в самом деле как будто читал его мысли. – Все пойдет отлично. Мы же только начали. Кстати, думаю, в ближайшее время надо больше внимания уделять автографам. И подумать о почтовых заказах. Констебль – хороший знак. Запреты всегда привлекают людей. Запретное, скандальное, спекулятивное. Каких женщин молва связывает с Гитлером?
– Рифеншталь?
– И еще эта английская аристократка, Юнити Митфорд. Мы выставим их портреты с автографами в витрине. И напишем: «У нас найдется все, что любит фюрер».
– По-моему, чересчур вызывающе. И опасно – подделки в витрине.
– Успокойся, дорогой братец. Надежность стопроцентная. Единственное, что нам нужно для полного счастья, – пара девушек для прикрытия. Посмотрим, что удастся сделать Морицу.
Чемпиону округа в этот вечер предстояло раскусить нелегкий орешек. Зал был забит до отказа, и большинство болело за его противника. Это был не просто матч, не просто борьба одного стиля жизни против другого, думал Виктор, сидя на скамье и наблюдая публику. Это еще и противостояние одной идеологии с другой и… он с трудом решился сформулировать мысль… дуэль одного вида любви с другим, а скорее, дуэль любви со своей противоположностью.
Первый раунд едва начался, как Хольцбринку, рыжеватому и прекрасно тренированному капитану СС, быстрым рывком удалось вывести Морица из равновесия и хитрым финтом произвести захват со спины. Красивый захват обернулся не менее красивым броском. Мориц пытался подняться с ковра, но чемпион полка из Потсдама прочно удерживал его до конца раунда.
Второй раунд был лучше. После того как Хольцбринк был предупрежден судьей за неправильно проведенный захват, он был вынужден начать в партере. Морицу удалось провести пару удачных бросков, что дало ему несколько очков, и счет сравнялся. Соперник был явно растерян, но, уйдя в защиту, ему удалось сохранить статус-кво до конца раунда.
Чтобы публика могла посмотреть несколько матчей, договорились проводить всего три раунда. Перед последним счет был семь-семь. В углу ринга массажист обрабатывал руки и спину чемпиона, а на скамейке рядом с Виктором Георг начал заключать пари. Он поставил неожиданно большую сумму, что защитник титула одержит чистую победу. Виктор тоже постучал букмекера по спине.
– Я тоже хочу поставить десять… нет, пятнадцать марок, что эсэсовец проиграет вчистую!
И вот начался третий раунд. Хольцбринк начал не особенно уверенно, но потом ему удалось захватить голову Морица и бросить его на ковер. С быстротой ласки он повернулся вокруг оси и оказался на спине партнера в позе, которая вряд ли понравилась бы партийным гомофобам. Ему удалось завести руку между плечом и шеей Морица. Если бы не усталость, которая начала уже не на шутку вгрызаться в мышцы, скорее всего, ничего бы не произошло, и Мориц просто начинал бы в партере. Но он поддался силе соперника и оказался на волосок от туше… правда, тут ему немного повезло: он захватил пояс Хольцбринка левой рукой, вывернулся, и оба борца выкатились за пределы ковра.
Теперь они начинали стоя. Оставалась всего одна минута, но теперь уже эсэсовец был на два очка впереди. Борцы кружились по ковру. У Морица был рассечен лоб, кровь заливала глаз и щеку, но судья не хотел прерывать матч – оставались буквально секунды. Публика ревела от возбуждения. Образовались два лагеря, болеющих за своих фаворитов; все бешено орали, как на поле битвы, и награждали друг друга убийственными взглядами.
Организаторы матча, собравшиеся у столика секретаря, заметно нервничали, опасаясь массового побоища. Виктор обратил внимание на двух женщин, пробравшихся к самому краю ковра. Он не слышал слов, но по губам было видно, что они кричат «Мориц, Мориц», подбадривая чемпиона на последний, решающий бросок. И этот бросок состоялся, причем настолько быстро, что публика не успела прореагировать.
Мориц отклонился назад, делая вид, что потерял равновесие. Хольцбринк рефлекторно бросился вперед – и нарвался на великолепно подготовленный бросок. Эсэсовец взвился в воздух и, пролетев несколько метров над ковром, приземлился на него спиной с такой силой, что так и остался лежать, хватая ртом воздух. Свисток судьи, фиксирующий туше, совпал с гонгом, возвестившим конец раунда.
Драки, к счастью, не возникло. Публика потянулась к пивным стойкам позади трибун. Разочарованные эсэсовцы покидали зал. Чемпион сидел на табуретке в углу ринга и весело махал рукой поклонникам. Тренер накладывал ему повязку на лоб.
– Сандра и Клара Ковальски, – представил Мориц девушек, когда они уже отмечали победу за дальним столиком в ресторане «У слона» на Иоахимштрассе.
Это были те самые девушки, которые подбадривали Морица в последнем раунде.
– Официально они сестры. Сироты. И не просто сестры, а и медсестры, к тому же очень хорошие. Никому и в голову не приходит удивляться, что они живут вместе в доме Кёлера на Линиенштрассе.
Девушки весело закивали головами. Им было лет по двадцать. Клара, может быть, чуть старше.
– На самом деле они даже не родственницы. Похожи, правда? Но сходство зависит скорее от того, что они нравятся друг другу… рыбак рыбака видит издалека. Клара и Сандра подруги.
– Мориц сказал, вам нужно общество, – сказала младшая. – Это и нам подходит замечательно.
– Хозяин чересчур глуп, чтобы что-то заподозрить, – продолжил Мориц. – Но в том же доме, к сожалению, живет спившийся квартальный Нольте, он утверждает, что видел, как девушки страстно целовались в прачечной. Они, ясное дело, все отрицают, но в такие времена лучше опередить, чем тебя опередят…
Над бровью у непобедимого чемпиона красовалась большая повязка, а под глазом уже цвел синяк.
– Вы просили – я сделал. И не смотрите на меня так, будто я положил Хольцбринка в последний момент чисто случайно. Все было спланировано. Это не случайность и не удача, а тактика. Решающий бросок произошел бы раньше, если бы он не запер меня полунельсоном за минуту до конца.
– Неожиданное поражение сверхчеловека, – шепнул Георг, – и крупный выигрыш двух филателистов, поставивших целых двадцать пять марок на чемпионское туше.
Ресторан постепенно заполнялся. Виктор был знаком кое с кем – кто-то жил в том же квартале, кого-то он только что видел на матче. На их столик косились с любопытством. Он почувствовал гордость, что у него такие друзья – Мориц и Георг, гордость, что их ум и предусмотрительность помогают им справиться со всеми трудностями.
– Вопрос решен! – воскликнул Мориц. – С этого момента вы, девушки, официально помолвлены с этими господами. Теперь смотрите, что у меня есть: квитанция на две пары обручальных колец. Вы получите их в ныне стопроцентно арийском магазине Мендельсона на Анкламерштрассе, и если они вам подойдут, на кольцах будут выгравированы ваши имена. А мне никакая маска не нужна. Борец по определению не может быть гомосексуалом! Тем более чемпион Берлина в легком весе…
Так совпало, что примерно через неделю после открытия магазина состоялся вернисаж большой выставки под названием «Портрет нашего Великого Вождя» в центральном комитете партии в Митте. Виктор, получивший задание написать полотно с Гитлером, чтобы повесить на почетном месте в лавке братьев Броннен и таким образом придать их деятельности флер политического идеализма, отправился туда.
Изюминкой выставки было монументальное полотно Генриха Книрра «Адольф Гитлер, создатель Третьего рейха, гений возрождения немецкого искусства», уже вызвавшее два года назад всеобщее восхищение на выставке нацистского искусства в Мюнхене. Картина была написана в имперском стиле: поясной портрет Гитлера, стоящего на террасе на фоне какого-то парка. Небо покрыто тревожными облаками; только в одном месте сквозь облака пробивается солнце, как надежда на прекрасное будущее. На рукаве – повязка со свастикой, на груди – Железный крест I степени, военное алиби двадцатилетней давности. Фюрер предстает перед зрителем как благородный полевой командир, человек, которому можно довериться в трудные времена.
На стене напротив разместился «Знаменосец» Губерта Ланцингера, написанный в более современной манере, по крайней мере с формальной точки зрения. Здесь Гитлер изображен в профиль, облаченный в футуристическую версию средневековых лат. Он восседает на черном коне с нацистским флагом в руке. Если немного напрячь фантазию, можно услышать исходящий от полотна лязг оружия.
Придворные художники постарались показать триумфатора небывалого масштаба, решил Виктор, обойдя выставку. Непогрешимый в своей мудрости, аскетичный и подтянутый, истинное спасение для потерявшего ориентиры немецкого народа. Портреты были на редкость неинтересны. Ничто не привлекало внимания, за исключением, может быть, футуристского крестоносца Ланцингера. Отто фон Курсель, Фриц Эрлер, Хуго Леман… все эти арийские маляры с их ограниченностью и полным неумением создавать что-то новое… Он даже огорчился. Как это могло произойти? Где потерялось немецкое искусство? На стенах он видел то, чего там не было, тени художников, выброшенных из галерей… их в лучшем случае показывали как образцы вырождения: Франц Марк, Кете Кольвиц, цветовые взрывы Пауля Клее. Как будто они никогда не существовали… нет, существовали, но теперь только в виде бесплотных привидений.
Он вздохнул и присел на банкетку перед рисунком углем некоего Конрада Хоммеля. «Фюрер» – коротко и ясно. Отягощенный раздумьями вождь позирует в кресле перед книжными полками. Мечтательный профессорский взгляд, очки балансируют на кончике носа. При желании его можно принять за филателиста… Виктор не прикасался к углю с тех пор, как год назад нашел Георга Хамана, еще когда тот снимал квартиру на Кнезебекштрассе. Я, сказал он тогда, остался без квартиры и средств к существованию и хотел бы попробовать себя в филателии и автографах… Виктор взял угольный карандаш и удивил себя самого, меньше чем за две минуты сделав великолепную копию в захваченном с собой блокноте. Недолго думая, он скопировал и автограф: К. Хоммель-38.
Ощущение карандаша в руке, запах угля, приятная тяжесть блокнота на коленях, возбужденное дыхание, постоянно работающий взгляд, скользящий вдоль невидимой масштабной сетки, где размеры и перспектива, словно соревнуясь друг с другом, проявляются на листе… только сейчас он понял, как ему не хватает всего того, чего он лишился, уйдя из академии.
Радостно возбужденный, он прошел в отгороженный зал. Табличка на стене возвещала, что здесь собраны работы любимых художников фюрера. Несколько рисунков некоего Пауля Гайсслера напоминали дипломы, выданные за образцовую посредственность… «Дом в Браннау ам Инн, где родился фюрер», «Начальная школа фюрера в Фишльхаме». Он скопировал их за пять минут.
Группа посетителей, перешептываясь и обмениваясь восхищенными возгласами, собралась в другом конце комнаты. На застекленном стенде были представлены собственноручные работы самого Гитлера. «Рейхсканцлер и вождь немецкого народа в юности был талантливым художником», – сообщала табличка. На одном из рисунков была изображена Триумфальная арка в Мюнхене, на другом – вид города Линца. Дилетант и есть дилетант, подумал Виктор, но на всякий случай скопировал и эти рисунки, с подписями и всеми деталями.
В обеденное время, как договорились, на пороге лавки с прусской пунктуальностью появился констебль Янсен, в начищенных до горячего блеска сапогах. На этот раз он был в полицейской форме.
– Удалось ли господам выполнить мою просьбу? Всю неделю я почти не спал от волнения.
– Ваш ученый еврей задал нам работу, – ласково сказал Георг, направляясь к сейфу. – Но зато с бежавшими писателями хлопот не было. Нашлись у нас на складе. В коробке, которую мы считали пропавшей…
Янсен пригорюнился:
– Вы хотите сказать, что с автографом Эйнштейна ничего на вышло?
– Почему не вышло? Просто на это ушло больше времени и больше денег, чем мы предполагали. Предложений фактически нет, а спрос почти тот же. Спросите моего брата Густава, это он занимался вашим делом.
Виктор серьезно покивал головой. Он стоял на табуретке и вешал на стену с кинозвездами портрет Гитлера работы Хоммеля.
– Черная биржа? – спросил Янсен.
– Зарубежные связи. Люди из американского посольства. А знает ли констебль наш девиз?
– Нет, откуда…
– Если Эйнштейн придумал свою формулу E = mc2, то у нас формула другая, хотя похожая: Н = В + Т2. То есть невозможное равняется возможному плюс квадрат времени…
Янсен сделал скептическую мину – с полным на то основанием, подумал Виктор.
– Я, конечно, преувеличиваю, – улыбнулся Георг, – у нас есть связи, и нам повезло, вот и все.
– Иностранцы? А вы уверены, что за вами не наблюдали? – Констебль нервно прикусил нижнюю губу.
– Этого никто не знает. Мы идем на риск и берем за это плату. Что такое, в конце концов, автограф, констебль? Закорючка на куске бумаги, – Георг заговорщически подмигнул, – а закорючку на куске бумаги в принципе может подделать кто угодно. В нашей профессии полно фальсификаторов. И знаете, как мы выводим их на чистую воду?
– Знания?
– Опыт и интуиция. И тщательное палеографическое исследование. В подвале у нас стоит стол с подсветкой, мы просвечиваем автографы снизу. Сильное увеличение. Подробные каталоги автографов выдающихся людей всех эпох и в различном возрасте. Мы знаем, что в любой подписи есть так называемая мягкая составляющая. Что это значит? Первое «i», скажем, всегда в одинаковой пропорции к заглавной букве, а последнее «i» может варьировать чуть не каждый раз. Я говорю о двух «i» в фамилии Эйнштейн, констебль. Или возьмем, к примеру, Бисмарка. Подпись, датированная 1850 годом, значительно отличается от более поздних, предсмертных образцов, скажем, 1898 года. Обратил ли внимание фальсификатор на эти изменения? Если нет, его немедленно выведут на чистую воду. Не говоря уже о тех случаях, когда автограф настолько идеален, что не может быть подлинным.
Констебль Янсен смущенно потер усы.
– Надо знать, как работает фальсификатор. – Виктор решил заполнить неловкую паузу и слез с табуретки. – Чтобы его разоблачить, надо знать, как он работает. А вы знаете, как он работает, констебль? Он переворачивает подпись, когда хочет ее подделать. Он находит подпись в каталоге, переворачивает книгу, и не списывает подпись, а рисует ее. Как абстрактную фигуру. То есть он подделывает не письменный текст, а геометрический образец. Нам пришлось научиться разоблачать подобные хитрости.
– Вы могли бы оказать большую помощь полиции. В отделе по борьбе с мошенничеством.
– Разумеется, – сказал Георг. – В Чехословакии полиция привлекала нас для установления подлинности документов. Все, что мы просили, – три оригинала, чтобы было с чем работать. Ничего хитрого. Подпись – как отпечатки пальцев, у каждого человека уникальна. Зависит от того, как он держит ручку, от нажима, стиля… от образования, опыта – от самой жизни.
– Но мой Эйнштейн, надеюсь, подлинный?
– Можете быть уверены. Проверен по всем правилам искусства. Мы не хотим ставить на кон свою репутацию.
Очень осторожно, словно предмет из самого хрупкого материала… скажем, графин богемского хрусталя или подлинный желтый банко с типографским дефектом, Георг достал из сейфа портрет и отнес к стойке, где констебль Янсен буквально дрожал от нетерпения. Он все время поглядывал через плечо, желая, по-видимому, убедиться, что за ними не наблюдает какой-нибудь стукач.
Георг снял обертку и показал сначала оборотную сторону портрета. Там стоял штемпель с текстом «Собственность Госдепартамента США», а рядом – наклейка с входящим номером и надписью: «Дар доктора Эйнштейна, март 1928 года».
Он перевернул портрет. Это была цветная фотография. Знаменитый физик проказливо улыбался в камеру. В верхнем углу было написано тушью: «Послу Шерману с лучшими пожеланиями». А чуть пониже стояла подпись – Альберт Эйнштейн.
– Не может быть! – воскликнул констебль. – Как вам это удалось?
– Мы предпочитаем не называть никаких имен, – твердо сказал Георг. – Так будет лучше для всех. Могу только сказать, что мы приобрели этот портрет у человека, близкого к посольским кругам, и стоило это нам около ста марок. Вам мы дадим двадцать процентов скидки, констебль. К сожалению, это крайняя цена. Учтите наши собственные затраты.
– Замечательно! Просто замечательно! А братья Манн? Они тоже здесь? Мой высокопоставленный друг будет в восторге.
Теперь настал черед Виктора подливать бензин в коллекционерский костер в душе констебля. Он нашел в картотеке букву «М», где, как фантазировал Георг, скоро будут лежать автографы Мольера, Марата и Моцарта, открыл папку и нашел между Меттернихом и Мольтке конверт с двумя подписанными портретами знаменитых во всем мире писателей. Томас и Генрих Манн. Фотографии были подлинными – снимок Томаса был выпущен респектабельным издательством «Фишерс», а Генрих приобретен в именитом магазине во Франкфурте.
– Мы не успели их обрамить… но, если констебль подождет, через пять минут все будет готово.
– Нет никакой надобности. Мой друг вряд ли собирается повесить их на стенку дома или в конторе. Что скажут гости? Ведь далеко не все так, как мы с вами, разделяют и понимают страсть коллекционера…
Констебль вдруг замолчал. Его взгляд остановился на графическом портрете Гитлера, который Виктор только что повесил на стену. Портрет был подписан новым придворным художником Конрадом Хоммелем.
– Это что – подлинник? – севшим голосом спросил он. – Меня прямо в дрожь бросает от одной мысли, что сам фюрер позировал для этого портрета…
И не успел Виктор возразить (чисто рефлекторно, поскольку он, как ни странно, никогда раньше не пытался представить себя в роли фальсификатора искусства – подделка документов, марок, автографов, справок и прочего еще куда ни шло, но он вовсе не собирался подделывать картины!) – не успел он рта открыть, как услышал ответ Георга:
– Естественно! Порядочность и высокое качество товара уже принесли и продолжают приносить нам дивиденды. Речь идет о доверии клиентов. Нам повезло – еще до того, как господин Хоммель снискал себе славу Герострата, мы раздобыли несколько его рисунков, и считаем, как и наш вождь, что это настоящие произведения искусства. Фантастическое искусство! Это вам не вырожденческая мазня французских педерастов! Собственно говоря, мы бы с удовольствием расширили нашу деятельность и занялись современным искусством, но не хватает времени…
– Это тоже продается? – робко спросил констебль.
– К сожалению, на этот рисунок уже есть заказ, – неожиданно для самого себя соврал Виктор. – Но если господин Янсен или его знакомый интересуются такими вещами, мы можем предложить кое-что еще.
И все еще не совсем соображая, что делает, Виктор достал из портфеля копии рисунков Гайсслера, сделанные им во время посещения выставки «Портреты нашего Великого Вождя», – дом, где родился Гитлер, и его начальная школа. Мало этого, он извлек на свет божий и изображения триумфальной арки в Мюнхене и города Линца. На обоих рисунках стояла подпись Гитлера.
– Не может быть! – ахнул констебль. Лоб его покрылся крупными каплями пота. – Это же рисунки самого фюрера! Где вы их взяли?
Наступило молчание. Виктор напрягся, стараясь не обращать внимания, что Георг отчаянно подает ему знаки – ты что, рехнулся?! Останавливаться было уже поздно.
– Я, конечно, понимаю, что эти гениальные рисунки нашего Великого Вождя стоят уйму денег, – сказал фанатичный коллекционер-полицейский, – но я умоляю, отложите их на пару дней. Мне нужно немного времени, чтобы раздобыть деньги. И рисунки Гайсслера тоже отложите – мой высокопоставленный друг ко всему прочему собирает еще и оригиналы гитлерианы. А рисунки Великого Вождя я хотел бы взять для себя. Могу я надеяться на ваше молчание?
– Два дня, не больше, – наглея с перепугу, брякнул Виктор. – Мы только что получили эти экспонаты. И констебль, я уверен, понимает, что продать их не составит труда… мы даже выставлять их не будем, просто позвоним кое-кому…
Лавка филателии и автографов братьев Броннен очень быстро стала знаменитой. Они играли крупно, и, как ни парадоксально, именно высокие ставки обеспечивали им самое надежное прикрытие. Редкая марка казалась подлинной именно потому, что она была столь редкой. И чем страннее был автограф, тем меньше было сомнений в его аутентичности. К тому же сбылось предсказание Георга, сказавшего, что зарабатывать деньги они будут не на марках, а на чем-то столь эфирном и неощутимом, как человеческие подписи.
Не менее странным было и то, что их успеху немало способствовал фанатичный констебль. Он был важным узелком в контактной сети, и с его помощью их слава распространилась по городу очень быстро. Именно знакомым Янсена им удалось продать автографы эмигрировавших знаменитостей вроде Билли Уайльдера или Зигмунда Фрейда, а также зарубежных звезд Чарли Чаплина, Жозефин Бейкер и Греты Гарбо – все на глянцевых фотографиях двадцатых годов. И осчастливленные клиенты распространяли слухи все более широко, все больше коллекционеров становилось их постоянными заказчиками. «Они любят рисковать не меньше, чем собирать свои коллекции», – философски заметил Георг, когда очень крупный чиновник из Министерства финансов спросил, нет ли у них на складе автографа Черчилля. Страна воевала, а Черчилль был главной фигурой в лагере противника. После сложных комбинаций им удалось раздобыть подлинный снимок, сделанный пятнадцать лет назад во время поездки Черчилля в Индию, и, если верить надписи, сделанной Виктором на самом лучшем школьном английском, который он мог из себя выдавить, снимок был подарен некоему махарадже Удайпура. Доверчивый покупатель не моргнув глазом выложил за этот шедевр триста марок.
Прошел год, как они открыли свое дело, и все чаще задумывались, не ограничиться ли им автографами. Для изготовления марок требовалось слишком много времени. К тому же они постепенно нашли несколько лавок, где портреты известных эмигрантов пылились на тайных полках и владельцы отдавали их за бесценок. Подделать подпись – несколько минут работы. Самым трудным было создать внушающую доверие легенду, подтверждающую подлинность автографа. Но даже при этом у них оставались океаны времени и возможности заработать еще больше. Они понимали, что во всем этом карикатурно отражается дух времени; потребность оторваться от действительности у людей была больше, чем когда-либо…
В Европе шла война, но в мире Виктора и Георга она была не особенно заметна. О событиях на фронте они читали в газетах или смотрели тщательно отцензурированную и смонтированную хронику в кинотеатрах, которую показывали перед каждым сеансом. Польшу Германия проглотила, как изголодавшийся волк глотает мышь; на очереди были северные и западные соседи. С точки зрения генштаба, кампания шла как по маслу: Дания, Норвегия, Нидерланды, Франция были уже оккупированы. Англичане затаились на своем острове. На востоке оставалась Россия.
Под защитой фальшивых бумаг и непостижимого везения Виктор и Георг жили так, как будто ничего не происходило. Им без всяких сложностей продлевали лицензию, и никто из представителей власти их не беспокоил, не считая, разумеется, констебля Янсена. Виктор предполагал, что Янсен, заходивший к ним чуть не каждый день, сам по себе в какой-то степени обеспечивает их безопасность, а может быть, к этому приложил руку и его высокопоставленный друг, чье имя по-прежнему оставалось для них неизвестным.
Они начали торговать и произведениями искусства – опять же благодаря неутомимому коллекционеру констеблю Янсену. Беспредельно счастливый, что ему удалось приобрести рисунки самого Гитлера (на что он истратил последние сбережения), он через пару недель опять появился в лавке – посмотреть, нет ли чего нового. По чистой случайности им было чем порадовать неутомимого Янсена. Только что прибыли еще несколько рисунков Гитлера – два венских мотива, сделанных, по-видимому, для открыток. Виктор утверждал, что они купили их у того же продавца, что и предыдущие рисунки. Янсен купил оба – в кредит и с огромной скидкой. Подлинность рисунков подтверждалась еще и посвящением – на обоих была дарственная надпись, адресованная племяннице Гитлера Анжелике Раубаль. Янсен воспользовался случаем, чтобы расспросить их от имени своего могущественного приятеля, нет ли у них на примете того, что он назвал «нетрадиционным искусством».
– Если господа понимают, что я имею в виду, – слегка замялся он. – Я говорю о живописи… не санкционированной официально… ну, той, что в интересах поднятия духа и укрепления гражданской обороны… чтобы создать нового человека во всем, в том числе и в области эстетики… короче, я говорю о произведениях, изъятых из наших галерей и именно поэтому, в силу своей труднодоступности, привлекающих внимание истинных коллекционеров…
Выяснилось, что все эти витиеватые эвфемизмы предназначены для обозначения «вырожденческого искусства». Они пообещали навести справки, и через месяц Янсен приобрел для своего друга обнаженную модель Оскара Кокошки за две тысячи марок. Редкостное и полузапрещенное полотно потребовало целую ночь лихорадочного труда и было изготовлено в подпольной мастерской на Горманнштрассе, 3, бывшим студентом Академии искусств Виктором Кунцельманном.
Даже Георг Хаман со своим идеальным чутьем на темные дела не мог предполагать, насколько велик спрос на их продукцию у берлинских коллекционеров, среди которых были и высокие партийные чиновники. Он не мог также предугадать, какие суммы они готовы выкладывать за предметы своей страсти. Их деятельность имела и то преимущество, что опровергнуть подлинность было почти невозможно. Золотое правило экспертов – найти последнего хозяина картины, то самое правило, что всегда становилось камнем преткновения для фальсификаторов, было практически неприменимо. Хозяева либо высланы, либо имущество их конфисковано.
Слава молодых специалистов росла с каждым днем. Виктор целыми днями писал картины в духе запрещенных художников, а Георг посвящал почти все свое время созданию правдоподобного провинанса каждой из них. Удивительно, но, не имея никакого специального образования, он стал истинным специалистом по подделке документов, подтверждающих историю той или иной картины. Он раздобыл копии коллекционных штампов, принадлежавших когда-то еврейским коллекционерам. Английские и американские коллекционные клейма в такие времена было почти невозможно проверить. К тому же на рынке искусства циркулировало огромное число произведений, награбленных в оккупированных странах, и об их происхождении никто лишних вопросов не задавал. Установление подлинности стало скорее вопросом доверия, чем точной науки.
Все знания и умения, приобретенные Виктором за годы учения, весь его талант – все преломлялось теперь сквозь призму фальсификации. «Вырожденческое искусство» в музеях не выставлялось, но во внутренней своей картотеке он сохранил точную память о сотнях полотен модернистов. Их стиль и любимые мотивы он мог варьировать до бесконечности – в результате получались как известные, так и доселе неизвестные полотна. Он до такой степени наслаждался возможностью писать, что не чувствовал за собой никакой вины. Он даже не рассматривал свои полотна как подделки. Он просто возвращал миру испорченные или утраченные оригиналы. Например, за эти месяцы в ателье Виктора появился портрет Макса Бекманна работы Эрика Марка, а также штук двадцать полотен Поповой, Гроша, Нольде, Эрнста и Швиттерса. Эти модернистские шедевры, ушедшие на продажу, как только высохла краска, Георг снабдил внушающими доверие справками и родословными линиями. Он обнаглел до того, что подделал знаменитое коллекционное клеймо индустриальных магнатов Тиссенов, зная, что те официально объявили, что не хотят иметь с «вырожденческим искусством» ничего общего.
Сандра и Клара Ковальски, с которыми Виктор и Георг были официально помолвлены после того решающего борцовского матча, часто навещали Виктора в его подвальном ателье, пока он выдавал на-гора целые партии «вырожденческого искусства», и даже позировали для этюда, подписанного Эгоном Шиле. Изображение Морица Шмитцера в борцовском трико ушло к миллионеру, известному фабриканту одежды, под славным именем Отто Дикса.
На их счет поступали внушительные суммы. К началу 1942 года денег стало так много, что они вынуждены были немного притормозить, чтобы не вызывать подозрений. К тому же появилось новое поле деятельности: продуктовые карточки.
Все произошло случайно, как и многое в жизни Виктора за эти годы. На Рождество Сандра Ковальски приютила попавшего в беду знакомого. Рейхарт, как звали этого уже немолодого человека, находился в розыске. Он был членом подпольной коммунистической ячейки, и ему единственному удалось вырваться из лап гестапо при облаве в Дрездене. Квартира подруг должна была стать всего лишь местом короткой передышки; далее он собирался бежать в Советский Союз, но вот уже полгода страны находились в состоянии войны, и границы были наглухо запечатаны.
Рейхарт обладал незаурядным аппетитом, и совершенно неясно было, сколько еще ему придется прожить у «сестер» Ковальски. Война уже ощущалась в берлинских буднях – по ночам город бомбили английские воздушные эскадры, были введены продуктовые карточки. Как бы то ни было, беглеца надо было кормить, а карточек ему, естественно, не выдавали.
Не так много дней потребовалось Виктору, чтобы изготовить фальшивое удостоверение личности и справку о временной прописке «по вынужденной необходимости», а также целую пачку продуктовых карточек на базовые продукты. Виктор понимал, что удостоверение личности детальной экспертизы не пройдет, но, чтобы успокоить начавшую нервничать квартирную хозяйку и для уличных проверок, оно вполне годилось. Карточки же были комар носа не подточит, особенно учитывая, что они старались отоваривать их в разных магазинах.
Зимой 1942 года, когда война вступила в решающую фазу, ввели новые карточки; считалось, что их труднее подделать (власти боялись не столько местных мошенников, сколько попыток американцев и англичан дестабилизировать снабжение рейха продуктами питания). Мориц, работая в конторе пневматической почты, имел доступ практически к любому документу. Он помог Виктору решить проблему с красками для печати, а прочитав переписку двух министров, точно выяснил, какой вид бумаги решено применить для карточек. Это был ключ к широкомасштабному производству, неотразимый соблазн для некоего Георга Хамана. Как-то в марте, в один из первых по-весеннему теплых и солнечных дней, он со стуком поставил недопитую чашку чаю на стол и объявил, что они будут расширять свою деятельность и начнут продавать карточки на черном рынке.
– Там и крутятся деньги, – сказал он. – Людям надо есть. Особенно легко подделать карточки для отпускников.
– А риск? Думаю, это подпадает под законы военного времени.
– Для таких профессионалов, как мы? Ничтожно мал.
– Тогда мы должны создать сеть распространителей, – предложил Мориц Шмитцер. – Несколько уровней, и желательно, чтобы они друг друга не знали.
Так и порешили.
Они изготовили рельефную модель герба на резиновой пластинке. Отпечаток, сделанный со слабым раствором азотной кислоты, оказался настолько совершенен, что подделка не выявлялась даже на просвет. Необходимые штемпели они раздобыли еще заранее, и коллекция их пополнялась – теперь они владели печатями большинства крупных регионов и городов. И пока Георг через разного рода сомнительных посредников искал нужную бумагу, Виктор изготовил печатные матрицы. Наконец, после нескольких месяцев подготовительных работ, типограф на Августштрассе получил добро и запустил станок.
За несколько месяцев они продали тысячи фальшивых продуктовых карточек в Северной Германии. Берлин решили оставить в покое – Георг посчитал слишком рискованным продавать подделки в собственном дворе. Да, фальсификаты – само совершенство, признавал он, их почти невозможно разоблачить, но он боялся стукачей. Для надежности, как и посоветовал Мориц, они создали многоступенчатую сеть посредников. Распространяли карточки акулы черной биржи – за соответствующее вознаграждение, разумеется. Всю прибыль после продажи первой партии – а это было немало – братья Броннен с помощью Рейхарта переправили в стокгольмский банк.
Пребывание Рейхарта в квартире подружек Ковальски становилось все опаснее. В конце концов Сандра упросила Виктора сделать путевые документы. Он выбрал шведскую визу – во-первых, ее сравнительно легко подделать, а во-вторых, деловые поездки в эту страну для немецких граждан были разрешены. Он рассматривал эту задачу как своего рода вызов его мастерству. Украденный паспорт они нашли довольно легко, а вот заменить фотографию и шведские визовые печати потребовало немало работы, не говоря уже о выездной визе – ее он нарисовал от руки чернильным карандашом и зафиксировал водоотталкивающим раствором парафина.
Рейхарт должен был ехать под именем Карл фон Борриес, цель поездки – приобретение подшипников для производителей лодочных моторов. Виктор проводил его на Лертер Банхоф. Паровоз уже пыхтел на путях, окруженный облаками пара и робких надежд. Высоченный Рейхарт был одет в двубортный костюм с партийным значком в петлице. У ног его стоял чемодан с двойным дном, где лежали двести тысяч рейхсмарок в ассигнациях. Он получил подробнейшие указания, как положить деньги на счет в Шведском Отдельном банке. Под подкладкой костюма была зашита доверенность, выданная фирмой «Марки и автографы» братьев Броннен.
По перрону слонялись солдаты на побывке. Группку детей отправляли в деревню, чтобы дать передохнуть от тяжких военных будней. Военный врач осматривал направляющийся на Восточный фронт санитарный поезд.
– Может быть, еще увидимся, – сказал Рейхарт. Они стояли в стороне, за газетным киоском. – Если они не остановят меня на таможне за вывоз валюты.
– Ничего страшного. Тебе же нужны деньги на подшипники. Разрешение на вывоз вложено в паспорт. Если начнут шерстить чемодан, предъяви.
– Спасибо тебе за все!
Рейхарт со своими чуть экзотичными южноевропейскими чертами лица был очень красив. Он пожал Виктору руку, и Виктор ощутил в этом рукопожатии искреннюю нежность.
– Не о чем говорить, – сказал Виктор, – надеюсь, мы и в самом деле скоро увидимся. Может быть, в Стокгольме? Кто знает, а вдруг мы все туда удерем в один прекрасный день?
– Ты же знаешь, мне надо продолжать… – Рейхарт понизил голос, хотя вряд ли кто мог их услышать в таком шуме. – Надеюсь, знакомые в Стокгольме мне помогут. На фронте есть мертвые зоны. Шведские корабли по-прежнему ходят в Англию, прямо через заграждение в Скагерраке. А вот из Англии будет труднее… Может быть, удастся попасть на североморский конвой в Мурманск. Если повезет, через полгода буду в Москве.
Он внезапно, без всякого предупреждения, наклонился к Виктору, сжал его лицо в ладонях и крепко поцеловал. Виктору показалось, что поцелуй этот длится вечно. Он резко отстранился и в ужасе оглянулся. Слава богу, похоже, никто не заметил.
– Ты с ума сошел, – сказал он. – Хочешь, чтобы нами занялось гестапо?
Рейхарт улыбнулся:
– Только не тобой, Виктор. Ты родился под счастливой звездой. С тобой никогда ничего не случится…
– Тебе пора. Я нервничаю…
– Надеюсь, мы и в самом деле увидимся. Одна ночь любви – и я счастлив.
Рейхарт легко дотронулся до его груди. Виктор никогда даже и не предполагал, что Рейхарт может оказаться одним из них; такие уж времена, все вынуждены носить маску… Рейхарт вошел в вагон, даже не оглянувшись.
Через неделю они получили из Стокгольма невинную открытку. После общих слов о погоде и красоте местных жителей записка заканчивалась фразой «Bis bald in Berlin»[51], что означало: путешествие прошло благополучно, деньги положены в банк.
К лету 1942 года братья Броннен, беженцы из Судетов, стали весьма состоятельными людьми. Беда была только в том, что они не знали, как воспользоваться своим богатством. Они даже не знали, как, не вызывая подозрений, легализовать накопившиеся у них деньги. Приходилось в самом буквальном смысле зашивать их в матрас. Никаких роскошеств они себе позволить не могли, в эти нелегкие времена они сразу обратили бы на себя внимание, а вывезти валюту можно было только контрабандой. Они подумывали, не уехать ли из Германии по фальшивым документам, но в июне Морица призвали в армию, и Георг отказался что-либо обсуждать.
– Я не могу оставить его в беде, – сказал он. – Пока он не будет в безопасности, я останусь здесь.
Работа с продуктовыми карточками шла сама по себе. Почтовыми марками никто не интересовался, а Георг, не спавший ночи напролет из-за беспокойства о своем любовнике, перестал заниматься автографами. Чтобы как-то разорвать этот порочный круг, они решили временно закрыть лавку…
Виктор все лето шатался по открытым кафе и пил суррогатный кофе. Иногда ездил с Сандрой Ковальски купаться на Ванзее. Настроение в городе резко изменилось. Союзники завоевали воздушное пространство в Европе, и британские бомбардировщики, специально сконструированные для дальних полетов, совершали регулярные налеты на Берлин. В центре то и дело встречались разрушенные дома, напоминавшие Помпеи после извержения Везувия, все чаще слышался вой пожарных сирен.
В июле бомба угодила в дом в соседнем квартале. В пожаре погибло тридцать человек. Виктора больше всего испугала даже не непосредственная близость катастрофы, а то, что налет был среди бела дня, словно бы союзникам нечего было бояться.
Война подкрадывалась все ближе. Ползли упорные слухи о массовых уничтожениях евреев в польском генерал-губернаторстве. Многие не верили, но Виктор не сомневался ни секунды – он уже знал, на что способен режим. Многие годы спустя он упрекал себя только в одном – что он не понимал масштабов происходящего, не сообразил, что слухи были только бледной тенью невероятной правды. Но ведь среди его знакомых, кроме эмигрировавшего Майера, евреев не было. В его круг общения входили другие люди, чье существование тоже было под угрозой.
Именно в это лето Виктор вдруг сообразил, что все гомосексуальные мужчины, с которыми он был знаком, куда-то исчезли. Они просто перестали появляться на улицах и в кафе, и он не мог точно сказать, когда это произошло. Этот особый взгляд, который в одно мгновение без всяких слов давал ему знать, что перед ним такой же, как он, – этот взгляд просто исчез из чувственного мира. Виктор, как и все ему подобные, жил в постоянном страхе быть схваченным. Арестованы были уже тысячи, но остались миллионы, думал он. Они просто стали невидимками. Кто-то вступил в фиктивный брак, кто-то предпочел жизнь в полной изоляции. Многих забрали на фронт.
Если верить запискам, неведомыми путями доставлявшимся из лагерей и тюрем, гомосексуалов заставляли носить на одежде розовый треугольник. Упорно перешептывались о массовых убийствах, жутких экспериментах с кастрацией, о нечеловеческих условиях, непосильной работе.
Летом Виктора дважды останавливали полицейские в штатском, требовали предъявить документы и белый билет – освобождение от воинской повинности. Все обошлось, они ничего не заподозрили. За это время Виктор очень изменился. Он научился сдерживать страх; ему было всего двадцать два, а он уже стал опытным профессиональным фальсификатором. Но теперь ему было страшно – он не столько боялся, что его уличат в мошенничестве, сколько того, что каким-то образом станет известно о его гомосексуальности.
Может быть, подумал он, стоит уехать и начать новую жизнь в другом месте. У него не было семьи, не было близких друзей, если не считать Георга… Он мечтал найти Рейхарта, влюбиться… все равно в кого, лишь бы любовь была взаимной, мечтал забыть время… Его мучило, что у него никогда не было постоянных отношений, что за всю жизнь ему удалось испытать всего лишь два поцелуя. В его мечтах появлялись мужчины, безликие, юные и постарше… кто угодно, кто мог бы стать его спасением и оправданием его жизни. Но время не особенно способствовало реализации этой мечты, и он смутно догадывался, что куда бы он ни уехал – там будет не лучше.
В конце августа, в разгар этого душевного кризиса, он вдруг осознал, насколько рискованно то, что они делают. Весь их мир, с фальшивыми удостоверениями личности, фальшивыми белыми билетами, с запрещенными картинами и сомнительными контрактами, поддельными автографами, марками и документами, – все это не могло продолжаться вечно.
– Надо с этим кончать, – сказал он Георгу как-то вечером. Они сидели в подвале – объявили воздушную тревогу. – По крайней мере, с продовольственными карточками. Риск слишком велик.
– Я – против. Наши карточки выше всяких похвал. Мало того, невозможно доказать, что они фальшивые. И еще более невозможно, если так бывает, вывести их на нас.
– Почему ты так уверен?
– Потому что в этой системе правая рука не знает, что делает левая. И у нас сотни посредников.
– Любую цепочку можно проследить. Ты думаешь, если кого-то возьмут, полиция станет угощать их конфетами, чтобы заставить заговорить? Они будут бить их, пока те сами не взмолятся, чтобы им разрешили признаться. Достаточно взять одного, и он тут же настучит.
– На кого? Он же нас не знает!
– Не будь наивным, Георг. Вся эта история уже живет своей жизнью, речь идет о больших деньгах, и мы даже не догадываемся, что у каждой из этих акул черной биржи на уме. А типограф… ты уверен, что он часть тиража не продает на сторону?
– Он был бы круглый идиот, если бы это делал…
– Я предлагаю завязать. И немедленно. Замести следы, насколько это возможно, и молиться, чтобы никто не вывел полицию на наш след.
С улицы донесся глухой взрыв. Потом с воем заработали зенитки в бункере на Мариенштрассе. Георг даже не пошевелился. Мы уже привыкли, подумал Виктор, человек может привыкнуть даже к этому.
– Нам надо уехать из Берлина, – сказал он. – Здесь стало небезопасно.
– А переезжать еще опаснее. Местные власти будут особо придирчиво проверять документы. Здесь к нам уже привыкли. Управление гестапо в двух кварталах. А у них отдел по борьбе с гомосексуализмом – дверь в дверь с отделом по борьбе с подделкой документов. В центре шторма всегда безопасней.
– А если вообще уехать из страны?
– Я никуда не уеду, пока не вернется Мориц. И кстати, ты поздно спохватился. Все лазейки перекрыты. Швейцария не пускает даже бизнесменов. То же самое в Швеции. Они же видят, куда все клонится.
– Предлагаю приостановить работу. Хотя бы временно. Деньги у нас есть, не пропадем.
Сказано – сделано. Производство и распространение продуктовых карточек свернули в одну ночь. Все следы, которые могли бы навести следствие на братьев Броннен, были тщательно подчищены. Пожилой типограф на Августштрассе, немало заработавший с их помощью, согласился продать свое предприятие. Они возобновили торговлю марками, но на этот раз исключительно подлинными. Решено было временно прекратить изготовление автографов и картин.
В середине октября в лавке неожиданно появился констебль Янсен.
– Необходимо экспертное заключение, – сказал он с порога. – Очень деликатное дело, требует исключительного такта. Могут ли господа заверить меня, что наш разговор не выйдет за пределы этой комнаты?
Они дали ему честное партийное слово.
– Вот так… Знаком ли господам голландский золотой век? Мне нужны специалисты в этом вопросе.
– Есть музейные специалисты, профессора искусствоведения… констебль мог бы обратиться к ним.
Янсен выглядел одновременно напуганным и возбужденным – довольно редкое сочетание эмоций.
– Это невозможно, – объяснил он. – Дело слишком щепетильное. Заключение нужно не мне. Речь идет об одной из самых высокопоставленных фигур в рейхе… Нет-нет, это не мой тайный коллега-коллекционер, это человек из круга его знакомых. И картина попала к нему… скажем так, не совсем обычным путем. Он хочет удостовериться, что это не подделка, а господа Броннен, я уверен, могут отличить фальшивку от подлинника…
Янсен прокашлялся.
– Идет война, господа, мир перевернут, нормальные правила не действуют. Приходится импровизировать…
Он опустился на стул рядом со стендом шведских марок, которыми теперь уже никто не интересовался.
– Человек, о котором я говорю, крайне заинтересован внести ясность в вопрос о подлинности… Из соображений безопасности вам не следует знать имя заказчика, если вы не возьметесь за это дело… и то только в последнюю минуту… если вы считаете себя достаточно компетентными… Я обращаюсь к вам, потому что об официальных каналах и речи быть не может.
– Картина украдена? – спросил Виктор.
– Я бы так не сказал… нет, не украдена. Картина куплена в Голландии через посредников, но у нас с голландскими властями договор. Предметы классического искусства не должны вывозиться из страны. Это касается и вновь обнаруженных работ. В нашем случае речь идет о сенсации: полотно не известно историкам живописи.
– А что мешает нанять официальных экспертов?
– Они начнут спрашивать, какими путями картина вообще оказалась в Германии, и пойдут слухи. Заказчик… ну, тот человек, о котором я говорю, предпочел бы обратиться к вам – по рекомендации моего высокопоставленного коллеги. Речь идет о том, чтобы не подрывать мораль населения… Вы же знаете, господа, что чувствует настоящий коллекционер… и особый характер вашей деятельности, я имею в виду предметы искусства… и автографы… характер вашей деятельности свидетельствует… в общем, ваша экспертиза могла бы стать незаменимой для заказчика.
– А почему он думает, что картина подделана?
– Сама сенсационность находки рождает вопросы.
– Можете ли вы хотя бы сказать, о каком художнике идет речь?
– К сожалению, не могу сказать ни слова. Узнаете все на месте. Ваше заключение будет очень хорошо оплачено. Мало этого, вы получите гарантию, что ни полиция, ни другие ведомства никогда не станут придираться к вашей деятельности.
– И кто же даст нам такую гарантию?
– Заказчик. Его слово – закон в этой стране…
Вот так и вышло, что Георг и Виктор в хмурый октябрьский день 1942 года сидели в бронированном «мерседесе», медленно пробиравшемся по объездным дорогам в Бранденбург. Они понятия не имели, куда их везут и с кем они должны встретиться. Шофер был в форме, а по обеим сторонам машины ехали два эсэсовца на мотоциклах. В салоне, отделенном от водителя звуконепроницаемой стеклянной перегородкой, никого, кроме них, не было.
– Приятель высокопоставленного приятеля Янсена, – сказал Виктор, на всякий случай понизив голос до шепота, – еще более высокопоставленный… звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Уж не к самому ли Адше мы направляемся?
– Не вижу повода для шуток. Может быть, и к нему.
– Во всяком случае, крупный зверь. Но мне очень понравились эти намеки насчет гарантий. Весьма кстати.
– Потише… я не особенно доверяю этой перегородке.
– А я не особенно доверяю Янсену. Что он там темнил насчет нашей деятельности?
Пейзаж вокруг был вызывающе мирным. Сонные деревни, ухоженные сады и огороды. Дети махали им вслед…
– Не думаю, чтобы он что-то знал о продуктовых карточках, если ты на это намекаешь, – продолжил Георг. – Он имел в виду только запрещенные картины… ну и так далее, а он, как заказчик, только выиграет, если нас оставят в покое.
– Надеюсь, ты прав. Но влезать в политические интриги у меня нет никакого желания.
Примерно через час машина свернула на узкую, посыпанную гравием аллею. Они проехали еще с километр, прежде чем в просветах деревьев замаячила группа домов. Виктор понял, что перед ним своего рода охотничий замок, свежая постройка в пасторально-романтическом стиле. К главному зданию на спуске к озеру были пристроены два флигеля поменьше. На газоне стояли два черных лимузина.
Машина остановилась у ворот. Два охранника, заглянув в кабину, махнули рукой – проезжайте.
– Я видел это на фотографии, – сказал Виктор.
– Где?
– В какой-то бульварной газетенке… Это дача Геринга…
Виктор был прав. Они приехали в Каринхалль. Охотничий замок, выстроенный Герингом в память о своей первой жене, шведской аристократке Карин фон Канцов.
После тщательного обыска их провели в зал для приемов. На полу лежали раскрытые медвежьи капканы с оскаленными пастями, словно эти железяки испустили дух от внезапного приступа страха. Стены был украшены старинными гобеленами и картинами, на первый взгляд подлинниками Кранаха. Головы оленей и кабанов щурились из альковов. В камине потрескивали дрова – Виктор в жизни не видел каминов таких размеров. К ним вышла секретарша в форме стюардессы.
– Пожалуйста, присядьте, – вежливо сказала она. – Рейхсмаршал примет вас, как только освободится. Не угодно ли чаю, пока вы ждете?
Они налили себе чай из самовара на сервировочном столике и уселись в кресла, предназначенные, по-видимому, для титанов из греческой мифологии.
– Надо бы воспользоваться случаем и взять несколько автографов, – шепнул Георг, когда секретарша вышла. – Если бы я знал, к кому едем, захватил бы пачку фотографий…
Фотографии Геринга теперь не так легко раздобыть, подумал Виктор. Популярность шефа Люфтваффе с началом бомбардировок резко упала.
– Кстати, что ты знаешь о голландском золотом веке?
– Не больше, чем видел в музеях и учил на курсе истории живописи в академии. Ну, еще Майер иногда получал заказы на копии.
– Не так уж мало! И нам вовсе не надо притворяться, что мы профессиональные эксперты.
Их тихая беседа была прервана вновь возникшей на пороге секретаршей.
– Рейхсмаршал ждет вас, – сказала она. – Прошу следовать за мной.
Они прошли мрачным коридором, освещенным голыми лампами. Бесчисленные чучела зверей презрительно глядели на них со стен. Кранах, еще Кранах… даже несколько Рубенсов. Совершенно невероятно – они идут по этому замку. Словно на съемках фильма, подумал Виктор, случайно проходили мимо и попали в статисты… Дверь в кухню была открыта, служанки возились с кастрюлями. Ноздри дразнил запах изысканных блюд, ингредиенты для которых невозможно было раздобыть даже с подделанными продуктовыми карточками. Они свернули за угол и оказались в кабинете. За письменным столом темного дерева сидел невероятно толстый человек, в котором любой бы опознал знаменитого рейхсмаршала. На нем был белый фрак, на груди сверкало множество орденов.
– Фрейлейн Шиллер может оставить нас одних, – сухо произнес он. – И попросите повара, чтобы не опаздывал с десертом. Гости прибудут через два часа, а потом мне сразу нужно будет отбыть в Ставку. – Он повернулся к посетителям: – Ну что вы там стоите! Подойдите поближе. Картина на столе.
Это был Вермеер, вернее, как Виктор сразу догадался, искусная подделка Вермеера. По словам говорившего без остановки рейхсмаршала, картина называлась «Христос и неверная жена». Он купил ее у голландского галериста. Полотно было обнаружено совсем недавно в собрании одного амстердамского коллекционера, который даже не понимал масштаба сенсации. Неизвестный Вермеер – это никак не меньше, чем неизвестный Леонардо или Рембрандт, – такое открытие сразу попадает в золотые анналы истории искусств. Лично он не сомневается в подлинности полотна, но его советник высказывает некоторые сомнения, не идет ли речь о современном Вермееру плагиаторе.
– Господа считаются экспертами, – сказал Геринг, – мне вас очень рекомендовали. Что скажете? Я не ошибаюсь? Не правда ли, мастерская работа?
Геринг злоупотребляет одеколоном, подумал Виктор, стоя рядом с толстяком и разглядывая лежащий на столе холст; запах лаванды и мускуса был настолько силен, что он начал дышать ртом… На полотне были изображены Иисус и молодая женщина. Христос, неожиданно светловолосый, жестом утешения положил руку на спину изменницы; она пристыженно уставилась в землю.
– Неизвестный Вермеер, господа! О чем еще может мечтать коллекционер?
Толстяк побарабанил по столу. Его пальцы, украшенные многочисленными кольцами, напоминали перевязанные сосиски.
– Могу я перевернуть полотно? – спросил Виктор.
– Конечно! А зачем же вы здесь?
Виктор поставил картину на ребро и посмотрел на заднюю сторону. Рама была из сосны, а не из красного дерева или другого колониального материала, обычно используемого голландскими художниками… С другой стороны, Вермеер мог быть и исключением. Он помнил лекции в Академии художеств, помнил посещение художественной галереи с Майером и еще одним известным реставратором: в гильдии Луки во время золотого века голландской живописи существовал совершенно особый способ изготовления рам. Здесь техника отличалась, хотя он не мог бы сказать чем именно. Интуиция подсказывала ему, что картина не подлинная, что она изготовлена сравнительно недавно, хотя и с использованием старинных рецептов красок. На одном багете виднелся след стального рубанка – само по себе еще не доказательство, но явный знак: что-то тут не так.
Он опять положил картину и начал ее рассматривать. Полотно выглядело старым, хотя краски чуточку ярковаты. Тонкая сеть кракелюр на поверхности… такие могут возникнуть, если использовать слишком быстро сохнущий лак: это он знал из своей собственной ошибки, сделанной им когда-то в ателье Майера. Никаких пузырьков в краске, ни следа плесени или бактерий… состояние слишком уж хорошее.
– Это настоящий бриллиант в моей коллекции! – сказал Герман Геринг, гордо выпятив верхнюю губу. – Не правда ли, господа, никаких сомнений? Я жду ответа, чтобы покончить со всей этой историей.
– Как ты считаешь? – Георг повернулся к Виктору и устроил на лице такую мину истинного знатока, что Виктор чуть не расхохотался.
– У меня нет слов, – ответил он.
– Что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду, что у меня нет слов. Мы стоим перед совершенно неизвестным Вермеером. Такое увидишь не каждый день. Остается только поздравить господина рейхсмаршала! Картина безусловно подлинная, к тому же в великолепном состоянии. Мазок несомненно Вермеера. И мотив весьма типичен.
Геринг широко улыбнулся, продемонстрировав как минимум полдюжины подбородков. Он повернулся к Георгу:
– А вы что скажете?
– Я полностью присоединяюсь к мнению брата. Мы должны вас поздравить!
– Браво! – Геринг хлопнул Георга Хамана по спине. – Теперь господа должны дать мне слово, что будут молчать об увиденном, – сказал он, продолжая улыбаться. – До поры до времени картина представляет собой государственный секрет. Пусть моя секретарша выпишет вам чек на сумму, которую вы посчитаете приемлемой… и не стесняйтесь! Вы помогли мне в деле государственной важности, хоть и неофициальном. В один прекрасный день, когда война кончится, я передам мое собрание прусскому фонду культуры. В Берлине будет построен музей Германа Геринга. А эта картина, мой любимый Вермеер с Иисусом-блондином, будет главным экспонатом!
– А не мог бы господин рейхсмаршал осчастливить нас несколькими автографами? – спросил Георг, когда Геринг, обняв их за плечи, провожал к дверям. – Как память о нашей аудиенции в так хорошо известном народу поместье. Это большая честь для нас. И разумеется, незабыва емое счастье – помочь рейхсмаршалу в вопросах искусства.
– Разумеется!
– Если у вас есть визитные карточки или официальные бланки… Или еще лучше, фотографии, это было бы просто замечательно.
Геринг нажал кнопку звонка на стене. Секретарша появилась в ту же секунду.
– Принесите пачку официальных фотографий! – скомандовал он. – Ну, тех, где я в летном костюме. И побыстрее, фрейлейн Шиллер!
Через пять минут они покинули Каринхалль. Во внутреннем кармане у Виктора лежал чек на две тысячи рейхс марок, а также загадочно сформулированный документ: «Предприятие братьев Броннен в силу особых причин военного времени находится под особой опекой Геринга». Георг же был осчастливлен сорока портретами кумира нации: летчик-асс Герман Геринг в форме. Рейхсмаршал на снимках был заметно изящнее, он элегантно поставил ногу на ступеньку трапа одномоторного «юнкерса» с эмблемой императорских военно-воздушных сил. Кожаный комбинезон, весело поблескивающие защитные очки. Все снимки были подписаны так: «Сердечный привет! Ваш Герман Геринг».
Если бы осенью 1943 года у кого-то появилась возможность посмотреть на Европу с высоты, он был бы немало удивлен нависшим над континентом плотным, зловещим мраком. Он не увидел бы ни единого огонька, свидетельствующего, что здесь живут люди. Море и суша неразличимы, темные острова городов ничем не отличаются от окружающих лесов и полей. Уличные фонари погашены, окна завешены, омнибусы и трамваи ползут по улицам, не зажигая фар. Иногда только можно увидеть вспышки бомбовых взрывов и трассирующие огни противовоздушных батарей. Высоко в небе, как невидимые стаи перелетных птиц, ползут эскадры бомбардировщиков, угадывая по приборам путь к цели. Только где-то на краю света поблескивают огоньки деревень и городов – в Испании, Португалии, Ирландии, Швеции… Вся остальная Европа тонет во мраке.
И в такой темноте, в самом темном из всех затемненных городов Европы, в последнем трамвае между Потсдамерплац и Бранденбургскими воротами, февральским вечером Виктор впервые за многие годы флиртовал с мужчиной.
Они случайно оказались напротив друг друга в самом конце вагона и держались за один и тот же поручень. Пассажиры, кому удалось сесть, мирно подремывали. Если не считать позвякивания колокольчика, возвещающего открытие дверей для выхода и посадки, было совершенно тихо. Мужчина вошел у Дома Отечества и встал рядом с Виктором.
Он сразу узнал этот взгляд. Он помнил его со времен другой, свободной жизни, тех давних времен, когда все жили по-иному; он сразу понял, что этот человек такой же, как и он сам. Между ними словно пробежала искра. Все чувства Виктора мгновенно обострились. На незнакомце была отпускная форма вермахта. Темные волосы, худощавое, жилистое тело. Черты лица различить трудно, только слегка поблескивают большие миндалевидные глаза. Они были примерно одного возраста.
Вагон качнулся на повороте. Незнакомец наклонился к нему и осторожно положил руку на бедро. Виктор не протестовал… Две женщины поднялись и вышли, освободив самое заднее сиденье.
Они сели. Молодой человек взял его руки в свои. Пальцы зашевелились, как беспокойные ящерки. Все было как во сне… движения замедленные, будто под водой. Незнакомец шепнул ему что-то, но Виктор не расслышал. Они пригнулись за спинкой сиденья и поцеловались. Слюна была солоноватой. Юноша положил ему руку на шею и погладил кадык… Зазвенел звонок, и трамвай притормозил. Слева обозначилась темная замысловатая графика Тиргартена.
Юноша снова прошептал что-то… что-то вроде – они должны быть вместе, немедленно, он не может ждать. Что-то о войне, о фронте, откуда он только что вернулся, что ему нечего терять, все равно все катится к черту. Давай выйдем, в Тиргартене есть места, где им никто не помешает, бумаги его в порядке – на случай, если остановят…
Незнакомец встал и сделал четыре шага к двери.
– Идешь? – спокойно спросил он, не обращая внимания, что их слышат. – Ну что ж, пожалеешь!
Дверь со вздохом захлопнулась. Виктор остался сидеть. Он понимал, что на него смотрят, но в такой темноте вряд ли что можно было разглядеть.
В эту четвертую военную зиму предприятие братьев Броннен процветало. Неожиданная экскурсия в Каринхалль словно дала ему новый толчок. Им теперь покровительствовал второй человек рейха. Они жили в обманчивой иллюзии безопасности.
– А это и в самом деле подлинник? – спросил Георг, когда они вернулись в лавку и закрыли дверь.
– Не больше, чем все мои Отто Диксы.
– Как мудро с твоей стороны – не портить Герингу настроение. Мы же не хотели бы видеть слезы рейхсмаршала.
– Довольный клиент платит лучше недовольного, – заметил Виктор. – Но фальсификатор неплохо поработал. Доказать ничего нельзя, разве что изобретут какой-нибудь способ химического анализа красок. Интересно, кто за этим стоит?
– А почему бы нам не предложить рейхсмаршалу какую-нибудь старинную работу? – спросил Георг. – Теперь мы с ним знакомы. Неизвестный Рембрандт? Или Дюрер? Или Кранах… тебе не показалось, что у него слабость к Кранаху?
Георг явно резвился. Он выглядел как мальчик в магазине игрушек.
– Подделка современных мастеров имеет то преимущество, что можно работать обычными красками. Зашел в любой магазин и купил. А геринговского Вермеера раньше или позже выведут на чистую воду.
– А если бы ты работал под Вермеера?
Виктор задумался.
– Я бы дублировал полотно, – наконец сказал он. – Наклеил новый холст на старый, того периода… холст какого-нибудь малоизвестного художника, такое можно купить недорого. Достал бы старую кожу, окантовал, чтобы скрыть швы… знаешь, старинным способом, клеем и бычьим волосом. Покупатель переворачивает картину – и видит холст семнадцатого века, а на лицевой стороне – подделка.
– И как ее состарить?
– Несколько быстросохнущих лаков, – сказал Виктор после короткого размышления, – одновременно, хотя по-разному в разных частях полотна. Кракелюры будут точно такие, как на старом полотне. Далее… должны быть следы плесени, вернее, не самой плесени, а тщательной реставрации пораженных плесенью участков.
Георг свистнул:
– Пора запускать в производство.
– Слишком рискованно. Рембрандт или Вермеер – это целое состояние. Там будет совсем другая экспертиза… нет, я не стану этим заниматься.
Вскоре после посещения Каринхалля произошло еще одно событие. Задним умом Виктор и Георг поняли, что это – предупреждение на будущее. В кафе к ним подошли двое в штатском и представились сотрудниками отдела по борьбе с мошенничеством государственной уголовной полиции. Старший, по имени Крюгер, успокаивающе поднял руку.
– Не волнуйтесь, – сказал он. – Мы слышали о вашем мастерстве и хотели бы получить помощь в деле государственной важности.
Виктору и Георгу, зашедшим пообедать, даже в голову не пришло что-то заподозрить. Странно они жили в то время.
Крюгер открыл портфель и достал пачку паспортов:
– Короче говоря, что вы об этом скажете?..
– Мы нашли паспорта у одного скупщика краденого на прошлой неделе, – вставил его молодой напарник. – Но парень молчит об их происхождении, несмотря на… как бы выразиться… несмотря на определенное давление. Возьмите их с собой и посмотрите в спокойной обстановке. Встретимся через пару дней.
Паспорта были швейцарские. Они тщательно осмотрели их – если это и была подделка, то мастерская.
– Что скажешь?
– Мне бы вообще не хотелось ничего говорить.
В один из паспортов был вложен конверт со сколотыми булавкой четырьмя десятифунтовыми ассигнациями. Виктор не мог понять, попали они туда по ошибке или полиция хотела, чтобы они проверили заодно и деньги.
– Многие хотят удрать, – сказал он. – Единственный способ – проездные документы нейтральной страны.
– Но это же не обязательно люди вроде Рейхарта.
– И что все это значит?
– Войну мы скоро проиграем, что бы там ни восклицал Геббельс по радио. И русские нацистских шишек не помилуют. Могу держать пари, что те уже планируют побег. Если эти документы и подделаны, то подделаны мастерски, здесь не один человек потрудился. Меня не удивляет, что они хотят проверить их именно на нас.
– И что мы будем делать?
– Ровным счетом ничего. Даже смотреть не будем. Вернем назад и доложим, что не можем сказать ничего определенного. Незачем нам в это вляпываться.
– Откуда они про нас слышали?
– Янсен? Его «высокопоставленный коллега»? Геринг? Берлин не так велик, как кажется.
Виктор помахал конвертом с деньгами:
– А это?
– Скорее всего, фальшивые. Они хотят, чтобы мы высказались по этому поводу.
Насколько Георг прав, они так и не узнали, хотя ближайшие события подтвердили его правоту. Вся эта история каким-то образом входила в цепь невероятных событий, которые и составляли суть их жизни в последние годы.
Через два дня в том же кафе они вернули Крюгеру и его напарнику паспорта. Услышав их ничего не говорящий ответ, те не обрадовались и не огорчились.
– А деньги вы принесли? – спросил молодой, не отрываясь от газеты, – он, по-видимому, углубился в решение шахматной задачи.
– Они так и лежат в конверте, – сказал Виктор. – Зарубежная валюта – это не наша область.
– Есть подозрение, что деньги фальшивые.
– Если я правильно понимаю, мы в состоянии войны с Британией, – сказал Виктор. – Почему это нас должно волновать?
– У нас есть отдел В-2… они попросили меня приложить эти деньги. То есть центр по борьбе с фальшивомонетничеством, на Принц Альбрехтштрассе, – пояснил полицейский. – Они занимаются и фальсификацией лотерейных билетов, произведений искусства, подписей, марок….
Георга, казалось, нисколько не взволновал намек. Он застегнул плащ и направился к дверям.
– Вы должны поискать помощь где-то еще, – сказал он. – Это совсем не наша область.
В марте произошло событие, заставившее их забыть свои проблемы: Мориц, по официальным сводкам, пропал без вести. Если не считать нескольких писем, пришедших с полевой почтой, они ничего не слышали о нем с тех пор, как он ушел на фронт. Печальную весть принесла Сандра Ковальски – она виделась с матерью Морица, пожилой белошвейкой из Панкова. Она только что получила извещение из управления армии.
Почти год Георгу удавалось как-то мириться с фактом, что его возлюбленный на фронте и ничего не дает о себе знать с тех пор, как их высадили в Севастополе и он участвовал в сражении, которое, если верить пропаганде, наши доблестные войска выиграли, но в то же время в чем-то и проиграли. После этого бои переместились на северо-запад. В январе Кавказскую армию перебросили на Сталинградский фронт для поддержки несущей тяжелые потери шестой армии генерала Паулюса. Но репродукторы передавали из Сталинграда совершенно иную информацию, чем Би-би-си: Виктор и Георг регулярно слушали коротковолновый приемник у себя в подвале. И где-то там, в заледенелой сталинградской степи, пропал без вести Мориц.
Когда наконец капитуляция шестой армии была признана официально, Георг был совершенно раздавлен. Виктор делал все, чтобы как то его утешить, но без большого успеха – казалось, жизнь Георга разбита навсегда.
– Я так его любил… – сказал он как-то безжизненным тоном. – Никогда не чувствовал ничего подобного к другому человеку. Я мечтал прожить с ним всю жизнь…
Виктор часто вспоминал, как эти двое могли часами сидеть, держа друг друга за руки. Он вспоминал сдерживаемые восклицания страсти в комнате Георга. Он вспоминал взгляды, которые они бросали друг на друга, предварительно убедившись, что поблизости нет чужих… как два школьника, околдованные своими чувствами. Они и в самом деле были созданы друг для друга.
С приходом весны Виктор начал все чаще исчезать из дома на Горманнштрассе. Он понимал, что Георгу хочется побыть одному.
Временное убежище предоставили ему «сестры» Ковальски. Сандре и Кларе в своей двушке с окнами во двор на Линиенштрассе удалось создать островок счастья, здесь все дышало любовью и надеждой на будущее. Обе были неизлечимые оптимистки. Войну мы проиграем, говорили они, но на руинах Германии вырастет новый, лучший мир, где власти перестанут вмешиваться в любовь. Все будут иметь право быть самими собой. Он с удовольствием погружался в сладкие волны их утопий, но нетерпение вновь гнало его из дома; он не находил себе места.
Впервые за много лет он опять начал ходить по музеям – и поразился, какой след оставила на них война. В здание художественной галереи угодила бомба. В национальной галерее половина залов пустовала – картины перенесли в бомбоубежище, оставшиеся полотна огородили мешками с песком. Скоро от немецкого искусства вообще ничего не останется, подумал Виктор, – с тем, с чем нацисты не успели разделаться сами, покончит война. Он брал с собой угольный карандаш и блокнот – ему пришла в голову безумная мысль скопировать все, что можно, чтобы до потомков дошло хотя бы представление о том, что они потеряли. Но энтузиазм быстро испарился: задача была невыполнимой.
Все чаще ноги приводили его в Тиргартен… он вспоминал того юношу в ночном трамвае. Тот всколыхнул в нем что-то, жажду любви, тоску… и превозмочь ее он был не в силах. Среди редких прохожих он искал своих, но днем, и это он прекрасно понимал, никто не решится обозначить свой цвет.
Как-то вечером он спросил Сандру Ковальски, не могла бы она послужить ему прикрытием.
– Просто пройдешься со мной чуть-чуть по парку, а потом оставишь меня и пойдешь домой.
– Виктор, нельзя ходить в Тиргартен в темноте. Это очень опасно.
– Плевать на опасность. Я кое-кого ищу…
Она нехотя согласилась, проводила его через Митте, мимо разрушенных домов, дальше по Унтер ден Линден, через Бранденбургские ворота и Аллею Победы, и они вошли в парк, который берлинцы называли зелеными легкими города. Когда стало смеркаться, они остановились у фонтана с питьевой водой. Сандра повернулась на каблучках и исчезла.
Он бездумно бродил по парку, слабо освещенному то и дело прячущимся за деревьями мутным полумесяцем. Было до жути тихо, не было слышно ничего, кроме шороха его собственных шагов по гравию. У него не было даже никакого плана, что ему делать, если он нарвется на полицейский патруль. Он перешагнул через невысокий заборчик и пошел вдоль аккуратно высаженных роз. На полянке перед ним стоял одинокий мужчина.
Виктор двинулся к нему, наверное, чересчур решительно, потому что незнакомец повернулся и побежал, огибая деревья…
Это была жизнь на краю катастрофы, он понял это только потом. В последние годы войны Тиргартен вновь стал местом свиданий гомосексуалов. Объяснить такую неосторожность можно было только всеобщим ощущением надвигающегося конца света. На укромных полянках с наступлением темноты возрождался их довоенный мир. Здесь собирались люди, превозмогавшие животный страх ради нескольких мгновений нежности. Им больше нечего было терять. Виктор был одним из них. Он искал кого-то, сам не зная кого.
Как-то майским вечером он вновь уговорил Сандру Ковальски составить ему компанию прогуляться в Тиргартен.
– Что ты там ищешь? – спросила она.
– Надежду…
– Хочешь найти кого-то?
– Или почувствовать что-то… Иногда мне кажется, я не живу. Живу, но недостаточно, если можно так сказать.
Они взялись за руки и пошли… У обоих на руках были обручальные кольца, вот уже четыре года служившие им алиби. Сандра Ковальски была изумительно красива, и он вдруг подумал, что они привлекли бы меньше внимания, если бы гуляли порознь.
– Значит, тебе обязательно нужно рисковать жизнью, чтобы почувствовать себя живым?
Не в этом дело, объяснил он. Нет, это не то. Не опасность… просто-напросто… тоска, что ли… Он не знал, как ей объяснить, он не мог объяснить это и себе самому.
– Георг сказал, что ты обещал больше не ходить в Тиргартен.
И это тоже было не так. Георг просил его не ходить туда, он очень беспокоился за Виктора, но Виктор никогда не давал ему никаких обещаний. Он все еще не решался подойти к кому-либо из мужчин в парке. Он смутно догадывался, что переживает серьезный душевный кризис – существование казалось ему все более и более бессмысленным… он уже не знал, кто он есть, – если когда-нибудь знал.
– Будь осторожен, – сказала Сандра, обнимая его на прощание поблизости от Гроссер Штерн.
В Тиргартене колдовала весна. Цвели каштаны. На платанах распустились листья, кусты сирени источали аромат, словно бы исключавший саму возможность войны. Он пошел по тропинке, ведущей вглубь парка, сел и задумался…
Скорее всего, он задремал, потому что звук шагов внезапно послышался совсем рядом. Неясные картины проплывали в его сознании, меняясь ежесекундно, как в калейдоскопе: Георг и Мориц, вот они почему-то на поле боя где-то в заледенелой России… Когда он открыл глаза, перед ним стоял человек.
Над кронами деревьев сияли звезды. Только что они были далеко, в недостижимой вышине… но внезапно приблизились… Вот они, холодные и крупные, всего в нескольких метрах, вечерний воздух словно бы сгустился в плотный, заложивший уши туман. В парке стояла совершенная, небывалая тишина; слабые стоны машин с круговой развязки у Аллеи Победы, казалось, только подчеркивали это всемирное молчание.
Незнакомец сел рядом, взял его руку в ладони и пожал. Холодный пот заструился по лбу Виктора, он вдруг услышал шум крови в сонной артерии, удары пульса напоминали звуки шагов отряда на марше. Так они сидели, а темнота сгущалась вокруг них все плотней и плотней. Книга, захваченная Виктором для укрепления образа невинного юноши, зашедшего в Тиргартен почитать на свежем воздухе, упала на траву. Тонкие весенние запахи вдруг стали влажными и грубыми, как на болоте.
Виктор положил голову на плечо незнакомцу. Вот уже скоро лето, подумал он, но ничто не говорит о том, что жизнь повернет к лучшему… Он закрыл глаза, а руки незнакомца ощупывали его тело, ноги, бедра, пах… это продолжалось, казалось, бесконечно долго… Мир взорвался внезапной вспышкой. Ослепленный светом мощного карманного фонаря, Виктор так и не узнал, успел ли убежать таинственный незнакомец либо он просто-напросто был наживкой, на которую ловили таких доверчивых идиотов, как он. Мысль о побеге просто не успела возникнуть – его втащили в ожидавший автомобиль.
Виктор до самой смерти не мог забыть это чувство – чувство приближающегося конца. Он не мог забыть и интонацию Шпенглера, когда тот рано утром двадцатого апреля 1944 года отвел его в сторону и сказал:
– Сейчас или никогда, Броннен. Следующего раза может и не быть. Ты уверен, что хочешь это сделать?
– А других добровольцев нет?
– Я могу и сам, но мы должны решить это прямо сейчас.
На закрашенные белым окна утро наложило тонкий молочный слой света, и это каким-то образом укрепило Виктора в мысли, что его приключения идут к концу, но к какому – предугадать он не мог.
– Следуем плану, – сказал он. – Если попадемся, возьму все на себя – Крюгеру я нужен.
– Все взял?
– Все… включая лишнюю пару стелек.
Десятник посмотрел на его ноги. Под стельками Виктор спрятал необычный контрабандный товар. В правом башмаке пачка фунтовых ассигнаций разного достоинства, в левом – списки номеров серий ассигнаций, прошедших через пресс с момента начала всей их деятельности.
Заключенные в бараке ждали их, сидя на своих койках: граверы Кёлер, Хайдрих и Сименон, рисовальщики Крапп и фон Лотринген, профессиональный фальшивомонетчик Шефер, печатники Шварц и Финк. У патефона стоял Нойманн, в его задачу входило при появлении эсэсовца в ту же секунду опустить адаптер на пластинку… А напротив, между двумя натянутыми в виде ширмы простынями, на койке, служившей лазаретом в бараке, с термометром во рту сидел человек, чья судьба была так тесно сплетена с его собственной: Георг Хаман.
– Выступаем через пять минут, – сказал Шпенглер. – Удачи тебе, Броннен. Жду к отбою…
Виктор подошел к своему названому брату (даже в лагере они предпочли сохранить псевдонимы; куда делись их настоящие документы, так и осталось пожизненной бюрократической загадкой).
– Если поправишься, с меня недельный рацион сигарет, – сказал он.
Виктор помнил странную смесь досады и облегчения, когда через месяц после него его напарник появился в лагере: досада, что Георгу не удалось скрыться, облегчение, потому что он был жив.
– Удачи тебе. Жаль, пропустишь именинные торжества.
Они слабо улыбнулись – фраза, очевидно, была задумана как шутка. Уже восемь месяцев им не разрешалось выходить из барака – работа шла в лихорадочном темпе. Тысячи поддельных фунтов ежедневно паковались в ящики с таможенными наклейками экспортных фирм СС. По мере того как новости с фронта становились все тревожнее, Крюгер наращивал и наращивал производство, и Шпенглер и Шварц понимали, насколько важно сообщить на волю, чем они занимаются. Шпенглер сказал правду: сейчас или никогда. Первый раз за много месяцев им позволили выйти из барака. Сегодня был день рождения Адольфа Гитлера.
Все заключенные, кроме больных, должны были собраться на плацу. Оттуда Виктор попытается проскользнуть в прачечную. Они посчитали, что в случае провала у Виктора были самые большие шансы избежать немедленной казни, поскольку равных ему по части искусства фальсификации в лагере не было. Его должен был прикрывать Георг. Обстоятельства складывались удачно. Крюгер уехал в Заксенхаузен. Постоянные охранники получили увольнительную, их заменяли случайные люди. Так что при небольшом везении никто и не заметит, что вместо одного брата откликается другой, хотя официально Георг уже сутки лежал на «больничной» койке с симптомами, напоминающими крапивницу.
Под сторожевой вышкой, на украшенном цветами помосте, стоял духовой оркестр, на флагштоках реяли знамена со свастикой. Колонны заключенных стягивались к аппельплацу. Виктор поискал взглядом Рандера, но сразу понял, что среди несколько сот одинаковых полосатых фигур он его не найдет. Покинув строй, он может надеяться только на случай.
Начальник лагеря произнес речь о будущем Германии. Виктор стоял довольно далеко, поэтому до него долетали лишь отдельные слова: что-то там про расу, борьбу, конечную победу. Оркестр заиграл, и заключенные по команде запели «Deutschlandlied»[52], этот шедевр Гайдна, потерянный для Виктора на всю оставшуюся жизнь. До самой смерти при звуках национального гимна, даже исполняемого по случаю победы немецких спортсменов, его немедленно начинало тошнить. Он продолжал высматривать Рандера, но это было почти невозможно – люди на плацу были лишены индивидуальных черт; одинаковые полосатые робы, бритые головы, надломленная осанка… всех их мучили голод и жажда, вши и блохи, все они были одинаково запуганы неизвестностью: что принесет им очередной день?
Ближайшая группа заключенных находилась не более чем в трех метрах. Чтобы не быть замеченным, надо было действовать очень быстро. Из-за широких плеч Шпенглера он украдкой осмотрелся. Виселица, подсознательно заметил он, пустовала. Но охрана была начеку: они не выпускали строй заключенных из виду ни на секунду.
И тут ему на помощь вновь пришло провидение. Собака ни с того ни с сего вцепилась в ногу одного из пленников, возникла небольшая суматоха, и Виктор, глубоко вдохнув, как перед прыжком в воду, сделал пять быстрых шагов вправо…
Ему показалось, что тела в строю повели себя как клеточная протоплазма – они словно бы всосали его в себя, как зыбучие пески всасывают неосторожного путника, он каким-то образом оказался в самом центре строя и стал одним из них. Ему показалось, что никто не удивился, на лицах читался только страх – как бы не привлечь внимание охранников.
Он ждал, инстинктивно задержав дыхание. Ничего не изменилось. Ни один из охранников не направился к нему, ни одна собака не залаяла. На дереве у крыльца комендатуры распевал дрозд… наконец комендант закончил свою абсурдную оду Гитлеру. Он, кажется, всерьез полагал, что заключенные начнут с энтузиазмом чествовать Гитлера, человека, обрекшего их на немыслимые страдания, что они и в самом деле дружно присоединятся к пожеланиям счастья и скорейшей победы.
– Как попасть в прачечную? – прошептал он сквозь зубы.
Никто не ответил.
Церемония завершилась. Заключенные потянулись к баракам. Группе, где он стоял, скомандовали «кругом!». Капо выкрикнул слова команды, и несчастные медленно двинулись с места.
– Куда мы идем? – улучив момент, прошептал он, стараясь втиснуться между соседями в строю, – он все еще боялся быть обнаруженным охранником с собакой в хвосте колонны.
На этот раз кто-то решился ответить:
– В санитарный барак. Предстоит посвященный фюреру массовый вынос дерьма.
– Как мне попасть в прачечную?
– Это по дороге… Видишь некрашеный барак? Это и есть прачечная… ты, должно быть, ищешь Рандера? Постарайся проскользнуть, когда мы повернем за угол… охранник сзади, он не заметит. Надеюсь, одежда тебя не выдаст.
Они прошли дорожку, где испытывали на прочность армейскую обувь. Брусчатка проросла первой весенней травкой, и Виктор понял, что смертельный полигон давно не используется. Одежда… да, его одежда приметна: гражданское платье с повязкой РСХА на рукаве. Но сейчас это почему-то если и казалось препятствием, то пустяковым – по сравнению с тем, что ожидало его в прачечной.
Они приближались к обшитому некрашеными досками бараку. Дверь была открыта, но охранников не видно; только группа заключенных затаскивала в барак тележки с грязным бельем. Сзади послышался собачий лай, но оборачиваться уже не было времени. Как только они завернули за угол, он выскочил из строя и присел за грузовой тележкой. Перепуганный заключенный с охапкой одеял в руках смотрел на него с нескрываемым ужасом, как будто увидел смерть с косой.
– Спрячь меня, – сказал Виктор. – Я должен найти Рандера…
Он лежал под толстым слоем тряпья. Из огромных чанов для стирки валил пар, в бараке было нестерпимо жарко. Виктор прислушивался к звукам: скрежет тележек, шмяканье корзин с бельем о цементный пол, голоса, бульканье воды, лязганье ведер и жбанов… Вся это симфония была еле слышна под одеялами, но даже если бы вообще ничего не было слышно, вонь упорно напоминала ему, где он находится.
– Ты еще там? – сказал кто-то. – Полежи еще немного. Охранники рядом. Вышли на солнышке погреться… Они, конечно, вряд ли сюда зайдут, им запах не нравится. Но на всякий случай…
Кто-то приподнял одеяла и просунул руку в его убежище. Его обдала волна влажного жара.
– Это Рандер, – продолжил голос. – Тебе повезло… я бы сказал, непостижимо повезло. Не волнуйся, мы постараемся, чтобы ты и назад добрался… без приключений. Могу предположить, что ты здесь не из любопытства.
– У меня есть новости из малого лагеря.
– Мы никак не можем понять, что там происходит. Засекретили до идиотизма… Люди шепчутся про фальшивомонетничество…
Рандер отвалил тряпки. Они посмотрели друг на друга.
– Фунты стерлингов, – сказал Виктор. – На очереди доллары. Здесь все написано.
Он протянул Рандеру ассигнации и список номеров серий. На обратной стороне Шпенглер написал все, что ему удалось узнать: имена, сведения о центральной фабрике в Ораниенбурге, фирмы, поставляющие клише…
– Мы постараемся передать эту информацию на волю, – сказал Рандер. – У нас есть контакты… О боже, что на тебе надето?! Подожди минутку…
Он исчез и вернулся с полосатой лагерной робой:
– Полежи здесь до вечера… А когда погонят на перекличку, надень вот это. С плаца будешь выбираться сам.
Лежа в темном душном убежище, Виктор размышлял, на какой тонкой ниточке висит его жизнь. Ближайшее будущее скрывалось в таком же мраке, какой царил в пещере из грязных одеял, где он лежал, стараясь не шевелиться. Судьба милостиво позволила ему улизнуть от охранников, но для того, чтобы прошмыгнуть обратно, требовалась не меньшая удача. Он беспокоился за Георга. Георг, или Роберт Броннен, как он числился в официальных списках, составлял не менее важную часть уравнения, необходимого, чтобы их предприятие кончилось успешно. Весь этот день, пользуясь неразберихой у временных охранников, он должен был изображать Виктора и выполнять все его обязанности.
В первый же вечер после появления в лагере Георг рассказал ему свою историю. В отличие от Виктора его не судили, а сразу отправили в лагерь.
– Я, во всяком случае, избежал розового треугольника, – сказал Георг, горько улыбнувшись. – Со мной вообще обращались сносно. Два дня вопросов… и когда я откровенно врал, они просто смеялись.
После ареста Виктора Георг скрылся. С помощью подружек Ковальски он нашел убежище в семье врача из Грюневальда. Прошло несколько недель, и он, ошибочно полагая, что все утряслось, решил взять из квартиры на Горманнштрассе ценные вещи. Дом был под наблюдением, и его тут же взяли. Но их псевдонимы, заверил он, остались нераскрытыми – так они и проходили по всем закоулкам немецкой бюрократической головоломки под фамилией Броннен, и никаких вопросов по этому поводу не возникло. В гестапо было известно почти все об их деятельности – марки, подделки автографов, даже фальшивые продуктовые карточки, – но они ничего не знали о двух молодых людях по имени Хаман и Кунцельманн.
– На допросе был Крюгер, – сообщил Георг. – Он признал, что я самый удачливый преступник из всех, что он ловил. Мало того что твое профессиональное мастерство позволит тебе избежать виселицы, сказал он, тебе еще и выпало счастье увидеться с младшим братом, который тоже выполняет государственно важное поручение.
– А подделка картин? – спросил Виктор.
– Даже не упоминалась. Думаю, некоторые шишки в этом не заинтересованы…
Таким образом их судьбы вновь сплелись, в странное время и в странном месте… странном даже для военного времени.
Со временем Виктор разобрался, что происходит в их малом лагере. Он руководил маленькой группой рисовальщиков, в обязанности которых входило изготовление новых образцов ассигнаций. Кроме того, они подделывали зарубежные визовые печати и анкеты – с их помощью рассчитывали подсыпать песок в подшипники вражеской бюрократической машины. За стенкой сидел Георг с группой граверов, в их задачу входило окончательное доведение клише… Они выпускали ежемесячно двести тысяч ассигнаций общей стоимостью десять миллионов фунтов стерлингов. За год сумма достигла ста двадцати миллионов. И все же это было меньше, чем возможно, – мешал саботаж, нарушавший плавное течение необычной войны. Те, кто решил бороться, изобретали все новые и новые способы тормозить производство. В сортировочной неизвестно каким образом среди первоклассных фальшивок попадался брак, и было уже несколько случаев, когда агенты попадались на попытке обменять эти деньги в банке. Руководитель группы граверов Кёлер раздобыл где-то приемник, и они слушали Би-би-си на немецком языке. Подробно пересказываемые новости о каждом новом поражении немецкой армии придавало им храбрости, и они продолжали свою партизанскую деятельность. Нойманн тайно выписывал номера серий; Шпенглер, назначенный десятником, оказался настоящим экспертом по затягиванию работы, не вызывая при этом подозрений охраны. Он с истинно немецкой обстоятельностью постоянно придирался к качеству: печатные пластины переделывались, наборы рассыпались, рисунки дорабатывались… Виктор никогда не забудет свирепый нагоняй, который устроил ему Шпенглер в первую же неделю его пребывания в лагере: оказывается, медаль на двадцатифунтовом билете угодила на полмиллиметра левее, чем полагается. Виктор с его фотографической памятью на изображения прекрасно знал, что медаль на месте, но попытка протестовать привела Шпенглера в еще большую ярость. Охрана явно восхищалась лояльностью Шпенглера. И только вечером Шпенглер объяснил ему, в чем дело: все это представление имеет совсем иные цели, чем борьба за качество продукции.
Как бы то ни было, условия в их группе по сравнению с остальным лагерем были более чем сносными. За стенами царили ужас и произвол. В лагере содержались в основном политзаключенные и гомосексуалы, переведенные из эмсландского лагеря на голландской границе. Закрашенные окна в бараке не позволяли видеть, что происходит снаружи, но звуки полностью изолировать было невозможно – они то и дело слышали автоматные очереди, рычание собак, рвущих живого человека. Ходили слухи о злодействах, для которых и слова было трудно подобрать…
– Все в порядке? – спросил Рандер. – Ты не заснул?
– Еще чего!
Он уже начал привыкать к своему гнезду. По тряпью медленно передвигались армии вшей, он уже как будто и не замечал чудовищной вони. Дважды ему принесли воды, от хлеба он отказался. Там, в мастерской, их кормят три раза в день, объяснил он Рандеру, так же как и охрану; вечером даже дают десерт.
– Как вы выносите информацию? – спросил он.
– Кое-кого можно подкупить, другие у нас на крючке.
Очень по-человечески, подумал Виктор. Даже эта система имеет слабые места.
– Будь начеку, – сказал Рандер, – и не забудь надеть робу. Как только скомандуют на вечернюю поверку, постарайся сразу смешаться с нашими. Не бойся, люди знают, что ты здесь, мы что-нибудь придумаем, чтобы тебя не заметили.
– А как мне попасть в «малый» лагерь?
– В день рождения фюрера присутствие при подъеме и спуске флага обязательно. Ваших фальшивомонетчиков тоже выгонят на процедуру. Мы постараемся, чтобы наша группа подошла к ним поближе… Желаю удачи.
Команда на построение последовала почти сразу. Заключенные выстроились у входа. Охрана быстро проверила барак. И как и предупреждал Рандер, внимание охранников привлек внезапно потекший кран. Пока они проверяли, в чем неполадка, Виктор проскользнул в колонну…
Солнце опускалось в перину типичных для севера Германии кучевых облаков. Было тепло, по всем признакам наступало лето. Вдоль стены барака цвели тюльпаны, в этом явно чувствовалось какое-то извращение. По дороге на аппельплац Виктор посмотрел на небо – он не видел его восемь месяцев. Там уже распустился прозрачный молодой месяц. Горизонт окрасился в интенсивный персиковый цвет.
К его облегчению, взвод из малого лагеря оказался на построении совсем рядом. Увидев долговязую, напоминающую воронье пугало фигуру Шпенглера, он искренне обрадовался. Нанятый оркестр опять разместился на балюстраде и, как только начался спуск флага, опять заиграл свою «Deutschlandlied». Все шло по плану, но люди начали переглядываться: в звуки оркестра почти незаметно вплелся низкий басовый гул, как будто тубист забыл вовремя снять ноту и так и продолжал потихоньку дуть в свой нехитрый инструмент.
Строй немного нарушился. Виктор сбросил свою полосатую робу на землю и проскользнул в колонну одетых в гражданское платье фальшивомонетчиков. Они двинулись к своему бараку с белыми непрозрачными окнами…
А гул все нарастал и стал особенно заметен, когда оркестр смолк. Теперь в нем ясно различались неторопливые, выматывающие душу ритмичные взревы. По рядам пленников пробежал ветерок беспокойства. Нойманн, Шпенглер, рисовальщики Крапп и фон Лотринген, печатники Шварц и Финк, прачечная команда с их вожаком Рандером, люди с розовыми треугольниками на робах, чьи дни были сочтены, от которых к концу года не останется ничего, кроме памяти в сердцах их родных, палачи, охранники, комендант лагеря, его шофер и кухарка – все до единого подняли головы и посмотрели в быстро вечереющее небо… Они летели на юг – пятьдесят бомбардировщиков союзников, которым было приказано именно сегодня, в день рождения Гитлера, сбросить свой смертоносный груз. Они летели высоко, намного выше воскового месяца, – ангелы смерти, распростершие крылья на безжизненной синеве вечернего неба, освещенные давно уже не видимым с земли солнцем. По толпе прошла волна дрожи – на той же низкой, пугающей частоте, что и нарастающий величественный рокот. Люди бессознательно пригнулись перед этой инкапсулированной мощью, перед этим заключенным в строгие каплевидные оболочки огненным штормом, которому вскоре предстояло разразиться где-то на их родине, и сердца их, в зависимости от того, кем они были в лагерной иерархии – жертвами или палачами, – наполнились надеждой или ужасом.
Вот уже двое суток поезд с дизельным локомотивом в упряжке петлял по боковым веткам железных дорог рейха. Недалеко от Вольфбурга они попали под артиллерийский обстрел. Снаряд угодил в последний вагон, но чудом никто не пострадал. Последние сутки поезд останавливался по нескольку раз в час, на рельсах лежали упавшие деревья, убитые лошади, исковерканная военная техника. Эсэсовцы вынуждены были грозить стрелочникам оружием, чтобы те перевели стрелки. Заключенные расчищали пути. Очевидно, вдоль насыпи шли тяжелые бои: шпалы кое-где были взорваны, рельсы погнуты. Над горизонтом стоял дым – горели города.
Час назад поезд остановился окончательно – кончилось топливо. Пленникам каким-то образом удалось открыть двери вагона. И сейчас, среди ночи, они стояли на насыпи, пятьдесят растерянных мужчин, не знающих, что им делать дальше.
Рядом с Виктором дрожали от холода несколько совершенно голых людей – их одежду забрали эсэсовцы и исчезли под покровом темноты в сопровождении нескольких охранников, тащивших битком набитые фальшивыми деньгами чемоданы. Но, как ни странно, никого из этих пятидесяти он раньше не видел – кроме Георга, разумеется. Они просто случайно попали на один и тот же транспорт, направляющийся, как им сказали, в «очаг немецкого сопротивления между двумя южными фронтами». Кто-то слышал, что конечным пунктом был Берхтесгаден. Другие намекали на какие-то дикие альпийские озера, где они должны были утопить свой секретный груз. Эсэсовцы взяли с собой столько, сколько смогли унести, остальное сожгли на разведенном прямо на насыпи костре.
– Предлагаю двигаться на север, – сказал Георг. – Прямо по шпалам, туда, откуда приехали.
Но они не двигались с места. В темноте внезапно обретенная свобода пугала их, она предлагала бесчисленные возможности, и они не успевали выбрать одну из них, как тут же появлялись новые… Свобода для них означала невидимые минные поля, колючую проволоку под током, протянутую через отрывки лагерных воспоминаний: их свобода ограничивалась Хавеландом, внутренним лагерем.
Ночь источала незнакомые запахи. Где-то далеко залаяла собака, а с другой стороны, где, по-видимому, была затемненная деревня, слышались автоматные очереди.
– Мы поблизости от Бланкенбурга, – сказал кто-то.
– Откуда тебе знать?
– Кто-то из политических ходил на разведку… Вопрос в том – что нам делать сейчас? Ждать рассвета или идти в ближайшую деревню?
– Ты что, смеешься? В ближайшей деревне палят почем зря… Лучше подождать, пока рассветет.
– А если эсэсовцы вернутся? Они же грозились…
Лица в темноте были почти неразличимы. Виктор не понимал, куда делись заключенные из их барака. Всех, кроме него и Георга, посадили на поезд в северном направлении. Энтропия войны разбросала их в разные стороны. Он помнил чудовищный хаос, когда сворачивали лагерь. Перепуганная охрана поджигала бараки один за другим. Первый раз за все время ему приказали надеть полосатую робу. Заключенных выстроили для похода.
Красная армия сжимала клещи на юго-западе, но конвою удалось найти брешь на советском фронте, и их поезд каким-то чудом прорвался.
К нему повернулся сосед с нашивкой политического заключенного.
– Интересно, кто в деревне – американцы или эсэсовцы?
– Зачем они палят? – послышался голос. – Гитлер же мертв.
– Палят они потому, что Германия еще не капитулировала. По крайней мере, официально.
– Суки они, вот кто… Подонок мертв, как гнилушка, застрелился в своем бункере, как сказал шарфюрер. И Геббельс застрелился. Трусы… вся это болтовня о войне до последней капли крови, любой ценой… Ханжи засраные… И что это за идиоты продолжают сопротивление?
– Должно быть, партийные фанатики. Жмутся к стенкам, как пойманные крысы… Но нам-то что делать? Держаться гуртом или разделиться на группы? Что скажете?
– А Мюллера вы видели? Он рвал с себя эсэсовские эмблемы и трясся как осиновый лист. Гляди, я подобрал его кортик…
Заключенный, теперь уже бывший, показал кинжал, украшенный двойной молнией.
– Выкинь лучше… Русские увидят – тебе несдобровать.
– Русские далеко на востоке. Говорят, Берлин пал. На западе наступают англичане и американцы. Не волнуйся, они уже обо всем договорились. Поделят Германию, как торт, и каждый будет обсасывать свой кусок. Эта страна никогда не поднимется… останется амбаром для новых господ. Будем экспортировать сосиски и пиво и радоваться, что живы…
– Надеюсь, америкашки быстро разберутся с партийной сволочью, со всей этой нечистью…
– Размечтался! Все уцелеют, не волнуйся… Крупный зверь – он и есть крупный зверь. Скоро будут сидеть вместе и жрать перепелиные яйца – Эйзенхауэр и Кейтель. Все руководство вермахта устроится бок о бок с союзниками и будет обсуждать будущее Европы. Партия для этой цели направит Геринга и Риббентропа в штатских шмотках – дворяне лучше знают, как себя вести в изысканном обществе. Гитлер же был плебей плебеем…
– Заткнитесь вы!
В темноте послышался крик, потом выстрелы. Близко, в полукилометре, не больше.
– Пора мотать отсюда, – прошептал Георг. – В том направлении, кажется, все тихо… – Он мотнул головой. – Фронт покатился дальше… в той деревне, похоже, идет зачистка…
– А не лучше ли подождать? – спросил Виктор. – В такой темноте можно бог знает на что нарваться. На мину…
– Слушай меня. Как только рассветет, лучшей цели для них, чем стоящий поезд, и придумать будет трудно. Поскольку в деревне идет бой, они разбираться не будут – сначала разбомбят, а потом спросят, кто мы и откуда. Надо уходить, пока темно, и я хочу, чтобы ты составил мне компанию. Мы не можем топать, как стадо слонов… Подумай, пятьдесят человек! Обязательно кто-то начнет стрелять – американцы, русские или эсэсовцы… или какой-нибудь фермер решит защищать свои владения от грабителей…
Виктор никак не мог решиться. Костер, разведенный охраной из ассигнаций, постепенно угасал. Но в куртке его были зашиты десять тысяч фунтов мелкими банкнотами.
– Им даже до рассвета ждать не обязательно, – настаивал Георг. – Поезд прекрасно виден с воздуха, полнолуние и на небе ни облачка… Да еще этот финансовый костер…
– Ты прав, – сказал Виктор. – Лучше отсюда уходить.
– Нам на север! – Георг большим пальцем показал за спину.
– Какая разница – куда? Куда бы мы ни шли, все равно наткнемся на солдат. Они сейчас везде. Германия побеждена, не забывай.
– Я предлагаю на север. Вернее, на северо-восток. Я хочу в Берлин.
– Ты с ума сошел! Что мы там будем делать? Город же кишит русскими! Но если добраться до Гамбурга, можно попробовать уехать из Германии.
– Куда ты собираешься уехать? Кто нас сейчас примет? Мы – побежденные, Виктор. Они могут делать с нами что хотят. Теперь все будут утверждать, что сидели в лагерях и подвергались истязаниям. В Берлине мы, по крайней мере, знаем все закоулки.
– Да, мы знаем там все развалины… И жрать там нечего.
У тлеющего костра собралась группа заключенных. Виктор слышал, как они рассуждают насчет фунтов стерлингов, вернее, догорающих остатков сотен тысяч фунтов стерлингов. Они ровным счетом ничего не знали про Хавеландский лагерь, не знали, чем там занимались, и уж совершенно терялись в догадках, почему эсэсовцы разложили костер из денег. Он ничего никому не рассказывал. Георг тоже молчал. Молчание и секретность… он вдруг понял, что молчание и секретность намертво въелись в их натуру.
Они шли вдоль насыпи, пока не добрались до переезда. Железнодорожные пути пересекала проселочная дорога; они двинулись, как они посчитали, на восток. Все стихло. Стрельба прекратилась, дорога петляла между полями и лесистыми холмами, сильно пах цветущий шиповник. Луна светила ярко, как прожектор.
Прошел почти час, пока они дошли до деревни. Деревня расположилась в лощине, где дорога поворачивала, уходя за холмы. Они посовещались. Преимущество большой дороги одновременно являлось ее недостатком – ее хорошо видно, но и их видно не хуже. Решили пойти полем.
Чуть поодаль бежал ручей; они пошли вдоль ручья, стараясь остаться незамеченными. Им повезло: они выкопали несколько только что посаженных картофелин, а вода в ручье оказалась вполне питьевой. Так они шли, час за часом, параллельно дороге. По пути им встретилось не менее полдюжины деревень.
Перед рассветом устроили привал. В километре от них возвышался поросший лесом холм, у подножия его расположился хутор. За сараем стоял бронированный армейский автомобиль, но на таком расстоянии невозможно было определить, что это за машина и какой армии принадлежит. Друзья и враги… пустые слова, подумал Виктор, кем бы они ни были, увидев нас, они начнут стрелять.
Небо начало быстро сереть. Они побежали, чтобы побыстрее миновать открытое место. С хутора послышался собачий лай. Наконец они достигли опушки, и в тот же миг на дороге появился джип с развевающимся звездно-полосатым флагом. Американцы.
Только сейчас, немного отдохнув, они обратили внимание, что довольно холодно. Несмотря на начало мая, температура по ночам опускалась до нуля.
– Дальше что? – спросил Виктор.
Георг, сняв сапоги, массировал ноги.
– Останемся здесь на ночь и будем надеяться, что эти, в джипе, нас не видели. Как только стемнеет, двинемся в Берлин.
– Не меньше двухсот километров.
– Бои скоро закончатся. Тогда зайдем в первый попавшийся город. Попытаемся найти какой-нибудь транспорт. Остается рассчитывать, что лагерная одежда послужит нам пропуском.
Виктор молча кивнул. Ему не хотелось спорить. У Георга явно была навязчивая идея. Что ждет их в Берлине? Если верить слухам, сплошные развалины. Сокровища в музеях, которые нацисты не успели сжечь, наверняка разграблены. Почему-то именно отданное на растерзание искусство печалило его больше всего. В этом была какая-то связь с его собственной судьбой. Поэтому он даже думать не хотел о Берлине. Чем больше он размышлял, тем больше росла уверенность. Он будет пробиваться в Гамбург. Чем черт не шутит, если повезет, уедет в Швецию. Может быть, их деньги в шведском банке сохранились. Двухсот тысяч рейхсмарок более чем достаточно, чтобы начать новую жизнь.
Он выложил все это Георгу, но тот остался непреклонным:
– Если деньги целы, вышлешь мне половину, а я иду в Берлин. Это мой город. У меня его отняли, но он опять будет моим. К тому же у нас полно фунтов, Виктор, не забудь!
Впрочем, они не знали, удастся ли им пустить в дело фальшивые английские деньги. Может быть, все уже известно? Союзники, наверное, освободили лагерь и поняли, что там происходило…
Они заснули и проснулись уже после полудня. Опять похолодало, они никак не могли согреться. Мы и в самом деле как братья, подумал Виктор, братья, с корнями вросшие в роли, назначенные нам с рождения. Это спасало нас не раз, но теперь мы расходимся в разные стороны.
Четверо суток продолжалось одно и то же – ночью они шли, а днем прятались и отсыпались. Ели, что найдется на поле. Когда закончились третьи сутки без стрельбы, они поняли, что на земле наступил мир. Утром 11 мая 1945 года они решили больше не прятаться и к ночи дошли до Ганновера.
Виктору потребовалась еще неделя, чтобы преодолеть сто километров до Гамбурга. Дороги были забиты беженцами. Изголодавшиеся быки тянули телеги с домашним скарбом, по обочинам сидели бездомные и выселенные. Американские машины, непрерывно сигналя, пробирались сквозь беспорядочные толпы людей. На развалинах и стенах домов он видел тысячи записок – люди искали своих близких.
Они расстались с Георгом, и было совершенно неизвестно, увидятся ли они когда-нибудь еще.
За десять фунтов его пустили в телегу, направляющуюся в Альтону. Дважды их останавливали военные полицейские, но, завидев лагерную робу Виктора, пропускали, махнув рукой. Несколько раз они разминулись с колоннами военнопленных – немецких парней его возраста гнали в лагеря для интернированных.
Гамбург превратился в груды руин. Горные цепи битого кирпича, кровельного железа и обугленных досок громоздились на улицах. Искореженные до неузнаваемости стальные скелеты домов… География города перестала существовать. Наступил час ноль немецкой истории, как потом, подражая друг другу, назовут эти дни хроникеры. Это была не просто капитуляция, в войне уничтожена вся немецкая цивилизация, а руины стали символами унижения нации. Все, что видел Виктор, только укрепляло его в решимости покинуть страну. У него здесь не было будущего. Ни семьи, ни друзей… Кроме Георга, выбравшего другой путь, он не знал никого. Он уже начал привыкать к мысли, что они расстались навсегда. Как ни странно, сознание этого факта приносило ему облегчение – слишком тесно был связан Георг со всеми событиями последних лет.
Но добраться до Швеции оказалось куда труднее, чем он предполагал. У него не было никаких бумаг из лагеря в Хавеланде, которые могли бы подтвердить его статус узника нацизма. Работа была настолько секретной, что их даже не регистрировали в лагерных журналах. На довоенном еще месте встреч около Реепербан поговаривали, что с гомосексуалами из лагерей особо не церемонятся. Они не могут рассчитывать на помощь, их даже не признают жертвами нацизма. Наоборот – все шло к тому, что новое правительство оставит гомофобные законы рейха в силе.
На поддельные фунты он купил справку, удостоверяющую, что он, Виктор Фюманн, 1921 года рождения, по политическим мотивам был заключен в концлагерь Нойенгамме. Он не знал и не хотел знать, что случилось с человеком, давшим ему свое имя. Теперь у него было право на продуктовый пакет на британской армейской базе и особые продуктовые карточки гражданского управления.
Но этой справки было недостаточно. Ему нужна была история повесомее.
Прошло несколько недель, прежде чем удалось раздобыть на черной бирже паспорт беженца. За это пришлось отдать половину запаса фунтовых банкнот. Паспорт был выдан шведским Красным Крестом норвежскому партизану, чья судьба была неизвестна. Он изменил паспортные данные – бритвой счистил фамилию норвежца и вписал свою – Виктор Кунцельманн. Вклеил фотографию и, раздобыв водостойкую тушь, подделал печать. Он хотел начать новую жизнь под своим именем – должно же быть зерно правды в постоянной лжи, должно же найтись место для его подлинного «я» в этом многолетнем хаосе жульничества и обмана… Он начнет новую жизнь в новой стране, но для того, чтобы это сделать, ему надо на что-то опереться.
За неделю перед отъездом он окончательно скомпоновал свою биографию. Случайно ему попала в руки военная справка, выданная офицеру связи британского флота, находившемуся в немецком плену с 1943 года. Он купил эту справку у бывшего полицейского, служившего в охране лагеря для военнопленных. Его немного удивило, что он так легко договаривается о чем-то с человеком, который совсем недавно мог бы стать его палачом. Ему очень бы хотелось почувствовать ненависть, но этот человек не вызывал у него вообще никаких эмоций. Он был его ровесником, одет в штатское, правая рука ампутирована до локтя – ранение на Восточном фронте… и он, как и Виктор, жил по поддельным документам. Они договорились, что тот предоставит Виктору заверенный, но не заполненный бланк регистрации военнопленных, а Виктор заполнит его сам. Позже, в пятидесятые годы, он для надежности сделает фотомонтаж, где он в форме стоит на борту английского «морского охотника». В Швеции, он знал это наверняка, никто не сможет проверить эти данные.
Двадцать первого июня он прибыл шведским грузовым кораблем в Мальмё. Пассажиры были главным образом беженцы без гражданства. Виктор никогда не мог забыть момент, когда они швартовались у причала в Лимхамне. Стояла великолепная погода, в воздухе реяли желто-голубые флаги. Свет в этой северной стране был совершенно необычен – тонкий, словно разведенный растворителем.
На пристани ждала делегация Красного Креста. Их зарегистрировали в конторе и направили в близлежащую школу на врачебный осмотр.
Он рассказал чиновнику иммиграционного ведомства, что покинул Германию по политическим соображениям еще до начала войны и завербовался в английский флот. Потом был взят в плен и попал в немецкий лагерь для военнопленных. Чисто юридически он не был ни немцем, ни англичанином. Он был дезертиром и военнопленным в одном лице. С моральной точки зрения к нему было не придраться, поскольку он принадлежал победившей стороне. Он прекрасно понимал, что в нормальных условиях и при отсутствии каких-либо связей его затея почти безнадежна, но сейчас, в послевоенном хаосе, с поддельными документами и биографией, чьи нити навсегда затерялись в чудовищном клубке войны, который никогда и никому не удастся распутать… в таком хаосе чудеса происходили на каждом шагу… Через полгода он получил вид на жительство, а еще через год стал гражданином Швеции.
3
Виктор и Виктор… Два Виктора – так думал шестьдесят лет спустя Иоаким, сидя в кресле у психотерапевта на Нарвавеген и глядя в окно на гранитную часовню церкви Святого Оскара. Цепь ассоциаций, приведшая его к этому глубокомысленному заключению, была гораздо сложней, чем могла показаться на первый взгляд, и к отцу его имела лишь косвенное отношение. В эту цепь входили, как ни странно, «соленые крендели», «крашеная восточноевропейская блондинка» и даже «острое отравление диоксинами, но, скорее всего, тяжелый алкоголизм». Один Виктор выиграл, другой проиграл, констатировал он, сгибая и разгибая пальцы ног в войлочных тапках, которые, как всегда, предложил ему психотерапевт, и оба носят то же имя, что и мой непогрешимый папаша, который невидимым катализатором наверняка присутствует в этой цепочке. Один Виктор, Ющенко, хороший, а его противник, другой Виктор, Янукович, – лузер, жулик, шпион и обманщик. Этот последний, судя по всему, был похож на самого Иоакима во всем своем ничтожестве. Надо сказать, что ни один из вышеприведенных выводов ни за что не пришел бы ему в голову (и уж точно не запомнил бы он замысловатые фамилии антагонистов), если бы не некая Юлия Тимошенко. Он видел ее накануне в вечернем выпуске новостей о беспокойных выборах в Киеве, и эта дама вызвала у него живейший сексуальный интерес.
– Юлия Тимошенко напоминает мне женщину, которую, как мне кажется, я люблю! – заявил он прямо.
Эрлинг Момсен исподтишка поглядел на наручные часы:
– Кто?
– Эта хорошенькая блондинка с силиконовой грудью, она стоит во главе «Отпора».
Эрлинг непонимающе уставился на него.
– «Отпор». Оппозиционное движение на Украине. Я видел ее вчера по ТВ. Говорят, она миллиардер, то ли на нефти, то ли на газе. Потрясающая женщина! Она напоминает мне Сесилию, если бы Сесилии вдруг вздумалось вымыть голову перекисью водорода… но на наших широтах женщины так не делают, почему-то это считается безвкусным… а почему? Человек ведь имеет право выглядеть, как ему хочется.
Эрлинг Момсен терпеливо ждал, когда же его пациент доберется до сути, но Иоакиму вовсе этого не хотелось, он даже не особенно хорошо контролировал, что за слова формировались у него на губах, они возникали словно бы независимо от сознания. Ему очень хотелось немного пофантазировать об этой блондинистой секс-бомбе из Киева… Вчера в выпуске, между информацией о предстоящих похоронах Ясира Арафата и репортажем о бесстыдном, но в высшей степени ловком жонглировании «Скандией»[53] деньгами акционеров, она появилась в расстегнутом горностаевом манто (в Киеве шел снег), под которым было сильно декольтированное оранжевое платье цвета украинской революции… Она надувала силиконовые губы и выпячивала не менее силиконовую грудь – Иоаким даже представить себе не мог, что такая грудь может быть настоящей. Глядя на эту даму, он ощутил внезапную горечь – до того она напоминала ему ту, которая больше не хотела иметь с ним дела. Он уже мысленно прислушивался к наступающей медленной, с примесью печали, эрекции, но тут горделивый орган съежился и обмяк: камеру перевели на жутковатого героя политической драмы к востоку от Днепра. Виктор «the good guy» Ющенко с гневом обличал фальсификаторов результатов выборов. Более всего он был похож на только что выкопанный труп.
– Говорят, его отравили, – сказал Иоаким, успешно избегая проницательного взгляда Эрлинга Момсена – тот, по-видимому, пытался заглянуть в мусорный контейнер его души. – Отравили диоксином. Скорее всего, исполнителем был похожий на Карелина русский из КГБ – ему было поручено убрать Ющенко, чтобы победил ставленник Москвы – Виктор «the bad guy» Янукович. Это все из-за нефти. Колоссальное количество нефти.
– Должен сказать, я не понимаю, о чем ты… Давай-ка прокрутим ленту немного назад, чтобы не потерять нить. Значит, так… ты не хочешь себя связывать, но все же рисуешь себе чуть не открыточную идиллию: Сесилия и ты, счастливая пара… ты даже что-то о детях говорил…
Неужели он и в самом деле говорил о детях? Дети? Счастье? Бог знает, какой бред может налипнуть на сознание, если сидишь слишком долго наедине с Эрлингом. Оставалось еще четверть часа тейлористски[54] отмеренного времени сеанса психотерапии (семьсот крон за сорок пять минут), после чего он может двинуться прямо к офису Сесилии Хаммар и начать… да что там, другого слова не подыщешь: начать за ней слежку. В кризисной ситуации на правила хорошего тона можно и наплевать. В конце концов, у него же просто нет возможности с ней встретиться! Она без всяких объяснений вдруг сделалась недоступной – не брала трубку, не отвечала на мейлы, а когда он попытался дозвониться к ней на работу (шикарно обставленная редакция в Васастане), телефонистка вежливо сказала, что Сесилия Хаммар на важном совещании.
– К тому же совещание продолжится не меньше часа, и таких совещаний от двенадцати до пятнадцати штук ежедневно, в конторе и в городе, причем одновременно, – не удержался он от язвительного комментария в последний раз, – плюс обычная работа с девяти до пяти. Вы, должно быть, ввели хронологию Стивена Хокинга[55] в неизвестном мне измерении… или, может быть, мы вообще живем на разных планетах?
– Очень сожалею, – сказала бессердечная телефонистка, – но не знаю, чем могу вам помочь. Попробуйте связаться с ней по прямому телефону.
Что он и сделал, но на дисплее ее рабочего телефона наверняка высвечивались номера звонивших, причем подозрительные звонки сопровождались ядовитым подмигиванием, и она поднимала трубку, только когда была уверена, что звонят по делу: Иоаким в этом убедился, набирая номер с чужих мобильников и из вестибюлей нескольких гостиниц – безрезультатно. Она ввела одностороннее радиомолчание. И с каждой новой попыткой поговорить с Сесилией он все более и более выходил из себя. Он даже решил подкараулить ее у конторы – а почему нет? Она же бросила его на произвол судьбы, а такие решительные действия предполагали не менее решительный ответ.
– О чем ты думаешь, Иоаким?
– Карелин. Или Сергей. Его так зовут, как выяснилось, – Сергей. Я кое-что разузнал – у нее роман с этим типом. Это тревожная новость. Я за него боюсь.
– Теперь я тебя совсем не понимаю.
По правде, Иоаким и сам себя не понимал. Но информация, раздобытая не особо честными путями, подтверждала его опасения.
– Карелин – это моя кличка в последнем романе Сесилии, – вздохнул он, рассеянно скользя взглядом по четырем маленьким картинам, висевшим за спиной у Эрлинга. – Я вчера вел себя не особенно красиво… мне бы не хотелось об этом говорить.
Картины ничего ему не говорили, кроме совсем маленького полотна, изображающего лисье семейство в гостиной. Картина была подписана «Эрнст Бильгрен». Неужели Эрлинг разбогател и стал интересоваться искусством? Довольно любопытный вопрос!
– А сегодня вечером я собираюсь за ней следить. Посмотрю, куда она пойдет после работы. Узнаю, где они встречаются. Попытаюсь подслушать, о чем говорят. Чем занимаются… Нет, конечно, ничего этого я делать не буду. Это немыслимо. Ни за что!
C Нарвавеген с ее образцово вымытыми тротуарами доносился веселый лай карликовых пуделей, гуляющих с до абсурда состоятельными дамами. Эстермальм – terra incognita для людей с интеллектуальными запросами вроде Иоакима. Но кто его знает, может быть, репутация скучного района и преувеличена. На самом деле здесь живут настоящие оригиналы, решил он и тут же нарушил золотое правило, гласящее, что во время психотерапевтического сеанса пациент должен сидеть совершенно спокойно. Вместо этого он встал и подошел к маленькому лисьему семейству Эрнста Бильгрена. Богатство порождает безделье, безделье, в свою очередь, порождает скуку, а скука – декаданс. Эстермальм в Стокгольме… где еще в этой продолговатой стране люди красят своих пуделей в антично-розовый цвет и отводят к маникюрше, а сами в ожидании выхлюпывают устрицу за устрицей в местном ресторанчике?
– Много заплатил? – спросил он, разглядывая полотно. Мама-лиса нянчится с маленьким лисенком, а папа-лис смотрит телевизор.
– Как посмотреть… Очень трудно оценивать в деньгах вещи, которые нравятся.
– А тебе нравится Буше?
– Кто?
– Французский живописец эпохи рококо… А Кройер? Поэт Скагена? Впрочем, ладно… забудь.
На юго-востоке клубились грузные ноябрьские облака. Наверное, тот же самый циклон, что вчера посетил Украину, но там была настоящая снежная буря, а здесь бурю предлагали в более умеренном, социал-демократическом издании.
– О чем мы говорили? – спросил психотерапевт. – А, да… о смерти твоего отца. Ты знаешь, о чем я подумал? Может быть, ты похож на него больше, чем хочешь признать…
– Никакого сходства. Мой отец был… – «немецкий педераст и фальсификатор», чуть не сказал Иоаким, но в последнюю секунду решил сделать финт в стиле Златана Ибрагимовича: – Мой отец был достойный человек, а я – нет.
– Значит, у тебя есть возможности для роста.
– Отец, например, не ел свои сопли, – к собственному удивлению, брякнул Иоаким, направляясь к стулу.
– Вот как? А ты ешь?
– Я этого не говорил. А если бы и ел – ты стал бы плохо обо мне думать?
– В мою задачу не входит ставить тебе оценки, Йокке, я не расцениваю твои мысли и поступки по шкале «хорошо – плохо». Важно, что ты чувствуешь сам. Речь идет о том, чтобы ты разобрался в самом себе. Это же твои чувства и поведение, не мои.
– Нет, положа руку на сердце – что бы ты сказал, если бы узнал, что я начал поедать козы из собственного носа, как когда-то в детстве? Представь, душевное отчаяние дошло до такой степени, что я выковыриваю лакомства из носа и устраиваю пиршество… не правда ли, мерзко? Признайся…
– Как я уже сказал, в мою задачу не входит осуждать твои действия в личном плане…
У него здесь тихо, как в церкви, подумал Иоаким. Ему так и не удалось разобраться, живет Эрлинг в этой квартире или арендует ее для приема обитающих в центральных районах Стокгольма миллионеров-невротиков. Если вдуматься, он вообще ничего не знает об Эрлинге – есть ли у него дети, женат он или одинок, болеет за футбол или предпочитает театр. Напротив него сидит человек, знающий про него все, каждую неделю вынимающий у него из кармана тысячу крон за то, что копается в его жизненных ошибках, в скопившемся на дне сознания мусоре, внедряется в его душу… человек, настаивающий, чтобы Иоаким открывал перед ним все свои секреты, и ни словом не обмолвившийся о своих собственных. Это несправедливо.
Ты что, собираешься отправить это в рот? – спросил внутренний голос, посещавший Иоакима в последнее время все чаще. – Фу, какая гадость! Поросенок!
– В таком случае рискну предположить, что это новый вид злоупотребления, – сказал Эрлинг, – ты же злоупотребляешь порнографией. Это все явления одного рода, попытка убежать от настоящих чувств. Как только настоящие чувства дают о себе знать, ты стараешься избегать их с помощью временного возбуждения… так и рождается зависимость.
Иоаким не сразу понял связь между понятиями «порнография» и «злоупотребление», хотя это словосочетание подвело опасно близко к намекам его приятеля Андерса Сервина три недели назад. Речь тогда шла о его доме на Готланде. В настоящий момент Иоаким временно сдавал его одному из деловых знакомых Андерса, и ему сейчас вовсе не хотелось об этом вспоминать, а вернее сказать, вообще не хотелось думать об этой затее, хотя она и приносила деньги. Но он понимал, что очень скоро будет просто вынужден думать, а может быть, даже что-то решать, потому что в том самом доме на Готланде меньше чем через двое суток он должен встретиться с сестрой и свояком. По-видимому, в связи с воспоминанием о Юлии Тимошенко и распутыванием одного из самых отдаленных узелков Сети в голове его возник некий семантический беспорядок. Узелок этот был вот какой: в Интернете обнаружился постоянно пополняемый удивительный подраздел наиболее типичных извращений – он немедленно нарисовался, как только порносёрфингист-любитель Иоаким, в попытке найти похожую на Юлию Тимошенко голую красавицу, написал два ключевых понятия: «секс плюс прическа кренделем»… и тут же выяснилось, что есть целый сайт, посвященный так называемому прецельсексу, то есть сексуальному общению с солеными кренделями. Иоаким до этого и понятия не имел, что можно делать с солеными кренделями, он-то думал, что они предназначены для еды. Оказывается, не только.
Дрожащая серо-зеленая протоплазма, она уже по пути к твоему благородному языку, – с совершенно новой, писклявой и испуганной интонацией произнес внутренний голос. – И тебе не стыдно?
– Конечно, тебе не повезло, – участливо сказал Эрлинг, – отец ушел как раз тогда, когда мы начали приближаться к сердцевине твоих проблем. Может быть, в завершение сеанса поговорим немного о скорби, прежде чем двигаться дальше… У нас есть еще несколько минут.
С кренделями можно делать что угодно, мысленно ускользнул Иоаким от темы, поскольку никакую скорбь сейчас он просто не мог себе позволить. А крендели… Можно, к примеру, засунуть полумягкий член в одну из этих пустот, а другие пусть объедают самые вкусные участки. Можно также надеть несколько крендельков на соленую палочку, и они будут работать как сухой и соленый буфер между двумя половыми органами. Можно предоставить соленым кренделям исследовать женские отверстия и полости… Эти изделия настолько прочны, что годятся почти на все.
– Мои проблемы не в том, что папа умер.
– А в чем же, Иоаким?
– В каком порядке? По мере уменьшения или по мере нарастания?
– В каком хочешь, Иоаким.
– Женщина, которую я люблю, ушла от меня к русскому борцу и не отвечает на мои мейлы. Это раз: меня бросили. Второй пункт: я собираюсь за ней следить. Начну сегодня же. Меньше чем через час, как только отсюда вый ду. Пункт третий: мое финансовое положение чуть лучше, чем весной, но в перспективе не выдерживает никакой критики. Пункт четвертый: в моем летнем доме происходит что-то весьма сомнительное с моральной точки зрения. Пункт пятый: моя сестра собирается туда приехать…
Он продолжал механически перечислять запутанный список неудач последних месяцев, в то время как его истинное «я» не могло оторваться от утреннего стыдного происшествия, о котором въедливо напоминал ему внутренний голос. Определенно, если быть честным (вообще-то честность не являлась его сильной стороной) – это происшествие должно было бы занять первое место в горестном списке, а вслед за ним сразу следовал бы взлом электронной почты Сесилии, совершенный им накануне вечером. Но он не стал бы об этом рассказывать своему психотерапевту даже под угрозой смерти. Забыв время и пространство, в девять утра он сидел на изрисованном сиденье в метро – и вдруг очнулся, почувствовав, что на него смотрят. Если бы он сам находился среди публики, особенно в то время, когда был студентом в институте кино, он дал бы следующую раскадровку: какой-то несчастный входит в метро в час пик, садится и впадает в постмодернистское забытье… но быстро очухивается, потому что вокруг наступает полная тишина. Смена кадра: герой глазами пассажиров (маловыразительная китчевая музыка по восходящей секвенции, бросается в глаза эстетика Русса Майера[56]). Аристократически выпрямленный указательный палец направляется в полуоткрытый влажный рот (крупный план рождает эротические ассоциации)… и тут несчастный внезапно осознает, чем занимается, – на пальце балансирует нечто трудноопределимое… что же это такое?.. Наезд, и теперь видят все: реальная порция носового содержимого по пути в жадную пасть… Стоп! – кричит кто-то (оператор? Бог?), а оскандалившийся герой выскакивает из вагона, благо поезд задержался на Уденплане из-за сбоя сигнализации.
Он вздрогнул и попытался не думать об этом, принудить воспоминание к ретираде… хуже всего было, что среди пассажиров затесалась одна из сотрудниц Сесилии, которая смотрела на него с нескрываемым отвращением.
Вот, значит, как низко он пал… и самое главное – перестал контролировать свои действия. И как долго это продолжается? А может быть, это не единственный случай? Может быть, он в подобном же трансе проделывал это не раз? В городе? В ресторане? На встрече с Андерсом Сервином?
Очень может быть, – пропищал внутренний голос. – Ничто меня не удивит… но ты ведь еще и сын жулика.
– Наше время кончилось, – солидно констатировал Эрлинг Момсен и закрыл переплетенный в кожу блокнот, где содержалась вся история духовного падения Иоакима Кунцельманна. – Увидимся на следующей неделе… Я бы тебя попросил подумать, чем ты похож на своего отца.
Покуда Эрлинг провожал его к двери, Иоаким лихорадочно подыскивал слова, подходящие для сооружения ловушки интересующемуся искусством идиоту с хорошими деньгами. Ему, однако, мешало неотвязное чувство стыда, он никак не мог сосредоточиться и подобрать соответствующие фонемы, но произошло невероятное – Эрлинг Момсен его опередил. Может быть, это знак, что скоро все повернется к лучшему?
– Конечно же я знаю, кто такой Буше, – сказал психотерапевт. – Что, твой отец и в самом деле оставил работы Буше?
– Мелки по цветной бумаге. Черный аргилит, красный и белый натуральные мелки, зеленый фон. В отличном состоянии…
– Они же, должно быть, дико дороги?
Иоаким быстро прикинул, не стоит ли продать своему психотерапевту неизвестное масло Кройера или, скажем, итальянский ренессанс… Нет, Буше – самый безопасный ход.
– Если хочешь получить полную рыночную стоимость, надо долго возиться, – сказал он. – Вопрос в том, стоит ли игра свеч. Можно, конечно, поискать покупателей за границей. Или обратиться в музей, у них есть закупочный бюджет на рококо. Аукционам в Стокгольме я не верю… Дорогой Эрлинг, я не ем собственные сопли. Если тебе это скажут, не верь.
– Разумеется! Но как ты думаешь… может частное лицо заполучить Буше? Небольшой рисунок, скажем….
Одна из проблем в его нескончаемом списке неурядиц – он должен Эрлингу деньги. Может быть, это можно использовать? Они уже разработали схему выплат долга, чтобы не отказываться от лечения, но тут как раз и содержалась наживка.
– Почему же нет? – сказал он. – Я же у тебя в долгу, так что ты идешь вне конкурса. Только мне надо сначала поговорить с сестрой. Мы решаем вместе.
– Я понимаю… очень хорошо понимаю! Позвони, как надумаешь. Мне все равно нужно время, чтобы раздобыть деньги.
На следующий день после разговора с Георгом Хаманом Иоаким рассказал сестре все, что он узнал о Викторе. Она не хотела верить… как и следовало ожидать. Она прожила всю жизнь в уверенности, что ее папа – благородный гетеросексуальный мужчина, а оказалось – все наоборот. Чтобы не быть голословным, он отвез ее в ателье на берегу и показал следы отцовской деятельности.
– Не знаю, что и думать, – сказала она, увидев две подделки Кройера, итальянский ренессанс, наполовину готовый пастиш Дюрера, а также пачку листов aux trois crayons в стиле Буше. – У меня такое чувство, что мне нужно как минимум пару лет, чтобы все это переварить.
Она с трудом сдерживала слезы, но тут подал голос Эрланд:
– А откуда ты знаешь, что этот человек говорит правду? Эти картины, на мой взгляд, вполне подлинные.
– Но не на мой… И то, что он рассказал Иоакиму, все разъясняет. Как он мог собрать такую коллекцию, не имея состояния? Почему так много различных стилей и манер? Почему он все уничтожил перед смертью? Почему его никто никогда не видел с женщиной?… – Жанетт брезгливо взяла с мольберта панно Дюрера, отнесла к мусорной корзине и бросила. Со стуком.
– Ну-ка погоди, – сказал Эрланд тоном, по которому Иоаким понял, что приобрел в свояке неожиданного союзника. – Что общего между одним и другим? Ну, предположим, он иногда подделывал картины. Или копировал, чтобы заработать. Или ему просто было интересно, или его просили – какая разница почему?.. Но я совершенно уверен, что часть его коллекции – самые что ни на есть подлинники и лежат они в надежном месте. В банковском хранилище, если я правильно понял.
– Не будь так уверен, – сказала Жанетт. – Его клерк будет на работе в понедельник. У меня такое чувство, что нам еще предстоят печальные неожиданности.
Она села прямо на пол, словно из нее вышел весь воздух.
– О боже… Значит, папа сидел в лагере во время войны…
– Как фальшивомонетчик, – сказал Иоаким, обдумывая, как сказать сестре о Кройере, которого отец продал Семборну, хотя интуиция подсказывала, что лучше промолчать. – Если верить этому Георгу Хаману…
– А что он рассказал о маме? Расскажи еще раз, у меня сразу все не умещается в голове.
Иоаким попытался кратко пересказать все, что ему еще более кратко сообщил Хаман, стоя на пронизывающем ветру на фалькенбергском вокзале в ожидании поезда на Мальмё, откуда он заказал билет на Берлин. Что-то насчет того, что мать их была художницей, но иногда зарабатывала проституцией… Хаман и сам знал немного, а может быть, не хотел рассказывать.
– Но почему они рожали детей, если он был гомосексуалом?
– Этого я не понял, – честно сказал Иоаким, – полагаю, что гомики в те времена рассуждали так же, как и сегодня, – заводили ребенка с подходящей лесбиянкой… Понимаешь, тогда, на вокзале, старик не успел все объяснить – подошел его поезд.
Жанетт встала с таким трудом, как будто на это ушли ее последние силы. Она подошла к полотнам Кройера, прислоненным к сейфу.
– Не знаю, что со всем этим делать… Первое, что приходит в голову, – надо все уничтожить.
– Решительно против, – сказал Эрланд. – Надо сначала внести полную ясность в вопрос о подлинности.
Но Жанетт его не слышала, она была поглощена другой мыслью.
– Ты должен был взять адрес, вдруг понадобится его найти.
– Жанетт, дорогая, я был в таком же шоке, как и ты. И старик же сам жулик; он не из тех, кто разбрасывается визитными карточками. Да какая, в конце концов, разница, папа же все равно умер! Сейчас уже поздно задавать вопросы…
Жанетт издала тяжелый вздох. Иоакиму показалось, что он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так тяжело вздыхал.
– Тогда ничего не остается, кроме как попытаться каким-то образом оправдать все это…
И, произнеся эти слова, она в тот же вечер вернулась в Гётеборг.
К счастью, размышлял Иоаким, стоя под маркизой магазинчика на Санкт-Эриксплане, откуда ему была видна контора Сесилии Хаммар на другой стороне площади, к счастью, Эрланд оказался в моральном плане вполне сомнительным субъектом, что, впрочем, Иоаким всегда подозревал. Через два дня после той поездки в ателье позвонил клерк из банка и сообщил, что все произведения искусства, которые они считали подлинными, Виктор незадолго до смерти снял с сохранения (и, как они догадывались, уничтожил). Еще он сказал, что отец умер чуть ли не нищим – все деньги, накопившиеся за годы на его счетах, он жертвовал различным художественным фондам. Даже ателье заложил, чтобы переводить деньги в фонды помощи молодым художникам, как в Швеции, так и за рубежом.
Удивительную новость, что фотографии Виктора в британской форме сделаны с мастерством профессионала, играющего совсем в другой лиге, чем любители-фотошоперы, посылающие рождественские открытки с собственными портретами в костюмах разных эпох, – эту новость даже Жанетт переварила сравнительно легко (они предполагали, что Виктор сделал их в конце войны, может быть, это было как-то связано с его статусом беженца, с какой-нибудь клеточкой в иммиграционной анкете, которую надо было заполнить хорошо подкрепленной ложью). Но смириться с мыслью, что она открывала свою галерею премьерным вернисажем из фальшивок, она просто не могла.
– Наиболее вероятно, что все до одной картины вышли из его мастерской, – сказала Жанетт. – Папа продолжает портить мне жизнь и из могилы… если все это выйдет на свет божий, я буду опозорена. Хорошую репутацию зарабатывают годами, а рушится она за секунду.
К счастью, тут бразды правления взял Эрланд. Он разыг рал свою партию с мастерством профессионального наперсточника. Ему, например, удалось волшебным образом погасить импульс Жанетт: она собиралась разыскать всех заказчиков, купивших на премьерном вернисаже русских супрематистов из собрания Виктора, поведать им все, как есть, и попытаться вернуть деньги. Он еле-еле уговорил ее не обзванивать подруг, чтобы поделиться ужасной правдой, не привлекать полицию. Когда банковский клерк открыл им глаза, что Виктор не только опустошил свое хранилище, но и жертвовал кучу денег на стипендиальные фонды, взбеленился Эрланд, а не Жанетт.
– Это ваше наследство он растратил, – прорычал он в телефон. Было слышно, как где-то в комнате всхлипывает Жанетт. – Он не имел на это никакого права, что за разница, какими путями ему достались эти деньги.
Именно Эрланд хитростью и увещеваниями отговорил Жанетт сжечь все оставшиеся подделки. А месяц назад он начал агитационную кампанию – а что, если продать их на голубом глазу, будто бы они никогда ничего не знали о преступной деятельности отца?
Как раз об этом они и собирались поговорить на Готланде, во всяком случае, Иоаким на это надеялся. Эрланду как раз подвернулась конференция в Висбю, так что им представился идеальный случай выкурить трубку мира и объединить усилия на будущее.
Оставалось решить одну маленькую проблему: еще до того, как они решились провести этот военный совет, Иоаким подписал контракт с некоей кинокомпанией. Он сдал им свой дом в аренду, и по целому ряду причин ничего изменить было нельзя. Итак, решил он, вполглаза наблюдая за подъездом, где располагался офис Сесилии, остается только одно: как можно быстрее разделаться с добровольным шпионажем, поспешить на Готланд и позаботиться, чтобы кинокомпания собрала манатки до приезда Эрланда.
Он прислонился к стене дома и начал обдумывать вопросы, которые он должен поднять за столом переговоров: может ли Жанетт подключить свои контакты? Есть ли среди ее клиентов достаточно доверчивые коллекционеры? Или, может быть, стоит обнаглеть и обратиться к интересующемуся Кройером адвокату Семборну, чья доверчивость, если можно так сказать, подтверждена документально? К тому же психотерапевт Эрлинг Момсен заинтересовался Буше – это хороший признак.
Постепенно темнело. Видимость ухудшилась. Он проявил предусмотрительность и захватил с собой маленький театральный бинокль. Сейчас он пытался через большие витринные окна в офисе Сесилии разглядеть, что там происходит. На нижнем этаже стояли несколько кожаных диванов, сгруппированных вокруг роскошной, в стиле арт-деко, стойки администратора. Он узнал женщину, которая сейчас разговаривала с дежурной, – это была одна из тех, кто присутствовал при его утреннем позоре. Ударил гейзер стыда, но со своей кунцельманновской привычкой к катастрофам он его игнорировал. Никого, кроме этих двух женщин, в приемной не было, а в сам офис, где работала Сесилия, заглянуть было невозможно.
На объектив бинокля упали капли дождя. Иоаким снял их бумажным носовым платком. Когда он вновь поднял бинокль, в приемной появились двое парней из редакции мод – пришли выпить кофе из шикарной эспрессо-машины. Сорокалетние оболтусы в кедах и джинсах «Cheap Monday» напомнили ему Андерса Сервина и все поколение, родившееся в шестидесятые, – они отказывались взрослеть.
Месяцы, прошедшие после похорон Виктора, дали ему некоторую финансовую передышку. После отца осталось кое-какое имущество, хотя стоимость пары стульев от Альвара Аальто[57] даже близко не стояла к тем деньгам, что Иоаким рассчитывал получить от продажи произведений знаменитых художников. Продав мебель и незаложенную часть дома, где помещалось ателье, он выплатил кое-какие из самых неотложных долгов. У «торпед» на мотоциклах, похоже, нашелся другой, более перспективный клиент. Но в октябре его слабая надежда на экономическое процветание приказала долго жить. Поэтому он и нашел Андерса Сервина. Повышение процентной ставки, которым его огорошили полутеневые банки, где он, радуясь собственной изворотливости, брал кредиты, никак не укладывалось в теперь уже куда более скромные планы.
Его соученик по высшей школе, казалось, даже слыхом не слыхивал о проблемах такого рода. Сервин принял его в шикарном офисе рядом с Карлаплан. Он только что вернулся из двухнедельного отпуска в каком-то резервате для миллионеров в Вест-Индии. Его плейбойский загар был выше всяких похвал. Он простецки треснул приятеля по спине. Бессмертен он, что ли, подумал Иоаким.
– Старик! Как я рад тебя видеть! Честно говоря, мне казалось, твои моральные принципы слегка высоковаты для нашей отрасли!
– Я пришел не от хорошей жизни… В такой шторм где еще искать спасительную гавань, как не у старых друзей.
Моложавый командарм провел его через открытые просторы генерального штаба на двухсотметровую конторскую поляну и усадил на диван рядом с превосходно оснащенным баром:
– Что выпьешь? Старый добрый виски? «Ред Булл» с водкой?
– Без водки, спасибо.
Толстяк, похожий на Адама Альсинга[58], при ближайшем рассмотрении оказался Адамом Альсингом. Он весело помахал Андерсу из-за стеклянной перегородки. На периферии пейзажа продефилировали две красивые женщины.
– Мы расширяемся, – сказал Андерс. – Прикупили офис рядом и пробили стену. Ничто так не стимулирует мыслительный процесс, как простор. Мы же занимаемся фантазиями, стараемся мечту сделать реальностью.
Он достал антиастматический ингалятор из кармана молодежных джинсов в стиле хип-хоп и сделал два быстрых вдоха.
– Как ты знаешь, мы разрабатываем концепты для телевидения. Творческая фантазия – это главное. И нам нужны толковые ребята… но, может быть, чуть менее толковые, чем ты. Боже мой, Йокке, ты же один из самых умных людей, каких я только встречал! Я помню твою работу в киноинституте о гомосексуальной тематике у позднего Пазолини. Блистательно! Просто гениально!
Грубое преувеличение, подумал Иоаким. Его самый большой и, возможно, единственный талант в студенческие годы заключался в поразительном нюхе – он всегда чувствовал, что актуально, а что нет. Из упомянутой Андерсом курсовой работы он помнил только кучу цитат из «Проблем пола» Джудит Батлер и сконструированное им вербальное прокрустово ложе, куда он загнал Пазолини чуть ли не кувалдой. Но он еще и помнил, что на курсе Андерс Сервин считался безнадежным тупицей… то, что он сейчас сидел перед ним, загорелый, богатый и преуспевающий, казалось в высшей степени несправедливым.
– Не знаю, – скромно сказал он. – В то время можно было рассматривать все на свете под углом половых проблем.
– Грандиозно, старик. Ты был грандиозен. Правду сказать, твоя квалификация слишком высока для любой практической области. Такой парень, как ты, должен быть профессором…
Зазвонил один из прямых телефонов, но Андерс его отключил, бросив раздраженный взгляд на дисплей.
– Ты не представляешь, сколько искателей счастья сюда заносит. В основном девицы. Я мог бы трахать их сутки напролет. Нет, серьезно! Трахать и трахать. У нас есть такие люди, они-то всегда готовы использовать некоторый дефицит этики. Один парень соорудил у себя в офисе специальную комнату, зеркала на потолке и все такое прочее… Собирается пережарить как можно больше помешавшихся на известности провинциалок, пока у него еще стоит…
Андерс жадно покосился на ингалятор.
– О чем я бишь? Да… мы занимаемся разработкой формата телевизионных программ. Но не только. Мы создаем платформу будущего… подготавливаем пути интерактивных наслаждений – Интернет, мобильные телефоны…
Он по-мальчишески плюхнулся на диван и протянул своему единственному слушателю банку «Ред Булл». Джинсы сползли до середины зада, и на их законном месте оказались белые трусы. На глазах Иоакима разыгрывалась чудовищная битва во всех четырех измерениях бытия: истинный возраст никак не хотел подчиняться представлению Андерса о том, на сколько лет он выглядит… Хозяин достал мобильный телефон. На дисплее невероятно толстая женщина двигалась в ритме, который должен был представлять африканский танец.
– Один из наших пилотных проектов, – сказал он бодро, но с одышкой. – Эта девушка входит в новую концепцию реалити-шоу. Она и еще десять толстух будут соревноваться в похудании… вернее, в липосакции. Выигрывает тот, кто предоставит для отсоса больше сала. Ты даже не догадываешься, как далеко они готовы идти! У нас будет постоянно присутствовать реаниматор, и это вовсе не перестраховка.
– Может что-то случиться?
Андерс зажмурил один глаз, вытаращив при этом другой.
– Определенный риск есть, но зрителей мы не посвящаем. Этот формат призван иметь исключительно позитивный характер. Формат «feelgood», благоденствие… слезы радости не только у участниц, но и у зрителей. Новое тело, новые перспективы в будущем. Мы хотим людям только добра.
Он снова включил видеопросмотр на мобильнике и дал Иоакиму еще раз полюбоваться на трясущиеся телеса.
– Что скажешь?
– Да… Захватывает.
– Причем за конкурсом можно будет следить по мобильнику. И в Сети! Мы поставили у этих девушек дома веб-камеры, так что за их жизнью можно будет, если захочешь, следить от и до. Так сказать, килограмм за килограммом. То же и в клиниках, где их лечат; везде камеры, даже в операционных… ну, ты знаешь, для эндоскопической хирургии.
– Это, наверное, недешево – оплатить время крупной клинике.
– Операции будут делать в Риге… это вдесятеро дешевле, чем здесь у нас. Замечательный город! Я там был уже раз пятнадцать… ну, в связи с проектом. Полно красивых женщин. Пять сотен – и трепи ее, сколько хочешь!
Последняя фраза, очевидно, давала понять, какую лакомую перспективу сулит работа в команде Андерса Сервина. Иоакиму вдруг очень захотелось устроиться на такую работу.
– Самое забавное в этой катавасии, что мы начали с проверки идеи в виде мобильного сервиса. Дали кругам разойтись по воде. Будет успех – доведем формат до следующего уровня: коммерческое телевидение. Пятый канал уже участвует в финансировании!
В остекленном конференц-зале закончилось совещание. Адам Альсинг и еще четверо асов тележурналистики с внешностью конокрадов вывалились из дверей, с гоготом пожимая друг другу руки. Секретарша подошла к Андерсу и передала ему бумаги, поставив крестик в записной книжке. В ее одежде обращала на себя внимание привлекательная симметрия: ультракороткая юбка и ультраглубокое декольте.
– Распишись в самом низу, – сказала она. – И не забудь: в четырнадцать часов у тебя встреча со «Стриксом».
Она улыбнулась и исчезла где-то на просторах необъятного офиса. Улыбка явно носила следы ботокса.
– Вот тебе пример, как они не должны выглядеть, если хотят получить у нас работу, – задумчиво сказал Андерс, подождав, пока секретарша отойдет на достаточное расстояние. – Но все равно – проходит пара месяцев, и все становятся вот такими. Титьки почему-то растут. Юбки садятся в стирке. С ними происходит метаморфоза – словно бы они годами хотели выглядеть именно так и вот наконец получили свой шанс.
– Все это замечательно, – сказал Иоаким, – особенно если у тебя есть для меня какая-то работенка… Ты оставил сообщение на ответчике…
Андерс Сервин на какой-то момент изобразил непонимание, потом отрицательно помахал ладонью.
– Честно говоря, мы в последнее время сделали несколько неверных ставок. И не только мы. Все в отрасли наделали ошибок. Надо было больше сотрудничать и меньше конкурировать. Нельзя, чтобы третий канал показывал «Невероятную пятерку»[59], а четвертый – «Приемный покой стилиста». Первый канал не должен ставить «Идеальную форму» одновременно с «Островом толстяков» на пятом. Или «Холостяк» и «Любовь или деньги» – одновременно, в прайм-тайм, на двух каналах одного и того же хозяина… Как это может пройти в стране с девятью миллионами жителей? Я уж не говорю обо всех этих мудацких фабриках попсовых звезд…
– Конкуренция, похоже, убийственная, – машинально сказал Иоаким, провожая взглядом еще одну секретаршу с пачкой бумаг под мышкой – ее юбка была ничуть не длиннее, чем у предыдущей. Ему еще сильнее захотелось получить здесь работу.
– Мы недооценили, насколько зрители влюблены в программу «Домашний мастер». Мы недоучли взрывную силу кулинарных шоу. А еще воскресные приложения вечерних газет! Читаешь – будто мы в какой-нибудь Тоскане! Фабричные рабочие начали на завтрак жрать ослиную салями. «Консум»[60] превратился в прилавок с деликатесами. Спрашиваешь фалунскую колбасу[61], над тобой смеются. Если бы ты знал, что таскают с собой на ланч в каких-нибудь Бенгтсфорсе или Брумёлле! Всем подавай Карла-Яна и Мат-Тину![62] Традиционное документальное мыло дышит на ладан… Все больше интерес к драматическим сериалам… И что же мы, лапки кверху? Нет, малыш, не дождутся! Сейчас будущее за программой «Сделай меня другой». Человек должен иметь тело, вписывающееся в наше время, внешность, с которой не стыдно войти в обставленную Тимелли или Кирштайгером квартиру… Чтобы есть пасту с трюфелями по Карлу-Яну Гранквисту, нужен стиль!
Андерс Сервин раздраженно потряс мобильником, поднес ко рту ингалятор и сделал три глубоких вдоха.
– Короче говоря, надо отсасывать у народа жир, пока он не влезет в стандарт! Тут мы и появляемся на горизонте! Мы отсосем у этих баб весь жир, их никто не узнает! Мы сделаем их народными героинями! А знаешь ли, сколько в стране толстяков?
– Много…
– Миллионы! Двадцать процентов населения страдает ожирением! И эта группа все растет. А почему она растет? Потому что люди несчастны. А люди, когда они несчастны, утешаются чем? Они утешаются жратвой. Ты разве не видишь логики? Не видишь, как наш формат влезает в современность, как рука в перчатку? Мы не можем без конца унижать людей, они от этого устают. Мы хотим показать счастье! Счастье отсосанных, когда они станут изящными и свежими…
Андерс Сервин уставился на него взглядом полководца.
– Надо найти общую точку, – пробормотал он. – Эти женщины будут представлять нас всех. Несчастные, пожелавшие стать счастливыми…
– А ведущий выступает в роли верховного жреца, – попытался подыграть Иоаким. – Он проводит участниц, этих толстух, через Великий Жертвенный Ритуал. Я имею в виду, в жертву приносится излишний вес, отсосанные килограммы выкладываем на алтарь телевидения для интерактивного общественного ознакомления. Я думаю про Бодрияра[63]: симуляция… гиперреализм, имплозия масс…
Но все попытки продемонстрировать остроту и парадоксальность мышления были бессмысленны, если не смехотворны. Он понял это по скучающей мине Андерса – тот поднялся и подошел к стойке, чтобы налить себе новую порцию «Ред Булла» с водкой. Зазвонил его мобильник, и, как показалось Иоакиму, он ухватился за него с видимым облегчением.
– Сервин слушает… Привет, Калле! – Он поднял ладонь: мол, немного терпения, Йокке. – Нет, нет, никаких препятствий, во всяком случае юридических… Сомнительно? Знаешь, мы здесь, в конторе, не особенно охотно употребляем это слово. Да-да, разумеется. Накачаем их спиртом, и они гарантированно поведут себя как свиньи… Петер Вальбек[64] за джокера? Why not!.. Или Торстен! Еще лучше! Он ведь нищий или бездомный или и то и другое… Мы предлагаем ему квартиру и за это снимаем там круглые сутки…
Иоаким мысленно продолжал тему, которую он так неудачно начал развивать: страдания замещенных, распятие в веке цифровых технологий, интерактивная травля. Демократизация телевидения. Низший класс похищает мультимедийный дискурс. Медиадарвинизм. Жизнь как борьба и состязание. Но тут его внимание отвлекла третья секретарша (или это была опять первая?): она наклонилась, чтобы выкатить тумбочку из-под стола, и, насколько он мог оценить на расстоянии, трусов под коротенькой юбкой не было.
– Ингрид Сведе? – орал в трубку Андерс. – Ты об этой эротической старлетке? Трах-бах-Ингрид?.. Тут мы сталкиваемся с демографической проблемой… ей ведь уже за сорок?.. Может, Бинго Ример предложит кого-нибудь посвежее… ну вот та, например, с титьками… как ее, Наташа Пейре?.. Конечно, конечно, сбрось мне этот файл… на неделе поговорим.
Андерс сложил мобильник и небрежно нацарапал что-то на бумажке.
– Если Брокенйельм мог реабилитировать Билли Батта в «Баре», почему бы нам не пригласить Торстена Флинка… – Вид у него был такой, как будто он только что сделал трудный моральный выбор.
– Разумеется! Мне нравится Торстен… К тому же ему надо помочь… Мы же говорим о большом художнике сцены, а сейчас у него трудная полоса в жизни… Это будет очень благородно – предоставить ему крышу над головой, карманные деньги… В благодарность он может сделать что-то вроде театрального шоу онлайн…
– Не мели чепуху, – сказал Андерс, – нашему контингенту насрать с высокой горы на Торстена как актера. Они хотят видеть алкоголика, наркомана… в общем, лузера! Неудачника!
Он снял кроссовки «Конверс» и начал сильно массировать правый голеностоп.
– Ты когда-нибудь замечал, Йокке… самые крупные деятели в отрасли… Шерман, Вайсс, Ашберг… они все евреи!
– Ты что, подался в антисемиты на старости лет?
– Я просто констатирую, что у евреев гениальный нюх на эту комбинацию – деньги и клубничка… о дьявол, как болит нога! Мой врач утверждает, это потому, что у меня неверно поставлен свинг в гольфе. Ты слышал когда-нибудь что-то подобное? Неверно поставлен свинг!
– Звучит вполне антисемитски, если хочешь знать мое мнение…
– Дорогой Иоаким… Я голосую за левых. Мне нравится эта страна, мне нравится система, я охотно плачу наши запредельные налоги… но годы в отрасли научили меня ненависти к политкорректности… где есть политкорректность, там нет телевидения… Слушай, ты зачем пришел? Евреев защищать?
– Ты написал, что у тебя есть для меня работа.
Андерс соорудил горестную гримасу:
– Честно говоря, я не думаю, что ты именно тот человек, который нам нужен…
– Но у меня на автоответчике…
– Уже нет! Мы работаем под прессом, Йокке… Мы сейчас наняли людей, пробили стену… отрасль трясет. – Андерс угрожающе помахал ингалятором, очевидно, чтобы сделать образ трясущейся отрасли более доходчивым. – У меня астма развилась от всех этих стрессов. Нет ни малейшей свободы маневра, даже смешно… Если мы не введем пару новых форматов, ничего хорошего нас не ждет…
– У меня полный пролет, Андерс. И у меня было ощущение, что…
– Sorry. Ты умный парень. Но в нашем деле погибнешь. Для твоего же блага, Иоаким, я вынужден тебе отказать.
В конференц-зале клонированные секретарши собрались вместе, чтобы продемонстрировать свою неотразимую женственность пожилым дядькам, одетым как подростки. Иоакиму вдруг стало очень грустно, что ему никогда не представится возможность узнать их поближе.
– Я мог бы помочь тебе быстро заработать… – вдруг сказал Андерс. – Ты еще не продал свой дом на Готланде?
– А что?
– Не мог бы ты его сдать на пару недель? Тебе хорошо заплатят, куда лучше, чем через бюро. Очень хорошо заплатят!
– А зачем им мой дом?
– Киносъемка. Один мой знакомый ищет экзотическую натуру. Я мог бы направить его к тебе.
– Ничего противозаконного?
– С чего ты взял? Он снимает фильм, и ему нужна подходящая натура. Вот и все. Я позвоню тебе на неделе. Держись…
В самом начале восьмого Сесилия вышла из конторы. Она осторожно огляделась по сторонам, словно почувствовала слежку. В дождевике, яхтсменских башмаках и забавной зюйдвестке она напомнила Иоакиму ночного сторожа на парковке. Она глянула на часы и прогулочным шагом двинулась вверх по Уденгатан. Он пошел за ней, держась поближе к парку Васа, чтобы в случае чего успеть туда юркнуть. Как в кино, подумал он.
Жалкий тип, – весомо произнес внутренний голос, – ну и трус! Ты не стоишь даже тени этой женщины! Иди домой и ляг… пора начать жить по-человечески!
Она остановилась у ресторана «Васахоф» и зашла купить сигарет. Этот ресторан… когда-то здесь разыгрывался символический пролог их любви, за тарелкой с омаром и устрицами и бутылкой шампанского (Альфред Гратьен, Брют Миллесме 1997, 1200 крон за бутылку)… А здесь, под дождем, качество жизни все ухудшалось. В это время года у него всегда появлялась мысль – не эмигрировать ли куда-нибудь в теплые края? Но сейчас эта тяга была заметно слабее, чем обычно: ни мокрые носки, ни все ухудшающееся настроение, ни сгущающаяся над городом тьма – все это было неважно по сравнению с женщиной, вышедшей из ресторана с сигаретой «Мальборо» в углу рта и без малейших сомнений, чуть ли не прыжками, изящными, впрочем, как у газели, взявшей курс на Уденплан. Ради Сесилии, подумал Иоаким, он согласился бы и на еще более мерзкий климат, на еще более непроглядную тьму, еще более пронизывающий ветер… он согласился бы на жизнь у еще более холодного моря, лишь бы чувствовать ее тело рядом со своим.
Они миновали рощу у Обсерватории и Высшую торговую школу. Дождь все усиливался. Мрачные пешеходы горбились под зонтиками, обмениваясь мертвыми взглядами в свете уличных фонарей.
Как же ты мог так низко пасть, это просто невероятно… ты не можешь даже набраться мужества и посмотреть ей в глаза… вместо этого ты тащишься за ней, как третьеразрядный сталкер… просто блевать хочется.
Но на этот раз внутренний голос, подавляемый неукротимым либидо и осознанием важности предприятия, звучал не так уверенно, как обычно. Вся энергия Иоакима уходила на то, чтобы не быть обнаруженным. Он прятался за случайными прохожими, следил за сигналами светофоров и огибал гигантские лужи… и проклинал себя, что не догадался взять дождевик или хотя бы непромокаемые башмаки. На невидимом поводке он следовал за своей судьбой… а судьба его шла и шла впереди, на первый взгляд без всякой разумной цели и перспективы. За недостатком драматизма в погоне мысли скользили по обледенелым скатам сознания… вот сейчас он вспомнил про дом на Готланде.
Что там происходит? Экзотический фильм в экзотическом месте? Что бы это могло значить на новоязе Андерса Сервина?
До самого последнего времени он был уверен, что там снимается какое-то документальное мыло. Скорее всего, с эротическим подтекстом. На это указывало все… почти все… во всяком случае, не так уж мало. Кинокомпания «Роллер Коустер фильм» работала в его доме уже десять дней, и если он правильно понял, сейчас они доснимали недостающие кадры. То же самое говорил неделю назад и Андерс Сервин, когда Иоаким пытался выжать из него хоть какую-то информацию в связи с вручением очень уместного чека на двадцать тысяч крон.
– Расслабься, Йокке, – сказал Андерс, – речь идет о профессионалах. Я не знаю точно, чем они там занимаются, но беспокоиться не о чем. Какой-то реалити-эксперимент – я так думаю. Вот-вот закончат. У тебя же нет там соседей? Или как?
Иоаким так и не понял, какое отношение имеет ко всему этому наличие или отсутствие соседей, но при его хроническом безденежье в сочетании с желанием жить, как директор «Скандии», двадцать тысяч были весьма и весьма желанны. Поэтому он и не стал продолжать расспросы, а подписал путано сформулированный контракт, дававший кинокомпании «Роллер Коустер фильм» право без всяких условий и без помех использовать его дом для интерьерных и экстерьерных съемок четыре недели в ноябре, а если понадобится, еще одну неделю в любое время. Название компании прожевывалось с трудом, и Иоаким воздержался от поисков загадочной киностудии в «Google»… скорее всего, по причинам, тесно связанным с его давно уже ставшей притчей во языцех двойной моралью.
– So what, – сказал он вслух самому себе, когда Сесилия свернула на Кунгсгатан и направилась к Стуреплану. – Можете снимать что хотите, эротику-хренотику, какое мне дело? Только сделайте перерыв на приезд моей чопорной сестрицы, вот и все…
Оказывается, конечной целью вечерней прогулки был ресторан «Риш» на Биргер Ярлсгатан, и в связи с этим возникли новые проблемы. Дело в том, что в «Риш» работал один из его кредиторов, бармен, чье имя растворилось в алкогольном тумане. За полгода до описываемых событий тот допустил ошибку, позволив некоему Йокке Кунцельманну развлекаться в соответствии со своими гедонистическими наклонностями.
Перед входом стояла мрачная, пропитанная уксусом обманутых надежд очередь метров в двадцать. Сесилия, подгоняемая ветерком собственного совершенства, обошла очередь, как будто ее и не было, а Иоакима одолели сомнения. Еще несколько месяцев назад он сам пользовался привилегиями по части очередей, но неоплаченный счет на две тысячи крон… такие слухи бегут на десять километров впереди задолжавшего, распространяясь от барменов к вышибалам и обратно. Он остановился. Надо было что-то придумать.
Два волкодава в униформе у входа перебрасывались короткими фразами. Они игнорировали его с хладнокровием дипломированных палачей.
Ну придумай же что-нибудь, – сказал внутренний голос. – Прояви инициативу. Предложи им соплю пожевать. Заболтай их до обморока!
– Йокке, старичок, что ты тут делаешь? – воскликнул голос у него за спиной. Он обомлел.
Второй раз за короткий срок Провидение послало ему Андерса Сервина.
– Мне повезло, что ты появился, – сказал Иоаким. – У меня есть одно дело там, в ресторане… причем неотложное. У тебя же везде связи… помоги мне пройти.
Андерс был в сопровождении двоих парней, словно вырезанных из еженедельника «Дела недели»: темные костюмы от Армани, ботинки «Черч».
– О боже, Йокке, у тебя такой вид, словно ты продал масло, а деньги потерял. Что-нибудь случилось?
– Ничего не случилось… Мне просто нужна помощь… я должен пройти внутрь. Ты тоже сюда?
– Вообще-то мы собирались пропустить по рюмочке в «Стурехоф», но… жизнь стала бы скучной, если бы планы не менялись. Ты что, в самом деле собирался встать в очередь? В такую погоду это вредно для здоровья…
– Рабская христианская мораль, ну ты знаешь, об этом Ницше много написал, – выдавил из себя Иоаким, глядя на вышибал – похоже, они его узнали… хорошая это новость или плохая, определить пока не удавалось. – Эта мораль въелась в наши провинциальные души довольно прочно…
– Ха-ха-ха! – засмеялся Андерс, похоже, что искренне. – На такое только Йокке Кунцельманн и способен! Рабская христианская мораль! Ницше! Провинциальные души! Откуда ты все это берешь?
Есть люди, перед которыми ты почему-то все время в долгу, подумал Иоаким, когда вышибалы пропустили компанию в ресторан… придется отблагодарить их в следующей жизни. Он двигался в кильватере Андерса и его приятелей в прикиде от Армани. Эти люди знают, чего хотят, подумал он, три авантюриста, они не боятся рисков, они прутся вперед, направо и налево обмениваясь приветствиями с другими миллионерами. Впрочем, его очень устраивала возможность затесаться между ними и спрятаться в их тени. Он не собирался подходить к Сесилии прежде, чем подготовит небольшую лекцию… И, навострив все пять чувств, слегка пригибаясь, с поднятым воротником, как эксгибиционист, убегающий от возмущенной толпы, он прошел незамеченным до дальнего столика и сел на место, где мог бы прятаться за абажуром настольной лампы, пока официанты приводят в порядок столик. Великолепный обзор, решил он, осмотревшись. Он видит всех, а его никто. Раньше или позже Сесилия подойдет к бару, и тут-то и произойдет случайная встреча… Вопрос только в том – что делать дальше?
Накануне, пока Юлия Тимошенко красовалась перед заснеженной украинской телекамерой, он совершил поступок, за который ему было немного стыдно. Собственно говоря, это именно Юлия своей речью о праве человека на самореализацию и свободный обмен информацией вдохновила его проверить этот тезис на практике. Он, так сказать, проникся идеей самореализации и права на информацию и, словно бы походя (разрешив, однако, сначала свои сомнения по поводу соленых кренделей), двинулся дальше, на стартовый сайт хотмейла, где в бесплатном почтовом ящике в графе «имя пользователя» написал мейл-адрес Сесилии Хаммар.
Подстрекаемый несправедливостью ее молчания, он начал пробовать различные сочетания букв в графе «пароль». Чисто случайно он вспомнил, как они однажды провели ночь в ее конторе… После затяжного акта любви на письменном столе рядом с ее компьютером она призналась, что, во-первых, из лени, а во-вторых, потому, что вечно забывает пароли, она почти всегда пользуется соединенными в одно слово именами отца и матери. Скорее всего, и в своем личном почтовом ящике она тоже пользуется этим паролем.
Почти машинально, словно бы одна рука, нажимая клавиши, не очень точно знала, что делает вторая, он залез в ее переписку. Ему было немного стыдно, он даже символически обругал себя за этот взлом, но все произошло так просто, что он вдруг понял, почему крупные предприятия вкладывают миллиарды в безопасность своих компьютеров. Понадобились всего две попытки. Он влез в ее почтовый ящик и с удивлением смотрел на экран.
В папке для черновиков он нашел незаконченное письмо ему самому. Что она собиралась ему написать, так и осталось загадкой, поскольку письмо содержало всего два слова и один восклицательный знак: «Дорогой Иоаким!» Больше ничего, будто ее внезапно отвлекло какое-то очень важное дело. По дате выходило, что письмо начато в первых числах июля, то есть всего через пару недель после смерти Виктора. Может быть, она хотела принести соболезнования, но не нашла достойных слов?
В еще четырех сохраненных набросках не было ничего интересного. Деловая переписка, которую она почему-то вела с домашнего компьютера. Обзор собрания редакции, раздраженное письмо какому-то фотографу-фрилансеру – ему якобы было поручено сделать фоторепортаж с выставки мебели, а представленный материал оказался ниже всякой критики. Еще одно письмо – запрос о твердых абонентских ценах в энергетической компании «Фортум».
Входящие и отосланные письма были куда интереснее.
Он начал с отосланных. Одиннадцать штук, остальные вычищены. Он прочитал все, но так и не нашел объяснения ее внезапному молчанию.
Как кот у блюдца с чересчур горячим молоком, он сделал круг и заглянул в корзину. Корзина пуста, за исключением откровенного спама. Он вернулся в папку с входящими, здесь содержались главные ценности.
Шпион несчастный… Инфильтратор! – заклеймил он самого себя, улыбаясь и оглядывая содержимое папки. Интересно, что случится, если Сесилии именно в этот самый момент вздумается войти в свою почту. Получит ли она сообщение о взломе? Заподозрит ли что-то, получив сообщение, что пароль уже введен? И если да, то не подумает ли она на него?
Он прокрутил список. Тридцать семь писем. Тридцать три, если не считать непрочитанные. Он начал снизу, с письма, озаглавленного «Осенний праздник журнала „Кафе“. Пожалуйста, сообщите о вашем участии не позднее…».
За четверть часа он просмотрел половину корреспонденции, не найдя никаких улик, объясняющих, почему она его бросила. Но, может быть, она тут же выкидывает такую информацию или ведет любовную переписку по другому адресу? Во всяком случае, ни одно из его десятков, как бы не сотен, отчаянных писем не было сохранено. С хладнокровием мясника она разделывалась со всеми его страстными попытками вернуть ее назад, с его проникнутыми душевной болью мольбами о примирении, любовными излияниями, объяснениями, просьбами, жалкими попытками исповедаться… он даже пытался использовать смерть Виктора, чтобы вызвать к себе жалость. Его писем не было даже в корзине для мусора. Что за чудовищное существо! С каким эмоциональным айсбергом столкнулся его корабль!
Минуточку… нет, одно письмо сохранено, обнаружил он, скользя взглядом по списку. Как раз то, которое ему меньше всего хотелось бы, чтобы она прочитала. Лучше было бы, если бы он вообще его не посылал.
Он открыл письмо, и его окатила волна стыда и брезгливости. Как он только мог послать такое! Неужели это он сам формулировал эти невыносимо пошлые фразы? Слова вроде «моя богиня» или «соблазнительная еврейская шалунья»… Этот бред не просто отвратителен, он наверняка вызвал у такой женщины, как Сесилия, безграничное презрение к автору – но его в тот день несло безостановочно. Он читал дальше. Поэтические банальности… «хочу прижать голову к твоим подушечкам», сопровождаемые полубезумными ревнивыми восклицаниями типа «дьявольская измена» или «кто был этот уголовный паяц в самолете?» и невыносимым пустозвонством… «твой навсегда»… а это что? «Аминь» в конце письма – это же клинический случай! К своему ужасу, Иоаким обнаружил и приложенное фото. Он даже не хотел его открывать, потому что прекрасно помнил происхождение этого снимка… Поздно ночью в сентябре, когда осеннюю тьму можно было вынести, только куря один за одним джойнты величиной с гаванскую сигару и запивая их несчетным количеством красного вина, после шестичасовой тяжелой работы на сайте «sexxplanet.com», черт дернул его сделать собственный портрет с автоспуском и тут же послать его Сесилии. Нет, он вовсе не хотел открывать этот снимок, это было бы прямым поводом к самоубийству, но сволочной указательный палец словно бы сам по себе щелкнул по кнопке мышки, и на экране возник голый человек, а именно он сам… У него даже слезы на глаза навернулись. На голове у портретируемого подаренная когда-то ее кузеном кипа, вспышка немилосердно выставила на свет божий все холостяцкие жировые валики. Он истерически хохочет в камеру, держа в руке полувставший член, головка влажно поблескивает в мертвенном потустороннем свете. На заднем плане виден дисплей компьютера, где на картинке 1,2 мегабайта порнозвезда Сильвия Сан предается сомнительным развлечениям с бананом. В свободной руке у него лист бумаги, на котором крупно написано: «ТВОЙ ВЕЧНЫЙ СЛУГА. УМОЛЯЮ, ПОЗВОНИ!»
Новый девятый вал стыда. Она сохранила эту почту наверняка с одной-единственной целью – как самопредупреждение и зарок: никогда не иметь ничего общего с этим психопатом…
Сделав над собой усилие, он заставил себя прочитать оставшиеся письма, превозмогая стыд. Он решил не дать стыду помешать его свободному падению в бездну бесстыдства. И наконец его усилия были вознаграждены. В самом конце списка он нашел письмо от подозрительного адресата: sergej202@foi.se. Это был ответ на какое-то ее сообщение под рубрикой «скоро встретимся, моя милая».
Одна проблема: сообщение не открыто. После коротких сомнений его ненасытная жажда правды взяла верх над страхом быть разоблаченным. Он откинулся на стуле, щелкнул мышкой и прочитал следующее:
«Надеюсь на новую встречу. Выходные, правда, ничего хорошего не обещают, но начало недели посветлее. Напишу, когда разберусь с рабочей схемой. С.».
Сергей?
Насколько Иоаким помнил, Сесилия никогда не упоминала никакого Сергея в числе своих знакомых. Но в чем тут можно сомневаться? Неужели не ясно, что это именно тот славянского вида мафиози с самолета?
Сейчас, сидя в «Риш» в обществе Андерса Сервина и его деловых знакомых, он вдруг подумал, что ход его мыслей накануне, когда он, как ему казалось, был в состоянии решить любую наисложнейшую интеллектуальную задачу, был не так уж безупречен. Его фантазия подогревалась ревностью… с какого перепугу он, например, связал русское имя Сергей с тем типом с самолета, которого он окрестил Карелиным? Он же о нем ровным счетом ничего не знал… Короче говоря, сделанные им выводы следует признать преждевременными. Здесь, среди реальных людей, его рассуждения выглядели куда менее убедительными, чем накануне. И тем не менее все его нелепые поступки были основаны именно на давешних догадках.
Он, например, взял и ответил «сергею202» от имени Сесилии. Как он мог не ответить на закамуфлированное любовное письмо этого русского подонка с предложением нового «тет-а-тет»? Иоаким сочинил текст, который накануне показался ему безупречным. «Я не хочу больше тебя видеть» и «Пожалуйста, никогда больше не звони и не пиши», «Я ставлю точку»… все эти фразы подвели его к еще более энергичному финалу: «Пошел в жопу!» – и он подписал все это именем Сесилии Хаммар.
Сейчас все эти казавшиеся накануне само собой разумеющимися действия уже не выглядели такими непогрешимыми. Полный идиотизм, признался он себе. К счастью, вспомнил он, сжимая в кулаке стакан с грогом, предложенный Андерсом, к счастью, у него хватило ума выкинуть это письмо из папки «отправленные», а само письмо «сергея202» вновь отметить как непрочитанное. Короче, сделал все, чтобы замести следы своей подлости. Но все же надо признать – это была настоящая подлость.
– Ты ведь еще не промотал свои двадцать кусков? – весело спросил Андерс, выглядывая из-за бутылки водки в ведерке со льдом, батареи стаканов с грогом и полуторалитровой бутыли шампанского. – Да, тысяча крон теперь не то, что когда-то. В Риге, мои дорогие, та же самая водка, что стоит перед вами, стоит сотню, и русская шипучка примерно столько же. Но главная проблема – латыши хотят поженить свой дикий капитализм с импортом нашего вульгарного стиля жизни… Да что там, двойные чаевые… бутылка скоро будет стоить двести. Там, в Прибалтике, мы копаем себе экономическую могилу. Через десять лет глобализации все вернутся на исходную позицию. Кроме самых бедных, естественно.
Приятели Андерса, не отрываясь от меню, вдумчиво кивали, подтверждая его слова.
– Как у тебя там, на даче?
– Не знаю. И скорее всего, не хочу знать…
– Моя секретарша сегодня говорила с «Роллер Коустер фильм». Похоже, они хотят использовать этот пунктик о лишней неделе, если понадобится провести дополнительные съемки. Начнут завтра…
– Не знаю, возможно ли это…
– Контракт есть контракт, Йокке. Они заплатили двадцать тысяч, чтобы пользоваться твоим шале как съемочным павильоном… А вообще они очень довольны. Готланд оказался именно тем, что им нужно. В меру экзотично, но все же Швеция. И главное, никто не мешает.
За стойкой стоял его лысый кредитор… В тот вечер идея пригласить пятнадцать штук светских алкоголиков на выпивку в кредит показалась ему гениальной. Минут пять назад лысый глянул своим козлиным глазом на их столик, и определить, что именно этот взгляд означает, было не так легко.
– Мне плевать, что они там делают… и ты прав, денег уже нет. Сейчас у меня другие проблемы.
– Я ему помогаю, а он сидит и ворчит, – сказал Андерс, повернувшись к своим дружкам, – и самое замечательное, мне это нравится! Мне нравится, когда Йокке огрызается. Странно, но это придает мне бодрости.
Иоаким слушал вполуха. В баре, как ему показалось, появилась женщина, ради которой он здесь оказался.
– …плевать, что они там делают, – передразнил Андерс Иоакима. – А вы знаете Карстена Хамрелля? Таинственный мужичок! Раньше работал в рекламе. А Йокке, мой приятель по университету, сдал упомянутому Хамреллю дачу, а теперь боится, что они там снимают какую-то пакость… А может быть, и так. Откуда мне знать? Я не из тех, кто много спрашивает. А двадцать тысяч – вполне приличный пластырь, если оказался в дыре…
Парни в костюмах «Армани» засмеялись деловым смехом. Но Иоаким их не слушал, хотя тема была ему небезынтересна… Та, в баре, и в самом деле оказалась Сесилией, она была с незнакомой ему женщиной. Дамы заказали по бокалу белого вина и исчезли на застекленной веранде, выходящей на улицу. К его удивлению, они держались за руки.
– Прошу меня простить, – услышал он собственный голос. Ноги нащупали опору и подняли его со стула, а дистанционно управляемая рука задвинула этот самый стул под стол. И ноги его, абсолютно лишенные какой-либо связи с мозгом, тронулись в путь.
Он вовсе не собирался к ней подходить. Смысл его действий (если он вообще имелся, если в жизни вообще есть какой-нибудь смысл) заключался в том, чтобы следить за ней, быть от нее поблизости, попробовать разузнать что-то, может быть, подслушать случайный разговор, узнать, наконец, не встречается ли она с кем-то еще. Да, в конце концов, просто бросить взгляд на ее вырез и тугие бедра. Но получилось все не так. Она заметила его, когда он обогнул компанию изрядно подвыпивших женщин.
– Иоаким, что ты тут делаешь?
Он уже несколько месяцев не стоял так близко от нее, и у него перехватило дыхание.
– Мы здесь с Андерсом Сервином, – выдавил он. – Ну, ты знаешь, мой приятель еще со студенчества. Деловая встреча. Придумываем фильм… А ты что здесь делаешь?
Сесилия, по-видимому, не чувствовала никаких угрызений совести из-за своей измены, она выглядела так, как будто не чувствовала угрызений вообще ни за один из совершенных ею в жизни поступков. Чуть поодаль, у окна, ее приятельница устраивалась за столиком, поглядывая на них с едва заметным удивлением.
– Мне нужно кое-что выяснить с Саскией… – В тоне ее звучала странная приподнятость. Она помахала подруге – дескать, я сейчас, это не займет много времени – и продолжила: – Понимаешь, кто-то написал ей мейл от моего имени… или, может быть, ее мужу, по тексту не поймешь. В общем, мистика какая-то. Мы решили встретиться и постараться понять, что это все значит.
Сукин сын, – сказал внутренний голос со всей возможной серьезностью. – Черт бы тебя побрал с твоими блестящими идеями!
– Полный бред. Кто это сделал, зачем – ничего не понять. Наш компьютерщик говорит, что кто-то влез в мой почтовый ящик. В принципе это очень легко, если знаешь пароль. Хотя вычислить хакера все равно можно, надо только понять, как искать.
– Наверное, – сказал Иоаким. Ничего более разумного в голову не пришло.
– Мы сейчас проверяем IP-адреса, пробуем узнать, с чьего компьютера пришло сообщение. Подумай только, даже это можно узнать… это просто потрясающе, не правда ли?
Лысый бармен нагнулся к напарнику и доверительно что-то сказал, показывая в сторону Иоакима. В воздухе начали проскакивать пока еще неслышные грозовые разряды.
– Саския просто убита… ты понимаешь, это сообщение пришло на компьютер ее мужа… она им иногда пользуется, хотя это и запрещено. Сергей работает в засекреченном до идиотизма оборонном институте, и даже его домашний компьютер огорожен частоколом всяких виртуальных заборов…
– И что вы хотите выяснить? Саския пишет записки на суперсекретном компьютере мужа? И туда же получает ответы?
– Ну да, что-то вроде этого. Может быть, придется подключить СЭПО[65]. Подумай, а вдруг речь идет о терроризме.
До Иоакима начала медленно доходить ситуация, в которую он вляпался. Всякие термины, вроде «шифровка», «SSL[66] – связь», начали всплывать в памяти, требуя уважения. Ладони вспотели, свидетельствуя о растущей нервозности, поскольку он вспомнил, что именно содержало его сообщение.
– Но Саския рассвирепела главным образом по личным причинам, – сказала Сесилия. – Мы постоянно переписываемся – надо решить вопрос о лэй-ауте в газете… она недавно работает с нами. Мы даже успели подружиться. И вдруг, ни с того ни с сего, вчера вечером она получает письмо, якобы написанное мной. И в этом письме я предлагаю ее мужу идти в жопу, предлагаю не звонить и не писать и сообщаю, что ставлю точку, словно бы у меня с ним когда-то что-то было!
– А было?
– Что?
– С ее мужем…
– С ума сошел! Но ясное дело, она волнуется. Письмо угрожающее… а муж ее – шишка в оборонном институте!
Сесилия помахала сидящей за столиком Саскии; та тоже подняла руку. У них роман, решил Иоаким.
– И Сергей начал ревновать, он решил, что письмо адресовано Саскии и что это не у него, а у нее роман на стороне. Вот мы и решили поговорить и все выяснить… и самое странное, что опасения Сергея, похоже, сбываются… у нас чуть ли не любовь! Подумай только, я начинаю западать на женщин!
Он не верил своим ушам. Он и глазам своим не хотел верить: лысый бармен со своим напарником шушукались с вышибалой, со злостью указывая в его сторону.
– Сесилия, – сказал он, – я хочу знать только одно. У тебя есть кто-то? Я тебя видел в самолете из Висбю несколько месяцев назад. И с тех пор, как я тебя видел в обществе этого… человека, от тебя ни звука.
– Ты словно бы меня и не слушаешь… Я хочу сказать, что я, возможно… как это дико ни звучит… в общем, я лесбиянка. Или, может быть, бисексуальна. Я ничего подобного не испытывала, и Саския тоже… Этот хакер оказал мне потрясающую услугу: только сегодня, вот сейчас, вечером, мы поняли, какие чувства питаем друг к другу…
Она буквально сияла, он никогда не видел ее такой: чистая наивная радость, как у ребенка в Диснейленде.
– Прости, Иоаким. Саския ждет.
– Я тебе не верю… но ты так и не ответила на вопрос…
Она серьезно поглядела на него. Чуть ли не с сожалением, как ему показалось. И этот взгляд причинил ему куда больше страдания, чем любые заслуженные им упреки.
– У нас же с тобой ничего не получилось, – сказала она. – Я не могу решить твои проблемы, и, думаю, никто не может…
– Мои проблемы в счет не идут… Все это мелочи. Что касается денег, я сейчас на нуле. Но, как ты знаешь, папа оставил наследство… Я прекрасно помню, что должен тебе десять тысяч…
– Оставь их себе, Иоаким. Мне плевать на деньги. А твоя главная проблема, что ты на них помешался. Я очень сожалею, что отец умер, в самом деле сожалею… нет, дай мне закончить. Ты хороший человек, Йокке. Но ты не можешь сам с собой разобраться. Прежде чем найти кого-то, ты должен найти самого себя. Ты мне и в самом деле нравился. Ты и сейчас мне нравишься. Нам было хорошо, но это не работает… и знаешь, твой… портрет, что ты мне послал… давай сделаем вид, что этого не было.
Изображение его самого в формате jpg появилось где-то на краю внутреннего поля зрения и начало кривляться, как гном… с этой смешной кипой на макушке и с цилиндрическим предметом органического происхождения в руке. И еще одно изображение возникло на этом экране: он сам в метро этим утром, и сотрудница Сесилии, наблюдавшая его позор… да, на этом фоне все, что бы она ни сказала, будет справедливым.
– Ты, наверное, желаешь только добра, Йокке… Но я… впрочем, скорее всего, не только я, любая женщина просто не может принимать тебя всерьез. Мне искренне жаль. Желаю счастья!
Она повернулась и пошла к своему столику, успев передать эстафетную палочку катастрофы следующим участникам: двое здоровенных вышибал приближались к нему с двух сторон с не терпящим возражений видом. Он стоически ожидал и этого удара судьбы.
– А ты пойдешь с нами, – сказал один из них, орангутан, который всего полгода назад низко кланялся, открывая перед ним дверь с приниженностью дрессированной обезьяны. – Поговорим на свежем воздухе.
Он, не возражая, пошел за ними, а в голове без всякой связи вертелись такие понятия, как террорист, FOI[67], лесбиянки… и он никак не мог додумать ни одну из в изобилии возникающих мыслей до конца. Он машинально отметил свое отражение в огромных витринных окнах ресторана… Он видел, как двое вышибал ведут его, как овцу на заклание, видел свои бодро переступающие ноги, идиотскую улыбку (боже, по какому поводу?!), весь его нелепый облик, повадку щенка, который вот-вот начнет вилять хвостом… И к ужасу своему, обнаружил, что указательный палец его правой руки направляется к носу, триумфально пенетрирует ноздрю и шарит в глубинах органа обоняния в поисках сочной добычи… Отражение в окне было почти непостижимой, неземной резкости: палец добрался наконец до великолепной, роскошной козы, достигшей за этот вечер, покуда он выполнял свое шпионское задание, идеального размера и консистенции…
Очень четко, словно под лампой в операционной (или, может быть, в свете кинопрожектора на съемке), он увидел, как открывается его дебильный рот, как физиономия оттаивает, словно у наркомана перед утренней дозой… Но сейчас он был начеку. Он был готов к борьбе со своей нелепой привычкой, он непоколебимо решил противостоять соблазну. Иоаким, подбадриваемый пульсирующей в нем волей к сопротивлению, с брезгливой миной достал носовой платок и вытер непокорный палец. Жизнь, подумал он, покидая зал в сопровождении вышибал, вошла в новый, неизведанный поворот.
Пассажирский паром «Висбю» осторожно выбрался из скалистых лабиринтов южного архипелага и взял курс на величественный известняковый остров в ста морских милях к юго-востоку. Если посмотреть сверху, паром напоминал сигарообразный космический корабль, ритмично подминающий трехметровые волны. Дул резкий, почти штормовой ледяной ветер, но пассажиры его почти не замечали. Работа восьми колоссальных двигателей «Вертсиле» угадывалась разве что по легкой вибрации. Корпус аккуратно разламывал воду. Когда глубина под килем достигла шести метров, корабль вышел на глиссирование, он шел со скоростью двадцати восьми узлов, резал пополам гигантские косяки салаки, кромсал неводы, насмерть перепугал стаю чаек. Балтийский тюлень, державший путь на Утё, чудом избежал кровавой судьбы… В кембрийских расщелинах на дне изготовились к атаке едкие химикалии. Свинец и азот тяжело оседали на силурийских плато и вскармливали новые поколения ядовитых водорослей, а те медленно всплывали на поверхность, приурочив свой выход ко времени летних отпусков. Водоизмещение корабля составляло тридцать семь тысяч тонн, при таких размерах ему нечего было опасаться. Так же, впрочем, как и пассажирам. На светлых, остекленных палубах передвигались тысяча четыреста человек, нимало не заботясь об умирающем море. Они пили пиво, восхищались видами, читали газеты, сплетничали, усаживались в кресла или шли полежать в каютах. Среди них были владельцы четырехсот пятидесяти автомобилей и водители тридцати грузовиков, мрачно притаившихся в самом низу парома, на грузовой палубе.
Но некоторые все-таки были настроены критически, а многие из самых критичных даже заплатили деньги, чтобы высказать свои критические взгляды перед критически настроенной публикой в салоне – не успел паром выйти в море, как открылась очередная Балтийская конференция, проходившая, без сомнения, при поддержке WEF и WSF[68]. Правые встретились с левыми в море, а потом дискуссию решено было продолжить в Высшей школе в Висбю. Всемирный экономический форум собирался дать бой очернителям из Всемирного социального форума, очередная конференция которого должна была состояться уже через пару месяцев в Порто Алегре. Давос, где они предпочитали обычно собираться, отказал – из соображений безопасности. Поэтому тема утреннего заседания в последнюю минуту была изменена – «Между Давосом и радостью» заменили на «Балтийское море и глобализация: критический взгляд». Даже тени не осталось от первичного замысла.
– …сегодня международную политику диктуют межнациональные крупные корпорации, – доносилось из репродуктора на палубе. – Горстка влиятельных боссов устанавливает правила глобальной экономики. Но лояльность в их сознании даже не ночевала. Некий малопримечательный субъект мужского пола – должна заметить, почти всегда мужского пола, – прошедший путь от курьера до руководителя финансовой империи, напоминает футболиста, который меняет клубы в зависимости от того, где больше платят…
Участники слонялись по залу в поисках свободных стульев – молодые люди с бейджиками «Права животных», приколотыми к немецким флисовым курткам с капюшонами, девочки-подростки в палестинских шалях, защитники прав сексуальных меньшинств, надутые академические бройлеры с неясной сексуальной ориентацией, молодые люди в костюмах, с макроэкономическими ухмылками. Президиум заученно-демократически поглядывал на публику. Дебатами руководил погрязший в долгах телеведущий, всегда готовый на любую халтуру. Кроме него, на подиуме сидели: представительница движения «АТТАК», многообещающее молодое дарование из Тимбру, известный социолог, кормящийся на стыке сразу нескольких, на первый взгляд несоединимых, наук, доцент с кафедры мультимедийной коммуникации, национал-эконом и еще несколько личностей неясного происхождения.
– Думаю, нам следует чаще использовать понятие «Наша планета», – в осторожной позитивистской манере вставил философ. – Или слово «Теллус»[69]. Чтобы пережить глобализацию, надо вернуться к видовому мышлению. Мы обязаны стать теллусианцами и внушить самим себе, насколько одиноки мы в универсуме.
– А мне лично хотелось бы вернуться в Европейском союзе к патриархальной сельскохозяйственной политике, – сказала представительница «АТТАК», уже успевшая возмутиться дискриминационным с половой точки зрения распределением мест за столом президиума. – Наверняка здесь на корабле есть фермеры, – обратилась она к публике, – честные готландские фермеры? (Ответа она не получила: честные готландские фермеры предпочли традиционно промолчать.) КАП, Совместная аграрная политика, ежегодно выделяет 400 миллиардов крон субсидий сельскому хозяйству. Но что еще хуже – переизбыток мяса и зерна продают за бесценок. Это ведет к катастрофическим последствиям для крестьян в небогатых странах… не лучше ли, если европейские фермеры… это касается и вас, с Готланда… получат гражданское пособие? Чтобы не делать ничего! Сидите и наслаждайтесь вашим прекрасным островом! А мы будем импортировать сельскохозяйственную продукцию из развивающихся стран. Это обойдется налогоплательщикам намного дешевле и к тому же будет способствовать глобальной справедливости!
– Мы полностью согласны, – сказало молодое дарование из Тимбру, – хотя и по прямо противоположной причине. Я согласен, что КАП отжила свой век, это ценовые манипуляции, и больше ничего, в современную экономику они не вписываются. Есть и другие организации, которые надо было бы потихоньку, без лишнего шума отправить в небытие. Международный валютный фонд, например, или Мировая торговая организация… исключительно для блага глобальной экономики.
– Что вы имеете в виду под глобальной экономикой? – перебила его прыщавая девушка из публики. – Девяносто процентов мировой торговли состоит из финансовых трансферов, сотни миллиардов летают между биржами в Токио и Нью-Йорке, достаточно щелкнуть мышкой. Реальная торговля товарами составляет не более пяти процентов!
– Поэтому мы и предлагаем налог Тобина[70]! – мгновенно отреагировала представительница «АТТАК». – Даже пять сотых процента налога на валютные операции укротят этих близоруких спекулянтов. И к тому же такой налог даст вдвое больше, чем все ежегодные вспомоществования, а значит, можно будет создать фонд развития и хоть как-то уменьшить всю эту несправедливость.
– Бреттон-Вудская система[71] давно мертва, – сказал национал-эконом, потягивая минеральную воду, – а Тобин внес свое предложение в 1972 году, когда она еще шевелилась. После чего он успел не один и не два раза отказаться от своей идеи, особенно после того, как она была присвоена антиглобалистами.
– Мы не противники глобализации, – раздраженно сказала дама из «АТТАК». – Мы против того, как она проводится, а это большая разница.
– Когда я начинаю критиковать МВФ, все думают, что я левый, – продолжило взятый курс молодое дарование, – но я выступаю с классических либеральных позиций. С какого перепугу Международный валютный фонд должен спасать нежизнеспособные экономические формации, почему надо на деньги западных налогоплательщиков выручать биржевиков, скупивших никчемные государственные облигации в Парагвае? Или вложивших деньги в добывающую промышленность в Того? Перманентный кризисный пакет способствует только тому, что эти люди идут на неразумный риск, они знают: в случае чего МВФ всегда прибежит с подтиркой. И в конечном итоге все идет к черту. Посмотрите, что было в прошлом году в Аргентине.
– Уважаемый господин, по-видимому, начитался Эрнандо де Сото[72], – заметил межотраслевой социолог. – Но проблема Латинской Америки как раз и заключается в новом либерализме и ни в чем ином!
– А вы – сторонник Рауля Пребиша[73], I presume[74]?
– Можете быть уверены!
От этого заявления у молодого дарования загорелись глаза, и оно перешло в прямую атаку:
– Для непосвященных: мы говорим о самом яростном фехтовальщике за честь так называемой теории зависимости[75], еще и сегодня обожаемой левыми интеллектуалами… и без таких адептов-психопатов, как этот аргентинский антиглобалист Пребиш, марксистская зараза не пережила бы падение Берлинской стены ни на секунду. Создатель теории зависимости – это Ленин сегодня, такой же интеллектуальный карлик и экономический халтурщик. Это просто удивительно, как много во всем остальном умных и образованных людей на Западе клюнули на эту ленинскую наживку, – он презрительно усмехнулся в сторону межотраслевого социолога. – В своем знаменитом памфлете «Империализм как высшая стадия капитализма», написанном в 1914 году, Ленин пытается теоретически опровергнуть факт, что рабочий класс в Европе, вопреки теории Маркса, по мере развития капитализма живет все лучше и лучше… Владимир Ильич понял, что без шельмовства не обойтись, и схватился за первую же соломинку: дескать, капитализм всего лишь выигрывает время, оттягивает свой конец, перенося эксплуатацию рабочего класса в колонии! Натужно до крайности! А в Латинской Америке люди вроде Пребиша продолжают валить все несчастья сначала на колониализм, потом на постколониализм, потом на неолиберализм, а теперь, наконец, на глобализацию… вот как, например, присутствующий здесь Эрланд Роос.
– Но разве не о том же писал Гегель? – встрял в разговор философ. Воспитанная публика продолжала притворяться, что внимательно слушает. – Демократия – одна из форм секулярного христианства! Гегель, не вкладывая в эти слова негативный смысл, хотел сказать, что христианство – идеология рабов. И равенство всех перед законом – не что иное, как воплощение христианского идеала о равенстве всех верующих в Иисуса – жизнь раба не менее ценна, чем жизнь господина.
Никто не понял, что он хотел сказать, но ему хорошо заплатили, поэтому просто молчать он не мог.
– Так почему же экономика растет в Юго-Восточной Азии, а в Латинской Америке не растет? – продолжило молодое дарование из Тимбру. – Думаю, потому, что у азиатов хватило ума отпустить рынок, а латиноамериканцы, за исключением Чили, пытаются его регулировать. Капитализм в некоторых странах не работает по той простой причине, что он там и не ночевал. Простыни не смяты…
– Хорошо бы нам попробовать вернуться к дискуссии о Балтийском море и глобализации, – робко сказал растерявшийся председатель и посмотрел на часы. – В Висбю, как вы помните, к нам присоединятся делегации из России и Балтийских стран. У них, разумеется, есть своя точка зрения…
Во втором классе, на той же палубе, но ближе к корме, разбушевавшиеся на конференции страсти были не особенно заметны. Здесь люди предавались более простым удовольствиям – играли в карты, решали судоку, перебранивались из-за тесноты. Пили кофе и читали газеты. Публика состояла в основном из одетых по-туристски пенсионеров и школьников с пустыми взглядами, увлеченных компьютерными играми. Насколько Иоаким Кунцельманн успел заметить, красивых женщин среди публики не было, зато был явный перебор девочек в паранджах.
В кормовом салоне он нашел место, на которое, похоже, никто не претендовал. Прошли времена, когда он мог позволить себе летать в Висбю. Надо выстоять. Он никак не мог переварить сказанное ему Сесилией – с этим начинающимся на букву «л» словцом. Она не может быть лесбиянкой. Скорее всего, у нее какое-то временное расстройство рассудка, наверное, на сексуальной почве – такое объяснение вполне укладывалось в представление о Сесилии и нисколько бы его не удивило. Вчерашние события вообще казались маловероятными… на них словно была наброшена тонкая пленка выморочной, невзаправдашней столичной жизни – декорации детектива, декорации рекламного фильма… и сам Иоаким в маленькой, но трагичной роли. Подумав, он решил дисквалифицировать ее признание насчет лесбийских склонностей. Этого не может быть. Хуже обстояло дело с его хакерским подвигом. Он пытался убедить себя, что все дело в скверной системе компьютерной безопасности в оборонной отрасли и никому не придет в голову его в этом взломе обвинить.
– Многие мультинациональные предприятия вернулись к методам эксплуатации рабочего класса, место которым в девятнадцатом веке, – вдруг донесся из репродуктора знакомый голос – техник в радиоузле по ошибке нажал не ту кнопку. – Они находят внешние ресурсы, как это у них красиво называется. То есть продают производство в какую-то страну с дешевой рабочей силой и умывают руки: дескать, это не на наших фабриках люди работают, как рабы на галерах. Вот так выглядит глобализация для миллионов людей, которые получают за свой труд все меньше, а условия работы становятся все хуже…
Насколько было известно Иоакиму, его свояк-социалист должен был приехать сразу в Висбю. Но, как видно, наш пострел везде поспел. Он оторвался от размышлений и пошел искать первоисточник радиомонолога.
Повсюду встречались стайки левых активисток, если и достигших половой зрелости, то совсем недавно; шестнадцатилетних девочек, источающих сладкий запах пота от небритых подмышек под майками с портретами Че Гевары… По мере продвижения к конференц-залу их становились все больше, пробиться было почти невозможно. Над входом в зал висел плакат: «Справедливость сегодня!» Только сейчас он вспомнил, что Эрланд собирался принять участие в дискуссии на пароме перед началом весьма представительного семинара на Готланде.
– Я должен информировать публику, что я не экономист и не философ и ни в какой мере не являюсь экспертом в обсуждаемой области, так что я даже не совсем понимаю, почему меня сюда пригласили! – Кокетство удалось, многие в публике одобрительно засмеялись. – Я доцент в такой малосексуальной области, как социология, к тому же балуюсь искусствоведением. Но в первую очередь и в любой области для меня важны ответственность и мораль, если удобно так говорить про самого себя. Я был в Сиэтле на Мировом экономическом форуме, был и в Гётеборге пару лет назад, когда полиция попыталась сокрушить нашу демократию. По случайности я живу в трехстах метрах от Йернторгет, где триста человек были окружены полицией и не имели возможности даже справить нужду. И все это потому, что они попытались критиковать так называемую глобализацию.
– Здесь не место для благоглупостей в духе Наоми Клейн[76]! – громыхнул посланец Тимбру с интонацией Спасителя. – У нас серьезное обсуждение глобальной экономики! Свое «No Logo» ей следовало бы переименовать в «No Logic»[77]!
– Или «Non Logos»[78], – брякнул философ, явно довольный каламбуром. – Мысли Клейн о брендах надо было бы рассматривать в куда более широкой языковой перспективе. Почему бы нам не обсудить понятие подлинности…
В самом конце зала Иоакиму удалось найти свободный стул. Он почему-то покрылся потом, словно бы совершил что-то неподобающее.
– …Адорно[79] считает, что речь тут идет о безнадежно устаревшем представлении о преимуществе исходного над производным. Вся художественная философия с ее притворным презрением к действительности – не что иное, как сублимация варварского культа власти. Что-то, появившееся первым – неважно, идея или произведение искусства, – имеет больше прав на почести, чем последующие. Подлинность – начало всему. Семя творца уникально. И чтобы защитить творца от выродков и плагиаторов, превозносится девственность. Но теперь мы так не думаем! Во всяком случае, с тех пор, как Дюшан[80] выставил свой писсуар и заставил нас осознать, что между новаторством и репродукцией можно поставить знак равенства. В мире, где искусство сосуществует с фотографией и реди-мейд[81], уже нет никаких оригиналов. Идея, что подлинное неповторимо, абсурдна. Скажу, как знаток искусства Ларс О. Эрикссон: мы живем в устаревшей культуре оригиналов, утонувших в океане репродукций…
– Я считаю, мы непозволительно удалились от Балтийского моря, – горестно сказал председатель, покусав карандаш. – В компендиуме, который я получил, указано, что годовой прирост в Балтийском регионе должен составлять не менее восьми процентов. И Российская Федерация – важная часть глобальной экономики, в первую очередь благодаря ее нефти. Хочет ли кто-нибудь высказаться по поводу предполагаемого строительства газопровода?
Но нить была окончательно утеряна… Философ и молодое дарование из Тимбру ударились в яростную полемику. В голосе представительницы «АТТАК» появились грудные ноты. Публика, похоже, совершенно растерялась. Иоаким кивнул свояку – тот наконец его заметил и, казалось, удивился – надо признать, что с полным правом.
Иоаким и Эрланд впервые встретились пятнадцать лет назад. Оба тут же решили, что принадлежат к разным видам Homo sapiens, поэтому не следует интересоваться друг другом сверх того, что повелевает родственный долг. Иоаким принял решение игнорировать Эрланда примерно так, как прожившая всю жизнь с хозяевами собака игнорирует появившегося в доме котенка. Это было в ресторане «Страндбаден» в Фалькенберге, в зале, откуда открывался прелестный вид на море. Виктор пригласил обоих своих детей, желая создать иллюзию семейной спайки и представить друг другу будущих свояков… Мелкие стычки начались еще за аперитивом. Эрланда вывело из себя, что Иоаким отослал официанта, принесшего сухой мартини в недостаточно, по его мнению, охлажденном стакане. Такое поведение противоречило принципам равенства, о чем Эрланд не замедлил довести до сведения Иоакима. И пошло-поехало. Они просто не выносили друг друга, а причиной тому был простой факт – хотя ни тот, ни другой никогда бы в этом не признались – по сути, они были зеркальным отражением друг друга.
На следующее утро в поезде обратно в Стокгольм Иоаким растолковывал мало что понимающей Луизе (та восприняла родственника совершенно естественно), что его до бешенства раздражает нелепая многоречивость Эрланда (в сущности, это был левоакадемический вариант болтливости самого Иоакима), его бесконечные теоретические рассуждения на любые темы, в том числе и те, в которых он ни в зуб ногой (Иоаким и здесь был ничем не лучше), его кокетливый молодежный сленг, его плохо скрытые похотливые взгляды, которые он бросал на Луизу (Луиза их не заметила, поэтому с полным основанием сомневалась, что он их и в самом деле бросал) и, наконец, пренебрежительное обращение с Жанетт. Эрланд в свою очередь считал, что он просто отвечал на враждебную энергетику, которую его будущий свояк начал излучать буквально с момента первого рукопожатия: на его риторические засады, теоретические уколы и на его черно-белое восприятие мира.
– Ты пользуешься абсолютными категориями – добро и зло, – сказал Эрланд, когда они по неосторожности коснулись внешней политики, – а это никогда не способствует нормальной дискуссии. Деление мира на черное и белое не оставляет пространства для маневра – ни в практике, ни в теории. Без оценки всей шкалы промежуточных оттенков мы никуда не придем.
Говорили, если Иоакиму не изменяла память, о диктаторах – Саддаме Хусейне, о тогдашнем аятолле в Тегеране… а в таких случаях, по мнению Кунцельманна-младшего, всякая нюансировка есть проявление заслуживающего сожаления морального релятивизма их поколения… Они так и продолжали находиться в состоянии пограничных войн, хотя прошло уже чуть не двадцать лет. Оба завязли в обоюдной подозрительности, никак не могли прийти к соглашению, в каком порядке следует развязывать дипломатические узлы, кому говорить первым, а кому вести протокол. Их отношения мешали и зародившейся было дружбе Луизы и Жанетт… она просто-напросто зачахла в густой тени взаимонеприязни их мужей.
Вот о чем (за вычетом элемента самокритики) думал Иоаким, покуда председатель в изысканных выражениях благодарил публику за внимание. Самое забавное, что по непредсказуемой иронии судьбы направлявшийся к нему свояк стал его союзником.
– Какая неожиданность, – сказал Эрланд. – Я думал, мы встречаемся завтра.
– Планы изменились. А где Жанетт?
– Она с утра поехала в Оскарсхамн и доберется на пароме уже оттуда. Надеюсь, тебя заинтересовала дискуссия.
Эрланд по случаю выступления немного привел в порядок бороду, отметил про себя Иоаким. Теперь он меньше походил на Кастро, а напоминал скорее Хавьера Солану, генерального секретаря НАТО, чей английский не понимал ни один человек на земле.
– Чересчур левацкая, на мой вкус, – признался он. – И тебе не удастся завлечь меня в подписчики на «Урдфронт»[82], как ни старайся. Во всяком случае, не раньше, чем вы поместите снимок голой Наоми Клейн. И то при условии, что у нее красивая грудь.
– Очень смешно, понимаешь. К твоему поколению ничто не прилипает. Политура блестит, лак сияет, ничто не прилипает.
Иоаким сочувственно улыбнулся:
– Может быть, подождешь с анализом поколения пару дней? У нас есть другие темы для разговора. Ты должен задержать Жанетт в Висбю до завтрашнего вечера. И еще – очень важно, чтобы она не знала про нашу встречу. У нее не должно создаться впечатление, что мы о чем-то договариваемся за ее спиной.
– Постараюсь удерживать ее в хорошем настроении. А что случилось?
– Небольшая нестыковка… не буду вдаваться в детали. Просто я должен кое-что подготовить в доме. Если проблема не решится, встретимся где-нибудь еще… ты не хочешь выпить кофе?
Они пошли к ресторану. Слегка распогодилось, на небе паслись маленькие шерстистые облака. Выглянуло солнце. Пассажиры собрались в оконных нишах и громко восхищались пейзажем. Пожилой дядька в охотничьей шапочке клялся, что он только что видел кита, но никто не принимал его всерьез. Один столик у окна чудом оказался свободным, они поспешили его занять. За спиной у них два юных активиста горячо обсуждали закончившийся семинар.
– Жанетт, кажется, опять что-то надумала насчет картин, – полушепотом сказал Эрланд. – Именно поэтому мы плывем на разных паромах. Была дикая ссора. Но кто решится ее осуждать? Она думает о репутации галереи.
– А что случилось?
– Внезапный припадок угрызений совести. Моральная эпилепсия. Опять бесконечные вопросы – кем же, в сущности, был ваш отец? Она пыталась даже найти этого загадочного немца через справочное бюро в Берлине, но безуспешно.
– Он же уголовник, Эрланд, а для этих ребят главное – не оставлять следов.
– Как бы там ни было, она на этом зациклилась. В худшем случае будем действовать без нее.
– Нет, Эрланд, так нельзя. И потом, она нам нужна – с ее-то связями в мире искусства… А кстати, где картины?
– Я их перевез в безопасное место, – сказал Эрланд. Вид у него был виноватый. – Сейчас они заперты в картотечном шкафу в моем служебном кабинете. Мне не хотелось, чтобы они оставались в галерее… она сейчас способна на необдуманные поступки.
За соседним столиком один из юнцов агитировал голосом обвинителя: «…а теперь Арафат как бы умер, а евреи реально ни на фиг не лучше нацистов… они, типа, делают то же, что те делали с ними… в концлагеря сажают, хотя вроде как бы и на воле… в этой… как ее… Газе»
– Жанетт очень чувствительна… мягко говоря, – продолжил Эрланд. – А я не могу отделаться от мысли, что Викторовы поддельные шедевры висят в музеях по всей стране…
Иоаким мысленно согласился, но, в отличие от Эрланда, он видел в этом не только негативную сторону. Непорочная репутация Виктора, даже тот факт, что он десятилетиями помогал музеям и коллекционерам приобретать интересующие их экспонаты, – все это работало только на них.
– Откуда нам знать? – вслух сказал он. – И надо ли знать? Кстати, что конкретно ты имеешь в виду – у сестры угрызения совести? Она что, раскаивается?
– Если быть честным, не знаю, подходит ли это слово – раскаивается. Она ничего не обещала с самого начала. Я тогда сказал, что надо попытаться картины продать – мы же можем не знать… вернее, не можем знать, подлинники это или нет. Так что пусть она подумает хорошенько. Я имел в виду, что мы можем продать их безо всякой лжи. Все, что нужно сказать, – что картины находились в ателье Виктора и что, по-видимому, речь идет о Буше, Кройере и Бацци. И пусть другие определяют подлинность. Подумать-то она обещала, но, как только я завожу об этом речь, она уходит от разговора.
– Я-то думал, вы уже все решили. Считал, она на нашей стороне…
– Она и была… более или менее. А потом начала сомневаться. Мне кажется, она заруливает в депрессуху. Бессонница… сидит в «Google» и ищет данные о гомосексуалах в Третьем рейхе… – Эрланд задумчиво потер зубы костяшками пальцев. – Никак не могу поверить, что он был педерастом. Я его даже подначивал поискать себе даму в подходящем возрасте. Как-то пытался свести с пожилой секретаршей в университете… Невероятно, как можно так ошибаться.
Ошибаться можно во многом, подумал Иоаким, разглядывая катышки на лацкане пиджака собеседника. В мире ничего больше нет, остались одни подделки. Женщины с фальшивыми губами и грудью. Молодые писатели, которые пишут пастиши без ссылки на оригинал… Фальшивая, вводящая в заблуждение реклама, искусственные улыбки в кабаках, бесконечное вранье политиков на трибунах. Адорно прав: современность копает могилу подлинности, о ней можно забыть, подлинность принадлежит прошлому. Его отец просто опередил историю, стал одним из запевал в бесконечном хоре фальсификаторов и плагиаторов. А вот о том, как жилось отцу в Третьем рейхе, он думать не хотел. Так же как и о том, почему Эрланд так стремится продать поддельные картины.
Они помолчали. В дальнем углу две женщины громко спорили, какое слово вписать в кроссворд. Подростки за соседнем столиком продолжали без устали бороться за права палестинского народа. Не так уж легко определить, где же его истинное «я», подумал Иоаким, изучая Эрланда. Хорошо бы разобраться, что заставляет людей действовать против своих убеждений. Это же не кто иной, как Эрланд, сделал сомнительную попытку получить страховку за испорченные Виктором полотна. Он жульничал, потому что всячески скрывал роль Виктора в вандализме. Это же не кто иной, как Эрланд, забрал на хранение оставшиеся подделки и помешал Жанетт уничтожить их или передать полиции. И не с кем иным, как с Эрландом, он сейчас сидит и шлифует детали заговора.
– Что ты знаешь про IP-адрес? – неожиданно спросил он.
– Что?
– Как его можно вычислить?
– Операторы обычно с этим справляются. Роутер можно проследить в обратном направлении… я так полагаю. Кстати, насчет Интернета – недавно я обнаружил, что мы можем поискать покупателей на сайте eBay… там сейчас продают массу предметов искусства – графику, живопись, антиквариат. Если решить проблему с предварительной экспертизой…. человек же должен знать, что он покупает… если эту проблему решить, совсем неплохой сайт для бизнеса.
– Я предпочитаю старомодные договоры, лицом к лицу, – сказал Иоаким, скептически оглядывая Эрланда. – И подумай сам, Эрланд, какой дурак купит доселе неизвестного Кройера через Интернет? Ты лучше постарайся, чтобы Жанетт не нервничала до моего звонка. Будем надеяться, что завтра удастся собраться у меня, пообедать с хорошим вином и переночевать. А потом начнем операцию «Уговоры».
Перед домом лежали сугробы осенних листьев. Рядом с полуразвалившимся каменным сараем стоял вэн, а чуть подальше – вросший в глину джип. Царила полная тишина, как перед съемкой, но никого не было видно.
Он поставил прокатный автомобиль на въезде и поплелся к кухонной двери. Заглянул в окно, но ничего существенного не обнаружил – на столе блюдо с бутербродами, два кофейных термоса и переполненная пепельница. На спинке стула – махровый халат.
– Есть тут кто-нибудь?
Он оглянулся. Прислонясь к углу дома, на него смотрел его сосед, чье имя он умудрился забыть.
– Я тебя не испугал? – спросил тот весело. – Ты же меня помнишь? Сюнессон! Проходил мимо, увидел машины – думаю, не случилось ли чего? Ты же не ездишь на джипах?
– Машины здесь стоят уже несколько недель, – сказал Иоаким, немного отступив и лихорадочно соображая, как ему побыстрее избавиться от непрошеного гостя. – Я сдаю дом…
– Знаю, знаю… Сплошная беготня. Странное время, странные люди…
– Съемочная группа. Надеюсь, они не беспокоят?
– Нет… приходили как-то, спрашивали насчет электричества. На прошлой неделе отключали свет. Я посоветовал позвонить электрику.
Сюнессон – вот, значит, как его зовут – жил в недостроенном деревянном доме метрах в четырехстах отсюда. Чем он зарабатывал на жизнь – одному Богу известно, но обилие ржавых автомобильных остовов на въезде в гараж наводило на мысль о торговле металлоломом.
– Соседи в деревне должны держаться вместе, – сказал Сюнессон веско. – И держать ушки на макушке. Прошлой зимой взломали несколько дач. Это было еще до тебя, но взломали же.
– В данном случае никаких оснований для беспокойства. Но все равно спасибо.
– Я надеялся, может, какие знаменитости приедут. Все же съемки… Но нет, никого из тех, кого я знаю.
– Очень сожалею, – сказал Иоаким, направляясь к выходу в надежде увлечь за собой назойливого соседа. Он краем глаза заметил, что к окну чердака приставлена лестница.
– Хотя здесь у нас и так полно знаменитостей… И с каждым годом все больше… Старый миссионерский дом продали месяц назад… ну этому, как его зовут, смешной такой в «Парламенте»[83]. Выложили с женой два лимона и глазом не моргнули, и еще столько же на ремонт… Народ неплохо зарабатывает на кривлянье…
– Про это мне ничего не известно, – сухо сказал Иоаким, бросая выразительный взгляд на прислоненный к сараю велосипед Сюнессона.
– Что еще нового… драка была две недели назад в клубе… а один наш сосед угодил в кутузку. Контрабанда спиртного.
– Печально слышать.
– Печально? Трагедия!
Иоаким попытался сообразить, каким образом это событие может достигнуть масштаба трагедии, но, не придя ни к какому выводу, на всякий случай многозначительно покивал головой.
– Хочу пойти в тепло и посмотреть, чем там занимаются мои гости, – сказал он. – Я бы пригласил тебя на кофе, но ты же сам знаешь, как это со съемками… «Тишина, мотор!..» Они не любят, когда им мешают.
– Еще бы! Это же не совсем обычный фильм, насколько я понимаю.
А вот это Иоакиму уже не понравилось. Сосед, очевидно, соображал куда больше, чем делал вид.
– Ты, может, и сам снимешься?
– Где?
– Да в фильме… Статистом или там что…
– Я приехал посмотреть, все ли в порядке. А теперь извини меня, пошел дождь, и я бы с удовольствием…
Сюнессон посмотрел на него скептически, покачал головой и укатил на своем велосипеде.
В гостиной на диване с обивкой от Маримекко полулежала совершенно голая женщина и смотрела телевизор. Похоже, она не заметила, что он вошел, а может, просто не придала этому значения. Даже глаз не подняла. Поскольку Иоаким не имел четкой стратегии, как вести себя в подобных ситуациях, он остановился на пороге. Высокая и полная грудь, явно противоречащая закону всемирного тяготения, наводила на мысль об ее искусственном происхождении. Все места, где женщинам досаждают растущие волосы, тщательно выбриты.
– Хамрелль наверху, – сказала она, переключая канал.
– Я – хозяин дома. – Его взгляд автоматически перескочил с груди на лобок – что там прячется между бедрами?
– Экономические проблемы, да? Тут вырубился свет на прошлой неделе, Хамрелль позвонил, а ему сказали, что электричество отключено за неуплату. Пришлось ему ехать в банк и платить наличными, чтобы дали свет в тот же день. Батареи были ледяные. Можешь себе представить, каково сниматься при десяти градусах.
Все ясно, подумал он. Вполне логичное наказание за его грехи. Ногти на пальцах ног у дамы были покрыты ярко-синим лаком. Она была красива особой увядающей красотой тридцатипятилетней женщины.
– Слушай, принеси-ка мне бутерброд из кухни.
Он выполнил ее просьбу и двинулся дальше – обследовать собственный дом.
С каждой ступенькой лестницы на второй этаж признаки сексуальной активности были все более явными. На полу в прихожей лежал перевернутый чемодан, из него высыпались в высшей степени греховные игрушки. Ему пришлось перешагивать через ярко раскрашенные дилдо[84] и еще какие-то заводные игрушки исключительно эротического вида, но не сразу понятного назначения.
Из комнатушки, когда-то предназначенной для прислуги, послышались звуки техно. Как настоящий, хорошо воспитанный интеллигент из провинции, он вежливо постучал. Музыка оборвалась, и дверь открылась.
– Не прерывайтесь! – заорал открывший, стоя к нему спиной. – Мне нравится эта поза. Давайте, давайте, девушки!
В гостевой постели Иоакима, выкрашенной в розовый цвет, две женщины занимались чем-то откровенно непристойным. У одной из них на поясе висел циклопических размеров желейно-прозрачный фаллос. Со стены на все это смотрела голова лося. К дымоходу было прислонено колоссальное зеркало. Молодой человек в тренировочном костюме согнулся за видеокамерой. А чуть подальше, у окна, стоял голый мужик примерно в возрасте Иоаки ма и лениво почесывал в паху.
– Ты из «Кейтеринга»[85]? – спросил, повернувшись наконец к Иоакиму, здоровенный мужик под два метра. Он-то, слава богу, был одет. – Ты должен был быть здесь час назад!
– Я хозяин дома – Иоаким Кунцельманн.
Гигант перешагнул порог.
– Продолжайте, продолжайте! – крикнул он в комнату. – Тильде, о чем ты думаешь? Весь смысл в том, чтобы ты получала наслаждение, ты приближаешься к оргазму… Вот оно что, Кунцельманн! Так это ты и есть Кунцельманн! В чем дело? В контракте, по-моему, написано, что нас никто не будет беспокоить! Тильде, сделай мне одолжение и попробуй постонать! Нет-нет, весь смысл в том, что Дженни пока не снимает свой хомут… погоди… твоя ориентация еще не ясна. Ты пока еще кобель, но тебя постепенно обращают в иную веру…
Профессиональный дегустатор Иоаким Кунцельманн понял, что снимается обычная клубничка для ТВ-1000, хотя и с налетом юмористического ретро семидесятых: две девушки, у которых долго не было мужчин, развлекаются друг с дружкой. Надевают пояс с дилдо и чередуются, кому быть альфа-самцом. Но тут совершенно случайно появляется слесарь-водопроводчик (как он сюда попал? через окно?) – оказывается, надо поменять подтекающую прокладку. И вот удача – он с удовольствием включается в игру.
На амбале была белая футболка с надписью «No Fun» на груди.
– Слушая, Йонни, или как там тебя называют. Почему бы тебе не пойти в кухню и не сожрать бутерброд с сыром, пока мы закончим. Ты же сам знаешь: время – деньги. И передай девушке внизу, ее зовут Кайза, что я ее жду не позже чем через пять минут – мы от треугольника переходим к четырехугольнику. А потом поговорим. За кофе.
Он со стуком захлопнул дверь, пахнуло потом. Тут же загрохотала музыка.
Некоторые слова в некоторых смыслах довольно нелепы, подумал Иоаким, спустившись вниз. Бутерброд с сыром, к примеру… неисповедимыми путями он наводит на мысль о четырехугольнике…
В гостиной Кайза, положа ноги на подлокотник дивана и шевеля пальцами с синим педикюром, читала приложение к вечерней газете. Она с добродушной непосредственностью раздвинула ноги, давая Иоакиму возможность полюбоваться на идеально выбритую промежность. Он полюбовался и удивился, что не чувствует ни малейшего возбуждения. Это порно, решил он. Порно сделало меня невосприимчивым к реальному телу.
Все еще недоумевая по поводу собственного сексуального нейтралитета, он сел в кресло напротив и посмотрел на вытатуированного на одной из грудей скорпиона.
– Куда ты уставился? – спросила она.
– Никуда…
– То-то. Тебе небось и невдомек, какие трудности в нашей профессии. Всем до нас дело: тетки из социальных служб, политики, феминистки…
– Могу себе представить.
– Не думаю, чтобы ты мог себе что-то представить… Мне, например, нравится трахаться… но мне не должно это нравиться. По крайней мере, за плату. – Она отложила газету и строго посмотрела на Иоакима. – У некоторых типов ты не укладываешься в картину мира, если ты не жертва. Для таких законодателей порнозвезды обязаны быть жертвами.
– Законодателей?
– Не притворяйся! Ты же знаешь, о чем я говорю. Эти, кто провел закон о запрете на покупку сексуальных услуг… Эта самая Сегерстрём[86] и другие… Честно говоря, не понимаю, почему они заодно не запретили эротические фильмы. Это что, разве не одно и то же? Этот парень, Хамрелль, он же платит за то, что меня дерут перед камерой.
Иоаким машинально кивал, якобы одобряя ход ее мыслей, а на самом деле размышляя: как ему поскорее выставить этих людей из дома… как ему вообще заставить их одеться? Как замести все следы их пребывания до приезда сестры и начала операции «Уговоры»?..
– Так что не понимаю, почему бы не запретить и этот вид покупки секса… Разница только в том, что Хамрелль хотя и платит, но не ебет меня лично… Ханжество редкостное… Ты пойми, в каком-нибудь японском сверххудожественном фильме… или эти, в «Догме»… там они трахаются по-настоящему, недолго, правда, секунд десять, но по-настоящему, чтобы возбудить средний класс, – и никаких проблем. Или в искусстве… Что будет, если запретить порно в искусстве? Конфликт, понимаешь! Покупать секс – отвратительно. А покупать секс для фильмов «Догмы» – верх изящества.
– Может быть, не верх изящества, – вставил Иоаким, – но, как бы сказать… менее отвратительно.
– Или представь себе ситуацию… думаю, такое никогда не придет в голову этим псевдохристианским феминисткам, когда они пишут свои дурацкие законы. Представь, мужик… да скажем для простоты, ты сам… вот ты на Реерингсгатан в Стокгольме, в кармане у тебя тысяча спенн[87] и цифровая камера… И вот ты приглашаешь девушку в машину, привозишь домой и снимаешь всю эту тряхомудию. Я хочу сказать, что, если тебя за этим делом накроет полиция, ты всегда можешь сказать, что у тебя съемки. Ты даже можешь сказать, что снимаешь порно с собой самим в главной роли, а девушку нанял на работу. Или что это догма-фильм. И они ничего не могут сделать! – Женщина прикурила сигарету, затянулась и выпустила дым тонкой струйкой. – А знаешь, в чем тут дело?
– По правде сказать, нет.
– Так я тебе расскажу! Когда я работаю на Хамрелля, я не угрожаю трахнуть мужа этой самой Сегерстрём. Я продаю свое тело в определенных границах. Самое большее, что может себе позволить ее драгоценная половина, – включить в гостинице платное ТВ и дрочить, глядя на мою работу. А если я выйду на улицу, сразу стану уличной блядью. Блядь как блядь. И лох как лох…
Женщина по имени Кайза поднялась, сделала три шага по направлению к Иоакиму и указала на него сигаретой:
– Выгляжу я как жертва?
– Нет… не сказал бы.
– То-то и оно! Никакая я не гребаная жертва! Мне это нравится! Это мое дело… и это куда лучше, чем, скажем, ухаживать за хрониками. Мне больше нравится прыгать в койке, чем подтирать кому-то жопу и выносить утки. И получать за свою работу в десять раз больше. Но нашим фарисеям это и в башку не приходит! Это, видишь ли, не укладывается в их мировоззрение. Ясное дело, если поискать, можно найти несчастненьких, и жертвы найдутся, а они ищут, не волнуйся… можно и девочек найти, которым это дело не по душе – давать за плату, вот они их и находят и выставляют на свет божий… а как ты думаешь, станут они брать интервью у меня?
– Скорее всего, нет…
– Вот именно! Я в их клише не влезаю… В их представлении мир гетеросексуален и моногамен, и трахаются все в миссионерской позе. Они меня боятся, эти тетки! Им-то не надо выбирать между больницей для хроников и Хамреллем! Они чересчур изысканны, им не приходится вычищать дерьмо за больными, они не понимают, что это такое, а еще меньше они понимают, как это можно – лечь под незнакомого и получить за это деньги. Они считают, это омерзительно…
Она потыкала сигаретой в доисторическую раковину, когда-то найденную Иоакимом на берегу, и надела халат.
– Пусть они возьмут этот закон о сексуальных услугах и подотрут им жопу. Теперь они пытаются продать этот закон в ЕС, потому что этой стране и гордиться больше нечем, кроме ветхозаветной секс-морали. Раньше нам все удавалось… Весь мир к нам прислушивался – благосостояние, разоружение… А теперь у нас «Лиля навсегда»[88] и целая толпа моралистов в ЕС, которые истошно верещат, что вся Европа должна учиться у нашей замечательной страны, особенно по части законов о сексуальных услугах. Но это не пройдет, – и знаешь почему? Потому что они забыли про мать-природу! Здесь же речь не о том, что хорошие девушки указывают не таким хорошим девушкам, чем и как им заниматься. Речь идет о самом основном инстинкте в мире! И всегда и везде найдутся люди, готовые за это заплатить…
Необычная лекция закончилась. Женщина повязала кушак, взяла блюдо с бутербродами и, жуя, поднялась наверх.
Через пять минут послышался такой топот, словно по лестнице спускался гиппопотам. Хамрелль вытеснил из комнаты как минимум два кубометра воздуха.
– Из «Кейтеринга» не приезжали? – спросил он. – Забыли, что ли… а ты все еще здесь?
За окном медленно смеркалось. У Иоакима было такое ощущение, что сейчас раннее утро, мистический час, когда не знаешь, спишь ты или нет, но человек перед ним был в высшей степени реален.
– Дело в том, что дом мне нужен. Завтра во второй половине дня приезжает моя сестра.
– Слышь, приятель, в контракте большими буквами написано, что на время его действия в доме распоряжаюсь я. К тому же там еще сказано, что дом должен быть пригоден для съемок, а когда на прошлой неделе вырубили свет, вряд ли можно считать, что условие выполнено… Ты должен радоваться, что я не потребовал вернуть задаток. Но я добрый. Я закрываю глаза на обесточку. Я закрываю глаза, что мы два дня сидели здесь, как сычи, в темноте, потому что у тебя не хватило ума оплатить счет за электричество. Я даже не буду требовать с тебя компенсацию, хотя имею на это все права…
За окном почудилось какое-то движение… дверь в сарай приоткрыта… три новые черепицы свалились с крыши, повинуясь законам хаоса, в мощном юридическом поле которых вот уже давно существовал человек по имени Иоаким Кунцельманн. Уж не Сюнессон ли шпионит? Странно, но ему почему-то было все равно.
– В нашей отрасли людям верить нельзя, – горько поведал Хамрелль, доставая из холодильника банку кока-колы. – Говорят, что приедут – и не появляются. Говорят, что местечко у них – хоть куда, а приезжаешь – даже света нет… и никакой гигиены, девушкам помыться негде. Говорят, у них встает в полсекунды, а потом оказывается, и виагра не помогает… – Он громко вздохнул. – Особенно эти новые парни – совершенно ненадежны. Молодежь… надумали стать звездами за одну ночь. Сидят дома и смотрят, как Рокко Зиффреди или Петер Норт[89] тянут красивых девчонок чохом и по одиночке… А у девчонок сиськи новехонькие, только что из мастерской… Вот они и думают: а мы что, хуже? И мы так можем, никаких проблем! Они мне звонят, присылают фотографии своих здоровенных приборов… А когда предлагаешь им работу, думаешь, они что то могут?
Хамрелль сделал глоток кока-колы и звучно рыгнул.
– Ньет! – воскликнул он почему-то по-русски. – В одном случае из десяти. Они думают: они здесь появятся, поучаствуют в оргиях, а в кулисах будут сидеть девочки и отсасывать им из чистой благотворительности, как в каком-нибудь свингер-клубе… А на самом деле им нужно выпить таблетку, чуть-чуть облегчиться собственными силами, а когда встанет, заняться работой в пяти, ну максимум шести позициях. А что происходит? Как только до них доходит, что девушки относятся к этому делу как к работе, а не к идиотской оргии для собственного удовольствия, их начинает колотить. Ничего похожего, все не как у Рокко или Питера Норса. Камеры, осветители и девушки со свежим номером «Только что случилось» в ожидании выхода. Некоторые даже начинают плакать. А другие наоборот, мы еще и камеру не успели установить, а они уже все покончали. Смущаются, просят прощения, но больше у них не встает. И отсылаешь их по домам, а в довершение ко всему еще и поездку надо оплатить. И где же справедливость?
Гигант Хамрелль плюхнулся на стул и достал пачку антиникотиновой жвачки.
– Вчера один такой был, – сказал он и достал сразу две пластинки. – Его сразу начал бить озноб, и мы отослали его домой. А сегодня я звонил одному парню из Сконе, у того-то встает по команде… знаешь, артист старой школы – полностью сконцентрирован на своем приборе. Уж он-то, упаси бог, никогда не кончит раньше, чем положено по сценарию. И как ты думаешь, что произошло?
– Откуда мне знать… Виагра кончилась?
– Не-а, – хмуро глянул на него Хамрелль, – он позвонил двадцать минут назад и сообщил, что не приедет! Он, видишь ли, заделался гомо! И теперь если и будет сниматься, то исключительно в гомосексуальных сюжетах! Как тебе это понравится? Стал гомиком за одну ночь!
– Мне такой феномен знаком…
Хамрелль вскочил со стула – неожиданно легко для его телосложения.
– У тебя такой вид, будто тебе нужны деньги.
– Нет… не очень…
– А я прошу позволения напомнить об этих неоплаченных счетах… и вообще обо всех пунктах нашего контракта, прочитай-ка внимательно…
– Дело не в этом…
– Сдаваемая недвижимость должна быть пригодна для съемки, и особо там оговорено гарантированное электроснабжение, это входит в сумму контракта, в противном случае вся сумма возвращается в «Роллер Коустер фильм», который в настоящую минуту стоит перед тобой.
– Послушай…
– Ты меня не понял. Я всего-навсего хочу, чтобы ты встал перед камерой, голый до пояса, и притворился, что это ты и есть главный ебарь. Все остальное сделает Кларенс. Ты будешь дублером – от пояса и выше. Нам нужна новая физиономия… придать немного правдоподобия, что ли… Ничего сложного тут нет, я тебе все подскажу… мне же все видно на мониторе.
– Как я уже сказал, моя сестра…
– О’кей, о’кей, проблему понял. Давай сделаем так: ты оказываешь услугу мне, я оказываю услугу тебе. Как только выполнишь мою просьбу, мы пакуем наше барахло и уезжаем. Самое позднее завтра утром дом опять твой… Нам не хватает сносного финала. И чем быстрей мы это сделаем, тем быстрее умотаем, и ты получишь назад свою хибару.
Через двенадцать часов ничто не напоминало о событиях, разыгравшихся в кунцельманновском доме этим ноябрьским утром в середине первого десятилетия двадцать первого века. Все комнаты были вымыты и проветрены, исчезли камеры, прожектора и чемоданы с эротическими игрушками. После неожиданного соглашения с Кунцельманном-младшим Хамрелль уехал, уехала и диссидентка Кайза, и все остальные.
Когда утром Иоаким убирал лестницу, воспоминание о его соседе Сюнессоне, свалившемся накануне вместе с этой лестницей с четырехметровой высоты и сломавшем ногу, уже успело поблекнуть. Осталось только эхо его страдальческого голоса, взывающего о помощи, и еще след колес «скорой помощи», похожий на примитивную наскальную живопись. И так же смутно вспоминал он сцены моральной катастрофы в мансарде, отпечатавшиеся, как моментальные снимки, в его ненадежном мозгу… В этих сценах он, увидевший самого себя в гигантском позолоченном зеркале кинокомпании «Роллер Коустер фильм», играл главную роль.
Комичен был и отбор этих кадров, инкапсулированных в запрятанной где-то в лимбусе эпизодической памяти. Комичны были и позы, которые он принимал, не участвуя собственно в играх. Комичны были гримасы, которые огромный Хамрелль просил его примерить, – гримасы, долженствующие представлять момент истины: «Выпяти подбородок, Йонни, выпяти подбородок! Потребители любят, когда мужики при оргазме выпячивают подбродок, есть статистика… это как бы придает им звериный колорит».
Да что там говорить, курьезна была сама его роль дублера профессионала Кларенса, а самое странное, конечно, – находиться в змеином клубке голых тел без всяких намерений во всем этом поучаствовать, смотреть, не трогая, или вдруг прекратить творческий процесс по той причине, что Тильде надо выйти пописать… Была в этом, конечно, и неприятная сторона – не попадут ли эти кадры на глаза знакомым? Хотя Хамрелль и уверял, что фильмы будут сразу продублированы на немецкий и поступят в продажу исключительно в Австрии и Германии и что он лично проследит, чтобы крупные планы кунцельманновского торса и физиономии, сросшихся с половыми роскошествами Кларенса, никогда не попали в руки посторонних.
Рабочее название серии фильмов было «Лоси и груди», что проливало некоторый свет на лосиную голову на стене. Непрерывно жуя антиникотиновую жвачку, Хамрелль пояснил, что они через неделю должны кое-что доснять в Смоланде, где деятельные туристические бюро создали нечто вроде лосиного зоопарка в Чевшё, куда немецкие туристы, желая набраться экзотических впечатлений, приезжали на так называемые лосиные сафари.
– Нам нужны снимки лосихи в период гона, – сказал он без намека на иронию. – В нашей отрасли очень важны неожиданные детали.
«Я поменял прокладку в кране с горячей водой, а теперь хочу ебаться». Произнести эти слова совершенно естественно, стоя перед камерой, по мнению Иоакима, не смог бы ни один человек на земле. Но он догадывался, что здесь и заключена какая-то недоступная его пониманию эротическая фишка. Он был немало удивлен своей собственной способностью к адаптации, хотя смутно понимал, что вызвана она глубокой растерянностью… Сесилия бросила его ради женщины, его умерший отец – фальсификатор, ему необходимо как можно скорее освободить дом от этих людей… может быть, сыграло роль и содержимое бутылки виски «Баллантайн», выпитое им, чтобы отпустить тормоза… Ему вполне удалось усилием воли обуздать первичные ферментные реакции. Лихорадочно склеивающиеся тромбоциты в яростном конфликте с половыми сигнальными веществами словно бы спрятались куда-то, пока он имитировал движения в стиле Рокко и на расстоянии меньше метра, под лосиной башкой, созерцал апофеоз шведского греха. Поступающие в кровь моноамины не трогали его, он издевательски посмеивался над серотонином, допамином и даже над резким повышением уровня адреналина в крови. Короче говоря, это был закаленный горькой судьбой Иоаким Кунцельманн во всей своей красе…
Работу нельзя было называть чересчур напряженной, если не обращать внимания на жар прожекторов и непривычные, иногда довольно замысловатые позы. Спустившись через час в кухню выпить кофе, он попытался убедить себя, что это всего-навсего работа, такая же, как и любая другая, такое же кофепитие, как и в любом другом месте, в обществе легко… ну, может быть, слишком одетых сотрудников, болтающих о вещах, о которых болтает во время перерывов на кофе вся нация: погода, розыгрыш лотереи, последний сериал…
– А ты меня не узнаешь? – ободряюще спросил Кларенс, жуя бутерброд с ветчиной. – Ты не видел «Скольжение в Оре»? А «Щелки под лупой» или «Школу верховой езды»? А «Ян Орган зачищает город»? Особенно интересен второй, я там играю все мужские роли…
Слегка притопленная в виски память услужливо подсказала и другие забавные детали, например разговоры, в которые никто бы не поверил: о барахлящих вибраторах, пирсинге клитора, наиболее эффективных смазках… И сплетни об актерах-конкурентах – Самсоне, Янне Хедине… о функционере коммунистической партии Йоране Эурениусе, который начал было делать карьеру в начале тысячелетия, но его смешала с грязью пресса, якобы из морально-политических соображений.
– У него все равно не стоял, – неожиданно заключил Кларенс. – Ему надо было заниматься только политикой, а порнуху пустить побоку. Я-то вначале был вышибалой в «Ша Нуар» в Стокгольме… Тогда владельцем был Карл Серунг[90], он-то и предложил мне первую роль, а потом все покатилось как по рельсам. Не у Серунга, ясное дело, тот законченный псих. У Сандберга, Макса, Хамрелля…
Чего только не узнаешь, подумал Иоаким, надо просто оказаться в нужном месте в нужное время. Диссидентка Кайза продолжала нудить что-то о возмутившем ее законе про секс-услуги, почесывая при этом какой-то прыщик на бедре, но ее никто не слушал – очевидно, у нее это была больная тема, которая всем уже успела надоесть.
Дженни, с наполовину покрытым татуировкой торсом, рассказывала о предстоящей поездке в Таиланд со своим бойфрендом.
– Мы с моим парнем хотим открыть там ресторан для веганов, – пояснила она, – надо только еще немного подзаработать.
Насколько Иоаким понял, речь шла о совершенно обычной деловой задумке – люди знают, чего хотят.
Тильде была самой молчаливой из всех. Она села на краешек стула и, к немалому удивлению Иоакима, достала из сумки вязанье.
– Свитерок для племянницы, – застенчиво объяснила она и больше не произнесла ни слова, пока Хамрелль не хлопнул в ладони и не громыхнул, что пора, дескать, браться за работу.
В самом необычном киноэпизоде своей жизни Иоаким появлялся с ключом Бако номер восемь в руке. В следующем кадре этот инструмент должен был послужить Тильде в качестве экзотического фаллоимитатора. К тому моменту, когда слесарь-сантехник, альтер эго Иоакима, появился в комнате, там уже успел образоваться змеиный клубок из тел трех расшалившихся немецких студенток…
Хамрелль наскоро растолковал сценарный план последнего из декалогии порнофильмов – почему-то для окупаемости имело значение, чтобы их было именно десять. Тильде, Дженни и Кайза изображали трех изучающих сексологию немецких девушек, приехавших в Швецию, чтобы в спокойной обстановке подготовиться к экзаменам. Дома у них, естественно, возможностей для серьезных академических занятий не было, поскольку все три страдали тяжелой формой нимфомании и при виде первого же попавшегося мужчины немедленно теряли голову. Короче говоря, в домашней обстановке они в основном занимались сексом, а не наукой. Но на шведском хуторе, где они поселились, тут же возник ряд проблем. Если верить натужной выдумке Хамрелля, Швеция была настоящим третьим миром – протекающие трубы, обесточки, лоси, похотливые аборигены… Когда свет и в самом деле выключили, они позвонили сексуально озабоченному электрику, который пришел и все наладил (эпизод с неоплаченными счетами Иоакима они с изобретательностью истинных документалистов ввели в сценарий, извлекая, таким образом, выгоду из необходимости). Важной движущей силой сюжета был тот факт, что студентки-сексологини обменяли слишком мало валюты, поэтому за услуги электрика (его роль исполнял Кларенс в наклеенной бороде) пришлось платить натурой. Электрические кабели тоже пошли в дело – их использовали в садомазохистских сценах. Ручка паяльника сыграла важную роль в последующей оргии, а в ящике с инструментами они обнаружили старые шведские порножурналы и листали их, пока не приходило время отсосать следующему работнику коммунального сервиса. Так и продолжалось, все шло по сценарию, изобретательности которого мог бы позавидовать любой научный фантаст. На хутор, например, забрел лось (зверя предстояло доснять позже в Смоланде), и девушкам, естественно, пришлось вызвать егеря. Потолок протекает – кровельщик тут как тут. Все эти роли исполнялись Кларенсом, обладающим впечатляющей способностью изменять голос, выражение лица и сексуальные предпочтения в зависимости от наличия или отсутствия накладной бороды. А когда наконец потек кран (и возникла опасность, что потенциальным зрителям Кларенс уже поднадоел), тут и появился Иоаким Кунцельманн со своим многофункциональным ключом Бако и выпяченным подбородком.
Из-за осветительных приборов температура в комнате перевалила за тридцать. Пот тек с Иоакима ручьями, и он все более и более подвергал сомнению мотивы своего участия в этом проекте, вписывавшемся, впрочем, с потрясающей естественностью в мучительный абсурд его существования. Он только что подкрепился очередным стаканом виски и притворялся, что его волнуют интимные ласки женщины Кайзы, но тут его внимание внезапно привлек донесшийся с улицы звук. Прямо перед окном на приставной лестнице стоял, выпучив глаза, его сосед Сюнессон. Он был похож в вечерней темноте на Бестера Китона в роли канатоходца из немого фильма. Его, похоже, даже не пугал риск быть обнаруженным… В ту же секунду его увидела Тильде. И словно бы вся эта сцена была заранее вписана в сценарий, она издала пронзительный театральный визг, от которого задрожали стекла. В этот момент Сюнессон и свалился, в ультрарапиде, продолжая стоять на падающей лестнице, он был похож на персонажа комикса.
Инцидент прервал съемки почти на час, и именно в этот роковой час все перспективы на будущее переменились для Иоакима радикальнейшим образом. Случайно поблизости оказалась машина «Скорой помощи», Сюнессона погрузили на носилки и вкололи болеутоляющий препарат. Он выглядел почти счастливым. Может быть, подумал Иоаким, это вполне разумная цена за его звездные минуты на лестнице. Может быть, на его месте человек готов отдать ногу за удовольствие увидеть такое…
Когда «скорая» уехала, без сирены, но с голубой мигалкой, он проскользнул в спальню и набрал номер мобильника Эрланда – сообщить, что все в порядке и дом с завтрашнего утра в их полном распоряжении.
– Мне очень жаль, – сказал свояк замогильным голосом. – Планы изменились.
– Как – изменились?
– Мы не приедем. Жанетт уехала вечерним паромом. Считай, что проект похоронен. Она даже обсуждать ничего не хочет.
– Что случилось? – спросил Иоаким и выглянул в окно. На газоне, с сигаретой в руке, стоял погруженный в размышления Кларенс.
– Ничего она не хочет продавать. И знаешь, я даже не понимаю, как мы могли даже вообразить, что она на это пойдет.
В трубке был слышен говор множества людей, очевидно, Эрланд был на конференции; кто-то произнес что-то в микрофон.
– А ты, Эрланд?
– Я не хочу рисковать семьей ради нескольких сомнительных картин.
– И почему она переменила решение? Что ее на это подвигло?
– Ничего она не меняла. Она утверждает, что с самого начала даже не думала их продавать. Говорит, что ненавидит отца. Честно говоря, она немного не в себе…
– Сохрани картины.
– Я обещал их уничтожить.
– А вот этого ты не сделаешь ни при каких обстоятельствах. Пошли их мне в Стокгольм, и побыстрее. Или я приеду в Гётеборг и сам их захвачу. А потом можешь придумать какую-нибудь сказку для сестры…
– А я что буду от этого иметь? – спросил Эрланд.
– Скажем так: ты получишь свою долю, если картины удастся продать. Хорошую долю. При этом тебе ровным счетом ничего не нужно делать. Можешь продолжать играть роль свободомыслящего, критически настроенного ученого и преданного мужа. А я начну все сначала. Обойдусь без сестриных связей.
– Я посмотрю, что могу сделать. Но если твоя сестра об этом узнает, жизнь превратится в ад.
– Можешь быть спокоен – не узнает, – сказал Иоаки м. – Проследи только, чтобы картины были в надежном месте, а я позабочусь об остальном.
Иоаким вернулся в кухню. Хамрелль, раскорячившись, сидел на табуретке и стриг ногти на ногах. Остальные готовились к последней сцене. Иоакиму уже незачем было во всем этом участвовать, но он ничего не сказал. Вместо этого он в тот же вечер исповедался Хамреллю.
Рассказал обо всем, что произошло за последние полгода, всю трагическую историю отца, об ужасах, которые пришлось тому пережить, о своей трусости, не давшей расспросить как следует этого загадочного Георга Хамана, о параличе воли, помешавшем ему разобраться во всем самому, нежелании узнать, кем же была мать… и вообще о своей неспособности к глубоким чувствам и неумению ни из чего делать выводы. Он рассказал о неудачах на всех фронтах, о писательских провалах, о несостоявшейся научной работе, о фиаско в роли любовника Сесилии Хаммар, о ее переходе в лагерь лесбиянок… Рассказал об экономических проблемах, в результате которых он, по-видимому, скоро лишится и этого дома, и стокгольмской квартиры, о хакерском взломе оборонного компьютера, за который он вполне может поплатиться, пожаловался на Андерса Сервина, который обещал ему несуществу ющую работу… Он поведал о слабой надежде, которая была у него последние недели, что его сестра все же склонится на его увещевания продать немногие сохранившиеся подделки Виктора, и как эта надежда только что рассыпалась в прах. Она была просто растоптана Богом-садистом, наметившим Иоакима Кунцельманна своей жертвой, чтобы подвергнуть испытаниям, сходным с испытаниями Иова.
Он рассказал обо всем этом без всяких задних мыслей, просто потому, что должен был кому-то исповедаться, он боялся, что болото, в которое он угодил, затянет его с головой. Короче, он рассказал всю неприглядную правду не столько для Хамрелля, сколько для самого себя, мысленно грозя при этом небесам сжатым до побеления кулаком. Ему было совершенно все равно, как отнесется к его рассказу Хамрелль, и он был приятно поражен сочувствием и неприкрытой симпатией этого верзилы.
– Звучит интересно, – неопределенно сказал гигант, когда Иоаким закончил свою литанию.
– Что именно? Здесь, можно сказать, целый шведский стол различных неудач.
Хамрелль почесал макушку и осторожно понюхал пальцы.
– Воняет сексом, – сообщил он с брезгливой гримасой. – Теперь уже все, до чего ни дотронешься, воняет сексом. Даже волосы… Эта работа и в самом деле отнимает все силы… А подумай, каково находить все новые названия! Что за убожество: «Скольжение в Оре»… «Лоси и груди»! По-моему, только у парикмахеров и встретишь такую бессмыслицу… «у вас волос сеченый»…
Он поднялся с табуретки:
– А вот насчет картин… это интересно.
– В каком смысле?
– Может быть, нам стоит сотрудничать. Положа руку на сердце, я начинаю уставать от этой работенки. Запахи меня доконают… – Он снова озабоченно понюхал кончики пальцев. – И все эти блядские искатели счастья. Моя деятельная натура требует чего-то нового. И кое-какие связи у меня тоже есть…
Он бросил в рот пару пластинок антиникотиновой жвачки и театрально закатил глаза:
– Последний кадр, и с этим покончено!
4
И все-таки Виктор угодил в ловушку. Это произошло в северо-восточном углу парка Хюмлегорден, где Стурегатан пересекает Карлавеген, в одиннадцать часов вечера, когда северная ночь все еще была светла, как обещание.
Письмо взволновало его. Он запер комнату, которую снимал на Лестмакаргатан и направился в центральный район Стокгольма, носящий имя Клара.
Посидел в кинотеатре «Черная кошка», потом прогулялся до бара для любителей мороженого «Випс» на Биргер Ярлсгатан и двинулся в Хюмлегорден. Небо постепенно бледнело. Он замедлил шаг. Вечер был теплым, он напомнил Виктору берлинские вечера его молодости.
Он зашел в туалет. Там никого не было, и он никак не мог решить, что он испытал – облегчение или разочарование. Здесь было одно из мест встреч гомосексуалов. Было еще мужское отделение Центрального бассейна, а по ночам – Энгельбректсплан. И еще аллея на бульваре Вальхаллавеген. Здесь от стадиона до Уденгатан тусовались призывники дворцовой конной гвардии, а по другой стороне, ближе к Йердету, был ревир курсантов артиллерийского училища. Пожилые проститутки сидели по три на скамейке и обучали солдатиков искусству любви чуть ли не на виду военной конной полиции, патрулирующей по другой стороне улицы. Он сам наблюдал такие сцены во время своих ночных прогулок.
Но все это теория, думал он, стоя в туалете. А на практике он отдавал все силы работе. Он хотел чего-то добиться в этой загадочной стране, на своей новой родине. А любовь, как он ни гнал ее из памяти, отнимала немало сил…
Он сполоснул руки холодной водой и похлопал по брюкам. В окно было видно, как по Карлавеген идут троллейбусы. Со Стуреплана доносилась модернистская симфония городской жизни – автомобильные гудки, говор толпы… музыка оркестров из ресторанов переходила в сходящее на нет глиссандо.
– Наверное, в этом весь смысл, – вслух сказал он самому себе, – я должен жить один. После всего случившегося… чего мне еще желать?
Виктор вышел на улицу. Стало чуть темнее. Чуть поодаль шли двое солдат. Виктор слышал, как они шутят по поводу новых форменных брюк: «Очень удобно! Расстегиваешь две пуговицы, и – хоп! – весь пакет наружу. Практично, а?»
Виктор никогда не решался подойти к мальчикам, стоящим под деревьями в ожидании предложений, но сейчас, после непрерывной, почти маниакальной работы, он, как ему казалось, созрел. Он зажал деньги в кармане в кулак, подготовил приветствие на своем неокрепшем шведском… странный, мягкий, бесконтурный язык, если сравнить с немецким. Двусмысленность его иногда казалась почти комичной (как, например, были связаны друг с другом однокорневые слова hemsk и inhemsk[91]?)… Нет, как бы там ни было, он чувствовал, что вот-вот сумеет заставить себя обратиться к кому-то из этих мальчиков.
Он мог бы пригласить кого-то к себе домой, в комнату, где жил размеренной холостяцкой жизнью до тех пор, пока год назад не встретил Фабиана Ульссона – и мир его рухнул. Эта жалкая комнатушка с рукомойником с холодной водой, с туалетом во дворе и ванной в подвале – скоро он съедет оттуда, потому что времена стали лучше. Этот неизвестный, тот, кто посетит его жилище… может быть, они заведут патефон и послушают музыку, а может, гость заинтересуется и начнет листать книги по искусству. Или Виктор покажет ему свои пастиши под старых мастеров, от Антонио Бацци до Дюрера, написанные недавно в охватившей его творческой лихорадке, или отреставрированные им полотна шведских гениев – Эренштраля, фон Крафта и Хиллестрёма.
Может быть, гость с интересом послушает рассказы о работе реставратора, диффузии и гипсовых ваннах, вздохнет с восхищением, когда Виктор поведает ему о зарубежных коллекционерах, все чаще приглашающих его реставрировать работы из их собраний, о своей недавней поездке в Копенгаген по приглашению музея Хиршпрунга… теперь, когда Яан Туглас уехал в Америку, он сам себе начальник, у него своя мастерская в Старом городе.
Виктор представил, как они с гостем будут пить вино… Он коротко расскажет о стоящем на столе «Сильванере», блеснет знаниями по части вин… а потом обнимет пришедшего за плечи… Или наоборот, это не он обнимет гостя, а гость обнимет Виктора, скажет шепотом, что с гонораром они разберутся позже… и поцелует его сразу, еще до того, как они успеют декантировать[92] вино… Дальше его фантазия иссякала – гость каждый раз принимал облик Фабиана Ульссона.
Он вышел из парка и пошел по восточной стороне Вальхаллавеген. Мимо двигались празднично одетые пары, одинокие мужчины торопились в «Бернс» или «Риш»[93].
Никто здесь о нем ничего не знает, подумал он. Даже Фабиан и Аста не знают, что он приехал в Швецию по поддельным документам, получил по ним паспорт и гражданство… Может быть, именно поэтому в нем продолжало жить чувство, что он чужой в этой стране. На вопросы о прошлом он отвечал уклончиво или придумывал подходящую историю в зависимости от требований момента… ложь во спасение, отвлекающие маневры, каждая новая ложь влекла за собой другую, и он запутывался все больше, как рыба в неводе.
В подъезде стоял молодой человек с незажженной сигаретой.
– У вас есть спички? – спросил он, дождавшись, когда Виктор подойдет поближе.
Виктор кивнул, достал коробок со спичками и дал незнакомцу прикурить. Он вдруг почувствовал неуверенность – что он, собственно, здесь делает? Ему надо было бы сидеть дома… Завтра его ждут важные дела – закончить несколько копий, а самое главное… самое главное – ответить на неожиданное и взволновавшее его письмо Георга Хамана.
– Благодарю вас. – Молодой человек затянулся и бросил взгляд в сторону парка: – Не повезло в туалете? Я видел, как вы туда заходили. Будьте осторожны в подобных местах, здесь могут и ограбить… А как вас зовут?
Гуляющая публика проходила мимо, вроде бы их и не замечая. На этих широтах люди вообще друг друга не замечают, подумал Виктор, старательно избегают смотреть друг другу в глаза, словно боятся заразиться какими-то нежелательными и неуправляемыми чувствами. Ему вдруг пришло в голову, что все те свойства национального характера, которые шведы старательно приписывают немцам, точно так же присущи и им: строгая иерархия, заискивание перед власть имущими и в то же время парадоксальное обожание всего коллективного, подозрительность к чужакам, удивительная окоченелость всех психических сочленений, которую они иногда пытаются размягчить алкоголем, маниакальная чистоплотность и заученное раз и навсегда чувство порядка.
– Виктор, – сказал он.
– Что я могу сделать для вас, Виктор? – с деловой интонацией спросил молодой человек.
Виктор засомневался:
– Это зависит от того, сколько это стоит…
– Заплатите столько, сколько найдете справедливым.
Пока они шли назад к парку, он думал о Георге. На письмо рано или поздно надо ответить – и как все ему объяснить? Может, просто исповедаться Георгу, рассказать о событиях последнего года, как три самых близких ему человека один за другим исчезли из его жизни…
Письмо пришло этим утром, светло-голубой конверт, проштемпелеванный в американском секторе Берлина. Виктор не встречал своего напарника и оруженосца с того самого майского дня пять лет назад, когда они расстались на дороге под Ганновером. До сегодняшнего дня он понятия не имел, где Георг теперь, что с ним и жив ли он вообще. И каким образом Георг нашел его адрес?
На десяти страницах, исписанных мелким, но очень четким почерком, Георг рассказывал, что с ним было после того, как они расстались. Он дошел до развалин пешком – Георг именно так и написал: не «Берлин», а «развалины». От их квартала ничего не осталось. Пачка спрятанных в сапогах фальшивых фунтов очень ему помогла. Начал он на черной бирже с продуктов питания, потом занялся более привычным делом – антиквариатом и живописью. Два года назад он открыл магазин поблизости от Кудамм. Дела, писал Георг, вопреки ожиданиям, шли превосходно. Он покупал картины за бесценок – людям были отчаянно нужны деньги, и продавал за очень хорошую цену чиновникам из военного управления союзников.
Не хочет ли Виктор снова с ним сотрудничать? У Георга были далекоидущие планы, например открыть в Швеции филиал своего магазина. Ему нужны «объекты», написал он в кавычках. На их языке это могло означать лишь одно: ему нужны были сделанные Виктором подделки.
Виктор размышлял, как ему сформулировать ответ – а ответить надо было сразу, самое позднее завтра. Он исключал для себя возврат к прежнему. На этот раз он принял твердое решение: жить честно.
Заходя с незнакомцем в туалет, он краем глаза заметил полицейский автомобиль, свернувший на Стуреплан. Снюты[94], пробормотал он. Странно, какой ерундой пополнился его словарный запас за пять лет в этой стране. Флоттисты, лигисты…. Где он их набрался? А некоторые слова он почему-то никак не мог запомнить, например фильбунке – простокваша. В Кунгсане водятся сутенеры, трансы, стилеттисты… растерянно вспоминал он, а незнакомец тем временем расстегнул его ремень и гладил его по ягодицам.
Незнакомец спустил с него брюки. Третий мужчина в моей жизни, подумал Виктор, после Фабиана и Нильса Мёллера. Юноша взял в руку его податливый… как это у них называется? Лем? Кук?[95]… Этим словам научил его Фабиан Ульссон.
Виктор не чувствовал ни малейшего возбуждения.
– Тебе приятно?
Молодой человек посмотрел на него серьезно и присел на корточки. Виктор не знал, что ответить. В туалете пахло мочой. На полу лежал пакет презервативов: «Пробный набор Торена со смазкой, цена 2,75». Убожество, вспомнил он шведское слово, ему казалось, что оно очень подходит к обстоятельствам.
– Наверное, лучше будет, если ты сам меня приласкаешь…
Он встал и засунул ему в рот язык. Виктор с отвращением почувствовал новый вкус, он догадывался, что этот вкус – его собственный. Он выставил руки, словно защищаясь. Наверняка, подумал он, вся это сцена со стороны выглядит до крайности нелепо и трагично. Двое мужчин со спущенными до щиколоток брюками и трусами в общественном туалете, дверь в парк открыта… Его мысли были прерваны фотовспышкой. Его новый знакомый быстро натянул штаны и отбежал к стене. В дверях стояли двое полицейских.
– Есть? – спросил один из них.
– А то! – ответил напарник и повернулся к юноше.
– А ты можешь идти. Аксельссон потом с тобой свяжется…
Через полчаса его уже допрашивали. Полицейская машина затормозила у большого здания на Кунгсхольмене. Его провели через подземный коридор в камеру, забрали пояс, бумажник и обувь и посадили на намертво привинченную к стене койку.
– Имя? – спросил полицейский в штатском, представившийся Аксельссоном.
– Виктор Кунцельманн.
– Семейное положение?
– Холост.
– Знаешь, почему ты здесь?
– Нет…
В глазке камеры он заметил какое-то движение – похоже, кто-то подглядывает.
– Не валяй дурака… Ты обвиняешься в совращении несовершеннолетних… Ты же, черт тебя подери, торчал там с членом наготове… Все есть на снимке.
– Пареньку не исполнилось двадцати одного, – вставил второй полицейский.
– Откуда мне было знать, сколько ему лет? Выглядит он старше…
– Как часто ты этим занимаешься?
– Чем этим?
– Как часто тебе сосут в общественных сортирах?
Он промолчал. Говорить было нечего.
– Как ты думаешь, какая жизнь будет у этого парнишки, если подонки вроде тебя будут пользовать его за деньги?
– Документы есть? – устало спросил второй.
– Все документы дома.
– Где это – дома? В сортире? В подъезде на Вальхаллавеген?
Только сейчас Виктор заметил, что у него из носа течет кровь. Горячая жидкость стекала по подбородку. Он даже не заметил, что его кто-то ударил. Аксельссон протянул ему платок, и на белом полотне тут же расплылась кровавая роза.
– Иностранцы по закону должны носить с собой паспорт.
– Я шведский гражданин…
– Это мы знаем. Не думай, мы достаточно много о тебе знаем. Знаем, например, что ты испоганил жизнь молодому человеку по фамилии Ульссон. Его отец попросил нас за тобой проследить…
Только теперь до него начало доходить. Слова отца Фабиана, оказывается, не были пустой угрозой.
– На этот раз так дешево не отделаешься, – сказал тот, что помоложе. – Тебя ждет исправительный дом. Гомосексуальное растление несовершеннолетних – тяжкое преступление. Что скажешь, Аксельссон?
– Думаю, у него есть выбор…
Эта фраза явно предполагала встречный вопрос.
– Какой выбор?
– Посмотрим… Левандер, зайди сюда.
Дверь в камеру открылась. Вошел одетый в штатское человек с папкой под мышкой и, повернувшись к Виктору, вежливо кивнул.
– Надеюсь, с вами здесь хорошо обращались, – сказал он. – Знакомый вам директор Ульссон просил передать, что это, так сказать, на пробу. Это то, что может случиться, если вы не оставите в покое его сына, и не только его сына, а всю нашу молодежь…
Он достал ручку из нагрудного кармана:
– Вы немец, не правда ли, Кунцельманн? Непонятно, как это вы уцелели в войну…
Он достал из папки два документа:
– Я пока не требую, чтобы вы это подписали. Но если вас еще раз застанут в Хюмлегордене со спущенными штанами, вас могут и заставить.
– О чем вы говорите?
– О лечебном учреждении для таких, как вы. Вы пишете заявление о лечении, мы даем согласие. Существуют методы лечения людей с вашими проблемами. Вас вылечат и вернут к нормальной жизни… разве что с чуть ослабленным влечением. Если вы собираетесь продолжать, другого выхода нет.
– Кстати, как ты попал в Швецию? – спросил Аксельссон.
– С паспортом беженца.
– Откуда?
– Из Германии. С Красным Крестом. А до этого я был в Англии.
– Немец с английскими бумагами?
– Я служил во флоте Ее Величества во время войны. Но попал в плен и оказался в лагере для военнопленных в Бремене.
– Все уже проверили, Аксельссон. Бумаги в порядке. Немецкий дезертир.
– А я хочу проверить еще раз. Адрес!
Он дал им адрес своей комнатушки и оставил телефоны знакомого в «Буковскис» и Нильса Мёллера из «Глиптотеки» в Копенгагене. Они недоверчиво уставились на него:
– По части искусства? Ну, там полно гомиков… Тебе самому-то не противно?
На следующее утро его отпустили. К этому времени решение у него уже созрело. Бумаги оказались в порядке. Он получил все свои документы назад в картонной коробке, без всяких объяснений. Потом Виктор догадался, что они связались с его нынешним работодателем и тот за него заступился. А может быть, кое-что значило и имя Яана Тугласа, хотя Яан находился по другую сторону Атлантики.
Ему пришлось подписать бумагу, что он дает обещание в будущем воздерживаться от гомосексуальных связей. Это было условием – в этом случае они обещали никому не рассказывать о его ориентации. Но куда больше, чем разглашение его необычных сексуальных наклонностей, которое могло бы сильно повредить его карьере, его испугала скрытая угроза стерилизации. Он-то жил в уверенности, что все худшее позади, что ничего страшного уже просто не может с ним случиться. Теперь он понял, насколько это не так.
Я хотел жить по вашим правилам, и что получил? – думал он, щурясь на яркий утренний свет у ворот полицейского управления на Кунгсхольмене в этот июльский день 1950 года.
Уже на следующий день он пришел в мастерскую в Старом городе и на красивом деловом бланке с логотипом реставрационной фирмы написал письмо старому компаньону – он согласен. Фабиан Ульссон принадлежит прошлому.
Клара – так назывался облюбованный Виктором район Стокгольма. Он надеялся избавиться от прошлого, замуровать его, забыть. Фредсгатан и Дроттнинггатан, Кларабергсгатан и Васагатан стали границами его карты мира. Он отогревался в дешевых пивных и кафе, кинотеатры «Голливуд» и «Лондон» стали оазисами, куда он приходил после дневных мытарств на своей новой родине.
Клара – это джунгли, часто думал он; район немного напоминал ему Санкт-Паули в Гамбурге или Фридрихшайн в Берлине. Он держался в стороне от всего, что было предназначено для немедленного употребления: газеты, контрабандное спиртное, женщины, порнография… Уличные торговцы – насаре – предлагали бритвенные лезвия, шнурки для ботинок и лотерейные билеты. Сонгнасаре – еще одно появившееся в его словаре нелепое выражение, они хватали прохожих за плечо и предлагали рассказать историю или спеть что-нибудь за двадцать пять эре, за «блейд», как они называли монету на своем странном жаргоне.
Он ни за что бы не узнал этот район, читая появившиеся много лет спустя его ностальгические описания. Дешевые отели, где он ночевал в первые месяцы своего пребывания в стране, были переполнены выброшенными из нормального течения жизни людьми… «Савой» на Брюггаргатан… четыре кроны за ночь, он жил там, пока в его номере не протек потолок и он не был вынужден съехать… «Дротт» на Клара Вестра… там, на козетке в коридоре, он нашел умершего от передозировки наркомана. Голубоватый тон мертвого лица, похожий на тот, каким пользовался Вермеер, когда писал стариков, навсегда запечатлелся на сетчатке. Карманные воры, продавцы наркотиков, сутенеры, тысячи бывших крестьян, согнанных со своих мест разрастающимися городами, – они, по мнению Виктора, были еще более несчастны, чем эмигранты, пытавшиеся заглушить память пережитых ужасов, беженцы… перемещенные лица, как их называли на тогдашнем языке. Беженцы – это беженцы, у них есть еще на что надеяться, они начинают жизнь с нуля.
Несколько лет спустя, когда квартал пал жертвой мегаломании городских властей и сохранился только в болезненно ностальгических фотоальбомах и в памяти тех немногих, кто не забыл вонючие дворы, переполненные крысами, чувствовавшими себя полноправными хозяевами жизни. Виктор, в отличие от многих, не испытывал никакой нежности к прошлому – слишком болезненны были картины нищеты и распада, отпечатавшиеся в памяти. Потоки фенедрина и прелюдина текли из аптеки «Лев» на Реерингсгатан, полубезумные бездомные поэты, усталые проститутки на каждом углу… Логотип стокгольмского трамвая – «СС» напоминал ему палаческую эмблему на его родине.
В баре «Чико», куда иногда по ночам швыряла его бессонница, наркоманы и джазмены в темноте ничем не отличались друг от друга. Странные реминесценции: аура стыда от пустого пакета из-под кондомов, эти жуткие отели – «Маркиз», «Тапто», «Эниталь», «Фройя»… случайные богемные знакомые в кафе… эксперименты конкретистов в галерее Бланш… он вспоминал, как робко брел вдоль экспозиции, будучи совершенно уверенным, что мир искусства закрыт для него навсегда.
Иногда в памяти всплывали картины: рассыльные на мотороллерах, ожидающие свежие газеты у «ТТ», запыхавшиеся репортеры, снующие, как муравьи, у телеграфных агентств, проститутки, степенно попивающие чай в кондитерской «Мокка», малолетние бандиты (лигисты) на Центральном вокзале; они почему-то всегда провожали его свистом.
Судьбу Виктора разделяли многие. После войны в Стокгольме скопились тысячи беженцев. Норвежские участники Сопротивления, перешедшие границу еще в войну и не находящие в себе сил вернуться в искалеченную страну, прибалтийские патриоты, убежавшие от русского нашествия, немецкие военные преступники, жившие по поддельным документам, герои и злодеи бесчисленных фронтов.
Среди этих согнанных со своих мест людей был и беженец из Эстонии по имени Яан Туглас. Виктор случайно встретился с ним в Национальном музее осенью сорок пятого. Туглас стал его ангелом-хранителем в новой стране.
Яан Туглас был реставратором. Он работал в Швеции с конца тридцатых годов. Получил образование в Англии и за короткое время сделал себе имя, как один из лучших реставраторов Стокгольма. Как-то октябрьским вечером они случайно оказались рядом у картины Буше «Триумф Венеры» в зале музея, посвященном художникам эпохи рококо. Стоя в двух метрах друг от друга, они изучали полотно чуть ли не час, и, поскольку никто больше не проявлял интереса к недовольным амурам, мужественным титанам и ко всей эротической символике в этом мастерском полотне, казалось совершенно естественным, что они начали обмениваться впечатлениями. Новые знакомые продолжили разговор в кафе музея. Оказалось, вкусы и интересы их удивительным образом совпадают, и главное, оба были глубоко потрясены катастрофой, постигшей культурные сокровища у них на родине.
– Русские вывезли из Таллина все, что представляло хоть какую-то ценность, – сказал Туглас. – Они пропылесосили Балтику и отправили все в ленинградский Эрмитаж. Они называли это «дар братских балтийских народов»… неподражаемый цинизм…
– В Берлине не лучше, – ответил Виктор. – Говорят, каждую пятницу с Лихтенбергского вокзала отправлялся товарный поезд, набитый произведениями искусства, которые они собирались выставить в Кремле.
Туглас, как и многие эстонцы, говорил на нескольких языках. На безупречном немецком он рассказал Виктору, что работает реставратором в музеях и частных собраниях, что в Швеции очень не хватает опытных мастеров. Когда Виктор поведал ему, что учился в Художественной академии и работал как художник и копиист у Герберта Майера в Берлине, Туглас буквально загорелся. Он, оказывается, прекрасно знал мастерскую Майера еще с довоенных времен и несколько раз там бывал.
– Если надумаете, только скажите. Мастерская Майера – это лучшие копии во всей Германии. Работу могу организовать хоть завтра. Для начала временную, но это не имеет значения… У меня гораздо больше работы, чем я могу выполнить.
Более уместное предложение он вряд ли мог сделать.
Надежда Виктора получить свои двести тысяч рейхсмарок в Шведском Отдельном банке рассыпалась в прах. Из Германии в Швецию за последние годы было переправлено огромное количество денег, и по политическим соображениям, по приказу стран-победительниц, все немецкие счета были заморожены. К тому же, как разъяснил Виктору сотрудник банка, на его счету и так почти ничего нет, потому что деньги братьев Броннен не были переведены в шведские кроны, а помещены на валютный счет, в рейхсмарках.
Германия обанкротилась, сказал он, и гитлеровские деньги обесценились.
Через неделю после этой встречи Виктор начал свою работу у Тугласа. Он быстро понял, что в искусстве живописи невозможно постичь все, надо все время учиться, а реставрация картин на карте его знаний представляла сплошное белое пятно. Работая у Майера, он стал первоклассным копиистом, но в других областях эрудиции явно не хватало. К тому же он уже много лет не брался за кисть, и первое время к радости примешивалась изрядная доля беспокойства.
Бодрый эстонец был на десять лет старше Виктора, но вел себя так, как будто был на столько же моложе. В его манере держать себя была неподражаемая легкость и непосредственность; он утверждал, что унаследовал эти свойства от своей русской матери. Он свистел вслед девушкам на улице, а в трамвае разговаривал так громко, что пассажиры оборачивались. Он мог совершенно свободно начать разговор с совершенно незнакомым человеком в очередях, то и дело возникающих по причине еще не отмененных продуктовых карточек, заговорить любого чиновника в присутственном месте и умилостивить самых суровых заказчиков из крупных музеев.
Но в работе он был тщателен и требователен, как настоящий пруссак. Он засадил Виктора за книги по теории живописи. Виктор, которому, несмотря на всю его драматичную жизнь, не исполнилось еще и двадцати пяти, прекрасно понимал, что достиг того возраста, когда вундеркинд начинает осознавать опасность остаться на всю жизнь вундеркиндом – вундер исчезает, а кинд остается, – и он старался быть максимально прилежным учеником. В библиотеке Тугласа, помещавшейся в задней комнате в его мастерской в Пеликаньем переулке в Старом городе, он впервые углубился в искусствоведение.
– Чтобы реставрировать картину времен Ренессанса, ты должен понимать, как думали тогдашние люди, – обычно говорил Туглас, – не столько и не только, как они рисовали, а подчеркиваю – как думали. Картины Микеланджело показывают нам не только то, что на них изображено; они олицетворяют идеи того времени…
Стоя на трехметровой лестнице, прислоненной к книжной скале, Туглас копался в старых томах. Наконец он извлек почерневший том и осторожно сдул с него пыль. Джорджо Вазари[96]. «Жизнь известных художников Ренессанса».
– Первый художественный критик в Европе, – сказал Туглас. – Современник великих мастеров. Здесь ты найдешь историческое пояснение к каждому мазку кисти, сделанному в Италии между 1410 и 1573 годами… здесь ты найдешь и тех, с кого все началось… и тех, кто дал имя целой эпохе. Если ты и в самом деле хочешь понять, чем ты занимаешься, без этой книги не обойтись.
По вечерам, закончив работу, Виктор засиживался в библиотеке Тугласа допоздна. Он углубился не только в Буркхардта[97], Вазари и Ченнини[98], но и в труды более поздних теоретиков – Эрнста Гомбриха и даже Клемента Гринберга, что было ему особенно трудно по причине недостаточного знания английского языка.
Винкельманн[99], которого в годы учения в Берлине он игнорировал, поскольку тот был идолом консервативного режима, теперь произвел на него особое впечатление: все, что он написал, неопровержимо свидетельствовало о его любви к мужчинам и мужскому телу.
Не менее упрямо Туглас настаивал, чтобы Виктор досконально изучал иконографию, и Виктор взялся за дело с фанатизмом прозелита. Он полез в старую фламандскую эмблемологию и проводил долгие вечера в обществе глубокомысленных немецких фолиантов, посвященных аллегории в искусстве. До сей поры он почти не был знаком с христианским учением о символах. Единственное, что он знал, – голубь символизирует Святого Духа, а ваза с лилиями – девичью непорочность. Раньше он и не собирался утруждать память сведениями, что, например, символом святой Катарины из Александрии служит колесо, а перевернутое распятие символизирует апостола Петра, поскольку тот считался недостойным умереть той же смертью, что и Иисус. Туглас же, который сам был ходячей энциклопедией, утверждал, что для настоящего реставратора такие знания, во-первых, само собой разумеющийся факт, а во-вторых, совершенно необходимое условие овладения профессией.
– Посмотри! – восклицал он, указывая на мольберт с картиной из частного собрания, поврежденной влагой (центральная часть полотна отсырела). На полотне было изображено благородное семейство в замке, окруженное слугами и домашними животными. – Видишь, попугай в клетке? Что это за намек? Что граф Рамель был достаточно состоятелен, чтобы позволить себе завести попугая? Ничего подобного! Попугай символизирует невинность единственной дочери, вон она стоит немного позади. А венок в ее руке означает, что она еще не замужем. Рядом мать, графиня Рамель. У ее ног собака. И здесь аллегория! Собака означает верность в браке…
Указательный палец Тугласа передвигался по полотну сантиметр за сантиметром.
– У графини в руках четки, это значит, она еще в плодоносном возрасте, а еще точней – беременна. На заднем плане на стене – портрет пожилого человека. Этот отец графини, а рядом с портретом открытый ковчежек. Видишь, что там лежит? Книга, а на ней – роза…
– …а это значит, что он умер. Причем недавно.
– Правильно! Но посмотри налево, тут ребус посложнее. Слева сидит сам художник, а именно фон Крафт. Он сидит за столом, а позади него женщина, служанка, она словно бы покидает комнату… одна грудь ее почти обнажена. О чем это свидетельствует?
– Какой-нибудь двусмысленный намек?
– А вот и нет. Обнаженная грудь обозначает вдохновение… Символ дополнительно усилен… Видишь, что у художника в руке?
– Какое-то украшение?
– Золотая цепь, а на ней крошечная маска… атрибут живописцев.
– А что обозначают цветы на столе?
– Это аклея. Посыл простейший: эротика, плодовитость… опять же атрибуты графини.
Виктор принял окончательное, как ему в то время казалось, решение – жить честно. Куда приводит жульничество и подделка документов, он уже знал из собственного горького опыта. Жизнь с несвойственной ей щедростью смешала колоду и предложила ему новую раздачу. И он неистово благодарил судьбу за милость: все, казалось, складывалось наилучшим образом. Ему казалось, он попал в какое-то девственное, безгрешное время, где существовали только кисти и краски, только живопись… единственное, что он умел и ради чего хотел жить.
Под руководством Тугласа он быстро освоил ремесло реставратора. Он научился ретушировать и грунтовать, знал, как воспрепятствовать отшелушиванию краски и консолидировать куньей кистью возникшие от времени кракелюры. Он научился фиксировать поверхности, но прежде всего – овладел искусством оставлять некоторые дефекты неисправленными, потому что любая попытка их реставрировать могла только навредить. Скоро он уже самостоятельно занимался картинами – они, с нанесенными историей ранами, стекались в лечебницу Тугласа со всей Европы.
Поначалу он работал в мастерской один или два дня в неделю, но к Рождеству его второго года в Швеции он уже в большей или меньшей степени поселился в Пеликаньем переулке. Работы было очень много. Война полностью парализовала рынок искусства, но теперь было ясно, что грядут лучшие времена. В Стокгольме галеристы скупали произведения искусства за бесценок – у обнищавших беженцев, у коллекционеров соседних, менее удачливых стран… у всех, кому срочно нужны были деньги. Классики шведской живописи стекались обратно в страну, порадовав несколько поколений любителей за границей. Пейзажи Севенбума и Хиллестрёма, провисевшие десятилетия у финских лесных баронов, портреты Элиаса Мартина и Петера Адольфа Халла покидали буржуазные дома в Дуйсбурге и Франкфурте и возвращались на родину. Полотна Ассмана и фон Крафта после небольшой реставрации в Пеликаньем переулке продавались на аукционах за рекордные суммы. Но не только шведы – работы зарубежных художников тоже попадали на подрамники в мастерской Тугласа, где их очищали, обеспыливали и реставрировали малейшие возрастные морщинки. Полотна импрессионистов, изуродованные ревнителями истинно немецкого искусства, тоже стекались в Пеликаний переулок и, получив вторую молодость, возвращались владельцам – или оставались в стране.
Виктору были доверены этюды Моне и Репина. Позже он разыскал их в каталогах крупных зарубежных музеев. Две работы маслом мастера светотени датчанина Кройера были переданы ему Тугласом, потому что у того была срочная работа. Виктор, благодаря своему фантастическому чувству подмалевка, создающего основу насыщения цвета, с юности овладел мастерством классических полутонов, теней и задних планов. Его работа произвела на Тугласа такое впечатление, что тот очень скоро стал доверять ему и классические полотна. Кроме этого, он занимался реставрацией темперы, копированием и рентгеновскими исследованиями картин – и лихорадочно учил шведский язык.
Язык этот, поначалу казавшийся ему архаичным и громоздким, с этим то и дело встречающимся звуком, промежуточным, как ему казалось, между «ш» и «ф», с необычной мелодичностью, словно говорящий не столько произносит, сколько выпевает фразу… как ни странно, язык оказался легче, чем он предполагал. Раз в неделю он брал уроки у ушедшего на пенсию преподавателя языка в Васастане. Туглас оплачивал эти уроки, правда, постольку, поскольку Виктор работал сверхурочно, не требуя дополнительного вознаграждения. Кроме того, он и сам принимал участие в обучении, разговаривая с Виктором в рабочее время исключительно по-шведски, и лишь при необходимости, когда ему было важно, чтобы Виктор понял его совершенно точно, переходил на немецкий.
– Дело идет не так уж быстро, – как-то заметил он. – Но все же быстрее, чем у меня когда-то. Прошло не менее трех лет, прежде чем я усвоил такое фундаментальное понятие, как определенный артикль. В моем родном языке ничего подобного нет. Зато у нас полон рот других хлопот – надо различать четырнадцать падежей. Немецкий и шведский – родственники, языки вполне современные, хотя почти любое слово можно проследить до его древнего германского корня. А эстонский – это такой угрофинский бастард. Он, кстати, почти умер за время русификации страны в прошлом веке…
Как и у многих прибалтийских беженцев, история Тугласа была полна трагических поворотов. Обоих его братьев насильно рекрутировали в армию СС. Один погиб под Сталинградом, второму удалось дезертировать. Но этот подвиг не был оценен Красной армией – во время наступления у Куршской косы в 1945 году его обнаружили в толпе беженцев. Все, кто добровольно или по принуждению сотрудничал с немцами, были расстреляны. В это время Туглас находился в безопасности в Швеции, и он до сих пор стыдился своего исторического везения.
Отца Тугласа, который в короткий период независимости был государственным секретарем в Министерстве иностранных дел, депортировали в Сибирь. О дальнейшей его судьбе ничего не было известно, во всяком случае, сообщения о смерти не было. Мать, по-прежнему жившая в патрицианской квартире в центре Таллина (хотя теперь уже в обществе четырех подселенных семей), так никогда и не оправилась от потерь. Тугласу удалось оформить ей въездную визу, он хотел, чтобы она провела остаток жизни вместе с сыном в спокойной и безопасной Швеции, но мать отказалась.
– Никто не страдал больше нас, эстонцев, – сказал Туглас, – хотя, может быть, латыши, литовцы… особенно латышские евреи… Но матери это говорить нельзя.
Он был настолько деликатен, что никогда не спрашивал о прошлом Виктора, и Виктор был ему за это благодарен.
Те, кому удалось побывать в Стокгольме на рубеже сороковых и пятидесятых годов, не могли не заметить идиллическую атмосферу города, постоянно голубое, вопреки северному климату, небо, улыбающихся людей, их историческое легкомыслие и твердую веру в счастливое будущее. Война пощадила страну. И ее промышленность, как и вера в человечество, не подверглась разрушению. Люди просыпались по утрам не в руинах, а в нормальных домах и ехали на современных троллейбусах на работу, а на работе было тепло, светло и царили непринужденный порядок и доброжелательность. Интеллектуалы были наивны, как только могут быть наивны люди, сохранившие какие-то иллюзии. Люди, не пережившие вой «катюш» и ночные бомбежки, были устремлены вперед. Молодые вернулись со срочной службы, где их самой большой заботой было не угодить под шальную пулю на учениях, и рвались сами строить свое будущее в беспечном и ласковом свете мирного времени. Индустрия развлечений процветала, а на семейных страницах газет многократно увеличилось количество брачных объявлений.
На Стуреплане и в районе Кунгстредгордена собирались по вечерам празднично настроенные люди. Там бывали и Туглас с Виктором – пару раз в месяц они ходили на танцы в «Зимний дворец» или в «Визит». Им было что отметить – они уже были востребованными реставраторами, а заказы продолжали и продолжали поступать. Зимой 1947 года Виктор получил постоянную работу с более чем щедрым по сравнению со средним уровнем жалованьем.
– В этой стране я лучше тебя никого не найду, – искренне сказал Туглас, заказывая грог с коньяком и шампанское под звуки оркестра, исполнявшего Эллингтона и Жюля Сильвена[100]. – Ты рожден для этой профессии. Или, может быть, тебе предназначено стать великим фальсификатором. Я очень надеюсь, что ты останешься у меня, а не уйдешь в музей или откроешь свое дело. Опаснее конкурента не сыщешь на всем Скандинавском полуострове.
Виктор только кивал, глупо улыбаясь. Ему очень нравился его работодатель, ему нравились роящиеся вокруг них бесчисленные знакомые Тугласа, где бы они не появлялись – экзотические чужеземцы… иностранцы все еще были экзотикой в Стокгольме, страна не имела никакой колониальной истории. Он долго не знал, разгадал ли Туглас тайну его сексуальной ориентации; даже если разгадал, то не обмолвился ни словом. Он был на редкость терпим, и Виктор, уже умеющий улавливать почти незаметные улыбки и взгляды, мог бы с уверенностью сказать, что многие из круга знакомых Тугласа тоже были гомосексуальны. Тем не менее, зная, что правила игры (а еще более – правила самосохранения) требуют подыгрывать большинству, Виктор делал все, чтобы слиться с окружением. Он игнорировал зазывные взгляды мужчин, притворялся, что не понимает, когда кто-то иногда сверлил его глазами в роскошном туалете «Бернса». Он старался обращать внимание на женщин, и это не составляло для него никакого труда, поскольку ему нравилось их общество. Они не дерутся, думал он, не хвастаются, заботятся о собственной гигиене, среди них редко встречаются пьяницы. И вообще – женщины изящнее, дружелюбнее, они гораздо красивее едят и не развязывают войн.
В том году люди приходили и уходили, завязывались поверхностные знакомства… большинство исчезало, начав семейную жизнь. В женском обществе он выглядел застенчивым немецким эмигрантом, настолько застенчивым, что успеха не имел, зато пробуждал сначала любопытство, потом доверие и, наконец, становился для своих подруг наперсником. Люди были достаточно наивны, чтобы верить собственным глазам.
Самую большую роль в его тогдашней жизни сыграло знакомство с художницей по имени Аста Берглунд. Она была финско-шведского происхождения, родом из Васы. Аста поступила в Художественную академию в Стокгольме, что удавалось очень немногим девушкам, особенно таким юным. Ей пророчили блестящее будущее, но уже после года занятий она бросила академию. Туглас иногда поручал Асте кое-какую работу, когда ей нужны были деньги, – но не реставратора, а секретаря: в делопроизводстве он был совершенным профаном.
Аста была на семь лет моложе Виктора. Она не обладала особо яркой внешностью, но была невероятно привлекательна; мужчины буквально роились вокруг. Они привязались друг к другу, как могут привязаться только родственные души; они уважали личные тайны друг друга, и Виктор с удивлением заметил, что в их отношениях есть даже элемент сексуальности. По воскресеньям они обычно ходили по музеям и по мере того, как выставки сменяли друг друга, находили все новые и новые шедевры. Месяц в их фаворитах числился венецианский пейзаж Каналетто, выставленный в музее Вальдемарсудде[101], потом его сменили миниатюры Бреннера и Синьяка из королевской коллекции в Дроттнингсхольмском замке[102].
Аста была не замужем, и матримониальные перспективы ее, похоже, не особенно привлекали. Ее, пользуясь терминологией того времени, можно было назвать свободной женщиной. У нее было несколько любовников, и она их меняла, следуя только собственным капризам. Двое даже сделали ей предложение, но она со смехом заявила, что семейная жизнь не для нее.
– Я женщина, – объяснила она как-то с удивившей Виктора трезвостью, – а женщинам-художницам пробиться вдвойне трудно. Как ты думаешь, что произойдет, если кому-нибудь удастся затащить меня под венец? Тут со мной и покончено. Мои любовники – достойные люди, но они мужчины, а у мужчин свое представление, какой должна быть замужняя женщина. Им даже не придется меня переделывать – сама начну приспосабливаться. Стану домохозяйкой. Нарожаю детей. Заброшу живопись, разве что по воскресеньям иногда – так, для баловства. А через несколько лет покончу жизнь самоубийством, оставив безутешную семью. Так что лучше замуж не выходить.
Мир искусства – мужской мир, утверждала Аста, поэтому она и бросила академию. Потом только Виктор сообразил, что причины были совершенно иными… По тем же «иным» причинам она иногда вдруг исчезала на несколько недель и не давала о себе знать. Но что касается половой дискриминации, Аста была права. Он встречал множество галеристов, директоров музеев, антикваров и не мог припомнить, чтобы среди них были женщины, занимающие более или менее важное положение в этом мире. И все равно, Аста была исключением из этих неписаных правил, из того установившегося расклада, который он наблюдал, сидя в первом ряду партера стокгольмской культурной жизни. Через нее он познакомился со многими художниками. Это с ее подачи он как-то сидел и всю ночь пил коньяк в «Оперном погребке» с Эйнаром Йолином[103]. Это она представила его Бруру Юрту[104], а как-то взяла с собой в кондитерскую «Ватикан», чтобы поучаствовать в совместном чаепитии с ее кумиром – Сири Деркерт[105].
И наконец, как истинная норна[106], она сплела нить его судьбы – познакомила с молодым коллекционером Фабианом Ульссоном.
Фабиан и Аста были знакомы с детства – они росли в фешенебельном квартале в Васе, вместе проводили лето в архипелаге Турку. Дед Фабиана, лесопромышленник, сколотил огромное состояние еще во времена Великого княжества, а отец, Петри Ульссон, с никогда не изменяющим ему политическим и деловым чутьем, как опытный лоцман, провел корабль своей империи через бури борьбы за независимость и войн. Родня владела огромными лесными богатствами в Средней Финляндии и пилорамами чуть не по всему берегу Ботнического залива. Помимо этого, у них было несколько бумажных заводов в сульфатном поясе от Эсбу на юге до Карлебю на севере. Мать Фабиана, урожденная фон Эссен, принесла в семью капитал, которого империи более всего не хватало с тех пор, как первый патриарх, с роскошной шевелюрой и незажженной сигарой в углу рта, ошеломил всех скандинавских лесопромышленников, закупив американские машины и введя в финских лесах тейлоровский конвейер. Она принесла в семью иной капитал: капитал культуры.
Будучи третьим номером среди наследников, почти самый юный и, по мнению семейного совета, наименее приспособленный для ведения дел, Фабиан получил задание этот капитал приумножить. Он получил прекрасное образование в университете Турку и, защитив в двадцать один год диссертацию по истории искусств, приехал в Уппсалу заниматься научной работой. Он послушно следовал советам из главного штаба семьи в Тампере, но указания становились все менее регулярными и все более противоречивыми – все силы родственников уходили на достижение более или менее сносной гармонии между бумажной промышленностью и недавно купленным разорившимся газетным концерном.
Проведя в своей келье в Уппсале год за изучением перехода от классицизма к готике в шведской живописи, Фабиан получил приказ переехать в Стокгольм и прикупить полотна, которые могли бы украсить вестибюли финской и шведской головных контор. Мать намекала, что у семьи есть планы создания собственного музея.
Первый раз Виктор увидел Фабиана на вернисаже в обществе Асты Берглунд. Какой-то юный художник, чье имя вскоре будет забыто, дебютировал серией работ маслом. Среди рослой северной публики выделялся высокий молодой человек с несомненно аристократическими чертами лица. Он непринужденно беседовал с галеристом. Это и был молодой коллекционер Фабиан Ульссон.
– Я должна познакомить тебя с Фабианом, – сказала Аста, таща Виктора за руку, – мы учились в одной частной школе и все детство провели вместе на архипелаге. Мы были как брат и сестра… это я научила его курить.
Первое впечатление нельзя было называть благоприятным. Молодой сноб, решил он после первых двух минут беседы. Блестящие локоны, похожие на черных щеголеватых лесных слизней, красивое мужественное лицо. Клубный блейзер на мускулистом холеном торсе. Вид у молодого человека был на редкость здоровый, казалось, он защищен прочным иммунитетом против всех жизненных неурядиц и никаких слабостей у него нет. Галерист раболепно поддакивал каждому его слову. Фабиан обнимал за талию молодую девушку, сестру, как поначалу решил Виктор, но Аста быстро вывела его из заблуждения.
– Это его потенциальная невеста, – шепнула она. – Эрика Кройгер. Банкиры, финансисты…
– Спичечные короли?
– Это боковая ветвь. У ее отца адвокатура…
Но Фабиан, вопреки поспешному умозаключению Виктора, оказался очень интересным собеседником. Он был скромен, остроумен и для своего возраста прекрасно образован. На вернисаже он оставил три красные метки, которые галерист с довольным видом сразу же прикрепил около трех небольших полотен.
– Мне понравились эти работы, – сказал Фабиан. – И если бы они мне даже не так понравились, я все равно бы их купил. Никогда не знаешь… иногда проходит несколько лет, на картину смотрят тысячи глаз, и она от этого становится все лучше и лучше.
Он повернулся к Виктору, и Аста представила их друг другу. Они самым естественным образом заговорили о Германии – у его семьи были там деловые интересы.
– Просто невероятно, как быстро изменилась Западная Германия, – сказал он. – Думаю, через пару лет они доведут производство до довоенного уровня. Отец был там недавно… восстановление идет с рекордной скоростью, а восточный сектор по-прежнему в состоянии чуть ли не римского упадка. Как вы думаете, Виктор? Страна так и останется поделенной на части?
– Что заслужили, то и получили… Может быть, это разделение заставит немцев заняться собственными проблемами… я хочу сказать, хорошо бы они заглянули в свое собственное нутро и перестали коситься на соседние территории.
– Я слышу речь истинного антипатриота, отягощенного чувством коллективной вины, – улыбнулся Фабиан и протянул ему портсигар. – Очень дипломатично. Но со мной вы не должны испытывать угрызений совести. Финны и немцы совсем недавно были братьями по оружию. Мои старшие братья сражались бок о бок с немцами на Карельском перешейке. Если вы, немцы, считаете, что заслужили ваши нынешние несчастья, значит, мы пользуемся незаслуженным счастьем.
– Не принимайте его всерьез, – сказала Эрика. – Он переругался с семьей из-за своих взглядов. Фабиан всю войну был на стороне англичан. Он ненавидит наци. А отец его очень симпатизировал немцам…
Она с гордостью поглядела на своего кавалера.
– Германия много лет служила для нас примером, – продолжил Фабиан, беря бокал шампанского с подноса проходящего мимо официанта. – И для шведов тоже. Гран-тур любого юноши начинался в Берлине или Гёттингене. Мы знали язык почти как истинные немцы. Теперь все изменилось. Необратимо. Англосаксонское влияние будет доминировать как минимум два поколения; наша культура всасывает английскую, как вакуум… да это и есть вакуум, если вспомнить пустое место, оставленное Германией…
– Вы же помните слова Черчилля, – вставила Эрика, – премьер-министр говорил о «железном занавесе»…
– Но финский реваншизм приводит меня в ярость, – сказал Фабиан с иронической улыбкой. – Карельская национальная ностальгия. Выборг стал ни с того ни с сего колыбелью всех финнов. Но если бы мы не продолжали войну, Карелия осталась бы нашей.
Виктор вспомнил Берлин. Даже в моменты тяжкого одиночества он не испытывал никакой ностальгии по этому городу. Интересно, как там Георг Хаман… он ничего не знал о нем с тех пор, как они расстались. Но что-то подсказывало ему, что с Георгом все в порядке.
– А как вы оказались в Швеции?
Виктор пересказал свою затверженную наизусть историю, в подлинности которой никто не сомневался… он даже иногда и сам не сомневался, по крайней мере в те моменты, когда ему удавалось самовнушение. Нечего и удивляться, что шведы, этот наивный народ, верили ему безоговорочно. Фабиан и Эрика смотрели на него с восхищением.
– Так вы служили в английском флоте? Добровольцем?
– Когда я вербовался, у меня был статус беженца. Двадцать два года, с превосходным немецким… Такие, как я, были им нужны.
Виктор замолчал, давая понять, что с неохотой вспоминает все это; он стал виртуозом по части перевода разговора в нужное русло. Они вновь заговорили об искусстве – о положении начинающих художников.
– Фабиан удерживает на плаву целое поколение молодых живописцев, – сказала Эрика с плохо скрытым обожанием.
– В том числе и меня, – вставила Аста. – Как только мне нечем платить за квартиру, а у Тугласа нет конторской работы, тут же появляется Фабиан. Он как будто только и ждет этого момента – интересуется каким-нибудь рисунком углем или тушью… и приобретает их как раз за ту сумму, которой мне не хватает, чтобы оплатить счета.
– Пожалуйста, не кокетничай. Твои работы я покупаю исключительно из любви к искусству, а вовсе не потому, что я такой уж добрый самаритянин. Я покупаю их для своей личной коллекции. И не забудь, откуда деньги: зеленое финское золото.
– А когда ты сделаешь меня знаменитой?
– Через год, Аста-красавица, через год. И не я, а рынок, подгоняемый плеткой слухов. Обещаю, что тебе не придется вступать в вынужденный финансовыми обстоятельствами брак. Обещаю, что тебе не придется жить на подаяния твоих любовников… или таких людей, как я… – Он незаметно глянул на ручные часы и перевел глаза на невесту. – Нам вот-вот надо будет уйти. Коктейли в финском посольстве… это входит в мои обязанности. Но я хочу пригласить вас отужинать в ближайшие дни. По-моему, ты еще не была в моей новой квартире… и захвати своего… м-м…
– Друга, – сказал Виктор. – Мы с Астой просто друзья.
В следующее же воскресенье они ужинали в шикарной семикомнатной квартире Фабиана на Сибиллегатан. До Пасхи оставалась еще неделя. Дожди и холод наконец отреклись от престола в пользу теплого южного ветерка. Окна на Эстермальмскую площадь были открыты. Служанка в черном накрывала стол, в кухне колдовал нанятый повар. Ароматы четырех блюд заполняли столовую, а Фабиан и Аста никак не могли оторваться от детских воспоминаний. Эрика села за рояль и пела какие-то куплеты, а Виктор с природной скромностью пристроился в уголке. Ему нравилось все, что он видел, и немного удивляло. Фабиан Ульссон был моложе его на пять лет… а может быть, и не моложе, а старше – он подчинялся другим временным законам, они словно выросли на разных планетах. Фабиан был наивен и в то же время самоуверен, что вообще-то должно было произвести на Виктора неприятное впечатление. Но он объяснил это тем, что жизнь никогда еще не преподносила Фабиану уроков, и ему не хотелось разочаровывать молодого человека. Зачем доставлять неприятности ни в чем не повинному и к тому же явно добросердечному мальчику?
После ужина девушки пошли в салон играть в бильярд. Фабиан пригласил Виктора в кабинет выкурить сигару. Над камином висел Клее, а на противоположной стене – работа маслом Габриель Мюнтер.
– Значит, вы с Астой просто друзья? – спросил Фабиан.
Виктору послышалось в его голосе облегчение.
– Конечно. Для меня этого больше чем достаточно. Я с трудом общаюсь с ней больше трех дней подряд. Ее энергия меня утомляет.
– Не знаю почему, но мне тогда показалось само собой разумеющимся… Вы выглядели так, как будто собираетесь завести ребенка.
За окном со стороны Меларен плыла армада облаков, постепенно редеющая по мере приближения к Балтике – облака словно тонули одно за одним в морской синеве вечернего неба.
– Я не знаю, предназначен ли я вообще для семьи… – сказал Виктор. Хотя из всех женщин, которых он в жизни встречал, Аста была единственной, к кому он чувствовал какое-то подобие влечения.
– А почему нет? Мир стал заметно лучше… теперь он более или менее похож на место, где можно жить. Несколько лет назад все было чернее ночи, а теперь на горизонте вроде бы светлеет…
– Не знаю, согласится ли с тобой Аста. Она прирожденная пессимистка.
– Я слышал, вас познакомил Яан Туглас. Он помогал мне пару раз восстановить семейные реликвии… В высшей степени компетентный человек. Я, кстати, кое-что разузнал и о тебе. Многие считают, что ты работаешь не хуже.
– Об этом не мне судить…
Впервые за долгое время Виктору пришлось задуматься, прежде чем он вспомнил шведское выражение. Фабиан, похоже, заметил его неуверенность:
– Если хочешь, можем говорить по-немецки…
– Нет-нет, вовсе нет. Язык… в языке начинаешь сомневаться, только когда его более или менее выучишь, потому что уже тянет вглубь. А что касается моей работы, то для меня это непрерывная радость – спасать искусство для будущих поколений. Когда мои соотечественники в течение долгих двенадцати лет только и делали, что его разрушали, старались, чтобы оно исчезло с лица земли… словно бы и я в ответе за них. Мне стыдно.
– Ты говоришь как человек, в которого Аста точно могла бы влюбиться. Ты точно не спишь с ней?
Слова повисли в воздухе, как на невидимых крючках. Виктор чувствовал, что краснеет, и ненавидел себя за это.
– Да, точно…
– Не знаю, что на меня нашло. Какое я вообще имею право об этом спрашивать! Прошу меня извинить, я не хотел тебя смущать.
– Ты живешь один в этой квартире?
– С моими маленькими сокровищами. И еще служанка, она прибыла вместе с остальным инвентарем из Финляндии.
– Это же наверняка очень дорого…
– Я из очень состоятельной семьи, Виктор. Мне следовало бы стыдиться своих привилегий, но я, похоже, лишен социальных комплексов.
Он плеснул кальвадос в два пузатых бокала и протянул один Виктору.
– А Эрика? Почему она здесь не живет?
– Ей только девятнадцать, и мы же еще не женаты. Состоятельные семьи обычно консервативны… ее семья ни за что не позволила бы ей переехать ко мне без свидетельства о браке, и так же думают в лесопильном дворце по другую сторону Балтийского моря…
– Но они же знают, что вы вместе?
– На радость династии Кройгер и династии Ульссон. Они надеются на взрыв внимания в обществе и прессе. Наши родители будут рады погреться в лучах славы друг друга. У богатых свои игрушки, как говорят. Осенью должно состояться обручение.
Фабиан криво улыбнулся, одним глотком опустошил бокал и налил еще, примерно на дюйм.
– Давай поговорим о чем-нибудь другом, – предложил он. – Расскажи мне про Берлин в годы войны. Отец был там, говорит, потрясающий город.
– Мне бы не хотелось рассказывать про Берлин. Как ты говорил недавно? Горизонт светлеет? Вот там-то мне и хотелось бы находиться…
– Мне нравится загадочность. Я вырос среди загадок, это моя вторая натура.
– Я вовсе не собирался быть загадочным, зря ты так подумал.
– Но эффект произвел именно такой…
Из салона послышался смех – последним ударом Аста вырвала победу. Виктор рассматривал картину Габриель Мюнтер.
– Где ты это купил?
– На аукционе. Бедному беженцу из Германии срочно нужны были деньги. Тебе нравится Мюнтер?
– Очень. Она была моей любимой художницей много лет… Я думаю, она сильнее, чем ее жених Кандинский. Странно, но нацисты ее терпели.
– В наше время попадаются такие работы… Много картин еще носит ветер.
– Я знаю…
Фабиан допил кальвадос.
– Пойдем к девушкам, – сказал он, – а то они уже, наверное, удивляются, почему мы застряли.
После этого вечера несколько ночей подряд Виктору снились странные сны. Он снова в Берлине, в лавке на Горманнштрассе, но компаньона его зовут не Георг Хаман, а Фабиан Ульссон. Они продают марки и автографы, но почему-то не принимают никакой валюты, кроме фальшивых фунтов стерлингов. Город еще цел, на бульварах полно народу, на Ку-дамм кипит бойкая торговля. Тиргартен, как всегда, зелен и уютен, штурмовиков не видно… Никаких эротических видений у него не возникало, но, когда он просыпался в своей комнатке на Лестмакаргатан, чувствовал себя совершенно измочаленным, как после долгой ночи любви, которой ему еще ни разу в жизни не довелось испытать… Он поднимался, пил чай и проклинал северные белые ночи – теперь уже не уснуть.
Он не знал, почему он потерял покой – то ли эти сновидения были тому причиной, то ли ужин у Фабиана Ульссона. Все эту неделю он пытался найти Асту Берглунд, но она куда-то исчезла, словно ушла в подполье, и не отвечала ни на телефонные звонки, ни на записки, которые он оставлял у нее под дверью. Туглас уехал по делам, а у Виктора не было никакого желания сидеть в ателье.
Он вышел на улицу, в вечереющий Стокгольм. Несколько недель назад на углу Норрландсгатан и Смоландсгатан он обнаружил вновь открывшийся кафе-бар. Найти заведение было довольно трудно. Вывеска отсутствовала, занавески задернуты – это было чистой случайностью, что он вообще туда зашел.
Перешагнув порог, он сразу понял, что это за место. В маленьких отгороженных нишах сидели мужчины и пили кофе. Негромко играл патефон. Для непосвященного ничего примечательного в этом баре не было – разве что не видно ни одной женщины. Он подошел к стойке и заказал лимонад.
– Не хотите присесть? – спросил официант. – Места есть, посмотрите, чуть не за каждым столиком…
Он покачал головой. Почему он не такой, как другие? В чем его отличие? Он никогда не чувствовал стыда за то, кто он есть, никогда не воспринимал себя как больного или преступника, во что общество пыталось заставить его поверить. Ему не снились кошмары войны и лагеря. Он просто жил, как некая биологическая машина, как человек, лишенный памяти.
Он повернулся и увидел, как ему машет какой-то мужчина, приглашая присесть. Ему очень захотелось подойти к нему, но ноги не слушались.
Он вышел на улицу. Еще не стемнело, хотя час был поздний. Пришло лето, теплый западный ветерок приятно овевал лицо. Он прошел через Кунгстредгорден, миновал королевский замок – он почему-то побаивался этого огромного здания – и вышел на набережную. Он шел по веселому, без малейших следов разрушения городу, городу, не затронутому мировой катастрофой, спасенному исторической удачей… наконец, пройдя паутину переулков, он двинулся в ателье. У него был ключ. Он открыл дверь и с удовольствием вдохнул запах красок и растворителей. Этот запах всегда, насколько он мог помнить, поднимал в нем волну радости. Что ж, он жив, несмотря ни на что. Это не так уж мало, если вспомнить, через какие испытания ему пришлось пройти.
Несколько недель спустя в Пеликаний переулок без предупреждения явился Фабиан Ульссон. Виктор и Туглас работали в мастерской – в фартуках и респираторах. Они, вооружившись лупами, изучали поврежденное полотно.
– У меня есть кое-что для вас, – сказал он, показав глазами на пакет под мышкой. – Если, конечно, господа эксперты найдут для меня немного времени…
Это была сильно поврежденная, с измененными цветами, картина Чиллиана Цолля[107]. Девушка собирает цветы на обочине. Она хранилась на каком-то складе несколько десятилетий. Фабиан купил ее за бесценок.
– Чтобы спасти картину, надо снимать лак вплоть до красочного слоя, – озабоченно сказал Туглас, – не уверен, что это получится.
– Я бы предложил промыть и расчистить, насколько удастся, – покачал головой Виктор. – Если мы не уберем старый лак, проблемы рано или поздно возникнут опять.
– Я бы не стал рисковать. Растворитель обязательно заденет и краски…
– Ну и что? Это даст нам возможность восстановить их былое великолепие…
Оба прекрасно знали, на какой риск им придется идти. Полная регенерация всегда опасна. Стоит чуть-чуть перемочить лак спиртом, как начинает расползаться лессировка.
– И как бы ты поступил, Виктор?
– Начнем с рентгена – надо посмотреть, устойчив ли подмалевок. Если да, попробуем очищающую пасту или компресс. Посмотрим, что это даст…
– Неправильно. Надо размягчить лак парами спирта, только как…
– И как?
– Надо что-то придумать. Какой-нибудь герметичный ящик… тогда лак, может быть, вновь станет гомогенным. А может быть, нагреть спирт в отдельном сосуде, сделать отводную трубку и подвести пары прямо к поверхности… Здесь придется импровизировать.
Фабиан не мешал их сугубо профессиональному разговору. Сначала он листал первый попавшийся альбом, потом начал рассматривать подлежащие реставрации картины, стоящие на полу в подрамниках. Виктор прервал дискуссию и подошел к нему:
– Я не уверен… гарантировать результат мы не можем.
– Неважно. Мне просто захотелось с тобой увидеться, вот я и выдумал предлог. Возможно, не самый дешевый, но и не без фантазии.
Он улыбнулся совершенно по-детски и осмотрел Виктора с ног до головы.
– Позволь пригласить тебя на ужин. Что скажешь насчет воскресенья? В то же время, в том же месте… Мы так и не успели наговориться вдоволь.
Виктор ничего не понял. Неожиданный визит Фабиана его не насторожил, он ничего не заподозрил, но, когда он явился в назначенное время на Сибеллегатан, обнаружил, что ни Асты, ни Эрики нет.
– Они не смогли, – извиняющимся тоном произнес Фабиан. – Эрика в лагере верховой езды, а Аста дома, оплакивает горькую судьбу женщин в мире искусства. Ты же ее знаешь: если она заводится, отвлечь невозможно. Но повар на месте. И служанка тоже.
Они сели за стол.
– И как дела с Чиллианом Цоллем? – спросил Фабиан, когда принесли закуски.
– Боюсь, нарушение цвета ухудшится со временем. Мы не решаемся промыть лак – слишком велик риск повредить красочный слой.
– Шведский национальный романтизм, честно говоря, меня не особенно трогает. Цорн, Юзефссон… все эти мачо-авантюристы… Вся эпоха пропитана самодовольством, этаким затхлым мужским духом… начинаешь мечтать о новом матриархате в искусстве…
– Будем выдвигать Ханну Паули за счет Карла Ларссона?
– Или Ульрику Паш за счет Элиаса Мартина. Или почему не Мариетту Робусти за счет папаши Тинторетто…
На закуску было подана тарелка с устрицами, креветками и омаром, сопровождаемая шабли в невесомых хрустальных бокалах. Они принялись за еду. Разговор зашел об Асте.
– Ты, конечно, знаешь о ее маленьких слабостях? – спросил Фабиан.
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, когда она внезапно исчезает, иногда на несколько недель, и найти ее невозможно.
– Думаю, пишет – я так понял с ее слов. Живопись требует одиночества.
– Она пишет и принимает наркотики.
Виктор не понял. Он просто не знал, о чем идет речь. Он некоторое время изучал столовое серебро с замысловатой монограммой Ульссонов.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь, – сказал он наконец.
– Это ее мир. Чтобы писать, она принимает прелюдин. И пишет, чтобы оправдать прелюдин. Это продолжается уже несколько лет. Родные в отчаянии. Как ты знаешь, она порвала с семьей.
– Я думал, какие-то личные причины…
– Это и есть личные причины… Они грозились направить ее на принудительное лечение. Она с ними порвала ради наркотиков.
Фабиан повернулся к служанке, застывшей у двери в ожидании распоряжений.
– Как только подашь кофе и десерт, можешь быть свободной.
– Спасибо, господин.
– На комоде в прихожей лежат два билета в кино на сегодняшний вечер. Они твои, я не пойду…
– Огромное спасибо, господин.
– О чем мы говорили?.. Да, не так уж много знаем мы о своих друзьях. Недавно я прогуливался в твоем районе… там есть такое маленькое заведение, на Норрландсгатан… Говорят, только что открылось, и, если я понял правильно, там собираются только мужчины.
Он замолчал и вытер рот салфеткой.
– Не знаю, может, мне показалось… но я видел, как ты туда проскользнул… или, во всяком случае, кто-то очень похожий на тебя. Около десяти вечера.
– Если это и был я…
– …то это уже не секрет! – Фабиан просиял. – О, сейчас принесут главное блюдо. Дичь из Финляндии. Мама каждую неделю присылает. А вино – «Шпетбургундер». Я выбрал его ради тебя, sehr angenehme Auslese[108], лучшее из достижений немецкого виноделия.
В полдевятого служанка ушла, а вслед за ней и повар.
Они перешли в салон. Фабиан поставил пластинку, и комнату наполнил тенор Юсси Бьорлинга.
– Мой отец, лесной барон, – горячий поклонник господина Бьорлинга. Был период, когда он регулярно приглашал его на охоту под Карлебю… мне врезалось в память, как они выбежали из сауны рука об руку и начали блевать в прорубь… Известный тенор и неотесанный лесоторговец.
Фабиан закрыл глаза, слегка покачиваясь в такт музыке.
– Каково это все было видеть маме… Честно говоря, я до сих пор не могу понять, что она в нем нашла. По-видимому, это известный парадокс: грубость и утонченность борются за господство в одном и том же человеке… Человек, который может весь вечер надираться в сауне, а потом плакать перед патефоном, когда Юсси поет «Si pel ciel marmoreo giuro»[109].
Он снова прикрыл глаза.
– Нельзя доверять внешности… Ты иностранец, Виктор, ты видишь финна, потом видишь шведа и думаешь: «Ну, это примерно одно и то же». Но это не так. Финны – это вещь в себе… мы зажаты между Россией и Балтикой… Или Аста. Ты думаешь, что она пишет картины, а она запирается со шприцами и таблетками.
– Я даже представить себе не мог… А что мы можем сделать?
– Перестать смотреть на поверхность. Заглядывать внутрь.
– Но когда я смотрю на тебя…
– …ты видишь избалованного молодого аристократа. Самоуверенный и наивный двадцатилетний парень. Ты видишь юношу, чей жизненный путь уже расписан, чье будущее раз и навсегда определено неписаными законами клана, класса, положения… чье существование все менее и менее свободно с каждым прожитым годом… Ты видишь юношу, который хочет любить, но не решается, потому что сам себя не знает. Где-то там, в глубине души, ты догадываешься, что у него есть семья и эта семья, не спросив его мнения, уже выбрала ему невесту. Это такие прямые связи… невеста верит в то, что она видит, видит то, что хочет видеть, знает то, что хочет знать… чувствует то, что ей вздумалось почувствовать. Во всем этом я вижу себя, как в зеркале… и я думал, что…
Музыка замолкла. Фабиан поднял адаптер и поставил пластинку с начала.
– Невероятно много лжи… Исторической, личной… бесконечных самообманов… Бьешься во вранье, как в сетях… А когда начинаешь разбираться в этих самообманах, тут же с ужасом понимаешь, что они всего лишь порождение другой, более крупной пожизненной лжи, они придуманы, чтобы скрыть эту главную ложь! А когда понял, что всю жизнь врал самому себе, ничего не остается, кроме как утешаться разными сахарными пилюлями… Музыка. Искусство. Работа. Мозг начинает работать в три смены, чтобы забыть… вернее, не думать и не чувствовать. Или можно достать наркотики… это же так легко – не правда ли? – ускользнуть от самого себя.
– А может быть, человек просто боится… – сказал Виктор. – Боится общественного мнения.
– Или так называемого правосудия… Uffi cio della Notte[110] никакими средствами не брезгует. Потанцуем?
Виктор не успел даже слова сказать, как Фабиан обнял его за талию, взял его руку и вывел на паркет. Их щеки соприкоснулись – плохо выбритая щека Виктора и нежная, гладкая Фабиана. Музыка не особо располагала к танцу, они двигались все медленнее, пока не остановились совсем.
– Ты еще не видел все комнаты, – сказал Фабиан. – Культурные сокровища семьи Ульссон не могут себе позволить висеть как попало. Например, есть интересный Дюрер в интересном месте, которое, я думаю, тебе понравится…
В это время суток, на стыке вечера и ночи, город обычно на какое-то мгновение затихал, словно все население одновременно погружалось в размышления. На бирюзовом небе возникала пурпурная полоса – пигмент ночи, которой не суждено было наступить. Виктор осознал, что Фабиан ему не соврал. Над комодом в спальне висела ксилография Альбрехта Дюрера. Он раньше видел эту работу только в книгах, хотя оттиски ее хранились (и хранятся до сих пор) в крупных музеях Германии. Работа была почти до смешного гомоэротичной: шестеро обнаженных мужчин в бане. На заднем плане возвышается фаллическая башня, кран с текущей водой при беглом взгляде тоже напоминает эрегированный пенис. На те же ассоциации наводит и перекрученный, словно увитый вздутыми венами, ствол дерева. Ни одной женщины. Молодой человек возбужденно вглядывается в обнаженные тела. Еще один тайно протягивает соседу аклею, символ эротики. Не хватает только пары кроликов на лужайке, подумал Виктор, чтобы уничтожить все сомнения, если они у кого и остались.
На противоположной стене – еще одна известная гравюра Дюрера: «Христос в Гефсимане» – Иуда и Иисус страстно целуют друг друга. В свое время сюжет вызвал серьезный схоластический скандал, поскольку гравюра тоже несомненно гомоэротична. В ножном конце кровати на пьедестале – отливка скульптуры Челлини в половину размера. Челлини, вспомнил Виктор, был осужден в четырнадцатом веке в Тоскане за разврат с мужчинами… Еще одна работа: над дверью висит четырехцветная репродукция Караваджо «Amor Vincit Omnia»[111] – мальчик в такой вызывающей позе и с такой двусмысленной улыбкой, что недоброжелатели тут же назвали картину педерастической.
– Когда-то у меня были планы купить какую-нибудь работу Антонио Бацци, – сказал Фабиан, – но, поразмыслив, я отказался от этой мысли.
– Ты имеешь в виду этого художника Ренессанса? Который взял себе псевдонимом Иль Содома?
– Вот именно. Не знаю, почему я передумал. Возможно, цена… Одна картина Бацци сожрет мой полугодовой бюджет. Или, может быть, побоялся, что Эрика что-то заподозрит.
Виктор с трудом представлял себе Эрику в этой спальне. С другой стороны, он еще час назад не мог представить здесь и себя.
– Она никогда здесь не была, не так ли?
– Была, конечно. Только я снял кое-какие картины… сделал обстановку более… как это говорят? Более буржуазной….
– А кто еще здесь был?
– Ты имеешь в виду – из мужчин? Никто. Ты первый, Виктор.
Он слегка покраснел. Долгое время Виктор не мог забыть лопатки двадцатитрехлетнего Фабиана Ульссона… они были похожи на маленькие ангельские крылья, когда он позвал Виктора в постель. Вот это, значит, как – заниматься любовью с мужчиной, подумал Виктор. Войти в другого мужчину… Вот, значит, как выглядит момент экстаза… этот стон, когда Виктор вошел в него, может быть, он застонал немного и от боли, но в первую очередь – от наслаждения. Мальчик Караваджо повернулся к нему спиной и отдался ему. Потом все было наоборот, и мысли текли словно бы в обратном направлении, потом они лежали рядом, то и дело притрагиваясь друг к другу слегка вспотевшими ладонями…
– Значит, завтра ты снова сменишь экспозицию? Долой Караваджо, добро пожаловать «Купальщица» Цорна?
– Не знаю… мне кажется, я уже не в состоянии.
– Что?
– Таскать картины туда-назад. Может быть, я в тебя влюбился?
Эти слова… – подумал Виктор. Ничего не значащие, и все же значащие почти все: Verliebt zu sein[112]… Он почти забыл их значение, но теперь понял их сразу, они словно всплыли из глубины сознания.
– У тебя кто-нибудь был до меня? – спросил он. – Я имею в виду… вот так…
– Только в фантазиях.
– Есть разница?
– В жизни лучше.
Фабиан улыбнулся. У него вновь возникла эрекция. Он посмотрел на свой член, как посмотрел бы невинный ребенок.
– А откуда ты знал, что…
– Что ты такой же? Я не знал, Виктор. Я рискнул.
– Значит, я заменим?
– Может быть… Я сам не очень понимаю, что делаю. Как я здесь с тобой оказался, что я чувствую, почему чувствую… Но что я знаю точно – Эрика позвонит вечером и спросит, как я провел день, а утром придет завтракать. И еще я знаю, что женюсь через год, но сейчас эта мысль чужда мне, как никогда…
Он нагнулся и поцеловал Виктора.
– И еще я знаю, чего я хочу. Встречаться с тобой. Всегда. А остальное время ждать встречи… ждать, когда мы можем украсть немного времени для себя самих и больше ни для кого.
Так и было: они воровали время. В рабочие часы Виктора они встречались в раздевалке Центральных бань. Фабиан отменял деловые обеды, и они проводили этот час или полтора в его густавианской постели. Путем сложных ухищрений им как-то удалось высвободить целый уикэнд, который Виктору следовало бы провести в мастерской – Национальный музей заказал реставрацию большого батального полотна. В эти выходные Эрика поехала к родителям, чтобы обсудить свадебные планы. Они не могли упустить такой шанс, и бедному Тугласу пришлось в одиночестве расчищать трещины на полотне в десять квадратных метров – он был совершенно уверен, что Виктор лежит дома с гриппом.
Восстановить истинный облик картины под названием «Фабиан Ульссон» было намного труднее… Материал, как постепенно осознал Виктор, был куда более хрупким, чем казался при первом знакомстве, он мог потрескаться даже от неосторожного прикосновения. Слезы, угрызения совести. Под здоровой на вид поверхностью прятались невидимые глазу волдыри от ожогов, нанесенных раскаленными добела чувствами. Красочный слой души размягчался и расщеплялся…
В конце лета Туглас начал уставать от нерадивости помощника. Виктор то и дело допускал необъяснимые ошибки, поскольку мыслями он был совсем в другом месте. Он чуть не испортил бесценный автопортрет Карла Фредерика Хилла. Повредил полотно второстепенного мастера эренштралевской школы, обработав поверхность не тем воском. Перепутал лаки высокой и низкой вязкости, что могло стоить коллекционеру известной работы Ульрики Паш, если бы Туглас в последнюю секунду не вырвал у него из рук губку. Он опаздывал на встречи, да и просто на работу, поздно приходил с перерыва – они встречались с Фабианом в пивном подвальчике в Старом городе и целовались, прячась за деревянным ограждением… Они не осознавали последствий, а скорее всего, им было все равно, они отрывались друг от друга, лишь завидев приближающегося официанта. Яд действовал, и Виктор был беззащитен. Безволосая грудь Фабиана была для него картиной, на которую он мог любоваться часами. Гибкое юношеское тело источало запах неразбавленного афродизиака. Вид обнаженных ягодиц Фабиана вызывал у него приступ головокружения, напоминающий приближение эпилептического припадка.
– Ничего у нас не выйдет, – задыхаясь, сказал как-то Фабиан между ласками.
Виктор не понял. Будущего для него в этот момент не существовало.
– Почему?
– То, чем мы занимаемся… Это болезнь. Извращение.
– Я так не считаю.
– Уранизм. Инверсия. Психический гермафродитизм. У этой болезни много названий.
– Я люблю тебя, Фабиан!
– Я запрещаю тебе употреблять это слово.
– Я говорю так, потому что это правда!
– У тебя нет на это права…
Как-то в конце сентября, в воскресенье, в одиннадцать утра, они вдруг услышали, как в квартире на Сибиллегатан кто-то поворачивает ключ в замке. Они стояли в спальне, совершенно голые. Будучи уверенным, что Эрика уехала, Фабиан не позаботился накинуть предохранительную цепочку. Они слышали, как она, раздеваясь в прихожей, напевает мелодию Уллы Бильквиста.
– Фабиан! – крикнула она и направилась, судя по шагам, в спальню.
Когда она открыла дверь, Виктор сидел в платяном шкафу в обнимку с ворохом одежд и еле сдерживал смех – настолько все это напоминало дешевый анекдот. Но через пару часов ему уже было не до смеха – он все еще сидел в полной темноте, а Эрика, похоже, не выказывала никаких намерений уйти.
– Что теперь будем делать? – спросил Фабиан, когда она наконец ушла. – У нас же свадьба меньше чем через год. Такое ощущение, что меня рвут на части.
Это была мантра, он повторял ее без конца, начиная с их первого ужина наедине, и Виктору уже начало это надоедать.
– Самое естественное – рассказать ей все. Не о нас с тобой – о себе.
– Я даже не знаю, как это сформулировать. Гомик… в моем мире такого слова не существует.
– Наплевать на формулировки. Наплевать на слова, Фабиан. Ты влюблен, вот и все.
Фабиан поглядел на него как на идиота.
– Или можем начать все заново в другом месте… – сказал Виктор. – Есть и другие города.
Тем не менее после этого приключения они недели две не встречались. Но выздоровления не наступило – наоборот, когда они увиделись вновь, вольтаж достиг критического накала. Мысль уехать из Стокгольма не оставляла Виктора. Но каждый раз, когда он заговаривал об этом с Фабианом, тот начинал рисовать самые мрачные перспективы.
– На что я буду жить? – спрашивал он. – Без моей семьи я ничто.
– Ты совершеннолетний. Ты имеешь право распоряжаться своей жизнью.
– Ты не прав. Все не так просто, если тебя зовут Фабиан Ульссон. И ты не знаешь моего отца. Он разыщет меня, даже если я спрячусь в пещере на краю света.
– Пусть находит. Мы просто попросим его оставить нас в покое.
– Он и слушать не станет. И будет прав. Это болезнь, Виктор. Гомосексуальная любовь – это болезнь.
– Любовь есть любовь. Ты хочешь сказать, что наша любовь неполноценна?
– Да. Неполноценна. Это не настоящая любовь. Это что-то другое… что-то животное…
Встречи их становились все более и более лихорадочными. Они уже не чувствовали опасности. В нише в кабинете Фабиана они бросались друг к другу, не обращая внимания на Эрику, сидящую на балконе в шезлонге с газетой – в пяти метрах от них. Они встречались в парках, в комнате Виктора – пока наконец хозяйка не почуяла неладное и не запретила Виктору принимать у себя гостей. Однажды Фабиан ворвался в мастерскую Тугласа белый от ревности – ему показалось, что он видел Виктора с другим. Ему и в самом деле только показалось, но Виктору пришлось успокаивать его не менее получаса. После этого Туглас до конца недели бросал на него странные взгляды.
Спасла их, пусть временно, Аста Берглунд. Виктор не видел ее с начала лета. Ходили слухи, что она порвала с любовником и завела нового. Говорили, что ее новый приятель – известная фигура в ночной жизни Стокгольма и он снабжает ее таблетками в неограниченных количествах. Он уже несколько дней искал ее с неясным намерением поговорить с ней, исповедаться… она была единственным человеком, хорошо знавшим и его, и Фабиана. Но Аста его опередила.
– Можете пользоваться моей квартирой, – сказала она. – Скажите только заранее, чтобы я умотала. Ключ будет под цветочным ящиком на площадке.
Он притворился, что не понимает, о чем она говорит.
– Не надо, Виктор. Неужели ты считаешь, что я не понимаю, что между вами происходит?
Он промолчал.
– Я все знала с самого начала.
– Что – все?
– Что ты предпочитаешь мужчин. Сразу поняла, как только мы познакомились. И про Фабиана догадывалась.
– Он женится на будущий год…
– А ты надеешься этому помешать?
Они сидели в ее двухкомнатной квартире на Кунгсгатан, в одной из башен-близнецов. Виктор с недоумением оглядывался – кое-какая мебель и антиквариат исчезли.
– В ломбарде, – криво улыбнулась Аста. – Мне нужны деньги на лекарства.
– Это опасные игрушки, Аста.
– Предоставь эти заботы мне. И кстати, я вполне серьезно – вы можете пользоваться моей квартирой, если вам нужно встретиться наедине. Это куда лучше, чем у Фабиана или у тебя. Ни сующейся во все невесты, ни подозрительной квартирной хозяйки. Но я хочу получить за это компенсацию – либо от тебя, либо от Фабиана.
Только сейчас Виктор понял, как далеко зашло дело.
– Тебе нужна помощь, – сказал он.
– Позже… возможно. Сейчас мне нужно мое лекарство. Я без гроша, Виктор. Так называемый друг меня бросил. А от моего предложения все будут в выигрыше.
Всю зиму они ссорились и мирились опять. Они пытались порвать отношения, но все каждый раз заканчивалось страстным воссоединением. Они ругались чуть не при каждой встрече. Предметом ссоры могло быть все что угодно: женитьба Фабиана, Эрика, ревность, работа Виктора, работа Фабиана… они яростно спорили о восприятии искусства, о послевоенной живописи – Виктор ненавидел ее, а Фабиану она нравилась, спорили, что такое любовь и насколько гомосексуален Фабиан. Как-то они поругались, морально ли давать Асте деньги за их свидания, если она покупает на них все больше фенедрина и тикодила, а они все равно только и делают, что ссорятся.
– Выхода нет, – сказал Фабиан. Лицо его было заплакано после очередной ссоры. – Меньше чем через полгода я женюсь.
– Я тебе не верю.
– Ты просто не понимаешь, что это означает – быть Фабианом Ульссоном.
– Но я прекрасно понимаю, что такое ханжество. Неужели ты думаешь, что сделаешь ее счастливой?
– Я не гомик.
– Нет? Конечно да. Только выбирай менее грубое слово.
– Я люблю Эрику, так что ты напрасно думаешь…
– Не больше, чем меня.
– В роде Ульссонов не было мужчин, которые влюбляются в мужчин.
– А теперь есть, и поломал эту традицию не кто иной, как ты!
– Нам надо закончить все прямо сейчас. Нам не надо больше видеться.
Но они продолжали и продолжали встречаться, а счастливый конец казался все более и более призрачной мечтой. Они продолжали встречаться, потому что никто из них не хотел отпустить другого.
В марте Виктор поехал в Копенгаген по приглашению одного из ведущих музеев. Это был его первый заказ за пределами Швеции. Собрание Хиршпрунга нуждалось в реставрации поврежденного плесенью полотна Кройера, а после того, как Виктор пару лет назад реставрировал две работы этого художника, он внезапно стал считаться одним из ведущих экспертов.
Осмотрев картину, он убедился, что она поражена довольно редкой формой грибка Aspergillus. Датским реставраторам не удалось решить задачу. Виктор обработал поверхность фунгицидом, разработанным им самим вместе с профессиональным химиком. Вместо обычно применяемого в таких случаях тимола он нанес на пораженные плесенью участки тонкий слой формалина. Замерил влажность в помещении – ее следовало снизить на пятнадцать процентов. И последнее – попросил местных реставраторов удалить с рамы остатки глютенового клея, где, как он полагал, зародился грибок.
Главный реставратор галереи пригласил его в Глиптотеку. Там его ждал еще один сюрприз: ему предстояло установить подлинность недавно приобретенной работы Пило[113]. Речь шла об этюде к большому конному портрету Фредрика V, купленному музеем у лондонского коллекционера. Посчитали, что Виктор, как шведский реставратор, вполне может провести такую экспертизу.
Живопись была несомненно в стиле Пило – характерный колорит, он знал его еще по стокгольмским работам. Но ткань холста… сам характер переплетения нитей показался ему подозрительным. Следовало более тщательно присмотреться к пигменту. Кроме того, он обнаружил в холсте следы крахмала – труднообъяснимый анахронизм.
В последний вечер в Копенгагене местный реставратор в знак благодарности пригласил его поужинать. Нильс Мёллер был его сверстником – и что-то в его взгляде говорило Виктору, что он тоже предпочитает мужчин. Они сидели во французском ресторане около Конгенс Нюторв и вели тихую профессиональную беседу. Дания, сказал Мёллер, еще не пришла в себя после оккупации. Дотации государственным музеям после окончания войны стали намного меньше, и новые приобретения если и делаются, то разве что в тех странах, где экономика в еще более плачевном состоянии, особенно в Германии. Мёллер понял, что Виктор по происхождению немец. Был ли он после войны на родине?
Виктор только что положил в рот кусок глазированной утки, поэтому просто покачал головой.
– Нет, – прожевав, сказал он. – А что?
– Значит, вам ничего не известно о положении там… я имею в виду, как там для нас, мужчин?
– Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду…
Они оставили тему. Вскоре Мёллер расплатился, и они вышли на улицу. В Копенгаген пришла весна. Освещение и симфония запахов привели Виктора в восторженное настроение; он вдруг понял, что уже много месяцев не испытывал такого полноценного, насыщенного чувства счастья. Они остановились в подъезде, не дойдя квартала до отеля. Нильс Мёллер, несмотря на уклончивый ответ Виктора насчет «мужчин», все же, видимо, доверял своей интуиции, потому что внезапно привлек Виктора к себе. Они стояли в десяти сантиметрах и смотрели друг другу в глаза. Ни говоря ни слова, Нильс повернул ключ в двери подъезда.
Нильс мог бы стать вторым любовником Виктора, если бы между ними не стояла тень Фабиана. Они разделись, но Виктор не чувствовал ровным счетом никакого возбуждения… это удивило его, поскольку Нильс был очень привлекателен.
– Ты не хочешь? – спросил Нильс.
– Я не могу…
– У тебя есть друг? Не волнуйся, он ничего не узнает…
Виктор вздохнул и начал одеваться. Мысленно он проклинал Фабиана.
Но Нильс, как ему показалось, особенно не переживал. Он поставил на стол индийский фарфор, одолженный им без разрешения из собрания музея, принес чай и печенье. Виктор просидел у него до рассвета. Нильс рассказывал о положении гомосексуалов в Копенгагене. Виктор слушал с большим интересом – он впервые в жизни встретил борца за права таких, как он.
– Репрессии то сильнее, то слабее, и в Дании то же, что и везде. Во время оккупации могли послать в концлагерь или избить до полусмерти, если у тебя не хватало ума скрывать свою ориентацию. После освобождения стало все наоборот – полная свобода для всех. Трансвеститы открыто гуляли по Строгету, появились клубы и кабаре. Но в прошлом году опять началось. Ты же знаешь, как работают политики и военные, когда им нечего делать, – они ищут новых врагов. А гомики, когда нет нацистов, – прекрасная мишень, особенно если удается доказать, что они еще и коммунисты.
Он подлил Виктору чаю и вынул из ящика стола несколько газет.
– Не уверен, знаешь ли ты, но сенатор Маккарти учредил специальный комитет для выявления и увольнения «гомосексуальных и других сексуально извращенных лиц» в администрации. Хочешь – верь, хочешь – не верь, он ссылался даже на доклад Кинси[114], поскольку Кинси утверждает, и в этом он совершенно прав, что гомосексуалы есть во всех слоях общества и что они совершенно неотличимы от людей с «нормальной» ориентацией. А шаг через Атлантику не так велик, как кажется. Последнее время у нас то и дело возникают проблемы с полицией… Несколько лет назад я начал издавать журнал «Друг». Зимой тираж конфисковали, а редакцию закрыли. Мало этого, регистр они тоже конфисковали, и более ста человек были привлечены к суду за преступления против нравственности… То, что я все еще на свободе, это только благодаря моим связям и изрядной доле удачи…
Виктор вспомнил, что перед самым отъездом он читал статью в «Дагенс нюхетер» – некий полемист по имени Шёден утверждал, что гомосексуальность – серьезная молодежная проблема. Он писал что-то о тайных масонских гомосексуальных ложах… И потом этот процесс Кейни[115]… он продолжался чуть ли не год, даже королевская семья была затронута. На первый взгляд речь шла о справедливой борьбе против правовой коррупции, но на самом деле это была типичная охота на ведьм – на гомосексуалов.
– Думаю, надо ждать похолодания, – сказал Нильс. – И если верить слухам, в Швеции скоро будет то же самое…
Вернувшись в Стокгольм, Виктор чувствовал себя совершенно обновленным. Активист Мёллер пробудил в нем волю к борьбе. Он должен, он просто обязан выиграть битву за Фабиана. Свадьбе нужно помешать любой ценой. Это его долг любви, моральный императив, которому он не может не последовать.
Он нашел Фабиана в квартире на Сибиллегатан. Тот сидел в бильярдной, глаза его были заплаканы.
– Аста… – сказал он.
– Что случилось?
– Она в больнице…
Занятые своими чувствами, они не замечали, что происходит с Астой. Пока Виктор был в Копенгагене, Фабиан зашел к ней как к подруге детства – посоветоваться, что делать дальше. Он нашел Асту в постели, без сознания, рядом лежал окровавленный шприц. Он затащил ее в ванну. Холодная вода привела ее в чувство… Фабиан смутно догадывался, что, если бы доза была чуть побольше или он пришел бы на полчаса позже, он не застал бы ее в живых. В квартире почти не было мебели, все было заложено в ломбарде или продано сомнительным скупщикам в Кларе. До Фабиана доходили слухи, что ее видели среди проституток у Центрального вокзала, но она с гневом это отрицала. Он на всякий случай позвонил в неотложку, и ее забрали в больницу.
– Что мы можем сделать?
– Ничего. О ней позаботится семья. Квартира пуста, контракт аннулирован. Вещи сданы на фирму, через пару недель они все отвезут.
– Куда? Я ничего не понимаю…
– Я вчера говорил с ее отцом. Они положат ее на принудительное лечение в Финляндии. В худшем случае ее могут признать недееспособной.
– Это отвратительно…
– Чепуха. Отвратительно то, что она погибнет, если никто не вмешается.
Фабиан встал и подошел к окну.
– Готов второй вариант приглашений, – сказал он. – Вчера принесли из типографии, теперь там все, как хотела Эрика, включая меню. Через неделю приглашения будут отправлены в фирменных конвертах Кройгеров. Обручение в церкви Святого Оскара двадцать восьмого августа. Потом кортеж проедет по городу в каретах, а закончится все ужином с танцами на Конюшенном дворе. Торт заказан придворному повару.
Виктор молчал. Фабиан выбрал дорогу, и повлиять на его решение Виктор был не в силах.
– Не волнуйся, – сказал Фабиан. – Я поговорю с ней завтра и расскажу все как есть, и пусть она решает. В конце концов, это же возможно – состоять в браке и встречаться с кем-то еще. В высшем свете такое бывает. От гомофилии никто ведь не застрахован, не так ли? Такое решение вполне приемлемо.
Он стоял к Виктору спиной, но он видел его отражение в оконном стекле: лицо не выражало ровным счетом ничего, как у древнего старика.
В конце апреля того же года Яан Туглас покинул Швецию. Решение не было неожиданным. Несколько месяцев назад в Эстонии умерла его мать. Единственное, что удерживало его в Стокгольме, – надежда, что она наконец решится к нему переехать. Теперь все решилось само собой, а с той стороны океана следовали все более настойчивые предложения. Известная антикварная фирма «Роусвелл и Сакс» с головной конторой в Нью-Йорке уже много лет соблазняла Яана работать на них. Теперь причин для отказа не было, а согласие позволит ему увеличить годовой доход как минимум втрое. Он предложил Виктору возглавить его фирму.
– Кто-то же должен работать и на этих градусах северной широты, – сказал он. – Иначе кто будет отвечать за искалеченных Хиллестрёмов или устанавливать подлинность Ульрики Паш?
Разговор происходил в кабинетике на втором этаже мастерской в Пеликаньем переулке. Они сидели на старом кожаном диване, положив ноги на стол, и попивали чай.
– Часть библиотеки я наверняка увезу, – сказал Туглас, – и кое-какой инструмент тоже. Я уже заказал контейнер в Вертахамн. Все, что остается, – твое. Я говорил с домовладельцем – он просто перепишет контракт на тебя. Но до отъезда мы должны решить кое-какие бюрократические мелочи.
– Я не уверен, что дело пойдет. Как-никак, а клиентов сюда привлекало твое реноме…
– Не надо скромничать, Виктор. Заказы расписаны до Рождества, и, насколько я понимаю, тебя ожидают несколько заказов за границей. Два новых Кройера уже в дороге, и ты, как новый главный эксперт, должен их оценить. Кстати, насчет этого этюда Пило в Копенгагене – ты был прав. Это подделка. Они взяли пробы красок, часть из них так же современны, как мы с тобой. Вчера пришло письмо с благодарностью выдающемуся шведскому эксперту. Твоя слава растет и будет расти. – Он отставил стакан с чаем и посмотрел на него очень серьезно: – Не знаю, чем ты занимался во время войны, Виктор, но что-то подсказывает мне, что ты очень хорошо знаком с фальсификацией…
– Я служил в британском флоте…
– …а потом был в плену. Эту историю я слышал много раз. Ты ее и во сне пробормочешь, если понадобится.
– Я стараюсь забыть эти годы…
– Я знаю, Виктор. Это было тяжелое время для всех, кроме шведов… Кстати, ты видишься еще со своим финско-шведским миллионером?
– С Фабианом?
– Да…
Виктор не знал, куда клонит Яан, поэтому предпочел промолчать.
– Я не лезу в твои дела. Люди влюбляются, в кого хотят. Но в таком небольшом городе, как Стокгольм, это может повлечь за собой трудности… И неприятности, а мне бы этого не хотелось. Может, поедешь со мной?
– В Нью-Йорк?
– Это гигантский город, там найдется место для любого. Там не лезут в дела друг друга, как здесь. Думаю, мне нетрудно будет уговорить нового работодателя, что нам необходим еще один выдающийся реставратор. Там у тебя будет работа, о которой здесь ты даже мечтать не можешь… Подумай: реставрировать Рембрандта для Гуггенхайма.
Виктор покачал головой.
– Большое спасибо, – сказал он, – но это невозможно. Во всяком случае, сейчас.
– Как хочешь. Но имей в виду – предложение остается в силе. Если передумаешь, дай знать.
Он слабо улыбнулся и подлил Виктору чаю. Он знал, думал Виктор, он все знал с самого начала, но был настолько деликатен, что не сказал ни слова… и, в отличие от всего остального мира, не считает себя вправе осуждать…
Через два дня после этого знаменательного разговора Фабиан исповедался своей невесте. Потом он рассказал Виктору, как все было. Он пригласил ее на прогулку на Юргорден, они пообедали на постоялом дворе Уллы Винблада, и после этого, сидя на скамейке неподалеку от виллы Кройгеров, он признался ей во всем. Фабиан не мог вспомнить, что именно и в каких словах он говорил, но, по-видимому, это не играло никакой роли. Она была совершенно уничтожена.
– Она несколько раз ударила меня по лицу, – рассказывал он Виктору, у которого было ощущение, что мир вокруг них разваливается на куски. – Знаешь, мне тогда казалось, что лучше бы я покончил с собой, чем причинил ей такую боль…
Она не сказала ни слова. Только ударила его несколько раз, заплакала и ушла… Потом из полицейских допросов выяснилось, что она пошла в его квартиру, открыла своим ключом, прошла в ванную, заперлась и выпила содержимое всех пузырьков и баночек с лекарствами, какие только нашла в аптечном шкафу. Потом попыталась перерезать артерию на запястье бритвой Фабиана, но рука дрогнула, от боли она потеряла равновесие и упала, уронив при этом зеркало. Служанка услышала шум, прибежала, и, к счастью, ей удалось взломать дверь в ванную.
Через три дня Эрику перевели в пансионат под Уппсалой, продолжая накачивать успокоительными препаратами. Фабиана без конца допрашивали, сначала в полиции, а потом еще более пристрастно, хотя и менее формально, в адвокатской конторе на Эстермальме, где по просьбе семейства Кройгер пытались установить, что же случилось. Все выплыло на поверхность. Его отец, лесной барон, прилетел на личном одномоторном самолете из Тампере, попав по пути в грозу под Оландом. Он отменил важнейшую встречу со своим североамериканским агентом, чтобы наставить на путь истинный своего непутевого сына. Главы семейств собрали кризисное совещание. Жены прибыли чуть позже более традиционными средствами передвижения – они тоже участвовали в совещании. Свадебные открытки уничтожили в специальной мельнице в адвокатской фирме Кройгера. От предварительно напечатанного меню остался только ворох разноцветного конфетти.
За это время Виктор видел Фабиана один-единственный раз, и то очень коротко. Фабиан в двух словах рассказал, что случилось, – он спешил на очередную нахлобучку. Через неделю в мастерскую в Пеликаньем переулке пришла телеграмма. Туглас уже паковал последний чемодан. Некий Петри Ульссон требовал немедленной встречи с Виктором Кунцельманном с глазу на глаз в ресторане в Старом городе.
Полный недобрых предчувствий, Виктор направился туда. Отец Фабиана выглядел точно так, как он себе и воображал: потный, небритый, с карикатурно огромной, наполовину изжеванной сигарой, похожей на толстый коричневый палец. Он заказал два кофе и ткнул в сторону отдаленного столика.
– Я просто хочу тебя предупредить, – сказал Петри Ульссон преувеличенно дружелюбно, – не вздумай даже пытаться когда-нибудь встретиться с моим сыном.
Он с отвращением посмотрел на чашку кофе и перевел глаза на Виктора. Во взгляде его читалось удивление и недоверие.
– Если ты заговоришь с ним, или пошлешь открытку, или позвонишь по телефону, твоя жизнь кончена. Вот и все, что я хотел сказать… Нет, не все. Вот еще что: на твоем месте я бы сидел дома. Сейчас такие времена… мало ли что может случиться.
Он видел Фабиана еще раз, за пару дней перед Пасхой, ровно через год после их первого свидания. Виктор стоял перед крытым рынком на Нюбругатан и видел, как Фабиан со своими родителями садится в такси на другой стороне Эстермальмской площади. Машина медленно тронулась по направлению к Страндвеген, сквозь заднее стекло смутно угадывалось лицо его любимого… он сидел на заднем сиденье посередине, на голову выше своих родителей. Тогда он еще этого не знал, но это был последний раз, когда он видел Фабиана.
Вечером того же дня он заперся в мастерской в Пеликаньем переулке и впервые за много лет взялся за кисть… Он работал несколько суток без еды и без сна, объединяя сюжеты картин, виденных им у Фабиана в их первую ночь. На полудюжине полотен соседствовали дюреровская купальня и «Христос в Гефсимане». Он поместил Иисуса и Иуду на скамейке в бане, а купальщики стали замковой стражей, готовой схватить Сына Божия. Он написал несколько вариантов знаменитого поцелуя, а в купальне персонаж с улыбкой Фабиана протягивал ему цветы аклеи. Он переписал и мальчика Караваджо, мысленно взяв за модель того же Фабиана. Он написал его сзади, давая зрителю полюбоваться спиной и задом Амура, написал так, как помнил с первой встречи. Он вспомнил, как его неверный любовник мечтал о работе Бацци… и, пересмотрев оставшиеся каталоги Тугласа, написал полотно в стиле Бацци – он и Фабиан стоят в костюмах Адама на фоне пинии.
В мастерской Тугласа было все, что требовалось, чтобы писать пастиши под старых мастеров.
Краски старой рецептуры, старинный инструмент, даже холсты и панно тех времен… Он словно забыл все свои горести, он забыл, что Фабиан оставил его, что Аста вернулась в Финляндию, что корабль Тугласа вот-вот бросит якорь в нью-йоркской гавани… что он, скорее всего, никогда их больше не увидит. Мастерская в Пеликаньем переулке теперь принадлежала ему, он был хозяином фирмы. В его жизни начиналась новая эра. Но сейчас он целиком отдался работе, и ему не хотелось думать о будущем. Он смешивал краски, как это делали бы Караваджо и Бацци, если бы решили писать тот же самый мотив. Он писал на старых панно, приобретенных где-то Тугласом задешево, панно с остатками старых красок, – на панно, которые они обычно использовали для реставрационных проб.
Закончив, он замер в недоумении, пораженный невероятным сходством его работ с оригиналом. Никто, подумал он, ни один человек не скажет, что это подделка, если ее правильно представить. Сфальсифицировать сопроводительные документы, запастись солидным посредником – и сенсация готова. Конечно, их покажут экспертам, но и те в конце концов будут вынуждены признать подлинность… в крайнем случае, дадут заключение, что это копия, но копия, сделанная в ту же эпоху и, скорее всего, кем-то из учеников гения. Он сложил свои работы на складе; как только они были закончены, он понял, что достиг своей главной цели: внес хоть какой-то порядок в хаос своей жизни.
По вечерам он делал перерыв и совершал долгие прогулки по городу. Все чаще ноги, словно по собственной воле, приводили его к Хюмлегордену. Он наблюдал за мужчинами, молодыми и постарше, они входили в туалеты и выходили… он видел, как они парами скрывались в темных аллеях парка. Как легко купить несколько мгновений забвения, думал он, но никак не мог решиться.
Он возвращался в ателье, кляня свою робость, снова брался за кисти – и успокаивался.
Именно в эти недели он сделал свои первые пастиши под Кройера. Каким-то образом эта живопись тоже была как-то связана с Фабианом, хотя он и не мог бы сказать, как именно. Может быть, этот свет… этот робкий свет на полотнах живописца говорил о любви.
Он поставил на мольберты две только что прибывшие на реставрацию картины Кройера и начал просматривать каталоги. И на старых холстах, подражая мастеру, он написал свои мотивы. Он прятался в шторах в пансионате «Брёндум», он узнавал себя в какой-нибудь складке на лбу на портрете Анны Анкерс, в блике в ее глазу. Ноздри ему дразнил запах жареной куропатки с натюрморта. Он заменял детали оригинала, он пробовал так и этак, пока в результате перед ним не встали три совершенно новые работы. И каждую секунду он спрашивал себя: а что бы сделал на моем месте художник? Какой цвет выбрал бы он для подмалевка? Как он согласовал бы композицию?
Закончив, он почувствовал полное опустошение, но и не только – к нему пришла странная легкость. У него было такое чувство, что копившееся целый год напряжение достигло высшей точки, конденсатор разрядился. Он запер за собой дверь и пошел пешком в Клару. Домохозяин, у кого он арендовал мастерскую, подсказал, что в том же доме, прямо над ателье, освобождается квартира, и пообещал контракт. Уже в конце лета он должен был туда переехать.
На полу лежал ворох писем, и среди них ему сразу бросился в глаза голубой конверт, проштемпелеванный в Берлине. Он пробежал письмо глазами, стоя у окна, и усталость как рукой сняло.
Он посмотрел на часы – было около семи. Если ему повезет, он успеет в «Черную кошку» на вечерний сеанс. И заодно подумает, что и как ответить на письмо – письмо от человека из прошлого.
Виктор запер комнату, которую снимал на Лестмакаргатан и направился в центральный район Стокгольма, носящий имя Клара.
5
Странное все-таки место – южные пригороды Стокгольма! С автостанции отправляются автобусы с номерами, о которых житель центра никогда и слыхом не слыхивал. Вот, например, сто девяносто второй автобус на Норсборг, временная коммуникационная линия в Хёгдален и Сведмуру. Длинные красные автопоезда с трехзначными номерами внезапно выворачивают на скоростные шоссе, о существовании которых ты уже давно забыл. Они летят в Хюддинге, Тумбу или еще дальше – в Сёдертелье. На площади – вавилонское смешение языков. Женщины в паранджах и юбках до пят, чернокожие молодые люди часами просиживают на парковых скамейках. Двое господ в тюрбанах играют в нарды за выставленным на улицу ресторанным столиком.
Шведы, живущие в этих районах, тоже привлекают внимание: у многих грязные гипсовые повязки на руках или на пальцах, другие передвигаются на костылях, еще у кого-то ортопедический воротник… и у всех у них вид людей, глубоко сожалеющих о своем появлении на свет. Совсем юные девочки катят детские коляски, а их шоколадные детишки тоже, кажется, никаких иллюзий насчет своего будущего не испытывают. Раблезианских объемов толстухи (или толстяки?.. пол не всегда определим), пыхтя, поднимаются по склону к станции метро.
Вокруг неработающего фонтана расположился торговый центр – несчитаное число небольших магазинчиков. Особенно широко представлены лавки, торгующие сумками и чемоданами, – такое впечатление, что здесь живут кочевники. Всегда готовые к худшему, эти потомки Каина в любой момент готовы упаковать свое имущество в гонконгский чемодан на колесах за 299 крон, купленный у Хассана в «Башмаках и чемоданах», и в мгновение ока исчезнуть. Беженцы, над которыми навис дамоклов меч высылки. Безработные и бездомные шведы… А что происходит с мобильными телефонами? Лавок, продающих телефоны и контракты к ним, как минимум втрое больше, чем нужно на первый взгляд. А может быть, это естественно, подумал Иоаким. Двенадцать человек, втиснутых в двухкомнатную живопырку в одном из самых тоскливых двенадцатиэтажных домов на Рогсведслинге, построенном по чертежам новоберлинских коробок… чего здесь ожидать? Людям нужно хоть немного личной жизни, а здесь они делят один городской телефон еще с одиннадцатью иракскими родственниками, сбежавшими от автомобильных бомб в Багдаде, или с большой семьей нигерийских резчиков по дереву. И тогда ты идешь к монголу и покупаешь корейский телефон с бельгийским контрактом, сто бесплатных минут в месяц, – и всего-то за… дешево, дешево, очень дешево!
Хронические безработные.
Новые шведы неясного происхождения жадно поедают ливанские сладости около пекарни.
Некоторые втихую продают кат[116].
А вот эти персидские девочки (или туркменские, или армянские) очень даже красивы, подумал Иоаким, глядя в окно ресторана. В глубине души он был ориенталистом, и ничуть этого не стеснялся. Африканки в младшей возрастной группе (лет пятнадцать – семнадцать, прикинул он), проводящие летние каникулы в южностокгольмской провинции… смотреть на них человеку без предрассудков – чистое наслаждение. Они идут своей гордой походкой «а-поноси-ка-всю-жизнь-тяжелый-кувшин-на-голове», не обращая внимания на жестокую в своей убогости архитектуру, и болтают по мобильникам на суахили с подружками в Юрдбру и Якобсберге. Женщины в бурках… каким-то образом эта одежда добавляет им женственности, под тонкой ярко-голубой тканью голое тело угадывается легче, чем под европейской одеждой… вот они гаремным шажком чапают в супермаркет купить лакрицы, приправу к ямбалайе и копченый пири-пири… А какой выбор пряностей! Прокатись хоть по всей зеленой линии метро из Веллингбю в Хагсетру, такого отдела пряностей не найдешь. Красивые восточноазиатские девушки (филиппинки?) на высоких каблуках и в дешевых платьях из «Линдекса», имеющих то неоспоримое преимущество, что яркое полдневное солнце просвечивает их насквозь, – и сразу становится ясно, что многие по случаю жары лифчики оставили дома… А может быть, ему стоит вообще пересмотреть жизненный стиль. Наверняка можно жить счастливо, будучи холостяком в Рогсведе или Рутебру…
Окно паба-ресторана «Оазис», когда-то широко известного концертами легендарной панковской группы «Эбба Грён», представляло собой отличный пункт наблюдения за жизнью на иной планете. В конце концов, прекрасное заведение для человека, снизившего планку своих кулинарных запросов на несколько тысяч процентов (по крайней мере, временно, пока не будут завершены определенные проекты). Сидишь себе на образцово неудобном дерматиновом диване образца 1973 года… Дизайнер, очевидно, собирался создать что-то напоминающее Шотландию – поломанные мишени дартса, волынки на стенах…
Слабоалкогольный напиток стоит здесь столько же, сколько чашка кофе на Стуреплане, пинта польского пива – тридцать пять крон, очень разумная цена… то же касается и болгарского белого вина, которое, по его наблюдениям, особенно популярно здесь среди здешних одиноких алкоголичек.
В автомате «Джек Вегас» белеет одна и та же запись – что-то о неизлечимом одиночестве. Слава богу, никто не включал караоке, хотя какой-то парень в гипсовом воротнике на точно таком же, как и у Иоакима, дерматиновом диванчике, похоже, готовится к выступлению, напевая что-то себе под нос. Официанты разносили огромные тарелки с откровенно вредным для здоровья содержимым, предназначенным для социальной группы номер три: помм-фри на маргарине, свиное филе со сверхжирным соусом, изображающем беарнез, куски жареного мяса размером с коровью лепешку, да еще с чесночным маслом… и, разумеется, пиццы, двадцать девять сортов, с добавочным сыром, всего сорок девять крон штука. Одну из таких калорийных бомб с большим аппетитом жевал Карстен Хамрелль, нетерпеливо ожидая, когда же зазвонит его мобильник.
– Жакажем ешшо шо-нибучь? – Рот его был набит предстоящими атеросклеротическими проблемами.
– Я воздержусь, – пробормотал Кунцельманн-младший, провожая взглядом африканку (эфиопка? принцесса юруба?), направляющуюся к супермаркету, пританцовывая в ритме меренге. – Здесь есть на что посмотреть…
– Ты ведешь себя, как Свен Хедин[117], только не в Монголии, а в пригороде Стокгольма, – прожевав, заявил Хамрелль. – У меня есть приятели, которым бы твое поведение не понравилось, Йонни…
– Меня зовут Иоаким.
– Мне больше нравится Йонни. Я рос с целым выводком Йонни, кстати, недалеко отсюда, в Хёгдалене, Сведмюре… и знаешь, это были отличные парни, с такими хоть в разведку. Мне нравятся ребята с нормальными шведскими именами. Хассан, Али… для меня это звучит чересчур уж модернистски. Не говоря уж о языке… эй, лен, шон… хрен их знает, что они там лопочут.
Две юные шведки, в мини-юбках и блузках из H&M[118], лениво переругивались у пустого фонтана. С точки зрения Иоакима, они выглядели вполне перспективно для отрасли, в которой работал Хамрелль… возможно, он здесь и рекрутировал свои «щелки под лупой», через агентства по трудоустройству.
– Если я Свен Хедин, то ты типичный расист, – буркнул Иоаким и с удивлением заметил, что одна из девушек вцепилась приятельнице в волосы.
– Расизм во взгляде, мой дорогой. И между мной и тобой разницы нет. Твои глаза просто светятся предрассудками, когда ты смотришь на цветную женщину. Ее вроде бы и не должно существовать на самом деле… она плод твоей фантазии, Йонни…
А может быть, в этом что-то есть – называть себя Йонни, подумал Иоаким, листая меню в поисках чего-нибудь слабоалкогольного. Йокке – Йонни… Йонни – мой двойник. Или nom de guerre, как у отца, например. А сейчас, когда они пустились в опасную авантюру, псевдоним и вовсе не помешает… он ни на секунду не забывал, что их клиент – настоящий гангстер, решивший создать себе имидж ценителя искусства. Но не дай бог обман обнаружится… именно от этого гангстера, некоего Эмира, и ждал звонка Хамрелль.
В двух кварталах отсюда, на Кумлагатан (название упрямо напоминало Иоакиму известную тюрьму), Хамрелль снимал небольшую однокомнатную квартирку, а под окном ее красовался взятый ими напрокат дорогой джип-«шевроле». В багажнике лежало «украденное» полотно Кройера, упакованное в плоскую картонную коробку с эмблемами галереи Жанетт. На этой машине, якобы их собственной, они должны были доставить картину в «Гранд-отель», где, с помощью работавшего там уборщиком приятеля Хамрелля, сняли на несколько часов номер. Далее им предстояло распаковать полотно второго датского золотого века и ждать, когда король Сульваллы[119], ранее отметившийся и в эротической отрасли, владелец фитнес-клуба, вновь крещенный православный югославский эмигрант во втором поколении по имени Эмир соблаговолит появиться и взглянуть на их раритет. Почему сделка должна происходить именно в «Гранд-отеле», для Иоакима так и осталось загадкой. Впрочем, само его компаньонство с Карстеном Хамреллем было не менее загадочным.
– Значит так, картина украдена, – сказал Хамрелль, доедая тесто с краев пиццы, которыми он поначалу пренебрег. – Такой тип, как Эмир, никаких угрызений совести по этому поводу испытывать не будет, наоборот, так ему даже интереснее. Но подлинность – для него это святое. Все, понимаешь, должно быть подлинным. «Ролекс» должен быть «ролексом», даже если отнят под пистолетом у беззащитного инвалида.
Как ни странно, Иоаким понимал такой ход мыслей намного лучше, чем хотел бы себе признаться. Карстен прекрасно знал, как себя вести в теневом мире, в этом мире он вырос, имел массу знакомых и приятелей, в том числе и этого помешанного на дорогих брендах Эмира – когда-то в Хёгдалене они вместе развлекались угонами автомобилей, квартирными кражами и сбытом русских анаболиков местным культуристам. Эмир – идеальный клиент, сказал Хамрелль, когда им удалось подцепить его на крючок: глуповат, тщеславен, масса комплексов; ему до смерти хочется произвести впечатление.
– Конечно, конечно, Карстен. Клятвенно обещаю следовать сценарию. Но говорить будешь ты.
За окном инвалид на костылях пытался утихомирить разбушевавшихся девиц. Возраст его определить было невозможно – где-то между тридцатью и семьюдесятью пятью. У Иоакима тут же возникла ассоциация с матадором, разнимающим разъяренных пантер. Интересно, может ли Карстен познакомить его с совершенно новым для него типом женщины: рогсведские самки, страстные и непосредственные… вот, подрались…
– Я ржал до колик – на днях объявили следующий год Годом культурного многообразия, – сообщил Хамрелль, отодвигая тарелку. – У нас здесь, в Хёгдалене, культурное многообразие еще с семидесятых, да такое – мало не покажется… Ну и реакция у нашего правительства! Опоздали на четверть века…
– Но ты все равно расист?
– И терминология твоя устарела лет на пятьдесят. Расист? Что это значит? Я не понимаю. – Хамрелль сунул в рот антиникотиновую жвачку, поглядывая на вывеску «курить запрещается». – Я просто терпеть не могу сирийцев и арабов. С югами – никаких проблем, за исключением сербов. Те почему-то вообразили, что все только и охотятся за их скальпами. Гамбия и Нигерия меня раздражают, а с иранцами – тишь да благодать, я знаю нескольких парней и девчонок – славные ребята. И эритрейцы приятные парни, и южноамериканцы – за исключением чилийцев. Спроси у Лины, она одно время была с чилийцем… Еле ноги унесла – слава богу, того посадили за попытку убийства соотечественника. Более ревнивых типов не найти. Он ее избивал чуть не кастетом, если она задерживалась с подругой…
Лина была подругой Хамрелля уже года два. Рогсведская самка высшего качества. Все бы ничего, но беда была в том, что она интересовала Иоакима куда больше, чем следовало, и это грозило нанести ущерб их деловому сотрудничеству. Тем более что интерес был обоюдным – если судить по ее взглядам в те редкие минуты, когда они оставались вдвоем.
– Но в фильмах ты латиносов не хочешь снимать, – сказал он.
– Это они не хотят. У некоторых народностей куда больше стиля, чем у нас с тобой.
Иоакима удивило, что Карстен Хамрелль вырос в Хёгдалене, но еще больше удивляло, что он продолжает там жить. Впрочем, именно поэтому он и доверил Хамреллю вести дела. Полгода назад Хамрелль дебютировал в искусствоведении, и с тех пор они уже продали два рисунка Буше не особо щепетильным перекупщикам из южных пригородов. (Эрлинг Момсен получил, как выразился Хамрелль, отлуп – Карстен наложил вето на продажу подделок людям, которые в случае малейших подозрений, не задумываясь, могли бы обратиться в полицию.) Его совершенно не интересовало, что работа Виктора была настолько высокого класса, что вряд ли у кого могли зародиться сомнения. Лучше продавать тем, кто не распространяется о своих делишках, пояснил он.
– А я помню, как «Эбба» тут появилась, – сказал Хамрелль, с сожалением провожая взглядом унесшего его тарелку официанта. – Гурра[120] занес палочку чуть не на два метра и врезал мне в глаз – на сантиметр промахнулся. Видишь, шрамик? Такое сразу не забудешь…
– А ты что, знал ребят из «Эббы»?
– Я вижу, ты сделал стойку… Провинциалы, как услышат про «Эббу», сразу уши навостряют… Тогда все друг друга знали. Все друг другу были должны и кидали жребий, кому ехать в Христианию за травкой. Чуть не все ребята, кто родился между пятьдесят пятым и шестьдесят четвертым, были родственниками по бабам – те кочевали от одного лузера к другому. Потом все это быстро кончилось. Половину моих корешей тех лет унес героин. Двоих, кстати, звали Йонни… Остальные тоже… кто спился, кого поубивали в разборках…
Первого Буше они продали подпольному маклеру по имени Ральф, специализирующемуся на контрактах первой руки в центральных районах; фамилию его не знал даже Хамрелль, хотя они были знакомы не менее четверти века. Рисунок, к немалому удивлению Иоакима, ушел за пятьдесят тысяч крон. Карстен объяснил Ральфу, что рисунок украден у частного коллекционера в Сконе. Ральф не сомневался и не торговался, он просто выложил наличные деньги на кухонный стол, пробормотав при этом: «Даже на задаток за однокомнатную в Васастане не хватит». Из этих слов они поняли, какие суммы крутятся на стокгольмском черном жилищном рынке, и сообразили, что за оставшиеся рисунки можно запрашивать вдвое. Расчеты подтвердились очень быстро. За второй рисунок Буше «Нимфы и титаны на берегу Пелопоннеса» некий Руне Форсман выложил не моргнув сто тысяч, правда, недовольно заметил, что картина без рамы. Руне тоже работал с недвижимостью: поставлял польских нелегалов для ремонта шикарных вилл на архипелаге, а также приторговывал украденными стройматериалами.
– Не понимаю, как ты решаешься на такое, – сказал Иоаким, когда покупатель исчез на своем «порше-каррера». – Он же твой знакомый! Если он обнаружит, что это подделка, он прекрасно знает, где тебя найти!
– Во-первых, он мне никогда не нравился, – весело сказал Карстен. – Во-вторых, я действую по правилам твоего благословенного отца: только предлагаю товар. Это дело покупателя – доказать, что он попался на подделку. А к тому же я лично проверил подлинность, то есть не лично, конечно, а у эксперта в «Буковскис»…
– Что ты сказал? Ты сделал что?
– Что слышал… Мы с ним пересекались, когда я работал с рекламой. Им нужен был новый каталог, и заказ ушел к нам. С той поры у меня там знакомства… Я принес им якобы купленного мной Буше и попросил установить подлинность. Кройера показать не решился, а Буше принес. Они, конечно, расспрашивали, как он ко мне попал, я кое-как уклонился… но в конце концов подтвердили, что речь идет о самом настоящем подлиннике. Особенно их убедили эта необычная зеленая бумага восемнадцатого века и старинная печать коллекционера на обороте. Я спросил, могу ли дать их телефон, на тот случай, если мне вздумается рисунок продать, – разумеется, сказали они. Я дал номер Форсману, и меня не удивит, если он туда уже позвонил.
С какой легкостью люди попадают в ловушки, подумал Иоаким. И еще его несказанно удивило, что, оказывается, существует великолепно работающая теневая экономика, подчиняющаяся точно тем же законам, что и любой другой бизнес, – причем даже в такой специфической области, как торговля краденым. Цена, как он понял, была все же не такой, как если бы они решились продать картины уважаемому коллекционеру, но риск куда как меньше. И все же Буше был своего рода antipasto, закуской перед ожидавшим их шикарным обедом. Они еще не притронулись к горячему, не говоря уж про изысканный десерт.
Вскоре после тогдашнего разговора на Готланде Иоаким прикинул рыночную цену оставшихся у Виктора картин – получилась почти невероятная сумма. Бацци, если найти нужного прохвоста, принесет не менее двух миллионов, Кройер – столько же. Эмиру они решили предложить маленького Кройера за миллион ровно.
– Мы должны поделиться с моим свояком, – сказал Иоаким, когда они начинали разрабатывать план действий.
– Это еще почему?
– Потому что он тоже рискует.
– Ты имеешь в виду, что он водит за нос свою жену?
– В первую очередь.
И в самом деле, Эрланд более всего опасался, что его разоблачит Жанетт. Месть профессиональных бандитов почему-то беспокоила его меньше. А может быть, у него просто не хватало фантазии вообразить себе такой сценарий.
– Придется заплатить ему процент.
– Даже не думай. В лучшем случае отстегнем кусок. Он ничем не рискует. Я знаю Эмира… если он сойдет с рельс, будет искать того, кто под рукой, то есть меня, а не какого-то ботаника в далеком Гётеборге.
Проблема с полотном Кройера, которое они сватали Эмиру, заключалась в создании правдоподобного провинанса. Поддельной печати собирателя девятнадцатого века для профессионального уголовника Эмира было мало. Он судил всех по себе и поэтому был подозрителен до гротеска. И когда Эрланд перед Рождеством выполнил свое обещание и послал картины в Стокгольм, Хамрелль тут же придумал соответствующий план – картина украдена из уважаемой галереи Жанетт Роос в Гётеборге. Эрланду поручили раздобыть более или менее разумный документ, подтверждающий печальное событие, – справку, что картина до последнего времени была в собственности галереи, что-нибудь о цене, липовая переписка со страховой компанией… Они даже заказали для Эрланда визитные карточки сотрудника галереи – на тот случай, если Эмиру вздумается позвонить и проверить. Вполне возможно, Эмир так и поступит. Или он купит картину, или поднимет нас на смех, объяснил Хамрелль. Невероятно, но Эрланд согласился на все эти махинации.
Размышления Иоакима прервал бодрый мотивчик «Crazy frogs» мобильника Хамрелля.
– Наш клиент, – сказал Хамрелль, покосившись на дисплей. – Немного везения, Йонни, и мы на лимон богаче.
Лето 2005 года началось с рекордного для этого времени года холода, сменившегося вскоре рекордной жарой, что дало пессимистам еще один повод убедиться, что с климатом на планете неблагополучно. После смерти Виктора прошел уже год, а полгода назад нацию потрясла катастрофа еще большего масштаба – цунами в Юго-Восточной Азии. К облегчению Хамрелля (кстати, и Иоаки ма тоже), бойкая Дженни, исполнявшая немецкую студентку в бессмертном фильме «Лоси и груди», чудом осталась в живых. Дженни со своим парнем уехала в Као Лак воплощать свою мечту о ресторане для веганов, но за пятнадцать минут до того, как гигантские волны поглотили берег, Дженни отправилась на рынок покупать овощи.
И много еще было катаклизмов в том году. Посреди зимы ураган «Гудрун» одним порывом ветра в сорок пять метров в секунду сорвал крышу с готландского сарая Иоакима, но это его не особенно огорчило – теперь у него были все предпосылки к тому, чтобы поставить на месте сарая не сарай, а дом. Виктор «the good guy» Ющенко стал президентом Украины. И одесную от него встала конечно же блондинистая секс-бомба Юлия Тимошенко в роли премьер-министра. В кафе и ресторанах ввели запрет на курение. И среди всех этих плохих и хороших новостей выделялась одна: Иоаким Кунцельманн вновь начал писать статьи.
– Эта история не быстрая, займет не меньше года, – сказал ему Хамрелль, когда картины прибыли из Гётеборга. – Я имею в виду, до настоящей прибыли еще далеко. Рисунки Буше – мелочь, едва хватит покрыть расходы. Нам нужно выждать время. Почему бы тебе не использовать передышку и не взяться за перо?.. Я бы на твоем месте так и сделал.
Дружелюбное замечание Хамрелля попало в больное место.
– Такой парень, как ты, не должен бездельничать. У тебя есть талант, образование, идеи. А ты чем занят? Ноешь о деградации современного общества, жалуешься на судьбу и завидуешь успехам коллег.
Иоаким решил доказать, что это не так. Как-то в феврале он сел за компьютер и написал статью о порнографии и эстетике, и ему удалось, правда с определенными трудностями, продать ее в академический журнал OEI. В основу статьи легли его энциклопедические знания интернетовских порносайтов. Далее следовала разветвленная цепь рассуждений о ничем не ограниченной доступности порнографии и о том, как эта доступность изменила представление о человеческом теле. Статья вызвала довольно большой интерес. Ему позвонили из другой газеты, а несколько известных шведских интеллектуалов прислали ему мейлы с пожеланиями удачи в дальнейшей работе. Редактор «Свенска дагбладет» поинтересовался, нет ли у него материала для рубрики «Под чертой», тему он может выбрать сам, «хотя желательно с эротическим уклоном». Но Иоаким вдруг понял, что утонченная культурная дискуссия его вовсе не интересует, поэтому отказался и поделился своими сомнениями с Хамреллем.
– Слушай, у меня есть приятель в глянцевом журнале «Кинг», – сказал тот. – Поглядим, что я смогу сделать.
И уже через пару недель Иоаким летел утренним рейсом в Эстерсунд, получив от журнала заказ на репортаж о времяпрепровождении шведской элиты в Оре. За этим последовало предложение от той же газеты взять интервью у восходящей звезды автоспорта, дать серию репортажей с альтернативного кинофестиваля и написать ироническую хронику об актере Торстене Флинке, бунтаре и аутсайдере. Меньше чем за полгода он опубликовал больше статей, чем за всю свою карьеру в качестве фрилансера.
– Пошло дело, – сказал Хамрелль, прочитав первую статью Иоакима о причудах шведских знаменитостей в шикарных ресторанах Оре, – ты пишешь о них как о ничтожествах. Тумас Бролин, Эрнст Бильгрен[121] и как там их еще. Правильно ты говоришь, эти прохвосты уверены, что все можно купить за деньги. Это уже не хрен собачий – ты критикуешь общество!
Карстен прямо светился чуть ли не отцовской гордостью. Он тут же купил несколько экземпляров журнала и подарил знакомым. Но самое удивительное, что он осилил весьма и весьма туманную статью из академического журнала, и она ему очень понравилась. Они вели долгие ночные разговоры, отвлекаясь от главного плана – реализации наследства Виктора.
– Это ты правильно – насчет подлинного и фальшивого. И точно, наше время – сплошной плагиат. Тела копируют, идеи воруют, музыку не сочиняют, а составляют, – сказал он, жуя свою неизменную антиникотиновую жвачку, – хотя знаешь, я не нашел слово «гиполаз» ни в одном словаре. Но ты прав! Возьми хоть мою отрасль: ни одной девчонки с настоящей, не силиконовой, грудью уже не найдешь. Ни у кого уже без виагры не стоит, талии тонкие – жир отсосали, губки пухлые – тоже накачали силиконом. Так она и выглядит, современность: сплошная подделка. Твой папаша опередил свое время.
Эти слова вызвали у Иоакима некоторое постмодернистское огорчение, главным образом потому, что он в своих текстах только и занимался компиляцией, не приводя источников и как бы притворяясь, что все это он придумал сам… «Произведение искусства – такой же продукт производства, как и любой другой, но созданный кем-то, действующим по заданию той или иной организации. Ему предназначен статус кандидата на восторженный прием». Эти слова он просто-напросто перевел с английского, обнаружив в Сети довольно заумный текст философа Артура Данто, сочиненный им по поводу порнографического полотна Джефа Куна, где автор изображен с Чиччолиной[122]. «Искусством можно назвать все что угодно, если его примет мир, называющий себя миром искусства. Отрасль предлагает своего рода страховку, к которой аппелирует художник, выставляя новое произведение. Все что угодно может стать произведением искусства, если к этому располагает ситуация или существует соответствующая теория». И наоборот, добавил он уже от себя, но в том же тяжеловесном, притворяющемся глубокомысленном стиле: «Ничто не является произведением искусства, пока не возникнет интерпретация, утверждающая его как таковое».
Чтобы выглядеть более начитанным, а главное, избежать риска быть схваченным за руку, он щедро снабдил курсивом и обширными ссылками такие понятия Фуко, как авторская функция или эпистема, упомянул постгегельянскую феноменологию духа времени и с помощью пары замысловатых метафор попытался доказать, что автор произведения «в эстетико-порнографическом дискурсе имеет лишь символическую ценность», а в искусстве вообще неприменимы категории подделки и подлинника. В следующей статье в тысячу с лишним знаков он забрался совсем уж в гибельные выси, сравнив фальсификацию искусства с beatsampling, плагиаторским тиражированием ритма в компьютерной попсе, но сумел при этом выдержать такую сверхнаучную витиеватость, что порядочный читатель, уверенный, что имеет дело с не менее порядочным писателем, все это проглотил.
Вот такой я и есть, думал Иоаким, садясь на пассажирское сиденье прокатного джипа. Таким я был и таким останусь, горько усмехнулся он и бросил жадный взгляд на фотографию Лины в бикини, которую Карстен успел прилепить скотчем на панели. Вот, еду в город обделывать темные делишки… сын обманщика, сам обманщик… а почему бы мне и не быть обманщиком? Вся моя жизнь – сплошной обман, и вот, пожалуйста, логическое завершение: двусмысленные статейки и торговля фальшивками…
В свадебных апартаментах «Гранд-отеля» штучный паркет был застелен персидским ковром. Чудовищных размеров кровать «DUX», за окном – солнечная рябь Балтийского моря. На шестидесяти пяти квадратных метрах со вкусом расставлена французская мебель. Ковер мягко спружинил под ногами Иоакима Кунцельманна, когда он нервно переменил положение в кожаном кресле со следами ногтей Сесилии Хаммар – невероятно, но именно в этом самом номере они провели ночь любви… восемнадцать долгих месяцев тому назад. Ну и что, с этим можно жить, даже испытывать некое мазохистское удовольствие, но все остальное… Из коридора послышалось погромыхивание сервировочного столика, нагруженного серебром, японским фарфором, закусками и винтажными винами. Приятна, черт возьми, вся эта миллионерская атмосфера… даже воздух какой-то другой. Классическая музыка из спрятанных где-то на пятом этаже самого дорогого отеля в городе динамиков придавала его воспоминаниям о прежних победах какой-то нелепо романтический колорит. Но все эти воспоминания мигом поблекли при виде некоей фигуры из гангстерского фильма, фигуры человека, только что переступившего порог и пожимающего руку Карстену Хамреллю. Мало того, Иоаким засомневался в своем душевном здоровье. Первое попавшееся объяснение заключалось в странной мысли, что скверная карма порождает еще более скверную карму, причем не в арифметической, а в геометрической прогрессии – материализовавшийся в номере человек был именно тем, кого он меньше всего хотел бы видеть.
Это был Сергей, в своем мятом костюме от Хьюго Босс и замшевых мокасинах. Невероятно, просто невероятно – тот самый тип, которого он год назад видел в обществе Сесилии Хаммар в самолете из Висбю в Бромму. Конечно же его звали не Сергеем. Имя Сергей было просто порождением больной кунцельманновской фантазии. На самом деле это был Эмир, старый подельник Хамрелля, тот самый, который собирался выложить миллион за картину Виктора Кунцельманна. Иоаким лихорадочно размышлял, что бы это могло значить в высшем… даже не просто в высшем, а в самом высшем, сверхъестественно высоком смысле.
– Здорово, Эмир! – бодро прорычал Хамрелль и достал из мини-бара сувенирную бутылочку шампанского. – Или пива?
– Не надо, – сказал Эмир совершенно без ожидаемого Иоакимом пригородного акцента. – Я сегодня сам за рулем. Мой шофер взял отпуск… небольшой инцидент с малокалиберным пистолетом…
Это прямо забавно – бандит с первых слов! Тут же намеки на оружие, насилие… Снова возникла ассоциация с гангстерским фильмом – в реальной жизни такие люди не встречаются.
– Давай прямо к делу, – заявил этот кино-Эмир с интонацией, почерпнутой из малобюджетного кино. – Где у вас картина?
– Сначала познакомься с моим другом, – сказал Хамрелль, отодвигая бутылку. – Вон тот, в кресле. Это Йонни. Собственно, это он и продает картину, или, как бы это половчее назвать… он главный посредник. Я-то так, сбоку припеку, просто помогаю ему малость.
Субьект с бычьей шеей, Сергей-Эмир, взял курс к креслу. Больше всего он напоминал русский танк времен зимней войны в Финляндии. Гость был слегка возбужден, как только что принявший дозу наркоман.
– Вот оно что, – сказал он. – Тогда расскажи всю историю еще раз. Карстен только прошелся по поверхности – по телефону все не расскажешь…
Пути к отступлению отрезаны. Теперь только придерживаться сценария и не раздражать режиссера.
– Мой приятель хочет от этой картинки избавиться, и я ему предложил…
– Картина краденая, не так ли? В Гётеборге, или что ты там говорил, Хамрелль? Я позвонил по тому номеру на визитке, и некто по имени Эрланд попросил оставить сообщение после сигнала, а еще там какую-то классику играли… ненавижу классическую музыку! А скажи-ка, Йонни, почему бы твоему приятелю самому не прийти и не объяснить, как к нему попала картина?
– Он хотел бы лечь на дно, пока все не утрясется, – сказал Хамрелль спокойно, открыл мини-бар и достал себе апельсиновый сок. – Кончай базар, Эмир… Либо ты мне доверяешь… мне и моему компаньону, либо нет. Если нет, садись, выпей что-нибудь, поговорим о твоих лошадях и последних новостях с Сульваллы и расстанемся друзьями.
В этой напоминающей дешевый фильм ситуации слова Хамрелля, как ни странно, прозвучали вполне достоверно. Невидимый режиссер дергал за ниточки, и они убедительно воспроизводили слова, в любом другом окружении показавшиеся бы попросту немыслимыми. А вот сценаристу делать было больше нечего. Волшебная алхимия искусства позволила превратить этот дикий диалог в нечто вполне реальное, в законченное событие, которое никому бы и в голову не пришло подвергать сомнению. Именно над такого рода сценариями Иоаким с удовольствием издевался в бытность свою студентом киноинститута.
– Покажите наконец, что у вас там, – сказал Эмир-Сергей, ставший заметно более покладистым. – А курить-то здесь можно? Или запрет на курение распространяется и на «Гранд-отель»? Я хочу сказать, здесь же уже почти не шведская территория. Международная, так сказать…
– Мы были бы очень благодарны, если бы ты воздержался от курения, – сказал Хамрелль совершенно непринужденно. – Могу предложить антиникотиновую жвачку.
На журнальном столике (от «Мио», так себе столик, разочарованно отметил про себя Иоаким, дизайнер пожадничал на реквизите; странно, потому что все остальное было класса Стенли Кубрика) – на этом так себе столике Хамрелль распаковал украденную картину Кройера.
– Как видишь, даже лейбл галереи сохранился, – спокойно произнес он, прислоняя картину к столику так, чтобы дневной свет как можно лучше освещал мазки Виктора Кунцельманна. – И два экслибриса предыдущих владельцев. Я не большой специалист, Эмир, но мне кажется, картина классная. Были бы у меня бабки, я бы тоже за нее поторговался.
По берегу в Скагене прогуливается женщина с маленькой собачкой. Зритель смотрит на нее с расстояния метров в десять. На женщине белое платье, в руке – зонтик, тоже белый, по-видимому атласный. Если смотреть на картину как на подлинник Педера Северина Кройера, написанный сто лет назад, можно, конечно, обвинить художника в китче, но, когда речь идет о подлиннике, эстетические резоны отходят на второй план.
– Слушай, это замечательно, – сказал Эмир, похоже, совершенно серьезно. – Я обожаю эту старую манеру. Охереть, какие были мастера! Как его? Крюгер? Современное искусство не для меня. Ты когда-нибудь был в музее современного искусства, Хамрелль? А я был. Ни хрена не понял.
Сценарий немного пробуксовывал, несмотря на сенсационно органичную игру Эмира. Следовало бы поработать с наложением звука, чтобы в звукоряде слышалось нечленораздельное бормотание Иоакима… Интересно, а каскадер предусмотрен? Почему-то Иоакиму представилась получасовая автомобильная погоня по городу.
– И что вы за нее хотите?
– Миллион наличными, – произнес рот Иоакима Кунцельманна, к удивлению его же мозга, и даже голосовые связки не подвели.
– И откуда мне знать, подлинник это или подделка?
– Доверяй интуиции, – сказал Карстен. – Похож я на человека, который может надуть старого друга?
– Слушай, я тебя узнал, – так же независимо от сознания произнесли губы Кунцельманна. – Мне кажется, мы летели год назад одним самолетом из Висбю. С тобой была красивая женщина…
Настроение резко переменилось. Нервный удар альтов из музыки к фильму ужасов. Эмир, несомненно, был отъявленным психопатом, потому что тон его сразу сделался угрожающим.
– И что ты хочешь этим сказать? У тебя что, проблемы?
– Расслабься, Эмир, не нервируй мальчика…
Неизвестно, возымели бы действие резоны Хамрелля, но Иоакима спасла хлопушка к сцене номер пятьдесят девять – запищал мобильник Хамрелля.
– Ну, что скажешь, Эмир? Хочешь подумать еще недельку? Поспрошай народ. Попытайся найти оценщика… Или позвони этому галеристу в Гётеборг. Не называй себя, спроси просто – была ли у них кража, что украли… может быть, Кройера?
Какие у этого типа могут быть отношения с Сесилией Хаммар? Как это вообще укладывается в теорию материаловедения? Вот тут-то главному герою и могла бы помочь техника озвучания – от едва слышного тремоло ударных в начале до визгливого крещендо струнных…
Эмир наконец соблаговолил взять предложенную антиникотиновую жвачку, и, кажется, остался доволен. Тут камера сделала неожиданную круговую панораму а-ля Спилберг, завершив ее порнографическим наездом на расстегнутую ширинку Эмира.
– Шикарный номер, Хамрелль, – сказал обладатель расстегнутого гульфика, – ты что, снял его ради меня?
– Есть и другие – не только ты интересуешься… Народ вообще-то в очередь становится, чтобы глянуть на нашу редкость. Все-таки дело не мелкое, и обстановка должна соответствовать… Скажи, ведь неплохо? Пожевал – и курить уже не хочется.
– Хорошо, хорошо…
Здесь наметилась боковая ветвь сценария. Нарративные реминисценции, связывающие хронологически несоединимые сцены… Вот, например, главный герой Кунцельманн дрожит, как бы его не навестила полиция, да как бы не СЭПО (короткий общий план главной конторы полиции безопасности на Полхемсгатан) – конечно же его разыскивают из-за невольного взлома компьютера, совершенного им в состоянии аффекта год назад. Быстрая смена кадра – рука с обкусанными ногтями набирает номер глянцевого журнала… Этот слизняк, главный герой, понимает зритель, не видел главную героиню после того разговора в «Рише» прошлой осенью (следуют сюрреалистические, в духе Кассаветеса[123], кадры воспоминаний, съемки с рук, сделанные псевдопрофессионалом Кунцельманном). Но из заслуживающих доверия источников главный герой знает о своей избраннице многое, например, что она все еще крутит любовь с женой этого оборонщика, что Саския, судя по всему, переехала к Сесилии жить, но в старой квартире, у подлинного Сергея, она тоже бывает, чтобы не травмировать детей.
Что касается Иоакима, он, к своему удивлению, начал постепенно забывать Сесилию и, в соответствии с сексуальным диктатом, уже подумывал, не закрутить ли с кем-нибудь еще (например, с Линой). С тех пор как он связался с Хамреллем, он почувствовал странную свободу. Старая рана болела все меньше, горечь и грусть перебродили и обратились в компост, и он уже всерьез приглядывал заместительницу неверной Сесилии. Сесилия дала понять, что презирает его, что не хочет его больше видеть, особенно после того, как он незадолго до Рождества покаялся ей в своем компьютерном шпионаже – понял, что шнурок затягивается все туже и лучше всего взять быка за рога и во всем признаться. Надо заметить, что Сесилия, несмотря на гнев, помогла ему совершенно по-дружески: она мягко разъяснила все Саскии и ее мужу и таким образом предотвратила вмешательство полиции. Но вот при чем тут был Эмир, он понять не мог… А может быть, сценарист влепил этот поворот сюжета, почувствовав, что вся история движется на холостом ходу.
Через несколько медлительных, в духе Эрика Ромера[124], монтажных стыков внезапно возник крупный план Иоаким а Кунцельманна, с недоверчивой миной открывающего атташе-кейс с миллионом крон. Замок открылся со щелчком и даже произвел небольшое эхо, но этот эффект, скорее всего, достигнут последующим озвучанием. До чего же смешно! Дипломат, набитый киношными деньгами! Вот он закрывает кейс и передает его своему напарнику Карстену Хамреллю…
В следующей сцене сценарист несколько увлекся, предложив зрителю небольшой диспут на тему, может ли антиникотиновая жвачка избавить заядлого курильщика от вредной привычки.
– Хочешь – верь, не хочешь – не верь, – сказал Хамрелль, – через неделю я завязал. Возьми эту упаковку, у меня всегда есть две-три штуки в запасе.
– На вкус вполне… Просто невероятно! Помнишь лакричные леденцы, Карстен? Сейчас уже таких нет… А с другим вкусом бывают?
– Лимон… но вкус лимона быстрее исчезает.
– А ты что уставился? – В голосе Эмиля вновь послышалась плохо скрытая злость неизлечимого психопата. Он обращался к Иоакиму. – Ты получил свои бабки, я получил свою картину.
– Я почему-то все время вспоминаю эту красивую женщину в самолете. Это твоя жена?
– Это для нее я купил картину. – Эмир смягчился так же быстро, как и завелся. – Я ее обожаю. Вот это женщина! Беда только в том, что она занята. И знаешь, с кем она? С бабой! Лесбиянка… разве это не прекрасно?
По пути к машине Иоаким думал, как легко нарушить мировой порядок. Пока Карстен Хамрелль небрежным, предусмотренным сценарием жестом открывал багажник и засовывал туда кейс с киношными – не может быть, чтобы настоящими! – деньгами, голос диктора воспроизводил тираду бандюги Эмира, все, что он болтал перед тем, как исчезнуть… а может, и не исчезнуть вовсе, а так, освободить кадр, чтобы возникнуть в предстоящей сцене автомобильной погони – что только не придет в голову фабрикантам грез! Оказывается, Эмир встретил Сесилию случайно в ресторане в Висбю – она приехала туда делать репортаж о суперремонте бревенчатого дома, который почему-то был признан культурным наследием. Он рассказал, как подкатывался к ней и получил отлуп, как пытался найти ее, как постепенно сообразил, что она интересуется женщинами, но объяснил себе такое заблуждение исключительно тем, что она до сих пор не повстречала настоящего мужчину, и продолжил осаду. А когда Эмир понял, что она неравнодушна к роскоши, настал час потрясти мошной. И эта краденая картина появилась как по заказу. Как думаете, сойдет как неофициальный утренний подарок?[125] И он вовсе не боится, что она пойдет в полицию, пусть идет – он позаботится наворотить такую цепь перепродаж, что никто и не усомнится, что он понятия не имел, что картина краденая. А если она откажется от его «Крюгера», он повесит ее в своем офисе над элитным фитнес-клубом на Эстермальме, и пусть подельники лопаются от зависти. А что касается Сесилии, рано или поздно он ее добьется; самое трудное, понимаешь, заставить еврейку конвертироваться в православие.
Голос рассказчика постепенно затих. Они выехали на магистраль. Лейтмотив фильма («Лас-Вегас» в исполнении Мартина Стенмарка) заполнял салон машины. От асфальта шел пар. Маленькие рваные облачка плыли к морю. Замечательная сцена, особенно если удастся передать этот дрожащий в полуденном зное воздух… пока все хорошо, но кульминация фильма еще впереди.
Карьера Карстена Хамрелля в индустрии удовольствий началась, когда ему было семнадцать – он стал менеджером панк-группы из южных пригородов Стокгольма. Конец семидесятых – наискучнейшая эпоха шведского социал-демократического государственного строительства. Тогда, чтобы напугать сограждан, достаточно было воткнуть в ухо английскую булавку.
– Все делала внешность, – объяснил он своему новому деловому партнеру Иоакиму Кунцельманну. – Музыка была жуткой: три нестройных аккорда в диком темпе, самое большее – две минуты, потом пошел следующий лот в том же темпе и в той же тональности. О текстах я и не говорю… какая разница, лишь бы ниже пояса. И еще я придумал ход, как пощекотать публике нервы: я запретил им мыться! На пике успеха это был закон! В нашем мини-автобусе стоял такой дух, что нормальный человек терял сознание, – только представь себе эту банду лишенных элементарного музыкального слуха бомжей на гастролях! И как только мы приезжали в какую-нибудь деревню, вроде Крюльбу или Хедемуры, тут же находились желающие задать трепку врагам общества номер один.
Хамрелль много чего повидал. В Смюгехуке, к северу от Хапаранды, они подверглись самой настоящей осаде. Потом были бесконечные драки, его выбросили из отеля на двадцатиградусный январский мороз – портье опасался, что возмущенные местные парни разнесут отель вдребезги. Он делал массаж сердца, реанимируя девчонок-подростков, наглотавшихся амфетамина или напившихся самогона до потери сознания, а то и просто совершенно ослабевших от анорексии, со странным хобби резать бритвой вены на руках… Они приходили на концерты в обществе парней с неизменными зелеными ирокезами на головах. Дважды он привозил контрабандой толстенные лепешки хаша из Дании, чтобы сделаться незаменимым для людей, которые в его услугах вовсе не нуждались… но все его конфликты с правосудием ограничивались парой случаев вождения машины без прав.
Эти странные занятия помогли ему, как ни удивительно, в карьере – он перезнакомился с огромным количеством людей. Без всякого труда он получил работу A&R[126] в независимой студии, занимающейся экспериментальной музыкой новой волны. С годами у него выработался непогрешимый инстинкт – что именно нужно здесь и сейчас. Семидесятые сменились коммерческим глянцем восьмидесятых. Звукозапись по-прежнему оставалась отраслью, приносившей огромные доходы, техника совершенствовалась, все новые аналоговые технологии мгновенно шли в дело. Появились уже и синтезаторы, заменившие дорогущие духовые и струнные инструменты, но никто еще слыхом не слыхивал про «BitTorrent» или «Pirate Bay»[127]. После скандала («в то время был железный занавес между снобами семидесятых, которые слышать не хотели о коммерции, и молодежью – те скумекали, что можно сколотить приличные бабки, не выходя из-за письменного стола») – после возникшего на этой почве скандала Хамрелль ушел из студии и с неким импресарио из Сконе основал музыкальное издательство. И за пару лет заработал неплохие деньги на скейт– и техно-музыке. Когда в конце восьмидесятых произошла цифровая революция, он был одним из первых, кто осознал, что отрасль вот-вот окочурится, продал свою долю в издательстве и год отдыхал в Колумбии. Правда, из всего этого отпуска Хамрелль смутно припоминал только приезд и отъезд, поскольку весь год прожил на довольно своеобразной диете, состоящей из рома и кокаина.
Тем не менее, несмотря на рассеянный образ жизни, он успел прижить ребенка с женщиной из Медельина. Она до сих пор посылала ему к Рождеству фотографии, где она стоит рядом с растущим наследником на фоне дома, купленного на деньги, регулярно присылаемые Хамреллем через «Вестерн Юнион».
– Его зовут Фиделем, в честь кубинского диктатора, – объяснил Карстен, выуживая из кармана пиджака поцарапанную фотографию мальчика с легко угадываемыми индейскими чертами, – да еще Симон Боливар! Фидель Симон Боливар! Мама – истовая коммунистка, поет в сальса-оркестре. Я мальчонку не видел ни разу. Ему скоро семнадцать, очень способный, мечтает поехать на Кубу учиться на врача.
Проведя год в Южной Америке, год, не отягощенный какой-либо личной ответственностью за свои действия, он оставил свою даму с ребенком и вернулся в Стокгольм.
– Я разжирел, подсел на кокаин, и к тому же у меня началась паранойя. В Арланде у меня даже начались галлюцинации… кайф выходил… десятидневный кайф нон-стоп. Сел в такси и поехал к наркологам.
Через два месяца, похудев на пятнадцать килограммов, Хамрелль дебютировал в рекламе. Через знакомых ему удалось зацепиться в одном из самых крупных рекламных бюро, и очень скоро, не прилагая никаких усилий, он стал художественным руководителем. Это было время, когда классическая максима МакЛюэна[128] «коммуникация есть сообщение» стала в Швеции реальностью и работать в рекламе стало, как сказал Хамрелль, «хиппово». Благодаря своей неистребимой жизнерадостности и веселому панибратству, он уже через две недели был на «ты» со всеми более или менее значительными фигурами. Девяностые без рекламы – как торт без крема, заявил Хамрелль.
Несколько лет он впаривал всевозможные сомнительные товары доверчивому шведскому потребителю.
– Диетическая кола, игрушки, сигареты… любой бренд, было бы за что зацепиться. «Найке» мы помогли прищучить всех конкурентов. А потом мне надоело… знаешь, утром встал и понял: надоело, – объяснил Хамрелль. – Ты даже не представляешь, какая дикая скучища договариваться, скажем, с «Арлой», как лучше всучить потребителю новый йогурт с добавками. Что бы ты ни предлагал, они морщат нос, а потом вдруг предлагают попробовать идею, пришедшую в голову им самим во время летнего отпуска, причем не просто предлагают, а настаивают. К счастью, меня спас банковский кризис. Все дерьмо провалилось в канализацию, а с ним вместе и вполне приличные продукты. Денег в отрасли просто-напросто не осталось. Почти два года прошло, прежде чем что-то начало шевелиться… и где? В самом вонючем болоте – медийном. Телевизионщикам нужны были дешевые рейтинги, неважно что и как, лишь бы собрать публику. Так и родилось документальное мыло. – Хамрелль брезгливо ухмыльнулся. – Дешевле в развлекательной отрасли ничего не найдешь. Эти идиоты, помешанные на знаменитостях, выставляют себя напоказ совершенно бесплатно.
Этот новый жанр чем-то его привлекал, но не как профессионального рекламщика, а как менеджера изнывающих от желания быть знаменитыми юнцов. Вместе с еще одним бывшим журналистом «Стрикс-ТВ» он организовал агентуру по найму доселе неизвестных эксгибиционистов.
– Половина народа, которых ты видел в «Баре» и «Вилле Медуза»[129] в начале девяностых, прошли через мои руки. Я их создал, я учредил для них лабораторию в стиле кабинета доктора Калигари[130], а потом продавал как рабов – на ТВ-3 или посредникам вроде Андерса Сервина… А компаньон мой еще и драл процент с их доходов, когда они начали разъезжать по стране и показывать фотографам голые жопы. Скандал за скандалом. Наш главный конкурент был Микаель Блинкеншерна, типчик, который воровал все мои идеи, но реализовал их с еще большим цинизмом…
Со временем Хамрелль познакомился с огромным количеством людей, от Андерса Сервина и Анны Брекеньельм до медиамогула Яна Стенбека, с которым он как-то обедал в шикарном ресторане в Старом городе. По его мнению, мультимиллиардер злоупотреблял едой.
– Янне жрал, как танк, – сказал Хамрелль. – Никогда такого не видел… Мужик мог целого быка умять.
Что в рассказах Хамрелля было правдой, а что нет, Иоаким, естественно, определить не мог. Но что касается злоупотреблений самого Хамрелля, у него не было ни малейших сомнений. Хамрелль утверждал, что все девяностые годы он ежедневно пил не меньше трех литров красного вина, пока наконец тогдашняя подружка не заставила его обратиться за помощью в общество анонимных алкоголиков. Теперь, как он утверждал, все в прошлом, за исключением никотина, да и то в виде жвачки.
Забавно, что именно в связи с переходом на трезвый образ жизни он и угодил в порноиндустрию.
– Я туда вляпался случайно, осенью 2001 года, хотя шаг от реалити-шоу невелик. Еще когда я работал в рекламе, мы из года в год делали фотосессии для больших магазинов одежды. Модели приходят и уходят. Красивые девушки, жадные до денег. Отличные фотографии, а результат – так себе. И мужские модели, и женские… Не поймешь, высшие создания, не для нашего мира. К тому же я до смерти устал от политкорректности… от ханжества, вернее сказать. Официально женщина на фотографии не должна выглядеть как секс-объект, и в то же время не просто должна, а обязана, потому что любой мало-мальски честный анализ рынка во всем мире показывает, что мужчины именно на секс и клюют. Другое дело – реалити-шоу. Никто не сказал ни слова, никто не обвинял, что мы продаем секс и голые тела. А девок-эксгибиционисток хоть лопатой греби, все же мечтают стать моделью… И что с ними делать? Не всем же быть Эммой Виклунд[131]… И что, бросить их в беде? Издеваться над ними, потому что они ищут внимания в мире, где, если не выставляешь себя напоказ, ты просто не существуешь? А я дал им шанс! Я снимал их на пробах к десятку реалити-шоу. Потом снимал тех, кого не взяли, – им так нужно было внимание и утешение. Кто-то из девочек рвался больше других, некоторые были в отчаянии, и я, каюсь, извлекал из этого выгоду. Я просил их раздеться – трезво и цинично. Ох как охотно они на это шли! Раздвиньте ноги, говорил я им, и глазом не успевал моргнуть – пожалуйста, хоть с лупой. Куда легче, чем я ожидал. Заметь, Иоаким, мы говорим о красавицах… и у многих голова на плечах… почти у всех, если не считать малопонятной страсти, чтобы их узнавали в очереди в «Стурекомпаниет»[132]. Я снимал, снимал… красивые, сексуальные, честные снимки. Да пошли вы, послал я всех политкорректных мудаков подальше, и двинул прямо в мужской журнал «Слитц». Потрясающе, сказал редактор. Замечательно! Главное, возбуждает. Присылай счет, сколько ты за них хочешь. Снимки идут в следующий номер. И так пошло – «Слитц» купил картинки, «Мур» купил картинки… Бинго Ример при встрече назвал меня гением… и в один прекрасный день мне позвонили… у них, видите ли, заболел фотограф, не мог бы я его заменить? А почему нет? Почему я должен по этому поводу комплексовать и угрызаться? Почему я должен придерживаться какой-то морали, когда все остальные плевать на нее хотели? Ты понимаешь, когда я завязал с алкоголем, мир вокруг словно промыли из брандспойта. Нигде никакой морали нет. Принцип капитализма прост, как репа, – дать людям то, что им хочется…
Пространные монологи Хамрелля звучали как программа современной Швеции. Иоаким вспоминал себя. Девяностые годы начались с всеобщей легкой иронии, которую постепенно заменила тоска по подлинности, вылившаяся в странное желание выставить все личное напоказ. Это было десятилетие, когда всевозможные идиоты получили разрешение открыто демонстрировать свою ошеломляющую безмозглость в вечерней прессе, время инфантильных войн между «Оазисом» и «Блюр»[133]… А чего стоили кулинарные программы? Эта так называемая кроссовер-кухня, где одуревшие от наркоты повара испытывали терпение зрителей такими блюдами, как обжаренный в шампанском сюрстрёминг[134] или земляничный пирог с квашеной капустой… Это было десятилетие интимной журналистики и интимной литературы… десятилетие, породившее таких людей, как Голый Янне, привлекавший медийное внимание регулярным показом собственного детородного органа в бесконечных телешоу, а те и рады – и очень хорошо, пусть демонстрирует… Десятилетие до предела коммерциализированной гибели принцессы Дианы, «Криминального чтива», ужастиков и сверхнасилия (пока датская «догма» не поставила точку)… Десятилетие шикарных иностранных слов, виртуальной реальности, которая так и не состоялась – вместо нее появились реалити-шоу. Десятилетие, когда обычные фотомодели становились мировыми знаменитостями, а количество силиконовых бюстов росло и росло. Десятилетие старилось вместе с женщинами, которые стариться не хотели – молодость и внешний вид стали означать все. Ретро семидесятых, порнозвезды, прозак[135], «Спайс герлз», нелепое определение «поколение Икс»… уж с ним-то Иоаким себя, по крайней мере, не идентифицировал. Это было десятилетие, когда исчезла последняя связь между понятиями «известность» и «талант», когда телевидение и вечерние газеты вошли в людоедское пике лжи и сплетен, а некий Иоаким Кунцельманн продолжал свой путь на личную голгофу, обозначенный такими вехами, как лопнувший пузырь информационных технологий, обесценивший его акции, и постоянно растущее потребление порно в Интернете.
А произошло вот что: история жизни Хамрелля, которую тот каждый раз украшал новыми деталями, побудила Иоакима проанализировать эпоху, превратившую его в лузера космических масштабов. В конце сентября, через два месяца после того, как им удалось продать еще одну картину Кройера двоюродному брату Эмира, он уехал на Готланд, чтобы присмотреть за затеянным им шикарным ремонтом, а заодно и попытаться написать эссе. Начал он с констатации факта, что причиной сегодняшней ситуации является либерализация эфира в конце восьмидесятых. Как только плотина по приказу политиков открылась, страну затопил невиданный доселе информационный поток. Все эти тысячи и тысячи часов эфирного времени (не говоря уж об Интернете, по воле случая появившемся в то же время) надо было чем-то заполнять. И не просто заполнять, а придать такой формат, чтобы привлечь публику, а самое главное – рекламные деньги. Так началась смертельная спираль. Ничего святого не осталось. Ничего личного не осталось. Требовались громогласный интим и провоцирующая чувственность. В этом извержении медиавулкана для вкуса и стиля не было места. Остались только гигантское эксгибиционистское идиотопоклонство, клонированные мнения и распадающаяся этика – полная, если не окончательная дегенерация мира.
Короче говоря, писал Иоаким, человечество получило то, что заслужило. Средства массовой информации торжествовали победу, но в победе этой не было содержания, вернее, содержание было настолько бессмысленно, что плоды этой победы тут же уходили в песок. Кто хочет остаться в стороне, исчезает. Кого не видно, не существует. Кто протестует, того не слышат, или он превращается в посмешище – старомодный моралист. Побеждает худший. Короче говоря – в человеке торжествует фашист.
Хорошая статья, похвалил он себя. Эпоха разбитых надежд внезапно нашла словесное выражение на дисплее его компьютера. Он словно бы чувствовал себя поумневшим… но когда эссе было готово, он вдруг расхотел отсылать его для публикации.
Иоаким вышел в сад. Многонациональная бригада нелегалов из всевозможных прибалтийских стран занималась ремонтом каменного сарая, превращая в его в дом развлечений и SPA. Стоял дивный осенний день. Воздух пах морем, мягкий абрикосовый свет солнца ласкал поздние мальвы, с поэтической грустью цветущие вдоль фасада. В его мобильнике дожидались своего часа три неотвеченных сообщения из глянцевого журнала «Кинг» с заказами на новые статьи – но им был нужен не мизантропический анализ шведской современности, а интервью с поп-звездой Хоканом Хельстрёмом («очень интимное, заставьте его расслабиться и рассказать о своей личной жизни») или поездка в Нью-Йорк, где МоМА[136] проводил выставку, посвященную мужской моде в искусстве. Ни одно из этих предложений не привлекало. Иоаким хотел передохнуть. Он считал, что заработал этот отдых. После стольких лет непрерывных фиаско жизнь, кажется, налаживается.
Двое пожилых, в глубоких морщинах, рабочих сгружали с пикапа с латвийскими номерами неровные плиты знаменитого судетского известняка, предназначенного стать полом в новом элитарном сарае Иоакима. Назавтра он ждал партию безумно дорогого кафеля из Испании. Мини-сауна от «Тулё» и настоящее калифорнийское джакузи (модель J-400, со встроенным терминалом для айпода) дожидались очереди быть установленными в новом SPA. Элегантность и роскошь новых приобретений, их качество и цена внушали ему терапевтический покой. Он мог себе это позволить. Он снова на коне – и зачем в таком случае напрягаться?
Он начал обход стройки. Рабочие крепили на потолке гостиной специально сконструированную световую рампу. В пластиковой упаковке с сохранившимися таможенными наклейками лежал новый итальянский фаянс для ванной. Во вновь надстроенной мансарде навешивали двери. Винный штатив от Алесси разместился в алькове – тоже новая пристройка. Двое донельзя мрачных мужиков из восточного блока занимались кладкой камина, перед полутораметровой пастью которого Иоаким рассчитывал проводить долгие осенние вечера с книгой или с любовницей.
После продажи второго полотна Кройера денег у него было более чем достаточно. Он распределил их по разным счетам, чтобы не вызывать подозрений налогового управления. Выигрыш на бегах – так это называлось, бумаги все были в порядке, правда, за них пришлось отдать двадцать процентов искушенным в отмывании денег уголовникам. Самое главное – вновь появилась уверенность в своей финансовой состоятельности. Он даже решился поместить кое-что в биржевые фонды, и дела там шли сверх всяких ожиданий. Например, китайский фонд, куда он поместил сто пятьдесят тысяч, вырос за два месяца на тридцать семь процентов. Новоявленный фонд Пенсера, куда он на всякий случай перевел деньги со счета в Дании, шел почти так же. Его жульнически заработанные деньги росли не менее жульнически, но это его мало беспокоило.
– Индусы – большие доки по части технологий, – разъяснил ему советник в Шведском Отдельном банке, размахивая проспектами и диаграммами. Разговор занял все утро, клерк не экономил время на клиентах с хорошими доходами.
Иоаким послушался совета – и что же? Бомбейская биржа показывала ежемесячный прирост в десять процентов.
Он обменялся несколькими словами с десятником. Все шло по плану и в полном соответствии с чертежами: еще неделя – и ремонт закончен. Мимо проехал на велосипеде сосед Сюнессон, даже не взглянув в его сторону – они не обменялись ни словом с того момента, когда тот совершил свой малоудачный полет с лестницы.
Он вернулся в дом, достал из холодильника бутылочку «Короны» и поднялся наверх. В комнате для прислуги, где он когда-то играл слесаря-сантехника в фильме Хамрелля, положили новый пол из шлифованной сосновой доски. Разводка электричества уже была закончена, мебель, выбранная дизайнером по интерьерам, завезена. С бутылкой в руке Иоаким продолжил обход. В его старой спальне лежал ковер от «Нессим», импульсивно купленный по пути из «Опера-бара» в «Бернс». Из окна был виден след экскаватора – прокладывали трубы к его новому трехкамерному колодцу… на тумбочке лежало карманное зеркальце, а на зеркальце – маленькое вознаграждение человеку, который так много страдал, но теперь искупил все свои преступления: две дорожки приносящего счастье порошка растения под названием «кока». Иоаким собирался доставить себе это удовольствие после ухода рабочих, просто потому, что у него было желание, а теперь и возможность. Но погода была настолько чудесной, что он решил не откладывать.
Он лег на постель, втянул носом порошок и стал ожидать эффекта. Карстен Хамрелль не одобрял его пристрастия к кокаину. Он считал Иоакима наркоманом, хотя и не в последней стадии, но все же наркоманом, и постоянно советовал ему обратиться в общество анонимных алкоголиков.
– Двенадцатиступенчатая программа. Для таких типов, как ты и я, больше ничего не подходит, – сказал он при последней встрече. – Единственное, чего не следует принимать всерьез, – это их болтовню о Боге. Ты просто мысленно заменяй слово. Они говорят «Бог», а ты понимай – «жизнь». Или, скажем, высшие силы.
– Высшие силы уже на моей стороне. Я никогда в жизни так хорошо себя не чувствовал.
– Ты чувствуешь себя хорошо, только когда нанюхаешься этой дряни… К тому же ты из тех, кто не успокоится – будешь продолжать, как только заведутся денежки. Я по себе знаю. Посмотри в лицо правде, Йонни, – ты злоупотребляешь наркотиками! Ты наркоман!
Сам Иоаким себя ни алкоголиком, ни наркоманом, ни порнозависимым не считал. И уж точно ему не была нужна никакая двенадцатиступенчатая программа. Он, конечно, употреблял, но ни в коем случае не злоупотреблял. Он был, конечно, гедонистом, но только в свободное время.
Выждав, когда простимулированная уверенность в себе достигнет апогея, он предпринял еще одну попытку заманить к себе на Готланд подружку Карстена Лину.
– Привет, это я, – жарко зашептал он в мобильник. – Ты можешь говорить?
– Конечно, я в городе… прием так себе… ты меня слышишь?
– А где Карстен?
– Поехал в Вестервик в гольф играть. За ним заехал какой-то парень с утра. Сказал, приедет не раньше воскресенья.
Хорошая новость. До Готланда – полчаса лета. Значит, у них в запасе целых четыре дня.
– Замечательно! – сказал Иоаким. У него внезапно пересохло во рту. – Давай сюда! Я позвоню в «Скайуэйз» и оплачу билет, получишь его в Бромме.
– Не знаю… Мне кажется, он начал что-то подозревать. На каждую эсэмэску вздрагивает.
– И что?
– А позавчера я проснулась – а он в кухне… Я еще подумала, уж не лунатик ли он, а он мои сообщения читает…
– О боже!
– Успокойся, твои я удалила. К тому же он попросил прощения – стыдно стало.
Листья коки в кристаллической форме делали чудеса – он ничего не боялся.
– Блестяще! Карстен четыре ночи в Вестервике, а ты приезжаешь сюда. Отменное вино, а мой сарай постепенно превращается в хоромы из «Плейбоя». И как минимум десять грамм порошка. Хочется порадовать себя – и других…
– Я подумаю, Иоаким… Позвоню попозже.
Через месяц после вручения киношного чемодана с деньгами в «Гранд-отеле» Хамреллю позвонил некто Марио Маркович – как выяснилось, кузен Эмира. Насколько Иоаким понял, Марио руководил филиалом в Уппсале – фитнес-клуб, шикарный ресторан… и другие дела, в частности ввоз противозаконных химических субстанций с помощью обнищавших моряков русских тральщиков. Точно так же, как его патрон и родственник, Марио испытывал постоянное желание произвести впечатление на окружающих и пожелал вложить деньги в искусство.
В июле джип Карстена подкатил к десятикомнатной вилле на окраине Уппсалы. На переднем сиденье сидела Лина в полуметровых сапогах в лучшем бордельном стиле – они с Карстеном были приглашены в тот же день на ужин, а времени на переодевание уже не было. Марио был, по-видимому, не таким законченным психопатом, как его кузен. Он принял их во флигеле, в офисе, где мог бы разместиться мафиозный конвент целой страны. Он, едва взглянув на картину, свистнул жене – та забрала полотно и положила его в гигантский сейф. До идиотизма просто, подумал Иоаким. Все эти безумцы… они подначивают друг друга и покупают краденые, как они считают, картины. Скоро останется только Бацци. Слишком просто и слишком легко, чтобы быть правдой.
Они обмыли сделку сливовицей, после чего Марио вручил Хамреллю толстую пачку выигравших билетов тотализатора – деньги по ним можно получить в любом киоске. После этого он, ловко орудуя кредитной карточкой, превратил горстку белого порошка на письменном столе в четыре аккуратные белые дорожки. Хамрелль сразу заявил, что он абсолютный трезвенник, но Лина и Иоаким с удовольствием воспользовались угощением. Мало этого, Иоакиму вручили прозрачный пластиковый пакет того же содержания.
– Здесь миллион четыреста тысяч в тридцати двух билетах, – сказал Марио, втягивая носом кокаин. – Надеюсь, вы понимаете, что деньги надо получать в разных местах. Я вам верю, потому что братишка вам верит… И наслаждайтесь порошочком, друзья… продукт чистейший, мы еще не успели ничего добавить…
Не успел он произнести эти слова, как у него пошла носом кровь, которая, впрочем, была быстро и в высшей степени профессионально остановлена с помощью нескольких кусочков льда и бельевой прищепки. Поморгав, Марио предложил экскурсию по своему поместью. Пока Карстен добросовестно восхищался, Иоаким начал потихоньку заигрывать с его подружкой. Она не возражала, и Иоаким решил, что его подозрения, что Лина не собирается хранить верность Хамреллю до гробовой доски, совершенно справедливы. Отчасти под влиянием сказочной чистоты предложенного Марио чудо-порошка он чувствовал себя непобедимым. Клиент повел их в гараж величиной с заводской склад, где стояли редкостные машины – «бугатти» сорок восьмого года, новенький кроваво-красный «ламборгини» и спортивный «мерседес» шестьдесят шестого года. Иоаким завел Лину за шпалеры с розами.
В общем, он замечал, что она посматривает на него с интересом. А может быть, это было признаком особой душевной щедрости – она смотрела с интересом на любого, кто смотрел с интересом на нее… за исключением разве что Карстена – от него она начала, очевидно, уставать.
– Мы сошли с ума, – весело сказала Лина. – Если Карстен увидит, можешь прощаться с жизнью. Он дико ревнив.
Они не могли оторваться друг от друга, пока наконец Хамрелль не позвал их в гараж. Марио открыл капот на восьмицилиндровом «ламборгини» и хвастал позолоченными клапанами. Он собрался прокатить их по Е-4 и доказать, что скорость 310 километров в час на спидометре – вовсе не рекламный трюк. Карстену еле-еле удалось отговорить его от этого предприятия – нет-нет, как-нибудь потом, сейчас они торопятся на званый ужин, и время, к сожалению…
В следующие недели они продолжали встречаться. Иоаким удивлялся сам себе – с какой легкостью и с каким монументальным коварством он наставлял рога своему компаньону. А ведь он знал: Хамрелль собирается сделать Лине предложение. И все же Иоаким не чувствовал за собой ни малейшей вины. Более того, во всем это была какая-то изюминка. Он и завел с ней интрижку, потому что его возбуждал несомненный риск этого предприятия. Он убеждал себя, что Лина – это временное решение, так, перебиться, но постепенно понял, что все не так просто. Ему очень нравилась ее плебейская решимость, нежелание размышлять о последствиях – она вела себя как человек, которому нечего терять в этой жизни. Она была полной противоположностью как его бывшей жене Луизе, так и Сесилии Хаммар. Отец – спившийся дальнобойщик, раньше времени ушел на пенсию – вопреки предписаниям техники безопасности поднял какой-то груз и повредил позвоночник. Мать работала в социальной службе, помогала инвалидам и старикам, но потеряла работу во время повальных сокращений середины девяностых. Лина после восьмого класса ушла из школы и жила то на пособие, то на средства любовников, но либо они попадали в тюрьму, либо она уходила сама, потому что они ее поколачивали. И в самом деле, что ей было терять? Еще одного подонка? В отличие от предыдущих парней, Хамрелль, по крайней мере, пальцем ее не тронул. А вот Иоакиму она позволила привязать ее к спинке кровати и даже слегка выпороть… эта садомазохистская игра, впрочем, доставила обоим удовольствие – не надо забывать, что оба были разогреты подаренным Марио колумбийским афродизиаком.
Так шли недели. Поначалу он не отводил ей серьезного места – так, перебиться, пока не найдется что-либо стоящее, но потом их отношения стали все более напоминать вполне постоянную связь. Иоакиму очень нравилось жонглировать ее грудями, твердыми, как резиновые шарики, причем натуральными, безо всякого силикона. Ему нравилось, что ей только двадцать два. Ему нравилось, что она каким-то образом умудрилась так натренировать мускулы влагалища, что, когда он входил в нее, появлялось ощущение, что его подключили к аппарату машинного доения, – он просто с ума сходил. Она с удовольствием шла на любые игры (хотя уровня Сесилии Хаммар все же не достигала), прекрасно управлялась со своим телом (дважды в неделю фитнес-клуб в Хёгдалене). Он к тому же никак не мог понять, каким образом они умудрялись долго о чем-то говорить – о чем угодно, о банальнейших банальностях, и при этом он не раздражался и не скучал. Ему нравился ее запах, нравилось, как она целуется… к тому же отношения их то и дело приобретали дополнительное измерение благодаря содержимому пластикового пакета.
В середине августа пакетик опустел. Карстен был в отъе зде. Иоаким, оставив Лину в постели, взял такси, поехал в Уппсалу и попросил водителя подождать. Марио принял его в своем офисе. На этот раз он разговаривал куда более деловым тоном.
– На этот раз никаких скидок, – сказал он, доставая из тумбочки такой же пакетик. – В тот раз мы отмечали сделку, а на этот раз ты просто клиент.
Разумно, подумал Иоаким, и заплатил, не торгуясь.
– Знаешь, я прямо не знаю, что мне делать с той картиной, – сказал Марио, принимая деньги. – Она мне надоела.
Иоакиму почудились в его тоне угрожающие нотки, но он не подал вида.
– И такая же история с Эмиром, – продолжил собеседник, сцепив руки на затылке. – Он купил картину ради бабы, а она… та еще сука, между нами… в общем, она не среагировала. Он вообще был в шоке.
– Печально слышать.
– Вот именно.
– Я совершенно уверен, что он найдет применение картине, – сказал Иоаким и поглядел в окно. По газону на электрокартах гонялись двое сыновей Марио.
– Я тоже так думаю… а почему бы нет?
– И в самом деле, почему бы нет?
Марио внезапно вздохнул и поднялся с кресла:
– Такие уж мы люди, я и мой кузен. Никак успокоиться не можем. Это, конечно, неплохо… проблемы-то мы решаем… ты сечешь, о чем я? Пришла в голову идея – бац! – и дело сделано. Баба понравилась – надо брать. И так всегда было. Мы как близнецы. Это с детства. Мы болели одновременно, влюблялись одновременно. Одновременно, в одном и том же борделе в Гамбурге, лишились невинности… мы даже родились в одном роддоме. С разницей в два часа. А сейчас на нас одновременно наехала налоговая…
Он открыл окно и крикнул что-то по-сербски своим моторизованным отпрыскам. Те моментально исчезли за углом.
– У них какая-то акция, – продолжил он, садясь. – Не поверишь – нас и обложили одинаково: по четыре миллиона. Ты только врубись – в один и тот же день, одна и та же сумма! Четыре лимона… много денег даже для меня. И что делать дальше? Все, что ты здесь видишь, записано на жену. В нынешней Швеции только так и можно. Беда в том, что пора кончать с банкротствами. Надо всерьез браться за дело. Поэтому я решил заплатить этот налог.
– Вот оно что…
– И тут я гляжу на твою картину. Продать ее надо, понимаешь. За границей. Говорят, там больше платят. Хоть в Дании. Просто хочу, чтобы ты знал… на тот случай, если возникнут проблемы.
Голос снова зазвучал угрожающе… а может быть, Иоаки му почудилось – действие кокаина заканчивалось.
– Картина украдена в Гётеборге, – сказал он. – Дания слишком близко. Это рискованно.
– Посмотрим, посмотрим… – почти печально произнес Марио и пошел к двери. – А что касается тебя… на твоем месте я был бы поосторожней с телкой Хамрелля. Жена видела вас из окна.
Мы потеряли бдительность, думал Иоаким, возвращаясь домой. Это все кокаин. С Линой надо кончать. Но когда он зашел в квартиру и застал ее в постели, тут же забыл обо всем. Все пошло как раньше. Они появлялись в барах, пока Хамрелль сидел дома и смотрел телевизор. Они вдруг принимались лапать друг друга чуть ли не в его присутствии – это их возбуждало до дрожи. Один раз они занялись любовью в прачечной в доме, где жил Хамрелль, пока тот готовил в своей крошечной кухне гороховый суп – собирался подать его с пуншем и блинчиками… Хамрелль очень радовался, что они так хорошо дружат втроем. В общем, два сербских братика беспокоили Иоакима куда больше, чем Карстен.
На следующий день Лина прилетела в Висбю. Он встретил ее на прокатной машине, кинул чемодан в багажник, и они поехали в шикарный ресторан «Царство вкуса» в Югарне, где он заказал обед на две с половиной тысячи крон, не считая вина. Выглядит она потрясающе, думал он, поглядывая на ее профиль в нимбе юности и греха. Впрочем, настроение быстро испортилось – она заговорила о Карстене:
– Мне кажется, он нас подозревает. Меня, по крайней мере.
– Вот как? Почему?
– Утром позвонил из Вестервика и начал задавать какие-то странные вопросы. Типа – что ты делаешь вечером? Я говорю – у меня встреча. – С кем? – С подругой. – Не ври, Лина, ты с кем-то трахаешься, не так ли? – Ну как же! С утра до ночи! – Не паясничай. Я знаю точно. Чувствую. И слушай меня внимательно, я буду звонить каждую ночь, пока не приеду. Проверять, дома ли ты. Это не угроза, Лина, это обещание.
– И что ты будешь делать, если он позвонит?
– Я перевела домашний телефон на мобильник. Карстен не сообразит, он для этого слишком туп. Только ты должен помалкивать, Иоаким, когда я буду разговаривать, не забывай. Вообще не понимаю, что он там молотит про неверность.
– А чем мы с тобой занимаемся в таком случае?
Она невинно улыбнулась:
– Мне кажется, мы просто немножко развлекаемся. К чему эта идиотская серьезность?
– А ты никогда не думала, что это может быть серьезно? Вдруг я в тебя влюбился? Что тогда будем делать?
Она посмотрела на него с таким скепсисом, что он предпочел сменить тему:
– Насчет Хамрелля… Он ничего не говорил про Эмира или Марио?
– Нет… А что?
– Забудь. Я рад, что ты приехала.
Он и в самом деле был рад – куда больше, чем ему бы хотелось. Последние дни он замечал, что ему ее не хватает, и побаивался, что и в самом деле влюбится, а потом начнет конструировать извечные кунцельманновские вопросы: а что она во мне нашла? когда она уйдет от меня и почему?
Если он в нее влюбится, то будет жить в постоянном страхе ее потерять. Они ехали в Югарн, и в его глазах она постепенно превращалась из необразованной гулящей девицы с окраины в женщину его мечты – а он даже и не знал, что о ней мечтает.
– Я вообще не понимаю, – сказал она, – что он реально из себя строит? В порнухе работает… Со всеми этими… Наверняка он их пользует.
– Я так не думаю…
– А я думаю. Поэтому у нас все на соплях. Я-то молчу… Он приходит с работы, а я молчу… ни слова, ни звука, а он… прости за выражение, пропах пиздой до корней волос. Правда, правда! Он и сам так говорит: Я пропах пиздой до корней волос. И наверняка с ними развлекается. А я развлекаюсь с тобой, Йокке.
– А когда надоест?
– Когда надоест – тогда надоест. Такова жизнь…
Она «развлекалась» до воскресенья, потом пришло время возвращаться. Чтобы доказать себе, что никаких особых чувств к ней не испытывает, Иоаким разговаривал в дружески-ироничном тоне, как бы держался немного на расстоянии, чтобы она ничего себе не воображала. Но это ему не особенно удавалось. Уже на второй день он вновь почувствовал себя влюбленным щенком. Изо всех сил он пытался угадать, что она имела в виду под словом «развлекаться», – и угадал: отвез ее в Кнейпбю[137]. Она радовалась как ребенок («Я же никогда раньше не видела виллу «Курица»! Жаль только, что лимонадного дерева уже нет!»). Он приглашал ее в дорогие укромные ресторанчики. Параллельно с этим Иоаким пытался как-то уследить за реконструкцией дома, но когда Лина устала от деревенской жизни, он заказал такси в Висбю, и они посвятили день хождению по магазинам, а потом отобедали в знаменитом «Колодце Доннерса».
В ресторане он начал обдумывать планы своего сорокалетнего юбилея – собственно, ему уже исполнилось сорок в апреле, но тогда у него не было средств отметить этот знаменательный день, как ему хотелось бы. Теперь у него были деньги, и он собирался пригласить в декабре двадцать пять – тридцать человек, чтобы хоть и с опозданием, но отметить середину своей земной жизни.
За обедом (камбала с взбитым васаби и ризотто, панна-кота со спаржей и чипсами из пармской ветчины, Боллингер Ла Гранд 1999 ко всем блюдам) он обдумывал, чем бы заняться пару дней с друзьями и знакомыми. Чем кормить гостей, какой отель забронировать? А может, снять бассейн в Кларион-отеле и там предложить аперитивы перед обедом? А может, устроить экскурсию по городу с гидом?.. Среди всей этой болтовни он внезапно почувствовал укол печали. Лина все-таки не его подружка. Она не будет сидеть рядом с ним на банкете. У него нет на нее никаких прав…
Они перешли в бар. Иоаким зачем-то рассказал ей о планах написать статью об участи гомосексуалов в гитлеровской Германии – он мысленно все время возвращался к этой теме. Лина не выказала никакого интереса.
– Чего это ты надумал писать о старых немецких пидорах? – спросила она. – Народ не хочет лекций по истории. Народ хочет развлекаться…
А может, она и права? Кому какое дело, что там было? Кому какое дело, что его отец был одной из жертв дикого режима? Народ хочет развлекаться. Лина читала только таблоиды, приложения со светскими сплетнями, программу ТВ и идиотский гламурный журнальчик «Стуреплан». Все свои представления о современной жизни она черпала именно из этих источников. Как-то он ее спросил, читает ли она серьезные газеты.
– Иногда, – ответила она. – Если там о наркоманах.
Он понял, почему она так ответила. Ее старший брат умер от сепсиса – ввел героин грязным шприцем. Это было в середине восьмидесятых. Ее главный и единственный политический интерес – свободный доступ наркоманов к одноразовым шприцам.
– Он был замечательный парень… только уже больной. Сам себя ненавидел. Если бы у него был чистый шприц, он, может, дожил бы до сегодняшнего дня.
В этом вопросе Лина была ультрарадикалом. Она утверждала, что в восьмидесятые и девяностые годы шведские политики вели осознанную кампанию по умерщвлению наркоманов.
– А почему они тогда отказывались распространять одноразовые шприцы? Они же знали, что СПИД передается через кровь. Ничем не оправдаешь. Сидели, суки, и руки потирали, а люди гибли как мухи. Ты небось и не знаешь, что у нас, если подсел на героин, самая высокая в мире смертность. Как я их ненавижу, этих сучьих бюрократов!
– Для родителей, наверно, был жуткий удар…
– А то! Мамаша до сих пор не оправилась. Они с отцом вскоре после этого разбежались. Типа, друг на друга смотреть не могли… А я ушла из дому. Начала с парнями встречаться… разные попадались…
Так и начиналась ее жизнь. Уличные подростковые банды, добывающие деньги шантажом владельцев пиццерий и грабежом ларьков. Она научилась сбывать краденое, мастерски врала полиции, как то раз чудом избежала группового насилия десяти обожравшихся рогипнола идиотов. Она видела, как люди истекают кровью после ночных разборок в метро, спасалась бегством… Со временем она стала известна всем социальным работникам в южных пригородах Стокгольма. Она была неглупа, поэтому всегда находилась добрая душа, желающая ей помочь. Беда была только в том, что она не хотела, чтобы ей помогали. Она хотела умереть. Иоаким понимал, что все ее отрочество было не чем иным, как отчаянным криком о помощи, но родители после смерти сына точно оглохли. После нескольких лет в детских домах она прибилась к парню на пятнадцать лет старше ее и не могла от него отлипнуть, пока суд не приговорил его к пожизненному заключению за предумышленное убийство и ограбление инкассатора («Я-то до последнего воображала, что он невиновен»). И карусель завертелась опять, пока на какой-то вечеринке она не встретила Карстена и не решила влюбиться в плюшевого медведя, специализирующегося на порнофильмах.
– Карстен очень похож на моего отца, оба они алкаши, с той только разницей, что Хамрелль непьющий алкаш, а папаша еще ой какой пьющий…
В полночь они вышли из ресторана и огляделись. Надо было найти переулок потише – должен звонить Хамрелль. Пока она говорила с ним, он тискал ее двадцатидвухлетнюю грудь и рассеянно думал, что мужское безумие стало общественной нормой и женщины, как следствие, тоже обезумели, что он первый раз в жизни видит такую бессовестную лгунью, но это вряд ли ее вина… в обществе патриархата иначе не выживешь, единственная самозащита женщины – ложь… Карстен и в самом деле, как и грозился, звонил каждый вечер, ровно в полночь, в самый чувственный час суток, именно в это время Иоакима обуревало желание – но это, казалось, нисколько ее не смущало. Она непринужденно болтала с Хамреллем, и Иоакима это возбуждало еще больше, он лез ей под юбку под звуки виртуальных поцелуев, посылаемых ею любовнику.
– Не пора ли с ним кончать? – спросил он.
– Ради тебя? Ты с ума сошел… Если я даже и уйду от Хамрелля, то уж точно не к тебе.
В такси она уснула, положив голову ему на плечо. Ему было очень грустно. Со времени первых месяцев с Луизой он не испытывал такого невыносимого чувства бессилия. Интересно, что делает сейчас его бывшая жена… А Сесилия? Сесилия послала подальше Эмира с его поддельным Кройером… это, конечно, приятно, но и опасно: братики-сербы будут теперь пытаться продать свои культурные раритеты. Но более всего его беспокоило, как дальше пойдет дело с женщиной, спящей на его плече.
Дом купался в лунном свете. Футуристические декорации строительной техники, бетономешалка и пустые тарные ящики были словно позаимствованы из научно-фантастического фильма.
Он заплатил и разбудил Лину. Остро резанул страх, что она его оставит… Чушь какая, подумал он. Он же не может всерьез в нее влюбиться, это просто очередной призрак, созданный его богатой фантазией.
Где-то в недоступных человеческому мозгу переплетениях Интернета, пронизанных волоконной оптикой, а кое-где, в полузабытых трущобных районах, даже и старинными медными проводками… одним словом, в неисчерпаемой энциклопедии документов, файлов и ресурсов уже лежали вороха данных, готовых к путешествию в квартиру на Кунгсхолмене, где их ожидал только что купленный Иоакимом двадцатичетырехдюймовый «iMac». Вся эта информация с ошеломляющей скоростью передвигалась по невидимым автобанам. Протоколы аппликаций и гипертекстовых ссылок обеспечивали браузеру доступ к бинарной бесконечности. В программном обеспечении безраздельно властвовал «Internet Explorer», а среди поисковых моторов – «Google», уже давно превративший сенильную ведьму «Alta Vista» в старый до непристойности анекдот. Сетевые протоколы TCP/IP победили всех менее жизнеспособных конкурентов и открыли совершенно новый мир. Если на рубеже тысячелетий безраздельно царили форумы «Geocities» и «Lunarstorm», то сейчас, весной 2006 года, их вытеснил «Myspace» (а скоро явится и мелкобуржуазная сетевая мечта «Facebook»). Оцифрованные фильмы, разбросанные без всякого порядка на самых разных сайтах, покорно собрались под крылышком «Youtube.com» (а также эротического родственника, «Youporn.com»), более или менее постоянным посетителем которого (в зависимости от градуса своей постмодернистской тоски) был теперь и Иоаким. Здесь можно было найти не просто фото, а видеоклипы, к тому же организованные куда более остроумно, чем на ныне зачахшем сайте «sexxplanet.com» – последний просто оказался неготовым к дарвинистской борьбе за благосклонность подсевших на порнуху посетителей. Решающим фактором в этой кровавой борьбе стали фильмы, и статичные фотки «sexxplanet.com» постепенно становились неконкурентоспособными.
Но сегодня Иоаким на эти сайты не заглядывал (по крайней мере, пока). Он находился в крохотной ячейке, счастливо избежав олигополии «Microsoft», уже дважды за последний год заражавшего его старый компьютер электронным герпесом, который они же сами и предлагали излечить – разумеется, за соответствующую плату. И в этой ячейке если и были голые девочки, то отнюдь не в порнографической их ипостаси. Речь шла о живописи. О плагиате и подделках. Он внимательно читал сайт за сайтом, стараясь не реагировать на отчаянные электронные послания свояка.
Вот, пожалуйста, блог – студент из Лунда, двадцать четыре года, историк искусства, в высшей степени корректный юноша, пишет, как в восьмидесятых годах после голландской эспертизы была поставлена под сомнение подлинность одной из принадлежащих Национальному музею картин Рембрандта «Анастасис». Из заметки неясно, идет ли речь о плагиате или о копии. «Сеятели» Ван Гога, пишет дальше тот же скрупулезный студент, тоже подделка. Техническое исследование, проведенное в Париже, показало, что картина написана после смерти художника, возможно, известным фальсификатором Отто Ваккером. На другом сайте показаны сделанные Эрнстом Юзефссоном копии Рембрандта. Говорят, они настолько совершенны, что их вполне можно продать за подлинники. Буше и Коро, читал Иоаким, часто подписывали работы учеников, чтобы помочь им в карьере. А как быть с так называемыми репликатами – копиями собственных работ, написанных исключительно с целью выдоить побольше бабок у помешанных на собирательстве фанатиков?
И что же тогда на сегодняшний день не является плагиатом? Все старательно копируют взгляды, мировоззрения, рядятся в униформу от H&M… люди, как ни странно, панически боятся выглядеть оригиналами. Перед предстоящими выборами либеральная партия ни с того ни с сего перекрестилась в «Новую рабочую партию», бесстыдно обокрав левых на приличное количество голосов избирателей. И что это такое, как не попытка сделать пиратскую копию социал-демократии?
На сайте с чатом он обнаружил свирепую ругань по поводу некоего профессора из Художественной академии, который, как утверждалось, воровал идеи у своих студентов. На другом сайте некто обвиняет в плагиате Дэмьена Хёрста[138] (The copy-cat Hirst is fooling us again)[139].
Блогосфера вообще отличалась полным равнодушием к этике, прихожане лепили все подряд, не комплексовали, что их тексты вдруг сочтут оскорблением или оговором – это-то как раз и было наиболее интересным. На поверхность просачивались все тайны и сплетни. Некая разъяренная дама решила сделать все возможное, чтобы расправиться с художником Улафуром Элиассоном. «Мы имеем дело с обычным вором, – писала она. – У. Э. ворует все свои замыслы у менее известных художников. Возьмите хотя бы Петера Сведберга!» (Следовала ссылка на картинку, представляющую «Цифровую Теллус», но Иоаким поленился разматывать весь клубок.) В комментариях какой-то умник поучал, что Сведберг виноват во всем сам, поскольку качество в наши дни определяется тем, насколько успешен художник в самораскрутке и какую пиаровскую сеть ему удалось закинуть.
Он вернулся к почте – пришло еще одно сообщение от запаниковавшего свояка. «Свяжись со мной как можно скорее», – гласила рубрика с красным восклицательным знаком. Никакого желания следовать этой просьбе у Иоаки ма не было, как не было и желания отвечать на звонки по мобильнику. Эрланд за последние сутки звонил ему раз десять. Он машинально открыл сообщение. «Он снова дал о себе знать. На этот раз хочет говорить с Жанетт. На счастье, она в Швейцарии до конца недели. Что предпринять, когда вернется? Обрезать телефонный провод? Надо что-то придумать…»
Предыдущие сообщения тоже не вселяли особого оптимизма. В строке «Тема» звучало: «шантаж», «он напал на след» и «помоги!». Свояк, похоже, на грани нервного срыва.
Не успел он запустить в «Google» словосочетание «Кройер плюс фальсификация», как зазвонил телефон. Он посмотрел на дисплей – Луиза. Этой зимой они встречались довольно часто.
– Могу я попросить тебя об услуге? – спросила она своим патентовано-умильным тоном.
– Смотря какой…
– Захватить Винсента из садика в четыре часа. Они рано закрывают – Пасха, а у меня завал на работе.
– Конечно, конечно, никаких проблем.
– Ты ведь помнишь, где это? Проверь только в шкафчике, если есть мокрая одежда, сунь в пакет. И не забудь рюкзачок…
И тут как раз клюнуло! На второй же ссылке обнаружился pdf-файл из газеты «Юланд-постен». Интенданта музея в Скагене обвиняли, что тот намеренно выставил поддельные работы Кройера – пейзаж, якобы написанный в Париже в 1881 году, и копию автопортрета, находящегося в Галерее Уффици во Флоренции. Но никакого отношения к Виктору эти полотна не имели… разве что он избавился от них раньше?
– …и зайди с ним в парк, пожалуйста, хоть на полчасика, а потом прямо домой. Если будет капризничать, скажи, что я купила ему новые покемоновские карты. Получит, когда приду. Если опоздаю, в холодильнике рыбные шарики. Станет кочевряжиться – не беда, сунь ему банан.
Звоночек почтовой программы. Что на этот раз?
«Сижу с трубкой в руке, Йокке, но у тебя занято. Значит, ты на месте. Позвони же, черт бы тебя побрал!»
– …ты меня слушаешь?
– Конечно!
– Спроси в садике, состоится ли родительское собрание в пятницу. Я куда-то задевала программку.
– Спрошу.
Он вернулся в «Google» и поискал информацию о знаменитом фальсификаторе Ван Мегерене, том самом, что когда-то провел Геринга с поддельным Вермеером. Дальше перешел по ссылке на домен немецкого университета – там были статьи о подделках почтовых марок и антиквариата… Щелчок мышки, и он оказался на сайте немецкого собрата «Flashback Forum». Здесь посетители играли в частных детективов, проводили журналистские расследования в стиле таблоидов, а также распространяли злобные сплетни про людей, совершенно лишенных возможности защищаться. Кто-то написал заметочку о своем соседе в Берлине, некоем «Б», – тот якобы рассказывал, что во время войны был вынужден подделывать ассигнации. Эта заметка почему-то нашлась под рубрикой «Наука». Аватара[140] представляла собой похожую на Гомера Симпсона[141] фигурку, называющую себя «Господин Рюддигер». Он сделал закладку и выключил компьютер.
– Когда, ты сказала, я должен захватить Винсента?
– Через сорок минут. А я за это накормлю тебя обедом.
– Сегодня не удастся – у меня встреча.
– Кто-то из знакомых?
– В каком-то смысле – да… Все время какие-то сложности… Все стало таким сложным. Меня дергают со всех сторон.
– Не связывайся с чужими женщинами, Иоаким. Кончай эти игры, пока не поздно.
Винсент, казалось, унаследовал материнское искусство чтения мыслей – у него насчет Иоакима было какое-то шестое чувство. Еще из-за двери садика под названием «Земляничка» он услышал, как мальчик диким голосом орет, что никуда отсюда не двинется. В кармане у Иоакима надрывался мобильник. Он посмотрел на дисплей – опять Эрланд, – выключил телефон и изготовился к лобовой атаке – зажмурил глаза и резко выдохнул.
В садике царил полный хаос. Шестилетние пасхальные бабки[142], и Винсент в их числе, развлекались тем, что с плохо скрытым садизмом бомбардировали парнишку-воспитателя пластилиновыми ошметками. Ошалелые родители гонялись за своими отпрысками по раздевалке. На одной стене была развернута выставка детского пасхального рисунка. В основном дети изобразили цыплят и яйца, но попадались и семейные портреты в стиле «точка, точка, запятая». Иоаким обратил внимание, что страсть к усреднению была заметна даже и здесь – дети подражали друг другу на грани полного истребления индивидуальности.
Заведующую он нашел на кухне. После дачи показаний, кто он и почему забирает Винсента, Иоаким получил «добро». Он собрал барахло мальчика и сделал отчаянную попытку его одеть. Это было вовсе не легко. Разразилась жестокая битва – ему пришлось вынести несколько левых хуков и впечатляющий апперкот правой, пока он старался натянуть на него комбинезон. Резинки не давали продеть руки в рукава, пуговицы тут же расстегивались, молнии застревали. Шапочка несколько раз улетала в другой конец комнаты. Потом настал час резиновых сапог. Винсент выворачивался и брыкался, но определенный перевес в мышечной силе все же сыграл свою роль. Когда одевание было закончено, военнопленному удалось хитрым маневром улизнуть в соседнюю комнату, где он со сверхъестественной силой отчаяния намертво вцепился в ножку стола. Дальше последовала пропагандистская кампания, в ходе которой полевой командир Кунцельманн пообещал перебежчику мороженое.
– Не хочу! – прошипел Винсент сквозь стиснутые зубы.
– Да ладно тебе! Это же твоя мама просила меня взять тебя из садика. Ты какое мороженое любишь? Пиггелин?[143]
– Плевать на твое мороженое. Ты не мой папа.
– Нет. И в самом деле, я не твой папа.
– Отпусти меня.
– Мама сказала, что, если ты будешь вести себя хорошо, получишь новые покемоновские карты. Сначала пойдем в парк, поиграем немного, а оттуда домой…
– Уходи отсюда!
На счастье, поблизости нашлись люди с педагогическим образованием. Юноша, который, судя по стилю одежды, испытывал постоянную горечь, что ему не удалось в шестьдесят восьмом побывать на парижских баррикадах, взял шестилетнего бунтаря на себя. Просто удивительно, какими простыми средствами ему удалось привнести мир и покой в душу маленького партизана. Капитуляция была полной, хотя вовсе не унизительной.
Через четверть часа они, взявшись за руки, пришли в парк. Мальчик внезапно сменил идеологию и весело болтал с недавним врагом.
– А правда у меня будут новые карты? – спросил он. – Интересно какие… Все время выходят новые серии.
Он достал из рюкзака пачку карточек и начал перебирать их с видом знатока.
– Можем сыграть, если хочешь…
– Я не умею… Не знаю, как играют…
– Проще простого. Ты как бы вытягиваешь карты и показываешь другим… и тогда надо знать, что у тебя есть для нападения и защиты. Ага, смотри, у меня вирус, я могу всех перезаразить! Ура!
– Это, надеюсь, не опасно?
– И прайс-карта!
– Прайс-карта?
– Я же сказал – прайс-карта. У тебя шесть карт, и у меня шесть карт… ты уничтожаешь моих монстров, а когда у тебя кончаются прайс-карты, ты выигрываешь! Или можем поиграть на скамейке… Если активные умирают, надо как бы убраться со скамейки.
– Честно говоря, Винсент, не понял ни слова.
Тут последовала небольшая лекция. Карта YX, терпеливо пояснил Винсент, как и все глянцевые карты, очень сильна, важно, если она у тебя есть. Некий Камерон YX обладает огромным запасом чего-то непонятного под названием HP, но если YX умирает, ты получаешь в утешение две прайс-карты. Тренер со странным именем Ач Кетчум… или что-то вроде, может быть, Арт Кетчуп, если верить Винсенту, подготовил Пикачу – желтую мышь, обладающую сверхъестественными силами. Два других тренера, Мисти и Брук, подготовили целую группу учеников покемона. Они все вместе охотятся на банду больных дамп-синдромом[144] созданий под названием Тим Рокет.
Иоаким мирно размышлял о беге времени, об энтропии, о неуклонном движении общества к хаосу. Он не понимал ровным счетом ничего. Он-то в детстве играл в вышибалы на школьном дворе.
– HP – это ну как бы жизнь, – поучал Винсент, выковыривая козу из носа. – Вот у этой карты восемьдесят HP, а у того, кто атакует, может быть всего пятьдесят. Тогда же остаются запасные жизни… не скажешь, сколько?
– Восемьдесят минус пятьдесят… тридцать?
– Спасибо. Считать я еще не умею. Но слушай дальше… если Пикачу дать Грозовой Камень, он превращается в Райчу, но тогда ты уже не можешь обучить его новым приемам атаки.
– Вот оно что…
– Вот именно! Я сам еще не все знаю, но тут один пацан, ему уже десять, рассказывал. Тогда нужно искать другие способы. Но если ты играешь в желтого Покемона… Смотри, Чаризард!
Он протянул Иоакиму карту, изображающую похожее на дракона существо – если верить тексту, следующая фаза жизни некоего Чармандера. Винсент очарованно смотрел на картинку, словно бы это была святая реликвия.
– Хуже всех Дитто, – продолжил он с грустью, скручивая козу в сочный шарик, – лучше бы эти карты вообще не попадалась. Они розовые, липкие и только подражают другим покемонам…
– Это очень типично для нашего мира. Все друг другу подражают…
– Но если Дитто засмеялся, он уже не может подражать. Тогда он умирает. Я так думаю… мне кажется… а когда мама придет?
– Мы еще немного побудем в парке, а потом пойдем домой, тогда и мама придет.
– Я очень люблю маму. А ты любишь свою маму?
– У меня нет мамы…
– Мне тебя жаль. Поиграем во что-нибудь?
Этот час в парке показался Иоакиму вечностью. Покуда Винсент носился вокруг, он, обуреваемый невеселыми раздумьями, по-стариковски сидел на лавке. Над горизонтом нависла свинцовая туча. Двадцать четыре часа назад пришло первое отчаянное сообщение от свояка – ему кто-то позвонил и сообщил, не представившись, что у него есть кое-что из пропавших в галерее предметов. После чего сразу повесил трубку. Через час неизвестный позвонил опять. На этот раз он без всяких экивоков сказал, что у него находятся две картины датского мастера и что он мог бы вернуть их в галерею за вознаграждение в четыре миллиона крон. «И что теперь делать? – Эрланд тяжело дышал в автоответчик. – У него есть номер галереи. Он может появиться в любой момент, слышно было так, будто он в соседней комнате».
Когда незнакомец позвонил в третий раз, Эрланд пригрозил обратиться в полицию, но без особого успеха. Тот просто-напросто ему не поверил. «Он мне не поверил, – шептал Эрланд таким голосом, будто в этот момент кто-то выкручивал ему мошонку. – Думаю, он считает, что мы нагрели страховую компанию или что-то в этом роде, а теперь хочет выжать из нас жуткие деньги!»
Было очень странно, что этот тип позвонил прямо в галерею. Тут им немного повезло – Жанетт была в отъезде, а Эрланд совершенно случайно находился в офисе.
Иоаким краем глаза следил, что делает Винсент. Вот он поковырялся палочкой в собачьих какашках, присел в песочнице, разглядывая своих покемонов, поругался с какой-то девочкой за очередь качаться на единственных в парке качелях – наблюдая за этими мирными детскими занятиями, Иоаким попытался составить себе какое-то представление о происходящем. Такой примитивный шантаж вполне в духе людей вроде Марио или Эмира. Может быть, они с самого начала планировали купить картины, а потом вымогать деньги из галереи, откуда они украдены, потому что были уверены, что без страховой аферы дело не обошлось. Они судят о людях по себе, с горечью подумал Иоаким. А может быть, начали что-то подозревать. И эти подозрения неизбежно приведут их к нему и Хамреллю.
Эрланд, не получив ответа на наговоренное сообщение, начал слать эсэмэски и мейлы. Засевший в нем ученый нашел в себе силы справиться с нервами, и он изложил ситуацию более ясно. Шантажисты звонили и в четвертый, и в пятый раз. Они дали галерее неделю, чтобы раздобыть деньги. Что будет дальше, они не сказали, но по тону было ясно, что ничего хорошего. Эрланд понял эти слова как двойную угрозу – ему лично и галерее. Насчет того, что картины могут быть уничтожены, они не говорили. По-видимому, у Марио и Эмира все-таки зародились мыслишки насчет подлинности Кройера. Но был и еще один вариант – братья-сербы продали свои картины кому-то третьему, и теперь этот третий пробует взять их на пушку.
Положение определенно становится критическим. Жанетт скоро возвращается с выставки в Швейцарии. Кому-то срочно надо что-то предпринять. Иоаким прекрасно понимал, что этот загадочный кто-то – не кто иной, как он сам. Вопрос только – предпринять что? Прежде всего – найти Хамрелля. Но он не видел своего подельника после банкета по поводу собственного сорокалетия в начале февраля (устроенного вовсе не так пышно, как он поначалу предполагал). В общем, мрак на всех фронтах. Деньги начали понемногу иссякать. Оставшиеся Кройер и Бацци пока не нашли своего хозяина. Кроме этого, были три рисунка Буше, но и тут пока ничего не наклевывалось. Похоже было, что все доверчивые прохиндеи в южных районах Стокгольма переехали куда-то еще.
Карстена во что бы то ни стало надо найти, сказал он вслух. Надо бы, конечно, позвонить в Гётеборг мечущему икру свояку и попытаться его немного успокоить, пока не найдено приемлемое решение. Может быть, ему надо самому найти сербских кузенов и попытаться выяснить, что они затевают. Он сидел на скамейке и сочинял самому себе мандат. Хамрелль подождет. По крайней мере, до завтра, потому что сегодня вечером Иоаким встречается с его невестой. Нечистая совесть подсказывала ему новые аргументы: он не беспокоит Хамрелля, потому что к тому приехал сын из Южной Америки (хотя тот прибыл еще в январе), он не звонит Эрланду, потому что это принесет больше вреда, чем пользы. В конце концов, до приезда Жанетт осталось несколько дней, так что пусть подождет.
В половине шестого Луиза застала сына со своим бывшим мужем на кухне, играющими в покемоновские карты.
– Мама, я выиграл! – закричал Винсент. – Иоаким совсем плохо играет. Я сдал ему карты с никудышными НР.
– Ни одного YX, – подтвердил Иоаким, – ни одной глянцевой. Сплошные Дитто, а с ними много не наиграешь.
– Мам, а он сказал, ты купила мне новые!
Пока Луиза доставала из сумочки подарок, Иоаким, воспользовавшись восторгами Винсента, смешал карты. Последние полгода он регулярно виделся с бывшей женой. Она очень помогла ему организовать юбилей, и его поразила мысль, что от его семейной жизни ничего не осталось, только она одна. С их общими друзьями он не виделся. Среди гостей вообще не было никого из старых знакомых. Поздравить его пришло пятнадцать человек, и среди них такая редкая птица, как порнозвезда Кларенс. Вечер в общем удался, хотя и был немного сумбурным, как всегда бывает, когда собираются незнакомые и полузнакомые люди. Тоста было только два. Луиза вспомнила их общую молодость, тактично воздержавшись от оценок, а потом говорил Карстен. Иоаким, мучаясь, слушал, как Хамрелль описывал его как в высшей степени надежного друга, которому можно доверять безоговорочно. Лина, сидевшая рядом с говорящим, не смогла удержаться от улыбки. На банкете был и неожиданно свалившийся на голову Хамреллю его латиноамериканский сын Фидель. Этот восемнадцатилетний поклонник Кастро и будущий студент-медик, не знающий шведского и едва говорящий по-английски, занимал все время отца, что давало Лине и Иоакиму неслыханные возможности для блуда. Зачем он приехал и сколько собирается здесь пробыть, так и оставалось загадкой.
– Мне на работу звонил твой приятель Карстен, – сказала Луиза, читая, как обычно, его мысли, – не знаю, где он раздобыл номер. Наверное, я обмолвилась на твоем юбилее, сказала, где работаю.
– Что он хотел?
– Искал тебя. Был очень недоволен. Говорит, у тебя отключен мобильник. Я ему сказала, что ты у меня, пасешь Винсента. Он сказал, что это очень спешно, так что я дала ему домашний номер. Он не звонил?
Вообще-то телефон звонил, но Иоаким, к счастью, не взял трубку. Ничего хорошего этот разговор не сулил. Он включил мобильник и посмотрел на дисплей: семь пропущенных звонков. Три от Эрланда, остальные от Хамрелля.
– Ты ведь спишь с его подружкой? – прямо спросила Луиза.
– Может быть, да, может быть, нет. Значит, ты дала ему домашний номер?
– Он сказал, что это очень срочно. В подробности не вдавался.
– Номер узнать – ничего хитрого. Один звонок в «Эниро». Держу пари, что это его сынишка ему что-то наболтал.
– Боже мой, Иоаким… Сколько ей лет? Двадцать три?
– Двадцать два, если быть точным.
Даже на банкете они не могли удержаться… Так уж он устроен, как-то подумал он, невозможно бороться против своей сущности… Его тогда беспокоил Фидель, наверняка хорошо знакомый с карибской манерой ухажерства. Он помнил, как тот поглядел на него, когда они с Линой вернулись якобы с перекура.
И что теперь делать? Просто сбежать? Карстен наверняка уже гонит машину, нарушая все правила, чтобы успеть в Эншеде и пробить череп своему неверному компаньону. Надо было уносить ноги, но он почему-то решил дожидаться судьбы.
– Понимаешь, я влюблен в нее, – сказал он. – Знаю, знаю, это звучит дико, но что делать… Может быть, просто признаться во всем Хамреллю?
– Нельзя влюбиться в двадцатидвухлетнюю девицу. Придумай формулировку получше.
– Плевать на формулировки. Я говорю правду.
– Я тоже влюблен, – сочувственно заявил Винсент. – Во фрекен Камиллу. Еще как влюблен! Но я обещал жениться на маме…
– Надо позвонить Лине. Мы договорились встретиться вечером. В отеле…
– Как романтично!
– Моя жизнь – хроническая катастрофа, Луиза. А в довершение ко всему эта двадцатидвухлетняя пригородная принцесса вовсе меня не любит. Знаешь, какая моя главная проблема? У меня нет ни грамма самоуважения!
– Может быть… Винсент, ты не мог бы пройти в свою комнату на минутку? Нам надо поговорить!
– К тому же я и сестре устроил веселую жизнь… Ввязался в аферу не с теми людьми, продал поддельные картины профессиональным преступникам…
Через несколько минут, если посмотреть со стороны, где Иоаким охотнее всего бы находился, ситуация выглядела вовсе не настолько критической. Посторонний наблюдатель заметил бы вот что: Винсент, погруженный в покемоновские карты, скрылся в своей комнате – пусть взрослые поговорят о своих взрослых глупостях. А у калитки в эту же секунду остановился оливкового цвета джип с двумя пассажирами. Один из них, молодой человек с едва уловимыми нордическими чертами, вступающими в непримиримый контраст с индейским цветом кожи и чернейшей шевелюрой, остался в машине. А второй, под два метра ростом, лысый и тучный, в потертых тренировочных штанах, в несколько прыжков добежал до крыльца. Наблюдатель посчитал бы, что в его внешности нет ничего угрожающего – он совершенно не выглядел как обманутый муж, желающий отомстить своему обидчику и совершить crime passionel[145].
– Нам надо уехать из города, – сравнительно спокойно, если не считать одышки, сказал он. – Причем немедленно. Мы по уши в дерьме!
Карстен объяснил своему чуть успокоившемуся пассажиру, что произошло, только когда они выехали на скоростную магистраль Е-4 и взяли курс на юг.
– Дела обстоят так. Сижу я себе в полдень в «Оазисе» и играю с приятелем в шахматы… Звонок. Эмир словно взбесился: орет на меня то по-сербски, то по-шведски. Дескать, он меня найдет и отрежет яйца, задушит в собственных кишках и вообще сделает из меня свиное филе. Спокуха, Эмир, говорю. Я сижу в «Оазисе», ты знаешь, где меня найти – за крайним столиком, около караоке. Давай сюда, я не двинусь с места, пока не доиграю партию. Не знаю, какая муха тебя укусила. Садись в машину – и ты тут. Я даже мат не успею поставить. Разрулим все проблемы… я приглашаю на стаканчик. Не выйдет, орет… я прямо слышу, как он зубами скрипит от злости, не выйдет… я еду из Копенгагена, сейчас на Эресундском мосту, если быть точным, а дальше Сконе… пойду сто девяносто. Ну вот и хорошо, говорю, при такой скорости часа четыре – и ты тут, только поострожней на поворотах. И расскажи, говорю, с чего ты взвился… И он рассказывает… типа, успокоился малость. Они с Марио были в Дании и пытались продать папашиных Кройеров. Они этим с осени занимаются, и вроде все шло нормально… несколько югов из Дании, ну, скупщики краденого, ты знаешь, уже и деньги приготовили, а потом один из них говорит – давайте покажем оценщику. Наверное, кто-то у них там есть… В общем, я половину не понял из того, что Эмир нес, но какой-то там эксперт заявил, что гарантировать подлинность на сто процентов он не может. На сто процентов! А не на сто процентов для такого отморозка, как Эмир, означает на сто процентов не. Он же родной матери не верит. Он почему у нас купил картины? Вообразил, идиот, что я почему-то должен быть порядочней, чем он сам. А теперь их напугали в Копенгагене. Теперь братаны начинают складывать два и два.
– А что ты ответил?
– Притворился удивленным. Если картины и в самом деле подделаны, дорогой Эмир – мы это пока утверждать не можем, – но если картины подделаны, то нас надули точно так же, как и тебя. Вся история – комар носа не подточит, все лейблы на месте, все бумаги, даже справка, что картины украдены. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Сдал нашего друга Йонни в полицию? Ничего не делай, ревет Эмир. Сиди и жди в «Оазисе», пока я не приеду и не суну твой кривой хер в мясорубку. Да успокойся ты, мать твою, ору я. Клянусь, мы найдем людей, хотя бы ребят из «Буковскис», я там кое-кого знаю, я совершенно уверен – картины такие же подлинные, как твоя домашняя сливовица… Можем связаться с галереей в Гётеборге и спросить, правда ли, что их обчистили… но он, падла, не клюнул! Оказывается, он уже звонил твоему свояку. Сразу позвонил, как только у них очко заиграло, и начал того шантажировать. А может, просто так, решил проверить, так ли оно и есть на самом деле. Но свояк твой, похоже, не из того теста. Чуть не обосрался по телефону, а для такого, как Эмир, этого хватает. Охотничий, знаешь ли, инстинкт…
– Я знаю, – сказал Иоаким. – У Эрланда чуть не нервный срыв. Слава богу, сестра еще ничего не знает.
– Короче, он ничего толком не мог сказать и только подлил масла в огонь. И тут-то Эмир начал подозревать нас – дескать, мы сознательно его надули. Что, в общем, соответствует истине…
– И что теперь делать?
– Держаться подальше от Стокгольма, пока не решим вопрос.
– И как мы его решим?
– Придумаем. В худшем случае купим картины назад, и еще заплатим проценты, чтобы их успокоить.
– О боже…
– Такова жизнь, Йонни, you win some, you lose some[146]. Меня не удивит, если мы наткнемся на Эмира в районе Нючёпинга. Эти ребята на амфетамине с самого утра, и Эмир поклялся отрезать мне яйца до восхода солнца… или что-то другое – на сербско-хорватском, я толком не понял, но наверняка не менее поэтичное…
– Чем закончился разговор?
– Я сказал, что все обсудим при встрече. Приезжай, говорю, в «Оазис», я тебя жду. Тут у меня мат в три хода, но мы играем матч из десяти партий, без часов, так что дождусь. Крути прямо в Рогсвед-центр, и все выясним. Пока суд да дело, говорю, попробую найти моего дружбана Йонни, тебе, наверное, с ним надо поговорить, это же его наколка. Это же его приятели вскрыли галерею. Я всего-навсего посредник, ты это запомни, Эмир, и не делай ничего сгоряча.
– То есть ты свалил все на меня?
– А что мне было делать? Надо было любой ценой выиграть время, они же все равно мне не поверили. И теперь гонят в своем вонючем «ламборгини» в Стокгольм, чтобы получить от нас объяснение. Уверен – они настолько глупы, что и в самом деле поедут в «Оазис»… только я их там и дожидался! И поверь, когда они меня там не найдут, настроения это им не прибавит.
Медленно густели серые апрельские сумерки. Начинались пасхальные каникулы, но синоптики накаркали низкое атмсферное давление. На дороге было больше машин, чем обычно. На заднем сиденье сидел сынок Хамрелля и играл со своим МР3. В обширном багажнике джипа лежали тщательно упакованные остатки наследства Виктора.
– Зачем ты взял отцовские картины?
– А может быть, найдем покупателя по дороге. С большой скидкой. Нам нужны наличные, причем быстро. У тебя деньги остались?
– Немного… я почти все вложил в дом на Готланде. Куда мы едем?
– Думаю, нам надо кое-что разъяснить твоему свояку – значит, едем в Гётеборг. Потом двинем на север. У меня есть кореша в Осло. Поживем там неделю-другую, пока кузены угомонятся. И для Фиделя полезно – поглядит на мир немного… Если не считать Кубу и посадку в Париже, он за границей в первый раз.
Сын Хамрелля услышал свое имя и застенчиво улыбнулся в зеркало заднего вида.
– Но это еще не все, – горько сказал Хамрелль.
– А что еще?
– Мне кажется, Лина мне изменяет.
– Ты шутишь.
– В том, что она с кем-то крутит, сомнений нет. Мне еще осенью так казалось, но тогда я ошибался. Я приглядываю за ней, насколько это возможно. Читаю ее эсэмэски, пока она спит, но ничего такого не выплыло. А когда уезжал, звонил каждый вечер – проверить, дома ли она. Не знаю почему, но это меня успокаивало…
– То есть ты считаешь, она закрутила роман на стороне?
– Я знаю, когда меня наебывают, Иоаким. Осенью я ошибался, но сейчас я уверен. В мошонке чувствую. Она исчезает в странное время по странным делам. Придумывает какие-то причины… Отключает трубку и притворяется, что не слышит мои звонки. Я ее спрашиваю – с кем ты трахаешься? Она, конечно, отрицает, но вид у нее такой, что… в общем, видно – ей не по себе. А вчера я ее спросил прямо: «Ты спишь с Фиделем?» Она начала ржать. Я никогда не слышал, чтобы она так ржала по поводу моей ревности. Это еще одно подтверждение.
– Побойся Бога, Карстен! Ты подозреваешь собственного сына!
– Я знаю колумбийцев, – сказал Хамрелль и помахал в зеркало Фиделю, который опять среагировал на свое имя. – Это там национальный спорт – жарить чужих баб. Они трахаются, как кролики. При этом рискуют жизнью! Там то и дело драмы ревности кончаются убийством, иногда – массовым. Целую семью, даже целый клан могут вырезать, если их отпрыск шпокнул соседскую жену. И они идут на этот риск! Подумай только, Йонни, они идут на этот риск! Ты должен понимать, Йонни, для восемнадцатилетнего юнца из Колумбии в Швеции – чистый рай! Здесь драмы ревности кончаются парочкой телефонных свар, потом развод, а еще через полгода бывшие супруги уже встречаются на семейных торжествах. Это, по-моему, еще большее извращение…
– Это же твоя кровь и плоть, Карстен…
– Знаю, знаю…. Это-то все и усложняет. К тому же они хитрецы… Ложные следы оставляют. Лина уходит на всю ночь, а Фидель сидит себе дома и смотрит телевизор. Потом ее опять нет, а Фидель со мной в «Оазисе». Но у них так и задумано! Через неделю исчезают оба, а потом появляются с часовым интервалом… говорят, дождь пошел. Если бы он не был моим сыном, Иоаким, тем более сыном, которого я не видел с тех пор, как он появился на свет, я бы задал ему хорошую взбучку… А что теперь? Я даже не могу спросить его, прав ли я, – он не знает английского.
– Мне кажется, ты себе все это нафантазировал.
– Даже не думай! Лина начала вести себя странно чуть не на следующий день после его появления. Начала улыбаться так… ну, ты знаешь… потом я почувствовал, что ей не по себе, когда мы все втроем… Потом без конца вызывалась показать ему город, ресторанную жизнь…
– Ты что, забыл, Карстен? Это же была твоя идея: «Покажи Фиделю город, Лина. Вы почти ровесники, ты знаешь, куда ходит молодежь».
– Да знаю я! Это была непростительная ошибка. Но сам подумай – мне-то что делать в ресторане? Скоро пятьдесят, абсолютный трезвенник… мне бы чего-нибудь попроще. Но ведь ежу понятно – что-то там между ними произошло, пока они шлялись. Уверен, что этот поганец полез на нее в VIP-сортире на Стуреплане. И теперь ухмыляется – как же, наставил рога родному отцу.
Фидель снова искательно заглянул в зеркало. Хамрелль принужденно улыбнулся.
– Everything’s all right back there[147]? Fidel? You are no… черт, как будет «тебя не укачало» по-английски?
– Откуда я знаю?
– You are not sick from driving? You want to throw up? Just say hello and I will stop the car[148].
Фидель непонимающе покачал головой и вернулся к своему МР3-плееру.
– Не могу поверить, что это правда, – продолжил Хамрелль. – Не могу поверить, что она обманывает меня с моим сыном. Как ты считаешь – есть чему удивляться? Но в этом мире надо быть параноиком, иначе тебя будут иметь все кому не лень. На днях она повела его пить кофе, а вернулись они через пять часов. Сколько раз можно отжарить Лину за пять часов?
– Откуда мне знать?
– Ну да, откуда тебе знать… Но я-то знаю! И Фидель теперь знает. О дьявол!
Иоаким сочувственно кивнул. Если Карстен говорил о том случае, когда Лина оставила Фиделя в кафетерии в Доме культуры и пошла по делам, то большую часть этих дел составило пребывание в постели Иоакима на Кунгсхольмене. Мальчик послушно ждал, просматривая испанские газеты, пока Лина его не забрала. Ей не надо было даже просить его ни о чем, потому что Фидель совершенно ничем не интересовался – на грани с апатией. К тому же сплетничать он мог только по-испански, а никто из них этого языка не знал.
– Если бы это был не он, а кто-то другой, ну хоть ты, Иоаким, я бы тебе сделал обрезание ржавой пивной крышкой, причем без анестезии.
Иоаким засмеялся невинным смехом, дабы еще раз показать, что ему-то скрывать нечего. Он попытался представить себе Фиделя и Лину в соитии и, к своему удивлению, понял, что это совсем не так сложно. Его даже слегка затошнило.
– В общем, я с тобой согласен, – заговорщически сказал он. – Он слегка флиртует с Линой, когда они вместе. Но как ты добьешься от него правды? Он же ни слова не понимает.
– Вот об этом я и говорю: он мой сын. Я должен проявлять снисхождение и великодушие. Я должен прощать. На днях говорил по телефону с его матерью, она говорит, ему надо вернуться в Медельин самое позднее в мае, если он по-прежнему хочет ехать на Кубу учиться. Я передал ему трубку, они о чем-то пощебетали, а потом она сказала, что планы не изменились – к определенному числу мальчик должен быть в Гаване. Я ему уже заказал билет. Но до этого мне надо как-то дожить. Подумай, я же тоже пацан заброшенный, рос без отца. На его месте я бы возненавидел такого папашу и, может быть, сделал бы то же самое: отомстил.
– А ты не пытался его спросить?
– Пытался, мать его… как со стенкой. Вот послушай… Фидель!
Молодой человек любовался сёрмландским пейзажем.
– You like Lina, Fidel? You think she is a nice blond girl?[149]
Карстен приветливо улыбался в зеркало.
– Si, yes! Very nice, Lina[150]…
– Больше из него не вытянешь, – вздохнул Хамрелль. – Но я был в Колумбии, я знаю местных… Мужики ведут себя как свиньи. Само понятие «мачо» получает новый смысл, если ты там побывал… Проклятье, геморрой меня доконает. Надо остановиться…
Они заехали на заправку «Статойл» недалеко от Кольмордена, заказали кофе и бутерброды и сели за столик с видом на парковку. Начались пасхальные каникулы – двери то и дело открывались и закрывались, пропуская озабоченных родителей, волочащих за собой насупленных ребятишек. Над зубчатой стеной печальных елей за дорогой на свинцово-сером небе расплывалось светлое пятно – напоминание о закате.
Что же, можно уехать в Колумбию… совсем не так глупо, подумал Иоаким. А если захватить с собой Лину, можно все свалить на Фиделя…
В углу стоял телевизор. Шла какая-то викторина, все участники выглядели невероятно счастливыми, а за окном после первых робких капель обрушился настоящий ливень, всемирный потоп… мысль покинуть эту страну казалась все более заманчивой. Может быть, его жизни и в самом деле нужен новый старт? Надо бы признаться Карстену, что он трахает его невесту, выложить карты на стол, стоически перенести получасовое избиение на парковке, вернуться на попутных в Стокгольм, пойти в приемный покой, наложить, если надо, швы, а потом похитить Лину и уехать с ней в первую попавшуюся страну, лишь бы климат был почеловечнее. Но по размышлении он понял, что план этот для него неразумен. Дело было даже не в том, что он устроен, как некий сгусток женской антиматерии со всеми присущими такому физическому явлению недостатками – их как раз он давным-давно научился скрывать от новых партнерш… нет, ему просто-напросто не хватало решимости. Вечно и безнадежно нерешительный лузер, с горечью констатировал он.
– We have fi nally decided where to go, – обратился Хамрелль к сыну. – В Гётеборг. Компренде? We shall visit some friends. And maybe see if Liseberg is open. You know Liseberg? It’s a great place![151]
– Si, Гётеборг, – сказал Фидель без большого энтузиазма.
– And then maybe to Oslo. A lot of nice blond girls there in Norway. With great tits! They are look like Lina![152]
Где-то на периферии сознания у Иоакима опять возникла картинка: тела Лины и Фиделя, сплетенные в любовном акте. Фидель, взяв свой кофе, пошел к газетному столику – и Иоаким почему-то испытал чувство облегчения.
– И что будем делать дальше? – спросил он.
– Позвони свояку и спроси, можно ли у него переночевать.
– А почему не в гостинице?
– Потому что не время швыряться бабками. А если Эмир каким-то образом узнает, что мы рванули в Гётеборг, за ним не заржавеет открыть «Желтые страницы» и обзвонить все отели.
– Если звонить Эрланду, надо четко определиться что говорить. И не только ему, но и сестре – она вот-вот вернется домой.
– Сказано – сделано. Звони!
– Попозже. Я сейчас не в ударе…
Дождь еще прибавил, хотя, казалось бы, сильнее некуда – прямо как в одном из клавиров Листа, где написано «быстро, как только можно», а на следующей странице – «еще быстрее». Все больше промокших северян искали защиты в кафетерии. Иоаким заметил, что Фидель в отдалении обнаружил стойку с журналами для мужчин и вдохновенно перелистывает «Слитц»[153].
Он включил мобильник. Тот коротко пискнул, возвещая наличие новых эсэмэсок. Но не от Эрланда, а от Лины. Глянув на ничего не подозревающего рогоносца напротив, Иоаким почему-то не решился открыть сообщение.
– Пацану скучно, – сказал Хамрелль. – Он просто гениально держит маску. Ты видел когда-нибудь более хладнокровного типчика? Сначала он топчет папину невесту. Потом спокойно садится с нами в машину и едет неизвестно куда, даже не спрашивает, почему не взяли Лину. Словно бы ему один хрен. А теперь как ни в чем не бывало разглядывает журнальчики.
– А она знает, что ты уехал?
– Я ей сказал, что уезжаю по делам и Фиделя беру с собой. Сказал – на неделю.
– А она знает, что я с тобой?
– Нет. А что?
– Так, ничего…
Мобильник снова пискнул. Что-то подсказывало ему, что это опять Лина, наверняка предлагает встретиться по случаю отъезда фирмы «Хамрелль и Сын» в неизвестном направлении «по делам бизнеса». Он отключил телефон и сунул в карман.
– И какого хрена его вообще несет на Кубу? Ей-ей, он прибабахнутый… Неужели ему нравится Кастро и все это коммунистическое позорище? Если бы не определенное сходство, ни за что не подумал бы, что это мой сын.
Хамрелль поднялся, потянул с собой Иоакима, и они подошли к Фиделю. Отложив «Слитц», тот теперь копался в более раскованных мужских журналах. С невинной улыбкой он содрал пластиковую упаковку с «Актуэль Рапорт»[154].
– You have to pay for the magazine now, – сказал Карстен с отеческой улыбкой. – You could have asked me before we left Stockholm? I have tons of these magazins at home. Hundreds and hundreds of them. I told you I was in the business. You want to read something dirty in the car?[155]
– Como?
– Да иди ты! You want me to buy a dirty magazine for you?[156]
По-видимому, Фидель испытывал неодолимое желание поскорее познакомиться со шведской греховностью, потому что он содрал упаковочную пленку с полудюжины журналов. С «Кошечек», например, где обещали интересный репортаж, как у Пэрис Хилтон снимали домашнее видео.
– Why don’t you read a spanish paper instead? Or a book? All right Fidel, you like this fi lch? Let’s take a look in the car and see if I have some sexy magazines there[157].
В ожидании, пока Карстен закончит чересчур взволнованную, на взгляд Иоакима, лекцию своему ровным счетом ничего не понимающему сыну, он тоже стал перелистывать журналы. Оглавление выглядело многообещающим, к тому же к журналу прилагался бесплатный видеодиск. Но не успел он приглядеться к нескольким любовным актам образцово равнодушных к последствиям своих страстей красавиц и красавцев, мощная рука Карстена схватила его за ворот и потянула вниз. Иоаким еле успел присесть на корточки за стойкой с журналами. Лоб Хамрелля мгновенно вспотел.
– Ни звука! – прошипел он. Сын глядел на отца, ничего не понимая. На этот раз Хамрелль не стал экспериментировать с английским, а просто прижал палец к губам.
В щелочку между пачками «Мура» и «Хастлера» Иоаким увидел двоих, торопливо заказывающих кофе у кассы. Лица их были ему хорошо знакомы и особой радости не выражали. Прямо у входа распластался вызывающе красный «ламборгини». Проходящие мимо автомобилисты с удивлением поглядывали на сидящую на корточках троицу – не собрались ли они из каких-либо соображений справить нужду прямо здесь, за журнальным стендом? Марио и Эмир, слава богу, очень торопились и пили кофе, не отходя от стойки. А поскольку порнография, если верить психотерапевту Эрлингу Момсену, помогала Иоакиму бороться с метафизическим страхом и бежать от реальности, он решил полистать «Кошечек». Иоаким чувствовал острую потребность как в первом, так и во втором: победить страх и удрать куда подальше.
– На твоем месте я бы этого не делал, – прошипел Карстен, не отводя глаз от кассы.
– Чего – этого?
– Не ворошил бы эту муру. Могут встретиться картинки, которые ты не хотел бы видеть.
– Какие еще картинки?
– Или фильм, который тебе захочется покритиковать…
– О чем ты?
Хамрелль горестно вздохнул:
– Ну… я имею в виду некоторые интерьеры… они могут показаться тебе знакомыми. И люди знакомые могут попадаться… там один такой… с ключом Бако в руке…
– Сукин ты сын, Карстен!
– Sorry…
Иоаким поглядел в щелочку – Марио и Эмир пружинистым амфетаминовым шагом направились к своему «ламборгини». Он перевел взгляд и на обложке распутного мужского журнала обнаружил коллаж кадров из фильма, где тут же узнал знакомых: тут были и диссидентка Кайза, и заботливая Тильде… «Немцы в восторге от „Лосей и грудей“, – гласила рубрика. – Бесплатный видеодиск и множество фотографий со съемок фильма».
– Сукин сын, – произнес Иоаким с еще большим чувством.
– Знаю, знаю! Но у меня не было выбора! Не волнуйся, народ к этому относится вполне деликатно… я имею в виду, если попадается кто-то из знакомых в таких репортажах…
– Ты же клятвенно обещал, что в Швеции фильм не пойдет!
– Не помню, чтобы я так уж клятвенно обещал…
– Обещал! Клятвенно!
– Мне это запомнилось по-другому…
– Ты за это получишь!
– Ясное дело, получу, Йонни, я уже дробь выбиваю зубами. И вообще, с чего ты решил, что можно верить такому типу, как я? Я бы на твоем месте не поверил.
По неписаным правилам уголовного мира им полагалось скрываться среди соблазнительных журналов еще минут пять. «Ламборгини» рванул с места и исчез со скоростью «Формулы-1». Промокшие путешественники по-прежнему искали защиты в теплом кафетерии. На шведское королевство обрушился проливной весенний дождь…
– До Гётеборга не больше часа, – сказал Карстен, сворачивая за Йончепингом на стоянку с двумя сортирами. – Мне надо облегчиться. А ты позвони пока свояку. Где-то же нам надо остановиться.
Хамрелль и сын разошлись по скворечникам. Иоаким набрал номер Эрланда. Тот говорил коротко и собранно. Жанетт приехала, и он рассказал ей все, свалив главную вину на Иоакима.
– Ты должен меня понять, мне и так хватает. Вся моя семейная жизнь висит на ниточке.
Шантажисты пока не давали о себе знать, но кто знает, хороший это знак или наоборот. Надо как можно скорее встретиться и все расставить по своим местам. Жанетт хочет заявить в полицию, и он, Эрланд, все более склоняется к мысли, что она права.
– Вот и хорошо, – сказал Иоаким, – мне это очень подходит. Я в получасе езды от Гётеборга, вынужден был уехать из Стокгольма.
Эрланд сообщил ему дверной код. В их кооперативе есть комната для приезжающих, он оставит ключ в двери. Они с Жанетт идут сегодня в гости. Завтра утром можно будет все обсудить.
– Я не один. Со мной приятель, он тоже замешан во всей этой истории. И его сын из Колумбии.
– Уголовники?
– Не больше, чем мы с тобой, Эрланд… к тому же у вас с его сыном общие политические симпатии: он носит обязывающее имя Фидель.
– Не доставай меня, Иоаким…
– И ты меня не доставай! Какое это все имеет значение? Мы все в одной лодке. И ты мне, кстати, не рассказал – зачем тебе деньги?
Свояк понизил голос, и Иоаким понял, что Жанетт где-то поблизости.
– В другой раз, Иоаким… И кстати, когда завтра зайдет разговор, имей в виду: это ты меня попросил позаботиться о подделках тестя. Почти вынудил. И ни о каких деньгах даже речи не было…. Я просто оказал тебе услугу и послал картины в Стокгольм. Даже понятия не имел, что ты собираешься их продать.
В трубке опять пискнул сигнал SMS. Он догадывался от кого.
– Это звучит по меньшей мере нелепо, Эрланд.
– Вся история нелепа. Откуда мне было знать, как ты распорядишься своим наследством? Я считал, ты хочешь сохранить картины как память о Викторе… что они для тебя представляют, так сказать, ностальгическую ценность… Я ошибался, сказал я Жанетт. Я совершил ужасную ошибку! Я был слишком доверчив. Конечно, я ее обманул, я же обещал уничтожить картины, но ты так уговаривал, и я просто не мог отказать… согласен на такую версию, Йокке?
– Согласен…
– Ну вот и хорошо. Гостевая комната в вашем распоряжении, увидимся завтра.
Он нажал кнопку отбоя и открыл сообщение. «Карстен с Фиделем уехали. Что скажешь насчет минетика у меня дома?» И смайлик в конце.
Он положил телефон на панель инструментов. Около деревянного сортира стоял Фидель и дрожал от холода. У него снова возникло неясное видение: Лина, постанывая, усаживается на огромный индейский тотем молодого человека. «Si, – хрипит Фидель с реверберацией, как в студии. – Si, seniora, I like very much!»
В этот северный пасхальный вечер столбик термометра медленно, но верно опускался к нулю. Дождь сменился мокрым снегом – если кто-то подумывал о самоубийстве, более подходящего момента найти было трудно. Иоаким решил подышать, но через две минуты вернулся к машине – его начал бить озноб. Фидель тоже вышел покурить. Хамрелль сидел в водительском кресле и, похоже, возился со стерео. Над северо-западом Сконе сгущалась ночная тьма. На фоне черного силуэта леса освещенный салон автомобиля выглядел как только что приземлившаяся летающая тарелка. По дороге на Бурос проехала одинокая машина. Здесь, оказывается, тоже живут люди, подумал Иоаким, живут как умеют, и наверняка куда достойнее, чем я.
Он открыл дверцу и в то же мгновение услышал странный звук, что-то похожее на стон, и тут же понял, что это был стон боли, изданный им самим. Нервы реагируют с различной скоростью, успел он подумать, потому что услышал этот стон боли еще до того, как эту боль почувствовал. Она мгновенно распространилась от носа на скулы, ее пульсирующие импульсы, как электрические щупальца, остановились на долю секунды на шее и медленно затихли между лопатками. Даже звук удара, когда кулак Хамрелля с зажатым в нем забытым мобильником Иоакима встретил его прямо в лицо, немного задержался, появившись одновременно с легким хрустом – не сломана ли скуловая кость? И в последнюю очередь взорвалось что-то в затылке – эта красная вспышка стала последним, что он успел заметить, потому что отключился.
Когда он очнулся, сортиров на горизонте уже не было. Хамрелль протягивал ему носовой платок.
– За что?
– Радуйся, что жив остался!
– Ты что, чокнулся?
– Выбирай слова, подонок. И утрись, а то запачкаешь машину.
Иоаким ощутил лакричный вкус крови во рту. Он вытер лицо, насколько сумел, свернул платок в комок и прижал к носу.
– И знаешь, что хуже всего? – с неожиданно театральной высокопарностью воскликнул Хамрелль. – Как ты мог подливать масло в огонь моих низких подозрений? Ты пытался настроить меня против собственного сына! А это был ты! Все время это был ты!
Карстен покрутил мобильником перед его несчастным носом, и Иоаким не мог не признать, что текст на дисплее носит изрядно компрометирующий его отношения с Линой характер. «Что скажешь насчет минетика?..»
– Мне очень жаль, Карстен, но…
– Заткнись! Ни слова больше, иначе я и в самом деле выброшу твой труп на лесосеке.
В зеркало Иоаким увидел расплывшуюся в радостной улыбке физиономию Фиделя.
– Que fuerte! – воскликнул Фидель и восхищенно подул на сложенные щепоткой пальцы. – De puta madre, es como Hollywood aqui![158]
За все время знакомства с Фиделем Иоаким никогда не слышал, чтобы тот произносил такую длинную фразу. Он сказал ее немного в нос, почти фальцетом, и, что самое странное, Иоаким понял каждое слово.
– Сделаем так, – сказал Карстен тоном, против которого не хотелось протестовать. – Все забудем. Сделаем вид, что ничего не было. И никаких соплей, никаких объяснений. И ни слова моему сыну! И вот еще что – никаких контактов с Линой, пока не вернемся. А тогда, Кунцельманн, мы пойдем на семейную терапию. Втроем!
Отец у нас все же общий, хоть мы и такие разные, думал Иоаким, стоя рядом с сестрой в галерее на Васагатан. Последний раз они виделись на похоронах, после этого успели пронестись целые эпохи времен и событий. Интересно, когда теперь они увидятся в следующий раз.
– А что с твоим глазом? – спросила Жанетт. – Тебе надо к врачу.
– Небольшое путевое приключение. С носом хуже. Кажется, он сломан. И говоря честно, я это заслужил…
На стене в канцелярии галереи висело зеркало двадцатых годов – Иоаким помнил его по квартире на Чёпмансгатан. Человек, глянувший на него из зеркала, выглядел как гладиатор после боя. Левый глаз лилово-коричневым колоритом напоминал картину Бацци, которую Жанетт только что выложила на стол. Но, главное, нос – мало того что он нестерпимо болел, он еще и показывал немного налево, как Иоаким только сейчас заметил.
– Драка в машине с новообретенным приятелем? Впрочем, меня это удивляет куда меньше, чем твоя внезапная искренность.
Она приоткрыла штору – в зале галереи на козетке сидели «Хамрелль и Сын». Они ждали, как два школьника, нервничающих перед экзаменом. На стенах было пусто – мертвый сезон между двумя выставками.
– Что ты хочешь делать с Бацци? – спросил Иоаким. – Я неисправимый грешник. Не мне решать.
– Живопись просто фантастическая… Самое странное – я не помню, чтобы он мне ее показывал.
– Может быть, боялся, что ты что-то заподозришь?
– С чего бы? Я же скушала все остальное! Он мне много чего показывал… у меня даже тени сомнения не возникало…. Если бы он повесил на стенку в Фалькенберге Караваджо или Веласкеса, я бы, может, и задумалась. Но он все время держался в границах правдоподобия. Мне кажется, было два Виктора… Как же это можно – полжизни посвятить обману собственных детей?!
Она внимательно разглядывала полотно. Иоакиму показалось, что она надеется услышать голос Виктора, какое-то цветовое эхо…
– А ты видишь, что одна из фигур – автопортрет отца?
Он заметил это давно: молодой Виктор Кунцельманн в одеяниях итальянского ренессанса. Даже руки были отцовские – он ловил брошенное ему яблоко.
– Он оттолкнулся от картины «Святой Себастьян» или как там она называется… Я слушала лекцию о Вазари в университете… Портрет святого… Кажется, его использовали для крестного хода.
– Остается вопрос: «А кто же второй?»
– Этого мы никогда не узнаем…
Жанетт глубоко и печально, с перерывом, вздохнула:
– Знаешь, он мне снится почти каждую ночь. Странно, всегда в одном и том же возрасте. Я только на днях сообразила – я вижу его таким, каким он мне казался, когда мне было пять или шесть… удивительно, правда?
Йокке Кунцельманну с его эмоциональной тупостью Виктор не снился никогда. Этот тип с кастрированной совестью, Кунцельманн-младший, вообще не ощущал потери отца, хотя должен бы. Такой уже он есть… безнадежный случай, что-то с ним не так, надо бы поставить диагноз и лечить его, этого Йокке, но, похоже, жизни не хватит… что же я за человек такой? Ему захотелось уткнуться в колени Жанетт и заплакать, но он сдержался и распаковал последнего Кройера:
– А с этим что делать?
Если бы не подпись художника, не название его почерком на обороте («Итальянские крестьяне в Сора де Кампанья», 1880), если бы не подделанный провинанс (последняя продажа: Дженни Адлер, Копенгаген, в 1901 году продала картину лондонской галерее «Крафорд и Сын»)… если бы не некоторые изыскания, проведенные Иоакимом в художественном отделе Государственной библиотеки – если бы не все это, он ни за что бы не подумал, что это Кройер. Но сейчас он знал, что этот Кройер вполне мог быть подлинным.
– Это из его итальянских поездок, – сказал Жанетт. – Ничего общего со скагенской игрой света… Задумано, как ранний Кройер.
– Виктор содрал мотив с наброска из дневника Кройера, – сказал Иоаким. – Я немножко поиграл в детектива. Есть другая работа из той же поездки, итальянские шляпных дел мастера или что-то в этом роде, он тоже сначала сделал эскиз, а потом уже написал маслом. На той же странице в дневнике и крестьяне… Кройер никогда к этому наброску не возвращался, селяне так и остались в карандаше. За него постарался Виктор. А колористическое решение позаимствовано у шляпников.
– Он прекрасно знал, что это он никогда не продаст. Слишком подозрительно. Так что отец, похоже, написал эту штуку просто для собственного удовольствия.
– А мог бы и найтись какой-нибудь частный коллекционер… из доверчивых.
Иоаким посмотрел в щелку – Хамрелль задремал на диванчике для посетителей, Фидель тоже клевал носом.
– Ты имеешь в виду кого-то конкретного?
– Семборн, к примеру…
– Я притворюсь, что этого не слышала… Есть такие вещи, о которых лучше не знать. Речь же идет о папином старом адвокате, что бы там про него ни говорили…
Она подошла к письменному столу, где стояли реликвии их детства. Виктор сразу узнал красивый, в стиле югенд, письменный прибор Виктора. И фотография в рамке – он сам и Жанетт, еще совсем маленькие, в начальной школе.
– Оставим его в покое… Могу я взять это полотно?
– Делай что хочешь. Только меня не вмешивай.
Его сестра – поистине великодушный человек, подумал Иоаким. Накануне они провели военный совет. Она, не повышая голоса, высказала все, что думает о позорной деятельности Иоакима, – спокойно и аргументированно. Потом, в присутствии Иоакима и Эрланда, позвонила в полицию и сделала заявление – ее шантажируют какие-то типы, которые неизвестно почему вообразили, что купили украденные из ее галереи картины. При этом она не сказала ни слова, что в деле замешан Иоаким. Хамрелль, которого тоже допустили к переговорам, заверил ее, что никакие неприятности с законом им не грозят.
– Эмир и Марио не из тех, кто побегут в полицию заявлять, что мы с Йокке продали им подделки. Они будут молчать как рыбы.
Будем надеяться, что он прав, подумал Иоаким. Будем надеяться. Сестру мы выгородили и теперь остались один на один с мстительными братьями. В последней эсэмэске на мобильнике Хамрелля кузены Маркович обещали кастрировать их обоих, утопить в Меларен или просто-напросто пристрелить где-нибудь в лесу.
– Что вы будете делать дальше? – спросила Жанетт.
– Точно не знаю. Я в компании путешественников… мой голос – лишь один из трех. О Стокгольме, во всяком случае, речи и быть не может, пока мы не решим наши маленькие проблемы.
– А что касается Семборна, – сказала сестра задумчиво, – он неплохо погрел руки на папиных деньгах. Наш ревизор еще зимой приводил в порядок бумаги… Я не хотела тебе говорить, но речь идет о нескольких сотнях тысяч.
– Ты заявила?
– Нет… Я знала, что папа продал ему картины, так что, думаю, выходит так на так. – Она привычными движениями упаковала обе картины. – И знаешь, я не возражаю, если вы продадите ему еще что-нибудь. Как бы привет от Виктора с той стороны…
Какой она все же широкий человек, опять подумал Иоаки м. Вдруг ему пришло в голову, что вполне можно попытаться выкупить картины у Эмира и Марио. У него есть кое-какие инвестиции, можно продать дом на Готланде или, во всяком случае, заложить. И еще одна возможность – продать оставшиеся картины Семборну.
Может быть, их будущее не так уж безнадежно… Сестра, можно считать, дала ему зеленый свет на продажу работ отца, лишь бы он не впутывал ее в свои махинации. Он так и не понял, почему она изменила свое решение. Скорее всего, просто устала бороться с прирожденной бесстыжестью брата? А может быть, это и есть сестринская любовь?
Из зала донесся звучный зевок Хамрелля. Иоаким, как улитка, высунул голову из-за шторы и увидел, что Фидель прячет в рюкзачок «Кошечек».
– Вы закончили? – спросил Хамрелль. – Мне кажется, время парковки уже вышло. Надо бы сбегать доплатить.
– Одну секундочку…
Он снова спрятался в раковинку офиса. Жанетт стояла у окна и была похожа на средневековую мадонну кисти Виктора Кунцельманна. Вдруг он заметил ее разительное сходство с Сесилией. Может быть, поэтому он так на Сесилию и запал? Но Сесилии Хаммар в его жизни больше не было… Это он понял вчера, когда по совершенно немыслимому стечению обстоятельств столкнулся с ней в очереди в «Прессбюро». Оказывается, она приехала в Гётеборг писать отчет о мебельной выставке. Пока они стояли в этой очереди, Сесилия успела ему рассказать, как некий ухажер хотел подарить ей картину П. С. Кройера, но она не взяла – ей почему-то показалось, что за этим стоит какая-то темная история.
– Ты знаешь что-нибудь об этом известном скагенском художнике? Ты же все-таки сын известного эксперта…
Ровным счетом ничего, заверил ее Иоаким, никогда этим не интересовался. Она подозвала такси, он попрощался и пожелал ей счастья с Саскией.
Вот такие иронические эскапады проделывала с ним судьба – странные параллели времен и событий, словно кто-то там, наверху, находил удовольствие в том, чтобы постоянно тыкать его носом в его прегрешения.
– Мужу очень хотелось бы поговорить поподробнее с Фиделем, – неожиданно сказала сестра. – Когда Эрланд понял, что тот собирается на Кубу учиться на врача, он прямо загорелся. Спросил, не хотите ли вы остаться еще на одну ночь. Без всякой иронии, как будто ничего особенного не происходит. Я уже научилась с этим жить.
– А ты не думала с ним разойтись?
– Знаешь, есть много причин, по которым люди живут вместе, из них больше половины неосознанных.
Что же со мной происходит, подумал Иоаким. Ему вдруг начали одна за другой вспоминаться сцены детства, как они с отцом сидели в кухне, гуляли по набережной. Он вспомнил, как любил их отец, и бог с ним, с этим его двойным существованием – он и в самом деле любил своих детей больше жизни. Но почему же отражение этой любви несет в себе одна Жанетт?
– Куда держим путь? – спросил Хамрелль, вставляя в проигрыватель компакт-диск.
– На юг.
– К свету, значит. Я не против.
Халландский приморский пейзаж только добавил воспоминаний. Он вдыхал морской воздух и вспоминал эпизоды детства, Жанетт и отца.
– Один знакомый отца собирает поддельного Кройера. Он живет в Фалькенберге!
– Да ты настоящий преступник – тебя так и тянет на место преступления… Did you hear, Fidel? We are going to visit Joakims hometown[159]… А потом что? Есть еще идеи?
– В порядке поступления.
Вдоль прибрежной полосы тянулись низкие сосны и заросли вереска. Перед мысленным взором Иоакима появлялись все новые и новые картинки детства – они, как пузырьки света, поднимались из давно, как ему казалось, погашенных уголков памяти.
– Так и продолжим на юг, – предложил Хамрелль. – Все равно мы как бы путешествуем по следам твоего отца. Из Фалькенберга поедем в Берлин. Я был как-то в Берлине на эротической выставке. Можем поискать отцовского компаньона. Ты же должен найти ответы на вопросы, Йонни!
– А что делать с твоим сыном?
– Пусть посмотрит мир. Есть и другие города, кроме Стокгольма и Гаваны.
Появились первые указатели на Фалькенберг. На горизонте торчала знакомая с детства цементно-серая башня элеватора. Они уже въезжали в город.
– Конечно, – сказал Иоаким. – Именно Берлин. Самое время. А пока сверни направо, к центру.
6
Виктор увиделся с Георгом Хаманом только через год после знаменательного письма. За это время он приобрел репутацию самого выдающегося реставратора в Скандинавии. Отъезд Тугласа в Америку, казалось, никак не повлиял на дела фирмы. Слухи множились сами по себе. Поток заказов в Пеликаньем переулке не иссякал.
Как-то ему заказали реставрацию потолочной росписи Эренштраля в Рыцарском собрании. Ремонт производился за счет частного лица, но то, что заказ ушел к Виктору, а не в Национальный музей, было сенсацией.
Он выполнил работу в рекордно короткий срок. Роспись, представляющая окруженную семью добродетелями Мать Свею, была в настолько плохом состоянии, что многие считали ее утерянной для будущих поколений. Но когда Виктор закончил работу, краски сияли во всем великолепии, и невозможно было определить, какие мазки нанесены в семнадцатом веке, а какие – на четыреста лет позже. Национальный музей, несколько уязвленный, что заказ достался не их мастерам, а Виктору, извлек из неудачи пользу и предложил ему постоянную должность реставратора. Отказ был расценен как причуда эксцентричного гения.
Собственно говоря, весь этот год он проработал в так называемом Эренштральском ателье. Ему было доверено отреставрировать в Стрёмхольмском замке несколько полотен придворного художника, изобразившего любимых лошадей Карла XI в натуральную величину. Помимо этого, антиквары поручали ему полотна учеников Эренштраля Микаэля Даля и Давида фон Крафта и конечно же работы дочери Эренштраля Анны Марии, которая немало потрудилась в отцовском ателье. Он с удивлением и горечью обнаружил, насколько трудноистребима вросшая за годы войны в его сознание фальсификаторская жилка – он непроизвольно отмечал важные детали, а самое главное, мысленно просчитывал риски. Например, Даль будет подвергаться не такой жесткой экспертизе, как картина, вышедшая непосредственно из-под кисти мастера… Изображения животных, которых так любил писать Эренштраль, вызовут меньше подозрений, чем, скажем, подделки портретов дворян и их семей. За это время Виктор также понял, что Эренштраль был настолько плодовит, что эксперты были просто не в состоянии составить подробный каталог, где находятся его работы и какие именно.
Весной 1952 года его разыскал интендант Национального музея Клес Хольмстрём, заместитель заведующего отделом барочной живописи. Они собирались выставить несколько полотен Эренштраля за границей, но решили на всякий случай послать копии. Не мог бы Виктор им помочь?
Скорее всего, до молодого музейщика дошли слухи, что Виктор, работая в Стрёмхольмском замке, сделал несколько превосходных копий этюдов Эренштраля. Хольмстрём попросил сделать что-нибудь на пробу, и уже через две недели Виктор представил копию знаменитой работы «Смотритель источника в Меведи и его сыновья».
– Невероятно! – только и мог вымолвить потрясенный интендант, переступив порог мастерской. – Я бы не отличил от подлинника. Вы, наверное, использовали старые рецепты пигментов?
– Не везде, иначе это заняло бы намного больше времени. Но я, прежде чем начать, провел два дня наедине с оригиналом. Изучал характер мазка, старался понять палитру…
– У нас в запаснике стоят несколько копий Рембрандта, сделанных Юзефссоном, но по сравнению с вами он просто любитель.
– Для того чтобы сделать живое полотно, надо думать как художник, а не как копиист, – ответил Виктор. – В этом вся хитрость.
И это было правдой. Пока он работал над этим холстом (вначале в реставрационной мастерской музея, потом у себя в ателье), в памяти постепенно оживали юношеские годы – ведь он учился в Художественной ака демии в Берлине, мечтал быть художником, а не реставратором. Копирование – это техническая задача, чисто инженерная работа, где форма подчинена строгим правилам, а в истинном искусстве правил нет, каждый удар кистью уникален, с каждым мазком и слоем краски создается нечто новое, чего раньше не существовало. В истинном искусстве нельзя отделить форму от содержания, но способы их воссоединения приходится каждый раз открывать заново. Если посмотреть со стороны, он так и остается ремесленником… эта мысль немало его огорчила. Но если глянуть шире, все не так просто. По сути, он сейчас сам принадлежал школе Эренштраля, он был одним из лучших его учеников, учеником, понявшим и освоившим стиль учителя лучше и глубже всех – с той только разницей, что этот ученик опоздал на лекцию лет этак на четыреста.
– Вы, я думаю, могли бы нам очень помочь в инвентаризации, – сказал Хольмстрём. – Мне кажется, вы как раз тот самый человек, который легко найдет ошибки в каталогах.
– Если вы ищете антиквара, то, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Я реставратор и немного копиист.
– Вы меня не поняли. Нам нужен человек с вашим чутьем, чтобы он мог с первого взгляда, инстинктивно определить, принадлежит картина кисти мастера или кого-то из его учеников. Наука идет вперед семимильными шагами. Рентгеновские исследования дают все более точные результаты. Химические и спектральные методы развиваются очень быстро. Наши знания становятся все глубже… И мы иногда находим подделанные работы, приобретенные в те времена, когда мы еще мало что знали. Или путаемся, где рука мастера, а где – его ученика. Конечно, у старых экспертов не было таких знаний и умений, но в то же время, получив на вооружение все эти технические достижения, мы, как это ни печально, потеряли остроту взгляда.
Они стояли в переулке у мастерской. Картину аккуратно вынесли и погрузили в пикап. Виктор посмотрел на море, словно заключенное в раму спускающихся к Шеппсбруну темных домов Пеликаньего переулка. Этот молодой человек прав. Техника стала намного лучше, но она понемногу парализует интуицию, вытесняет что-то глубоко человеческое… Ведь картины пишутся для людей, а не для спектроскопов.
– Мы, скажем, могли бы вас приглашать на разовые контракты, тогда вы ничем не будете связаны.
– Это звучит лучше. Не так обязывающе.
– Если я правильно понимаю, вы предпочитаете работать самостоятельно. Есть, правда, одна проблема… Наша работа связана со столицей, а вы, кажется, собираетесь путешествовать…
Виктор кивнул. Он рассказал интенданту о новых заказах из-за границы. Даже за рубежом он стал известен, хотя непонятно по каким каналам.
– Кстати, если вы заинтересованы помочь нам пополнять собрание, почему бы вам не подсказать, если наткнетесь на что-то интересное? Естественно, за разумную цену.
– У вас, должно быть, и без меня немало разведчиков на континенте.
– Конечно, но все равно не хватает. Нельзя объять необъятное, откуда нам знать, например, чем заняты эксперты в музеях. К тому же, если мы избежим международных аукционов, сэкономим кучу денег.
– Вы просите меня следить, не продают ли что частные коллекционеры?
– Или организации. Я не даю вам никакого конкретного задания… Просто быть в курсе и сообщать, если что-то подвернется.
Вскоре после этого разговора Виктор уехал в Мадрид – его пригласили принять участие в инвентаризации собрания Эль-Греко в музее Прадо. Это было его первое по-настоящему престижное приглашение, хотя он выполнял всего лишь роль советника главного реставратора по анализу связующих веществ. Виктор был всего лишь одним из многих приглашенных экспертов, и работы было мало. Полотна оказались в хорошем состоянии, испанские реставраторы уже выполнили все профилактические работы. Оттуда он поездом поехал в Париж – его пригласил крупный аукционный дом для экспертизы нескольких картин датского золотого века. Он реставрировал повреждения грунта на двух полотнах Кёбке[160] перед продажей, неделю посвятил Лувру, а также осуществил давнее свое намерение – побывал в институте Вильденштайна. Пообедал с заведующим, познакомился с сотрудниками научного отдела и получил разрешение самостоятельно покопаться в огромном собрании каталогов. В тот же вечер он уехал в Голландию…
В каталоге одного из торговцев картинами в Амстердаме Виктор, к своему удивлению, обнаружил, что продается холст Адольфа Менцеля всего за двадцать тысяч гульденов. Председатель комиссии сказал, что цена такая низкая, потому что хозяину картины срочно нужны деньги. Этого немецкого реалиста девятнадцатого века Виктор знал с юности, а в мастерской Тугласа ему довелось реставрировать небольшой холст художника, попавший в Стокгольм после войны. Он дал телеграмму Хольмстрёму, объяснил, в каких рабочих каталогах он может найти эту работу, и немедленно получил ответ с поручением приобрести картину.
Виктор попросил разрешения остаться с картиной наедине. На полотне был изображен интерьер буржуазного дома. Женщина выходит из комнаты – через полуоткрытую дверь видна только спина. Окно открыто, штора колеблется от ветра… Уже через пару минут он понял, что перед ним подделка. Дело было не в графологии – как известно, даже собственноручная подпись Менцеля сильно варьирует от картины к картине, но сам мазок был совершенно не типичен для Менцеля. К тому же видны были небрежности в деталях, чего сам Менцель никогда бы не допустил, а пигменты принадлежали явно более позднему периоду, особенно в драпировках. И провинанс был неудовлетворительным. Совершенно неясно, например, где картина была во время войны. А факт продажи ее частным коллекционером из Данцига Третьяковской галерее в Москве трудно проверить по политическим причинам. Как бы то ни было, последним владельцем стал торговец картинами в Любеке.
Убедившись, что владелец магазина даже не подозревает, что перед ним не подлинник, Виктор поблагодарил его за любезность и тут же отбил Хольмстрёму телеграмму – по всем признакам работа подделана. Ответная телеграмма не заставила себя ждать – Хольмстрём рассыпался в благодарностях.
Не успел Виктор вернуться в Стокгольм, как последовала новая поездка – опять в Париж, но на этот раз его командировал Национальный музей. Речь шла о выставленной на продажу работе фон Крафта. Виктор должен был сертифицировать ее подлинность и, если все в порядке, принять участие в торгах. История с поддельным Менцелем произвела на Хольмстрёма впечатление – музей опять настойчиво предлагал ему сотрудничество.
В Париже никаких особых сложностей не возникло. Виктор обследовал картину (деревянное панно с изображением средневекового замка), оформил все бумаги и несколько дней посвятил переговорам с французскими бюрократами, очень неохотно выпускающими из страны старые работы. Когда все было сделано, один из коллекционеров пригласил его отужинать в его доме.
Элегантная квартира месье Мартеля в квартале Маре больше всего напоминала музей. Стены были увешаны картинами. В столовой он обнаружил маленький автопортрет Рослина – Виктор никогда не видел его в каталогах, и в Швеции он был совершенно неизвестен. На ломаном французском он попросил разрешения позвонить и набрал номер Хольмстрёма в Стокгольме. Виктор описал находку и немедленно получил карт-бланш.
За чашкой кофе он предложил цену. К его удивлению, хозяин тут же согласился. Месье Мартель сказал, что этот автопортрет ему немного надоел, что он меняет направление коллекции и сейчас покупает только работы ранних модернистов.
– Я выстраиваю новую коллекцию в чайном салоне, – пояснил он, провожая Виктора в соседнюю комнату.
Это была своего рода прихожая с эркером. На стенах висело много работ модернистов: Брак, Сутин, коллаж Пикассо, две маленькие работы маслом Шагала, Мондриан, а также полдюжины немцев, среди которых выделялось большое полотно Нольде. А рядом висела еще одна картина, сразу привлекшая внимание Виктора: «Борец» кисти Отто Дикса.
– Очень интересная работа, – сказал месье Мартель. – Немного спорная, но, по-моему, едва ли не лучшее из всего, что Дикс написал в малом формате.
Виктор был настолько потрясен, что долго молчал, не в состоянии произнести ни слова. Эту картину написал он сам – а моделью был Мориц Шмитцер.
– Что значит – спорная? – выдавил он наконец.
– После войны кое-кто оспаривал ее подлинность, пока Дернер в Мюнхене не дал «добро». Вы понимаете, у картины смешной провинанс. Она, скорее всего, реквизирована у одного еврейского коллекционера из Берлина. Сейчас ее внесли во все рабочие каталоги – Дикс сам подтвердил, что картина его.
Вот как далеко зашло, подумал Виктор, даже художник, чью манеру он подделал, признал картину своей. Он засомневался. Может быть, это память играет с ним в поддавки? Может быть, сами понятия подлинника и подделки перемешались в его сознании до того, что он уже не в состоянии их различить? Он подошел к холсту, еще раз его осмотрел. Нет, никаких сомнений – он написал эту картину в подвале на Горманнштрассе в начале 1941 года.
– Потом ее продали на черном рынке, – продолжил Мартель, – высокопоставленные нацисты плевать хотели на навязанный ими самими идеал и скупали «вырожденческое искусство» по бросовым ценам, а иногда и просто конфисковали… не брезговали и кражами. Потом «Борец» оказался за «железным занавесом», послужил разменной монетой в сделках КГБ с западными службами… пока наконец не угодил на аукцион здесь, во Франции. Но некоторые эксперты продолжают утверждать, что картина подделана… разве это не парадокс? Они говорят, что Дикс признал картину своей, потому что до смерти боится, что и остальные его работы начнут подвергать сомнению. Искусство, кроме красоты, имеет и более будничные стороны… Недоверие заразительно… На карте стоят репутация, честь, престиж… не говоря уже о больших деньгах.
Вот-вот, подумал Виктор, после войны именно деньги вышли на первый план. Ставки повышались и повышались, деньги стали эталоном качества – какое раздолье для фальсификаторов!
Он вернулся в Стокгольм с ясным чувством наступающих перемен. В квартире над мастерской в Пеликаньем переулке его ждали три телеграммы. От Хольмстрёма – поздравление и благодарность за картину Рослина. От некоего Роберта Броннена – тот, с опозданием на год, все же собрался его навестить и сообщал время прибытия поезда Берлин – Стокгольм и номер вагона. А третья телеграмма была от Государственной комиссии по антиквариату. Виктора Кунцельманна приглашали войти в состав вновь назначенной экспертной группы по разоблачению подделок.
– В мае сорок пятого Берлин напоминал пустыню, – задумчиво сказал Георг. Они сидели в кухне в Пеликаньем переулке, курили немецкие сигареты и потягивали рейнское вино. – Города не было. Целые кварталы превратились в кратеры. Некоторые районы просто исчезли – остались только фасады домов… театр сгорел, а кулисы остались. Среди развалин пробивали временные проходы… Почти никого нашего возраста. Целое поколение уничтожено или исчезло в лагерях военнопленных…
Из Вестенда в центр он добирался больше суток. Он ничего не узнавал, указатели исчезли, география перестала существовать. Больше всего, рассказывал Георг, его поразила тишина. В городе не было людей, а на деревьях как ни в чем не бывало пели птицы.
Горманнштрассе, где они жили когда-то, исчезла. На месте дома, где помещалась филателистическая лавка, был небольшой кратер, заполненный дождевой водой и мусором. Дерево, чья тень давала прохладу в жаркие дни, было расщеплено снарядом пополам. Призрачные фигуры рылись в развалинах в поисках еды и топлива…
Осенью он случайно встретил Сандру Ковальски на развалинах вокзала Цоо. Сандра и Клара в конце войны жили на хуторе под Потсдамом, а сейчас продавали овощи на черном рынке. Они предложили Георгу жить у них на диване – теперь они снимали комнату на площади Савиньи.
Пригодились фальшивые фунты. Он начал с продуктов питания и топлива – носил по домам, как разносчик в старину. Тогда было время, когда семейные реликвии выменивали на несколько мешков картошки или центнер угля.
На переходах в советский сектор он торговал с русскими солдатами. Им катастрофически не хватало продуктового пайка, зато карманы были набиты краденым и реквизированным барахлом. Он никогда не забудет, рассказывал Георг, как выменял швейцарские часы «Брайтлинг» на бутылку коньяку или как пьяный сержант отдал ему полный мейсенский сервиз за несколько мешочков ржаной муки. Так он и переходил с востока на запад, от нищих к богатым, от победителей к побежденным. Кое-какие редкости ему удавалось продать в британском секторе. Полковник Королевского Шотландского полка заплатил сто фунтов за столовое серебро, потом он обменял десять блоков сигарет на коллекцию марок – какой-то лейтенант оказался страстным коллекционером… Все, что он зарабатывал, Георг вкладывал в покупку новых раритетов…
К торговле картинами он вернулся совершенно случайно. На черной бирже ему удалось купить маленький холст Шагала, когда-то отнятый у известного еврейского коллекционера Кана – его богатая коллекция по частям дрейфовала где-то в Германии. Заплатил триста долларов. Через месяц некий делец из Гамбурга предложил за картину вдесятеро больше. На эти деньги он купил у нищей вдовы полотно Макса Эрнста и продал вновь разбогатевшему маклеру. И так продолжалось довольно долго. Он становился известным.
Осенью третьего мирного года он снял помещение на заднем дворе на Фазаненштрассе. Цена была вполне приемлемой, но больше всего его привлекало, что когда-то фешенебельный район Ку-дамм начал постепенно оправляться от военных травм. Именно здесь возрождался рынок искусства, и он оказался в центре событий.
Он так и жил под именем Роберт Броннен. Немецкая основательность в хаосе первых послевоенных лет дала сбой. Архивы были разорены, миллионы беспаспортных беженцев наводнили страну. Но, как ни странно, в канцелярии в Митте нашлись документы, удостоверяющие личность Роберта Броннена. В западном секторе шли полным ходом тяжелые восстановительные работы, и никто никого не спрашивал о прошлом… Друзей в Берлине, кроме сестер Ковальски, у него не было. Не осталось просто-напросто никого, кто знал бы его настоящее имя.
Они сидели за большим обеденным столом друг напротив друга, и Виктор вглядывался в лицо своего старого компаньона. За семь лет, что они не виделись, шрам на щеке побледнел, словно бы выгорел на солнце, волосы чуть поредели, особенно на висках. В дорогом, прекрасно сшитом костюме, Георг выглядел именно так, как должен выглядеть преуспевающий торговец произведениями искусства. В петлице – гвоздика, из нагрудного кармана выглядывает кончик аккуратно сложенного платка. Красивый шелковый галстук… Он и в самом деле выглядел скорее как Роберт Броннен, чем Георг Хаман; он как бы вырос из своего старого «я», как дети вырастают из старой одежды.
– Все оказалось легче, чем я думал, – улыбнулся Георг и достал визитную карточку с рельефным логотипом фирмы. – Перед советской блокадой Берлин был настоящим Клондайком по части искусства. На провинанс никто и не смотрел… те, кто нуждался в деньгах, продавали за гроши, те, кто покупал, не задавали лишних вопросов. Все продавалось и покупалось…
Когда в секторе союзников провели денежную реформу и разделение Германии стало очевидностью, он открыл свою лавку на Фазаненштрассе в Западном Берлине. Пока еще можно было относительно свободно передвигаться между восточным и западным сектором. На термометре «холодной войны» температура постепенно опускалась, и это, по словам Георга, играло ему на руку. Введение национальной валюты – немецкой марки – сыграло для фирмы решающую роль. В восточном секторе переплачивали за новую западную валюту чуть не вдесятеро, а это означало, что цены для жителя Западного Берлина, покупавшего что-либо в Восточном Берлине, тоже резко упали. По стране ходило несчетное количество бесхозных картин. Он купил второразрядные полотна фон Родена и Хакерта и продал их коллекционеру в западном секторе.
Если бы не блокада, он смог бы за считаные месяцы сколотить большое состояние. Но границы закрылись. До коллекционеров в Гамбурге и Кёльне было не добраться, как и в восточный сектор Берлина. Воздушный мост работал, но в Берлин доставлялись исключительно предметы первой необходимости, каковыми произведения искусства не являлись. Картину, как выразился Георг, не съешь на ужин.
Почти год он жил на то, что удалось накопить, к тому же помогал сестрам Ковальски – в стране был голод. Когда границы открылись, он тут же понял: все изменилось. Власти в восточном секторе наложили лапу на произведения искусства. Тем, кто пытался продать национальное достояние буржуазным кровососам на Запад, грозили драконовские меры, а когда той же осенью провозгласили образование Германской Демократической Республики, эпохе бизнеса пришел конец. Он начал подыскивать другие источники доходов. Мысли, естественно, крутились в том же направлении, он лихорадочно размышлял, как ему применить свой единственный, как он считал, талант, талант, кормивший его даже в военные годы, – фальсификацию.
– А может быть, мною движет чувство мести? – спросил он, вытряхивая из пачки новую сигарету. – Наверное, так и есть… так было, когда мы встретились, и с тех пор мало что изменилось. Те, кто покупает мои фальшивки, заслуживают, чтобы их надули. Я презираю их: сквалыги, карьеристы… вся эта вульгарная так называемая элита… И гомофобы к тому же… Эти подонки как были нацистами, так и остались… поклонники Гитлера и его убогой мыслишки насчет народа-господина… И я, по-твоему, должен их уважать?
Несколько лет назад, продолжил Георг свой рассказ, государственная типография в Берлине напечатала серию малоизвестных листов Дюрера. Рельефная маркировка и поставленная вручную печать… вроде бы застраховались, каждая деталь буквально кричала: сделано недавно, факсимильная копия. Он, повинуясь импульсу, купил несколько штук и принес домой. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что печать легко удалить, подержав лист над паром. Рельефный штемпель тоже не представлял затруднений – не сложнее, чем с почтовой маркой: зажать между растровыми клише.
– А чтобы убрать чернила, я поэкспериментировал с хлорированной бумагой, – объяснил он тоном знатока, – волокна немного повреждаются, но структура легко восстанавливается селенитом. К тому же, если лист немного состарить, его не отличить от репродукций в рабочих каталогах. Вся серия есть как в «Художественных гравюрах» Бартша, так и в «Руководстве для коллекционеров гравюр по меди» Зингера. Конечно, более тщательная экспертиза покажет, что к чему, но мои заказчики мне доверяют, и к тому же они ничего не смыслят в гравюре…
За короткое время он продал десять штук «оригиналов» Дюрера. Удача придала ему азарта. Чтобы не вызывать подозрений, он отложил Дюрера и занялся Кете Кольвиц. Рисунки Кольвиц были очень популярны у собирателей в Западной Германии. Художница была еще жива, но жила по другую сторону «железного занавеса», в Пренцлауер Берг, и у нее не было никаких возможностей контролировать, где и как появляются ее работы. В каталоге Шифлера он отобрал рисунки, которые, как ему показалось, сразу найдут спрос, и заказал копии у иллюстратора в Целендорфе – тому надо было кормить шестерых детей, и он не задавал лишних вопросов. На вопрос, откуда у него эти листы, он нагло отвечал, что купил их во время войны у самой художницы. Никто и не сомневался – ни в его истории, ни в подлинности работ.
Но все равно спрос на графику был ограничен. Рынок начал иссякать.
– Вот так и обстоит дело на текущий момент, – улыбнулся Георг, – и вот почему я подумываю опять заняться живописью. Мои клиенты постоянно спрашивают насчет старых мастеров, но тут требуется абсолютно идеальная работа… До поры я удовлетворялся средними копиистами… но они не решаются взяться за настоящие полотна, те, что могли бы принести серьезный доход. То, чем ты занимаешься сейчас, Виктор, – мелочовка, на хлеб и квартплату.
Виктор слушал, не перебивая. Его старый компаньон, оказывается, даже нанял двух художников – они делали копии не особенно приметных работ девятнадцатого века… Потом он рассказал о все сужающемся круге заказчиков, потому что он не в состоянии предложить им то, чего они хотят, о сестрах Ковальски – он поддерживает с ними дружбу, они опять работают медсестрами. Он рассказал о тщетных усилиях узнать что-либо о судьбе Морица Шмитцера – пытался и через Красный Крест, и через Комитет по делам беженцев… Но в Сталинграде свидетелей не было – четверть миллиона человек исчезли, не оставив и следа.
Чуточку смущаясь, Георг поведал, что в последний год он пытается найти утешение в обществе некоего Джесси Вильсона, американского военнослужащего из Ноксвилля, Теннесси. Если их связь выплывет наружу, тот рискует увольнением из армии. Он рассказал о странном чувстве – жить в разрушенном городе, разделенном на две половины, в городе привидений, где история и современность сплетены в неописуемый хаос. Он говорил о выживании и вере в будущее, о том, какую роль играет сейчас подлинное и фальшивое… И самое важное, поведал о главной своей мечте – снова работать с самым гениальным фальсификатором всех времен и народов – с Виктором Кунцельманном.
Он закончил свой рассказ, когда уже светало.
– И что будем делать? – спросил Виктор.
Георг достал из кармана пиджака две сигары и одну протянул Виктору.
– Все очень просто, – сказал он. – Начинаем сотрудничать. Есть множество людей, вполне заслуживших быть обманутыми, причем не кем иным, как братьями Броннен. Не забудь – в лагерь нас бросили самые обычные немцы. Мир состоит из гомофобов. Можешь считать себя иезуитом: в нашем случае цель, безусловно, оправдывает средства!
Нам нужно выйти на легальный рынок, пояснил Георг на следующий день. Они стояли в мастерской и любовались картинами, поступившими на реставрацию. Подлинниками. Конечно, можно продавать работы как ворованные, но тогда они принесут лишь ничтожную часть той суммы, которую за них можно получить, продавая законно, настоящему коллекционеру. Те копиисты, что работают у него сейчас, недостаточно искусны, и он просто не решается на такой рывок. К тому же в последние годы отрасль насторожилась. В Федеративной Республике появились новые экспертные методы, особенно в лаборатории профессора Дернера в Мюнхене. Говорят, там собираются даже открыть целый институт, Институт Дернера, где несколько дюжин экспертов будут работать над выявлением подделок.
– И конкуренция становится все жестче, – загадочно произнес Георг, стоя перед женским портретом Болиндера.
– В каком смысле?
– В том смысле, что не мы одни такие. В Гамбурге появился вновь открытый Кранах… я не дал бы голову на отсечение, что подлинный. А еще я слышал о команде, пытающейся сбыть Блехена, и не только Блехена, но даже – только не падай! – Рембрандта.
– Ты шутишь! Это тут же раскроется!
– Пока не раскрылось… но это, понятно, вопрос времени. Вообще я узнал про эту историю только потому, что у меня есть свой человек в Любеке.
В этом старом ганзейском городе Георг познакомился с известным торговцем картинами с большой клиентурой, но с весьма сомнительной моралью. Тот даже предлагал выставить его работы на комиссию. Незадолго до этого, весной, Георгу удалось выручить неплохие деньги за копию Менцеля, сделанную одним из его сотрудников. Картина ушла на аукцион в Голландию.
Виктор не удивился.
– Я ее видел, – сказал он, – не могу сказать, что она произвела на меня впечатление.
Георг оцепенел. Виктор поведал ему, как отсоветовал Национальному музею приобретать эту фальшивку. Хуже того, в Голландии началось полицейское расследование.
– Ну, за это не волнуйся… – сказал Георг. Рассказ Виктора, похоже, доставил ему удовольствие. – Я замел все следы. Эта картинка Менцеля – всего лишь пробный шар. Я хочу завоевать мир.
Виктор рассказал, как недавно у коллекционера во Франции он наткнулся на собственную подделку Дикса, подлинность которой удостоверена самим автором. Георг хохотал до слез.
– Самое удивительное, что Дикс наверняка и в самом деле посчитал эту работу своей, – сказал он. – Меня не удивит, если твоего «Борца» признают высшим достижением немецкого экспрессионизма.
Они начали вспоминать знаменитых фальсификаторов. Эмиля Шуффенеккера, француза, соученика Гогена, который взял на себя труд завершить неоконченные полотна Сезанна. Густава Тигеса, у которого была целая мастерская подделок в Мюнхене в начале века. Ателье Франсуа Милле в Лионе – Виктор был хорошо знаком с его продукцией. Милле, внук знаменитого пейзажиста, в тридцатые годы наладил производство пастишей картин деда. Когда Виктор еще работал у Тугласа, к ним дважды попадали такие подделки, и Туглас был вынужден открыть глаза доверчивым владельцам.
– Ирония судьбы, – сказал Георг, – но ведь это именно ты обнаружил, что Герингу продали подделку Вермеера.
– Кисти теперь уже знаменитого на весь мир Ван Мегерена.
– Ты сразу это заметил, а эксперты возились с картиной несколько лет, и так ничего бы и не обнаружили, если бы Ван Мегерен сам не раскрыл обман. К сожалению, мне кажется, это время уже прошло. Сегодня шансы на удачу куда меньше. Разработаны новые методы анализа… изучают даже следы пыли в кракелюрах. Пыль бывает старой и новой… попалась современная пыль – и пишите письма.
– Но такие методы применяют, только когда есть веские основания подозревать подделку… – Виктор беспокойно прошелся по мастерской. – А что касается рентгена, есть много способов…
– Вот ты-то их и разработаешь!
– Туглас меня много чему научил. Это верно, что на рентгене виден подмалевок, особенно если он содержит свинцовые белила. Но след свинцовых белил удается замаскировать солями тяжелых металлов, так что можно писать по старому полотну… – Он остановился перед конным портретом дворянина. – Вот, например, работа относительно малоизвестного художника. Но каким бы он ни был малоизвестным, все равно – это холст семнадцатого века. И весьма скромными средствами его можно превратить в полотно… ну, скажем, Ван Дейка, и на рентгене никто ничего не увидит.
– Доселе неизвестного Ван Дейка будут изучать года два, не меньше.
– Я просто для примера…
Георг огляделся – мастерская была уставлена работами скандинавских художников, ожидающих очереди на реставрацию.
– Я уже сказал – хочу на легальный рынок. Настоящие деньги только там. Мог бы ты скопировать, допустим, вот это?
Он показал на маленькую картину маслом в углу, изображающую собаку с врожденными уродствами.
– Это Эренштраль. Принадлежит коллекционеру из Гётеборга. Могу сделать копию, которую даже я не в силах буду отличить от оригинала.
– Как это?
– Напишу на старом холсте, разотру краски по старым рецептам. Обратная сторона не менее важна, чем лицевая. У старых холстов, во-первых, нет апертур, во-вторых, тогда не пользовались крахмалом…
– И где ты возьмешь такой холст?
– Туглас оставил несколько дюжин старых полотен. Работы забытых деревенских любителей… когда предстояла ответственная реставрация, он сначала пробовал на них.
Весь этот разговор напомнил Виктору их беседы в лавке на Горманнштрассе много лет назад.
– Вот оно что… Но почему бы тогда не подменить оригинал на копию? Пусть в музеях и у собирателей останутся копии – им же не придет в голову проверять их подлинность?
– Во-первых, как мы объясним покупателю, что на рынке есть дубликат картины? Во-вторых, если мы наплюем на объяснения, то вынуждены будем продавать скупщикам краденого за десятую часть цены – а это не стоит трудов. И наконец, в-третьих, если я буду с тобой работать, я даже не подумаю рисковать своей репутацией реставратора и эксперта. Я не стану обманывать заказчиков, наоборот, я им буду помогать.
– Разоблачать подделки?
– Хотя бы! И помогать покупать искусство за рубежом – по разумным ценам…. Подлинного Менцеля, к примеру, – сказал Виктор с нажимом.
Георг широко улыбнулся:
– Я тебя понял. И подлинного Эренштраля для некоего торговца картин в Германии – по старым рецептам, на старом холсте. Мне почему-то с трудом в это верится… впрочем, попробуй переубедить.
Написать что-то на старинном второразрядном полотне и создать «вновь открытую» работу мастера Виктору было не так уж трудно, был бы подходящий мотив. Проблема была в другом – красочный слой при этом станет неестественно толстым. Новые краски проникают вглубь и действуют на подмалевок – во-первых, могут появиться смещения в структуре, а во-вторых, живопись может потерять стабильность, поскольку старый красочный слой никуда не делся. Можно, конечно, попытаться снять старые краски пемзой. Это потребует ангельского (или дьявольского?) терпения, потому что всегда есть опасность повредить сам холст, и огромного труда – шлифовать и шлифовать, как краснодеревщик, наждачной шкуркой с постепенно уменьшающимся зерном… но может оказаться, что игра стоит свеч.
– А нельзя ли отмыть холст? – спросил Георг, выслушав его объяснения. – Щелочью или каким-нибудь моющим средством?
– Нет, нельзя, потому что по закону капилляров растворители образуют тонкий слой на поверхности, и это легко разглядеть с обычной лупой.
Виктор решил попробовать разные методы и начал работать одновременно с несколькими полотнами. На двух поврежденных картинах в стиле барокко из запасов Тугласа, написанных какими-то неизвестными деревенскими художниками, он воспроизвел новый мотив в стиле Эренштраля, прямо рядом со старым.
– А что делать с подписью? – спросил Георг. – Давай представим, что мы решили поставить имя Эренштраля.
– Счистить старую, зашпатлевать, загрунтовать и расписаться.
– А почему не просто закрасить?
– Потеряем баланс. Лучше записать старую подпись листвой или каким-нибудь орнаментом, а имя Эренштраля поставить в другом месте. Может быть, даже на обороте.
– Ты говоришь как-то не очень убежденно.
– Потому что это может вызвать подозрения. У меня бы вызвало. Лучше всего процарапать новую подпись иглой…
– И проткнуть полотно… это, по-моему, вредительство…
– …а потом нанести краску мастихином. Новое имя как бы погружается в полотно четырехсотлетней давности и не смешивается с окружающими красками. Еще надо повозиться – убрать старый лак и нанести новый.
Георг открыл было рот, но Виктор его опередил:
– Знаю, знаю, что ты думаешь – а почему бы не купить похожего на Эренштраля художника, поменять подпись – и бац! Цена возрастает вдесятеро, и мы экономим кучу времени и работы. Но так не годится. Мы собираемся продавать картины знатокам – крупным коллекционерам или музеям. Работа должна быть идеальной… более чем идеальной. Не должно остаться ни одного вопросительного знака. Короче говоря, такие понятия, как «оригинал» и «подделка», должны потерять всякое значение.
Виктор выбрал для дебюта именно Эренштраля по нескольким причинам. Старый придворный художник был известен за границей, но не в первых рядах, поэтому настоящих экспертов по его творчеству было очень мало. Для основательной экспертизы, пояснил Георгу Виктор, покупатель все равно будет вынужден привлекать шведских специалистов, а скорее всего, именно его, Виктора, поскольку он считался главным знатоком Эренштраля. Далее, Эренштраль родился в Германии, так что можно рассчитывать на определенную историческую сентиментальность у коллекционеров. Цены на его картины не запредельные, это тоже оказывает на коллекционеров умиротворяющее действие. И конечно, важно и то, что большинство оригиналов, из тех, что они собирались копировать, находятся в его мастерской – или недавно здесь побывали… С течением лет он узнал о старом живописце все. Он изучил его технику импасто[161] и мазок в мельчайших деталях. Они с Тугласом делали рентгеновские снимки полотен, выявляя подмалевок, изучали эмульсии и состав пигментов, какие кисти Эренштраль использовал, какие холсты, как делал рамы, как смешивал краски. Он понял, как менялся с годами стиль мастера, знал его слабости, изучил все возможные каталоги… Одним словом, если и был кто-то, кому по силам было бы сделать совершенную копию Эренштраля, имя этого человека было Виктор Кунцельманн.
Следующие несколько недель Виктор безвылазно просидел в ателье. С точки зрения Георга, его состояние более всего напоминало заболевание, название которому наверняка можно было найти в любом психиатрическом справочнике. Он экспериментировал с холстами и красками так сосредоточенно, как никогда раньше, даже в годы на Горманнштрассе в Берлине. Он был словно в трансе, бродил, бормоча что-то себе под нос, по мастерской, потом, будто получив какой-то импульс из подсознания, хватался за кисть и начинал работать. Он был похож на одержимого алхимика: с безумным взглядом измельчал пигмент, а потом начинал растирать краски в абсолютной тишине, словно бы малейший звук мог вмешаться в колдовство и нарушить его. Он пробовал им самим изготовленную новую фракцию бузинного масла, которая, по его мнению, должна была лучше сочетаться с отвердителем, испытывал новые методы получения трещинок, которые могли бы имитировать кракелюры на полотне семнадцатого века. Несколько раз он начинал все сначала, меняя перспективу или порядок письма… Он добивался совершенства.
Была еще одна проблема – добиться той же степени затвердения красочного слоя, что на полотнах Эренштраля была достигнута их четырехсотлетней жизнью. После нескольких неудачных попыток с клеем он набрел на мысль использовать бакелит[162]. Виктор смешивал пигменты с фенолом и формальдегидом, добавляя отвердитель в тот самый миг, когда накладывал краску. После этого холст помещался в печь – он чисто интуитивно выбрал температуру сто десять градусов и два часа, не произнося ни звука, ждал результата. Поначалу Георг не понял, что произошло, но когда Виктор обернул полотно вокруг газового баллона и снова развернул, Георг с изумлением увидел, что картина покрылась мелкими трещинками, совершенно неотличимыми от кракелюр на подлинниках, ждавших тут же, в мастерской, очереди на реставрацию. Виктор, словно маг, вызвал к жизни и запустил процесс высыхания, который в нормальных условиях требует нескольких столетий.
– А ты не боишься, что химики обнаружат подделку? – спросил Георг. – Во времена барокко фенол вряд ли существовал…
Виктор непонимающе поглядел на него, словно удивляясь, как это вообще можно задать такой идиотский вопрос.
– А зачем, по-твоему, я грел полотно? Пропекание заставляет бакелит погрузиться в красочный слой. Ни один эксперт не решится на эксгумацию подмалевка на бесценном полотне семнадцатого века.
Решив наконец проблему с кракелюрами, Виктор стал испытывать новые способы соединения холста со старинными материалами. Он пробовал сложные способы дублирования, то есть склеивания современной ткани со старой, одновременно обсуждая с Георгом возможность раздобыть подлинные рамы. Деревянные рамы старинных картин можно было купить у антиквара. Для изготовления панно вполне годились задние стенки антикварных шкафов. Нужна старая медь – вот она: кровли домов, идущих на снос. Георг как-то предложил продавать и наброски к картинам – для этого можно использовать форзацы старинных Библий семнадцатого века, их легко купить у букинистов или – если нужен формат кварто или фолио – просто выдрать из фолиантов в Королевской библиотеке. Необходимо было также предусмотреть вмешательство профессиональных реставраторов.
– Что они будут искать в первую очередь? – спрашивал Георг. – Наверняка же есть какая-нибудь рутинная процедура, если речь идет о вновь обнаруженных работах.
– Думаю, немецкие реставраторы пользуются теми же методами, что и скандинавские. Проверяют устойчивость краски к алкоголю, ищут следы свинцовых белил. Рентген выявляет подмалевок. Спектральный анализ красочного слоя…
– Справимся?
– Если зайдет так далеко? Без сомнения!
– А как быть с провинансом?
– Это уже твои проблемы. Правда, что касается разоренных коллекций и военных трофеев… я имею в виду собрания Кана, консула Вебера, индустриального магната Кребса… коллекцию Дюре… боюсь, что их коснулась инфляция…
– То есть с разграбленными коллекциями Альфреда Розенберга и Геринга надо кончать?
– Вот именно. Я и сам бы заподозрил неладное…
Обсудив возможные мотивы новых старых картин, Виктор попросил оставить его одного.
На первое полото ушло около недели. Он аккуратно счищал красочный слой со старинного холста какого-то деревенского живописца, пока не обнажился плотный левкас грунта, по памяти набросал мотив одной из двух сравнительно малоизвестных картин Эренштраля (сцена охоты и интерьер ателье, обе находились в коллекции Грипсхольмского замка) и добавил кое-что с анималистских этюдов Мийтенса, как раз прибывших для реставрации. Вписал и несколько собственных деталей – вышло вполне конгениально. Усилил контуры заднего плана темперой. Потом дал полотну несколько часов просохнуть и наложил тонкий прозрачный слой масляного лака, строго по рецепту, вычитанному им в трактате самого Эренштраля.
Через двое суток картина, изображающая охотника с собакой, была готова. Осталось дописать задний план – ателье Эренштраля, много раз виденное им на самых знаменитых работах художника. Он смешал веронскую зеленую землю с зеленой умброй и наложил контуры. Для имприматуры[163] взял фисташковый лак, потому что он не растворяется в поверхностных лаках и к тому же дает возможность работать по красочной поверхности тушью, как на обычной бумаге. Закрепив темперой, Виктор приступил к наиболее освещенным участкам кожи юного охотника. Основной тон – смесь коричневого с циннобером[164]. Присмотревшись, он смягчил немного свет, добавив золотистой охры. Для прорисовки деталей Эренштраль пользовался очень тонким мазком, поэтому Виктор начал с самой тонкой куньей кисти, а потом перешел к чуть более широкому мазку. После пары часов возни с собачкой и еще одной просушки он в несколько слоев наложил светлые тона. В теневых участках просвечивала охра. Потом добавил разведенный бальзамическим скипидаром шеллак. Теперь почти все было готово. Виктор поискал слабые точки, добавил белой темперы и нанес несколько мазков черной и неаполитанской желтой – очень тонкой кистью. Собственно говоря, поправил он себя, это неправильное название – неаполитанская желтая, и это не такой уж немаловажный факт. Год назад он обнаружил, что в своей палитре Эренштраль пользовался не неаполитанской желтой, а другим, хотя и почти неотличимым пигментом. Чтобы получить нужный оттенок, он взял жженый сурик и смешивал его с оловянной золой, пока не добился нужной пропорции. Он сообразил, что во всем мире этим секретом владеет он один и не стоит им с кем-то делиться, лучше сохранить его для себя, пусть он будет своего рода залогом успеха на будущее.
Первое полотно было готово. Юный охотник в меховых одеждах позирует со своей собакой на фоне ателье художника. Картина получилась поистине мастерской. Стиль и техника абсолютно, стопроцентно неотличимы от эренштралевской… и все же Виктор чувствовал – что-то не так. Размышляя, что именно «не так», что внушает ему сомнения, он положил еще один слой лака… и наконец понял – его работа была слишком совершенной, на полотне не было ни единой естественной ошибки, без которых не обходится практически ни один подлинник. Виктор понял, что ему необходимо преодолеть свое нежелание халтурить, потому что именно ошибки и небрежности отличают подлинник от слишком тщательной копии. Он взял кисточку чуть больше, чем требовала деталь, и, чувствуя отвращение к себе, неохотно положил неточный блик на глаз собаки. Обнаружив, что к холсту прилип волосок кисти, он оставил его на месте. Оставалось только состарить полотно.
Через две недели все было готово. Георг, придя в мастерскую, не поверил своим глазам. Новые работы, стоящие на мольбертах, были совершенно неотличимы от окружающих их подлинников семнадцатого века. Они даже пахнут, как старые картины, изумился он, они выглядят даже старше, чем настоящие.
– Как тебе удалось… – Он не закончил вопроса – у него перехватило дыхание.
– Кое-какие знания о связующих… Надо знать, какие масла использовал тот или иной мастер – холодного отжима, горячего отжима, отбеленные, очищенные, кипяченые, сгущенные… Любой более или менее талантливый идиот может скопировать мотив, а вот правильный свет найти трудно…
На одной из работ, почти миниатюре, была изображена мартышка с каким-то врожденным уродством – у Эренштраля определенно была слабость к тератологии[165]. Другая – вариант портрета охотника, того самого, с которого он начал, но в большем формате и с более темным задним планом. В этой работе ясно читалось влияние учителя Эренштраля Пьетро да Кортона. Третье полотно, среднего размера, с искусно вплетенными аллегорическими мотивами, изображало чернокожего всадника на белом коне.
– Он похож на рядового Джесси Вильсона… – Георг от удивления прикусил губу, – какое странное совпадение.
– Если посмотришь внимательней, он похож на Морица. Хороший портрет без модели написать невозможно. Знаешь, мне кажется, ты неравнодушен к каким-то чертам в человеке, а цвет кожи значения не имеет.
Георг осторожно дотронулся до портрета и тут же отдернул руку, словно испугался повредить бесценное произведение искусства.
– Я написал его на старом дереве, – задумчиво сказал Виктор. – Загрунтовал трубочной глиной и казеином. Связующее вещество – желток с древесным соком инжира. Глянцевые краски – насыщенные воском клей и щелочь… Первый грунт темно-зеленый, а телесный цвет получился из смеси свинцовых белил и охры. Посмотри, самые глубокие тени лежат по краям, поэтому грунт просвечивает и создается впечатление трехмерности. Брови, зрачки, морщинки – caput mortuum[166], причем только в поверхностном слое. Одежда написана раньше тела, ради глубины. Особенно я доволен восковкой. Кожа на углах настоящая, семнадцатого века, гвозди тоже. Беда только в том, что эту картину за Эренштраля не продашь.
– Почему?
Вид у Виктора был, как у нашкодившего школьника.
– Я чересчур увлекся работой, если можно так сказать. Вдруг сообразил, что ушел далековато от Эренштраля…
– Кто же мог бы это написать?
– Со всей скромностью… обрати внимание на шкалу серого, на светотень… может быть, Караваджо? Я уже думал об этом – нет, это не Караваджо, это я сам.
Вскоре произошло событие, немало повлиявшее на их будущее. Некий доктор Рюландер из Государственной антикварной комиссии попросил Виктора к нему зайти. По телефону он предупредил, что дело весьма и весьма необычное и разговор возможен только с глазу на глаз.
Виктор, не откладывая, взял такси и поехал в контору Рюландера в Васастане. Он догадывался, о чем пойдет речь. Фамилия Рюландера была ему известна – тот возглавлял группу экспертов, получивших задание разработать новые методы выявления фальшивок.
– Хочу, чтобы вы посмотрели на картину, приписываемую Рубенсу, – сказал Рюландер, пока они, стоя на улице, ждали его персональную машину с личным шофером. – Некий зарубежный эксперт утверждает, что это подделка, но я не так уверен. Полотно находится в государственном владении с восемнадцатого века, и никто никогда никаких сомнений не высказывал.
Они поехали куда-то на запад – как догадался Виктор, адрес был засекречен.
– Вы оказались правы, Кунцельманн, насчет подделки Пило в Копенгагене. И Хольмстрём рассказывал мне историю с Менцелем – как вы отсоветовали ему покупать картину. Надеюсь, ваш критический взгляд поможет нам и в этом случае.
Водитель свернул в какую-то промышленную зону в северном пригороде Стокгольма. В двух подземных этажах хранились самые драгоценные национальные сокровища.
– Речь идет о небольшой работе, – сказал Рюландер, пока они шли по асфальтированному двору. – Было бы интересно услышать еще одно мнение, прежде чем мы приступим к химическому анализу.
Он показал пропуск, и они спустились на лифте в подвальное помещение. Картины хранились в пожаробезопасных подземных запасниках, специально выстроенных для тех произведений искусства, которые по каким-то причинам не выставлены в музеях. Отличный случай узнать, как работает Рюландер и его компания, подумал Виктор.
В хранилище, где была к тому же хорошо оборудованная мастерская, их уже ожидала группа экспертов. Ему показали Рубенса, чья подлинность была под вопросом – довольно банальный натюрморт, хотя возраст никаких сомнений не вызывал.
– Какие пробы уже сделаны? – спросил Рюландер.
– Пока ничего особенного, – сказал один из реставраторов. – Рентген подмалевка… Как будто все в порядке.
– А пробы на возраст?
– Нам не хочется трогать краску на работе, которую мы считаем подлинной.
Здесь же присутствовал и независимый эксперт из Голландии, облаченный в лабораторный халат. Он по-немецки изложил свои соображения. У голландца вызывал сомнения стиль, использование пергаментного клея и промежуточного лака.
– Это мне ни о чем не говорит, – сказал Рюландер.
– А должно бы, – возразил голландец, – потому что здесь поверхностный слой – сандарак[167], а Рубенс его избегал.
– А рама из какого дерева?
– Красное дерево. Это еще одна проблема. Рубенс использовал обычно розовый бук или дуб. Он не особенно доверял колониальным породам.
Пожилой реставратор, чье имя Виктор не расслышал, перенес картину на рабочий стол и включил лабораторную лампу.
– Браковать они мастера, – произнес он сварливо. – Несколько лет назад они чуть не зарезали нам еще одну работу Рубенса. Подозревали фальшивку той же эпохи. Химическое исследование показало, что это подлинник, но мы лишились почти десяти квадратных сантиметров холста… Очень уж не хочется повторять ошибку. Пожалуйста, подойдите поближе, Кунцельманн. Нам нужен ваш голос в хоре.
Виктор не стал долго рассматривать картину – он уже знал, что скажет.
– Я займу промежуточную позицию. Не буду вдаваться ни в ту, ни в другую крайность, – сказал он. – Картина может оказаться подлинной, но может быть и ловкой подделкой, если это слово вообще применимо к тому времени. Возможно, она написана небезызвестным Яном Питерсом. Меня не удивит, что работа написана в Антверпене по заказу одного английского дельца. Господам, разумеется, известно про английских торговцев картинами, которые в семнадцатом веке заказывали в голландских мастерских подделки. Если вам кажется варварством брать пробы красок и смол, предлагаю послать детальные фотографии в институт Курто, у них большой опыт по этой части.
Так и поступили. Через месяц из Лондона пришел сертификат, подтверждающий точку зрения голландца: с девяностопроцентной уверенностью речь идет о подделке Рубенса, выполненной второразрядным фламандским художником по заказу известного проходимца Готфрида Келльнера.
Последние недели лета Виктор и Георг посвятили созданию достоверного провинанса для трех картин Эренштраля, которые скоро должны были покинуть Швецию. В мастерской нашлись все нужные им образцы. Они подделали сертификат подлинности и клейма коллекционеров девятнадцатого века, разыскали квитанцию об оплате столетней давности. Чем ближе они приближались к современности, тем труднее и кропотливее становилась работа – увеличивался риск разоблачения. Но благодаря войне, так щедро уничтожавшей людей и их собственность, подписи и справки, им в конце концов удалось состряпать вполне правдоподобную генеалогию – она простиралась от шведского дворянского, ныне вымершего, рода до Прибалтики. Последним владельцем картин был берлинский торговец произведениями искусства, некий Роберт Броннен, приобретший их у отбывающего в Канаду начинать новую жизнь эстонского беженца.
Виктор еще раз прошелся по картинам, вернее, даже не по самим картинам, а по рамам. Им удалось, правда задорого, купить подлинные барочные рамы у антиквара в Кларе. Виктор взял в руки оставленный Тугласом старинный рубанок и постарался, чтобы на дереве остались следы, словно бы средневековый мастер, отстругивающий раму, слегка снебрежничал. Закончив, он взял картины и прислонил их к стене напротив окна. Холсты буквально купались в ярком августовском свете.
Совершенство – вот единственное слово, которое приходило ему в голову. Не было ни одного слабого пункта, ни одной детали, могущей вызвать хоть какие-то подозрения экспертов, если, конечно, не принимать во внимание факт, что вновь открытые работы старых мастеров сами по себе подозрительны.
Он поднялся на второй этаж. Георг, в плаще, с незажженной сигариллой в углу рта, стоял над огромным чемоданом.
– Глянь-ка! – сказал он, наклонился и приподнял дно чемодана. – Двойное дно. Потайное отделение для наших вновь открытых шедевров. Мы же не хотим декларировать их на таможне, или как? Рамы мы отправим багажом, но не картины же! Дотошные таможенники обязательно начнут придираться. Билеты на поезд заказаны. Едем завтра экспрессом на Мальмё, а оттуда – в Берлин. Послезавтра в семь часов ты проснешься на своей родине.
– А как быть с моим инструментом?
– Возьми все, что нужно. Мы снимем ателье, и тебе никто не будет мешать, пока не соберем достойную коллекцию. Думаю, пробудем в Берлине всю осень.
Прошло больше десяти лет, как Виктор последний раз был в Берлине. Странно, но он не чувствовал никакого волнения, никакой тоски, вообще ничего – разве что смутное беспокойство. Единственное, чего он боялся, – воспоминаний.
– Пока поживешь в моей конторе на Фазаненштрассе. Покажется тесно, переедешь к Ковальски, они знают, что ты приезжаешь.
Организационные вопросы Виктор предоставил Георгу, поскольку во всем, что касается планирования и организации, компаньон был на голову выше его. Если бы понадобилось, Георг запросто сумел бы скоординировать крупную армейскую операцию… Итак, снова в Берлине, и снова все как раньше. Они будут продавать скандинавских художников в Германии. Они будут «находить» немецкие раритеты и продавать их в Скандинавию. Виктор продолжит работать как реставратор и эксперт – они не могут позволить себе отказаться от преимуществ, которые им дает его репутация. И словно послание из будущего – не далее как сегодня утром позвонил Рюландер и поблагодарил Виктора за неоценимую помощь с картиной Рубенса. Виктор сказал, что ему предстоит длительная работа в Берлине, и Рюландер искренне огорчился. Его рабочая группа уже почти окончательно сформировалась, и он мечтал, чтобы Виктор принял в ней активное участие. Во всяком случае, он рассчитывает обязательно увидеться после Рождества, и если ему нужна какая-то помощь в Берлине, у него в Германии есть хорошие связи – как на востоке, так и на западе.
Виктор вышел на кухню попить воды. Когда он вернулся, Георг лежал в постели совершенно голый.
– Надо когда-нибудь с этим покончить, – сказал он медленно. – Иначе это так и будет стоять между нами…
– Что?
– Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Иди и ляг рядом.
Может быть, он и прав, подумал Виктор. Надо и в самом деле перейти эту границу и поставить все на свои места, чтобы не осталось никаких недоговоренностей, никакого напряжения. Впрочем, назвать напряжением это трудно… скорее пустота, разделяющая их невидимая стена пустоты. Им обоим так нужна была нежность. Они все еще были молоды, очень молоды – но чувствовали себя стариками. Когда Виктор забрался в постель, он вспомнил, как они впервые встретились в «Микадо», в другом мире, в другой жизни. Георг, должно быть, пахнет так же, как тогда… Георг положил ему голову на грудь. Как ребенок, подумал Виктор. Впервые в жизни ему захотелось иметь детей. Надо же иметь какой-то якорь, подумал он, надо наконец закрепиться – в каком-то месте, в какой-то жизни.
«Gebrüder Bronnen»! Лавка «Братья Броннен», вопреки всему, восстала из могилы истории! Они вступили в неравный бой с немецкой бюрократией – и выиграли! Даже младший брат, Густав, восстал из мертвых… если не из мертвых, то, по крайней мере, вернулся, перестал числиться в разряде рассеянных по всему миру немецких беженцев. С помощью великолепной, пуленепробиваемой лжи им удалось прикрыть все слабые места, законопатить все щелочки, куда могла бы просочиться нежелательная информация и навлечь на них подозрения клиентов или западноберлинской полиции, а еще точнее, отдела по борьбе с мошенничеством. С бумагами и справками от 1949 года, которые Георгу удалось в свое время вынести из квартиры на Горманнштрассе и спрятать у сестер Ковальски, Виктор выправил новую идентификационную карточку, зарегистрированную в западном секторе. Если верить документам, его опять звали Густав Броннен, а рядом с именем была наклеена фотография, где он, причесавшись мокрой расческой, серьезно смотрит в объектив древней цейссовской камеры квартального фотографа Фишера. Он получил удостоверение социального страхования, а в графе «место жительства» указал адрес сестер Ковальски на Кантштрассе.
Берлин, хотя и сильно изменился, остался Берлином, решил он, пожив в городе несколько недель; хаос и дисциплина – типично немецкий парадокс. В Западном Берлине непрерывно ревели бульдозеры – руины вывозили, а на их месте лихорадочно строили новые дома. С угла Кудамм и Фазаненштрассе ему был виден сохраненный остов разбомбленной Гедехнитс-Кирхе[168] на фоне смога и мигающих реклам. Большие обтекаемые американские автомобили бесшумно скользили по бульварам. Вновь открылось кафе «Кранцлер», куда он иногда заходил в тридцатые годы, – правда, в квартале от того места, где оно когда-то находилось. На каждом шагу попадались иностранные военные: шумные американцы, надменные англичане и скучающие французы.
И так же, как пустоты на месте разрушенных домов постепенно заполнялись новыми строениями в неопределенно-модернистском стиле, Виктор старался заполнить труднообъяснимые провалы в собственной биографии. Именно этой осенью он смонтировал свои фотографии в военно-морской форме на палубе британского «морского охотника» и подделал красивый диплом института Курто. Это была мера безопасности, своего рода гарантия честности и высокой морали – на тот случай, если кому-то вздумается наводить о нем справки. Теперь у него были, так сказать, материальные доказательства легенды, по которой он жил в Швеции, причем в двойном издании, на имя Виктора Кунцельманна и Густава Броннена.
Странно, думал он, в это имя – Густав Броннен – словно бы уже встроен фальсификатор, под этим именем ему легче заниматься тем, чем он занимается. История заставила его раздвоиться… Надо было только найти точки соприкосновения между двумя альтер эго, обеспечить им мирное сосуществование, заставить одного помалкивать, когда слово брал другой, и наоборот. Не давать одному судить другого и навязывать свою точку зрения. Важно было сохранять между ними равновесие. Если ему это удастся – все будет хорошо. Он как-то, к своему удивлению, заметил, что Густав Броннен даже одевается по-другому, чем Виктор Кунцельманн, – водолазка вместо сорочки с галстуком и блейзер со светлыми брюками вместо костюма.
Их деятельность началась блестяще. Среди знакомых Георга в Западном Берлине нашелся торговец картинами, специализирующийся на барочном искусстве. Именно ему уже на следующей неделе после приезда они продемонстрировали двух своих Эренштралей – уродливую мартышку и один из портретов охотника с собакой, тот, который поменьше. Магазин «Братья Броннен» гарантировал провинанс, а сертификат подлинности был выдан не кем иным, как знаменитым реставратором Виктором Кунцельманном из Стокгольма. Этот последний являлся ведущим шведским экспертом по живописи барокко. Если кто не знает этого имени, достаточно запросить шведский Национальный музей… Меньше чем за неделю картины были проданы одному из наследников фон Бисмарка в Гамбурге. Наживка была взята взаглот – особенно после того, как покупатель все же заказал экспертизу и оценщик-профессионал не сделал никаких замечаний, отметив, правда, пикантную подробность – художник немного снебрежничал с собачьим глазом, хотя сам пес написан изумительно. Вскоре Виктор прочитал в профессиональном журнале целую статью о вновь найденных работах Эренштраля – никаких сомнений в их подлинности, отмечено только, что картины необычно светлые для кисти старого мастера. К тому времени он уже полным ходом писал новые картины.
За несколько месяцев он сделал не одну подделку немецких художников, которым вскоре суждено было появиться на скандинавском рынке. Это были романтические пейзажи фон Родена и Хакерта, среднего качества полотно, подписанное великим Карлом Блехеном, и пара миниатюр Керстинга. Среди работ, с которыми он экспериментировал, а некоторые даже закончил, чтобы потом уничтожить, были известный этюд собственной ноги Менцеля, а также копия «Восхода луны на море» Каспара Давида Фридриха. Если бы кто-то, хорошо знакомый с немецкой живописью, увидел эти работы в снятом ими ателье в Шёненберге, у него непременно возникли бы вопросы – оригиналы-то картин находились в Восточном Берлине. Но в ателье никто, кроме братьев Броннен, входа не имел. Никто из посторонних не знал, что полотна вышли из-под одной кисти. И мало кто имел возможность изучать оригиналы, находящиеся по другую сторону «железного занавеса».
Возможность посещать музеи в восточном секторе была для них очень важна. Сложность заключалась в пересечении границы. Новое похолодание, отмеченное градусником холодной войны, привело обе половины города в состояние чуть ли не боевой готовности. Неудавшееся июньское восстание рабочих в коммунистическом секторе создало дополнительные трудности. Демаркационную линию окружили несколькими рядами колючей проволоки; оставшиеся переходы использовались в основном дипломатами, за которыми неусыпно наблюдала народная полиция. Но несмотря на все это, Виктор в эту осень пересек границу шесть раз.
Он написал доктору Рюландеру в Стокгольм, и тому удалось организовать для Виктора официальное приглашение посетить государственные музеи Восточного Берлина. Как Рюландеру это удалось, Виктор точно не знал, хотя догадывался, что пожилой уже Рюландер наверняка имеет старые связи с искусствоведами в ГДР. А может быть, сыграло роль и то, что Виктор Кунцельманн (не Густав Броннен, разумеется) был гражданином нейтрального государства, которое никаких альянсов с великими державами не имело. Итак, дойдя до перехода, Густав Броннен становился известным шведским реставратором Виктором Кунцельманном, и этот Виктор Кунцельманн с присущим шведским реставраторам достоинством объяснялся с пограничниками. Мрачные полицейские открывали свои списки и звонили мало что соображающему прямому начальнику, этот начальник в свою очередь звонил еще более высокому начальству, и уже более высокое начальство, выдержав приличествующую народной власти паузу, давало зеленый свет на пересечение границы неким Виктором Кунцельманном.
Во время первого посещения, когда он собирался посмотреть сокровища Музейного острова, Виктора поразило, насколько темным выглядел восточный сектор по сравнению с западным. Он обратил внимание, что за ним неотступно следует некто – как он предположил, тайная полиция, – и притворился, что заблудился – ему очень хотелось заглянуть в его родные места, в Митте. Как и рассказывал Георг, от дома на Горманнштрассе не осталось и следа. Ему стало очень грустно. Он ничего не узнавал, воспоминания не складывались в целое, потому что мест и предметов, которые могли бы придать им стройность, уже не существовало. Он притворился, что разглядывает карту, огляделся по сторонам, как человек, пытающийся совместить картографический ребус с реальностью, и обратился к случайному прохожему. Тот, сообразив, что перед ним иностранец, перепугался насмерть. На свойственном путешествующим иностранцам школьном немецком Виктор попросил показать, как пройти в Национальную галерею. Прохожий, заикаясь, кое-как объяснил дорогу, и Виктор, стараясь отключить беспокойную память, взял курс на Музейный остров.
Служащий музея принял его с холодной стандартной доброжелательностью, как бы ненароком расспросил о цели посещения и удивился, что Виктор приехал через Западный Берлин – гораздо проще было сесть на поезд через Росток. Ответ, похоже, его удовлетворил, и он оставил Виктора в покое.
Он вернулся в Западный Берлин с блокнотом, полным набросков. Георг ждал его в кафе неподалеку от границы. Ему показалось, что кто-то повернул выключатель – после долгой обесточки зажглись все лампы сразу, и забурлила современная жизнь.
В кафе он спросил себя, стоило ли рисковать. На выходе из музея он опять заметил филера. Этот довольно потертый тип сопровождал его до самого перехода на Циммерштрассе.
– Самое худшее, что может случиться, – они больше тебя не впустят. Или другая крайность – выдворят.
Но Виктор был далеко не так уверен:
– А что будет, если они заподозрят меня в шпионаже?
– Ты искусствовед, к тому же официально приглашенный, что здесь похожего на шпионаж? А если они узнают, чем ты на самом деле занимаешься, «Штази» тут же занесет твое имя в платежную ведомость. Тебя выберут почетным членом партии. Получишь звание «Герой труда»! Сам подумай – фальсификатор, водящий за нос мерзких западных капиталистов.
Разумеется, подделывать работы, хранящиеся за «железным занавесом», имело свои преимущества. На запад от Эльбы к услугам экспертов старые фотографии, бледные копии и описания работ. Карл Блехен, например, чьи пейзажи с руинами волновали Виктора несказанно – он ведь и сам видел этот современный немецкий ответ на гибель Помпеи, – Карл Блехен был представлен в восточном секторе намного лучше, чем в западном. То же касалось и Вайтша, и Граффа, и других значительных художников дюссельдорфской школы. С помощью связей Рюландера, человеческой наивности и собственной неслыханной наглости он стал одним из немногих, кому было позволено регулярно посещать восточные музеи.
– Сколько поездок тебе нужно? – спросил как-то Георг.
– Большинство работ я видел и раньше… Мне нужно просто-напросто освежить память, проверить использование материалов… В общем, еще две-три поездки.
– А что, если мы начнем продавать картины по ту сторону Бранденбургских ворот? Говорят, у политруков полно денег, в том числе и западной валюты. Как ты считаешь?
– Слишком рискованно. Не забывай, что Виктор Кунцельманн должен беречь свою репутацию.
Георг посмотрел на часы.
– Как и я, – улыбнулся он. – А сейчас труба зовет – рядовой морской пехоты Джесси Вильсон не любит ждать.
Неофициальный бойфренд Георга, красивый двадцатидвухлетний парень со Среднего Запада, в будни дежурил на радарной установке в Целендорфе. По вечерам же, если не было служебных дел, надземкой добирался до центра и в конторе Георга полностью менял облик. Человек, перешагнувший порог конторы в парадной форме морского пехотинца и белой фуражке, не имел ничего общего с покидавшим ее полчаса спустя двуполым существом, в макияже, с подведенными глазами и светлыми румянами, в мужских туфлях на каблуках, джинсах и щедро распахнутой гавайской рубахе.
Виктор никогда в жизни не видел, чтобы мужчина вел себя настолько женственно, кокетливо почти до невыносимости, чтобы кто-то так свирепо душился, вилял задом. И в дополнение ко всему – набор дешевых колец на каждом пальце… Виктор никак не мог решить, претит ли ему эта фривольная манера или импонирует. Это был настоящий современный гомосексуал, может быть, даже гомосексуал будущего. У него не было никаких комплексов, он вел себя свободно и даже вызывающе, любил современный джаз и курил марихуану. Он вовсе не стеснялся своей ориентации. Наоборот, похоже было, что он ею гордился – в неслужебное время, разумеется. На службе ему хватало ума выступать в образе грубоватого гетеросексуала, готового поставить на место любого зарвавшегося педика. Но Джесси упрямо утверждал, что придет час, когда даже в морской пехоте перестанут дискриминировать гомосексуалов. Он не был активистом и стратегом, как Нильс Мёллер, он был скорее блистательным тактиком – Джесси точно знал, когда он может не скрывать, кто он есть, и когда лучше держать свою нетрадиционную ориентацию в секрете. Виктор бешено ревновал обоих, прекрасно понимая, что это не истинная ревность, что его ревность всего лишь эвфемизм, ревность просто одалживает свое имя одиночеству.
Это чувство, чувство безмерного одиночества, в последние годы как-то изменилось – оно стало глубже и мрачнее. Он не должен был спать с Георгом, не должен быть давать волю любопытству и жажде нежности. Они потом никогда не вспоминали тот вечер. Но некоторые события оставляют как бы цезуры во времени, время словно останавливается на них в недоумении, а потом начинается снова. Эти события необратимы, и последствия их никому не дано предугадать.
В Берлине параграф 175 был по-прежнему в силе, причем по обе стороны границы. Множество старых законов были изменены в угоду победителям, но не закон об однополом разврате. Георг рассказывал о полицейских облавах в Тиргартене, о преследованиях переживших войну гомосексуалов, об активистах, которых хватала полиция и бросала в тюрьму за выдуманные преступления… И все же, несмотря ни на что, чувствовалось приближение нового времени. Гомосексуальные мужчины и женщины начинали организовываться. Либеральные силы становились все заметнее; мелкие сдвиги во взглядах и даже в языке неумолимо меняли мир. В старом районе вокруг Ноллендорфской площади возникали новые клубы, места встреч, на частных квартирах появлялись коктейль-бары. Общества с вполне невинными названиями устраивали дискуссионные и танцевальные вечера.
Именно в такое место и угодил Виктор. Они пришли туда с Георгом и Джесси, но те, подкрепившись несколькими ромовыми коктейлями и сигаретами с марихуаной, куда-то исчезли. Оставшись в одиночестве, он решил, что пора предпринять что-то радикальное… Он сидел за столиком в патрицианской квартире на Бюловштрассе, переделанной в клуб. Перед богатым баром стояли, беседуя, только мужчины. Патефон играл танго. Кто-то танцевал, другие, не скрываясь, целовались – поступки, которые еще несколько лет назад были немыслимы, становились реальностью. Виктор уже слышал о приватных вечеринках, где участники менялись партнерами… он предполагал, что Георг не так уж верен Джесси Вильсону, а Джесси в свою очередь тоже не упускает случая поразвлечься. Просто Георг из уважения к пуританской, как он считает, морали Виктора не посвящает его во все детали их отношений.
Густав Броннен, вдруг подумал Виктор, Густав Броннен… это как раз тот человек, который может помочь Виктору Кунцельманну избавиться от пояса невинности. Густав Броннен – фальсификатор и мошенник, попавший за это в лагерь… Умерший, но чудесным образом воскресший, как Лазарь, Густав Броннен может помочь ему вырваться из кунцельманновской моральной тюрьмы.
Он допил коктейль с ромом. Чуть поодаль на диване в одиночестве сидел человек. Все равно, с кого начинать, подумал он. Что за разница?
– Похоже, вы нуждаетесь в обществе? – Виктор подошел к незнакомцу.
Слух резануло от фальши этих слов, но человек на диване неожиданно предложил ему присесть рядом.
Этот человек, чье имя он так и не запомнил, рассказал, что снимает квартиру неподалеку. Собственно говоря, он не любитель таких заведений, как это, но все равно не смог удержаться. Он работает слесарем-сантехником, объяснил он, но на работе, понятное дело, молчит о своих предпочтениях. Там он рассказывает похабные анекдоты и свистит вслед проходящим девушкам. Он подумал немного и, извинившись, неожиданно сообщил, что ему претит находиться в одной комнате с гомосексуалами. Он сам себя презирает, что не может сдерживать свои гомосексуальные порывы. Он только и мечтает, чтобы стать таким, как все. Умом он понимает – это извращение, но сделать с собой ничего не может. Ему кажется, с ним в детстве что-то произошло и это что-то дало толчок его интересу к мужскому полу. Может быть, виной тому его мать. Он был единственным ребенком, она его обожала, а он постоянно льнул к ней. Может быть, этот тесный физический контакт с матерью и привел к тому, что нормальный половой интерес к женщинам постепенно выветрился из подсознания? Он много раз пытался наладить взаимоотношения с женщинами, даже был помолвлен. Это продолжалось почти год. Но чувства ему не подчинялись, он не мог любить женщину. А мужчины вызывали в нем зверское желание… Он презирал себя за эту слабость и хотел любой ценой от нее избавиться. Если бы это была рука или нога, сказал он, я бы не задумываясь отрубил ее… Один раз он попытался обратиться за помощью – есть врачи, которые берутся лечить такое, разве вы не слышали? Это называется «аверсионная терапия». Метод поначалу был разработан для лечения алкоголизма, потом его стали применять и при сексуальных отклонениях. Они на экране показывают порно и параллельно используют электрошок. Тебя привязывают к креслу ремнями с металлическими пластинками и начинают показывать фильмы… очень и очень возбуждающие фильмы, мужчины делают друг другу минет, онанируют… и тут – бац! – электрошок. Они уверили его, что он таким образом вернется к нормальным сексуальным запросам, сможет завести жену и детей, как все нормальные люди…
Незнакомец рассказывал все это, не глядя Виктору в глаза, он смотрел то на руки, то на ноги, то еще на какую-то точку на теле Виктора, но в глаза смотреть избегал.
– И все равно я здесь, – сказал он с отвращением. – Пытаюсь себе запретить, иногда удается, держусь несколько месяцев. Встречаюсь с приятелями по работе, мы выпиваем, играем в карты, рассказываем анекдоты и свистим проходящим бабам. Не пора ли завести невесту? – спрашивают. Они-то думают, что я просто застенчив. Пытались свести меня с вдовами, с женами без вести пропавших на войне – те, должно быть, все равно погибли в каком-нибудь сибирском лагере… Как-то привели для меня проститутку. Твои друзья мне уже заплатили, сказала она, можешь делать со мной все, что хочешь. И я исповедался этой бляди, рассказал все, как есть, что не могу с женщиной… Она сказала: это неважно, тариф тот же. Я попросил ее рассказать моим товарищам, что у нас все было. Потом они хлопали меня по спине и говорили, что я настоящий мужик…
Приближался час закрытия. Официант уже ходил между столиками с веником.
– А вы были на войне? – спросил его собеседник.
– Нет, мне повезло…
– А я был в фолькштурме в последнюю весну. Мне было восемнадцать. Наша часть пыталась держать оборону на юге… Американцы со своими джипами и танками прошли сквозь нас, как нож сквозь масло… они же видели, что перед ними одни пацаны… Наш лейтенант пустил себе пулю в лоб, а я уже успел в него влюбиться… странно, правда? Влюбился на войне, чуть не на поле боя…
Война, подумал Виктор. Никто из присутствующих здесь не избежал войны. Не то, что в той северной стране, откуда он приехал. В Германии все до единого потеряли невинность… Он не хотел думать о тех годах. Память нельзя уничтожить, но ее можно игнорировать. Он думал, что ему в Берлине будет трудно, но, к счастью, ошибся. Пока он избегал путешествий в прошлое, пока не предпринимал экскурсов в собственную историю, все было легко и просто.
– Я знаю место здесь неподалеку, – сказал собеседник. – Если хотите, можем пойти туда… Делайте со мной все, что хотите, мне все равно. Аверсионная терапия не помогла, наоборот – я бы сказал, болезнь прогрессирует. Единственное, о чем я могу думать, – как бы переспать с мужчиной.
Он увидел нерешительность Виктора, и глаза его забегали. Он посмотрел в сторону – там стоял молодой человек и приглашающе улыбался.
– Тогда я найду кого-нибудь еще, – сказал незнакомец. – Эта болезнь, как чесотка… единственный способ утолить зуд – найти парня.
Виктор все чаще заходил в такие частные клубы. Он понимал, что должен как-то преодолеть одиночество. В его мире было так много горя, так много несчастий и потерь, так много страшных воспоминаний… с этим надо было что-то делать. Он чувствовал, что просто обязан кого-то полюбить, пусть хоть ненадолго, иначе одиночество его доконает. Он пытался завязывать знакомства, флиртовать, старался, как цирковой артист, освободиться от сковавших его цепей. Но иногда ему казалось, что его никто не замечает, он словно бы невидим. Как будто аура его одиночества отпугивала людей…. А может быть, это вовсе и не цепи одиночества, как-то пришло ему в голову, может быть, это ложь… он всю жизнь лгал, и ложь окружила его непроницаемым панцирем.
Как-то ноябрьским вечером он шел по Мотцштрассе. К нему подошел молодой человек и взял его под руку:
– Не хотите ли пообщаться?
Не взрослый, не ребенок – лет шестнадцать… Виктор вдруг увидел в нем самого себя в Берлине тридцатых: неоперившийся юнец среди взрослых мужчин в «Микадо».
– Что скажете? Двадцать марок, и я все сделаю. Только расслабьтесь, мне нравятся мужчины в возрасте.
Теплый ветерок сильно опоздавшего бабьего лета нежно продувал улицу. Далеко, в районе Ку-дамм, небо фосфоресцировало от реклам, но по другую сторону, в восточном секторе, было темно.
– Здесь есть подходящие руины во дворе, – сказал мальчик. – Когда-то там была молочная, но в последнюю зиму… прямое попадание. Мы поставили диван, стало очень уютно.
Навстречу им медленно дрейфовала полицейская машина. Виктор замедлил шаг, чтобы не возникло подозрений, что они что-то затевают.
– Наплевать на них. Пока мы открыто не целуемся, они не имеют права вмешиваться… Это здесь. Пошли!
Они прошли через ворота и оказались на мощенном булыжником дворе. Перед ними высился обгорелый фасад. Крыши и двух верхних этажей не было. Но они были не одни – их ждали еще двое ребят в том же возрасте.
– Делай, что скажут, и ничего с тобой не будет. Для начала стой смирно.
Виктор подчинился, потому что понимал, что последствия его отказа предвидеть невозможно.
Его спутник закурил сигарету и начал обшаривать его брючные карманы. Достал бумажник, открыл и вынул деньги.
– Здесь крутится полиция, – сказал он. – Надо линять отсюда.
– Подожди минутку, – остановил его приятель. – Я хочу поговорить с этой голубой сучкой. Мне интересно – тебе самому-то не противно на себя смотреть?
– А я люблю педиков, – сказал третий. – Пока они меня не лапают, пока у них есть деньги и они их дают мне, когда я прошу…
– Уверен, что этот тип заставляет малолеток сосать ему за плату. На Мотцштрассе пацаны все моложе и моложе… Детишки из бедных семей, а кто просто сбежал из дому… Нет, я хочу пометить эту падлу.
Он без предупреждения ударил его кулаком в лицо, и Виктор потерял сознание.
– Я хочу детей, – сказал он на следующее утро, сидя в обжитой кухне сестер Ковальски. Опытные медсестры обработали ему лицо. Он почти не виделся с ними в последние месяцы – все время было занято фальсификацией картин девятнадцатого века.
– Тебе надо отдыхать, Виктор, а не разговаривать… Не исключено сотрясение мозга.
– Ничего. Эта история, может быть, заставит меня очнуться и осознать наконец – надо менять стиль жизни… Беда в том, что я просто не знаю, куда ткнуться. И даже не знаю, что на что менять.
Сестры дружно засмеялись звонким мелодичным смехом – в их компании это называлось «ковальский колокольчик».
– Я говорю серьезно… Мне надо что-то найти… Иначе все теряет смысл.
– Ты думаешь, дети лечат от одиночества?
– А почему бы и нет?
– А как ты объяснишь им, почему не живешь с их матерью? Как скроешь, что тебя тянет к мужчинам?
– А почему я должен это скрывать? Впрочем, могу и держать себя в узде. Остаток жизни проживу один. Не такая уж большая разница с тем, что я имею сейчас. У меня за всю жизнь не было постоянной связи.
– И какая женщина пойдет на это?
– Не знаю. Может быть, кто-то из таких, как вы…
– Я лично не смогла бы, – сказала Сандра. – Даже с тобой. Я даже представить себе не могу интимную сцену с мужчиной.
– А может быть, заплатить?
– Честно говоря, я и сама об этом думала, – сказала Клара. – Но отвергла эту мысль…. Все эти секреты, ложь… мне этого и так хватает, еще одного вранья я просто не выдержу.
– А почему не сказать правду?
– Мир еще не созрел. Может быть, лет через пятьдесят…
– А может быть, и раньше… уже в следующем поколении, если честно рассказать им, через что мы прошли…
– Забудь и не вспоминай! Народ всегда будет нас ненавидеть… Очень больно? Смотри, все лицо отекло.
– Плевать на лицо.
– Ты обязательно найдешь свою любовь. Ты ведь еще молод. Найдешь себе спутника жизни, будешь с ним жить. Само собой, тайно, чтобы не дразнить гусей.
– От них-то я и устал. От гусей… От секретов… Хочу жить нормальной счастливой жизнью…
– Хочешь, я позвоню твоему дорогому компаньону?
– Мой дорогой компаньон валяется в постели со своим американским любовником… Не хочу смотреть на его довольную рожу.
– Ты должен заявить в полицию. Тебя же ограбили.
– Шутишь? С каких это пор полиция начала расследовать преступления против гомосексуалов?
– Попытайся хотя бы уснуть, Виктор. Это серьезно: если есть хоть небольшое сотрясение мозга, ты должен отдыхать.
Они вышли из комнаты, послав ему воздушный поцелуй. Две обычные немецкие женщины, подумали бы непосвященные, две замечательные медсестры, аккуратная и порядочная пара родных людей, – как трогательно, что сестры живут вместе… жаль, что они никого себе не нашли, но сами знаете, после войны мужчины в дефиците… Два любящих сердца. И любовь научила их, как обмануть враждебный и не понимающий их мир.
Виктор вернулся в Швецию сразу после Нового года. В чемодане, отправленном багажом с вокзала Цоо, лежали десять выдающихся полотен немецкого девятнадцатого века. Картины прошли таможню и получили разрешение на вывоз – официально они были проданы торговой фирмой «Братья Броннен» реставрационной фирме Кунцельманна. На пароме из Травемюнде Густав Броннен стал Виктором Кунцельманном, получил чемодан на таможне в Треллеборгской гавани и сел в курьерский поезд на Стокгольм.
В мастерской ждал ворох писем. Национальный музей проявляет интерес к приобретенной им работе Менцеля. Доктор Рюландер приглашает на семинар – лекция молодого реставратора о последних достижениях спектрального анализа. В самом низу – письмо из Управления аукционов. Просят посмотреть на вновь поступившую ренессансную работу.
Он сел за стол и взял ручку. На теперь уже безупречном шведском он поблагодарил Рюландера за помощь с посещением музеев в ГДР и пообещал прийти на семинар. Хольмстрёму предложил встретиться и посмотреть на Менцеля, а также коротко объяснил причины полугодового отсутствия – коротко, но лживо. Ответил на дюжину писем от заказчиков, а потом, повинуясь непонятному ему самому импульсу, начал письмо Яану Тугласу. С тех пор как тот уехал в Америку, Виктор ничего от него не получал – кроме нескольких безличных строчек на рождественских открытках. Он начал с общих слов – как идет жизнь в Стокгольме, чем он занимается, профессиональные новости… но постепенно письмо становилось все более откровенным. Он написал Тугласу обо всем, что ни при каких условиях не мог бы открыть другим: что он с самого начала всех обманывал, что он не тот, за кого себя выдает, что теперь, подводя итоги, он и сам не знает, кто он есть. Ложь, писал он, стала его оружием, но оружием с такой отдачей, что оно, это оружие, почти уничтожило его самого. Он манипулировал людьми, и люди были беззащитны, потому что даже предположить не могли, что за этим стоит. Но ложь иссушила и его душу. Он из-за этой лжи потерял всякую связь с действительностью. Теперь он лгал только потому, что уже не мог не лгать. Он лгал, чтобы не раскрывать предшествующей лжи, он лгал, катясь по наклонной плоскости лжи без конца и без начала – без начала, потому что он даже не мог припомнить, когда она началась, и без конца, потому что он не имел ни малейшего представления, как и чем может завершиться… Поставив точку, он не почувствовал втайне ожидаемого облегчения, наоборот, появилось ощущение, что петля затянулась еще туже.
Работа написана на дубовой доске, констатировал Виктор. Он пришел в Управление аукционов на Нюбругатан на следующий же день и теперь рассматривал вновь поступившее панно. За обеденным столом сидит семья – муж, жена и двое детей. Лица детей покрыты густыми вьющимися, напоминающими звериный мех бородами. И отец тоже зарос волосами, как мифологический оборотень, а у жены нормальное, чуть усталое лицо.
– Нам не так много известно о художнике, – сказал заведующий управлением фон Сюдов, когда они прошли в кабинет, заставленный картинами и антиквариатом, готовящимся к весенней выставке. – Знаем только, что это была женщина, что она работала в Болонье на рубеже шестнадцатого и семнадцатого веков. В ту эпоху женская живопись была не в моде, никто и не обращал внимания на «бабью мазню». Но со временем ее работы стали привлекать все больше внимания. Особенно этот групповой портрет семьи Гонзалес, известной как «бородатая семья». Вы, разумеется, понимаете, что я говорю о Лавинии Фонтана.
Виктор и раньше видел этот мотив в каком-то справочнике или, по крайней мере, похожий. Но в остальном он почти ничего не знал о Лавинии Фонтана… Он попросил лупу и осмотрел верхний слой – мазок до предела элегантен, кракелюры типичны для материала, старившегося сотни лет.
– Чисто пластически у нас нет никаких замечаний, – сказал фон Сюдов. – Но проблема в том, что эта работа ранее была неизвестна.
– Выглядит как настоящий циннобер… А малахитовым зеленым давным-давно никто не пользуется.
– Забавно… Если бы перед нами был вновь открытый Микеланджело, все до одного тут же стали бы отрицать подлинность. А тут речь идет о женской живописи, и подлинность, оказывается, не так уж важна.
Портрет поистине мастерский, подумал Виктор… может быть, будущим поколениям стоит пересмотреть итальянские каноны. В самом деле, как можно было пренебрегать этой замечательной художницей? В этом заключалась глубокая несправедливость.
– Где приобрели? – коротко спросил он.
– Молодой финско-шведский коллекционер какими-то одному ему известными путями привез ее из Ленинграда.
Виктор невольно отшатнулся, но совсем чуть-чуть, так что собеседник ничего не заметил.
– А кто продает?
– Он же… вернее, финансовой стороной занимается его отец. Работа почему-то не подходит их коллекции. Они хотят придать ей иное направление. Скандинавское барокко или что-то в этом роде. Месяц назад купили у нас на аукционе Микаеля Даля. А теперь хотят продать Фонтана как можно дороже.
Не было никаких сомнений, о ком идет речь, кто этот загадочный финско-шведский коллекционер, – так же как не было никаких сомнений, что перед ними подлинник.
– Проблема Фонтана – ее пол, – продолжил управляющий. – Ей не повезло – родилась не в ту эпоху. Микеланджело, например, предпочитал мужчин, но это никак не повредило его славе. Или Караваджо – тот даже, говорят, убил кого-то. Но родиться женщиной в те времена – серьезная ошибка.
– Я могу дать вам отзыв, но неформальный, – сказал Виктор. – И при условии, что вы не будете называть мое имя.
– Разумеется, разумеется, даю слово.
– В таком случае я бы посоветовал вам не выставлять картину. У меня такое ощущение, что это подделка, впрочем, сделанная в ту же эпоху.
Это, конечно, дешевая месть, думал он, прогуливаясь по Старому городу. Хотя и не месть даже, а так – безобидное напоминание. Он знал, как закончится эта история, – управление не купит картину, а, поскольку северный рынок невелик, слухи распространятся мгновенно, и тень падет не только на эту работу, но и на всю коллекцию семейства Ульссон. Ну и что? Они все равно найдут покупателя, не здесь, так за границей, и все встанет на свои места, потому что картина безупречно подлинна.
Он остановился на Шеппсбрун и попытался разобраться в своих ощущениях. Нет, разумеется, это не просто напоминание. Он понял, что хочет отомстить. Но этой символической выходки явно недостаточно. Жажда мести разбужена, и ее надо утолить.
Национальный музей, к удивлению Виктора, приобрел Менцеля мгновенно. Все бумаги были оформлены в рекордно короткий срок. Он открыл полотно в вестибюле, под монументальными росписями Карла Ларссона. Они были вдвоем с Хольмстрёмом.
– Потрясающе, – сказал интендант. – Небольшая работа, но какая изысканная!
На полотне был изображен тот же зал в замке Сан-Суси, куда Менцель в свое время поместил играющего на флейте Фридриха Великого. Но здесь монарх отсутствовал. На его месте стоял темнокожий придворный, написанный с Джесси Вильсона – тот, впрочем, и понятия об этом не имел. На заднем плане Виктор добавил элементы иллюстраций Менцеля к кугелевской биографии Фридриха, а также кое-какие выдуманные им самим детали.
– Эта работа того периода, когда художник увлекался иллюстрациями, – сказал он.
– Да, я знаю… Он иллюстрировал превосходную книгу Кугеля. Свыше четырехсот графических листов. Я, пока вас ожидал, кое-что почитал. Странно, что немецкие музеи не проявили интереса…
– Проявили бы…
– Я понимаю… у продавца зуб на тевтонов.
Интендант внимательно рассматривал картину. Потом перевел взгляд на Виктора и довольно улыбнулся.
– Покупка уже согласована с руководством, – сказал он, – если, конечно, цена будет разумной.
– Цена вполне рыночная. Но я хотел бы спросить: вы уверены? У меня есть другие покупатели, и мой гонорар остается тем же…
– Я был уверен, как только получил от вас телеграмму. Картина нам очень подходит – она прекрасно заполняет пробел в коллекции… Музей давно охотится за немецкими работами той эпохи. И предложенная вами поначалу цена нас устраивает. Вы же не повышаете ее?
– Нет… но картина как-никак ранее была неизвестна. И продавец хочет сохранить инкогнито… Речь идет об одном коллекционере из Буэнос-Айреса[169]… Так что…
– А какова ваша оценка?
– Менцель. В каждом мазке. Но…
Хольмстрём раскурил трубку. Красивые кольца, как загадочные дымовые сигналы, поплыли наверх, как раз в тот зал, где Виктор в незапамятные времена познакомился с Яаном Тугласом у картины Буше.
– Виктор, на что вы намекаете?
– Я хочу сказать, что… может быть, для безопасности… стоит показать картину и другим экспертам. Если музей купит картину, мне не хочется быть единственным, кто подтвердил ее подлинность. Лишняя осторожность никогда не помешает… Никакой спешки нет.
– Боже мой, Виктор, это же, в конце концов, не неизвестный Рембрандт! Маленький холст немецкого реалиста девятнадцатого века. И я вам верю, Виктор, больше, чем кому-либо, особенно после той истории в Амстердаме, когда вы, единственный из всех, обнаружили фальшивку. Как поступим с оплатой?
– Надо будет перевести все деньги на торговую фирму в Берлин. Адрес, банковские реквизиты, сертификат подлинности и таможенная декларация – все в папке.
Виктор протянул ему папку с тисненым логотипом «Братья Броннен. Искусство и антиквариат»:
– Просмотрите не торопясь. Думаю, картина здесь будет даже в большей безопасности, чем у меня в мастерской. Как только примете окончательное решение, позвоните мне…
Разговор состоялся в понедельник вечером, но уже в среду утром его опять вызвали на Блайзехольмен. Хольмстрём принял его в конторе. Он сидел за столом и перебирал какие-то бумаги.
– Я должен сказать вам кое-что, – сказал Хольмстрём, не поднимая глаз.
Все шло чересчур уж легко, подумал Виктор. Вполне может быть, что в больших музеях есть какие-то ловушки, о существовании которых непосвященные и догадываться не могут. Какие-то бюрократические процедуры, засекреченный контроль, предписания по безопасности, известные лишь горстке сотрудников. Что-то вроде стоп-крана, который можно дернуть, если возникнет подозрение, что что-то не так. Но что может быть не так? Его полотно, он знал твердо, невозможно отличить от подлинника. Каждый мазок был мазком Менцеля. Работа была менцелевской в большей степени, чем если бы ее написал сам Менцель.
– В чем дело? – спросил он, стараясь выглядеть спокойным.
– Я должен принести вам свои извинения, – сказал Хольмстрём. – Я все же решил назначить дополнительную проверку. Даже Виктор Кунцельманн, подумал я, может ошибаться. Я был неправ.
Он потер руки от удовольствия.
– У нас сейчас совершенно случайно в гостях делегация из Мюнхена. Они приехали на семинар Рюландера. Люди из окружения Дернера… Вот я и воспользовался случаем – попросил их взглянуть на полотно. Они сказали слово в слово то же, что и вы, – и даже с той же оговоркой, что полотно, как ни странно, раньше известно не было. Один из них даже хотел приобрести работу для Пинакотеки, причем весьма настойчиво…
Хольмстрём поднялся с кресла, обошел письменный стол и дружески хлопнул Виктора по спине.
– Вы опять оказали нам колоссальную услугу, Кунцельманн, и хочу, чтобы вы знали, как мы вам благодарны. Не откажетесь ли отобедать со мной?
В феврале того же года Виктору удалось продать подделку Керстинга хорошо известному коллекционеру в Осло – портрет Каспара Давида Фридриха за работой. Два варианта портрета хранились в Национальной галерее Восточного Берлина, но Виктор поставил на своем изделии более раннюю дату, поскольку картина должна была представлять нечто вроде еще более ранней, незаконченной версии портрета. Покупатель без малейших колебаний перевел деньги на счет братьев Броннен в Западном Берлине… Виктор задержался в Осло еще несколько дней, посетил – исключительно для собственного удовольствия – Национальную галерею, изучая живопись Мунка. Ему предстояло еще прочитать лекцию в университете – Рюландер разрекламировал приезд в Норвегию выдающегося специалиста по разоблачению подделок. Виктор провел семинар – как обнаруживать новодел на старых холстах. Увидев, что собралось не меньше тридцати ученых и студентов, он немного занервничал, пока не осознал, что они смотрят на него едва ли не как на главный мировой авторитет в этой области. Руководство факультета устроило в его честь обед. В окруженнии честных, искренне восхищенных его познаниями людей, он вдруг почувствовал нечто вроде отвращения к самому себе… Но он справился с этой слабостью, обратил ее в бегство, выкинул из сознания – точно так же, как он поступал со всеми своими эмоциями, насколько мог себя помнить…
Весной они с Георгом встретились в Копенгагене. В отеле в Нюхавне они переделали несколько подлинных квитанций, выписанных известным австрийским коллекционером, незадолго до этого закончившим свое земное существование. Небольшие изменения в тексте, пара новых печатей – и квитанции уже относятся к поддельному Рунге и не менее поддельному фон Родену, которых они впарили Карлсбергскому собранию. Потом вместе поехали в Стокгольм – надо было работать над следующей партией скандинавского барокко для Германии.
Дела шли сверх всяких ожиданий. На выставке в Голландии они продали еще одного «вновь открытого» Эренштраля и одно из полотен, написанных Виктором в охватившей его после ухода Фабиана Ульссона творческой лихорадке. Все катилось как по рельсам: когда мяч уже в игре, никому не приходит в голову рассматривать, как он сшит. Никто не мог даже предположить, что Виктор Кунцельманн и Густав Броннен – одно и то же лицо. Никто не удивлялся, что их фирма вынырнула на рынке, словно черт из табакерки, – наоборот, их репутация, как в высшей степени порядочных и знающих продавцов картин, росла с каждой новой сделкой.
Осенью они поехали в Финляндию – присмотреть возможных заказчиков. Стокгольм был слишком близко, поэтому Виктор предпочел выступать в своей немецкой ипостаси. Как они быстро сообразили, слава братьев Броннен бежала впереди них. В Турку некий торговец картинами по имени Бойе тут же поставил на комиссию один из пейзажей, подписанный Хакертом. К удивлению Виктора, Георг уже изъяснялся на неуверенном, но грамматически правильном шведском – за проведенное в Стокгольме лето он овладел языком на удивление быстро.
Картина была продана через неделю и принесла им очень неплохой барыш.
Из Хельсинки они полетели в Берлин, и Виктор тут же заперся в мастерской – надо было закончить полуготовые полотна для Скандинавии…
– Кто бы мог подумать! – сказал Георг, придя из банка. – Мы за этот год получили прибыль в триста тысяч марок.
– Я хочу, чтобы мы отчисляли какой-то процент в пользу нуждающихся художников, – сказал Виктор, не отрываясь от палитры.
– Ты что, не в себе?
– Возьми из моей доли, если не хочешь участвовать. Половину.
– Зачем все это?
– Должно же быть хоть какое-то оправдание. Мы же паразитируем на стараниях и муках других художников. Думай, что хочешь, Георг, но у меня есть совесть. Уродливая, конечно, но все же есть.
– Мы не паразитируем, а живем на то, что богатые люди нам платят. Промышленные магнаты и юные бездельники, которые не знают, что им делать со своими миллионами. Вместо того чтобы сделать что-то для людей, они предпочитают пускать друг другу пыль в глаза старинными буржуазными картинками.
– Значит, это и есть наше призвание?
– Эренштраль умер четыреста лет назад. Керстинг, Рунге, Менцель – все лежат в могиле. Мы говорим о корме для червей, Виктор. Они мертвы.
– Мертвых художников не бывает. Забытые – да, встречаются. А мы эксплуатируем веру людей, что в мире существует настоящее искусство.
– Виктор, не забывай: мы жулики. Уголовники. Кто ожидает, что уголовники начнут заниматься благотворительностью?
– Передай мне вон тот тюбик, пожалуйста… И ответь на вопрос: что бы с нами было, если бы не существовали настоящие художники, которых можно фальсифицировать?
Георг с любопытством склонился над полотном.
– Ты выиграл, – сказал он, – скажу, как только что-нибудь придумаю… Кстати, надо что-то сделать с водой на заднем плане.
Вышло по Виктору. Бухгалтер братьев Броннен получил задание переводить значительную часть доходов фирмы в основанный ими фонд, а затем, с одобрения налоговой инспекции, направлять деньги в художественные союзы Германии и Скандинавии для помощи нуждающимся художникам.
Во второй половине пятидесятых годов в мире искусства произошло несколько событий, побудивших Георга и Виктора к большей осторожности. Был осужден некий ловкач по имени Лотар Мальскат: он продавал коллекционерам подделки Барлаха, Шагала, Руссо и Утрилло. Мало этого, ему вздумалось в церкви Святой Марии в Любеке, куда его пригласили для реставрации, написать свои собственные средневековые фрески. Искусствоведы с большим трудом напали на след невероятно нахального фальсификатора и еще с большим трудом признались, что их надули. Интерес полиции привлек и торговец фруктами из Гамбурга Руди Конвенц, который много лет втюхивал доверчивым любителям написанных им самим Тициана и Коринта. Его задержали, но отпустили за недостатком улик – история, которая повторится с ним же много лет спустя, но тогда он уже предстанет перед судом… В Норвегии объявился фальсификатор Мунка – плотник по имени Каспер Касперсе, когда-то он работал у художника в ателье. Мы теперь знаем его имя, но тогда, в конце пятидесятых, все терялись в догадках, хотя петля понемногу затягивалась… Виктор и Георг смотрели на этих мошенников как на любителей, второразрядных пачкунов, даже рядом не стоящих с ними или со всем теперь известным Ван Мегереном. Но причины для беспокойства у них были: люди стали нервничать, возобладала осторожность, аукционы и коллекционеры начали изучать провинанс картин куда более внимательно, особенно с большой настороженностью относились к вновь обнаруженным работам.
Прежде чем продать очередную картину, они решили выждать, и выжидали довольно долго. Виктор продолжал работать у себя в мастерской. Заказы шли в Пеликаний переулок нескончаемым потоком. Он много ездил, продолжал методично расширять круг знакомств. По просьбе доктора Рюландера помогал разрабатывать новые методы спектрального анализа для обнаружения подделок. Он регулярно наведывался в Берлин. Временное потепление немецко-немецких отношений облегчило получение так называемой однодневной визы, и он ходил по восточным музеям, глазом фальсификатора приглядываясь к выставленным там сокровищам. А возвращаясь в Стокгольм, погружался в работу – официальных поручений становилось все больше, и они были все серьезнее.
В связи с одним из таких поручений он вновь повстречался с Астой Берглунд. Проходила инвентаризация собрания Художественной академии на Фредсгатан, и Виктор в числе других экспертов был привлечен для руководства работами. Причиной инвентаризации были далекоидущие градостроительные планы: квартал Клара подлежал сносу, и коллекцию приходилось переводить в другое место.
После утренней планерки он заглянул в один из классов, где учащиеся писали этюды. На стуле посреди класса сидела обнаженная модель, похожая на скульптуру Джакометти[170] – истощенная, несчастная. Она посинела и дрожала – в зале было довольно холодно. Это была Аста. Виктор не виделся с ней с тех пор, как она покинула Стокгольм.
Он дождался перерыва. Ученики вышли в коридор покурить.
– Как насчет пообедать? – спросил он. – В память о старой дружбе…
Они пошли в бар «Опера», и Аста рассказала ему, как жила эти годы. Родители положили ее в клинику в Хельсинки. Он прошла курс дезинтоксикации… ей делали уколы какого-то препарата с куда большим наркотическим эффектом, чем привычный ей амфетамин, – к такому умозаключению она пришла, потому что почти ничего не помнила из того времени. Все это происходило под наблюдением врача, который к тому же был близким другом отца.
– Через месяц я сбежала, – объяснила она, с наслаждением вгрызаясь в заказанный Виктором бифштекс, – но дальше вокзала не ушла… Папочка объявил меня в розыск…
Они перевели ее в частную лечебницу под Васой. Она покорилась, стоически глотала горсти успокоительных таблеток и всерьез решила примириться с судьбой. В конце концов консилиум нашел, что она достаточно здорова, чтобы ее выписать. Несколько лет все шло хорошо. Она жила в своей девичьей комнате, завела новые привычки, понемногу начала писать, в основном пейзажи… встречалась с друзьями детства, ездила под присмотром старшего кузена в Хельсинки – побывать в обществе… Все так и шло, пока она в один прекрасный день не поняла, что живет в тюрьме, и села на первый же паром в Стокгольм.
– Даже не думала, что сорвусь так быстро. Все повторилось, причем мгновенно. Мама и папа, похоже, потеряли надежду… прислали через адвоката письмо, что лишают меня наследства.
– Чем ты зарабатываешь?
– Иногда подрабатываю натурщицей. Есть несколько мужиков, они меня кое-как содержат… в общем, все, как раньше…
Она машинально гладила колени. Виктор заметил, что на руках полно синяков, и тут же понял, что не хочет узнать их происхождение.
– У одного из них я живу, – сказала она. – В ожидании лучшего… Если не хочешь нажить неприятностей, надо уметь доказать, что ты где-то живешь. Не только вы, мужелюбы, можете нажить на свою шею неприятностей, то же самое касается и молодых женщин, живущих неупорядоченной, по мнению властей, жизнью. Бездомных… они ночуют в парке, потому что им негде больше ночевать. Они идут за незнакомцем, чтобы не замерзнуть. Если не повезет, осудят за бродяжничество… А ты разве не знаешь, что власти поделили нас на категории? Содержанки, девки для танцев, уличные девки, бандитки, сутенерки и пташки. Пташка – это молодая бродяжка из пролетарской семьи, так что я под эту категорию не попадаю… Есть еще попрошайки, психически неадекватные, инфантильные, искательницы приключений, сводницы, разносчицы наркотиков и асоциальные имбецилки… Ты же понимаешь – у нас больше подвидов, чем у убийц…
Она зажгла сигарету и выпустила тонкую струю дыма.
– Я из этого никогда не вырвусь, – тихо сказала она. – Постоянная охота за деньгами и лекарствами. И к тому же боюсь, что меня схватят… Ходят слухи, что некоторых стерилизуют.
– Если хочешь, можешь пожить у меня…
– Из этого ничего не получится. Через несколько недель меня опять начнет ломать. Или к тебе будут приходить типы, которых ты вовсе не хотел бы у себя видеть. Вещи будут исчезать… Полотна. Соседи начнут жаловаться…
Она протянула руку и сняла волос с воротника у Виктора.
– Если тебе интересно, могу рассказать кое-что о Фабиане.
Даже если бы он и хотел, он не мог бы скрыть интереса.
– Отец послал его к известному психиатру в Гамбург. Не знаю, известны ли тебе новые методы лечения гомосексуальной болезни…
– Слышал кое-что.
– Электрошок, ледяные ванны и тому подобное. Не думаю, чтобы это помогло. По слухам, он встречается с мужчинами в Хельсинки.
– Вылечить нас нельзя… Ты с ним виделась?
– Один раз за все это время. В Васе, в родительском доме. Он ни слова не сказал о тебе, и я тоже молчала. Некоторые события как бы предопределены… и какой смысл пережевывать их вновь и вновь? Я не верю Сартру с его экзистенциализмом, с которым все теперь носятся. Свободный выбор? Для меня такого не существует. Ни один человек не свободен настолько, чтобы самому определять свою жизнь. Все время происходит что-то, над чем ты не властен. Кто-то впирается на твою полосу движения, и направление меняется…
Виктор был не особенно силен в философии, по крайней мере в модной.
– А как дела с коллекцией Ульссонов?
– Фабиан за нее больше не отвечает. Особенно после того, как купил в России картину, а аукцион от нее отказался – подозревают подделку. Теперь за дело взялся отец. Ходит на частные выставки и оставляет предложения, а аукцион делает все остальное, причем конфиденциально. Он прикупил много скандинавского барокко в последние годы. И претенциозных немецких романтиков.
Она посмотрела на часы, потом в окно.
– Не думай, что мне это нравится, Виктор. Я только и мечтаю опять взяться за кисть.
– Еще не поздно.
– В моем случае – поздно. Кстати, Туглас дает о себе знать?
– Уже пару лет от него ничего нет. Я думаю, это хороший знак – Америка лежит у его ног.
– А ты как? Интересная работа?
– Интереснее, чем я заслуживаю.
Виктору вдруг пришла мысль, что за всю свою жизнь он испытал физическое влечение только к одной женщине – к Асте. Может быть, это зависело от того, что в ней было что-то мальчишеское, не только внешне – мускулистое тонкое тело, узкие бедра, некоторая резкость, – но и что-то глубже, что-то в ее натуре, чего он определить не мог. А может быть, он просто ей симпатизировал и очень жалел…
– Странно – ты человек ниоткуда, и у тебя так удалась жизнь… – сказала Аста. – Мне всегда было интересно, от чего это зависит. Ты, наверное, никого не провоцируешь. Ты как-то странно ускользаешь…
– Наверное, это в моей природе.
– Знаешь, я долго считала, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Что в тебе слоев двести разных тайн.
Вдруг Виктор почувствовал почти неодолимое желание рассказать ей все, исповедаться, признаться, повиниться – но усилием воли отогнал наваждение.
Весной 1957 года они получили письмо от Бойе, владельца антикварного комиссионного магазина в Турку. Он писал, что один из его очень и очень состоятельных заказчиков интересуется немецким девятнадцатым веком. И поскольку «Братья Броннен» специализируются именно в этой области, он позволил себе обратиться прямо к ним. К тому же он помнит их сотрудничество – вы же наверняка помните, полотно Керстинга несколько лет назад. Его клиент иногда бывает по делам в Берлине, не могли бы они организовать встречу?
В этот период они действовали с особой осторожностью. Георг написал выжидательный ответ – он спрашивал, в частности, известен ли клиент господина Бойе в кругу коллекционеров. Ответ их ошеломил: клиентом Бойе оказался не кто иной, как финский лесной король по имени Петри Ульссон.
Виктор как раз в это время был в Берлине. Он пришел в страшное возбуждение. Не особо веря в совпадения или в судьбу, которую так часто влечет за собой случайность, он понял, что такого случая больше не представится.
– Это непрофессионально, – сказал Георг, когда Виктор изложил ему свой план. – Как только в дело вмешиваются чувства, риск ошибиться возрастает раз в сто.
– Думаю, это не так. У нас есть посредник – Бойе. Дай мне только уточнить детали.
– Делай как хочешь. Но я сохраняю за собой право сказать «нет».
Уже к вечеру план был окончательно продуман. Продуманы были все возможности, все мелочи, определена последовательность – по совершенству план этот ни в чем не уступал лучшим подделкам, когда-либо произведенным Виктором на свет.
– Такое мог бы выдумать граф Монте-Кристо, – Георг не скрывал своего восхищения. – Но все равно, мне кажется, мы идем на ненужный риск… И где ты возьмешь твоих статистов?
– Пока не знаю… Но что-то говорит мне, что за деньги можно купить все, в том числе и людей.
– И почему ты считаешь, что я соглашусь втянуть в это дело Джесси Вильсона?
– Из интереса, мой дорогой друг, из чистого интереса…
Виктор был прав – его партнер оказался не в силах противостоять соблазну. В апреле, после некоторых приготовлений, антиквар Бойе получил ответ от Роберта Броннена. Господин Броннен объяснил, что по стратегическим соображениям фирма больше не предлагает произведения искусства на комиссию в зарубежных странах. Но если Бойе или его заказчики заинтересованы в приобретении немецкой живописи, они могут приехать в Берлин и встретиться с ними в их конторе. В пакет Георг вложил еще один большой конверт с логотипом фирмы и с письмом, предназначенном директору Ульссону, если господин Бойе возьмет на себя труд его передать.
Все произошло точно по сценарию Виктора. Бойе послал письмо своему клиенту. Там содержалось подписанное старшим братом личное приглашение посетить магазин «Братья Броннен» в Берлине. Общим словам о западногерманском рынке искусства сопутствовало краткое описание выставленных к продаже картин. Чтобы дать господину директору представление, Георг приложил список адресов антикваров и продавцов картин, газетные анонсы и краткие каталоги известных аукционов. В одном из таких каталогов были фотографии нескольких работ, которые скоро будут выставлены небольшой фирмой в Берлине и, возможно, представят интерес для господина директора. Речь идет о неподписанном панно итальянского барокко (по-видимому, школы Симоне Петерзано), работе Лессинга (шедевр дюссельдорфской школы, как сообщалось в тексте, якобы написанном оценщиком берлинской торговой палаты), а также, что самое интересное, вновь обнаруженном холсте немецко-шведского барочного мастера Давида Клёкера Эренштраля. На задней стороне папки красовалась впечатляющая печать выдуманного аукциона «Адлерсфельд» – в высшей степени изощренная штука. Дата основания аукциона «1835» помещена на печатке, которую держит в когтях лев, очень напоминающий льва на знаменитом коллекционерском эстампилле Мариетта.
Директор Ульссон вскоре прислал деловой ответ с предложением назначить время встречи в Берлине. Прежде всего ему хотелось бы посетить аукцион «Адлерсфельд» в частном порядке. Ему очень любопытно взглянуть на неизвестную работу Эренштраля. Может ли он попросить господина Броннена посодействовать ему в этом деле?
С точки зрения Виктора, лучше быть просто не могло. Ни директор Ульссон, ни владелец комиссионного магазина Бойе ничего не знали о связях торговцев картинами Бронненов в Берлине со знаменитым шведским реставратором Кунцельманном. Единственным человеком, кто знал об этом, был интендант Хольмстрём в Национальном музее, но он был связан неписаным правилом неразглашения деловых контактов сотрудников. А что касается выдуманного аукциона «Адлерсфельд», братья Броннен могли в случае чего с чистой совестью утверждать, что их тоже обманули, – достаточно было скроить любую правдоподобную версию. Виктор Кунцельман, он же Густав Броннен, естественно, не должен встречаться с высоким гостем. Надо было распределить остальные роли.
Петри Ульссон прилетел из Стокгольма в Темпльхоф на взятом напрокат одномоторном самолете в обществе молоденькой секретарши, у которой, по всем признакам, не было других обязанностей, кроме как ублажать шефа. Стояло майское утро, было жарко и душно, но пасмурно. В небе неподвижно висели тяжелые дождевые облака, а на востоке, по ту сторону границы, погромыхивал гром.
Директор появился весь мокрый от пота. Он раздраженно обмахивался шляпой, а в зубах был зажат окурок угольно-черной сигары. Он сварливо выговаривал что-то мальчику-носильщику, который нес за ним чемодан. На выходе его встретил продавец картин Роберт Броннен.
– У меня нет ни одной лишней минуты, – сказал директор на ломаном, но исправно взлаивающем на прусский манер немецком, пожимая руку Броннена.
Итак, только сутки на все про все, завтра в Хельсинки у него важная встреча. Визит в магазин Броннена и посещение аукциона «Адлерсфельд» – больше он не успеет.
Они оставили багаж в отеле и направились в магазин «Братья Броннен», где для интересующегося искусством финна не нашлось ничего интересного. Несколько второразрядных работ немецких реалистов девятнадцатого века по цене, мало чем отличающейся от «Хагельстама»[171] в Хельсинки, пара полотен художников, о которых он даже и не слышал, несколько ускользающих от понимания модернистов, производящих вполне дегенеративное впечатление. Хозяин, строгий, но корректный Роберт Броннен, поинтересовался, нет ли у гостя желания побывать на аукционе Герда Розена в Грюневальде, там выставляются интересные работы, но гость не дал себя сбить с толку.
– Я знаю, чего ищу, – сказал он. – А вечером я обещал поужинать с моей секретаршей. Так что мы не имеем права терять время.
– Я бы с удовольствием пригласил вас на ужин, – разочарованно сказал Роберт Броннен. – Мой брат и компаньон, к сожалению, в отъезде, так что я был бы рад, если бы вы скрасили мое одиночество.
Петри Ульссон бросил похотливый взгляд на секретаршу, восторженно разглядывающую одну из кунцельманновских фальшивок. До сей поры она не проронила ни слова.
– Я только наскучу вам своей финской молчаливостью, – сказал он. – К тому же я обещал фрекен Нюберг, что она сможет вернуться в гостиницу пораньше.
– У нас есть несколько графических листов Менцеля, может быть, они заинтересуют вас. Сейчас принесу папку.
Но директор Ульссон раздраженно замотал головой:
– Не будем терять времени, господин Броннен. Ваши предложения – не совсем то, что я ожидал. И если быть честным, мне бы хотелось поскорее взглянуть на Эренштраля, пока он не ушел к кому-нибудь еще.
И Роберт Броннен, изобразив на физиономии разочарование приказчика, упустившего важного клиента, пошел за гостями к такси.
На третьем этаже чудом уцелевшего в войну здания начала века красовалась латунная табличка с логотипом аукциона «Адлерсфельд». Дверь открыл господин Полянски, директор вновь открытого аукциона в Западном Берлине, – красивый молодой человек с прической а-ля Рудольф Валентино и немного женственными манерами.
– Визит господина Ульссона для нас большая честь, – произнес он. – Так же, как и господина Броннена, с кем я до сих пор не имел чести быть лично знакомым. А кто же эта очаровательная молодая дама?
– Фрекен Нюберг, – представилась секретарша и осеклась, перехватив свирепый взгляд директора.
– Очень и очень приятно! – Полянски поцеловал ей руку. – Для нас крайне необычно, что заказчики желают посетить аукцион в частном порядке, и еще более необычно, что мы идем им навстречу. Как правило, мы посылаем нашим почтенным клиентам подробный каталог. Но господин Броннен был настолько любезен, что позвонил и дал себе труд рассказать, что господин Ульссон очень занятый человек, что вы приехали издалека, et cetera, et cetera… К тому же, как сказал наш высокоуважаемый коллега, вы точно знаете, что хотите… Прошу вас, прошу, входите.
Речь господина Полянски псевдоаристократической вычурностью напоминала геральдический щит его же фирмы (хотя более внимательный слух уловил бы в нем откровенно приказчицкую приторность). Господина Полянски на самом деле звали Виланд Рот. Он зарабатывал на жизнь как артист в варьете для мужчин на Винтерфельдтплац. Работа гомосексуального артиста в Западном Берлине не принадлежала к числу высокооплачиваемых, поэтому за приличный гонорар он был готов на любой заработок. К тому же Рот был активистом, он неустанно боролся против распространенной в обществе гомофобии, поэтому когда его знакомый (а также, будем честными, любовник на одну ночь) Роберт Броннен рассказал ему о миллионере, которого они собираются облапошить, он с удовольствием согласился, чувствуя себя еще и борцом за правое дело.
Все более и более вдохновляясь, он пригласил общество в зал, который в обычной жизни служил Виктору Кунцельманну берлинским ателье.
– Наши дороги с господином Бронненом, если не считать приятного телефонного разговора, доселе не пересекались, – сказал господин Полянски, предлагая директору сигарету. – Но реноме фирмы «Братья Броннен» вызывает огромное уважение, так что я не мог не пойти ему навстречу. А вы, господин Ульссон, насколько я понимаю, известный в Европе коллекционер. Если не ошибаюсь, особый предмет ваших интересов составляет скандинавская живопись времен барокко?
– У господина Ульссона очень мало времени, – сказал Роберт Броннен с еле заметной нервозностью.
– Да-да, я понимаю… Конечно, конечно… Время – деньги. В таком случае мы без всяких предисловий предложим господину директору взглянуть на наши раритеты.
На входе в зал их окинул подозрительным взглядом чернокожий военный в парадной форме американской армии. Директор Ульссон понял, что аукцион придает очень большое значение безопасности – это произвело на него впечатление, значит, речь идет и в самом деле о больших ценностях. На латунной бляхе, украшающей левый нагрудный карман охранника, он прочитал имя: «Вильсон».
– Мы нанимаем охрану с почасовой оплатой, – объяснил Полянски, приглашая гостей в зал, – не доверяем, знаете ли, обычным охранным бюро. А американские мальчики рады каждой марке. Вильсон дежурит эту неделю. У нас за последнее время собралось много бесценных работ…
Они вошли в помещение, напоминающее склад. К разгораживающей комнату ширме были прислонены несколько предназначенных для аукциона картин, оставленных анонимным, но очень и очень состоятельным владельцем. Петри Ульссон сразу отметил, что обратные стороны картин были усеяны различными сертификатами и наклейками. Это его успокоило, но он попросил поскорее показать сами картины.
– Когда у вас аукцион? – спросил он, оглядываясь.
– Точная дата – уверен, что господин Броннен вас уже информировал, – еще не определена. Картины все еще приносят. «Адлерсфельд» в Берлине всего год. Наше основное предприятие, как вам наверняка известно, в Мюнхене. Здесь у нас пока еще нечто вроде испытательного срока.
– Но вы ведь ничего не будете иметь против, если я кому-то поручу участвовать в аукционе от моего имени?
– Естественно, если вы сами не имеете возможности присутствовать.
– Я уже рассказал господину Полянски о ваших пожеланиях, – вставил продавец картин Броннен, – и вы может участвовать в аукционе анонимно.
Петри Ульссон довольно разглядывал поставленную перед ним картину. Он отмахнулся:
– За каким чертом мне толкаться на этом аукционе, где я никого не знаю? Да еще в чужом городе. Оставлю представителя. Я знаю сумму, которую готов заплатить, и могу назвать ее прямо сейчас. Главное, я посмотрел картины.
Он не мог оторваться от полотна под названием «Охотник с собакой». Согласно проспекту, работа была написана Эренштралем в 1672 году. На фоне ателье художника, хорошо знакомого Ульссону из книг и альбомов, стоит охотник с собакой, закаленный лесной жизнью, загорелый и мускулистый… странный, словно испытующий взгляд, направленный прямо в душу зрителя. Богатая, типичная для барокко палитра, глубокие тени, чистые краски. Масса аллегорических деталей… директор понимал далеко не все, но сообразил, сколько часов провел художник за работой. Наверняка в свое время картину заказал очень состоятельный и очень искушенный человек.
– Картину недавно реставрировали, – сказал Полянски, соорудив мину знатока – на взгляд Броннена, довольно-таки пародийную. – Полотно было слегка повреждено, а на обратной стороне нашли следы пенициллина… Взгляните, на раме до сих пор видны ходы термитов и след старинного рубанка…
– Реставратор отлично поработал! Я давно мечтал иметь такую штуковину, – сказал заметно тронутый директор Ульссон. – Но на скандинавском рынке предложение почти исчезло…
– И на континентальном то же самое! Мы посоветовали владельцу обратиться в «Буковскис» в Стокгольме или в «Брун Расмуссен» в Копенгагене, возможно, там бы он получил больше, но в данном случае мы имеем дело с эксцентриком или, хотя это слово в нынешние времена вовсе нас, немцев, не украшает, с патриотом. Эренштраль же в равной степени немец и швед. Я думаю, владелец картины будет рад, что картина ушла к вам, если, конечно, вы выиграете аукцион.
За ширмой, наверное, реставрационная мастерская, решил директор. На столе лежат инструменты… все, как на любом аукционе, что в Стокгольме, что в Хельсинки.
– И какая исходная цена? – спросил он.
– Сто тысяч марок.
– Серьезная сумма.
– Не для работы такого качества и значения.
Господин Полянски, олицетворенное спокойствие, протянул директору газету с фотографией похожей картины.
– Вариант той же картины, только поменьше, в прошлом году продан коллекционеру в Гамбурге, – сказал он. – Тут кое-что написано, если господин Ульссон пожелает прочесть. Известный искусствовед пишет о работе, причем, знаете ли, очень и очень лирично… Впрочем, если вам начальная цена кажется слишком высокой, мы можем предложить другие объекты… Взгляните вот на это панно… Могу раскрыть секрет – неподписанная работа итальянского барокко. Начальная цена ниже. Опять же, это желание нашего эксцентричного коллекционера, оценивать картины, не входит в круг наших обязанностей. Если бы не профессиональная этика, знаете ли, я сам бы поучаствовал в аукционе… Это панно может оказаться очень ценным… все зависит от экспертизы – возможно или невозможно установить имя автора.
Панно, о котором говорил Полянски, стояло у противоположной стены. На нем был изображен чернокожий всадник на белом коне. Резкие контрасты, фон – исключительно различные оттенки серого. Забавно – всадник на картине чем-то напоминал американского охранника в прихожей.
– И кто же автор?
– Возможно, Караваджо.
У директора Ульссона, человека, привыкшего держать свои чувства в узде, отвалилась челюсть. К счастью, ни он, ни его секретарша не заметили свирепого взгляда, которым Роберт Броннен наградил Виланда Рота. Ты заигрался, говорил этот взгляд, ты перешел границы правдоподобия.
Петри Ульссон с его наблюдательностью, может быть, и перехватил бы этот взгляд, но именно в этот момент он посмотрел на часы.
– Я полностью удовлетворен, – сказал он. – Я заинтересован картиной и оставляю заочный бид[172]. А теперь, может быть, господин Броннен покажет нам дорогу в наш отель? Фрекен Нюберг и я уже проголодались…
В тот же вечер вся история была в подробностях пересказана Виктору. Тот умирал от хохота, пока Георг описывал ему, как замер от восторга перед его фальшивкой Петри Ульссон, как удивительно правдоподобен был Джесси Вильсон в роли охранника, как виртуозно играл Виланд Рот. В результате директор взял наживку, можно сказать, взаглот. Дело даже не в символической мести всем, кто меня ненавидит, подумал Виктор. Если бы это была только месть, в его жизни были и другие, кто заслужил эту месть еще в большей степени. Каким-то странным образом смысл этой истории составляла также и любовь. Вернее сказать, преданная любовь. Преданная Фабианом Ульссоном любовь… и, вынужден был признаться он, преданная им самим любовь к искусству.
В назначенный день Петри Ульссон позвонил по телефону, зарегистрированному за аукционом «Адлерсфельд». Ателье доживало последние дни, контракт, заключенный на вымышленные имена, закончился. По причинам, никак от Петри Ульссона не зависящим, отныне Виктору предстояло работать только в Стокгольме.
Трубку взял артист варьете Виланд Рот и сообщил, преодолевая потрескивание и шум международной связи, что аукцион закончился.
– Поздравляю, Эренштраль ваш, – сказал он. – Вы оставили исключительно верный бид, разница с исходной ценой не более пяти тысяч…
Итак, Петри Ульссон, к своему облегчению, приобрел картину Эренштраля «Охотник с собакой», но ранее неизвестное панно, принадлежащее, возможно, кисти Караваджо, ему не досталось. Такое развитие событий, по мнению Виктора, должно было укрепить уверенность Ульссона, что он участвовал в самом настоящем аукционе. Ульссон, разумеется, высказал свое недовольство, но что мы могли сделать, разъяснил ему господин Полянски, анонимный покупатель набавлял каждый раз по десять тысяч, и, похоже, ресурсы его были неисчерпаемы.
Когда господин Полянски намекнул, что, по-видимому, победителем в аукционе стал не частный коллекционер, а какое-то крупное собрание (возможно, Галерея Уффици во Флоренции), директор немного успокоился – он, конечно, проиграл, но проиграл достойному противнику.
Через три недели господин Полянски лично привез картину в Финляндию. Директор Ульссон, как ему показалось, уже смирился с потерей Караваджо. В офисе фирмы в Хельсинки (в присутствии главного бухгалтера и скептически настроенного младшего сына) он выписал чек на сто шестьдесят тысяч немецких марок и поблагодарил Полянски за оказанную помощь.
– Помочь вам было для меня большим удовольствием, – ответил гость. – Позвольте мне преподнести вам от имени фирмы ящик изысканного мозельского вина. К тому же мне поручено передать поздравления от имени антикварной фирмы «Братья Броннен».
Фамилия Броннен не отложилась в памяти директора Ульссона. В его представлении он имел дело исключительно с господином Полянски и ни с кем иным. Он с благодарностью принял вино, не замечая некоторой нервозности господина Полянски.
– Все лопнут от зависти, увидев моего замечательного Эренштраля, – сказал Ульссон. – Может быть, откупорим бутылочку и поднимем тост за охотника и его собаку?
Господин Полянски вежливо отказался – он торопился в аэропорт: его в тот же вечер ждали дела в Берлине.
По чеку они получили наличные в филиале Немецкого банка на Ку-дамм. Паспорт, предъявленный господином Полянски, представлял собой чудо фальсификаторского искусства и никаких подозрений у кассира не вызвал, хотя сумма была очень и очень значительной. Виланд Рот, увлеченный кинематографической затеей братьев Броннен, к тому же страшно довольный своими актерскими достижениями, не выказывал ни малейших признаков волнения. Единственный раз, когда ему стало не по себе – признался он уже потом, – когда младший сын Петри Ульссона выказал законное удивление, что полотно было ранее никому не известно, и из его довольно язвительных замечаний Рот понял, что сын понимает в искусстве куда больше своего папаши. К тому же он пережил несколько неприятных минут, когда директор Ульссон предложил обмыть сделку дареным мозельвейном. Очень дорогое винтажное вино с этикетками ручной работы, классифицированное эксклюзивным виноторговым домом как «Сухое отборное», было не более подлинным, чем Караваджо и Эренштраль.
Затея с вином, может, и была перебором, думал Виктор, обсасывая горько-сладкую карамель отмщения, но он просто не мог устоять перед соблазном. Главное заключалась в том, что «Братья Броннен» никакого отношения к афере не имели. Единственное, в чем их можно было упрекнуть, если все выплывет наружу, – что Роберт Броннен встретил Ульссона в аэропорту и познакомил с аукционером. Дальше представление взял на себя мистический господин Полянски. Аукцион «Адлерсфельд» еще долгое время посылал директору Ульссону письма с различными предложениями. Это продолжалось не менее полугода, но Ульссон не клюнул ни на одно из второразрядных предложений фирмы. Они обнаглели до того, что присылали Ульссону типографским способом напечатанные приглашения на выставки и коктейли – правда, только если были совершенно уверены, что тот приехать не сможет. Таким образом они убаюкали его до того, что он даже не заметил, когда поток корреспонденции начал понемногу иссякать, а потом и совсем прекратился.
Лишь через год он вынужден был вспомнить о существовании «Адлерсфельд» – Национальный музей получил анонимную информацию, что Ульссону удалось приобрести доселе неизвестное полотно Эренштраля. Директор Ульссон получил письмо от одного из сотрудников музея, специалиста по барокко, – тот просил позволения ознакомиться с картиной с целью регистрации ее в государственных каталогах. Директору Ульссону такой интерес польстил, и он предложил сам приехать в Стокгольм со своим сокровищем.
Картина «Охотник с собакой» стала предметом бурной дискуссии искусствоведов, которая продолжалась несколько месяцев. С первого взгляда работа была признана подлинной, но некий доктор Рюландер остался неудовлетворенным и предложил обследовать полотно с применением новых технических средств. Созвали экспертов. Сначала сделали рентгеновское исследование, потом взяли пробы пигментов и холста. Долго не могли принять решение – по всем показателям подлинник, стиль и мотив, несомненно, Эренштраля, никаких анахронизмов. Но данные анализов все время заводили экспертов в новые тупики, и это вызывало подозрения. Разумеется, работа написана на подлинном холсте семнадцатого века, но рентген не выявляет подмалевка, поскольку определенные слои краски содержат соли металлов, искажающие картину. Понятно, речь идет о том, что полотно переписано, вопрос только – кем и когда? Сам ли Эренштраль написал новую работу на одной из своих старых картин либо в высшей степени искусный фальсификатор? Решающее суждение высказал признанный эксперт в области шведского барокко – Виктор Кунцельманн. Со своим феноменальным чутьем и знаниями он признал работу фальшивкой. Среди прочего, написал он в отчете для музея, вызывает вопросы и палитра художника. Вместо классической эренштралевской неаполитанской желтой использована смесь сурика с оловянной золой. Рама, по-видимому, взята со старинного зеркала того же периода. Почему бы это мастерская Эренштраля ни с того ни с сего поскупилась и не обрамила картину так, как все остальные? Конечно, раму мог поменять один из промежуточных владельцев, но в сочетании с другими признаками… Он назвал также работу, которую использовал фальсификатор: малоизвестный этюд собаки Мартина Мийтенса. Можно также указать и другие детали. Например, интерьер ателье – прямой плагиат с других работ Эренштраля.
Чтобы не травмировать известного собирателя Петри Ульссона, все эти дискуссии проходили под большим секретом. На кону стояла репутация прежде всего тех искусствоведов, кто настаивал на подлинности полотна. Было принято решение пока не вводить картину в рабочие каталоги, но это было как бы естественным, поскольку стопроцентных гарантий подлинности не было. Задорого купленная картина директора Ульссона угодила в своего рода архивный вакуум: ни подделка, ни подлинник. И сам факт продажи тоже оказался в юридическом смысле на ничейной территории. Поэтому, как посоветовали Ульссону его адвокаты, бессмысленно обращаться в полицию – те ничего не смогут сделать, пока не будет окончательно решен вопрос о подлинности.
Ульссон попытался связаться с аукционом «Адлерсфельд» в Берлине, чтобы получить разъяснения. Но посланные им телеграммы адресата не нашли, телефонный номер больше не существовал, письма возвращались обратно – немецкая почта не могла найти получателя. Знакомые директора Ульссона в Берлинской торговой палате пытались ему помочь, но быстро признали свое поражение: аукциона с таким названием не существует и, похоже, никогда не существовало, а фирма «Братья Броннен» прекратила свое существование.
7
Маленький бар в турецком квартале Кройцберга назывался «Злой мальчик». Иоаким чувствовал себя здесь не в своей тарелке, как, впрочем, на его месте чувствовал бы себя любой сорокалетний гетеросексуал. Бармен, в кожаных брюках, с пирсингом на сосках и с пустым взглядом, протирал пивные кружки. У входа стоял бородатый толстяк в шортах, тоже кожаных. Если верить Хамреллю, который, как современный Крафт-Эбинг[173], постоянно каталогизировал сексуальные отклонения, этот тип принадлежал категории «немецкие медведи». Чтобы случайный посетитель не заблуждался насчет характера заведения, стены были украшены планшетами Том-оф-Финланд[174], на которых мускулистые парни занимались друг с другом эротическими играми. Короче, Иоакиму было очень неуютно, иногда он даже невольно вздрагивал, опасаясь, что кто-то начнет к нему приставать. И все же он не хотел уходить – «Злой мальчик» располагался как раз напротив интересовавшего его адреса.
– А ты видел моего сына? – спросил Хамрелль, избегая зазывного взгляда вышибалы в кожаных шортах. – Ему бы здесь понравилось.
– После завтрака не видел.
– И я не видел. Ужас какой-то… Ясно, что парень чересчур интересуется всякой клубничкой, но что будет, если он попадет в ночной клуб, где у него появится возможность всему научиться, не платя ни гроша? Он же гомик!
– Почему ты так уверен?
– Я умею делать выводы. Он не хочет платить девкам – это я могу понять. Для молодежи это унизительно. Может быть, и не стоило ходить в такие места, как «Лолины титьки» или «Бангкок-фан». Но клуб «Кит-Кат» – это что-то, знаешь! Ночной клуб для желающих поэкспериментировать. Для самых разных желающих, надеюсь, ты успел заметить. И что происходит? Не успел я отвернуться, а он уже направляется в укромное местечко в компании двух каких-то извращенцев! Не знаю, что бы было, если бы я его не перехватил. Можешь думать обо мне все, что хочешь, Йонни, но я не хочу, чтобы у моего сына были странные наклонности.
Карстен глупо улыбнулся кожаному бармену и получил в ответ кокетливую пивную отрыжку, что вполне можно было расценить как приглашение к флирту. Но Карстен твердым и неподкупным тоном потребовал принести еще бутылку «Йевера».
– Ты говоришь как истинный гомофоб.
– У меня никаких проблем с педиками нет, пока они на меня не покушаются. Посмотри на бармена… ты бы нанял его посидеть с ребенком?
– Фиделю скоро восемнадцать. Он самостоятельный человек и делает что хочет.
– Ну уж хрен! Я его папаша, и я за него отвечаю.
В ожидании, когда в доме напротив зажгутся окна, Иоаким изучал окружение. Еще не было и шести часов – по-видимому, истинная жизнь здесь начнется только через несколько часов. Пришел еще один кожаный, с чудовищными бицепсами, занял место под рисунками Том-оф-Финланда и начал задумчиво почесывать в паху. Должно быть, именно в таких местах и заражают друг друга разными болезнями. Или подсыпают в стакан какой-нибудь порошок, опоят, а потом грабят… или тащат в отключке вон за ту дверь, а там, в задней комнате, наверняка занимаются разными мерзкими извращениями. В этом городе люди, похоже, только на этом и специализируются. Очнулся – а тебя приковали цепью к пыточной лавке, и жирный тевтон, хохоча, сдирает с тебя штаны… Иоакима передернуло.
– «Кит-Кат» – настоящая катастрофа, – продолжил Карстен. – Вчера я, например, понял, что у меня уже не стоит, в таких заведениях я становлюсь импотентом. Черт их всех… мне кажется, у меня скорее встанет на «немецкого медведя» на мотоцикле.
– Но тебе же нравятся бары в борделях?
– Бар – это другое дело. И знаешь, завязывай со своей политкорректностью. В борделях, не в борделях… Бар – это бар, там приятная обстановка. Думаю даже, что некоторые такие заведения совсем неплохи для моего сына – это как бы нормально, входит в образование.
– Ничего нормального в этом нет – потягивать пиво в борделе и делать вид, что это обычная квартальная рыгаловка… ты что, хочешь таким способом проверить ориентацию своего восемнадцатилетнего пацана?
– А что? Для его же блага… Сам я никогда за секс не платил. Ни разу в жизни!
– Только как кинопродюсер.
– Вот именно! Подумываю, кстати, не вернуться ли мне в этот бизнес.
На пороге появился господин средних лет, который вполне мог оказаться родным братом Александра Барда[175], в морском кителе и с роскошными моржовыми усами. Он подошел к стойке и, оживленно почмокав бармена в щечку, направился к страдающему чесоткой культуристу. По пути усач наградил Иоакима таким взглядом, что у того рефлекторно напрягся сфинктер прямой кишки.
– Я-то думал, тебе надоело… – сказал он, чтобы что-то сказать.
– И я так думал. Но заниматься искусством, как оказалась, еще хуже.
– Коль сапоги тачать начнет пирожник…
– Ты не понял, дружок. Кино меня и сейчас интересует, правда, другого содержания… как раз вчера в этом гребаном «Кит-Кат» мне пришли в голову кое-какие мыслишки насчет документального фильма. Вот, например, как ты идешь по следам отца. Чем не сюжет? Или как меня искал мой сын… найти-то нашел, но по пути сделался фикусом… Это же не может быть случайностью… Завтра же куплю видеокамеру.
Иоаким кивнул и заказал большую рюмку «доппелькорна». Он надеялся таким образом притупить свой страх… кажется, в психиатрии это называется «боязнь прикосновений». Окна на третьем этаже напротив все еще были темными. Интересно, узнает ли он старика?
Поскольку Хамрелль более или менее знал Берлин (три года подряд ездил на эротические ярмарки в начале века), он сам себя провозгласил гидом. Пока они дожидались человека, ради которого приехали, он с ностальгической грустью провел Иоакима и Фиделя по аллее воспоминаний. Названия заведений вроде «Бангкок-фан», «Лолины титьки» или еще того чище – «Ютины кунки» – говорили сами за себя. За крашеными окнами они попадали в комнату со стойкой, полкой с напитками, пивным краном и весьма легко одетыми девушками, выглядевшими так, словно все они страдали от хронической бессонницы. Девушки, сидя на высоких шатких табуретках, лениво разглядывали новых посетителей.
Попивая теплое пиво по пятнадцать евро кружка, Карстен рассказывал истории давних времен, как они пировали в Берлине с порнокоролем Бертом Мильтоном и порнозвездой Петером по прозвищу Северный полюс («Самый большой кретин из всех, кого я в жизни видел»). При этом он все время поглядывал на Фиделя – как тот реагирует на необычное окружение? Но Фидель никакого интереса не проявлял, и Хамрелль в конце концов выбросил полотенце и повел его в «экспериментальный» ночной клуб.
«Кит-Кат», как этот клуб назывался, был и в самом деле незабываемым заведением. В старой пивоварне на Бессемерштрассе проходил вечер на тему «Массаж и гедонистский транс для цивилизованных посетителей». В очереди у входа толпился народ в садомазохистских одеяниях, какие-то полуголые весельчаки и лица неопределенной сексуальной ориентации. Не дойдя до клуба нескольких шагов, Карстен вынул из сумки три белые пластиковые маски, похожие на те, что надевают хоккейные вратари, надел сам и попросил Иоакима и Фиделя последовать его примеру.
– Здесь очень строгий дресс-код, – объяснил он. – Лучше не выделяться.
Через пять минут они проникли в душное помещение. Психоделическая музыка напоминала вой «катюш» во время штурма Берлина – как по характеру, так и по громкости. Ну что ж, клуб не был предназначен для задушевных бесед.
Иоаким проталкивался через толпу, представляющую собой причудливую смесь женщин с богатым пирсингом в монашеских одеяниях, фетишистов в вовсе уж фантастических нарядах… Кого тут только не было! Доминантные «госпожи» с рабами на поводках, совершенно голые нудисты и нудистки с покрывающей все тело татуировкой, а также нормально одетые люди в масках, всех возрастов и размеров. Ему захотелось вернуться в отель. Клуб ломал все его представления о декадансе, и благородное искусство фантазий на темы тайных женских прелестей, в котором он достиг, без лишней скромности, европейских высот, – это искусство казалось абсолютно бессмысленным в месте, где никто ничего ни от кого и не думал прятать.
У стойки, где он, оглушенный грохотом, на языке жестов заказал бокал вина, сидела на корточках голая дама и вытворяла что-то несусветное с мужчиной в коричневом вельветовом пиджаке, но без брюк (брюк, кстати, рядом не было – потерял он их, что ли?). Этот тип как ни в чем не бывало читал «Франкфуртер альгемайне цайтунг» и выглядел как преподаватель немецкой высшей школы, любитель почитать газеты, явно удивленный, что с ним чуть не каждый вечер происходят странные приключения. Все это выглядело как бы совершенно нормально и именно в силу своей нормальности до крайности извращенно.
Он огляделся. Вокруг творилось что-то невероятное. Тонкий лак цивилизации исчез, полопался, и похоть в наичистейшем виде сочилась отовсюду. На диване сплелся змеиный клубок голых тел, а рядом на столе лежала голая девушка и, перекрикивая вой музыки, громко предлагала всем, кому угодно, делать с ней все, что угодно.
Чтобы не выглядеть деревенщиной, Иоаким начал изучать ассортимент спиртных напитков на полке. Там висел крупный плакат, извещающий, что целью клуба является «поощрение свободного и мультисексуального общения». Далее объяснялось, что в демократическом клубе «Кит-Кат» не существует никаких классовых барьеров. Возраст, ориентация, цвет кожи и религия не имеют никакого значения. Висел также анонс семинара, посвященного угрожаемым сексуальным меньшинствам («оставьте электронный адрес, и вы получите материалы прямо в ваш компьютер»). Ноутбук на стойке представлял собой книгу отзывов. Восхищенные комплименты на дюжине языков лились в него непрерывным потоком.
Он оторвался от захватывающего чтения и огляделся. Оказывается, Хамрелль уже обнажил свой густо покрытый курчавыми волосами торс, сдвинул хоккейную маску на затылок и самозабвенно тряс мясистым пузом в такт музыке. Иоаким чувствовал себя до отвращения трезвым, что было абсолютно несовместимо с характером заведения…
Дело удалось поправить с помощью нескольких выпитых одна за другой рюмок текилы. Теперь он был готов продолжить наблюдения. Карстен куда-то исчез, зато ему удалось обнаружить Фиделя. Юноша не мог оторвать глаз от пары голых господ, расположившихся в акробатической позе в дерматиновом кресле и явно наслаждавшихся его вниманием. Фидель стоял в темноте и трясся; чем он там занимался, было не видно, да Иоаким и не испытывал большого желания узнать.
Нет, это и в самом деле черт знает что! Люди давали выход своим отклонениям с истинно немецкой основательностью, вытворяли нечто непредставимое – он даже и не думал, что такое возможно. Но вскоре Иоаким понял, что участники игр знали некий тайный код, секретный алфавит. Совсем юная девушка, почти девочка, занималась самоудовлетворением в обществе супружеской пары. Она совершенно не реагировала на его призывные взгляды, но зато какого-то пожилого господина в прозрачных нейлоновых трусах удостоила чести помогать ей в ее занятиях, к чему он тут же и приступил, продемонстрировав незаурядную быстроту и ловкость пальцев.
Его вынесло на лестницу, где его прижала к стене немыслимо толстая тетка людоедского облика, но он ловко вывернулся и сбежал вниз. Там оказался подвальчик. Несложный пазл из кредитных карточек, карманных зеркал, суженных зрачков и непрерывного чихания не оставлял сомнений, чем здесь занимаются. На полке лежала пачка ярких флайеров. Он взял один. «Устраивая вечеринку ганг-банг[176] к Рождеству, „Крисси и К°“ пошли на немалый риск, но победили. Пришло 160 SMS-заявок. Публика была смешанная, от 18 до 60 лет, от начинающих до экспертов. Присутствовали знаменитости, хотя Валери и Моники не было. Девушка нашей мечты Сандра, частная модель Лекси, итальянка Роберта, постоянно влажная Кармен, похотливая Данни и нимфоманка Зина, с ее несравненной манерой озвучивать оргазмы. Приятным сюрпризом стало появление леди Тины, стриппы из Кёльна, хотя, как мы слышали, она закончила ганг-банг-карьеру. Но, очевидно, как и в свое время Фрэнк Синатра, Тина не смогла поставить точку…»
Иоаким подивился, откуда автор листовки знает про наклонности усопшего Синатры, но еще больше его поразило собственное знание немецкого языка, который, как ему казалось, он забыл сразу после гимназии. Скорее всего, решил он, Виктор разговаривал с ними по-немецки, когда они были маленькими, хотя ничего подобного не припоминалось.
В мужском туалете у него возникли трудности с опорожнением мочевого пузыря. Он и в нормальных-то местах с трудом мочился в присутствии посторонних – но здесь это вообще показалось невыполнимой задачей: с одной стороны стоял кожаный педераст, чем-то напоминающий Фредди Меркьюри, а с другой – тот самый господин с «Франкфуртер альгемайне цайтунг», который, по-видимому, так и не нашел свои штаны. На счастье, одна из кабинок была свободна – он юркнул туда и закрыл за собой дверь. Отсюда слышно было журчание писсуаров, кто-то плюнул в желоб. Дверь открывалась и закрывалась, и, соответственно, резко усиливался и ослабевал вой «катюш». Кто-то неторопливо беседовал о погоде: холодно не по сезону, да еще этот чертов дождь… Но диджей сегодня очень и очень неплох.
Он уже стряхивал последние капли, как вдруг дверь с грохотом открылась и на пороге материализовался Карстен. Взгляд его был безумен.
– Мне нужна твоя помощь, – сказал он. – Пошли, быстро!
Наверху голые посетители сомнамбулически кивали в такт музыке. Карстен протащил его за руку сквозь толпу потных гедонистов, дико пляшущих мазохистов и прочего донельзя разгоряченного сброда.
– В чем дело? – крикнул Иоаким, но голос его утонул в грохоте фронтовой артиллерии. Он не понял, возмутило его или, наоборот, возбудило зрелище дико совокупляющейся пары у колонны. Он мечтал выйти на воздух, ему очень хотелось, чтобы начался наконец завтрашний день, когда ему, возможно, удастся найти этого человека – старого друга отца. Еще в Фалькенберге Фидель, со свойственным его поколению ошеломляющим искусством обращения с компьютером, вычислил каким-то образом его координаты в Берлине. Он стоял перед выбором – сбежать прямо сейчас или выпить еще текилы и посмотреть, что выкинут доселе молчащие участки его сознания, понять наконец, сохранил ли он свои сказочные способности фантазировать о женских достоинствах в таких невыносимых условиях. Тут эти самые достоинства самым бесстыдным образом выставлялись напоказ… Сможет ли он высечь из себя хоть крошечную искорку индивидуального либидо в месте, где царило либидо коллективное. Но прежде чем он пришел к какому-нибудь выводу, Карстен скорее мимикой, чем словами, которые Иоаким все равно бы не расслышал в грохоте сталинских «катюш», объяснил в чем дело.
– Фидель отключился. Надо уходить!
Какой чувствительный юноша, подумал Иоаким, пока они несли Фиделя в такси. Впрочем, он понимал это и раньше, а вот то, что мальчик оказался гомосексуалом, оказалось для него новостью, – впрочем, какое ему дело?
– Я перехватил его, он шел в темную комнату с двумя гомиками постарше. И он упал в обморок! От стыда или от возбуждения, откуда мне знать…
Вдвоем им удалось погрузить юношу на заднее сиденье. Очередь в клуб растянулась уже на полквартала. Начался дождь, многие держали над головой зонтики, чтобы, не дай бог, не намокли их праздничные одежды. Это наше будущее, подумал Иоаким, не надо гадать, каким оно будет, оно уже здесь. Это цена, которую мы платим за так называемую свободу, за ничем не ограниченный доступ к голому телу – на телевидении, в кино, в документальном мыле, в рекламе, в кабельной порнухе, в Интернете… Вот она, антиутопия об окончательном упадке западной цивилизации, пародирующем упадок античного Рима… Вся наша империя скоро падет, сомнений не может быть – какие еще нужны симптомы после того, чему он сегодня был свидетелем?.. За это нас и не любят в других частях планеты – за наш либерализм и так называемую широту взглядов, которые на деле оказываются вульгарным гедонизмом и либертизмом[177].
– Малышу теперь прямая дорога в постельку, – сказал Карстен. – А потом – на первый же рейс в Колумбию, опомниться не успеет. Еще повезло, что адвокат твоего папаши не стал скупердяйничать, иначе откуда бы мне взять деньги на билет… Не хочу иметь это на совести, Йонни. Быть гомиком в Колумбии… как вспомню, так вздрогну.
– Может быть, он просто растерялся. То, что там творилось… да еще в тридцатиградусную жару – кто угодно склеится. Знаешь, Карстен, я не уверен, что и мне хотелось бы видеть кое-что из того, что там происходило.
– Никаких обсуждений. Домой, к маме, пока он окончательно не превратился в педрилу.
– Я ему очень благодарен – он вычислил для меня отцовского компаньона.
– Ты его еще не нашел.
– Завтра он возвращается, и у нас есть адрес.
Фидель очнулся и сел. Карстен протянул ему бутылку с водой, потом вынул носовой платок и озабоченно вытер Фиделю лоб.
– How are you feeling?
– Okay. Little headache, but okay[178].
В последнее время английский Фиделя достиг невиданных высот. Иоаким подозревал, что парень намеренно скрывал, что сносно владеет языком. Он, наверное, понимал из их разговоров намного больше, чем хотел показать… Скорее всего, понимал почти все.
– I want you to rest, Fidel. Take it easy. It was wrong of me to bring you to a place like this – terribly wrong! I wanted you to have fun, may be play around with some interesting girls, but it all got out of control. And you must watch out for strange men in leather, promise me that![179]
Фидель отхлебнул воды, неразборчиво пробормотал что-то и уставился в окно.
– Невероятно, – сказал Карстен. – Как прикажешь объясняться с его мамашей?
– Тебе, может быть, лучше объясниться с самим собой… Что он вообще здесь делает?
– Что ты хочешь сказать?
– Вот и подумай! Почему он, например, тебя разыскал? Через половину земного шара летел, чтобы разыскать отца!
– Он сам себя найти не может… так часто бывает.
– То-то оно и есть.
Карстен так и сидел без рубашки. Хоккейная маска на затылке напоминала гигантскую иудейскую кипу. На уже обвисшей груди его Иоаким впервые заметил маленькую татуировку, изображающую симпатичную божью коровку.
– Why are you there? – спросил он, повернувшись к сыну. – Why did you come to visit me in Stockholm? At least tell me if you are gay. I’m your father, I have right to know![180]
Фидель посмотрел на них без всякого выражения – сначала на Иоакима, потом на Хамрелля.
– Fuck you! – сказал он наконец. – Fuck you both.
Perverts![181]
Вычислить анонимную аватару «Господин Рюддингер» в немецком аналоге «Flashback Forum» оказалось задачей, достойной Интерпола. Но проблему, решение которой наверняка потребовало бы не меньше недели работы целого отдела уголовной полиции, специализирующейся на поимке педофилов и террористов, Фидель решил за час с небольшим. Поэтому Иоаким и в самом деле был ему очень благодарен… В Фалькенберге, где Иоаким наводил справки перед отъездом в Берлин, дела шли как по маслу. Семборн, вопреки всем ожиданиям, купил последнего Кройера за сумму, которая наверняка покроет все их путевые расходы на месяц вперед.
– Какая мне теперь разница? – сказал адвокат под конец, выслушав все аргументы Иоакима. – Меня и так уже надули на чудовищную сумму.
– Вы манипулировали с отцовской бухгалтерией. Я мог бы заявить на вас в полицию, но не стану этого делать. Кстати, ваша репутация только выиграет, если вы приобретете еще одного Кройера. Такие вещи производят впечатление.
– Здесь искусство никого не интересует, – горько сказал адвокат. – Кто здесь вообще слышал имя Кройера? Большинство уверено, что Пикассо – название пиццерии. Но я понимаю, что ты хочешь сказать. Поверь мне, очень хорошо понимаю.
Шантаж подействовал. Адвокат нервно двигал очешник по гладкой поверхности стола.
– Что же, картина составит компанию остальным в чулане.
– Или ты продашь ее еще большему идиоту, – пробурчал Карстен со своего наблюдательного поста в кресле для посетителей. – Это как пирамида, парень. Последний проигрывает.
Семборн, похоже, воспринимал спутника Иоакима как уголовника, специализирующегося на выбивании денег, кем он, по правде говоря, в данном случае и являлся.
– Не думаю… С этого момента моя коллекция – мое частное дело, никому показывать ее не собираюсь. Ни одно полотно. Гётеборгские колористы, Рагнар Сандберг, халландские мотивы… Крестьянку с сыром я уже снял.
Иоаким посмотрел на светлое пятно на обоях, и ему почему-то стало грустно.
– Не знаю… – сказал он. – Думаю, она вполне может оказаться оригиналом.
– Это ты говоришь мне в утешение? Я так понимаю, что все картины, проданные мне за эти годы, – фальшивки. Он штамповал их в своей мастерской. Я только теперь это понял. Сидел и подделывал старых мастеров – в розницу и оптом.
Сквозь открытое окно в комнату доносились запахи Фалькенберга, застенчивое обонятельное эхо, напомнившие Иоакиму далекое фалькенбергское прошлое. Карканье ворон на большом дубе у Докторской аллеи – это же наверняка потомки ворон его детства… Он слышал журчание реки, журчание провинциальных разговоров на провинциальном диалекте… многие из этих людей никогда не бывали в Стокгольме. Вдруг он увидел весь город в поблекших, но все же ярких красках семидесятых, отзвуки голосов того времени, когда отец был именно тем, кем считался в своем окружении, и тем самым сообщал его, Иоакима, существованию уверенность и стабильность.
Только что на улице перед адвокатской конторой его остановил старый приятель по гимназии – лысый, тучный мужчина. Он заговорил с ним о погоде, о природе… Иоакиму потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы осознать, что это не папа его гимназического приятеля, а сын папы гимназического приятеля, то есть гимназический приятель собственной персоной… Ледяной хронологический сквозняк выдул его из недоступного пониманию туннеля времени, и вот теперь он пытался поведать Иоакиму о судьбе их общих знакомых и о важных провинциальных событиях в провинциальном городе.
– Поставь картину за дверью, – вздохнул Семборн. – И приходите завтра к девяти, лучше чуть пораньше. Я вам выпишу чек.
Чтобы убить время в городе, с которым у него уже не было никакой естественной связи, он в тот же вечер в вестибюле отеля сел за компьютер в поисках «Господина Рюддигера». Но дальше того, что ему удалось найти тот самый сайт, где он еще в Стокгольме обнаружил сообщение этого загадочного «Господина Рюддигера», дело не пошло. Некий «Б», писал Рюддигер, во время войны был фальшивомонетчиком. Иоаким попытался вспомнить разговор с тем стариком на похоронах отца два года назад… Он тогда называл псевдоним отца… Бруннен? Броннен? Или память ему изменяет?
Дальше все застопорилось. Бог мой, во всем, что он пробовал в своей жизни, он ничего не достиг, остался на среднем уровне… ему явно не хватало фантазии. Броннен плюс Берлин, Георг Хаман плюс Берлин, Георг плюс Бруннен плюс фальсификация… все это никуда не привело, как и остальные случайно выбранные ключевые слова – он каждый раз попадал на замкнутый круг сайтов, отсылающих его к уже виденному.
В отчаянии от собственной бесталанности он открыл «Желтые страницы» региона Берлин – Потсдам. Все безрезультатно, никаких Георгов Хаманов или Бронненов в Берлине не числилось, а если они и были, то у них не было ни адресов, ни телефонов.
Он поднял глаза от экрана и увидел, что Фидель идет к автомату с кока-колой.
– Do you know anything about computers?[182] – спросил он.
– Como?
– I want to know who this Herr Rüddiger is. He’s an avatar. I need his real name[183].
Фидель отхлебнул из банки и присел рядом.
– A ver que pasa, – сказал он и, к неимоверному удивлению Иоакима, добавил: – You check all the application from server?[184]
Через час все было готово. Онемев от удивления, Иоаким наблюдал, как юноша лавировал между какими-то таинственными URL, писал странные буквенно-цифровые комбинации на технических страницах, о существовании которых Иоаким даже не подозревал. По пути он явно пиратскими методами загрузил несколько программ из бог знает каких закоулков киберпространства, заполнил несколько странных формуляров… при этом прихлебывал кока-колу и что-то мурлыкал себе под нос. Затем он забрался на испаноязычные сайты «Microsoft» и запросил техническую помощь. При этом на все вопросы Иоакима он непонимающе качал головой, не прерывая ни на секунду свой технологический концерт на клавиатуре компьютера. Наконец он открыл свой hotmail и добавил адрес в список корреспондентов.
– This man is the avatar, – сказал Фидель вяло. – You can write him now[185].
Он меня разыгрывает, решил Иоаким, уставившись на адрес. Mitch22@gmx.net. Но оказалось, парень прав.
Ответ на запрос пришел почти немедленно и подтвердил компьютерную гениальность Фиделя. Он напал на след. «Моего соседа, – написал ему корреспондент, – зовут Роберт Броннен. А вы кто?»
Они обменялись несколькими письмами. Иоаким объяснил, почему он интересуется Бронненом. Mitch22, которого, как оказалось, зовут Михель Вирт, был очень любезен. В настоящее время сосед его в отъезде. Ему это известно, потому что тот попросил его присмотреть за кошкой. Господин Броннен вернется в пятницу на следующей неделе. Он всегда готов помочь. Иоаким может ему без стеснения писать или звонить, если окажется в Берлине. Далее следовал адрес в Кройцберге.
Именно Вирт, тридцатилетний безработный компьютерный фанатик, посоветовал им дожидаться того, кого они ищут, в ресторанчике напротив.
– В «Злом мальчике» собираются гомосексуалы, – пояснил он. – Господин Броннен туда тоже заглядывает. Из бара видна улица как на ладони. Вы узнаете его по трости.
– Лина опять звонила, – сказал Карстен, заказывая кожаному бармену («немецкому медведю») пятую кружку «Йевера». – Наговорила на автоответчик. Она беспокоится.
– И на мой тоже, – сказал Иоаким. – Тоже беспокоится.
– Ты не должен был трахать мою невесту, Йонни.
– Знаю. Ничего не мог с собой сделать.
– Ты похож на меня в молодости. Поэтому ты мне и нравишься.
«Как повернется все дальше?» – подумал Иоаким. Он понятия не имел, что он скажет старому приятелю отца, не знал, какие вопросы будет задавать, не знал даже, что ему, собственно, хочется узнать, а о чем он предпочел бы остаться в неведении. Невыносимо, раздражающе яркий свет ближайшего будущего его словно ослепил, он не ориентировался во времени и пространстве. И Лина… ясно, что можно временно отложить некоторые проблемы, но когда-то же их все равно придется решать. Что он будет делать после этой поездки? Что он вообще собирается сделать со своей жизнью?
– Моя главная проблема, как я вчера понял, – сказал Хамрелль, – что у меня уже ничто не шевелится в штанах в таких местах, как «Кит-Кат». Иммунитет появился, что ли. Я не вижу людей – только картинки их телес. Людей нет. Сплошной плагиат. Киборги! Аж жутко…
– Со мной то же самое.
– Как будто люди в нашей части света существуют в полдюжине вариантов, не больше. Никакой оригинальности, даже в извращениях. Все идет к уравниловке. Народ слушает одинаковую музыку, читает одни и те же книги и газеты, одеваются одинаково и пьют одинаковый кофе в одинаковых кафе «Старбакс».
– Согласен.
На противоположной стороне улицы остановилось такси. Из него вышел старик, очень живой и подвижный для своих лет. Трость служила ему скорее украшением, чем опорой. Он взял у шофера чемодан и исчез в подъезде.
Через несколько мгновений Иоаким уже стоял перед его дверью на третьем этаже и никак не решался нажать кнопку звонка. Он рассматривал латунную табличку с именем «Роберт Броннен», слегка облупившуюся штукатурку на лестничной площадке… откуда-то снизу поднимался кухонный чад, в нише слабо светилась красивая лампа в стиле югенд. Где-то работал телевизор, женский голос визгливо пролаял что-то в телефон, и он вновь подивился, что понимает каждое слово, хотя так и не мог вспомнить, говорил ли когда-нибудь отец с ним по-немецки.
Это был настоящий музей – музей долгой жизни, хотя и без поясняющих табличек. Стены были увешаны картинами всех размеров, повсюду громоздились вороха книг по искусству. Осадочные породы в виде мебели разных эпох двадцатого века расположились на полу без всякой видимой системы: шифоньеры, бюро, красивые столы и кресла. Не было ни одной свободной поверхности – все было заставлено пепельницами, курительными и письменными приборами, газетными вырезками… Две ступеньки вели дальше, в другие комнаты, вернее, отделения частной экспозиции, посвященной долгой и бурной жизни.
На уровне глаз была привинчена витиеватая латунная табличка с надписью готическим шрифтом «Кунсткамера „Адлерсфельд“». Рядом в застекленной раме висела десятифунтовая ассигнация, о происхождении которой Иоаким мог только догадываться. На столе – фотографии в рамках. Две блондинки позируют на фоне чертова колеса. Еще одно фото – чернокожий мужчина в военной форме в уличном кафе. Снимок раскрашен вручную, значит, сделан где-то в пятидесятые годы. А в третьей рамке была не фотография, а пожелтевшая газетная вырезка, уводившая еще дальше, в довоенное время: парень в борцовском трико под рубрикой: «Митци – новый чемпион в легком весе».
Еще один снимок – опять эти две блондинки, похоже, что сестры. Они где-то в лодочной гавани, а между ними стоит загорелый юноша, они обнимают его за плечи. На заднем плане – мачты яхт. Лето. Все почему-то преувеличенно серьезны, словно фотограф запечатлел их в момент глубокого раздумья. Присмотревшись, Иоаким понял, что этот юноша – не кто иной, как его отец… Никогда раньше Иоаким не видел Виктора таким невинно-молодым… невероятно, отец когда-то тоже был мальчиком.
– Мы с твоим отцом на экскурсии с нашими подругами, – сказал Георг Хаман по-шведски, с акцентом, напомнившим Иоакиму Виктора. – Тридцать девятый год. Мы, помню, взяли напрокат яхту на Ванзее. Меня на фото нет – я снимал.
– А девушки кто?
– Мы называли их сестры Ковальски… Хотя они вообще-то сестрами не были, но это отдельная история.
На противоположной стене висел групповой портрет маслом – те же блондинки и тот же темнокожий военный, на этот раз в гражданской одежде. Художник сотворил что-то непонятное – было ощущение, что от картины исходит волшебный, почти неземной свет. Живопись реалистична до малейшей детали и в то же время загадочно пуантилистична, цвета дробятся и плывут, как во сне.
– Американский солдат Вильсон. Его уже нет в живых, как и сестер Ковальски. Теперь мое общество составляют исключительно мертвые… Это работа твоего отца.
– Значит, папа умел не только фальсифицировать?
– Твой отец был великий художник. В других обстоятельствах… если бы он не был так беден и не родился со своей ориентацией в неправильное время, он бы, без сомнения, стал величайшим из современников. Это же, как ты знаешь, вопрос интерпретации…
А на торцовой стене висели знаменитые, подлинные, виртуозные кунцельманновские подделки; так, во всяком случае, решил Иоаким. На картине в изумительно имитированном барочном стиле был изображен ангел, диктующий что-то молодому человеку с пергаментным свитком в руке. Сюжет явно гомоэротичен: ангел, очень красивый мальчик, словно бы проверяет молодого человека на стойкость.
– Караваджо. Первая версия «Матфея и ангела». Когда-то висела в музее Карла Фридриха… Виктор был влюблен в эту работу, но она погибла во время войны. Он написал ее по памяти, по-моему, в середине шестидесятых… Картина, разумеется, не предназначалась для продажи…
Рядом висело изображение уродливой обезьянки, а под ним, полуприкрытая спинкой кресла, еще одна картина – всадник на вставшей на дыбы лошади.
– Мартышка – это Эренштраль, а насчет всадника Виктор так и не мог определить – его это работа или Караваджо. Ему это было не так просто, как ты понимаешь…
Старик доброжелательно улыбнулся и надел очки, словно бы хотел лучше разглядеть собеседника.
– А что вообще из себя представляет искусство? – спросил он. – Аристотель определяет его словом «мимезис», подражание. Художник подражает природе или старым мастерам. В истории полно плагиаторов. Рубенс копировал Гольбейна. Гойя копировал Флаксмана. Тёрнер обокрал… другого слова не подберешь… именно обокрал Клода. Пятьдесят лет назад в музеях и частных коллекциях было около тысячи полотен Рембрандта. Сегодня их самое большее триста – остальное сделано его учениками. «Мужчину в широкополой шляпе» музей Тиссена-Борнемиша купил когда-то за тринадцать миллионов долларов, а в прошлом году продали меньше чем за два – какой-то эксперт установил, что это работа рембрандтовского подмастерья. Так что то, что сегодня подлинно, может завтра оказаться фальшивым, и наоборот. А подпись на картине вообще ничего не значит.
Под самым потолком Иоаким обнаружил еще одну знакомую работу. Он не мог вспомнить автора, но он знал эту картину с детства – Виктор ему как-то показал ее в ателье – за столом сидит бородатая семья.
– Что это? – спросил Иоаким.
– Лавиния Фонтана. Виктор сделал несколько таких за все эти годы. Семья Гонзалес. Самый большой курьез в Европе в свое время… Они разъезжали от одного герцогства к другому, и их демонстрировали публике. Но твой отец не особенно интересовался уродствами и курьезами… Он копировал Фонтана потому, что ее портреты очень нравились его любовнику… Тот сравнивал ее с Микеланджело.
В комнате появилась кошка – совершенно незаметно, как и положено кошке. Она поприветствовала Иоакима, потершись об его ногу, потом прыгнула в кресло и улеглась.
– Как могло случиться, что он никогда не был разоблачен?
– Потому что он был самый лучший. Все прочие, Ваккер, Ван Мегерен, Хебборн… все они рядом с Виктором – дилетанты. Раньше или позже все они пали жертвами рефракционных методов, лабораторных анализов, ультрафиолетового облучения, усовершенствований в науке о мазке, возрастных проб красок и холстов. Но великих – подчеркиваю, великих – разоблачить не так просто… а вернее сказать, невозможно.
Георг почтительно остановился у одного из полотен. Как будто перед настоящим, подумал Иоаким… Старик, похоже, ценит подделки Виктора Кунцельманна так же высоко, как если бы они были написаны самим Караваджо.
– Виктор досконально знал палитру каждой школы… Мельчайшие детали истории материалов. Классический рецепт золотистого пигмента, к примеру, утрачен – и он вообще им не пользовался. Если он работал над старым полотном, то никогда не прибегал к современным красителям – ну, ты знаешь, цинковые белила, кадмиевый желтый… Иногда он сознательно допускал небрежности, потому что человек несовершенен, а художник, даже великий, – тоже человек… Рослин, к примеру, пользовался медной синей в полной уверенности, что это ультрамарин. Эренштраль постоянно путал конопляное и фисташковое масло, отчего поверхностный слой на его картинах часто портится и задает работы реставраторам.
– Все равно не понимаю, как он провел современную науку.
Георг засмеялся, как будто Иоаким очень смешно пошутил.
– В этой отрасли есть старый девиз – чем известней художник, которого ты подделываешь, тем скромнее должна быть работа, и наоборот. Самых великих он избегал, потому что в таких случаях эксперты всегда настроены признать работу подделкой. Для классиков существует довольно небольшой каталог, который расширяют очень неохотно… к тому же Виктор сам и был современной наукой. Один из самых авторитетных экспертов и реставраторов! Сам разрабатывал методы выявления подделок – химические, оптические, спектральные… Он знал совершенно точно ход мыслей экспертов, и именно поэтому ему удавалось их провести.
Со своей тростью Георг очень напоминал состарившегося Дэнни Кая[186]. Казалось, он в любой момент может пуститься в пляс или спеть легкомысленный куплетик из жизни мошенников. Но тут-то все было всерьез, понял Иоаким. Все, что Георг Хаман, или Роберт Броннен, говорил об его отце, – совершенно серьезно.
– Манера мазка художника – как отпечатки пальцев. Мотивы меняются, палитра меняется, а мазок остается. Особенно это заметно в импасто. Так вот, если самый-рассамый эксперт возьмет лупу и начнет разглядывать «Матфея и ангела», он не найдет никакой разницы в мазке Виктора и Караваджо. Твой отец был гений.
Он положил трость на письменный стол и внимательно посмотрел на Иоакима.
– Я тебя не утомляю?
– Наоборот! Я хочу знать все о моем отце…
– Мой шведский уже не тот, что раньше, – посетовал Георг Хаман. – Не слишком ли я высокопарен… или… как это сказать… старомоден?
– Вовсе нет.
– Тогда садись в кресло. Только кота прогони… кстати, его зовут Густав Броннен. Пойду на кухню, посмотрю, нет ли у меня бутылочки вина…
Весь вечер и до глубокой ночи Иоаким просидел в квартире Георга Хамана и слушал рассказы старика об отце. Он пожалел, что не захватил блокнот или диктофон, но потом, к своей радости, осознал, что помнит разговор чуть не дословно. Сотрудничество Виктора и Георга прервалось в конце пятидесятых. Чтобы не вызывать подозрений, каждый продолжал работать на своем месте. А начало шестидесятых, как понял Иоаким, было золотым веком Виктора. Именно в этот период он создал свои самые замечательные подделки.
Одно время его пригласила на работу Галерея Колнагиса[187] в Лондоне. Будучи выдающимся экспертом, он завязал множество важнейших знакомств. В эти годы он продал множество подделок знаменитым коллекционерам. Музей Гуггенхайма приобрел у него доселе неизвестного Рунге, Поттер Пальмер купил рисунки Буше. Но он всегда противостоял соблазну испытывать границы доверчивости. Ему всегда удавалось самое трудное в жизни мошенника – вовремя завязать.
Несколько лет после этого он занимался своей работой в Стокгольме. Спрос на него был колоссальным. Кроме виртуозных реставрационных работ он по государственному заказу разрабатывал новые методы обнаружения подделок. Он начал сотрудничать с Институтом Дернера в Мюнхене, подружился с экспертами из Института Курто в Лондоне и Института Вильденштайна в Париже. Под именем Виктора Кунцельманна он изъездил всю Европу вдоль и поперек.
В начале шестидесятых, во время оттепели, он посетил Советский Союз. В Москве, куда Виктора пригласили помогать в реставрационных работах, он познакомился с Костаки, в то время еще совершенно неизвестным в Европе коллекционером русского авангарда. Таким образом, становится понятным, откуда взялись работы, подаренные им Жанетт для открытия галереи. Еще до того, как супрематисты стали известны на Западе, он знал каждый мазок таких художников, как Татлин, Попова и Лисицкий.
Но бывшие компаньоны словно бы не могли оторваться друг от друга – впрочем, это так и было, настолько тесно оказались сплетены их судьбы. Они возобновили свою деятельность.
Несколько лет они работали то в Стокгольме, то в Западном Берлине. Они обзавелись новыми псевдонимами, чтобы свести риск разоблачения к минимуму. Но с середины шестидесятых они, как сказал Георг, занимались только безопасными делами. Никаких сенсационных работ из их ателье больше не выходило. После неудачной попытки продать Эренштраля Национальному музею – это было единственным исключением за всю их практику – они оставили классиков в покое и сосредоточились на русском авангарде и абстрактном искусстве, которое в то время еще не завоевало такого оглушительного признания.
– Вы же должны быть сказочно богаты, – сказал Иоаким, когда Георг упомянул такие имена, как Дюбюффе и Ротко[188]. – За их работы платят миллионы!
– Не забудь, что мы закончили еще до того, как цены на современное искусство подскочили на такие заоблачные высоты. К тому же Виктор жертвовал очень большие суммы в фонд помощи художникам.
В конце шестидесятых они снова разошлись и не встречались до середины семидесятых. Георг тогда сотрудничал с одним голландским копиистом, Виктор работал сам по себе в Стокгольме. Из своих подделок он создал нечто вроде коллекции, своего рода алиби своей деятельности как посредника при покупке и продаже произведений искусства. Георг считал, что это был гениальный тактический ход.
– Потрясающие работы у него в ателье вызывали зуд приобрести что-то. Виктор ломался немного, но в конце концов шел навстречу или предлагал нечто похожее. Говорил, что такое-то и такое-то полотно попало ему в руки при очень странных обстоятельствах, но провинанс он гарантирует. А при его репутации такая гарантия ценилась очень высоко!
Как бы то ни было, в основе всего, что делал Виктор, лежала страсть к живописи. Он вкладывал в полотна всю душу… Мало этого, он, по-видимому, считал их подлинниками, поскольку никто и никогда не смог бы отличить их от оригинала… Он словно бы реинкарнировал художников, воскрешая их стиль и палитру.
Сотни, а может быть, и тысячи подделок вышли из его ателье и разлетелись по Скандинавии, континентальной Европе и Северной Америке. Он считал, что это его судьба. Господь наградил его громадным талантом фальсификации, и он рожден именно для этого. А к тому времени он должен был растить двоих детей…
– А вы встречали мою мать?
– Асту Берглунд? Только один раз, и то очень коротко. Она была сломленным человеком… Из-за нее Виктор и переехал с вами на западное побережье…
– Ее звали Элла Симоне.
– Это ее промежуточное имя… Виктор иногда так ее называл. В какие-то минуты они выглядели просто замечательной парой – разыгрывали друг друга, шутили…
Неожиданное переименование матери Иоаким воспринял на удивление легко. Так же, как и весь рассказ Георга – то немногое, что знал старик, заполнило почти все пробелы в истории его матери.
– А почему мы вас никогда не видели? – спросил он, когда Георг замолчал.
– Мы же были уголовниками… Чем меньше народу знало о нашей работе, тем лучше… Виктор часто рассказывал о вас… он гордился вами! Я-то видел вас только из окна машины. Приезжал в мастерскую забрать очередную партию картин, а вы играли во дворе. Так было несколько раз. Я ведь довольно часто бывал в Фалькенберге…
Он внимательно посмотрел на Иоакима из-под очков в тонкой оправе. В соседней комнате мяукнул кот.
– Думаю, это все, – сказал он. – Отчет закончен. И мне и коту нужен отдых.
Детская память сохранила картинку: они с сестрой стоят в ателье и рассматривают картину, которую отец якобы должен реставрировать.
– Это работа итальянской художницы, – сказал отец с горделивой интонацией, которую Иоаким мог бы воспроизвести и сейчас, тридцать лет спустя. – Ее имя Лавиния Фонтана. Здесь изображена семья Гонзалес, известная причудливым ростом волос.
Может быть, он вообразил, что необычный сюжет пробудит в детях интерес к искусству. Впрочем, нельзя отрицать, что картина напоминала иллюстрацию к народной сказке… Это наверняка могло бы привлечь такую мечтательную девочку, как Жанетт, а что касается Иоакима, он тогда увлекался комиксами-страшилками, вроде серии «Шок», так что картина и в его сознании тоже рождала своеобразное визуальное эхо.
Они иногда после школы брали велосипеды и ехали к отцу в его ателье на берегу. Ему было тринадцать, Жанетт на два года моложе. Должно быть, это был один из таких случаев… Картина представляла собравшееся вокруг обеденного стола семейство. Отец и дети напоминали оборотней, мать выглядела совершенно нормально.
– Об авторе известно не так много, – сказал Виктор, серьезно глядя на детей. – Мы знаем только, что это была женщина… – Тут его взгляд задержался на Жанетт, может быть, как сейчас решил Иоаким, он тогда подумал о ее будущем. – Она работала в Болонье в начале семнадцатого века… А этого волосатого дядьку звали Петер Гонзалес. Он родился на Канарских островах в середине шестнадцатого века. Суеверные люди считали, что он не настоящий человек, а помесь человека и зверя. Он стал показывать себя за деньги. Потом женился, появились дети…
Никто не знает, как любая мелочь, деталь, миг, сиюминутная подробность может повлиять на будущее. Иоаким тогда, глядя на бородатых детишек, ощущал легкую брезгливость. Что-то в картине наводило его на мысли о них самих. Мать на картине выглядела совершенно нормально, но именно поэтому она получилась не такой живой, как остальные, напоминала восковую фигуру. Вот тут-то, пришло ему в голову сейчас, спустя почти три десятилетия, и зарыта собака: нормальная, – и вследствие своей нормальности ненормальная женщина на портрете олицетворяла его мать. Не случайно Виктор сделал копию именно этого сюжета (о подделке говорить нельзя, он не собирался ее продавать). Он создал символический семейный портрет: картина представляла их самих.
Иоаким прекрасно помнил, что в отличие от него сестра была совершенно очарована работой. Она, должно быть, тоже подумала, что это их семейный автопортрет… неужели она поняла, что Виктор поставил перед ними символическое зеркало? Для Иоакима эта история никаких последствий не имела – он искусством особенно не интересовался и жил своей, совершенно иной жизнью. Он никогда не собирался идти по стопам своего отца.
Осенью 2006 года Иоаким попытался восстановить странную биографию своего отца. Потом по частям и под псевдонимом он опубликовал ее на «bloggportalen.se». Он писал о детском католическом приюте в двадцатые годы, о том, как отец подделывал марки и автографы в тридцатые, попытался реконструировать годы, проведенные отцом в нацистском концлагере. Последнее оказалось самым трудным. Разумеется, об «Операции „Андреас“» и главном лагере в Заксенхаузене было довольно много написано (говорили даже, что в Австрии сняли фильм на этот сюжет), но о лагере в Хавеланде он ничего не нашел. Даже профессиональный историк, приятель его свояка Эрланда Рооса, ничем не мог ему помочь, несмотря на глубокий архивный поиск. Иоаким уже начал сомневаться в правдивости рассказа Георга Хамана. Может быть, старик просто ему соврал? Вполне возможно, он же был профессиональным мошенником, и ложь входила в его арсенал совершенно естественно.
Зато ему удалось много узнать о своей матери.
Аста Элла Симоне Берглунд скончалась осенью 1967 года, вскоре после рождения Жанетт. Ей было только тридцать девять лет. Если верить фалькенбергским архивам, в графе «место проживания» был записан адрес Виктора, но, скорее всего, если вспомнить, какой жизнью она жила, она там почти не бывала. Их мать была тяжелой наркоманкой, злоупотребляла барбитуратами и морфием. В результате у нее развился цирроз печени. Она и погибла от прогрессирующей печеночной недостаточности.
Георг Хаман рассказывал, что Виктор и Аста были знакомы очень давно, временами теряли всякую связь, но вновь нашли друг друга в начале шестидесятых. Когда после года работы в Галерее Колнагиса в Лондоне он вернулся в Стокгольм, она неожиданно объявилась в его мастерской в Пеликаньем переулке и попросилась переночевать. Стояла зима. У Асты вообще не было крыши над головой, и Виктор предложил ей остаться.
Они заключили своего рода пакт: Виктор обещает содержать ее, а она обещает родить ему детей. Хотя «пакт» вряд ли подходящее слово – у них не было выбора. Оба понимали: что-то в их жизни должно быть настоящим, что-то должно быть окончательной, ничем не опровергаемой истиной. Таким светлым пятном для него были дети. Со временем между ними даже возникло чувство, две одинокие души потянулись друг к другу со страстью отчаяния… они просто-напросто полюбили друг друга – далеко за пределами тесных рамок секса.
Аста пыталась бороться со своей зависимостью до самого конца. Виктор старался помочь ей, находил места в редких в то время лечебницах, водил ее к врачам и психологам, ездил с ней в Копенгаген, где в то время начинали, пока еще в порядке эксперимента, лечение метадоном. Чтобы изолировать ее от пагубного окружения, они даже переехали в Фалькенберг.
В 1964 году они решили провести отпуск в этом маленьком городке на западном побережье. Они сняли виллу на Клиттервеген, совсем близко к набережной Скреа. Асте надо было отдохнуть после тяжелого периода наркотического запоя. Виктор познакомился с местным продавцом картин и начал с ним работать. Через несколько лет антиквар уехал из города (ни Иоаким, ни Жанетт его не помнили). Виктор к тому времени уже твердо решил уехать из Стокгольма – ради Асты.
После вторых родов она опять сорвалась. Ее пытались лечить в Фалькенберге и Хальмстаде, но она сбежала в Стокгольм, где опять попала в мир наркоманов, бездомных и проституток, в мир, которого в «шведском народном доме» официально не существовало. Виктор оставил детей на няньку и помчался ее искать. У него по-прежнему были крупные поручения от музеев. Днем он работал, а по ночам искал Асту. С упрямством отчаяния он бродил по местам, куда в нормальных условиях не ступил бы ногой. В конце концов он нашел ее и первым же поездом увез в Фалькенберг.
Несмотря на скудость биографического материала, Иоакиму удалось кое-как восстановить этот период жизни родителей. Иногда он заполнял пробелы в пунктирном рассказе Георга Хамана об этом времени догадками – и, как оказалось, ни разу не промахнулся. Он с болью осознал, что о новорожденных Иоакиме и Жанетт заботился именно Виктор – мать их была на это просто-напросто не способна.
Перед Рождеством 2006 года он попытался найти семью Асты в Финляндии. Это оказалось нелегко – ее родители и старшая сестра давным-давно умерли. Единственным живым родственником оказался кузен, он по-прежнему жил в Васе. Они обменялись несколькими сухими письмами, которые помогли Виктору восстановить некоторые детали, но чем больше он узнавал о матери, тем грустнее ему становилось при мысли об этой фактически чужой женщине. О ней никто не помнил и не хотел вспоминать. Кузен матери рассказал, что родители пожелали похоронить ее в Финляндии, и Виктор не возражал. А вот ответ на вопрос, почему родители матери не общались со своими внуками, его немало удивил: оказывается, не позволил Виктор. Может быть, ему мешало то, что он прожил всю свою жизнь во лжи, но не исключено, что на него повлияла примитивная теория в детской психологии, свойственная той эпохе: он посчитал, что для них будет лучше, если они забудут все, что касается их матери.
В феврале 2007 года Иоакиму удалось продать две статьи о необычной судьбе своего отца в одну из самых крупных газет – имена, правда, были вымышленными, чтобы не навредить никому из живых участников этой истории. Ему словно бы хотелось примирить Виктора с последующими поколениями – он писал, каким блистательным реставратором был его отец, как он спас множество бесценных произведений – спас гораздо больше, чем сфальсифицировал. Вскоре он добавил последний отрывок в свой блог и закрыл его навсегда. У него не было на это времени – к нему пришла любовь.
Как раз тогда, когда Королевство Швеция праздновало трехсотлетие великого Карла Линнея, когда опыление, взаимоотношения пчелок с цветочками и другие детали системы размножения находились в центре внимания общественности, Иоаким нашел свою будущую жену, Карин Леандер.
Тридцатидвухлетняя аспирантка с кафедры психологии поместила объявление на сайте знакомств еще перед Новым годом, но никто из откликнувшихся ее не заинтересовал. Последним в ее электронной почте вынырнул некий Йокке Кунцельманн – со всей энергией поправившегося после тяжелой болезни человека и со ссылкой на интересный блог о своем отце. Иоакиму понравилось, как она представила себя – с этакой интеллектуальной самоиронией, но не в последнюю очередь его заинтересовала и приложенная фотография. После недели интенсивной электронной переписки они встретились в ресторане «Пеликан» – пили кофе и болтали до самого закрытия. Карин Леандер, как он понял в тот же вечер, и была женщиной его мечты: умная, красивая, без невротических комплексов и со странным, почти телепатическим пониманием первоисточников его жовиальности. Ему удалось обуздать свои рефлексы и не делать попыток сразу затащить ее в постель – да это вряд ли бы и удалось.
Карин была сдержанна, и сдержанность эта была гармоничной: она берегла свое тело и берегла свою душу – удивительный психический баланс. Прямая противоположность Иоакиму, который годами трудился над девальвацией любого намека на самоуважение и выставлял интимнейшие чувства на аукцион – кто меньше предложит… Весной они встречались почти ежедневно и по нескольку раз в день звонили друг другу. Он все реже давал волю своим порнографическим наклонностям, все реже посещал «youporn.com» или бродил в бесконечных пространствах киберкосмоса в поисках голых женских тел.
Только в мае он впервые остался у нее на ночь. Они узнавали друг друга все ближе, все глубже, а главное, Иоаким многое узнал о самом себе.
После разговора с Георгом Хаманом в Берлине он вдруг понял, что жизнь его вышла из под контроля, что если он сейчас же не проведет глубокую ревизию, время будет упущено окончательно. С помощью все того же психотерапевта Эрлинга Момсена, в чьем кресле он теперь сиживал с большой скидкой, за этот год ему удалось достичь своего рода плато, откуда открылся вид на его существование в последние десять – пятнадцать лет. Увиденное не слишком его обрадовало: годы самоистязания и отчаянных попыток самообмана. Легкими толчками (оброненное словцо, заминка, уводящая его на боковую ветку сознания, откуда он мог оценить удручающий рисунок своей жизни) чуть-чуть помогая ему, Эрлинг вернул его к истокам, к прошлому, откуда будущая формула его существования выглядела совсем иначе. Иоаким с каждым днем становился все откровеннее с человеком, имевшим терпение вглядеться в глубины его души – в конце концов, Эрлинг брал деньги не за то, чтобы играть с ним в кошки-мышки, он и в самом деле честно пытался ему помочь. Тем не менее о последних годах жизни Виктора он не рассказывал. Эрлинг Момсен не единожды затевал разговор о рисунках Буше, которые он по-прежнему мечтал приобрести, но Иоаким уклонялся от разговора.
Забавно, что к числу пациентов психотерапевта Эрлинга Момсена присоединился и Карстен Хамрелль. По его словам, терапия помогла ему расстаться с Линой, чтобы потом вновь соединиться и в конце концов, в Иванов день, сделать ей предложение на снятой для такого случая даче у моря.
А Фидель остался в Швеции. Поразмышляв и разобравшись в своих чувствах и желаниях, он по возвращении в Стокгольм объявил, что понял свою гомосексуальность и теперь уже не собирается ехать на Кубу учиться. Карстен встретил новость с пониманием, одному ему ведомыми путями раздобыл вид на жительство и пристроил мыть посуду в гей-баре «Патриция», разместившемся на старинном пароходике, поставленном на вечную стоянку в городской гавани. За несколько месяцев Фидель выучил шведский почти в совершенстве и говорил лишь с едва заметным акцентом. Иоакиму он как-то рассказал, что даже помыслить не может о возвращении в Колумбию.
– Там гомофобов больше, чем мужчин, – сказал он как-то. – И женщины не лучше. Народ ненавидит нас… даже мама, думаю, не сможет мне простить, что я гей. Они называют нас мариконес…
Карстен решил снимать документальный фильм о своем сыне. Иоаким довольно много помогал ему со сценарием, и не только – он провел ряд изысканий о современной истории мужского гомосексуализма. Он работал с интересом, поскольку понимал все больше жизнь своего отца. Эта была мрачная и нестерпимо жестокая история… Людей, виноватых только в том, что родились не такими, как большинство, преследовали и унижали, а в наихудшие времена даже убивали. Все это продолжалось почти до конца двадцатого века, а кое-где в мире и сейчас ничего не изменилось. Они написали синопсис на двух страницах – отношения отца и сына, Карстена и Фиделя. Еще до конца года финская компания YLE, а также новый боевой шведский восьмой канал выделили Хамреллю и его обновленной кинокомпании «Роллер Коустер фильм» вполне приличную сумму на съемки фильма.
Что касается их долга разгневанным кузенам Маркович, все обошлось на удивление спокойно. Приехав из Берлина, Хамрелль встретился с ними и обсудил план обратного выкупа проданных им картин. Только сербский православный Бог знает, почему братья согласились на отсрочку. Иоаким заложил дом на Готланде почти за миллион крон. На острове цены на недвижимость за последний год резко подскочили, поэтому банк без всяких сложностей выдал ему кредит. Осенью он переехал к Карин и неожиданно выгодно продал квартиру на Кунгсхольмене. До финансового кризиса, которому суждено было потрясти мир до основания, оставалось еще больше года, и после всех этих операций и выплаты кредита у него оказалось достаточно денег, чтобы купить старую контору в Грёндале и переделать ее в уютную квартиру, где стены украшали картина Кройера и панно Бацци.
В августе 2007 года, на свадьбе Карстена и Лины, выяснилось, что Карин беременна. Мудрая тридцатидвухлетняя аспирантка-психолог с ее непостижимым, почти пугающим умением отличать ложь от правды догадалась, что между Иоакимом и невестой что-то было, и Иоаким, поставивший себе целью отныне жить честно, не стал отрицать, хотя и боялся сцены ревности. Но его будущая жена оказалось выше даже и такой, вполне объяснимой и простительной человеческой слабости. Со временем он будет исповедоваться ей буквально во всем… хотя кое о чем все же умалчивать – по совету Эрлинга Момсена. Его признание насчет Лины она встретила веселым смехом, но на церемонии венчания ее вдруг затошнило, и Карин пулей вылетела из церкви. Она еле успела к ближайшей мусорной корзине, где ее вырвало. И вместо того, чтобы сформулировать вопрос так, как он привык это делать последние десять лет, очень по-кунцельманновски: «Ты ведь не беременна?», – вместо этого он положил ей руку на лоб и спросил то же самое, но ах как по-другому: «А может быть, ты беременна?» В тот же вечер они купили в аптеке тест на беременность, и все подтвердилось. Никогда ранее в своей жизни Иоаким не испытывал такого смешанного чувства радости и страха.
В апреле 2008 года в родильном доме в Дандерюде Карин родила дочку. Роды продолжались шестнадцать часов – это были самые долгие часы в жизни Иоакима. Он поразился, как много мыслей, чувств, появляющихся и исчезающих видений, тут же оформляющихся в некую дословесную, еще не дифференцированную плазму… как много может уместиться в такой ограниченный промежуток времени, как много воспоминаний об отце, которому так и не довелось дождаться внуков… Все это поднялось в его душе в те короткие мгновения, когда он прижимал к груди новорожденную девочку.
Жанетт и Эрланд Роос, приехавшие в Стокгольм за несколько дней до этого, были рядом. Иоакиму хотелось спать после бессонной ночи, но он сделал для себя важное открытие: ребенок, как щит, прикрывал его от разных мучительных рефлексий, от стыдных воспоминаний, ему было легко и приятно общаться с родственниками, все социальные суставы и суставчики работали превосходно. Он так до сих пор и не понимал, почему его свояк ввязался в их авантюру с продажей подделок королям уголовного мира. Но сейчас, в кафетерии, куда они зашли взять бокалы для захваченного с собой шампанского, Эрланд рассказал ему, что после неудачных спекуляций русскими акциями он понаделал долгов и вынужден был запустить руку в сбережения жены.
– Ты же старый коммунист, ты не должен был заниматься биржевыми спекуляциями, – сказал Иоаким, ставя бокалы и ведерко со льдом на поднос. – Это тебя не красит.
– Знаю, знаю… Но теперь все позади. Твоя сестра меня простила.
Так оно, похоже, и было. Иоаким давно не видел, чтобы сестра обращалась с мужем так нежно, как в это их посещение родильного дома. Она, держа мужа за руку, спросила, не позволено ли будет ей внести новорожденную в и без того длинный список ее крестных детей, и непутевый брат не мог ей в этом отказать.
Погода стояла великолепная. Словно бы долгая мягкая осень перепрыгнула через зиму и подставила плечо новой, нарождающейся весне. Термометр показывал двадцать градусов, это было, с одной стороны, очень приятно, с другой – подтверждало опасность неумолимого глобального потепления. На парковке кругами разъезжал большой джип – еще одно свидетельство, что постоянное стремление человечества к бездумному удовлетворению материальных потребностей приведет его к гибели… Но как выяснилось, Карстен Хамрелль (а это был именно его джип) просто выжидал, когда освободится место на парковке. Наконец освободился небольшой промежуток, и Карстен втиснулся туда, предварительно высадив Лину, Фиделя и бывшую жену Иоакима Луизу с сыном Винсентом.
Не хватает только Сесилии Хаммар, подумал Иоаким, наблюдая за персонажами истории его неудачной жизни, нагруженными бутылками шампанского, коробками шоколада и цветами. Могли бы и кузены Маркович приехать, они все-таки сыграли немалую роль в его биографии в последние годы, и для полного комплекта – еще и Андерс Сервин… Он слышал, что его компания по производству реалити-шоу разорилась – эпохе документального мыла приходил конец.
Через два месяца, как раз во время матча чемпионата Европы между Швецией и Испанией, Иоаким получил сообщение от Митча22 – Георг Хаман скончался в своей квартире. Михель Вирт заподозрил недоброе, услышав отчаянное мяуканье кота. На звонок никто не вышел, но дверь оказалась не запертой. Старик сидел в кресле с закрытыми глазами – он умер во сне.
Вот и исчезло последнее звено, связывающее брата и сестру с двойной жизнью Виктора. Для них так навсегда и осталось загадкой, что произошло в последние недели его жизни… Не стало единственного человека, кто мог бы что-то объяснить.
Георг Хаман был последним, кто видел Виктора живым. В Берлине Георг намекал, что они тогда поссорились. Иоаким почему-то решил, что предметом спора стала подделка Дюрера – Виктор, скорее всего, по каким-то соображениям в последний момент отказался. Они до этого долго не виделись, и Георг попросил его, во имя старой дружбы, потрудиться еще разок. Виктор сначала согласился, а потом передумал. Они довольно сильно разругались, и Георг вернулся в Берлин.
Иоакиму подумалось, что отец, должно быть, чувствовал приближение смерти… какой-то нечеткий образ на самой периферии зрения. И он решил встретить смерть там, где предназначила ему судьба: за мольбертом. Но не раньше, чем он подготовится к встрече. Этой подготовке он и посвятил последние недели жизни. Чтобы избежать скандальных открытий после его смерти, он уничтожил коллекцию. Виктор прекрасно понимал, что свыше сотни доселе неизвестных работ знаменитых художников не останутся незамеченными. Их начнут пристально изучать, и обман раскроется. Время догнало Виктора Кунцельманна – методы выявления фальсификаций стали такими точными, что уже не оставляли места для вопросов. В расцвете сил он мог одурачить весь мир, но не теперь, в начале нового тысячелетия.
В августе, когда Иоаким крестил дочь Нелли в церкви Бур на Готланде, он поделился этими мыслями с Жанетт.
– Наверное, ты прав, – сказала она.
На ней было белое платье, она была готова приступить к выполнению нового долга: стать крестной матерью вновь появившегося в роду Кунцельманнов человека.
– Ты прав, – повторила Жанетт. – Виктор хотел, чтобы, когда пыль уляжется, его вспоминали как выдающегося реставратора, а не как жулика. И последнее, что он сделал в жизни, – заставил себя осознать разницу между подлинником и подделкой… Это ему удавалось не всегда.
Так оно и было, думал Иоаким, неся дочурку к купели… Так оно и было – одиночество, на которое они обрекли отца в последние годы, не помешало (а может быть, помогло? – сделал он привычную попытку самооправдания, но тут же устыдился), нет, именно так: одиночество не помешало ему уничтожить подделки и тем самым обрести свободу. Виктор понял, что чем больше он приближается к оригиналу, тем дальше от него уходит, потому что всегда остается то, что скопировать невозможно, – детская улыбка удивления творца перед открывшимся ему миром. С подделки всегда будет ухмыляться ложь, и чем совершеннее копия, тем циничнее эта ухмылка…
Виктор понял наконец, что правда может быть только одна, – и только оставшись в одиночестве, она становится искусством. Искусство и есть единственная и высшая правда.
В окна придела властно врывались знойные запахи лета. Иоаким улыбнулся и посмотрел на жену. Ему показалось, она поняла, о чем он думает, – и Карин улыбнулась ему в ответ.
Не ложью единой
Карл-Йоганн Вальгрен принадлежит к поколению писателей, о котором Виктор Ерофеев написал: «С середины семидесятых годов началась эра невиданных доселе сомнений не только в новом человеке, но и в человеке вообще».
Но принадлежность к поколению еще не означает зависимость от него. Постмодернистская литература сомневается во всем – в любви, чести, правде, вере, культуре, благородстве, материнстве (перечисление длинное, все не упомнишь), в общем, во всех идеалах, с такими муками выработанных человечеством в попытках отличить себя от животного. А Вальгрен не сомневается. И новый его роман – о лжи. О лжи как философской категории, о лжи как наркотике, о лжи во спасение и лжи во погибель, о лжи вынужденной и добровольной. О том, как одна ложь порождает другую, заражая не только самих участников коллективной лжи, но и целые поколения. Роман был сдан в издательство еще до финансового кризиса, но Вальгрен уже почувствовал, что общество движется к краю пропасти – бездонной или нет, покажет время. Но уже сейчас ясно, что путь неостановимого потребительства, деградации культуры и уродливого смещения ценностей ведет в никуда.
Дмитрий Быков в короткой рецензии на вальгреновского «Ясновидца» заметил, что этот роман написан для впечатлительных подростков. Но разве не вся литература пишется для впечатлительного подростка, живущего в каждом из нас? Набоков как-то тоже заметил, что весь Достоевский – писатель для подростков, пытающийся формировать молодое сознание. Ничего хорошего Набоков сказать о Достоевском не хотел, он его терпеть не мог, но Достоевский-то своей цели достиг! Трудно сосчитать, сколько людей удержал от роковых ошибок прочитанный вовремя Достоевский… Или как формировали целые поколения романы Дюма (тоже литература для подростков!). «Люди, почему вы не следуете нежным идеям?..» И этот же тоскливый вопрос слышится в новой книге Вальгрена.
На этот раз он написал поистине головокружительный роман. Искусство обмана и обман искусства – где провести границу и существует ли она вообще? – вот вечный вопрос, столетия мучивший философов. Конечно, сразу вспоминается Феликс Круль – тот-то очень рано понял, насколько мало отличается художник от мошенника. Можно сказать, что эта мысль и есть основа знаменитого романа Томаса Манна: вера, что разница между «подлинным» и «фальшивым» может быть легко уничтожена самим искусством художника, а значит, мошенник и есть подлинный художник. Так ли это? И что увидел в этой максиме Вальгрен?
Один из главных героев, Иоаким Кунцельманн – одержимый неутолимой тягой к гламуру сорокалетний плейбой. Он злоупотребляет сексом, порнографией и наркотиками, безнадежно запутался в долгах. В завязке романа Иоаким узнает о смерти своего отца, известного коллекционера, искусствоведа и реставратора Виктора Кунцельманна – наконец-то он сможет поправить свои финансовые дела, продав по частям многомиллионное отцовское художественное наследство. Но тут вдруг становится известным, что Виктор Кунцельманн перед смертью уничтожил почти всю свою коллекцию.
Автор проводит Иоакима Кунцельманна через лабиринт всевозможных трагикомических ситуаций, постепенно подводящих к мысли, что «какая-то в державе датской гниль». Читатель знакомится с непередаваемым цинизмом телевидения, участвует в съемках порнофильма, попадает в берлинский сексуальный притон, спасается вместе с Иоакимом от кровожадной югославской мафии. Сатира автора буквально сочится желчью, раблезиански весела и по-свифтовски печальна: ничто в этой жизни не является тем, за что себя выдает.
Иоаким постепенно понимает, чем вызван поступок отца, расцененный им поначалу как помрачение рассудка: оказывается, вся отцовская знаменитая коллекция, где соседствуют Дега, немецкие экспрессионисты и русский авангард, скорее всего, не что иное, как мастерские подделки, сделанные самим Виктором.
Зачем? Почему? Виктор был известен как честнейший и благороднейший человек, он жертвовал большие суммы в фонды помощи молодым художникам, ему слепо доверяли и крупнейшие музеи Европы, и частные коллекционеры…
…Мы возвращаемся в нацистскую Германию тридцатых – сороковых годов. Оказывается, Виктор в то далекое время был вынужден вести двойную жизнь. Ему не повезло – гениально одаренный художник, он, как и многие гениально одаренные люди, рожден гомосексуалом. В нехитром катехизисе нацистов гомосексуалы объявлены вне закона, и, чтобы выжить, приходится прибегать к всевозможным уловкам и постоянно лгать. Но врожденный аристократизм Виктора, аристократизм служения высокому искусству, не омрачен плебейской жаждой обогащения.
Но ложь есть ложь, и тень пожизненной, хотя и вынужденной лжи отца темной тенью падает на жизнь сына. Вынужденное мошенничество отца в редакции сына теряет все свое обаяние – попытка подладиться под идеалы деградирующей культуры приводит к краху.
Тут вообще возникает множество вопросов. Например, где проходит граница иронии и цинизма? Где тот предел, когда ирония по поводу несовершенства мира разъедает душу настолько, что разумный, культурный человек начинает активно способствовать усугублению этого несовершенства – ради денег, карьеры, удобств?
Люди неглупые, образованные, прекрасно понимающие, что они делают, принимают участие в массовой дебилизации населения – все равно, дескать, ничего не изменишь, а «пипл схавает». Они не понимают, что сами роют себе могилу – постоянное снижение планки постепенно приводит к полному ее исчезновению, и тогда уже никому ничего не нужно – даже убогие сериалы… И сами они станут никому не нужны, потому что некому будет хавать, потому что вы, господа, постарались превратить какой-никакой, но все же «пипл» в самое обычное быдло…
Вальгреновский фирменный хеппи-энд вроде бы оставляет надежду, что общество еще может повернуть назад, не идти по пути массового зомбирования одуревших от потребления обывателей. Для начала хорошо бы осознать, что ты не хуже и не лучше, а ты – это ты, что ты хочешь жить своей, а не стайной жизнью. Что и делает Иоаким Кунцельманн. Правда, сомнения оставляет откровенно пародийная интонация автора в описании «перековки» непутевого героя.
Сергей Штерн
Сноски
1
Джойнт – сигарета с марихуаной.
(обратно)2
Хантингтон Самюэль (1927) – американский политолог, автор нашумевшей книги «Столкновение цивилизаций».
(обратно)3
Игра слов: moms (швед.) – налог на добавленную стоимость.
(обратно)4
Эре – мелкая монета, сто эре составляют крону.
(обратно)5
Сигрид Мария Йертен (1885–1948) – шведская художница, ученица Матисса, начинала как приверженка фовизма, но в дальнейшем творчество ее приобретало все более экспрессионистский характер.
(обратно)6
Митте – центральная часть Берлина.
(обратно)7
Институт искусства Курто (Courtauld Institute of the Art) – Институт истории искусств в составе Лондонского университета, располагающий собственным художественным собранием.
(обратно)8
Вамлингбу – селение на Готланде, объект туризма и популярное дачное место.
(обратно)9
Lebensraum (нем.) – жизненное пространство, печально знаменитый термин из лексики нацистов.
(обратно)10
Хини Симус (род. 1939) – ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии (1995).
(обратно)11
Лавлок Джеймс Эфраим (род. 1919) – английский ученый, эколог. Выдвинул так называемую гипотезу Гайа, основанную на том, что Земля является своего рода суперорганизмом.
(обратно)12
Playmates of the year – красотки года (англ.).
(обратно)13
Фрейлейн Анна О. – Первый случай успешной логотерапии девушки, больной истерией, описанный доктором Бройером в 1893 году. Впоследствии этим примером часто пользовался Фрейд.
(обратно)14
Инстаматик – первая дешевая общедоступная фотокамера (ныне называемая «мыльницей»), обеспечивающая приличное качество съемки. Впервые разработана фирмой «Кодак».
(обратно)15
Болеутоляющее средство «ипрен» рекламирует лилипут в костюме таблетки.
(обратно)16
Пастиш – вторичное художественное произведение, отличающееся явным, часто намеренным подражанием авторскому стилю. От плагиата отличается отсутствием прямого копирования.
(обратно)17
ABF – система факультативного образования для взрослых в Швеции.
(обратно)18
Йозеф Менгеле (1911–1979) – имя этого немецкого врача, проводившего опыты на узниках лагеря Освенцим во время Второй мировой войны, стало нарицательным.
(обратно)19
«Афтонбладет» («Вечерний листок») – желтая газета, типичный таблоид.
(обратно)20
Торстен Флинк – известный в Швеции драматический актер со скандальной репутацией.
(обратно)21
«НК» – самый дорогой универсальный магазин Стокгольма.
(обратно)22
Регина Лунд – шведская актриса, певица, поэтесса и автор текстов песен, очень часто появляется на радио и ТВ.
(обратно)23
Повель Рамель (1922–2007) – шведский критик, композитор и пианист.
(обратно)24
Глёгг – традиционный рождественский горячий спиртной напиток, род глинтвейна с миндалем и изюмом.
(обратно)25
Учительница и ее ученики (англ.).
(обратно)26
Зрелые дамы в колготках (англ.).
(обратно)27
Седер – в иудаизме: праздничная трапеза в последний день Пасхи.
(обратно)28
Синдром Аспергера – одно из пяти общих нарушений развития, иногда называемое формой высокофункционального аутизма. Больные с синдромом Аспергера обладают как минимум нормальным либо высоким интеллектом, но нестандартными или слаборазвитыми социальными навыками.
(обратно)29
Кумла – исправительный лагерь для особо опасных преступников в Центральной Швеции.
(обратно)30
«Телия» – крупнейший в Швеции телекоммуникационный оператор.
(обратно)31
Канна бис (лат. Cánnabis) – латинское название конопли.
(обратно)32
Универсальный ключ – в многоквартирном доме жильцы имеют ключ ко всем местам общего пользования – кладовые, прачечная, комната для мусора и т. д.
(обратно)33
Бастер Китон (Buster Keaton, 1896–1966), настоящее имя – Джозеф Фрэнсис, выдающийся комический актер и режиссер немого кино.
(обратно)34
Кильберг Карл (собственно, Чильберг, 1878–1952) – известный шведский архитектор и живописец.
(обратно)35
Каждое субботнее утро (нем.).
(обратно)36
Халланд – провинция на юго-западе Швеции, известная художественной школой; центральный город – Хальмстад.
(обратно)37
Nom de guerre (фр.) – псевдоним.
(обратно)38
Провинанс – история жизни произведения (имена и клейма владельцев, даты продаж и т. д.).
(обратно)39
Aux trois crayons (фр.). – тремя мелками.
(обратно)40
«Памятка для художников о старинных картинах» (ит.).
(обратно)41
«Печати коллекций картин и эстампов» (фр.).
(обратно)42
Эстампилль – коллекционерская печать, удостоверяющая принадлежность гравюры, рисунка и т. п. определенной коллекции.
(обратно)43
Фикус – уничижительная кличка гомосексуалов.
(обратно)44
С 1919 по 1939 г. столицей был Каунас. Столица современной Литвы – Вильнюс.
(обратно)45
Часть экспрессионистов, обратившихся к изображению человеческих страданий, вслед за Диксом и Гроссом, в середине 20-х годов стали называться веристами. Характернейшей чертой веризма, или «новой вещности», было стремление к материальности изображения и подчеркнутому раскрытию уродливости современного мира. В результате большинство веристов пришли к натуралистическому изображению темных сторон действительности.
(обратно)46
Эрнст Юлиус Рём (1887–1934) – один из лидеров национал-социалистов и руководитель штурмовых отрядов, откровенный гомосексуал, близкий друг и соратник Гитлера, убитый по его приказу. Эдмунд Хайнес – любовник Рёма.
(обратно)47
Кюммерлинг – крепкий спиртной напиток, настойка на травах.
(обратно)48
«Фолькишер Беобахтер» – ведущая газета национал-социалистов в период Третьего рейха.
(обратно)49
Ку-дамм – Курфюрстердамм, центральная улица в Западном Берлине.
(обратно)50
Тет-беш – «валет», сцепка из двух марок, одна из которых находится в перевернутом положении относительно другой, умышленно или случайно.
(обратно)51
До скорой встречи в Берлине! (нем.)
(обратно)52
«Deutschlandlied» – «Немецкая песня» («Deutschland, Deutschland über alles»). Национальный гимн Германии. Стихи Августа Хоффмана, положенные на музыку Гайдна.
(обратно)53
«Скандия» – крупный шведский банк.
(обратно)54
Фредерик Уинслоу Тейлор (1856–1915) – американский инженер, основоположник научной организации труда и менеджмента.
(обратно)55
Стивен Уильям Хокинг (род. 1942) – один из наиболее влиятельных в науке и известных широкой общественности физиков-теоретиков нашего времени.
(обратно)56
Русс Майер (1922–2004) – американский режиссер, известный своим черным юмором. Его первый фильм «Аморальный мистер Тис» при бюджете в 20 000 долларов принес больше миллиона.
(обратно)57
Альвар Аальто (1898–1976) – известный финский архитектор и дизайнер.
(обратно)58
Альсинг Адам (род. 1968) – известный телеведущий, специалист по реалити-шоу.
(обратно)59
«Невероятная пятерка» («Fabulous fi ve») – документальная серия о пяти гомосексуалах (стилист, эксперты по моде, вину и кулинарии, уходу за телом, интерьерам и общей культуре), которые помогают гетеросексуалам стать привлекательными для женщин.
(обратно)60
«Консум» – одна из крупнейших в Швеции сетей продуктовых магазинов.
(обратно)61
Фалунская колбаса – недорогая вареная колбаса, ранее очень популярная в народе.
(обратно)62
Карл-Ян Гранквист – известный шведский кулинар и сомелье; Мат-Тина – Тина Нурдстрём, ведущая телевизионных кулинарных шоу.
(обратно)63
Бодрияр Жан (1929–2007) – французский философ и социолог.
(обратно)64
Петер Вальбек (род. 1963) – шведский комик, писатель, сценарист, художник и актер.
(обратно)65
СЭПО – шведская служба безопасности.
(обратно)66
SSL (Security Socket Layer) – система безопасности корреспонденции в Netscape.
(обратно)67
FOI – научно-исследовательский институт обороны.
(обратно)68
WEF – Всемирный экономический форум, WSF – Всемирный социальный форум.
(обратно)69
Теллус – в древнеримской мифологии божество матери-Земли.
(обратно)70
Налог Тобина – главным требованием «АТТАК» является установление «налога Тобина» (налога, предложенного в 1972 году нобелевским лауреатом Джеймсом Тобином). Его суть состоит в том, что 0,1 % от всех финансовых операций направляется на борьбу с бедностью и развитие экономики стран третьего мира. Кроме того, организация выступает за списание долгов развивающимся странам.
(обратно)71
Бреттон-Вудская система, Бреттон-Вудское соглашение (англ. Bretton-Woods system) – международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная на Бреттон-Вудской конференции (с 1 по 22 июля 1944 г.).
(обратно)72
Эрнандо де Сото (исп. Hernando de Soto; род. 1941) – перуанский экономист. Основные направления исследований: теневая экономика; история и перспективы развития капитализма. Является одним из самых известных сторонников либерализации экономической жизни.
(обратно)73
Рауль Пребиш (1901–1986) – аргентинский экономист, один из авторов «тезиса Пребиша – Зингера».
(обратно)74
I presume (англ.) – я полагаю.
(обратно)75
«Теория зависимости» (dependency theory) утверждает, что у ряда стран, особенно в третьем мире, отсутствует возможность контролировать основные направления своей экономической деятельности вследствие мирового экономического господства индустриальных государств.
(обратно)76
Наоми Клейн (1970) – канадская журналистка, писательница и активистка, известная благодаря своим политическим исследованиям корпоративной глобализации.
(обратно)77
«No Logo» («Долой бренды») – самая известная работа Наоми Клейн. No Logic – никакой логики (англ.).
(обратно)78
«Non Logos» (лат.) – без языка.
(обратно)79
Адорно Теодор Людвиг Визенгрунд (1903–1969) – один из самых известных немецких философов XX века, социолог леворадикальной ориентации.
(обратно)80
Дюшан Марсель (1887–1968) – французский и американский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма.
(обратно)81
Реди-мейд (ready-made) – техника в разных видах искусства (главным образом в изобразительном искусстве и в литературе), при которой автор представляет в качестве своего произведения объект или текст, созданный не им самим и (в отличие от плагиата) не с художественными целями.
(обратно)82
«Урдфронт» (Словесный фронт) – независимое книжное и газетное издательство левого направления.
(обратно)83
«Парламент» – популярная телевизионная программа, пародирующая политическую болтовню.
(обратно)84
Дилдо – фаллоимитатор.
(обратно)85
«Кейтеринг» – фирма, доставляющая готовые блюда на дом.
(обратно)86
Сегерстрём Ингер – депутат риксдага от социал-демократической партии. По ее инициативе был принят закон о запрете на покупку сексуальных услуг.
(обратно)87
Тысяча спенн (сленг) – тысяча крон.
(обратно)88
«Лиля навсегда» (Lilja 4-ever) – фильм Лукаса Мудиссона, повествующий о злоключениях русской девушки, попавшей в сексуальное рабство.
(обратно)89
Рокко Зиффреди, Питер Норт – порнозвезды.
(обратно)90
Карл Серунг – скандально известный делец порнобизнеса.
(обратно)91
Hemsk – страшный, ужасный, inhemsk – местный, отечественный, туземный (шв.).
(обратно)92
Декантировать – сливать вино с целью отделить его от осадка.
(обратно)93
«Бернс», «Риш» – модные рестораны в центре Стокгольма.
(обратно)94
Снют – полицейский, флоттисты – матросы, лигисты – малолетние бандиты, Кунгсан – Кунгстредгорден (Королевский сад) – парк в центре Стокгольма, трансы – трансвеститы, стилеттисты – вооруженные кинжалами бандиты (сленг).
(обратно)95
Лем, кук – сленговые названия полового члена.
(обратно)96
Вазари Джорджо (1511–1574, Флоренция) – итальянский живописец, архитектор и писатель эпохи маньеризма. Известен как автор биографий итальянских художников.
(обратно)97
Буркхардт Якоб (1818–1897) – швейцарский историк культуры. Его талант в полной мере раскрылся в труде «Культура Возрождения в Италии».
(обратно)98
Ченнини Ченнино (посл. четв. XIV века) – итальянский художник, автор книги «Трактат о живописи». Книга Ченнини в настоящее время – ценнейший источник сведений о технике живописи эпохи Возрождения.
(обратно)99
Винкельманн Иоганн Иоахим (1717–1768) – основоположник теории искусства, немецкий теоретик и историк искусства, основоположник современных представлений об античном искусстве.
(обратно)100
Сильвен Жюль (настоящее имя – Аксель Стиг Ханссон, 1900–1968) – шведский композитор, автор шлягеров.
(обратно)101
Здание Художественного музея на Вальдемарсудде изначально было домом принца-художника Эугена на рубеже прошлого века. Музей известен обширной коллекцией скандинавского искусства 1880–1940 годов.
(обратно)102
Замок в Дроттнингсхольме – летняя резиденция королей.
(обратно)103
Эйнар Йолин (1890–1976) – шведский художник, портретист и пейзажист.
(обратно)104
Брур Юрт (1894–1968) – один из наиболее известных шведских скульпторов и художников.
(обратно)105
Сири Деркерт (1888–1973) – известная шведская художница-экспрессионистка.
(обратно)106
Норна – богиня судьбы в древнескандинавской мифологии.
(обратно)107
Чиллиан Цолль (1818–1860) – известный шведский художник.
(обратно)108
Sehr angenehme Auslese – превосходный выбор (нем.).
(обратно)109
Si pel ciel marmoreo giuro – ария из оперы Дж. Верди «Отелло».
(обратно)110
Uffi cio della Notte – тайная полиция (итал.).
(обратно)111
Amor Vincit Omnia – любовь побеждает все (лат.).
(обратно)112
Verliebt zu sein – быть влюбленным (нем.).
(обратно)113
Пило Карл-Густав (1711–1793) – шведский художник, работавший главным образом в Дании.
(обратно)114
Доклад Кинси – так называли книгу американского зоолога Альфреда Кинси «Сексуальное поведение самца человека» (1948).
(обратно)115
Процесс Кейни – один из самых крупных судебных процессов в первой половине 50-х годов. Пастор Карл-Эрик Кейни утверждал, что в Стокгольме существует организованная мужская проституция, которую прикрывают высокопоставленные государственные чиновники.
(обратно)116
Кат – растение, обладающее выраженным стимулирующим эффектом, сходным с амфетамином.
(обратно)117
Свен Андерс Хедин (1865–1952) – знаменитый шведский путешественник и писатель, исследователь Центральной Азии.
(обратно)118
H&M – Hennes&Moritz, шведский концерн, имеющий филиалы во всем мире. Специализируется на остромодной недорогой молодежной одежде.
(обратно)119
Сульвалла – ипподром в Стокгольме.
(обратно)120
Гурра – Гуннар Юнгстедт, ударник группы «Эбба Грён».
(обратно)121
Тумас Бролин – известный в 1990-е годы футболист, нападающий шведской сборной. Эрнст Бильгрен – шведский скульптор, известный своими светскими успехами.
(обратно)122
Чиччолина (Илона Сталлер) – итальянская порнозвезда. Депутат итальянского парламента.
(обратно)123
Кассаветес Джон Николас (1929–1989) – американский актер, сценарист и режиссер. Он считается пионером американского независимого кино.
(обратно)124
Эрик Ромер (1920) – французский режиссер.
(обратно)125
Утренний подарок – традиционный подарок после первой брачной ночи.
(обратно)126
A&R (англ. Artist & Repertoar) – сотрудник звукозаписывающей компании или музыкального издательства, занимающийся оценкой поступающих заявок.
(обратно)127
«BitTorrent» или «Pirate Bay» – сайты для бесплатного обмена аудио– и видеофайлами.
(обратно)128
МакЛюэн Маршалл (1911–1980) – канадский профессор, литературовед, литературный критик и один из создателей теории коммуникаций.
(обратно)129
«Бар», «Вилла Медуза» – шведские реалити-шоу начала 90-х годов.
(обратно)130
«Кабинет доктора Калигари» (1920) – знаменитый немой фильм, положивший начало немецкому киноэкспрессионизму.
(обратно)131
Эмма Виклунд – шведская фотомодель.
(обратно)132
«Стурекомпаниет» – модный ресторан в центре Стокгольма.
(обратно)133
«Оазис», «Блюр» – гитарные поп-группы, представители течения «бритт-поп», где пионерами были «Битлз».
(обратно)134
Сюрстрёминг – национальное шведское блюдо, салака с сильным душком.
(обратно)135
Прозак – антидепрессант, так называемые пилюли счастья.
(обратно)136
МоМА (The Museum of Modern Art) – Музей современного искусства в Стокгольме.
(обратно)137
Кнейпбю – деревня на Готланде, где происходит действие сказочной повести Астрид Линдгрен «Пеппи – Длинный Чулок».
(обратно)138
Дэ мьен Хёрст (род. 1965) – один из самых дорогих из ныне живущих художников и самая заметная фигура группы «Молодые британские художники». Доминирует на британской арт-сцене с 1990-х.
(обратно)139
«The copy-cat Hirst is fooling us again». – Копиист Хёрст опять нас дурачит (англ.).
(обратно)140
Авата ра (санскр.) – термин в философии индуизма, обычно используемый для обозначения явления или земного воплощения Бога. Сегодня употребляется для обозначения графического представления участника форума в Интернете.
(обратно)141
Гомер Симпсон – главный герой американского мультипликационного сериала «Симпсоны».
(обратно)142
По шведской пасхальной традиции малыши наряжаются деревенскими бабками и ходят по домам, выпрашивая конфеты и сладости.
(обратно)143
Пиггелин – сорт фруктового мороженого.
(обратно)144
Дамп-синдром (Defi cits in attention, motor control and perception) – состояние, заключающееся в дефиците внимания, моторики и восприятия.
(обратно)145
Crime passionel – преступление, вызванное ревностью (фр.).
(обратно)146
«Что-то выигрываешь, что-то проигрываешь» (англ.).
(обратно)147
Как ты там сзади? Все хорошо? (Здесь и далее Хамрелль говорит на очень примитивном и не очень правильном английском.)
(обратно)148
Тебе не укачало? Хочешь поблевать? Только скажи, я остановлю машину.
(обратно)149
Тебе нравится Лина, Фидель? Хорошенькая блондинка, правда? (англ.)
(обратно)150
Да, да… очень хорошенькая Лина (англ.).
(обратно)151
Мы наконец решили, куда поедем. Навестим друзей. И посмотрим, может быть, Лизеберг открыт. Ты знаешь Лизеберг? Замечательное место! (Лизеберг – парк аттракционов в Гётеборге.)
(обратно)152
А потом, может быть, в Осло. В Норвегии полно красивых блондинок. С большими титьками! Они все похожи на Лину (англ.).
(обратно)153
«Слитц» – шведский журнал стиля жизни для молодых мужчин (аналог «Плейбоя»).
(обратно)154
«Актуэль Рапорт» – откровенно порнографический журнал.
(обратно)155
Теперь ты должен заплатить за журнал. Почему ты не спросил меня в Стокгольме? У меня тонны таких журналов… сотни. Я говорил тебе, что занимался этим бизнесом. Хочешь почитать эту дрянь в машине? (англ.)
(обратно)156
Хочешь, чтобы я тебе все это купил? (англ.)
(обратно)157
Почему бы тебе не почитать испанские газеты? Или книжку? Ладно, Фидель, если тебе нравится этот мусор, посмотрим в машине – у меня там завалялись несколько эротических журналов (англ.).
(обратно)158
Вот это да! Мать твою, это же чистый Голливуд! (исп.)
(обратно)159
Слышишь, Фидель? Мы заедем в родной город Иоакима (англ.).
(обратно)160
Кёбке Кристен (1810–1848) – датский живописец и график, известнейший представитель золотого века датской живописи.
(обратно)161
Импасто (итал. impasto, дословно: тесто) – густое наложение красок, нередко употребляемое в живописи, в особенности для усиления светового эффекта.
(обратно)162
Бакелит – одна из первых искусственных смол для производства пластмасс.
(обратно)163
Импримату ра (от итал. imprimatura – первый слой краски) – термин, используемый в живописи: цветная тонировка поверхности уже готового белого грунта, вошедшая в практику итальянских художников с XVI века.
(обратно)164
Циннобер (сульфид ртути) – красно-оранжевый минерал, раньше используемый в качестве красителя. В настоящее время запрещен из-за ядовитости.
(обратно)165
Тератология – наука об уродствах.
(обратно)166
Caput mortuum (мертвая голова, лат.) – коричнево-лиловый пигмент, получаемый из оксида железа.
(обратно)167
Сандарак – ароматическая смола кустарника семейства кипарисовых. Идет на лаки, курения и т. д. Раньше употреблялся для бальзамирования.
(обратно)168
Гедехнитс-Кирхе (церковь памяти) – разбомбленная церковь в центре Берлина, оставленная как напоминание о войне.
(обратно)169
Виктор намекает, что в Аргентине после войны укрылось огромное количество нацистских преступников.
(обратно)170
Джакометти Альберто (1901–1966) – швейцарский скульптор, живописец и график, один из крупнейших мастеров XX века.
(обратно)171
«Хагельстам» – галерея в Хельсинки.
(обратно)172
Бид (англ. Bid) – цена спроса, наивысшая цена, по которой кто-либо желает купить предмет на аукционе.
(обратно)173
Крафт-Эбинг Рихард (1840–1902) – немецкий психиатр и невропатолог.
(обратно)174
Том-оф-Финланд (Tom of Finland, 1920–1991) – псевдоним Тоуко Лаксонена, финского художника, известного своим стилизованным гомоэротическим искусством. Оказал большое влияние на гомосексуальную культуру ХХ века.
(обратно)175
Александр Бард (род. 1961) – шведский политик, владелец конюшни, психоаналитик, писатель, музыкант и продюсер. Наиболее известен как член популярной группы «Army of Lovers».
(обратно)176
Ганг-банг – групповой секс (сленг).
(обратно)177
Либертизм – теория свободы без ограничений.
(обратно)178
«Как ты себя чувствуешь?» – «О’кей. Немножко болит голова, но ничего» (англ.).
(обратно)179
Ты должен отдохнуть, Фидель. Расслабься. Это было ошибкой с моей стороны брать тебя в такое место. Ужасной ошибкой. Я хотел, чтобы ты развлекся немного, побаловался с симпатичными девочками, но все вышло из-под контроля. Ты должен обещать мне остерегаться незнакомых мужчин в коже. Обещай! (англ.)
(обратно)180
Что ты здесь делаешь? Зачем ты приехал ко мне в Стокгольм? Скажи мне, по крайней мере, гей ты или нет. Я твой отец и имею право знать? (англ.)
(обратно)181
Пошли вы подальше! Оба. Извращенцы! (англ.)
(обратно)182
Ты что-нибудь понимаешь в компьютерах? (англ.)
(обратно)183
Я хочу узнать, кто этот «Господин Рюддигер». Это аватара, а мне нужно знать настоящее имя (англ.).
(обратно)184
А что происходит? Ты уже проверил все аппликации сервера? (англ.)
(обратно)185
Вот твоя аватара. Можешь написать прямо сейчас (англ.).
(обратно)186
Дэнни Кай (1913–1987) – американский комик, певец и актер.
(обратно)187
Галерея Колнагиса – одна из старейших художественных галерей Лондона, основана в 1760 году.
(обратно)188
Жан Дюбюффе (1901–1985) – французский художник и скульптор. Марк Ротко (Маркус Роткович) (1903–1970) – американский художник родом из Латвии, ведущий представитель абстрактного экспрессионизма, один из создателей живописи цветового поля.
(обратно)





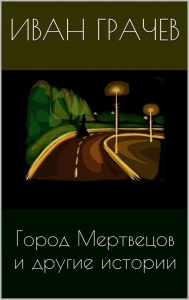
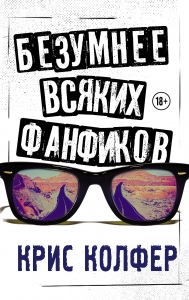

Комментарии к книге «Живописец теней», Карл-Йоганн Вальгрен
Всего 0 комментариев