Юрий Солоневич
ЗОНА ТЕНИ
И дивилась вся земля, следя за зверем; и поклонились дракону, который власть дал зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?
Откровение Святого Иоанна Богослова, гл.13(3-4).
1.1.
Это было похоже на ритуал, и Арсений придерживался его: в неясной ситуации лучше всего действовать по шаблону. К тому же так было легче настраивать себя на нужную тональность, нужные его делу ощущения. Хорошая настройка -- это уже очень много. Араб одобрил эту методику. Когда "чувствуешь ситуацию кожей", когда в глубине подсознания появляется предчувствие, интуиция -- появляется и мистическая способность видеть всё как бы со стороны. При этом становятся явными все скрытые связи между причиной и следствием, и отпадает необходимость в грубом воздействии на происходящие события.
"То, что спокойно, легко сохранить. То, что еще не показало признаков, легко направить. То, что слабо, легко разделить. То, что мелко, легко рассеять. Действие надо начать с того, чего еще нет. Если не знаешь, с чего начать -- начни с настоящего момента. Используй то, что судьба даёт тебе в руки. И не ставь конкретной цели: она придёт сама". Так его инструктировал не по годам мудрый Араб.
Из промежуточных, несущественных, казалось бы, результатов в итоге получается тот, который и был единственно необходим. И он, как правило, приходит внезапно. Зачастую тогда, когда его уже не ждёшь. Когда потеряна всякая надежда, и последняя капля страдания падает в переполненную чашу терпения. Но он приходит, и тогда становится ясно, что это он -- тот, которого ждали. Что это он -- такой, каким его ждали. Или почти такой, но это -- он. И этот его приход так же неотвратим, как неотвратим приход рассвета после длительной заполярной ночи; так же закономерен и неизбежен, как конечная остановка городского автобусного маршрута.
-- Кладбище, -- объявил водитель-кондуктор. -- Конечная остановка.
Арсений был единственным пассажиром этого рейса. Он вышел из ПАЗика и направился в сторону небольшого административного здания.
Ступеньки просевшего крыльца заунывно скрипели, добавляя тоски в и без того невесёлую атмосферу этой плачевной юдоли.
"И в этом чёрном-пречёрном доме стоял чёрный-пречёрный стол".
Стол действительно был чёрным. Наверное, раньше он украшал офис городского коммунального хозяйства. А теперь, совсем как человек, заканчивал свой жизненный путь на кладбище. И телефонный аппарат тоже был чёрным, модели, примерно, шестидесятых годов. На вставленной в специальное окошечко картонке был написан номер: 2-15-14.
Сидевший за столом "служащий" долго листал исписанные корявым почерком страницы "книги мёртвых", потом поднял на Арсения мутный взгляд и невнятно произнёс:
-- Райчук А. С. Сектор ашнадцать, номер шешш...
-- Пойдём, покажешь, -- перебил его Арсений и, похлопав по нагрудному карману куртки, добавил: -- Не обижу.
Настроение у "служащего" сразу улучшилось, и он, навесив на двери конторы ржавый замок, не закрывающийся на ключ, повёл Арсения по довольно неухоженному городскому кладбищу.
Могилы располагались как-то хаотично, бессистемно. Оградки наползали друг на друга, и было совсем непонятно, где здесь разбивка на сектора. Некоторые памятники совсем разрушились, покосились крестами, напоминая фигуры падающих людей. Надгробья заросли, затянулись пожухлой травой.
Запустение.
Вековая пыль забвения.
Кладбищенские джунгли.
Городские джунгли.
Джунгли в душе.
Цепкие лианы намертво опутали все живое, притянули к земле, упрятали в непроходимую чащу, где нет ни солнца, ни неба.
Есть ли отсюда выход?
"Что здесь было сто лет назад? -- подумал Арсений. -- Тоже кладбище? А двести лет назад? А две тысячи лет? Что беспокоило их тогда, когда они были живыми? Станут ли думать о нас, проходя мимо наших могил, те, кто будет жить через двести лет? А через две тысячи?"
Что здесь: конец или начало? Конец чего -- земных страданий? Начало чего -- страданий неземных? Или, может быть, вечный покой? Вечный сон, как исполнение всех желаний: самых заветных, самых несбыточных.
Особые состояния. Они накатывали на Арсения в Катынском лесу, на Бородинском поле, в Долине Смерти...
Покружив немного по лабиринту между оградами, "служащий" остановился у одной из могил и, указав заскорузлым пальцем на невысокий памятник из тёмной мраморной крошки, сказал:
-- Вот...
-- Ты уверен? -- переспросил его Арсений.
"Служащий" почесал рукой затылок и ответил:
-- Да чего уж там: мы с ним были друзьями.
-- Это как?
-- Ну, в школе вместе учились. Немного, -- было видно, что "служащий" врал напропалую в надежде на поминальную рюмку.
-- А потом?
-- А потом он с собой покончил.
-- Почему?
-- Да разве кто правду скажет! Одни одно говорят, другие -- другое. Только я в такие разговоры не лезу: мне своего горя хватает, -- и "служащий" вдруг с надрывом, с тоской в голосе добавил: -- Я и сам недавно вешался.
И он показал Арсению ещё довольно заметный след от верёвки на своей шее.
-- Ты это зря, -- сказал Арсений, а про себя подумал: "Мы все понемногу сходим с ума. А возможно, и кто-то нас сводит. Методично, расчётливо и даже как-то рутинно. По одному и тому же сценарию. Фантазия, что ли, у них не на высоте. Или чувствуют свою полную безнаказанность: кого бояться, когда на всех уровнях всё схвачено".
-- Да чего уж там, по мне никто не заплачет, -- сказал "служащий". -- Ну, правда, ведь!
"А по мне? -- подумал Арсений и более внимательно посмотрел на собеседника. -- Похоже, что мы с ним одного поля ягодки. Только я одет лучше".
-- Поп его отпевать отказался, -- и "служащий" с гордостью произнёс: -- Я отпевал.
-- Вот как, -- сказал Арсений.
-- Да чего уж там, -- повторил "служащий". -- Я здесь, считай, лет десять. Все молитвы наизусть знаю. Не то, что попы: мне в книжку смотреть не надо.
Арсений прочитал надпись на памятнике: всё верно. Фотографии не было: видимо, не успели ещё прикрепить. Лишь серый цементный овал указывал на предназначенное для неё место.
-- А что он, этот твой одноклассник, много пил?
-- Не знаю. Тут у каждого своё понятие на это дело. Он на "скорой" работал, а потом -- дальнобойщиком на фуре. -- Арсений при этих словах невольно вздрогнул. -- Может, залетел в какую "непонятку". А может, и баба довела.
На нижней плите памятника Арсений прочитал: "От жены и дочери. Помним, любим, скорбим". И чуть повыше -- годы жизни: "1967 -- 2000".
-- А с семьёй что стало? -- спросил он, заранее предвидя ответ.
-- Так уехали. Квартиру продали -- и уехали. Что тут непонятного? Не всякий сможет жить, где такое случилось.
-- А кому продали, знаешь?
-- Конечно, знаю: начальничек один купил. Басалыга его фамилия. В исполкоме сидит, -- "служащий" пригладил на затылке спутанные волосы. -- Маленький такой, но шустрый. Я его не люблю: он меня за мусор штрафовал, обмылок поганый. "Почему возле дома не прибрано?" А при чём тут я? Что я, в дворники к ним нанимался?
"Служащий" махнул в сердцах рукой:
-- Надоело всё. Хоть ты снова в петлю лезь!
-- Квартиры сейчас дешёвые? -- прервал его Арсений.
-- Да, конечно, уж этот своего не упустит. Из горла вырвет. А квартира хорошая была, красивая. Вся в порядке, и кухня плиткой обложена.
-- Ты что, был там?
-- Так меня же на поминки пригласили, -- в голосе "служащего" зазвучали хвастливые нотки. -- За то, что яму копал и отпел, как положено. Его друг даже деньги давал, но я не взял: я по совести делал, а не за деньги. Вот меня и пригласили, с полным уважением. Правда, не люблю я так: никого не знаешь и сидишь, как приблудный. Быстренько свои три рюмки выпил -- и к ребятам. У нас тут тоже сабантуй был. Да чего уж там! У нас как похороны -- так и сабантуй. Ну, правда, ведь!
Арсений достал портмоне, извлёк из него купюру и протянул "служащему".
-- Сразу видно, что ты хороший человек. Я тут побуду немного, а ты сходи за водкой. И закусить чего возьми. Давно ни с кем не выпивал просто так, от души.
На лице "служащего" мгновенно отразилась борьба между остатками человеческой гордости и непреодолимым желанием выпить. Некоторое время он находился в трансе, но потом всё-таки деньги взял.
-- Ты не думай: я ведь не всегда таким был. Я когда-то в школе труды преподавал. Жена, дети, квартира -- всё было, как у людей. Только никто ведь не знает свою судьбу.
-- Это верно, -- сказал Арсений.
-- Да на черта эта водка нужна! Не здесь будь сказано, -- и "служащий" перекрестился. -- На эти же деньги три вина получится.
-- Ну, пусть будет три вина, -- согласился Арсений.
-- Ты не думай: я тебя тоже как-нибудь отблагодарю. Хорошие люди должны помогать друг другу. Без этого -- пропадёшь.
При этих словах "служащий" отвернулся и торопливо зашагал между оградами к кладбищенским воротам.
-- А куда они уехали? -- бросил ему вслед Арсений.
Но "служащий" даже не оглянулся, а лишь неопределённо пожал в ответ плечами.
Примерно через полчаса Арсений отошёл от могилы и снова направился к конторе. Замка на двери не было. И когда он вошёл внутрь, то увидел, что за столом сидит маленький, лысый старичок с непропорционально большим носом -- "шнобелем" -- и с пугающе жёлтыми, совсем как у кошки, глазами.
Во Вселенной не бывает случайностей. Во Вселенной ничего не происходит просто так. И вещие сны потому и вещие, что рано или поздно сбываются.
Арсений сразу узнал его и подумал: "Ну, вот и встретились".
Старичок исподлобья посмотрел на Арсения и спросил:
-- Родственника проведывали?
-- Нет, сослуживца.
-- И денег Гришке дали?
-- Да, на вино.
-- Плакали ваши денежки, -- сказал лысый с плохо скрываемым злорадством.
-- Ну, и ладно, -- ответил Арсений. -- У меня их много.
Старик осмотрел Арсения с ног до головы и ехидно произнёс:
-- Не похоже.
-- Я просто маскируюсь.
-- А это -- похоже, -- и вдруг резко спросил: -- Что вы так смотрите на меня? Мы раньше не встречались?
-- Вас зовут Рокх? -- вопросом на вопрос ответил Арсений.
-- Нет, -- сказал лысый и уткнулся в какие-то обрывки бумаг, давая понять, что разговор окончен.
Арсений, не прощаясь, вышел из конторы, закрыл за собой дверь и, громко топая, спустился со скрипучего крыльца. Затем осторожно подошёл к открытой форточке окна и прислушался.
Через минуту в конторе раздались звуки телефонного номеронабирателя, и ещё через минуту старик негромко сказал:
-- Пришли кого-нибудь с машиной.
"Очень быстро всё началось, -- подумал Арсений. -- Почему? Что его насторожило? Мой интерес к могиле? Или я ему просто кого-то напомнил, и он заподозрил неладное? Если бы он был в чём-то уверен, он бы не смог этого скрыть: глаза бы его выдали".
Затем Арсений тихонько отошёл от конторы и направился к автобусной остановке. И пока он, в ожидании, курил там, на скамеечке под навесом, мимо пролетела вишнёвая "девятка" с затенёнными стёклами.
"Шикарная машина для такого захолустья, -- подумал Арсений. -- Выходит, я попал не в бровь, а в глаз".
Он совсем не удивился: тактические разработки Араба всегда давали нужный результат. Для непосвящённых это могло показаться мистикой. Но Арсений знал: это всего лишь профессионализм. Профессионализм в высшей степени. Сегодня Араб был бы доволен Арсением, очень доволен.
И потом, когда Арсений ехал в город, глотая пыль в душном салоне всё того же видавшего виды ПАЗика, он отметил, что его никто не преследует: дорога позади автобуса была пустынной. Значит, они уже просчитали ситуацию. И конечно знают, в какой гостинице он остановился. Тем более что она -- единственная в городе. Тоже профессионализм.
Арсению на мгновенье стало не по себе. "Неужели всё это происходит реально, со мной?" И он стал медленно и глубоко дышать, выпуская воздух из лёгких с задержками, как и учил всё тот же Араб. Это подействовало, и спокойствие вернулось. Вернулась и уверенность в своих силах, и вера в то, что Араб его выручит, если возникнут какие-нибудь осложнения.
Примерно на полдороге к городу Арсений увидел Гришку, который торопливо шагал по обочине в сторону кладбища с пакетом в руках. Арсению захотелось вернуться и хотя бы полчаса провести с Гришкой за пустым, никчемным, пьяным разговором. Но словно чья-то чужая воля, упрятанная в недрах подсознания, заставила его подавить это желание.
"А он действительно неплохой парень, -- подумал Арсений. -- Он, видимо, не из той компании. Конечно, не из той. Просто используют вслепую: принеси, подай... Надо как-нибудь ещё раз с ним встретиться".
Но будущее не обязано считаться с нашими желаниями.
Арсений никогда больше не встретился с Гришкой. А позже узнал, что вечером того же дня тот умер "от отравления алкоголем и легколетучими продуктами". И ещё через два дня его похоронили без почестей и лишнего шума, на "последнем месте работы".
Никто покойника не отпевал и тем более не оплакивал.
Один из его коллег, прикапывая неокрашенный крест из грубых сосновых брусков, сказал:
-- Надо было хоть на станке прострогать.
На что лысый старик бросил:
-- Осиновый кол надо было.
-- Почему осиновый?
-- Чтобы не вылез, иуда.
И старик злобно плюнул в не зарытую до конца могилу.
2.1.
Из Заполярного выехали в полдень: задержались, ожидая приезда кассирши из банка. До самого последнего момента было неясно, отдадут ли деньги сегодня. Поэтому и продуктов на дорогу не покупали. Арсений не хотел "спугнуть удачу". Он был суеверен и считал, что преждевременно сказать "гоп" -- накликать беду.
"Последний дюйм, всё решает последний дюйм".
Арсений изредка поглядывал на Филиппенко, пытаясь понять, волнуется ли тот. Но внешне Филиппенко был абсолютно спокоен. Он умел держать ситуацию под контролем. Должность начальника милиции научила многому. Да к тому же деньги делались не маленькие, и ради этого стоило выложиться на все сто. И Филиппенко выкладывался: его личные связи были задействованы правильно, и неожиданностей в сделках никогда не случалось. Не случилось их и в этот день. Кассирша приехала в двенадцать и первым делом отдала положенную сумму Филиппенко. А тот, отсчитав свою долю, передал остальные деньги Арсению. Арсений же, не пересчитывая, уложил пачки банкнот в чёрный полиэтиленовый пакет и сказал:
-- Ну вот, до весны можно отдыхать.
-- Ты подумай насчет консервов. Клубничное варенье заберу всё сразу, сколько ни привезёшь.
-- Боюсь, что заметёт, и придётся зимовать тут.
-- Ерунда, вытащим. Армия выручит. А замести может и в июле. Делаешь -- не бойся, боишься -- не делай.
Арсений знал, что армия придёт на помощь. Уже приходила, когда, машина встала позавчера на подъёме: кончилась солярка. Они, с напарником Миколой, сгоряча ещё пытались завести двигатель, но только аккумулятор посадили. По одному звонку Филиппенко из ближайшей части пришёл вездеход, заправил и завёл с толкача. Прямо в гору толкал со всем грузом, пока топливо не закачалось в насос, и КамАЗ не завёлся. Арсению было даже немного страшно. И он, когда машина взобралась на подъём, от нахлынувших чувств перегрузил в вездеход сетку картошки к неописуемой радости механика-водителя.
-- "Вертушку" пришлём, всё организуем, пока при власти, -- сказал Филиппенко. -- Ты только товар вози.
-- Ладно, -- согласился Арсений, -- приеду домой и позвоню. Варенье есть.
-- Не пропадёшь со мной, -- сказал Филиппенко.
Старый водитель Костя -- белорус из-под Гродно, -- у которого квартировали Арсений и Микола, жил в Заполярном с пятьдесят девятого года. Он рассказывал, что до армии Филиппенко был тихоней. А, отслужив два года в Афганистане, вернулся совершенно другим человеком: холодным, как ледяная глыба. Карьеру сделал быстро. Может, потому, что друзей всегда выручал, а враги его просто исчезали: кто на Большую землю, а кто и просто в землю. Слухи разные ходили. Но и начальство, и "крутые" с ним не конфликтовали: было в нём нечто такое, что внушало собеседнику какой-то, на первый взгляд, беспричинный, почти животный страх, даже ужас. И эта неведомая сила так и веяла, так и сквозила от всей его фигуры. Арсений как-то попытался взглянуть Филиппенко прямо в глаза. Но это было только раз. Арсений даже не понял, что тогда произошло: просто речь у него отнялась, и кровь в венах на мгновенье остановилась.
-- Верю, -- сказал он Филиппенко. -- Проведёшь?
-- До Мурманска, -- согласился тот.
И они сели в кабину КамАЗа, где за рулём дремал флегматичный Микола.
-- Давай газу, -- сказал ему Филиппенко. -- Через пару часов стемнеет.
Микола завёл машину, и они поехали в сторону Мурманска, не заезжая в Заполярный за продуктами.
"Ладно, по пути что-нибудь сообразим", -- подумал Арсений.
На КПП "Титовка" даже не останавливались: Филиппенко только помахал дежурному фуражкой в окно. Тот, очевидно, узнав пассажира, тоже махнул рукой: проезжайте.
Отъехав ещё немного в сторону Мурманска, они остановились в долине "привязать коней" у обочины.
Солнце уже касалось верхушек сопок и освещало склоны красноватым светом, отчего их поверхность казалась покрытой медью. Да так оно, собственно, и было: медь и никель валялись прямо под ногами, были вкраплены в камни, образуя на их гранях причудливые узоры.
Арсений всегда привозил красивые минералы с Кольского. И сейчас он спустился по каменистому откосу дороги немного вниз: в солнечных лучах тускло блеснуло что-то под голым кустиком.
Филиппенко и Микола знали об увлечении Арсения и не торопили его окриками.
Только под кустиком лежал не минерал с прожилками меди. Осыпавшиеся отчего-то камни содрали зелёный налёт на крупнокалиберной пулемётной гильзе, и она чуть поблёскивала полуобнажённым латунным боком. Но это была только гильза, а не снаряжённый патрон: Арсений видел, что она сплющена, как бы заклёпана со сквозной стороны. Он осторожно отодвинул камни и убедился, что гильза стрелянная. Затем поднял её и внимательно осмотрел. Да, это была гильза от патрона калибра 12,7 мм с заклёпанной наглухо "юбкой". В разрез "юбки" был вставлен какой-то тёмный материал: то ли резина, то ли кожа. Очевидно, для уплотнения. Арсений почувствовал, как лёгкий озноб пробежал по его телу.
Внезапный порыв ветра засвистел, завыл, пригибая к земле слабые, тонкие веточки. Осколок прошлого холодил ладонь, и этот холод проникал в самую потаённую глубину души.
"О чём думает птица, когда умирает?"
Наверное, о своих детях.
А о чём думают дети, когда умирают?
И покуда эта рота умирала,
Землю грызла, лёд глотала,
Кровью харкала в снегу,
Пожурили боевого генерала
И сказали, что отныне он пред Родиной в долгу!
... А они лежат, все двести, глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тысячи лет...
Затем Арсений вытер гильзу о спецовку и незаметно положил её в карман телогрейки. Потом, взяв для отвода глаз пару камней, вернулся к попутчикам.
Филиппенко и Микола наскоро перекусывали.
-- Тебе не предлагаю, -- сказал Арсению Филиппенко, кивнув на откупоренную бутылку водки.
-- Давай, Микола, езжай, -- сказал Арсений. -- Я на ходу переем. Что у нас в запасе?
-- Кусочек сала, -- ответил Микола. -- И хлеб заканчивается.
-- Знаю, -- сказал Арсений. -- В Мурманске купим.
Он машинально, не ощущая никакого вкуса, жевал бутерброд и смотрел в окно.
В опускающихся сумерках неясно различались телеграфные столбы, тянувшиеся вдоль дороги. Их подножья были высоко обложены крупными дикими камнями. И от этого столбы казались Арсению вереницей крестов над могильными холмами.
-- Это Долина Смерти? -- спросил он.
-- Теперь называется Долиной Славы, -- сказал Филиппенко. И, помолчав, добавил: -- Здесь костей больше, чем камней.
Потом резко схватил бутылку и отпил несколько больших глотков прямо из горлышка.
Двигатель натружено гудел на подъёмах. И телеграфные столбы медленно проплывали мимо, сливаясь с чернотой надвигающейся ночи.
Холодные камни Кольского полуострова.
Длинная вереница крестов.
Так, должно быть, выглядела и дорога на Рим после поражения восставших рабов.
Распятия.
Распятые на обочине рабы.
Многие из них ещё живы; и чуть слышные стоны слетают с их запёкшихся, окровавленных губ, и затихают, растворяясь в шелесте облетевшей листвы. Какие грехи искупают они столь мучительной смертью?
Шесть тысяч крестов вдоль дороги, ведущей в Вечный город.
Заплачено, заплачено сполна.
За что? За что надо платить такую цену?
2.2.
В Колу въехали уже затемно. И сразу же за ними увязалась тёмная иномарка с забрызганными грязью номерами. Она плотно "села на хвост" КамАЗу: не обгоняла и не отставала. Микола заметил её первым и зло проговорил:
-- Надо было в Заполярном закупаться.
Вопрос питания его беспокоил больше всего остального. "Море любит сильных, а сильные любят поесть".
Арсений промолчал: конечно, надо было. А Филиппенко, присмотревшись к легковушке, сказал:
-- Давай теперь без остановок, до поста на трассе.
Так и проскочили мимо Мурманска на одном дыхании. И остались без продуктов на дорогу.
На выездном посту ГАИ Микола притормозил. Филиппенко выскочил, проговорив на ходу:
-- Дальше -- жмите на всю железку. Я тут пару часов побуду. Не волнуйтесь: трассу на замок закроем.
Арсений видел в зеркало, как Филиппенко переговорил с гаишником, и тот остановил преследующую их иномарку, жезлом указав съехать с проезжей части на обочину. А Микола заметил с чувством гордости:
-- Этот -- не подведёт, -- потом добавил, похлопав ладонью по панели приборов: -- Ты уж тоже, родимый, постарайся.
И КамАЗ, резко набрав скорость, помчался по "дикой трассе", разрезая светом фар плотную темноту долгой заполярной ночи.
Обратная дорога домой всегда веселее. И, несмотря на все прошлые и предстоящие сложности этого рейса, настроение у Арсения было слегка приподнятое. Солярки в баках хватит до Питера, в кабине тепло и уютно, и только продовольственный вопрос оставался открытым. Правда, успокаивало то, что в инструментальном ящике были спрятаны две банки тушёнки, завёрнутые в промасленную бумагу -- неприкосновенный запас. Эх, ещё бы немного хлебушка!
Только хлебушка купить было негде: последняя надежда, коммерческий киоск на развилке у Оленегорска не работал. Свет внутри горел, но на стук никто не открывал.
-- Перепились, сволочи, -- злился Микола.
Минут пятнадцать ходили они вокруг "комка", но -- делать нечего -- несолоно хлебавши, поехали дальше.
-- Поищи хоть сухариков в бардачке, -- сказал сидевший за рулём Микола.
Арсений долго рылся в заваленном всякой мелочью бардачке и действительно нашёл две засохшие корочки.
-- Партизанский хлеб, -- уже веселее сказал Микола, разгрызая сухарик. -- Ничего, выживем. Партизаны же выжили. Хотя, конечно, у них ещё было партизанское сало.
-- У нас есть ещё партизанская тушёнка, -- в тон Миколе сказал Арсений.
-- Ну, это на потом. А пока давай закурим партизанского табачку, чтобы партизанская дорога короче была.
Дорога действительно была "партизанской": до самого Петрозаводска трасса не пересекала ни одного города. Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, Кемь, Сегежа, Медвежьегорск -- все они располагались в стороне. Останавливаться ночью в небольших посёлках вроде Зеленоборского или Пушного не имело смысла: там и днём в магазинах шаром покати. Сёмгу или пушнину, конечно, можно купить. Или на водку выменять. Но этого добра и на трассе хватает: браконьеры вывешивают свой товар на длинных палках, сидят терпеливо у костерка, заросшие, немытые. Одно слово -- хищники. Им что зверя убить, что человека. Человека даже лучше: не так опасно, да и прибыли побольше.
А что ему -- кругом пятьсот,
И кто кого переживёт,
Тот и докажет, кто был прав, когда припрут!
"Из тьмы выходят и во тьму возвращаются". Романтика.
-- Полезай на спальник, -- сказал Микола. -- Я буду рулить до упора. А ты хоть немного поспи, под утро сменишь.
Арсений снял сапоги, закинул телогрейку под голову и устроился на спальнике, укрывшись одеялом. Но уснул не сразу: долго ещё сознание блуждало в обрывках дневных воспоминаний, рисуя фантасмагорические, иррациональные образы.
Вооружённые партизаны, костры вдоль трассы.
Обгорелая, изрешечённая пулями фура в кювете под Беломорском.
И телеграфные столбы, тянущиеся далеко-далеко, к самому горизонту, где в заходящих лучах багрового солнца медленно, как на проявляющейся фотобумаге, вырисовывалась фигура Сфинкса.
Там, внутри Сфинкса, было скрыто нечто важное.
Там была тайна.
Великая тайна.
Тайна жизни и смерти...
2.3.
Когда Микола разбудил Арсения, было ещё темно. Но приближение рассвета уже угадывалось: верхушки деревьев на восточной стороне трассы приобрели довольно
различимые контуры и не сливались больше с ночным небом в сплошное чёрное "ничто".
-- Где мы? -- спросил Арсений.
-- Кемь "на траверзе".
-- Ну ты и дал!
-- Так пошло: дорога под колёса сама ложилась. Не поверишь: не заметил, как время пролетело. Музыку включил, сигарету -- в зубы, и думал о своём. Флот вспомнил, так ещё, "свой родны кут". И спать не хотелось. Я бы всё время только по ночам и ездил. Не знаю почему. Всё какое-то другое. Даже двигатель -- и тот по-другому работает: чисто, без надрыва.
Машина стояла на обочине с включёнными габаритами.
Арсений обулся и перебрался за руль.
-- Поглядывай за зарядкой, -- предупредил Микола, ложась на согретый спальник.
-- Проблемы? -- спросил его Арсений.
Но Микола не ответил: он уже спал сном праведника.
Арсений включил зажигание, отметив про себя, что основной бак был заполнен только на четверть. "В Сегеже заправлюсь, чтобы не переливаться", -- подумал он и завёл двигатель.
Только дотянуть до Сегежи оказалось не так уж и просто: проблемы с зарядкой начались сразу. Стрелка амперметра вела себя неестественно: она резко прыгала с "плюса" на "минус" и затем, так же резко, возвращалась обратно на "плюс". Свет фар был то тускло-жёлтым, то ярко-белым. Арсений пытался найти те обороты двигателя, на которых генератор давал более-менее стабильный ток. И на некоторое время это удалось. Он снизил скорость до шестидесяти и ехал так больше часа, пока окончательно не рассвело. А тогда выключил все потребители и снова добавил скорость.
Так, с горем пополам, он всё же дотянул до заправки.
Трое шустрых пацанов, по виду лет семи-восьми, мигом вставили заправочный пистолет в горловину и заполнили бак. Арсений, не глуша двигатель, рассчитался в кассе за солярку и ссыпал одному из мальцов в озябшие ладони рубля три мелочи от сдачи. Потом заехал на небольшую стоянку у края заправки и только там выключил зажигание.
Ещё с полчаса Арсений сидел в раздумье: жалко было будить Миколу, но -- ничего не попишешь -- пришлось.
Судя по всему, неисправность была пустяковая: интегральные схемы на генераторах приходилось менять, как перчатки. Иногда и на сотню километров не хватало.
-- Давно говорю, надо ставить реле, -- ворчал спросонья Микола. -- На всех армейских машинах по сто лет служат.
-- Дома переделаем, -- согласился Арсений.
Они подняли кабину, и Микола, прихватив отвёртку, склонился над генератором.
Арсений, по привычке, начал осматривать двигатель снаружи и вдруг увидел, что из "развала" стекает тоненькая струйка маслянистой жидкости.
-- Слышь, Микола, топливо подтекает, -- сказал он.
-- Пришла беда -- отворяй ворота, -- ответил Микола и, поковырявшись в паутине трубок, идущих от топливного насоса к форсункам, добавил: -- Вот она, перетёрлась. Ещё немного -- и совсем обломается.
-- Я и чувствовал, что туповато идём, -- снова сказал Арсений. -- Но кто бы мог подумать... Столько проработала...
-- Нет ничего вечного. Это не беда, если найдена причина. Надо менять.
-- Такой в запасе нет.
-- Значит, надо искать, -- сказал Микола так, будто трубки высокого давления пачками валялись прямо на дороге.
Арсений ничего не ответил. Комплектация машины запчастями лежала на нём. Но не будешь ведь возить с собою всего по две, четыре и восемь штук. Раньше было проще: в любой базе, в любом колхозе помогали. Да и дальнобойщики, увидев коллегу в беде, никогда не проезжали мимо. Как-то, в Азове, парнишка всю ночь возил его по базам, пока не нашли крестовину. И денег не взял. Теперь и прокладку без денег не выпросишь...
Микола провозился с полчаса, меняя "шоколадку" на генераторе. Потом завёл двигатель "флажком" и по звуку определил наличие зарядки. Талант -- от Бога.
Затем заглушил двигатель рычагом на насосе и слез на землю со словами:
-- Дальше так ехать нельзя. На крайний случай, можем трубку совсем обрезать, а солярку в бак отвести. Но на семи "котлах" далеко не уедем. Начнётся вибрация -- ещё чего-нибудь отвалится.
Надо было искать ремонтную базу. Но где?
-- Эй, юнга, -- крикнул Микола одному из мальцов и поманил его к себе рукой.
Пацан подошёл и вопросительно кивнул головой: "Чего надо?"
-- Нам надо в базу. Не знаешь, где тут машины стоят? -- спросил его Микола.
Пацан немного подумал и сказал:
-- В городе есть.
-- А ближе, где-нибудь в колхозе? -- снова спросил Микола.
-- Тут -- километра два -- хлебопекарня есть. Там -- гараж. А если какой болт нужен, то там же, под забором, экскаватор разобранный, ничейный. С него можно что открутить, если подойдёт.
-- Молодцом, юнга, -- похвалил его Микола и сказал, обращаясь к Арсению: -- Вот из таких мужики получаются, -- и серьёзно, как к равному, обратился к пацану: -- Давай, земляк, сгоняем вместе: дорогу покажешь.
-- Не могу, мне работать надо, -- ответил пацан. -- Я с вами Ленку отправлю, от неё здесь всё равно никакого толку.
И он крикнул в сторону заправочных колонок:
-- Эй, Ленка, давай сюда!
Один из пацанов оказался девчонкой. Она подошла к машине, шмыгая носом, и спросила:
-- Ну, чего?
-- Покажи, где пекарня.
-- А назад подвезёте?
-- Обязательно, -- сказал Микола.
Пекарня была совсем рядом, в пригородном посёлке. Там Микола быстро снял с экскаватора трубку высокого давления: благо, резьба на накидных гайках была нужного размера. Правда, трубка была раза в два длиннее родной. Но Микола скрутил её змеевиком, обогнув вокруг стального пальца, торчавшего из гусеницы экскаватора.
Одна проблема была решена. Вторую решили на проходной, купив у сторожа две горяченькие, ароматные булки хлеба. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Ремонтироваться вернулись на заправку. Но первым делом решили перекусить, пока хлеб не остыл. Микола достал из загашника банку тушёнки, обтёр её чистой ветошью, умело открыл острым ножом. У Ленки из-под низко опущенной вязаной шапочки сверкнули голодные глаза. Микола поставил перед ней на фанерке, заменявшей столик, открытую банку и отрезал толстый ломоть хлеба.
-- Подкрепляйся.
Но Ленка есть не стала.
-- А Сашку с Васькой можно позвать? -- робко спросила она.
Микола вылез из кабины и позвал пацанов. Тех долго упрашивать не пришлось. Как стайка голодных птенцов, набросились они на еду, и через пару минут с тушёнкой и хлебом было покончено.
-- Добавки хотите? -- спросил их Микола.
-- Нет, спасибо. Вам тоже надо, -- ответил за всех Сашка.
Он, видимо, был в компании за старшего.
Васька, одетый в тоненькую ветровку, дрожал мелкой дрожью.
-- А ты чего без куртки? -- спросил его Микола.
Но тот не ответил.
-- Что молчишь? -- снова спросил Микола.
-- Да он не разговаривает, -- сказал Сашка. -- А куртку купим, как только денег насобираем.
-- И сколько стоит новая куртка? -- спросил его Микола.
-- Новую не надо, -- рассудительно сказала Ленка. -- Новую маманя пропьёт. Мы с соседом договорились: он за сто рублей свою старую отдаст.
-- За недельку соберём, -- сказал Сашка. -- На этой заправке машин совсем мало. А на городскую большие пацаны не пускают. Вот если бы вы нас в Питер отвезли...
И он мечтательно прикрыл глаза.
-- Отвезёте? -- жалобно попросила Ленка.
-- А что в Питере? -- спросил Микола.
-- Там на вокзалах можно жить. И заработки побольше. Наши пацаны туда ездили, рассказывали, -- сказал Сашка.
-- Надо подумать, -- ответил Микола.
И этого было достаточно. Пока Арсений и Микола ели вторую банку тушёнки и меняли трубку, детишки не отходили от них ни на шаг. Потом, опустив кабину и сев за руль, Микола сказал Арсению:
-- Слушай, дай мне сотку из моей доли.
-- Почему из твоей? Из общей, -- поправил его Арсений, достал из сумки деньги, выскочил из кабины и сказал Сашке: -- Купите куртку сегодня же, -- и с этими словами вложил мальцу в ладонь сто рублей.
Сашка, взяв деньги, спросил:
-- Так как на счёт Питера?
И Арсений виновато потупил глаза.
Не успевший остыть мотор взревел, набирая обороты.
Три маленькие фигурки на грязном от масляных пятен асфальте ещё долго отражались в зеркале заднего вида.
Утренний, редкий туман оседал слезинками на ветровом стекле, и Микола включил дворники.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
2.4.
В Питере Микола взбунтовался:
-- Надо горячего поесть, иначе -- помрём.
-- Ещё ни один голодный от диареи не умер, -- попытался отшутиться Арсений.
Но он и сам прекрасно понимал, что без горячей пищи долго не "навоюешь".
-- Ты бы что-нибудь умное сказал, что-нибудь по делу, -- продолжил Микола. -- Язвы и гастриты -- это ещё мелочи. Знаешь, какой процент заболеваемости раком желудка среди дальнобойщиков?
-- Какой?
-- Большой. Один раз в день горячего поесть -- это закон.
-- Не спорю, -- согласился Арсений. -- Но только не в Питере: уж очень дорого. Может и денег не хватить.
-- А где? В Луге? В Пскове? Там, что ли, бандитов нет? Или, может, в Стругах Красных? -- Микола намекал на тот случай, когда на заправке Арсений купил у цыган старый комбинезон в пакете, хотя примерить ему дали кожаную куртку. -- Да там скорее нарвёшься. А здесь им не до нас. Здесь иностранцев хватает. Нет, в Питере бандит закормленный. Ему в лом даже подходить к таким крестьянам, как мы.
В словах Миколы была доля правды: никогда не угадаешь, где споткнёшься. А голод давал о себе знать всё ощутимее. Из-за ремонта и замены колеса под Медвежьегорском Петрозаводск проскочили глубокой ночью: всё было закрыто. Арсений знал там одну столовку, где неплохо готовили рыбный суп и жареную треску. Но в этот раз отведать рыбки не удалось. От купленных в коммерческом киоске чипсов мучила изжога, и Арсений согласился с доводами Миколы. Они завернули на небольшую стоянку, уплатив охраннику сто рублей. Тот окинул их, небритых и грязных, презрительным взглядом и бросил сквозь зубы:
-- Надолго?
-- Нет. Нам бы поесть, где подешевле.
-- Тогда ставь машину сразу у ворот. А то потом не выедешь, -- сказал охранник. -- А поесть можно у нас, в кафе.
Арсений посмотрел в ту сторону, куда указал охранник, и увидел мини-кафе, у входа в которое толпились, громко крича, пьяные поляки в окружении таких же пьяных проституток.
-- Нет, здесь дорого, а мы -- на подсосе.
-- Топайте вниз по улице до канатной фабрики: там найдёте подешевле, -- охранник снова махнул рукой, указывая направление.
Микола развернул КамАЗ кабиной к воротам. Арсений захватил пластиковую сумку с деньгами. И, опасливо оглядываясь по сторонам, они вдвоём пошли искать столовую.
На этот раз им повезло: удалось не только прекрасно пообедать, но и закупить в буфете продуктов на оставшуюся дорогу. Довольный Микола укладывал в сумку поверх денег пакеты с пирожками и котлетами "в тесте". Купили и бутылку российской водки: угостить дома, в гараже, слесарей. Хотя до дома было немногим более, чем они уже проехали, но вторая половина дороги всегда пролетала быстрее. От Питера -- до Пскова, от Пскова -- до Опочки, а там -- Себеж. И дальше -- всё, дальше -- Беларусь. И не важно, что от границы ещё шестьсот километров пути. Беларусь -- это уже дома. В Беларуси -- все свои: и менты -- крохоборы на Лепельском посту, и рэкетиры на Олимпийской трассе. От них от всех даже откупаться приятно: всё равно как перекладывать деньги из одного своего кармана в другой. Свои -- не чужие, своим -- можно, своим -- не обидно.
Настроение после обеда поднялось. Да чего там говорить: для сытого человека мир прекраснее, чем для голодного. Но сытый человек и беспечнее: нет бы сначала выглянуть тихонько на улицу, хоть краешком глаза. Опьянели от еды, потеряли осторожность, выскочили из дверей с довольными улыбками на лице и -- прямо в милицейские объятия.
Два упитанных милиционера в новенькой, с иголочки, форме осмотрели растерявшихся от неожиданности Миколу и Арсения с головы до ног, и один из них резко спросил:
-- Документы!
Арсений и Микола протянули свои паспорта. Милиционер лениво перелистал странички обеих книжечек, нарочито небрежно посмотрел прописку, боковым зрением наблюдая за реакцией ребят, и снова резко сказал:
-- Ну что, братья-белорусы, почему нарушаем?
-- Что мы нарушили? -- спросил Арсений.
-- Закон, -- сказал милиционер. -- Закон об обязательной регистрации иногородних. Почему не зарегистрировались?
-- Мы только что приехали.
-- Слышал я эти сказки, -- усмехнулся милиционер и, обращаясь к своему напарнику, добавил: -- Ну, все, блин, до одного только сегодня приехали. Вчера в Питере ни души не было, ни одного человечка. А сегодня все раз -- и приехали. Заметь: ни один вчера не приехал -- все только сегодня!
Милиционер положил паспорта в нагрудный карман и сказал:
-- В отделе разберутся.
-- Командир, мы -- на КамАЗе, -- Арсений старался подавить волнение и говорить спокойно. -- Машина на стоянке, тут, недалеко. Час назад поставили. Охранник подтвердит. Мы поесть заходили да продуктов на дорогу взять.
-- Документы на машину, -- безразличным голосом сказал милиционер.
Арсений протянул техпаспорт.
-- Так, машина частная, -- констатировал милиционер. -- Что везём?
-- Метизы возили на Мурманск.
-- Что-что?
-- Болты, гайки разные, -- уточнил Арсений и протянул измятую накладную, проштампованную предусмотрительным Филиппенко.
Милиционер почитал накладную и сказал:
-- По датам сходится. По смыслу не сходится. Вы, ребятки, привыкли нас идиотами считать. Но даже идиоту понятно, что изготовить болты в Мурманске будет дешевле, чем оплатить только перевозку. Или в Мурманске заводов нет? Проверим и накладную: на предмет подлинности содержащихся в ней сведений.
Он сложил бумаги и сунул их в нагрудный карман к паспортам. Потом спросил:
-- В сумке что?
"Найдут деньги -- труба", -- подумал Арсений и ответил, раскрыв для обзора сумку:
-- Консервов купили, пирожков, пива пару банок.
Милиционер увидел бутылку водки и сказал:
-- Водка -- правильное пиво. Так, что ли? Пьёте за рулём?
-- За столом, -- вставил молчавший до сих пор Микола. -- Командир, войди в положение: нам ещё "пилять и пилять", каждая минута дорога.
-- А вы, ребятки, в наше положение входите? -- спросил второй милиционер.
-- Так не первый день на трассе, -- с этими словами Арсений достал из набитого мелкими купюрами портмоне сто рублей пятидесятками и протянул первому милиционеру.
Тот деньги не взял и сказал:
-- Издеваешься?
-- Ребята, мы же -- не чурбаны, -- снова сказал Арсений, добавив к купюрам ещё одну пятидесятку. -- Мы ведь палёную водку не возим. Сами, -- и он показал на бутылку, -- вот! -- в магазине покупаем.
-- Были бы чурбаны -- и разговор другой был бы, -- при этом милиционер, забравший документы, потрогал рукой висящую на поясе резиновую палку. -- Ты что, тарифов не знаешь?
-- На трассе полтинник -- выше головы, -- сказал Арсений.
-- Так то на трассе. А здесь вы так увязли, -- милиционер похлопал себя по нагрудному карману, -- что -- ох как! -- не скоро дома будете. А про машину сразу забудьте: заберут машину за оплату стоянки.
Микола шагнул немного вперёд, полез во внутренний карман телогрейки, достал ещё сотку и протянул милиционеру. На внешней стороне кисти руки на мгновение мелькнула флотская татуировка. Но милиционеру хватило этого мгновения: детали происходящего не ускользали от его цепкого взгляда.
-- Северный флот? -- спросил он.
-- Сильный флот, -- ответил Микола.
-- Боевая часть пять? -- снова спросил милиционер.
-- Угадал, -- подтвердил Микола. -- Командир отделения дизелистов.
-- А тут и угадывать нечего, раз на КамАЗе ездишь. А что, прикипел к Северу?
-- В Белоруссии нет морей, -- угрюмо ответил Микола.
-- Я на Тихоокеанском служил, -- сказал милиционер, но сказал уже более дружелюбно. -- Боевая часть три. А это -- спрячь.
И он отвёл в сторону руку Миколы с деньгами.
-- Тоже неплохо, -- сказал Микола, пряча деньги.
И было непонятно, к чему относятся его слова: то ли к службе на Тихоокеанском флоте, то ли к сохранённым, тяжким трудом заработанным деньгам.
-- Что же вы, ребятки, по Питеру гуляете: неприятностей мало? -- снова дружелюбно спросил милиционер, пряча полученные от Арсения купюры в задний карман брюк.
-- Так неприятностей всегда хватает, -- Микола перехватил инициативу разговора и доводил его до благополучного исхода. -- Обломались ночью в Карелии. Вторые сутки голодали. Вот на камбуз и завернули.
Милиционер вынул документы из нагрудного кармана и вернул их Арсению.
-- Никуда больше не заходите, -- сказал он. -- Если на стоянке будут проблемы -- мы тут патрулируем.
-- Спасибо, брат, -- сказал Микола.
-- Держи "краба", ответил милиционер и протянул на прощание руку.
Когда "стражи порядка" отошли довольно далеко, Микола сказал:
-- Славные денёчки: говоришь спасибо за то, что кто-то забрал себе твои деньги. Завтра за что благодарить будем? За то, что жену изнасиловали? Лучше бы я эти деньги пацанам отдал. Дети работают, а эти -- жируют.
И он зло сплюнул на асфальт.
-- Если бы нашли остальные деньги -- святая вода не спасла бы. А могли бы и бритвой по горлу, -- сказал Арсений.
-- Это -- точно. Вот что: водку под матрас, и "пилим" до дома без остановок. Хватит приключений.
-- Хватит, -- согласился Арсений.
Только кому есть дело до того, чего мы хотим и на что надеемся?
Мы много страдаем из-за несбывшихся надежд.
Наших надежд.
Мы не страдаем, если не сбылись надежды кого-то другого.
Тех, мимо кого мы проехали в этой жизни. Тех, кого оставили один на один с их бедой. Тех, кого мы, быть может, и не знали.
-- Год назад в Питере погиб Толик Невдах, -- сказал Арсений. -- Будто бы пьяный попал под тягач. Я раньше с ним иногда ездил. Толик не пил. Никогда не пил. Даже пива.
-- Людям свойственно меняться, -- ответил Микола. -- Я его никогда не знал.
-- Да, конечно, -- задумчиво протянул Арсений. -- Но иногда мне становится не по себе: если случится что-нибудь со мной, кто позаботится о моей семье?
-- Не забивай голову, -- сказал Микола. -- Хотя ты прав: не в самое лучшее время мы живём.
-- Я всё думаю о тех ребятишках, с заправки: я чувствую свою вину перед ними. И никак не могу понять, в чём она. Но она есть! Есть! -- Арсений стукнул кулаком по панели. -- А если есть вина -- есть и преступление.
2.5.
Из Питера до дома добрались немногим более чем за сутки. Ехали почти без остановок: на ходу и ели, и спали. Задержались на часок только в Опочке: заправились дешёвой соляркой у знакомого армянина -- председателя колхоза. Спросили попутный груз -- Амирханян часто давал им что-нибудь полулегальное: запчасти на сельхозтехнику, а то и целые трактора. Технику развозили по белорусским колхозам, где у Амирханяна крутились пронырливые посредники, "выкачивающие" по осени из братской республики дешёвое зерно и мясо. Старший брат всегда был умнее младшего. Но попутного груза не нашлось, и это скорее обрадовало, чем огорчило: заканчивалась вторая неделя скитаний.
В гараж Райсельхозтехники, где Арсений арендовал место под стоянку, приехали как раз к окончанию рабочего дня. Слесаря обрадовались: дармовая выпивка будет. Даже завгар пришёл: уж ему-то сам Бог велел. Арсений дал денег "гонцу" -- самому молодому -- и, пока тот бегал за угощением, написал на листочке завгару, что по машине сделать надо. Работяги тоже порасспросили, скорее ради приличия, как съездили, да потихоньку ворота в боксе на запор и -- к столу.
Арсений махнул граммов триста и, шепнув Миколе на ухо, потихонечку ушёл, прихватив пакет с деньгами. Последний дюйм ещё не пройден. Наутро надо было рассчитаться с долгами: картошку у людей под честное слово брали.
По пути домой Арсений заскочил только в магазин, купил пивка и конфет дочери. Других подарков домашним не вёз: они всегда после рейса ходили втроём на рынок, покупали всё необходимое. И цены ниже российских, и примерить можно -- со всех сторон лучше, чем брать наугад.
По неосвещённой лестнице поднялся Арсений на второй этаж, нажал кнопку звонка у дверей своей квартиры, и до его слуха донеслась знакомая мелодия. Но дверь никто не открыл. Арсений позвонил ещё раз и, выждав минуту, полез в карман за своими ключами.
В квартире никого не было, и Арсению стало обидно: летел домой, как ужаленный, а никто тебя и не ждёт.
"Так сегодня же пятница, -- осенило его. -- Точно, поехали ночевать к Марии, чтобы утром ближе было идти в молитвенный дом. Наверное, и днюют, и ночуют там, пока меня нет".
Не нравилась Арсению эта подружка жены: ощупает каждую вещь в квартире завистливыми глазами, осыплет льстивыми речами о том, как вы, мол, хорошо живёте, какая у вас семья дружная и как у вас всё ладится. А потом, будто невзначай, про Бога начинает: "Не собирай сокровища на земле, где тлен и ржа всё истребляют..." И получалось, в конце концов, что одна она праведная, а остальные -- грешники. Всё склоняла к "истинной" вере.
Арсений и сам до конца не знал, верил ли он в Бога. В церковь ходил от случая к случаю, но молился про себя, когда встречались по дороге увенчанные крестами купола. Водители-дальнобойщики не любят распространяться по этому поводу. Но у каждого на панели и распятие, и иконка. А как же: не нами установлено -- не нам и отменять. Старые люди плохому не научат. Бывалый водитель с интересной фамилией -- Боб -- в порыве душевного откровения сказал как-то Арсению:
-- Утром выходишь из дому -- перекрестись и три раза повтори: "Господи, помоги, Иисус Христос впереди!"
И Арсений повторял, особенно перед поездкой или когда нависала над ним какая-нибудь опасность. Вера в душе должна быть, а не на языке. В душе, пожалуй, даже закоренелые атеисты верят. Просто признаться боятся: гордыня одолевает. Человек совсем без веры -- ничто. Даже страшно представить такого человека, у которого нет ничего святого. У волка и то, поди, есть хоть капля любви -- к волчатам ли, к логову ли, -- есть хоть капля своего милосердия.
А Мария всегда молотила языком без устали. И выходило, если судить по её словам, что она -- святее самого Папы Римского.
Но Арсений терпел. У других водителей жёны -- оторви да брось. Деньги тянут, как насосом. Пьют, гуляют, пока мужики в рейсе. А его Анюта -- тихая. Её дома и не заметно. Даже после пьяных загулов -- чего греха таить, и такое бывало -- жена разборок не устраивала: посадит дочку на колени и плачет втихомолку. А с Марией сдружилась -- ну и пусть. Должны же и у неё свои интересы быть, должна же и она чем-то заниматься, пока Арсений в разъездах пропадает.
Ужинать Арсению не хотелось. А скорее лень было самому готовить. Он только скинул с себя грязное бельё и -- прямиком в ванну. Набрал воды погорячее -- благодать. Что ни говори, а дома -- это дома.
После ванны переоделся в чистое, выпил пивка и завалился спать.
Утром проснулся свежий, отдохнувший. Побрился, прихватил пакет с деньгами, список кредиторов и -- в гараж. "Двадцатьчетвёрка" завелась с пол-оборота: при нормальном уходе -- вечная машина. А по проходимости иностранному джипу не уступит. И у Арсения настроение снова поднялось: любил он свои машины, свой дом, свою семью. Быстренько проскочил в деревню, с шутками-прибаутками раздал деньги хозяевам. У тех тоже радость: тянут за стол, самогон в багажник суют.
Часа два Арсений на это дело потратил -- не больше. К дому подъехал -- совсем светло было. Забежал в подъезд и увидел то, чего в сумерках не заметил: почтовый ящик газетами забит. Арсений, ничего не соображая, открыл его, вынул газеты, зашёл в свою квартиру и сложил их аккуратной стопкой на столе.
Он не знал, зачем сделал это. И не понимал, какой в этом смысл: сложить газеты ровной стопкой на столе.
Просто, так было надо.
Может быть, для того, чтобы отделить прошлое от будущего.
Прошлое -- это то, что невозможно ни изменить, ни вернуть. Прошлое -- это то, что уже случилось. Случилось, случайно с нами произошло. Случайность, о которой мы не думали. Вернее, думали, что с нами это не произойдёт, не может произойти. С другими -- да. А с нами -- нет. С другими -- это закономерность. А с нами -- случайность. Случайность -- это то, чего мы не могли предвидеть. Или не хотели. Как отличить, что -- случайность, а что -- закономерность?
Во Вселенной не бывает случайностей. Во Вселенной всё происходит закономерно.
"Иисус сказал: Был человек богатый, у которого было много добра. Он сказал: Я использую мое добро, чтобы засеять, собрать, насадить, наполнить мои амбары плодами, дабы мне не нуждаться ни в чем... И в ту же ночь он умер".
Во Вселенной не бывает случайностей. Всё, что происходит во Вселенной -- закономерно.
Дабы мне не нуждаться ни в чем...
С нами этого не случится, не произойдёт, не может произойти.
2.6.
"Господи, помоги, Иисус Христос впереди!"
Перебрал Арсений все бумажки под телефоном -- нигде ни адреса, ни номера Марииного не нашёл.
"Господи, помоги, Иисус Христос впереди!"
Открыл дверки шифоньера -- всё на месте. Порылся в карманах висевших на вешалке костюмов жены -- пусто.
"Господи, помоги, Иисус Христос впереди!"
Заглянул в укромное место под сложенными на полке простынями -- ни документов жены, ни денег. Может, перепрятала?
Второпях набрал номер Миколы и услышал его сонный голос:
-- Алло.
-- Микола, моих дома нет.
-- Ты деньги раздал? -- спросил Микола.
-- Раздал, -- ответил Арсений.
-- Ну, так спи. Я вечером приду.
И повесил трубку.
"Чего это я, в самом деле? -- подумал Арсений. -- Просто надо съездить в молитвенный дом и забрать их. Сейчас всего лишь двенадцать часов. Съездить и забрать -- вот и все дела".
Он быстренько набросил на себя куртку и бегом спустился со второго этажа. Сел в машину и только там подумал, что не знает, в какой молитвенный дом ехать: в городе их было три.
"Ладно, -- подумал он, -- поеду наугад. Пол-Европы объехал, и в родном городе не заплутаю".
Через четверть часа он уже разговаривал со сторожем одного из таких домов.
-- У нас сегодня собрание не проводится, -- вежливо объяснил ему опрятный мужчина лет тридцати. -- Но пресвитер здесь. Если хотите, я могу его позвать.
-- А где сегодня...
Арсений не мог выговорить слово "собрание", которое совсем, по его мнению, не подходило в данном случае. Но сторож его понял.
-- Сегодня собрание у "субботников". Это на улице Майской.
Арсений поблагодарил сторожа и поехал на Майскую. Эта тихая улочка находилась на окраине города, за железнодорожным переездом.
Как назло, на переезде горел красный сигнал светофора. И Арсений, подпрыгивая, как на иголках, вынужден был ждать, пока пройдёт товарный поезд. А сразу же за переездом машина отчего-то заглохла. Внезапно остановилась, будто натолкнулась на невидимое препятствие.
Арсений покрутил двигатель стартером, но тот не заводился. Делать нечего -- пришлось поднимать капот. И причина сразу стала ясна: выскочил центральный провод из распределителя. Никогда в жизни не выскакивал, а тут вдруг выскочил. И главное -- непонятно отчего: ни вибрации, ни ударов не было. Наваждение какое-то. Арсений поставил провод на место, и машина снова заработала.
Нужный ему дом он увидел ещё издали: возле него стояли в ряд с десяток легковушек. Через приоткрытые двери дома были видны собравшиеся внутри празднично одетые люди. Арсений остановился так, чтобы не пропустить своих незамеченными, закурил и стал ждать.
Примерно через час из дома стали выходить верующие. Они, оживлённо разговаривая, расходились и разъезжались на машинах, но ни Марии, ни Ани с дочкой Арсений не увидел. Постепенно людской поток стал уменьшаться и, наконец, двери в доме закрылись и больше не открывались.
Арсений, чувствуя какую-то неловкость, вышел из машины и направился к дому. Он постучал в дверь, и ему открыл молодой, темноволосый парень, одетый в чёрные брюки и белую рубашку. Они поздоровались, и молодой человек вопросительно посмотрел на Арсения. Тот сказал:
-- Я хотел бы поговорить...
-- Я слушаю вас.
-- А вы здесь за старшего?
-- Да, -- улыбнулся молодой человек.
Он был невысокого роста, с густо покрытым оспинами лицом. Но это не портило его. А в глубине выразительных тёмных глаз то и дело мелькали огненные сполохи.
-- Меня зовут Дима, -- продолжал он. -- Просто Дима.
И снова приветливо улыбнулся.
Арсений тоже представился.
-- Давайте пройдём и поговорим, -- сказал Дима.
Они прошли в большую комнату и сели на длинную лавку у стены.
-- Я разыскиваю свою жену и дочку: их нет дома, -- начал Арсений.
Дима внимательно слушал.
-- Понимаете, я уезжал в командировку, а когда вернулся, дома никого не было. Я думаю, что они жили это время у Марии. Они вместе ходят молиться.
-- Они ходят к нам? -- спросил Дима.
-- Я не уверен.
-- Они ходят по субботам?
-- Наверное. Но я тоже не уверен. Понимаете, я не очень интересовался.
-- Понимаю, -- сказал Дима. -- Знаете что: я здесь недавно. Давайте мы позовём одну женщину. Она-то, уж точно, всех хорошо знает.
Дима вышел в смежную комнату и вернулся с маленькой, худой старушкой.
-- Мою жену зовут Аня, -- сказал Арсений старушке. -- Она с дочкой всё время ходит, с Олей. Шесть лет дочке. И с ними ещё одна женщина -- Мария. Я ищу их.
Старушка немного подумала и спросила:
-- А сегодня вы их не видели?
-- Нет, -- ответил Арсений.
-- Сегодня не было только Нины: она в больнице, -- сказала старушка, обращаясь к Диме.
-- А может, они к другим ходят? -- спросил старушку Дима. -- Может, вы их знаете?
Старушка снова немного подумала и сказала:
-- Чтобы с маленькой девочкой -- то такую Аню не знаю.
И старушка ушла.
-- Сейчас в городе очень много течений и толков христианской веры, -- сказал Арсению Дима. -- Мы исходим из того, что нельзя отступать от истины. То, что написано в священных книгах, нельзя менять по своей прихоти. Это обман и себя, и Бога. Но есть и другие течения. Я никого не осуждаю: каждый волен выбирать. Так что, может, ваши близкие ходят в другой молитвенный дом.
-- Я просто растерялся, -- признался Арсений. -- Вот и бросился их по городу искать. А к вам приехал потому, что в субботу только здесь собираются верующие.
-- Да, -- сказал Дима. -- Мы не отступаем от заповедей, данных нам Богом. Мы следуем слову Божьему, а не толкуем его в угоду своим желаниям. Но очень многие собираются в воскресенье. Вы не отчаивайтесь: найдутся ваши родные. Может быть, они уже дома и ждут вас.
-- Может быть, -- согласился Арсений, а про себя подумал: "Ну, и дурак я! Со стороны посмотреть -- полнейший дурак! И как это у них ещё хватает терпения со мной разговаривать?"
-- Вы извините, что я вас отвлёк, -- сказал он Диме.
-- Ну что вы! -- снова улыбнулся Дима. -- Вы можете придти в любое время и по любому делу. Я здесь для того, чтобы помогать людям -- верят они в Бога или нет.
Дима проводил Арсения до выхода и сказал на прощанье:
-- Я помолюсь за вас. У вас всё будет хорошо. Только вы не спешите сразу думать о плохом.
Арсений сел в машину и поехал домой.
Всю обратную дорогу он злился и на себя, и на жену, и на Марию. "Хоть бы записку написала, что ли, -- думал он о жене. -- Никакой серьёзности: полностью во власти этой Марии. Нет, с этим надо кончать! А то пустил всё на самотёк".
Он машинально прибавлял и прибавлял газу, пока, к своему удивлению, вдруг не заметил, что едет по городу со скоростью почти сто километров в час. Перед одним из перекрёстков пришлось даже экстренно тормозить, чтобы вписаться в поворот. Накладки тормозных колодок пронзительно завизжали, и от этого звука Арсений словно очнулся.
Куда это мы так торопимся?
Всю жизнь торопимся.
За деньгами, квартирой, машиной.
Поел -- не поел -- скорее дальше.
Поспал -- не поспал -- скорее дальше.
Поворот, ещё поворот -- скорее доехать, долететь, добежать...
Куда? Что там, в конце пути?
Остановиться бы, оглядеться...
Некогда: время не ждёт!
"Кто вперёд бежит, а кто -- наоборот".
Дима стоял на коленях, один, в огромной комнате, и тихо молился, склонив в смирении голову.
2.7.
Когда Арсений подъехал к своему дому, Микола уже ждал его, сидя на лавочке во дворе. Арсений поставил машину на обочину, освобождая узкий проезд. Потом вышел и закрыл дверцу на ключ.
-- Ты ко мне поднимался? -- спросил он Миколу, пожав ему руку.
-- Поднимался, закрыто.
-- Представляешь, моей дома нету.
-- Я тебе свою отдам, -- сказал Микола. -- И две банки краски. Дал бы больше, но нету.
-- Кроме шуток: как только мы уехали, так они и не появлялись.
-- С чего ты взял?
-- Газеты никто из ящика не вынимал.
Микола ничего не ответил. Они поднялись в квартиру и сели в кухне за стол, на котором ровной стопкой были сложены газеты. Наверное, вид этой стопки произвёл на Миколу сильное впечатление. Он потёр виски кончиками пальцев и, внимательно просмотрев даты на газетах, сказал:
-- Ты прав: со второго дня нашего отъезда их никто не забирал.
-- Я не знаю, что и подумать, -- сказал Арсений.
-- Ни записки, ничего?
-- Ничего.
-- У соседей спрашивал? Может, им сказала?
-- Нет, не спрашивал.
-- Ну так сходи и спроси.
Арсений вышел на площадку и позвонил в соседнюю квартиру. Через минуту дверь квартиры приоткрылась на цепочке, и соседка -- пожилая полная женщина-пенсионерка -- вопросительно посмотрела на Арсения. Тот поздоровался и спросил:
-- Вы моих не видели? А то я приехал, а их нету.
Женщина ничего не ответила, только отрицательно покачала головой.
-- А они ничего не просили передать? Может, записку? -- с надеждой спросил Арсений.
Но женщина снова покачала головой, словно не понимала, чего от неё хотят.
-- Ладно, извините, -- сказал Арсений.
Соседка захлопнула дверь и щёлкнула замком.
Арсений позвонил в другую квартиру, где жил бывший футболист. Тот открыл и, дохнув на Арсения перегаром, спросил:
-- Давно приехал? Ну, как там?
-- Да вчера приехал, а моих -- дома нет. Не знаешь, где они? Ничего не просили передать?
-- Не-а, -- ответил сосед, и спросил: -- "Сотку" потянешь?
-- Да нет, спасибо. Я -- с Миколой.
Футболист потерял всякий интерес к общению и тоже закрыл дверь.
В третьей квартире никого не было: там проживали муж и жена -- "челноки". И застать их дома было практически невозможно.
Арсений вернулся к Миколе.
-- Ну? -- вопросительно кивнул тот.
-- Никто -- ничего, -- ответил Арсений, присаживаясь за стол. -- Что делать -- не знаю.
-- Бабы, блин, как курицы: ни о чём не думают, -- сказал Микола. -- Куда она могла поехать?
Ехать Ане было некуда. Отец Арсения уже три года, как умер, и дом в деревне давно продали. А своих родных она не знала: выросла в интернате.
-- Некуда ей ехать, кроме как к Марии, -- сказал Арсений.
-- А где эта Мария живёт? -- спросил Микола.
-- Если бы я знал, -- ответил Арсений.
Микола выбил дробь пальцами по столу.
-- Лучше бы моя куда девалась, хоть на пару дней, -- пошутил он, но шутка не удалась.
На некоторое время воцарилось молчание, а потом Микола произнёс то, что оба они так не хотели говорить:
-- Надо звонить в милицию.
-- И что сказать?
-- Что есть, то и сказать.
Арсений всячески отгонял от себя мысль, что могло случиться что-то непоправимое. Он думал, что звонок в милицию может стать именно тем "водоразделом", той невидимой, тонкой гранью, из-за которой не будет возврата к прежнему, устоявшемуся укладу жизни. Он боялся, что этот звонок спровоцирует необратимый процесс "цепной реакции", спровоцирует "сход лавины", из-под которой уже невозможно будет выбраться. Поэтому он сказал:
-- Если бы что случилось, то у неё паспорт с собой.
Микола немного подумал и согласился.
Но несомненным было одно: надо что-то делать. И это угнетало. Угнетало то, что два серьёзных, сильных мужика не знали, как правильно поступить в сложившейся, не самой, казалось бы, трудной жизненной ситуации.
-- Ладно, -- наконец, сказал Арсений. -- Без паники: иди домой, а завтра я прочешу ещё раз все молитвенные дома. Должен ведь хоть кто-нибудь их знать. Человек -- не иголка.
На том и порешили. Микола пошёл домой, понёс деньги своей "ненаглядной", а Арсений остался один в пустой квартире.
Раньше Арсений никогда не оказывался в таком положении: дома всегда кто-то был. И теперь непривычное для него одиночество пугало, беспокоило, не давало посидеть на месте.
Одиноко было не только в квартире, но и в душе.
"Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек -- один..."
Он включил телевизор и почти сразу же выключил: голоса и музыка из динамика ещё больше подчёркивали пустоту дома. Ничего не хотелось делать: ни готовить ужин, ни раскладывать привезённые вещи, ни читать газеты.
Арсений сел за кухонный стол и стал смотреть в окно. Просто смотреть, не различая ничего, что происходило за стеклом. Он долго сидел, почти не двигаясь, как статуя. А потом, когда на улице зажглись фонари, открыл холодильник, налил из запотевшей бутылки полный стакан водки и выпил без закуски. Это помогло: через полчаса он уже спал, одетый, на диване.
"Волга" в эту ночь осталась стоять под окном.
2.8.
Наутро Арсений вскочил ни свет ни заря: часы в зале на стене показывали только половину пятого. Было ещё рано куда-то ехать, но снова лечь в постель он уже не мог: нетерпение овладело им, не давая ни минуты покоя.
Он вскипятил чайник и заварил крепкий чай. Этому его научил Микола, который считал крепкий и сладкий чай универсальным средством: пьяного -- протрезвит, больного -- вылечит, сонного -- взбодрит, а нервного -- успокоит. Так оно и случилось: приятная теплота разлилась по телу, и ситуация стала казаться не такой уж и безвыходной.
"Двадцатый век на Земле, -- думал Арсений. -- Со спутника теннисный шарик фотографируют. Так что просто исчезнуть никто не может. Даже если бы захотел -- всё равно не получится".
Он не сомневался, что Аня и Оля найдутся. Это его почти не беспокоило. Его беспокоило другое: почему они ушли из квартиры на такое продолжительное время? И выходило, что где-то в другом месте им было лучше, чем у себя дома. Почему? Их никто не обижал. Арсений, конечно, требовал порядка. Но ни разу не ударил ни жену, ни дочь. У Миколы, вон, через день -- "на ремень": то Вика ходит с "фонарями", то он сам поцарапанный. И -- ничего. Микола только отшучивается: "На дерево лазил".
Да, конечно, Арсений не вникал в те проблемы, которые могли быть у его жены. Собственно, никаких проблем быть и не могло: деньгами он обеспечивал, по бабам не таскался. Что ещё надо? Не мог же он сидеть с ней вечерами и мотать клубки с нитками. Каждый должен выполнять свои обязанности. Что тут непонятного? Единственно разумное объяснение, которое нашёл Арсений, так это то, что "с жиру бесятся". На работу ходить не надо, корову доить -- тоже. Свободного времени -- хоть отбавляй. Вот и "подъел хлеб шкуру". Так оно всегда бывает: взвалишь все проблемы на свои плечи, а вместо благодарности -- какие-то капризы, какие-то непонятные фокусы. Арсению стало обидно: получалось, что с ним не считались, его не ставили "ни в грош". Что он есть, что его нету...
До семи часов утра Арсений напился чаю, накурился до одури и пошёл заводить машину. В голове шумело, как после многодневной пьянки, и настроение было соответствующим.
"Подождите, куплю я вам новых шмоток на базаре! Будете вы у меня пахать, как папа Карло!"
К тому молитвенному дому, где вчера не было "собрания", он подъехал как раз с первыми посетителями. Арсений вышел из машины и стал у калитки, как контролёр на стадионе. Люди, проходившие мимо, с удивлением рассматривали его, но Арсению было "фиолетово": он еле сдерживал злость. Минут через пятнадцать к нему подошёл невысокий, седой старичок, поздоровался и спросил:
-- Вы кого-то ждёте?
Арсений вкратце описал ситуацию, с трудом скрывая своё раздражение.
-- Знаете что, -- сказал старичок, -- вам нет необходимости стоять у входа -- проходите внутрь. Я дам вам стульчик, и вы спокойно сядете у дверей. Вам будут видны все, кто приходит. А то здесь прохладно, да и неудобно. И ещё: напишите мне на листочке фамилию своих родных и номер вашего телефона. Я попробую вам помочь.
Предложение было разумным, и Арсений согласился со старичком. Он написал на листочке из блокнота всё, что было необходимо, отдал старичку и прошёл вслед за ним внутрь молитвенного дома.
Комната, в которой собирались верующие, была довольно большой, рассчитанной на человек сорок-пятьдесят. Вдоль стен стояли окрашенные в коричневый цвет скамейки, а посредине -- ряды складных стульев. У торцевой стены стоял стол, покрытый однотонной, тёмно-вишнёвой скатертью. Вместо икон под потолком висели красиво вышитые на ткани цитаты в золоченых багетовых рамках.
Арсений присел на скамейке у входной двери и стал наблюдать за происходящим. Празднично одетые люди разных возрастов -- мужчины и женщины, пожилые и дети -- постепенно заполняли комнату, рассаживаясь на стульях. За столом сели уже знакомый Арсению старичок и ещё двое мужчин помоложе. Старичок стал что-то негромко говорить, изредка поглядывая в лежащую перед ним раскрытую книгу. И шум в комнате постепенно затих, так что Арсений смог разбирать слова старичка. Но он не вникал в смысл этих слов, а внимательно рассматривал опоздавших, которые тихонько, стараясь не помешать остальным, пробирались к свободным местам. То ли в комнате, наконец, воцарилась полная тишина, то ли старичок начал говорить громче, но до Арсения стали долетать довольно отчётливые, хотя и не совсем понятные фразы.
-- Увидев это, я пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего, и Он сказал мне: сын человеческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить с тобою, -- монотонно произнёс старичок.
Арсений последовательно, стараясь никого не пропустить, рассматривал присутствующих.
-- И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю тебя, и ты скажешь им: "так говорит Господь Бог!" Будут ли они слушать, или не будут, ибо они мятежный дом; но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом; и говори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут, ибо они упрямы, -- продолжал старичок. -- Ты же, сын человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе; не будь упрям, как этот мятежный дом; открой уста твои и съешь, что Я дам тебе. И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней книжный свиток. И Он развернул его передо мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: "плач, и стон, и горе".
Ряд за рядом, кресло за креслом, человек за человеком -- Арсений не пропускал ни одного лица.
А пресвитер продолжал свою проповедь, и голос его крепчал, набирал силу:
-- ... И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными; и узнают, что Я Господь, когда совершу над ними Мое мщение.
Ни Ани, ни Оли, ни Марии среди пришедших не было. Дверь в доме оставалась приоткрытой, и Арсений, стараясь не привлекать к себе внимания, направился к выходу. Напоследок он услышал:
-- ...Путь праведника усеян деяниями злодеев и тиранов. Блажен тот, кто указывает несчастным и слабым путь к счастью, ибо он и есть истинный пастырь...
Арсений вернулся к своей машине: надо было ехать ко второму дому, пока оттуда не разошлись верующие.
Второй дом находился недалеко от рынка, и проехать к нему на машине не удалось: узенькая улочка была загромождена ящиками с товаром, прицепами, разнообразными тележками и прочим принадлежностями для торговли. Поэтому Арсений припарковался на соседней улице и пошёл к входным воротам пешком. Он не стал заходить внутрь дома: остался у калитки, греясь на солнышке. Оно взошло довольно высоко и немного согрело остывшую за ночь землю. Но приближение холодов уже угадывалось по некоторым почти незаметным приметам. И хотелось ещё хоть немного, ещё хоть чуть-чуть почувствовать прикосновение уходящего лета.
Арсений простоял около двух часов, пока последний посетитель не вышел из молитвенного дома. От непривычки -- за рулём-то всё время сидишь -- болела спина, и настроение совсем упало. Да ещё вдобавок ко всему налетели тёмные тучки и начал моросить дождик. День стал хмурым, и на душе опять заскреблись кошки.
"Хмарь такая на душе -- хоть петлю на шею..."
Оставалась ещё небольшая надежда на звонок старика-пресвитера, который утром взял листок с телефоном и другими данными. Эх, надежда, надежда! Кто хозяин над тобою?
"Господи, помоги, Иисус Христос впереди!" -- вот и всё, что приходило Арсению на ум.
Он незаметно от прохожих, тайком, как тать в ночи, перекрестился.
"Пресвятая Богородица... помоги".
И к ужасу своему понял, что за всю жизнь так ни разу по-настоящему и не молился: не умел. Даже "Отче наш" не знал: не было необходимости.
Что же делать?
Делать нечего: Арсений поехал домой. Он купил по дороге продуктов и бутылку водки -- вместо "Отче наш", -- оставил машину у подъезда и поднялся в свою квартиру. Где-то в глубине подсознания снова вспыхнула на какой-то миг надежда и тут же угасла: дома никого не было.
Положив продукты в холодильник, Арсений позвонил Миколе. Тот поднял трубку и пьяным голосом спросил:
-- Кто это?
-- Я это, -- не скрывая зла, ответил Арсений.
Ему было слышно, что у Миколы шумят и хохочут гости. Как можно было веселиться в такой день?
-- Слушай, Арсен, я сегодня гуляю, -- сказал Микола. -- Давай созвонимся завтра с утра.
-- Давай, -- согласился Арсений и положил трубку.
Потом он отогнал машину в гараж, вернулся домой и напился в одиночку. Напился так, что не помнил, как добрался до постели. Напился потому, что для него уже было очевидно: добром не кончится.
Я кричу -- не слышу крика,
Не вяжу от страха лыка,
Вижу плохо я,
На ветру меня качает...
"Кто здесь?" Слышу -- отвечает:
"Я, Нелёгкая!"
Как ни странно, но водка помогла. Помогла вопреки всем разумным рассуждениям всяких дипломированных врачей и психологов: утром он проснулся абсолютно спокойным, с вполне чётким планом действий.
В первую очередь Арсений ещё раз осмотрел все вещи: не хватало нескольких костюмов Ани, многих вещей Оли. И -- самое главное -- не было на месте двух чемоданов: большого и маленького. В ванной, в висевшем на стене зеркальном шкафчике, не было их зубных щёток. Значит, они собирались не спеша, и собирались надолго. Документов и шести тысяч долларов -- всех семейных сбережений -- тоже нигде не было.
Арсений порылся в коробке со старыми бумагами, которая лежала в антресолях шифоньера, и нашёл квитанции и бланки оплаты паспортов: Аня и Оля собирались ехать следующим летом на оздоровление в Италию. Он переписал номера и серии документов в свой блокнот и поставил коробку на место. Потом выбрал из альбомов подходящие фотографии жены и дочери и положил их в свой паспорт.
За завтраком допил стопку водки, оставшуюся с вечера: просто так, для "поддержки тонуса". Побрился, почистил зубы мятной пастой, надел костюм и пешком пошёл в милицию.
Это было, по мнению Арсения, единственно правильное решение.
2.9.
Эх, человек, человек! Как мало тебе надо! Нет, не пища и не воздух тебе жизненно необходимы. Нет, не свобода, за которую ты бьешься насмерть с незапамятных времён. И не любовь, которую ты воспеваешь и превозносишь до самых небес. Всё, что тебе надо в этой жизни, вмещается в одном-единственном коротком слове -- иллюзия. Иллюзия, которая ведёт тебя по замкнутому кругу, не отпуская и не подпуская. Иллюзия, как клочок ароматного сена, привязанного перед давно ослепшей лошадью, изо дня в день вращающей ворот подъёмника примитивной шахтёрской клети.
В вестибюле горотдела Арсений подошёл к окошку дежурного и сказал:
-- У меня пропали жена и дочь.
В застеклённой, отгороженной части вестибюля находились два офицера: один сидел за пультом, а второй -- майор -- перебирал бумаги у окна приёма посетителей. На руке у майора была повязка с надписью: "Дежурный".
-- Как пропали? Поподробнее, пожалуйста, -- уточнил майор.
-- Я две недели был в отъезде, а когда вернулся, дома их не было.
-- Ну и что?
-- Газеты за две недели лежали в почтовом ящике: их никто не вынимал.
-- Ну и что? -- повторил дежурный.
-- Нет их документов, нет денег, и соседи их не видели.
-- Ну и что? -- дежурный заладил, как попугай.
-- Их нет. Я дома уже два дня, а их нет. Их надо искать.
Арсений понемногу терял терпение.
-- В квартире сохранились следы преступления? -- спросил дежурный.
-- Какие следы? -- не понял Арсений.
-- Кровь, беспорядок, поломанные вещи, следы борьбы, пропажа ценностей.
-- Нет, -- опешил Арсений. -- Всё в порядке.
Дежурный наклонился к окошечку и застыл на мгновенье, а потом спросил:
-- Давно в запое?
Видимо, уловил запах перегара, как Арсений ни старался чистить зубы.
-- Я только вчера вечером немного выпил, -- сказал он.
-- Если бы немного, то и слышно не было бы, -- разумно возразил дежурный и добавил: -- Идите домой и не морочьте тут голову: у нас есть и более важные дела, чем ваши семейные проблемы решать.
И заметив, что Арсений не торопится отойти от окошка, сказал с решительной интонацией:
-- Сейчас доставим, куда следует, и неприятности я вам гарантирую, -- и, обращаясь к сослуживцу у пульта, сказал: -- Обнаглели до предела: в милицию пьяными приходят. Права тут качают.
-- Кто это там такой неугомонный? -- сослуживец дежурного выглянул из-за пульта и добавил хриплым голосом, подражая Высоцкому-Жеглову: -- Ты ещё не угомонился?
-- Не надо мне тыкать, -- ответил Арсений, не скрывая злые интонации в голосе. -- Я не за милостыней пришёл. Вам государство деньги платит. Из моего кармана, между прочим.
-- Ух ты какой! -- проговорил тот, который сидел за пультом, нажимая какие-то кнопки на клавиатуре.
Арсений уже собирался отойти от окошечка, как вдруг два омоновца, стоявшие у входных дверей, подошли незаметно сзади и уверенно схватили его за руки. Сгоряча он ещё попытался высвободиться, но омоновцы отработанным движением заломили ему руки за спину, и резкая боль не давала Арсению возможности хоть немного пошевелиться.
-- За что? -- спросил Арсений, пытаясь повернуться лицом к омоновцам.
Но те безразлично молчали. Минут через пять в поле зрения Арсения появился невысокий капитан в очках и спросил у дежурного в окошке:
-- Куда его?
-- В наркологию, -- услышал Арсений голос дежурного. -- А если не примут -- вези обратно. Мы его, кормильца, обязательно примем.
Всё произошло так быстро, так неожиданно и так нелепо, что Арсений растерялся. Он стоял, глядя по сторонам сумасшедшими глазами, потеряв всякую способность рационально оценивать ситуацию. Иллюзия рассыпалась на мелкие осколки, и жизнь потеряла всякий осознанный смысл.
Омоновцы вывели Арсения на улицу, как глупого бычка на верёвочке, и запихнули в кузов легкового УАЗика, приспособленного для перевозки нарушителей.
Очкастый капитан сел в кабину к водителю и сказал:
-- В наркологию.
УАЗик тронулся с места и поехал по улице, а Арсений всё никак не мог сообразить, что, в конце концов, происходит.
Перед входом в наркологический стационар УАЗик остановился, и водитель, вооружившись резиновой палкой, вывел Арсения из машины. Капитан нажал кнопку вызова, и через минуту обитая железом и окрашенная в серый цвет дверь открылась. Арсения ввели в приёмный покой, усадили на покрытую клеёнкой кушетку и оставили на попечение водителя, который всем своим видом показывал, что любые шутки с ним закончатся плохо. Арсений даже и не думал сопротивляться. Он вообще не понимал, чего от него хотят. Он не собирался отрицать того, что выпивал: всё равно анализ будет положительным. Для этого не было необходимости везти его к врачам: достаточно было дать "дыхнуть в трубочку". Но он ведь ничего такого не сделал, чтобы возить его, как преступника.
Арсений с нетерпением ждал, когда всё это "недоразумение" закончится, и можно будет вернуться домой. А назавтра сделать всё по-другому, по-умному.
Минут через пятнадцать за Арсением пришёл капитан и отвёл его в кабинет к врачу -- пожилому, какому-то отстранённому, не от мира сего, мужчине. Врач, постоянно поправляя спадающие с носа очки, заполнил медицинскую карточку, узнав у Арсения необходимые данные, и спросил:
-- Сколько дней вы уже пьёте без перерыва?
-- Три дня, -- честно ответил Арсений.
-- А раньше запои были?
-- Не было никаких запоев.
-- Какие у вас отношения в семье? Ваши родные, что, ушли из дома?
-- Какое вам до этого дело? -- с оттенком грубости, вопросом на вопрос ответил Арсений.
Врач что-то долго писал в карточке, а Арсений ждал, когда у него возьмут кровь на анализ.
-- С какого возраста вы пьёте? -- спросил врач.
-- С совершеннолетнего, -- ответил Арсений.
Врач только кивнул головой и снова стал писать в карточке. А потом спросил у капитана:
-- Кто направляет?
-- Пишите: участковый, -- сказал капитан. -- А завтра он всё оформит. Мы свободны?
-- Да, -- сказал врач.
Капитан и водитель ушли.
-- А мне что делать? -- спросил Арсений.
-- Сейчас, -- сказал врач и, приоткрыв дверь, кого-то позвал.
В кабинет вошла пожилая женщина из медперсонала, равнодушно взглянула на Арсения и спросила у врача:
-- Наш клиент?
-- Да, -- сказал врач. -- Дайте ему переодеться и покажите койку.
-- Какую койку? -- не понял Арсений.
Осколки иллюзии стали сами по себе складываться в нечто новое, но это новое было совсем не похоже на старое. Старое в этом новом было искажено до неузнаваемости и выглядело, как уродливое отражение в кривом зеркале. Уродливому отражению, чтобы стать реальностью, много не надо: достаточно, чтобы на него смотрели, не отрываясь. Достаточно укрыть от взоров прекрасный оригинал, упрятать его подальше с глаз, чтобы никто не смог сравнить, чтобы никто не смог усомниться. Усомниться в том, что кривое подобие -- это и есть единственно возможная правда на земле.
2.10.
Пространство и время -- относительны. Их не замечаешь на свободе, когда нет никаких границ, никаких запретов. Но они становятся совсем другими, когда непреодолимым препятствием на пути встаёт жёсткий, грубый, унизительный запрет: нельзя! Не просто нельзя, а именно тебе нельзя. Именно тебе. Потому, что ты -- не такой, как все. Ты -- изгой, ничтожество, раб.
В коридоре, у стенки, стояла койка, на которой лежал привязанный бинтами за руки и ноги небритый мужик с растрёпанной рыжей шевелюрой. Видимо, он обессилел от бесплодных попыток сбросить с себя путы, и отдыхал, тяжело дыша и безумно вращая глазными яблоками.
-- Успокойся, успокойся, Малашкин, -- сказала женщина-медработник, проходя мимо привязанного.
Эта картина настолько поразила Арсения, что он окончательно впал в транс. Он даже не пытался задавать какие бы то ни было вопросы. Он стал воспринимать происходящее таким, какое оно есть, без своей собственной критической оценки, без размышлений отдаваясь влекущему его течению жизни. Жизни непонятной, непоследовательной, состоящей из нелепых, не имеющих видимой связи фрагментов.
-- Арсен! -- вдруг услышал он своё имя и оглянулся.
Из дверей палаты выглядывали её обитатели: глазеть на новенького было хоть каким-то развлечением.
-- Арсен, это я -- Тигран.
Арсений узнал в одном из пациентов водителя-армянина по прозвищу Тигра, образованному от его имени.
Женщина-медработник спросила Тиграна:
-- У вас есть место в палате?
-- Да, -- ответил Тигран и, искренне обрадовавшись неожиданной встрече, сказал Арсению: -- Давай ко мне, братишка.
Он взял Арсения за руку и провёл, как ребёнка, к свободной койке.
-- Он первый раз, -- сказала женщина-медработник. -- Так что ты присмотри за другом.
-- Конечно, присмотрю, -- заверил её Тигран.
Он так и не избавился от своего кавказского акцента, хотя жил в Белоруссии уже много лет.
-- Где я? -- спросил его Арсений.
-- Э, да ты совсем плохо выглядишь, -- сказал Тигран, произнося слово "плохо" через "ё". -- Подожди: сейчас поправим дело.
Он полез в платяной шкаф и откуда-то из-под потолка достал зеленую пластиковую бутылочку от "фанты" и небольшой пластиковый стаканчик. Открыв пробку, Тигран налил полстаканчика жидкости и протянул Арсению. Тот выпил. Это была водка.
-- Ну, как? -- спросил Тигран.
Арсений только несколько раз кивнул головой.
Тигран засмеялся, довольный тем, что помог товарищу, и спросил:
-- А помнишь, как Вагизу картошку возили?
-- Да, -- снова кивнул головой Арсений.
-- Я тут пацанам рассказывал, а они не верят, -- сказал Тигран, указывая на двух других пациентов, сидевших на своих кроватях. -- Вот человек подтвердит.
Арсений не понимал, что надо подтвердить, но согласно кивнул головой.
Выпитая без закуски водка подействовала неожиданно сильно, и Арсений сказал, ни к кому не обращаясь:
-- Сейчас я с ними разберусь.
Тигран присел к нему на постель и сказал:
-- Не надо, Арсен: к кровати привяжут.
-- За что они меня? -- спросил Арсен.
-- Не связывайся с ними, -- посоветовал Тигран.
А третий пациент палаты, бородатый мужик лет тридцати, только ухмыльнулся:
-- Не переживай, здесь все такие: всех ни за что повязали.
Но Арсений продолжал попытки встать и выйти из палаты. Тогда Тигран попросил:
-- Потерпи минуточку, сейчас мы всё уладим.
И выбежал в коридор. А через минуту-другую вернулся с молодой медсестрой, в руке у которой был шприц.
-- Вот, Светик, -- сказал Тигран медсестре, -- совсем другу плохо.
-- Только ради тебя, -- сказала Светик Тиграну и безапелляционно добавила, обращаясь к Арсению: -- Ложитесь лицом вниз.
Арсений послушно лёг, и Светик сделала ему укол пониже спины. Сделала быстро и так профессионально, что Арсений даже не почувствовал боли.
-- Сводите его в туалет, -- сказала, уходя, Светик.
Арсений не понял последней фразы. Он многих вещей не понимал в этот день. Многих элементарных вещей, смысл которых ему открылся немного позже.
-- Пойдём, сходим, перекурим, -- сказал Тигран Арсению, и тот согласился.
Но встать с постели оказалось не так просто, и Тигран помог ему сделать это. Невесть откуда взявшийся туман обволакивал все предметы вокруг, и Арсений совсем потерял ориентацию. Ему стало казаться, что он -- это не он, и голос Тиграна доносился откуда-то издалека. Последнее, что он запомнил в этот день, это странные, перекошенные и неестественно вытянутые лица. Лица внушали какой-то животный страх, в них таилась опасность, и Арсений боялся повернуться к ним спиной. Он знал -- и не сомневался в истинности этого неизвестно откуда взявшегося знания, -- он знал, что, как только повернётся к этим лицам спиной, они набросятся на него.
"А ты, сын человеческий, не бойся речей их и не страшись лица их".
2.11.
Микола разыскал Арсения только к концу следующего дня. Он пришёл в комнату свиданий, принёс передачу: банку с горячими пельменями в масле, хлеб и кефир.
-- Пиво не смог пронести: забрали, гады, на входе, -- сокрушался он.
И потом, глядя, как Арсений с жадностью ест, добавил:
-- Не отчаивайся: выдернем.
-- Когда? -- спросил Арсений.
-- Не раньше, чем через десять дней, -- и, уловив недоуменный взгляд Арсения, пояснил: -- Тебе же лучше будет. Я их систему знаю. Но мы их обезвредим, только надо потерпеть.
Микола действительно знал эту систему. Его Вика работала в горполиклинике и была на короткой ноге со многими влиятельными медиками в городе.
-- Ну, десять дней -- это не десять лет, -- согласился Арсений.
Это был уже не тот Арсений, которого раньше знал Микола. За последние сутки он пережил и передумал больше, чем, казалось, за всю свою предыдущую жизнь.
"Сам виноват: сам пришёл, сам напросился. Никто не тянул ни за рукав, ни за язык. Вроде, взрослый человек, а жизни не знаешь, -- укорял он себя, ворочаясь на больничной койке. -- Столько вёрст исколесил, столько видел-перевидел, а ума не нажил. Забыл, кто такие менты; забыл, как с ними разговаривать надо. Нашел, у кого сочувствие искать! Не так это делается, не так. Нужны либо блат, либо деньги. В любом случае заходить с чёрного хода надо: не подмажешь -- не поедешь. Или хитрость какую придумать? А если нет хитрости? Если привык верить тому, что на бумаге написано? -- спрашивал он себя, и сам же отвечал: -- Тогда сиди в психушке или в зоне. И там, и там -- решётки на окнах, -- и подводил итог: -- Дураком был -- дураком и остался. Обидно, но это -- правда".
Да, за последние сутки он стал гораздо мудрее. Он стал гораздо опытнее и старше. Он больше не бросался на железные прутья решётки, как молодой волк в зоопарке. Он терпеливо рассматривал тех, кто был по другую сторону жизни, выжидая, когда наступит его миг, когда придёт момент его торжества.
2.12.
Тигран был настоящим другом. Если бы не он, наломал бы Арсений дров в очередной раз. Но Тигран от природы обладал способностью уговорить кого хочешь. Он умел так просить, что отказать ему было невозможно.
И тогда, когда они везли двумя фурами картошку Вагизу -- азербайджанцу из Питера, -- и тогда Тигран был душой компании. Они остановились переночевать на стоянке возле Пскова. Уже подмораживало, и холодный ветер пронизывал до костей, когда Арсений перебегал в кабину к Тиграну, чтобы всем вместе поужинать.
-- Холодно, Вагиз, -- так и сказал Тигран.
-- Холодно, -- согласился Вагиз.
-- Нет, ты какой-то нерусский, -- снова сказал Тигран.
-- Почему я нерусский? -- серьёзно спросил Вагиз. -- У меня паспорт русский.
-- Русский человек без бутылки за стол не садится, -- продолжал свою линию Тигран. -- Надо бы чем согреться.
-- Нет водка, -- отрезал Вагиз.
-- А если подумать? -- настаивал Тигран. -- Может, где-нибудь под картошкой завалялась?
-- Откуда знаешь? -- Вагиз крутился на сидении, как будто его шилом кололи.
-- Так не первый раз еду, -- сказал Тигран.
-- Далеко стоит, не достанешь.
-- Я не достану? -- Тигран скинул телогрейку и выскочил из кабины.
-- Почему все водители такие пьяницы? -- спросил Вагиз у Арсения.
-- Работа такая, -- усмехнулся тот в ответ.
Из кабины было слышно, как Тигран шурудит в фуре. Минут через десять-пятнадцать он вернулся, весь в пыли, держа между пальцами каждой руки по три бутылки водки.
-- Вах! Вах! -- застонал Вагиз, хватаясь за голову. -- Зачем так много?
-- Чтобы второй раз не лазить, -- резонно ответил Тигран.
По его лицу Арсений определил, что седьмая бутылка была уже у Тиграна в желудке.
2.13.
-- Тут свои порядки, -- учил Тигран Арсения на следующее утро, когда тот пришёл в себя. -- Если сам сдался -- через десять дней могут отпустить, если жена сдала -- она может и забрать, а если менты привели -- месяц без разговоров. А могут и на второй срок оставить.
-- Разве кто-нибудь сам приходит? -- удивился Арсений.
-- Конечно, -- сказал Тигран и, понизив голос, добавил: -- Коля-борода сам пришёл: чтоб не посадили, время тянет. И дедушка сам пришёл: летом в сарае живёт, а на зиму сюда приходит.
-- А ты? -- спросил Арсений.
-- Меня участковый оформил, -- вздохнул Тигран. -- Моё дело неважно: скоро суд.
-- Какой суд?
-- В ЛТП посадят, как пить дать посадят: участковый злой на меня.
Тигран достал из тумбочки две полулитровые банки, налил в них воду из пластиковой бутылки и включил кипятильник, сделанный из двух бритвенных лезвий -- "машину" -- присоединив провода к патрону лампочки. Эйнштейн такую установку не изобрёл бы: интеллекта не хватило бы. Хотя, если бы его в ЛТП... Жизнь -- такая штука -- чему хочешь научит.
-- Сейчас чаю попьём, и тебе совсем хорошо станет.
-- Мне и так не плохо, только голова трясётся, -- сказал Арсений.
-- Это от укола, -- пояснил Тигран. -- Но я очень за тебя боялся. У тебя вчера такой вид был, что ты, точно, мог кого-нибудь убить. Хорошо, Светик дежурила. Я ей как раз босоножки прошил. Вот она и не отказала. Иначе плохо могло быть. А так немного пошумит в голове, да и всё. Вот чаю сейчас попьём.
Тигран насыпал заварку прямо в банки и накрыл их бумажными листочками, чтобы аромат не улетучивался.
-- Я тут уже в четвёртый раз, -- сказал он. -- Судьба такая. Потому и всех знаю. В город каждый день езжу за "баландой". Мне доверяют, что не сбегу. А куда мне бежать? Я в городе и сигарет, и водочки куплю -- были бы деньги. А деньги можно и тут заработать: я же не только водитель, но и сапожник. Без дела не сижу.
И Тигран показал Арсению тумбочку, заваленную обувью и сапожным инструментом.
Потом они пили крепкий, обжигающий чай, и Арсений понемногу возвращался в реальный мир, привыкал к этой нерадостной действительности. Судьба -- злодейка, а жизнь -- копейка. Копейка, брошенная на землю чьей-то равнодушной рукой. Копейка, закатившаяся в грязную, забитую всяким мусором щель. Да и плевать -- не велика ценность!
-- Здесь только кормят плохо, -- продолжал Тигран. -- А так -- жить можно. Главное -- никого не трогать, и тебя не тронут. Вот дедушка -- уже второй срок заканчивает. И на третий хочет остаться. А куда ему идти? Домой не пускают -- не нужен, в приют не берут -- есть своя квартира. Вот я из ЛТП вернусь и тоже сюда попрошусь. Меня тут уважают, мне здесь лучше, чем дома.
"Он прав, -- подумал Арсений. -- Здесь лучше, чем дома".
И Арсений как-то незаметно для себя втянулся в новый уклад жизни. Благо, отношение персонала к "больным" -- алкоголикам -- было очень даже хорошим. Тигран сказал правду: никого не трогай -- и тебя не тронут. А всё лечение сводилось к витаминным уколам и очищающим кровь капельницам. Чем тебе не курорт? Недаром дедушка выписываться не хотел.
Микола ещё приходил два раза, приносил продукты и сигареты. Рассказал и свой план, по которому Арсений должен был выписаться на десятый день.
Арсений поделился планом с Тиграном, и тот сказал:
-- Сработает. Только чтобы точно вместо этой гадости глюкозу ввели. Иначе беда может быть.
За десять дней Арсений ещё больше сдружился с Тиграном. У них всё стало общее: и продукты, и сигареты, и выпивка. Тигран день через день то пива привезёт, то водочки. Арсений Тиграну сапожничать помогал: точил ножи, правил шила. И с соседями по палате установились нормальные отношения. Дедушка только сигареты просил, а Коля-борода книги читал, не встревая в душевные разговоры.
А разговоры за это время у Арсения с Тиграном были разные. Но в основном вспоминали о шофёрских буднях, об общих знакомых, о тех местах, в которые заносила их погоня за рублём да романтика дальних дорог. А вспомнить, конечно, было что. Дорога, как и жизнь: петляет меж гор и лесов, поднимается вверх и стремительно уходит вниз, радует и огорчает. На дороге рождаются и умирают, находят и теряют, любят и ненавидят. Да, дорога -- это жизнь. Или скорее образ жизни. Не самый, кстати, плохой образ. Было, было о чём вспомнить и о чём поговорить. Вот только про свою семью Арсений даже не заикался. Он подавлял в себе любые, самые робкие, самые отдалённые мысли на эту тему. Он боялся, что та стихийная сила, которая ассоциировалась в его психике с перекошенными, страшными лицами, снова вылезет наружу и попытается овладеть им.
2.14.
В последний день Арсения вызвал заведующий отделением и попросил подписать расписку-предупреждение, в которой было указанно о возможных последствиях употребления алкоголя. А потом его повели в процедурный кабинет, где медсестра, подмигнув краешком глаза, ввела ему в вену при свидетелях раствор глюкозы. Медсестра делала свою работу очень медленно, нарочито тщательно, и при этом всё время спрашивала:
-- Вы чувствуете жар в теле?
-- Да, -- отвечал Арсений, не чувствуя никакого жара.
-- Потерпите немного, -- говорила медсестра, хитро поглядывая ему в глаза. -- Это реакция на остатки спиртного в вашей крови.
Примерно через полчаса процедура была закончена, и ещё минут пятнадцать ушло на оформление бумаг. В общей сложности Арсений отсутствовал в палате около часа, а когда вернулся в слегка приподнятом настроении, Тиграна уже не было.
-- Всё, увезли твоего друга, -- сказал Арсению Коля-борода. -- Уж так он просил, чтобы подождали: хотел с тобой попрощаться. Да куда там! Еле собраться успел. Вот оставил тебе на память.
И Коля показал на лежащие в тумбочке пассатижи.
Лица вытянулись и перекосились в злобной усмешке: мы тебя где хочешь достанем!
Арсений взял пассатижи и положил их в карман пиджака.
"Эх, Тигра, Тигра!"
Арсений подумал, что он хотел бы много чего хорошего сказать Тиграну: тот мог бы пожить у него, когда вернётся из ЛТП. Да и вообще, мог бы всегда рассчитывать на любую помощь с его, Арсения, стороны. Хотел бы сказать, да не успел. Вот так всегда: когда надо сделать что-то настоящее, не фальшивое, доброе -- почему-то не успеваешь. Не успеваешь из-за каких-то мелочей -- эгоистичных, второстепенных, преходящих и лживых, -- отнимающих бесценные минуты и без того короткой жизни. Жизни, в которой должен быть хоть какой-то смысл -- хоть немного, хоть чуть-чуть, хоть самую малость. Хотя бы ровно столько, сколько надо человеку, чтобы отличаться от животного.
Кто ворует жизнь у человека? Жизнь -- единственную и неповторимую. Кто подменяет главное второстепенным, важное -- мелочным, а по-настоящему дорогое и ценное -- пустой, блестящей мишурой?
-- Не переживай сильно: год быстро пролетит. Вернётся Тигран, никуда не денется, -- успокаивающе сказал Коля, глядя на Арсения поверх очков.
-- Да, -- согласился Арсений, и подумал: "Да только этот год уже не вернётся никогда".
Потом он переоделся, сложил в пакет свои вещи, попрощался с Колей и ушёл домой.
По дороге купил в магазине продуктов, сигарет и бутылку водки.
"Буду пить в одиночку и в самом деле сопьюсь, -- мелькнула мысль. -- Сдохну, как собака под забором. Ну и наплевать. Пусть всё к чёрту катится!".
Эх, судьба-злодейка!
Ну-ка, повернись!
Жизнь моя -- копейка,
Так и быть -- катись...
Голову сломаю,
Наберусь ума,
Что страшней, узнаю:
Смерть -- или тюрьма?
В квартире было пусто и холодно: отопление ещё не включали. На кухне со светильника свисала длинная, чуть не до пола, паутина.
Пассатижи, подаренные Тиграном, Арсений положил в шкатулку из красного дерева, где у него хранились особо ценные вещи.
2.15.
На следующий после выписки день пришёл Микола.
-- Сколько ты заплатил? -- спросил у него Арсений.
-- Сто, -- ответил Микола. -- И это у них считается по-божески.
-- Сто -- чего? -- уточнил Арсений.
-- Долларов, -- ответил Микола. -- Других денег они не признают: зажрались. А куда денешься? Кто из деревни -- сумки носят. С деревенских доллары только за операцию берут.
Арсений отсчитал Миколе нужную сумму и положил заметно похудевшую стопку купюр на место. Деньги таяли, как снег весной.
-- Когда машину начнём смотреть? -- спросил Микола.
-- Не знаю, -- честно ответил Арсений.
-- Ну, тогда я домашними делами пока займусь. А ты в ментовку больше не ходи. На вот, почитай, что делать надо.
И Микола вынул из кармана ветровки сложенный в несколько раз листок.
-- Я тут кое с кем перетёр это дело. Надо только бумаги писать: тогда не отвертятся, вынуждены будут ответ давать. Здесь, правда, российские законы, -- и он указал на листок. -- Но механизм одинаковый, что у них, что у нас. Адреса я на обороте написал. Только никому не показывай. Пока пиши и отправляй по почте. А там -- сориентируемся. И никуда без меня не ходи: ты теперь на учёте состоишь, как алкоголик.
-- Спасибо тебе, -- поблагодарил Арсений.
А когда Микола ушёл, развернул листок на кухонном столе и углубился в чтение.
2.16.
Документ назывался: "Официальная информация оперативно-розыскного отдела".
Далее было пояснение: "Что и как сделать, если у вас пропал родственник, близкий человек или друг".
Арсений стал скрупулёзно изучать текст документа.
"1. Без вести пропавшим считается лицо, исчезнувшее внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которого остаются неизвестными.
Утратившими связь считаются родственники, супруги, отказавшиеся или не желающие поддерживать родственные или брачные отношения.
2. Розыск без вести пропавших осуществляется органом внутренних дел, на территории обслуживания которого достоверно установлено последнее пребывание (нахождение) разыскиваемого.
Указанное правило распространяется и на лиц, пропавших в пути следования железнодорожным, водным, воздушным или автомобильным транспортом.
Розыск утративших связь осуществляется органом внутренних дел по месту жительства заявителя.
3. Как определить, действительно ли человек пропал без вести.
Вообще, как показывает практика, довольно трудно определить, действительно ли человек пропал, или его где-то "черти носят".
Бывает, что люди, домоседы по натуре, отправляются в гости к знакомым, никого об этом не предупредив. И наоборот: люди, которые не один раз, по полгода, где-то, никого не предупредив, проводили время, действительно пропадали.
Если пропавший был человеком ответственным и обязательным, никогда не уходил из дома, а о намерениях поехать в гости или на встречу всегда предупреждал, и Вам неизвестны никакие обстоятельства, которые могли задержать его где-либо, то не медлите с обращением в милицию.
Если пропавший является несовершеннолетним или -- особенно -- малолетним ребенком, незамедлительно обращайтесь в милицию.
Если вы все же решили повременить обращаться с заявлением в милицию, то рекомендуем позвонить в Бюро регистрации несчастных случаев.
4. Что делать, если вы решили, что человек пропал без вести.
Для начала постарайтесь успокоиться и целиком проанализировать ситуацию.
До обращения в милицию подумайте над следующими вопросами:
1. Когда Вы или кто-то другой в последний раз видели пропавшего или разговаривали с ним по телефону?
Если это время превышает сутки, и какие-либо причины отсутствия пропавшего Вам не известны, то есть повод для беспокойства.
2. Случалось ли раньше, чтобы пропавший отсутствовал то же время, что и сейчас, или куда-нибудь уезжал, никого не предупредив?
Если да, то, возможно, следует подождать еще какое-то время.
3. Высказывал ли пропавший намерения поехать в гости к друзьям, родственникам или иным лицам, которых Вы знаете?
Если да, и у Вас имеется возможность, свяжитесь с этими людьми для выяснения подробностей. Если это сделать нельзя, то, возможно, следует подождать некоторое время, в пределах которого достаточно побывать в гостях и вернуться обратно
4. Злоупотребляет ли пропавший спиртными напитками?
Если с момента исчезновения прошло не более суток, то, возможно, что он задержан сотрудниками милиции за административное правонарушение или помещен в медицинский вытрезвитель.
5. Мог ли пропавший задержаться на работе, существует ли возможность какого- либо "аврала" на работе, срочная необходимость сверхурочной или другой работы?
Мог ли пропавший быть срочно направлен в командировку в другую местность?
Имелась ли у пропавшего возможность сообщить о внезапно возникших обстоятельствах и о том, что он задерживается?
Если у Вас имеется возможность, позвоните ему на работу, или кому-нибудь из его коллег.
Возможно, что он все еще на работе, или недавно оттуда ушел.
6. Оцените характер и возраст пропавшего
Если пропавший далеко не подросток, но является человеком, склонным к авантюрам, приключениям и азарту, то, возможно, Вы, как человек, знающий пропавшего больше, чем кто-либо, сможете сами предположить, где его искать.
7. Не было ли перед исчезновением между Вами (членами семьи) и пропавшим ссоры, разногласий, конфликтов?
Если были, то пропавший может находиться у кого-либо из знакомых, друзей, сослуживцев, либо им может быть известно его местонахождение.
5. Заявление о пропавшем без вести подается в произвольной форме на имя начальника ОВД. Заявление может быть подано лично или отправлено по почте.
В заявлении указываются данные пропавшего, время, место и обстоятельства исчезновения.
К заявлению необходимо приложить фотографию пропавшего.
Желательно подобрать такие фотографии, на которых пропавший изображен в анфас и профиль. Изображение должно соответствовать внешности пропавшего на момент исчезновения. Если имеются фотографии, на которых видны особые приметы разыскиваемого, то также предоставьте их в милицию.
Перед обращением в ОВД с заявлением подготовьте следующие сведения (о которых у Вас обязательно спросят в милиции):
- приметы внешности (рост, телосложение, цвет глаз, волос, размеры головного убора и обуви); наличие особых примет (родинки, шрамы, следы от операции, татуировки, физические недостатки); состояние зубов (наличие зубных протезов, пломб, коронок); наличие хронических заболеваний, общее состояние здоровья, группа крови;
- одежа, в которую был одет пропавший в день исчезновения: головной убор, верхняя одежда, платье, нижнее белье, обувь; цвет, размер, фасон одежды;
- какие документы, предметы, вещи, ювелирные украшения и ценности, примерную сумму денег имел при себе пропавший (часы, сумки, портфели, сотовый телефон, ключи, кольца, цепочки, записные книжки, и т.п.);
- имеются ли у пропавшего в наличии недвижимость (квартира, дача и т.п.) или транспортные средства;
- известные Вам связи пропавшего (друзья, знакомые, коллеги по работе, их имена, телефоны);
- места предполагаемого нахождения.
В милиции у Вас так же могут спросить другие необходимые сведения о пропавшем. А также попросить предоставить различные документы или их копии.
Старайтесь не скрывать какие-либо сведения отрицательного характера о пропавшем (к примеру, что разыскиваемый злоупотреблял спиртными напитками, употреблял наркотики, занимался незаконной деятельностью), т.к. это только осложнит розыск и увеличит его время.
Что происходит после подачи заявления.
6. По истечении предусмотренного законом времени по Вашему заявлению обязаны принять решения.
По факту исчезновения гражданина может быть:
1. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. Данное решение принимается, если имеются основания полагать, что в отношении пропавшего было совершено преступление. Такими основаниями может послужить наличие в собственности у пропавшего недвижимости, крупной суммы денег, автомашины (исчез вместе с автотранспортом), занятие коммерческой деятельностью и другие обстоятельства. В этом случае розыск пропавшего будет вестись оперативным подразделением ОВД, в компетенцию которого входит раскрытие этого преступления. Уголовные дела возбуждаются по признакам преступлений, предусмотренных соответствующими статьями.
2. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дело. Данное решение принимается при отсутствии оснований полагать, что в отношении пропавшего было совершено преступление. В данном случае необходимые материалы передаются в оперативно-розыскные отделения (отделы) для организации розыска пропавшего. Данное решение Вы имеете право обжаловать в надзирающей прокуратуре.
7. Розыск.
После рассмотрения Вашего заявления и принятия по нему решения об отказе в возбуждении уголовного дела, необходимые материалы передаются в оперативно-розыскное отделение.
Далее гражданин объявляется сначала в местный, а по истечении определенного срока -- в федеральный розыск.
В некоторых случаях гражданин может быть объявлен сразу в федеральный розыск. Во время розыска проводятся различные мероприятия, направленные на установление местонахождение пропавшего и выяснение его судьбы.
К сожалению, не всегда удается установить местонахождение человека в кратчайшее время. У некоторых граждан может сложиться мнение, что их близкого никто не ищет, а его дело прекратили или оно пылится в сейфе.
Можем заверить Вас, что розыск ведется по всем без вести пропавшим гражданам. Работа по розыску граждан контролируется надзирающей прокуратурой и вышестоящими органами внутренних дел.
Розыск без вести пропавших ведется до установления их местонахождения.
Розыск прекращается за сроком давности только по истечении 15 лет со дня объявления розыска. По истечении 5 лет производство по делу в отношении без вести пропавшего может быть приостановлено, если исчерпаны все возможности для его обнаружения. При этом вся необходимая информация о розыске пропавшего продолжает находиться в соответствующих учетах МВД РФ в течение 10 лет.
Если лицо, пропавшее без вести или утратившее связь, вернулось домой, дало о себе знать, сообщите об этом незамедлительно в орган внутренних дел, в который Вы подали заявление или который осуществляет непосредственно розыск".
2.17.
Окончив читать, Арсений подумал, что если бы он знал всё это раньше, то не стоял бы сейчас на учёте как алкоголик. Ну, да что сделано -- то сделано. И если в "родной" милиции такие же порядки, как в российской, то этой бумаге цены нет: она поможет сдвинуть дело с мёртвой точки.
Не откладывая на потом, Арсений написал заявление, пользуясь образцом в приложении к памятке. Затем отыскал чистый конверт, подписал его, вложил внутрь всё необходимое и, выбежав на улицу в пиджаке, не одеваясь, опустил письмо в почтовый ящик на остановке.
Всё: оставалось только ждать, как будут разворачиваться события дальше.
Недели через две пришла повестка из милиции. Арсений, надев тот же костюм, что и в прошлый раз, "выходной", но уже старомодный плащ на меховой подкладке -- а вдруг опять посадят -- и прихватив на всякий случай справку о том, что в лечении от алкоголизма он не нуждается, пришёл в указанный кабинет.
Плотно сбитый, высокий оперативник в гражданской одежде невнятно представился и стал опрашивать Арсения. Он опрашивал долго, тщательно, по несколько раз уточняя мелкие детали. Шаг за шагом Арсений описал день отъезда, день приезда, с кем выпивал в гараже, с кем входил в подъезд и кто это может подтвердить. Арсений не понимал, зачем нужны эти второстепенные детали, но отвечал честно, ничего не утаивая.
После того, как необходимые бумаги были составлены и подписаны, Арсений спросил:
-- Скажите, а что теперь будет?
-- Я пока не знаю, -- ответил оперативник. -- Собираю материалы. Но вы не беспокойтесь: мы вас уведомим как положено.
-- Когда? -- снова спросил Арсений.
-- Не волнуйтесь, сроки мы не нарушаем: с этим у нас строго, -- ответил оперативник и, как бы оправдываясь, добавил: -- У меня кроме вашего дела ещё две квартирные кражи, разбойное нападение и пьяная драка.
Арсений ушёл и дней через десять получил по почте казённый конверт. В конверте находилось сообщение об отказе в возбуждении уголовного дела. На двух листах бумаги были скрупулёзно перечислены все действия старшего оперуполномоченного и, как итог, было напечатано: "В возбуждении уголовного дела отказать за отсутствием установленного факта преступления".
Далее перечислялись статьи УК, на основании которых было вынесено решение. А в самом конце -- приписка-разъяснение, что Арсений вправе обжаловать настоящее постановление в прокуратуре.
Арсений так и сделал: на следующий день он собрал все бумаги, снова надел плащ, прихватил ставшую уже жизненно необходимой справку и пошёл в прокуратуру.
Посидев часика полтора в приёмной под уничтожающими взглядами самодовольной секретарши неопределённого возраста, он, наконец, попал в кабинет прокурора. Раньше Арсению никогда не приходилось сталкиваться с чиновниками такого ранга, у которых "из окон кабинета видна Колыма". И, естественно, он чувствовал себя "ниже травы".
Арсений поздоровался. Прокурор, повернув к нему своё холёное лицо, коротко бросил:
-- Что у вас?
Арсения немного задело, что прокурор не ответил на приветствие и не предложил присесть. Он сам, без приглашения, пристроился на краешке стула, положил на стол бумаги и вкратце описал ситуацию.
Прокурор слушал вполуха, копаясь в каких-то документах. В принесённые Арсением бумаги он даже не заглянул. Потом, когда Арсений закончил рассказ, прокурор сказал:
-- Я не нахожу никаких нарушений закона. Всё -- правильно.
Говорил он каким-то безразличным, усталым тоном. И Арсений решил про себя, что прокурор совсем не вникал в суть его проблемы.
-- Так что же мне делать? -- спросил он.
-- Надо ждать, -- ответил прокурор.
"Ждать, или же -- дать?" -- подумал Арсений и невесело усмехнулся: "Кто с сумками -- без очереди". Это была дежурная фраза знакомого Миколы, работавшего в деревне стоматологом. Он произносил её каждое утро, когда проходил в свой рабочий кабинет мимо молчаливо страждущих в ожидании приёма "крестьян".
-- И всё?
-- Знаете, -- сказал прокурор, -- вы пришли не по адресу: я не занимаюсь розыском людей. Я слежу за соблюдением законности и в вашем случае нахожу, что нарушения закона нет.
-- Как нет? Но ведь моя семья пропала.
-- Возможно, они просто переехали на новое место жительства, -- прокурор стал выказывать признаки недовольства. -- Вам что, не понятно?
-- Нет, -- сказал Арсений. -- Я не знаю никакого нового места жительства.
-- Ну, ещё бы! -- сказал прокурор. -- Муж всегда узнаёт об этом последним.
Некоторое время Арсений соображал, а поняв смысл сказанного, густо покраснел.
-- Вы говорите так, как будто знаете мою жену, -- начал Арсений.
-- Может быть, и знаю, -- оборвал его прокурор и, потеряв всякое терпение, добавил: -- Освободите кабинет, вы мешаете мне заниматься делом.
Арсений молча встал, взял со стола свои бумаги и, сложив их, спрятал во внутренний карман пиджака. Потом подошёл к двери, открыл её и выглянул в приёмную: там никого не было, даже секретарши. Тогда он быстро вернулся к столу и, нагнувшись, со всего размаха "просадил" прокурору в левое ухо. Тот, не успев ничего сообразить, упал со стула.
Значительно окрепший за последние дни волчонок облизнулся и не спеша вернулся в свой угол. "Ну, кто ещё желает подойти близко к моей клетке?"
Неторопливым шагом Арсений вышел из прокуратуры и пошёл по улице. Его била дрожь: то ли от страха, то ли от гнева. Но где-то в глубине души он испытывал гордость за свой дерзкий поступок.
"А вот теперь будем ждать", -- подумал он.
Но только ждать пришлось не очень долго.
2.18.
До самого вечера Арсений не возвращался домой: гулял по набережной, разговаривал со знакомыми бездельниками, которые группами сидели на скамеечках, недалеко от гастронома, в сомнительной надежде на дармовую выпивку. Деньги у Арсения были, но он никому не наливал и сам не пил: теперь он был как на фронте. Теперь любая мелочь могла стать для него роковой. Теперь он не имел права поступать бездумно и безответственно по отношению к себе. В его жизни появилась хоть и не совсем ещё ясная, не до конца сформировавшаяся, но уже довольно конкретная цель: не давать себя в обиду. И действительно: кто будет считаться с тобой, если ты сам себя не уважаешь и не можешь за себя постоять?
Когда Арсений вернулся домой, у дверей квартиры его уже поджидали два коротко стриженных молодых человека, чью профессию легко было определить, несмотря на то, что они были одеты "по гражданке". Арсений не испугался и не удивился, а только с удовлетворением подумал: "Вот как хорошо, что я догадался плащ надеть".
Он был доволен своей предусмотрительностью.
Молодые люди, мельком показав удостоверения, поинтересовались, есть ли у Арсения документы. И, ознакомившись с паспортом, предложили пройти с ними.
Арсений, не задавая лишних вопросов, подчинился. Он так и не зашёл к себе домой.
В горотделе -- надо же! -- дежурили старые знакомые.
Сотрудники, производившие задержание, передали майору паспорт Арсения, его самого и ушли.
-- Ну, ты скажи, как тесен мир. А ну, дыхни, -- майор подошёл вплотную.
Арсений дыхнул и сказал:
-- Я не могу выпивать. У меня -- справка.
И вынул из кармана бумаги.
Дежурный прочитал справку -- пригодилась всё-таки! -- немного подумал и сказал:
-- Это меняет дело. Сейчас разберёмся. А ты посиди пока в "обезьяннике".
И он отвёл Арсения в клетку, сваренную из стальных прутьев. А когда закрывал замок, сказал:
-- Вот видишь, как вовремя я тебя на лечение отправил: теперь ты на человека похож.
В клетке, у стены, были деревянные нары, и Арсений присел на них.
"Ничего они не докажут, -- думал он. -- Никто ничего не видел".
Святая простота! А простота, как известно, хуже воровства. Докажут, если будет надо, если очень захотят, или если будет "экономически" выгодно. Докажут даже то, что дважды два -- стеариновая свечка. "Спрессуют" до такого состояния, что подпишешь себе даже смертный приговор, как это было с расстрелянным по "витебскому делу". Выяснили потом, что парень невиновен. Ну и что? Приговор в исполнение приведён. Премии получены, патроны списаны. Все подписи и печати на месте. Значит, всё правильно. Комплексная проверка нарушений финансовой и трудовой дисциплины не обнаружила.
А у него, у пацана,
И мать осталась, и жена...
Хоть кто-нибудь, когда-нибудь заглядывал им в глаза?
А ему? А ему просто выстрелили в затылок -- и все дела.
Написали протокол, как положено,
А после стали кушать кофе с пирожным.
Другое дело, если не захотят "слуги закона" по какой-то причине: если все показатели в норме и если -- к тому же все мы люди!? -- будет просто неохота, просто лень возиться. "В истории тому мы тьму примеров слышим..."
Часа через два Арсению приспичило в туалет, и он стал звать дежурного. Тот, недовольный, подошёл к клетке и вслух спросил сам себя:
-- Ну что же с ним делать?
Потом, немного подумав, сказал:
-- Давай сюда ремень, шнурки и всё, что в карманах.
Арсений отдал дежурному ремень, портмоне с мелочью и купленные сегодня в киоске полушерстяные носки. Шнурков в туфлях не было: они застёгивались на ремешки.
Дежурный положил всё это добро на стол и повёл Арсения тёмными коридорами. Сначала зашли в туалет, и дежурный составил Арсению компанию. А потом спустились вниз, в подвал. И дежурный вместе с милиционером-охранником просто втолкнули Арсения в тёмную камеру, захлопнув за ним массивную дверь.
Тяжёлый, спёртый воздух ударил Арсению в нос. После сравнительно светлого коридора глаза ничего не различали в полумраке, и только услышав приглушённый гул голосов, Арсений понял, что он здесь не один.
Через некоторое время, когда глаза привыкли, Арсений рассмотрел в скудном свете маленькой лампочки под потолком то место, куда он попал. И тогда ему стало по-настоящему страшно.
Небольшое помещение -- размером с полгаража -- было разделено на две неравные части. У порога, рядом с Арсением, в меньшей части, была свалена в большую кучу разная обувь. Слева, в углу, стояла сорокалитровая алюминиевая кастрюля -- такая же, в каких варят пищу солдатам. Кастрюля была накрыта куском фанеры. На фанере, опустив голову на руки, сидел вьетнамец.
Остальная часть помещения представляла собой некоторое подобие сцены или деревянного настила. И там, на настиле, сливаясь в сплошное, многоголовое месиво, лежали люди. Их было человек сорок, не меньше.
Арсений стоял, не зная, что ему делать. Человеческие тела копошились, напоминая муравейник. И десятки глаз, блестящих в полумраке камеры, уставились на Арсения.
Пауза несколько затянулась, и Арсений понимал, что надо что-то делать, что-то говорить. Но что? Подобного опыта у него раньше не было. Выручил случай, Его Величество Случай, который иногда, сжалившись, судьба посылает нам то ли в награду, то ли в наказание. Поди, разбери, что у этой капризной дамы на уме.
С самого края помоста слетела на землю человеческая фигура, и чей-то голос сказал:
-- Иди, обезьяна, к своему брату. Освободи место белому человеку.
Упавший тоже оказался вьетнамцем. Он поднялся и, не возражая, как побитая собака, подошел к своему соотечественнику и примостился на краешке фанерки. А на помосте образовалось небольшое пятно отполированных до блеска досок. Арсений подошёл и сел на освободившееся место.
-- Не узнал, Арсен? -- снова послышался голос.
Арсений пригляделся и узнал Вову Ковтуна. Считай, все водители-дальнобойщики в этом небольшом городе были знакомы друг с другом. "Наш город спит под одним одеялом", -- любил повторять Микола.
-- Привет, Вовик, -- сказал Арсен.
-- За что тебя? -- спросил Вовик. -- Ты же вроде порядочный.
Под глазом у Ковтуна расплывался тёмно-фиолетовый, с прожилками крови, синяк. Арсений знал, что Вовик любил подраться. Однажды они встретились на стоянке под Одессой: оба искали попутный груз. По вечерам водители устраивали общий стол: кто плов готовил, кто шашлыки. Ну конечно, и выпивка. И после второго стакана Вовик усиленно искал, кого зацепить. Каждый день искал и успокаивался только тогда, когда получал по морде. Такой уж жизненный сценарий: и рад бы по-человечески, да "Заратустра не позволяет".
Арсен, вздохнув, рассказал Вовику про свои проблемы. Услышав, что Арсен ударил прокурора, Вовик сказал:
-- Есть тут человек, с ним тебе надо потолковать. А больше никому ни слова.
И уполз куда-то к стене, матерясь и расталкивая сокамерников. Через некоторое время Вовик вернулся и сказал:
-- Ползи за мной.
Арсений сбросил туфли и стал пробиваться за Вовиком. С криком и боем они пробрались в угол камеры. Там было немного посвободнее. И Арсений увидел полного мужика с каким-то обрюзглым, тёмным лицом.
-- Вот этот человек, -- прошептал Вовик и, выдержав паузу, громко добавил: -- Тит, это Арсен.
Тит внимательно осмотрел Арсения и, достав откуда-то из темноты пластиковый стакан, протянул со словами:
-- Спирт. Запивать будешь?
Арсений кивнул головой. Ему не хотелось пить, но отказать он не решился. Потом они закурили. У Тита было всё: он чувствовал себя здесь как дома.
-- За то, что ты сделал -- уважаю, -- сказал Арсению Тит. -- Хотя и глупо. Делать надо было не так: ночью подкараулить возле подъезда и -- пакет на голову. Да что зря базарить. А теперь они тебя ломать будут.
И Тит стал расспрашивать Арсения про некоторые детали. Потом, немного подумав, сказал:
-- Когда начнут бить, падай головой на край стола. Лучше всего -- рассеки себе бровь: крови много, но не страшно. Увидят кровь -- успокоятся. А так -- останешься калекой.
Потом Тит ещё немного подумал и сказал:
-- По остальному -- иди в отказ. Только в отказ. Они сейчас всё перероют, чтобы закрыть тебя. Моли бога, чтобы жену не нашли: ни живую, ни мёртвую.
Арсений не понимал хода мысли Тита, но слушал внимательно.
-- Дома что-нибудь незаконное есть? -- спросил Тит. -- Давай завтра с утра кто-нибудь из моих к тебе наведается, приберёт всё.
Вовчик сильно и незаметно толкнул Арсения локтем в бок, и Арсений ответил:
-- Дома пусто. А что?
-- А то, что обыск делать будут.
-- Зачем?
-- Думаю, убийство на тебя хотят повесить.
-- Убийство кого?
Тит посмотрел на Арсения, как на придурка, и не стал отвечать на глупый вопрос.
-- Подумай хорошенько, как ты сможешь доказать, что они были живы, когда ты уже уехал. Может, ты им деньги присылал? Или она за квартиру платила? Подумай, но сразу не говори. Прибереги на потом, когда будет решаться: или пан, или пропал. Скажешь раньше времени -- обыграют, обставят. Не жалей себя: пусть мордуют, пока не устанут. А алиби береги на конец.
Потом они покурили, и Вовчик, улучив момент, шепнул Арсению на ухо: "Будь осторожен, не говори, где живёшь и где ключи -- всё вынесут. У ментов свои подходы, а у блатных -- свои: влезут в душу и обчистят. Слушай только то, что по делу. Своим умом рассуждай".
И Арсений рассуждал. Он не исключал, что Тит правильно предугадывает будущую ситуацию. И к такому повороту дел надо быть готовым.
Потом Вовчик отогнал от стены каких-то бродяг, и они с Арсением, кое-как устроившись, поспали несколько часов. А утром, когда открылась дверь, в камере началась суматоха. Арсений еле-еле нашёл свои туфли, и милиционер-охранник ткнул в него дубинкой:
-- Выноси парашу.
-- Нет! -- вдруг рявкнул Тит и, указав на вьетнамцев, добавил: -- Ты и ты.
Милиционер спорить не стал, и вьетнамцы понесли куда-то кастрюлю, на которой просидели всю ночь.
А потом Тит сказал Арсению:
-- Тебе помогут, но ты и сам себе помогай.
Арсений не понял этой фразы. Смысл её прояснился несколько позже.
2.19.
Перед кабинетом следователя охранник снял с руки Арсения наручник и, открыв двери, пропустил его вперёд.
В кабинете, за стоящими друг напротив друга столами, сидели следователь и уже знакомый Арсению старший оперуполномоченный.
-- Присаживайся, -- сказал оперуполномоченный Арсению, обращаясь к нему на "ты", как к старому знакомому.
Арсений присел на стул и сказал:
-- Если будете бить, я покончу с собой тут же, у вас в кабинете.
Следователь и опер переглянулись, и следователь спросил:
-- А почему мы должны вас бить?
Арсений замялся, не зная, что ответить.
-- Может, чувствуете за собой что-то такое, за что вас можно бить? Так поделитесь с нами.
Арсений снова промолчал.
-- Не надо равнять всех по себе, -- сказал опер и засмеялся.
Следователь тоже засмеялся, и Арсений почему-то решил, что они говорят правду: никто не собирался его бить.
-- За что меня арестовали? -- осмелев, продолжал он.
-- Ну что же ты, никак не можешь успокоиться? -- спросил опер. -- Разослали мы ориентировку по всей республике. Что ты ещё от нас хочешь? Интерпол подключить мы не можем.
И опер показал Арсению листок с текстом и фотографиями. Листок был озаглавлен: "Разыскиваются". А фотографии были такого качества, что Арсений не узнал ни жену, ни дочь.
"Кто тогда их узнает?" -- подумал он.
-- Ох, -- вздохнул следователь и, переходя на "ты", добавил: -- Настоящих преступников из-за тебя ловить некогда. Вот, подпиши, что будешь правду говорить.
Он протянул Арсению ручку и предупредил:
-- Да не вздумай врать: тебя сейчас на любой мелочи ловить будут. Лучше говори, что не помнишь.
"С чего это он такой добрый? -- подумал Арсений. -- Наверняка пакость какую-то готовит".
Но следователь никакой пакости не готовил. Или пока не готовил.
-- Сейчас Коля поедет к тебе обыск делать, -- сказал он. -- Постановление я выписал, и прокурор уже звонил: ордер готов.
При этом он многозначительно посмотрел на Арсения и, немного помолчав, продолжил:
-- Если есть в квартире что-то запрещённое, лучше сразу пиши добровольную выдачу.
-- Ничего у меня нет, -- мрачно ответил Арсений.
Он представил себе, какое развлечение будет у соседей, и, расстроившись ещё и по этому поводу, опустил голову.
"Хорошо, что про машину пока молчат", -- подумал он. Там, в КамАЗе, в тайнике под печкой, лежала ручная граната РГ-5 -- подарок Филиппенко. "Береги её, -- говорил тогда Гена. -- Это твой последний козырь в колоде".
"Если найдут, -- мелькнула у Арсения мысль, -- пять лет обеспечено. Эх, и почему я раньше про неё не вспомнил?"
-- Ищите, ничего у меня нет, -- повторил ещё раз Арсений.
Опер пожал плечами и вышел, а следователь начал писать протокол допроса. Он задавал всё те же бессмысленные, на взгляд Арсения, вопросы и машинально записывал ответы, не вдаваясь, казалось, в их смысл.
-- За что меня держат? -- снова, выбрав удобный момент, спросил Арсений.
Следователь угостил его сигаретой и закурил сам.
-- Во-первых, никто тебя не держит -- ты сам сидишь на стуле. А во-вторых, как будто ты не знаешь, -- лениво произнёс, наконец, он и уточнил: -- Если что-нибудь найдут -- будешь содержаться под стражей, как обвиняемый. Если ничего не найдут, я тебя отпущу. Мне на свою задницу приключений не надо. Если твой "крестник" хочет, пусть он сам тебя закрывает.
И добавил, ни к кому не обращаясь:
-- Привыкли чужими руками жар загребать.
А потом вдруг попросил Арсения:
-- Только ты никаких фокусов тут не выкидывай. Покончу с собой, в кабинете... Да на фиг ты мне сдался: что с тебя возьмёшь?
Он говорил искренне, и Арсений понял, что никто здесь против него не настроен. Скорее настроены против прокурора. Это было немного непонятно, но, тем не менее, приятно.
Потом он подписал протоколы, внимательно прочитав их. В бумагах значилось, что по протесту прокурора отменено предыдущее постановление об отказе и вновь возбуждено уголовное дело по статье 101 УК РБ -- умышленное убийство.
-- Что за чепуха, кто их убил? -- спросил Арсений.
-- Прокурор подозревает тебя. Но ты пока не переживай: решение принимаю я. А у меня и без тебя головной боли хватает.
"Тит всё правильно предсказал, -- подумал Арсений. -- Сразу видно -- ещё тот волчара".
Потом охранник отвёл Арсения обратно в подвал, но уже в другую камеру. По дороге вниз он спросил:
-- Это правда, что ты прокурору в ухо дал?
Арсений молчал.
-- Наши ребята специально ходили смотреть. Ухо, говорят, как блин со сковородки: большое и румяное.
И охранник озорно хохотнул, а потом добавил:
-- Я, как сменюсь, тоже сбегаю.
В новой камере, кроме Арсения, никого не было, и он улёгся на нары, прикрыв глаза.
Примерно через полчаса дверь в камеру приоткрылась, и охранник бросил на нары пачку "Примы".
-- Передача, -- сказал он и снова хохотнул. -- Ты у нас -- достопримечательность. Весь отдел за тебя, так что ты не боись.
А потом спросил:
-- Спички есть?
-- Нет, -- махнул головой Арсений.
-- На вот мои, -- и охранник, порывшись в кармане, бросил ещё и коробок спичек. -- Только много не дыми.
А потом он посмотрел по сторонам в коридоре и тихо добавил:
-- Скорее всего, к тебе подселят одного. Так что смотри... ну, одним словом: болтун -- находка для шпиона.
Арсений понимающе кивнул головой.
Один раз за сутки его покормили: дали тарелку пустого борща и два кусочка хлеба. Но Арсений не чувствовал голода: нервы были напряжены до предела.
Под вечер к Арсению подсадили какого-то хлипкого "полумужика". Ну, по всем статьям, "голубец" вылитый. Повадки у сокамерника были явно не мужские. Некоторое время Арсений слушал его заунывные рассказы и полувопросы-полунамёки. А потом сказал:
-- Будешь приставать -- вызову охрану.
На следующее утро "голубца" увели, а ближе к обеду Арсения снова доставили к следователю.
-- Ну, что ты можешь ещё сказать? -- спросил следователь, предложив присесть.
-- Я уехал пятого сентября, -- сказал Арсений. -- А шестого жена должна была получать пособие на дочь. Можете это выяснить в собесе.
-- Не в собесе, а на почте, -- уточнил следователь. -- Ты думаешь, что я здесь просто штаны протираю? И на будущее запомни: в милиции тоже люди работают. А люди могут и ошибаться, и, наоборот, ошибки исправлять. Твои ошибки, между прочим.
Арсений ничего не сказал.
-- Надо бы тебя, для науки, в следственный изолятор отправить. Кое-кто об этом просто мечтает. Но тут и другие мнения есть.
"Неужели снова Тит постарался? -- подумал Арсений. -- Что это за человек-загадка?"
Немного позже он узнал, что никакой загадки тут не было. Тот же Вовик Ковтун, встретившись случайно с Арсением на набережной, рассказал, что как раз накануне их ночёвки в подвале взяли с поличным одного следователя, какого-то капитана. Арестовали -- не свои, а вроде из "шестого отдела" -- при получении взятки. Пропился капитан, прогулял денежки с путанами по кабакам, долгов много наделал. Вот и наехал на подследственного: давай, мол, три тысячи долларов -- дело закрою. Подследственный -- к жене, та -- к бандитам: в долг просить. Вот бандиты её и подучили к прокурору пойти. Знали бандиты всю подноготную этих дел: и что прокурор выслужиться хотел, и что у капитана "лапы волосатой" не было. Слишком жадным капитан оказался, ни с кем не делился, всё сам пропивал. И пошёл капитан "на парашу", а прокурор -- на повышение. А Тит, конечно, знал про этот конфликт. И никакой мистикой тут и не пахло. Мистика -- это для дураков, а для умных -- логика. Не будь этого скрытого противостояния между прокуратурой и горотделом -- тянул бы Арсений срок как миленький. Нашли бы за что: был бы человек, а статья всегда найдётся.
Повезло, одним словом. Нет такой хорошей ситуации, которую нельзя было бы обратить себе во вред; но и нет такой плохой ситуации, из которой нельзя было бы извлечь пользу. Говорят, что мудрый не попадает в плохую ситуацию. Ерунда! Человек не властен над обстоятельствами. Просто мудрый умеет извлечь пользу из всего: и из хорошего, и из плохого. Мудрый заранее знает, что он будет делать в случае поражения. А знает потому, что претерпел в своей жизни достаточно много поражений. Они-то и сделали его мудрым. "А кто доволен уж в начале, тому не далеко уйти..."
-- Жаловаться не будешь? -- снова спросил следователь.
-- На что? -- переспросил Арсений.
-- Да ты на что захочешь -- на то и пожалуешься. А то и в ухо дашь. На вот подпиши, что вещи тебе возвратили в целости и сохранности.
Следователь протянул бланк и вынул из сейфа вещи, из которых в наличии остались пустой бумажник, паспорт и ключи от квартиры. Но Арсений подписал, не выказывая возмущения.
-- Ты бы, от греха подальше, уехал бы куда. Или из квартиры пореже выходи, пока всё не уляжется. А то расшевелил дерьмо: ни себе, ни людям -- не в радость, -- сказал на прощание следователь.
2.20.
Арсения отпустили в час дня. Он вышел на улицу, слегка пошатываясь от слабости. Голова немного кружилась: то ли от свежего воздуха, то ли от недоедания. День выдался серым, пасмурным, и по низко опущенному небу лениво ползали тёмные тучи. Настроение у Арсения было под стать погоде: такое же мрачное и свинцово-тяжёлое. Он шёл домой пешком: денег на проезд в автобусе у него не имелось. И по пути дважды отдыхал, прислоняясь плечом к шершавым стволам деревьев, росших по краю тротуара. Хотелось курить, но попросить сигарету у незнакомых людей Арсений стеснялся. А знакомые ему не встретились.
Кое-как он доплёлся до дома и, задыхаясь, поднялся на свою площадку. На двери его квартиры была наклеена полоска бумаги с чернильными печатями. Арсений сорвал её и полез в карман за ключами. Но ключи не понадобились: замок в двери был сломан.
Арсений вошёл в прихожую, а потом -- в зал. В квартире царил хаос: дверки шкафов были открыты, вещи в беспорядке разбросаны по стульям, дивану, полу. На полке шифоньера, где хранились деньги, было пусто.
Перекошенные лица, конечно, радовались, когда им привалило такое счастье.
"Радуйтесь, радуйтесь, -- подумал Арсений. -- Ещё никто на чужой беде не разбогател".
"А ты, сын человеческий, не бойся речей их и не страшись лица их".
Так-то оно так, но что-то надо было делать, как-то надо было жить.
Арсений вышел на площадку и позвонил соседу-футболисту. Тот открыл дверь и первым делом спросил:
-- "Сотку" потянешь?
-- Потяну, -- сказал Арсений.
Потом они оба выпили по "сотке" на кухне у футболиста, закурили, и тот рассказал, как опера проводили обыск.
-- Что я им мог сделать? -- оправдывался футболист. -- Если бы нашли чего, так я бы не подписал. А так -- всё равно кто другой подписал бы.
-- Я на тебя не в обиде, -- сказал Арсений. -- Не ты, так другой -- им без разницы.
-- А если деньги пропали, так я не видел. Я же не присматривался, кто и что делал. Там такое творилось: следы крови искали. Говорили, что ты ... Ну, одним словом... Давай ещё по "сотке".
Они выпили ещё, и Арсений сказал:
-- Ты про деньги молчи. Не надо их злить.
-- Могила, -- заверил футболист. -- С этими деньгами просто беда: в банк положишь -- не отдадут, дома оставишь -- украдут. Так лучше их через горло пропустить, -- и он щёлкнул себя пальцем по кадыку. -- Ну что, махнём ещё по одной?
Арсений не возражал, хотя пить ему и не хотелось. Нет, он пил не оттого, что украли все его деньги. И не оттого, что он не предусмотрел такой возможности. Он пил с соседом потому, что тот был на данный момент единственным в мире человеком, который по-своему сочувствовал Арсению.
Когда бутылка была допита, Арсений вернулся к себе.
После водки хотелось есть, и он сварил немного рожек с постным маслом -- всё, что оставалось в квартире из продуктов. Потом поел, хватая горячее, обжигаясь до слёз. И стал собирать по шкафам пустые бутылки. Их было немного: штук десять, разных, покрытых пылью и паутиной. Потом Арсений спустился в подвал под домом, взял там банку с консервированными огурцами и ещё одну, поменьше, с яблочным вареньем. По углам нашлось ещё с десяток пустых бутылок. Арсений перенёс всё это в квартиру, помыл бутылки и сложил их в пакет. Посмотрел на себя в зеркало, небрежно побрился электробритвой и пошёл в гастроном.
Ему повезло: бутылки принимали. И на полученные за них деньги он купил полбатона хлеба, два пакетика чая и пачку "Примы".
Дома он сложил покупки в буфет, достал ящичек с инструментами и принялся ремонтировать дверь. Потом собрал разбросанные по квартире вещи: не очень аккуратно, с большего. Наводить порядок основательно не было никакого желания.
Покончив кое-как с делами, он сел на кухне за стол и закурил.
"Что я сделал в этой жизни не так? -- думал он. -- За что мне всё это?"
И не находил ответа.
"А может, лучше умереть?"
И он стал думать о том, что случится, если он вдруг умрёт. Что произойдёт с миром, с людьми, с Миколой, с соседом-футболистом?
"Заплачет ли кто-нибудь по мне?"
И выходило, что заплакать будет некому.
Так он просидел долго, куря сигареты и страдая от одиночества. Даже в подвале -- в смысле, "на сутках" -- было легче: скучать не давали ни менты, ни сокамерники. Когда начало темнеть, Арсений заварил чай, поел сначала хлеба с огурцами, потом хлеба с вареньем и, раздевшись, лёг в постель. Но уснуть не мог: ворочался с боку на бок, сбивая простыню в комок.
А потом пришёл чёрный человек. Он был одет в матросскую шинель и зимнюю шапку, завязанную под подбородком. Он подошёл к шифоньеру и стал рыться на полке, где раньше хранились деньги.
"Ройся, ройся, -- думал Арсений. -- Там тебе ничего не обломится".
Немного погодя, Арсений потихонечку встал, подошёл к человеку сзади и решительно спросил:
-- Что вы здесь делаете?
Человек начал медленно поворачиваться всем телом, и его лицо стало постепенно открываться, словно проявляясь в деталях. Это было настолько страшное лицо, сплошь покрытое послеожоговыми рубцами, с мёртвыми, неподвижными глазами, что Арсений в ужасе проснулся.
В ушах стоял писк, какой иногда улавливает приёмник в радиоэфире, в том диапазоне, где нет сигналов передающих станций. И ощущение реальности происходящего, не вызывающее сомнений во время сновидения, перенеслось в объективный мир и не покидало Арсения.
-- Кто здесь? -- громко крикнул он и включил светильник на стенке.
В квартире никого не было, но это не могло обмануть Арсения. Он знал, что всё происходило не во сне, а на самом деле.
Дверка шифоньера была распахнута настежь.
Арсений встал с постели, зажёг во всех комнатах свет и стал отчаянно креститься. Он хотел прочитать молитву, но вдруг вспомнил, что не знает слов. Тогда он разыскал на полке Евангелие жены, нашёл Нагорную проповедь и принялся повторять "Отче наш". Но беспокойство не проходило. Ужас незримо присутствовал рядом, словно играл с Арсением в прятки.
Немного осмелев, Арсений подошёл к открытой дверке шифоньера и стал заглядывать на полки. На той из них, где раньше хранились деньги, в самом уголке, в небольшой щёлочке между стенкой и самой полкой он увидел обручальное кольцо. Арсений, подавляя страх, двумя пальцами осторожно взял его. Несомненно, это было чьё-то чужое кольцо. Но как он не заметил его вчера? И чьё оно? Арсений одел его на безымянный палец правой руки и писк, до сих пор звучавший в ушах, прекратился.
"А может, это моё?" -- снова подумал Арсений.
Да, несколько лет назад его обручальное кольцо потерялось неизвестно где. Но ведь эту полку осматривали тысячу раз, да и менты, наверное, с усердием обыскали.
Арсений более внимательно пригляделся к кольцу. Оно было самым обыкновенным и как раз по размеру пальца. Только ощущение того, что это чужое кольцо, не покидало Арсения ни на миг. Как не покидало его и чувство страха. Он снял кольцо и положил его в шкатулку из красного дерева. Но страх всё равно не уходил: он накатывал волнами, парализуя волю и разум. И спать Арсений больше не ложился.
Часов в пять утра он оделся и вышел из квартиры.
Автобусы ещё не ходили, да и денег не было. И ему пришлось идти в центр пешком.
Утро было довольно холодным, и "белые мухи" уже выписывали пируэты в предрассветных сумерках, но Арсений не ощущал холода. Он шёл по пустынным улицам и молился, не переставая. Молился, как мог, вспоминая все те фразы, которые прочитал сегодня ночью в Евангелие. Ему казалось, что если он перестанет молиться, случится что-то очень страшное, непоправимое.
2.21.
У церковной калитки, на скамеечке, сидел старец, по виду -- нищий. Арсений поздоровался, и старец ответил.
-- Садись, посиди, -- сказал старец. -- Ещё слишком рано.
И Арсений присел на край скамейки.
-- За утешением пришёл, добрый человек, -- не то утвердительно, не то вопросительно сказал старец. -- Велико твоё страдание, если в такую рань пришёл.
Арсений сидел молча.
-- Найдёшь утешение в молитве, -- продолжал старец. -- А правду в мире не ищи: нет в нём правды. До самого последнего дня не найдёшь. Она сама к тебе придёт в твой последний день, когда ты будешь умирать в одиночестве.
-- Почему в одиночестве? -- с дрожью в голосе спросил Арсений.
-- Каждый человек умирает в одиночестве. Живёт в иллюзиях до своего последнего часа, не думает о нём -- о себе думает: как на трон взобраться. Но придёт он, и воздастся каждому по делам его. В какой гордыне Государь российский пребывал, а и ему воздалось. Праведников казнил -- Бога не боялся. А праведник сказал ему: "Кровь моя -- на твоей голове". Да только отвернулся царь от праведника, не одумался. И настал срок, пришли злые люди, и истребили всю семью царскую, и детей малолетних не пощадили.
-- Дети-то не виноваты, -- сказал Арсений.
-- Всё имеет причину. Отцы творят прошлое своих детей. Будущее -- продолжение прошлого. Потому и грехи отцов на детей ложатся. Безвинные дети погибают по вине отцов -- и так из поколения в поколение.
Старец опёрся на свою клюку и сказал:
-- Вижу я: велико тебе испытание будет. Но устоишь ты. Душа твоя слезами омоется, глаза твои ясными станут, и увидишь ты истину великую, познаешь путь богоугодный. Рано ты пришёл -- значит, большая нужда у тебя. Но не спеши идти к Богу с чёрным сердцем, оставь за оградой всё зло мирское -- это оно мучит тебя.
-- Я не знаю, как это сделать, -- сказал Арсений.
-- Купи две свечи, -- сказал старец. -- Зажги одну за упокой всех, кого знал, а другую -- за здравие всех, кого знаешь. Не поминай им ни зла, ни добра. Только слушай, что тебе сказано будет.
-- У меня нет денег, чтобы купить свечки, -- признался Арсений.
Старец полез за пазуху, достал оттуда небольшой платок, развязал его и протянул Арсению две бумажные купюры.
-- Я не знаю, когда смогу вернуть.
-- Вернёшь, когда срок придёт. Не мне -- так другому. За упокой поставь слева, а за здравие -- справа, у иконы Пресвятой Богородицы.
-- Я не могу взять у вас деньги, -- сказал Арсений. -- Как я их верну?
-- И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? -- сказал старец. -- Давайте -- и дастся вам.
-- Спасибо, -- сказал Арсений и взял деньги. -- Моя жена ходила в молитвенный дом. А я не знаю, как мне быть: я никуда не ходил.
-- Зачем строить храмы в Божьем Храме? -- старец немного помолчал и продолжил, но уже другими словами, как будто говорил совсем иной человек: -- Изначально я занимался эфиром Максвелла. А когда построил его модель, то оказалось, что в разной проекции пересечения оси его кристаллической решетки похожи или на православные кресты, или на звезду царя Давида. Решил, что это не может быть случайным совпадением. Но, с другой стороны, наши предки о микромире никакого понятия иметь не могли. Значит, увидели эти структуры у какой-то более высокой цивилизации, представителей которой принимали за богов. Самое логичное объяснение. Стал изучать религиозные книги различных народов -- и поразился сходству описанной там картины мира с той, которую мы только-только начинаем открывать в субъядерной реальности.
-- Вы -- физик? -- удивился Арсений.
-- Химик, -- ответил старец. -- Но нельзя проводить строгой границы между отраслями знания: они все связаны в одно целое. Каждая из них -- субъективна, все вместе -- объективны. Не может быть физики без теологии, как не может быть тела без души. Формулы не описывают ни боли, ни страдания. В них нет души. А всё, в чём нет души -- порождает зло. Храм, который возводят точные науки -- третья мировая. Поэтому я и уничтожил все свои записи: до тех пор, пока в моих открытиях не будет души, они будут порождать только зло, страдания и смерть. "Знание есть меч обоюдоострый коим и врага можешь поразить и себя без пальцев рук оставить, возлюбил повторять Он бывшим с Ним".
-- Разве у открытий может быть душа?
-- Она должна быть у их авторов. И у тех, кто будет владеть открытой силой, кто будет направлять эту силу на конкретные цели.
-- Душа есть у всех людей.
-- Не у всех она чиста. Корысть и зависть разъедают души, как ржавчина -- металл. Исподволь, незаметно, оттого и коварно. Деньги -- везде, за деньги -- всё. Затмение нашло на людей. Посты, чины, научные звания, свидетельские показания, человеческие органы, живые люди -- все покупается. Да что тебе говорить -- ты и сам знаешь. Только не думают о том, что умирать придётся в одиночестве. Да детей своих на гибельный путь толкают: считают, что добро им делают. Деньги -- та же сила, а без души -- зло.
Арсений согласно кивнул головой.
-- Закон без души -- тоже зло, -- продолжал старец. -- Ещё Ленин говорил: "По форме правильно, а по существу -- издевательство". Те же коммунисты от имени Ленина правили, а заповеди его не выполняли. Фарисеи, не видящие за буквами людей, их жизнь, нужду и надежду на справедливость. Мелкие душонки есть везде: и в физике, и в религии, и у власти. Потому и строят храмы в Божьем Храме вместо того, чтобы просто найти в нём своё место. Говорят от имени Бога, а имени и не знают. Для того Бог и поместил ключевой символ мироздания -- крест -- на самом видном месте, чтобы никто его запатентовать не смог.
Арсений подумал, что старец не похож на фанатика-верующего, слепо преклоняющегося пред раз и навсегда сформулированными догмами. И, словно в подтверждение этой мысли, старец сказал:
-- В секретных архивах Ватикана и в Королевской библиотеке в Австрии есть рукопись Евангелия. В нём сказано: "Не ищите закон в ваших книгах с писаниями, ибо закон есть жизнь, писания же мертвы. Истинно говорю вам, Моисей получил эти законы от Бога не в письменном виде, а через слово живое. Закон есть живое слово живого Бога, данного живым пророкам для людей живых. Во всём, что являет собой жизнь, записан этот закон. Вы можете найти его в травах, в деревьях, в реках, в горах, в птицах небесных, в рыбах морских, но, прежде всего, ищите его в самих себе. Ибо истинно говорю вам, всё живое ближе к Богу, чем писания, в которых нет жизни. Бог так сотворил жизнь и всех живых существ, чтобы могли они вечным словом обучать человека законам истинного Бога. Бог писал эти законы не на страницах книг, а в сердцах ваших и в духе вашем. Они в дыхании вашем, в вашей крови, в ваших костях, в вашей плоти, в ваших внутренностях, ваших глазах, ваших ушах и в каждой мельчайшей частице тел ваших. Они в воздухе, в воде, в земле, в растениях, в лучах солнца, в глубинах и высотах. Все они говорят с вами, чтобы вы могли понять язык и волю Бога живого. Но вы закрываете глаза ваши, чтобы не видеть, и закрываете уши ваши, чтобы не слышать. Истинно говорю вам, что писания -- это творения человека, а жизнь и всё её многообразие являются творениями нашего Бога. Почему же не слушаете вы слов Бога, записанных в его творениях? И почему изучаете вы мертвые писания, которые есть творения рук людских?" Я никогда не читал более правильных и более искренних слов. Зачем же их держать в тайне?
Арсений не знал, как отреагировать на слова старца. С одной стороны, он многое не понимал или не принимал. А с другой стороны, ему не хотелось чем-либо обидеть этого человека. Поэтому он переключил разговор на нейтральную тему, спросив:
-- Вы часто сюда приходите? Как мне всё-таки вам долг вернуть?
-- Не говори о деньгах, -- попросил старец. -- Никогда не говори. Постарайся забыть про них. Но от нуждающегося -- не отворачивайся. Ты ведь за другим пришёл, так о том и думай.
-- Почему вы бросили науку? -- спросил Арсений, чтобы сгладить впечатление от своих слов.
-- Я её не бросил, -- ответил старец. -- Но у науки есть предел, который нельзя преодолеть, не изменив самого себя. Когда мне осталось узнать только основополагающий Принцип, я тоже натолкнулся на этот предел. Я запутался в бесконечных уточнениях, как в паутине. И однажды, после нескольких бессонных ночей, взял в руки Евангелие, чтобы успокоиться.
"Совсем как я", -- подумал Арсений.
-- Первая фраза, которую я прочитал, была: "В начале было Слово". Но сноска внизу поясняла: в первоисточнике было не "Слово", а "Логос". Это можно истолковать, как "Принцип". Именно указание на тот Принцип, который я искал. И тогда исчезло последнее сомнение в том, что есть кто-то, кто беспокоится о нас.
-- Кто?
-- Не знаю, как назвать. Но дело не в названии, а в сути. Если текст начинается с подсказки основополагающего Принципа, значит, надо прислушаться, надо вникнуть в смысл того, что нам сообщают. Люди заменили исходный текст (и суть) сообщения. Так "Принцип" превратился в "Слово". А Евангелие утратило физический смысл. Физики в гордыне своей пренебрегли подсказкой: ну как же -- учить нас, создателей атомной бомбы! Физике не нужен смысл -- физике нужен эффект, который можно пощупать руками. Или обжечься -- лучше всего -- до костей. Ну, да Бог с ними! Нам дали подсказку. Мы должны ею воспользоваться. Мы должны найти этот Принцип, и тогда нам откроется Истина. И эта Истина сделает нас свободными. Надо только следовать за Тем, Кто Ведёт Нас.
-- И вы нашли ответ?
-- Я не могу тебе сказать: линия горизонта всегда уходит вдаль, сколько к ней ни приближайся. Но то, что я уже нашёл, сделало меня совсем другим, чем я был прежде. И я знаю, как надо искать: "Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною". Я так и поступил.
-- Я не могу найти свою жену и дочь: они ушли из дома -- и никаких следов, -- сказал Арсений.
-- Ищи не там, где светло, а там, где потерял, -- сказал старец. -- Ты ищешь их в настоящем, а потерял -- в прошлом. Вернись обратно и найди причину. Без этого ты не сможешь их вернуть, даже если они будут рядом: они не услышат тебя, как и ты не слышал их. Как и я не мог распознать Истину, потому что глаза мои смотрели и не видели.
-- Разве можно вернуться в прошлое? -- удивился Арсений.
-- Можно не только в прошлое вернуться, но и в будущее попасть. Надо только очень сильно захотеть, -- уверенно сказал старец. -- Своим рассудком пройди во времени бедственного события близкого тебе человека. И если разум ваш совпадает, что будет, то ты увидишь всё событие своими глазами. Поскольку будешь в другом времени, то там действовать не надо, а надо, когда вернёшься в настоящее. Запомни: сколько времени ты находился в будущем или в прошлом, столько времени тебя не было в настоящем. Все ... А теперь посиди со мной тихо, пока здесь никого нет. Помолчи, даже в мыслях своих помолчи, и тогда многое тебе откроется.
Арсений хотел ещё что-то спросить, но не осмелился, замолчал и, по примеру старца, закрыл глаза. Спокойствие понемногу овладевало им. Он словно отделился от своего тела, поднялся ввысь и смотрел оттуда на землю. Всё на ней стало маленьким: и дома, и деревья, и люди. И проблемы, и беды, и преследовавшие его постоянные неурядицы -- всё уменьшилось, стало совсем не таким трагичным, как это казалось ему раньше.
И где-то далеко-далеко, за синими туманами, за бескрайними песками, в тени седых пирамид промелькнули две знакомые фигуры. "Аня! Оля!" -- закричал Арсений. Но только заунывный вой ветра да отдалённый писк радиоэфира услышал он в ответ.
Мистика -- для дураков...
Когда же мы поумнеем?
Арсений не знал, сколько времени он просидел с закрытыми глазами. Он очнулся оттого, что услышал голоса людей: верующие заполняли уже открывшуюся церковь. Старца рядом не было: он смешался с другими людьми, и Арсений потерял его из виду.
"... столько времени тебя не было в настоящем".
Позже Арсений много раз приходил в эту церковь, чтобы вернуть деньги, но старца больше так никогда и не встретил. И с тех пор всегда подавал милостыню, даже если приходилось жертвовать последними деньгами.
2.22.
Атмосфера во время службы в церкви была завораживающей. Арсений купил две свечи и поставил их, как и научил его старец. А потом засмотрелся на Деву Марию, держащую на руках младенца. Засмотрелся -- и будто растворился в образе. Снова, как недавно у церкви, перестал замечать и себя, и окружающих. Его переполняла только благодать, только глубинное ощущение неразрывного единства со всем сущим во Вселенной. Арсений не мог конкретно описать свои чувства. Словно он был всем, а всё было им. Наверное, это старец и подразумевал, говоря об утешении.
"... столько времени тебя не было в настоящем".
Возвращаться в настоящее -- грубое, жестокое, заполненное мелочными, злыми, эгоистичными людьми -- не было ни малейшего желания. Кто придумал настоящее? Видимо те, кто чувствует себя в нём господином. Видимо те, к кому на приём толпятся в очереди слабые и беззащитные. Толпятся, не подозревая, что эта их участь не изменится никогда. Что они и созданы единственно для этого: стоять в очереди на поклон к своему господину. Впрочем, те, кто с сумками, могут быть осчастливлены и без очереди.
Арсений не заметил, как пролетела служба. Когда все стали выходить из церкви, вышел и он. Вышел и неторопливым шагом отправился на окраину города, где располагалась база Семёна Короля.
Семён тоже занимался грузоперевозками, но дела у него шли гораздо лучше, чем у Арсения. Кто его знает, почему. Начинали вроде вместе, а результат разный. Семён пил каждый день и дома появлялся только по праздникам: месяцами жил в офисе. А вот, поди ты, разбогател как Рокфеллер. Накупил подержанной техники в Германии, когда цены там были мизерными, и -- поднялся. Правда, шоферы на него жаловались: постоянно зарплату недодавал. Всё норовил напоить, а наутро сказать: "Я вчера тебе всё отдал, ты просто не помнишь". Больше месяца у Семёна редко кто задерживался.
Арсений нашёл его на втором этаже небольшого здания, в личном кабинете. Семён был ещё трезв и потому злился на весь белый свет.
-- Ты мою машину знаешь, -- Арсений сразу взял быка за рога.
-- Ну, -- промычал в ответ Семен.
-- Две тысячи -- и забирай, -- сказал Арсений.
Две тысячи долларов -- это была смехотворная цена хоть за старый по годам, но в прекрасном техническом состоянии КамАЗ. И глаза у Семёна сразу заблестели: он чуял выгоду не хуже, чем гончая собака чует свежий след. Но тактика совершения сделок, отработанная до мелочей, требовала упорного -- для виду -- сопротивления. По установившейся с незапамятных времён традиции Семён первым делом обхаял товар:
-- Небось, двигатель запорол, а теперь дурака ищешь, -- сказал он.
Арсений даже не ответил.
-- Или за долги описали, -- продолжал Семён.
Арсений молчал.
-- Как будем оформлять? -- не выдержал Семён.
И тут только до Арсения дошло, что переоформить машину без разрешения жены он не сможет. И тогда, прекрасно осознавая крайнюю щекотливость своего положения, он рассказал Семёну всю правду.
Семён внимательно выслушал и сказал:
-- Арсен, я тебе врать не буду. Мы с тобой действительно не первый день друг друга знаем. Машина стоит больше. Но так дела не делаются. Тебя-то я знаю, а твою жену -- нет. Кто ей помешает завтра на меня в суд подать, чтобы я машину вернул. Поэтому сделаем так: ты даёшь мне доверенность, а я тебе -- тысячу долларов. Потом в любой день, когда вернётся твоя жена, мы оформляем документы, и я даю тебе ещё тысячу. А если не даю -- забирай назад машину. Закон будет на твоей стороне.
Несомненно, это был грабёж средь бела дня. Но возразить Семёну было нечем: он хорошо прочувствовал ситуацию.
-- Теперь полуприцеп... -- начал Арсений.
-- Нет, -- сказал Семён. -- Ты и сам знаешь, что твоя "Алка" мне не подходит: одна ось. А я таскаю по двадцать тонн -- не меньше. Продавай кому-нибудь другому.
Конечно, Арсений знал, что Семён полуприцеп не купит. А быстро продать машину с полуприцепом вместе было нереально: и из-за оформления документов, и из-за того, что в городе больше не было таких богатых перевозчиков, как Король. И Арсений пожал протянутую ему руку в знак согласия с условиями сделки.
Семён достал из сейфа деньги и, отсчитав тысячу, положил себе в карман. Потом вызвал своего водителя с легковушки. И ещё одного -- перегнать КамАЗ. Они все вместе уселись в "Фольксваген" и поехали смотреть машину Арсения.
В гараже Райсельхозтехники Арсений собрал свои вещи, не забыв при этом и "подарок Филиппенко". Спецовка и всё остальное уместились в одном полипропиленовом мешке. Потом водители Семёна завели КамАЗ, проверили давление и выехали из гаража. Полуприцеп отцепили возле дома Арсения, прямо под окнами его квартиры со стороны пустыря. Мешок с вещами Арсений отнёс в подвал. Потом, вместе с Семёном, они поехали к нотариусу оформлять доверенность. А ещё через час Арсений уже возвращался домой с деньгами в кармане. Возвращался в подавленном настроении: и не потому, что пришлось продать свою, кровью и потом выстраданную машину. А скорее потому, что надо было начинать новый этап поисков: деньги для этого были. Вот только не было конкретного плана: с чего именно начинать.
2.23.
Вечером Арсения так и подмывало выпить, замочить сделку, разогнать тоску. Но он воздержался: с соседом не хотелось, а Миколе звонить не стал. Не стал потому, что пришлось бы сказать: "Ищи себе работу".
Наверное, надо было хоть ради приличия посоветоваться с другом. Но всё равно это ничего бы не изменило. Сейчас это было не самым важным. В первую очередь требовалось решить, что делать дальше.
Весь вечер Арсений строил планы. Рассчитывать на то, что милиция будет искать Аню и Олю, было бы крайне наивно. В это не поверил бы даже молодой волчонок из зоопарка. По фотографиям их "мать родная не узнает". А описание особых примет можно было смело отсылать в рубрику "Нарочно не придумаешь". Если верить описанию, то Аня -- женщина средних лет с продолговатым лицом азиатского типа. И смех и грех!
Зайти, как он раньше предполагал, с "чёрного хода", с полной сумкой -- тоже несерьёзно. Сумку, конечно заберут. И наврут с три короба. И будут врать, пока все денежки не вытянут. А потом пошлют подальше... куда-нибудь на лесоразработки. Нет, не стоило даже тратить время на обдумывание этого варианта. По таким же соображениям Арсений отклонил и идею обратиться за помощью к Титу.
Ответ на вопрос -- "кто поможет?" -- был найден: "никто".
Второй вопрос -- "что делать?" -- оставался открытым.
Вечером, перед сном, Арсений, сам не зная почему, прочитал "Отче наш". Молитва подействовала сказочным образом: он уснул почти сразу; ушёл из настоящего, оставив в нём все тяготы и заботы.
В мире фантазий и сновидений нет зла, нет лжи, нет господ.
В мире фантазий и сновидений человек -- свободен.
В мире фантазий и сновидений согласился бы жить любой.
На следующее утро Арсений всё-таки набрался смелости позвонить Миколе. Тот выслушал его, не перебивая. А потом сказал:
-- Я тоже думаю, что это единственно правильное решение. Сейчас главное -- найти твоих. А я в этом деле помочь ничем не могу. Не переживай за меня: найду работу, не пропаду. И за машину не переживай: будут у нас ещё машины. Были бы мы. Если что срочное -- звони. Я определюсь, а потом сам к тебе приду.
-- Спасибо тебе за всё, -- поблагодарил его Арсений.
И подумал, что богатство -- не в деньгах. Богатство -- в таких друзьях, как Микола. Деньги -- мираж.
"Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател, и ни в чём не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг".
Несколько дней подряд Арсений не выходил из дома: читал Евангелие и Библию, найденные в вещах жены. Тексты Священного Писания были таинственны и загадочны, не всегда понятны и однозначны. Но Арсений чувствовал, что от них исходит большая, гипнотическая сила. Он "глотал" страницы одну за другой, не пытаясь выискать в прочитанном какой-то явный смысл, какой-то готовый рецепт, какую-то конкретную инструкцию. Он даже не смог бы повторить, пересказать то, что уже прочитал. Но -- странное дело -- внутри его, где-то в глубине сознания, зарождалось и крепло необычное ощущение. Ощущение приближения чего-то принципиально нового, большого, сильного, неизменного, вечного...
Холодильник был забит продуктами. В квартире всё чисто прибрано. Доллары, полученные за машину, лежали в шифоньере на полке. Арсений не стал менять место хранения денег. Он словно бросал вызов тем, с перекошенными лицами. Они не могли заставить его жить по их правилам. Потому что их правила -- законы на страже беззакония.
"Итак за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из тесаных камней, но жить не будете в них; разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить.
Ибо Я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши: вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных.
Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время.
Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, -- и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите.
Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие; может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов.
Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель: на всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать: "увы, увы!", и призовут земледельца сетовать, и искусных в плачевных песнях -- плакать, и во всех виноградниках будет плач, ибо Я пройду среди тебя, говорит Господь".
Встреча со старцем многое изменила в понимании мира, и Арсений стал усиленно искать: как надо жить. В церковь он пока не ходил: страхи пропали, и чёрный человек с обожжённым лицом больше его не беспокоил. Несколько раз Арсений брал в руки шкатулку из красного дерева, но не открывал её: ему почему-то казалось, что это надо будет сделать только в крайнем случае и только тогда, когда не открыть будет невозможно. Он считал: всё, что произошло той ночью, имеет какой-то пока ещё не ясный для него смысл.
Есть, конечно, есть во Вселенной такие силы, которые не может объяснить ни физика, ни другие науки. И взаимодействовать с этими силами надо осторожно: не мы ими управляем, а они нами.
Чтение захватило Арсения: он открыл для себя новый мир, скорее сердцем, чем разумом, прикасаясь к Истине. Он часто откладывал книгу в сторону и сравнивал, сопоставлял свой жизненный опыт с той вековой, неподдельной человеческой мудростью, которая открывалась ему в прочитанном.
"А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое".
"Вот так и я, -- думал Арсений, -- построил дом свой на песке. Что же теперь делать, чтобы изменить, исправить, вернуть?"
Жизнь течёт, уходит, как тот же песок сквозь пальцы. А краеугольный камень так и не найден. Неужели ничего не изменится? Неужели всё вокруг -- это только иллюзия, обман зрения, мираж в пустыне? В пустыне, где есть только песок, песок, песок. Для основания нужен камень. Где найти его в пустыне?
"Нет, не надо, не хочу. Не хочу больше обмана, не хочу больше лжи: ни в большом, ни в малом".
Только вопросов оставалось больше, чем находилось ответов.
"Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?
Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал?
Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее?
Трубит ли в городе труба, -- и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?"
И Арсений соглашался с пророком: нет наказания без вины, нет следствия без причины. Только вина и причина бывают запрятаны так глубоко, что найти их непросто.
И снова возникали вопросы: "В чём моя вина?" и "Почему, почему так сложилась моя жизнь?"
Однозначных ответов не находилось.
А повседневность подбрасывала всё новые и новые проблемы.
"Не любите мира, ни того, что в мире". Вот уж, что правда -- то правда. Арсений не любил внешнего мира и всячески старался отгородиться от него. Но мир умел напоминать о своём существовании, о своей беспощадной, бездушной, слепой силе. Миру было безразлично, кто попадал под его лязгающее колесо.
2.24.
Как-то утром, перед самым Новым годом раздался в квартире требовательный звонок. Арсений вышел в прихожую и открыл дверь. За ней стояли три человека: участковый капитан, мужчина-управдом и ещё какая-то женщина.
-- Ваш полуприцеп стоит под окном? -- спросил участковый.
-- Мой, -- сказал Арсений.
-- Документы покажите.
Арсений впустил посетителей в квартиру, достал из шифоньера документы и показал участковому.
-- Сколько времени он здесь уже стоит? -- спросил управдом.
-- Около месяца, -- ответил Арсений.
-- В общем, дело такое, -- сказал участковый. -- Прицеп надо убрать. А пока я составлю протокол.
-- Составляйте, что хотите, -- сказал Арсений. -- Но я ничего подписывать не буду. А прицеп уберу, когда придёт моя машина из рейса.
И с этими словами он выпроводил незваных гостей на площадку.
Проблема, конечно, была: полуприцеп надо ставить на стоянку. Но это -- большие расходы, которые уже не компенсируются никогда. Или продавать. Микола приводил как-то своего знакомого с Украины, который хоть и был похож на монгола, но называл себя "хохлом". Тот осмотрел "Алку" и сказал свою цену: триста долларов. Арсений не знал, рассмеяться или заплакать: это была пятая часть реальной стоимости. Дважды Арсений давал объявление о продаже или сдаче в аренду. Но, как и в случае с машиной, для нотариального оформления сделки необходимо было согласие жены. Замкнутый круг никак нельзя было разорвать.
Арсений позвонил Миколе, попросил, чтобы "хохол" как-нибудь наведался: поговорить серьёзно. И тот прикатил в одно из воскресений на ржавом-прержавом "Москвиче" с украинскими номерами. Опять облазил на коленках всю будку, осмотрел холодилку и сказал:
-- Больше чем триста не дам. Мне его ещё через границу тянуть надо. А там, сам подумай, сколько голодных накормить придётся: и наших, и ваших, -- и "хохол" подмигнул: -- Наши едут, ваши идут, наши ваших подвезут.
Видимо, он откуда-то знал о тех проблемах, какие возникли у Арсения. Потому что сказал:
-- Давай сейчас по рукам ударим, а то через неделю и этих денег не будет.
-- Я его лучше во Вторчермет сдам, -- закончил переговоры Арсений.
-- Твоё дело: хозяин -- барин, -- усмехнулся "хохол", сел в "Москвич" и укатил.
Арсений, отчаявшись, съездил во Вторчермет, но ничего утешительного не узнал. Металл принимали только от предприятий, а частные лица могли сдать через приёмно-заготовительный киоск. Женщина в киоске категорически отрезала:
-- Режьте на куски, чтоб на трактор можно было закинуть.
Посчитав возможные доходы и расходы, прикинув, сколько проблем возникнет с резкой, Арсений от этой затеи отказался. А время шло. Сразу после праздников пришла повестка на административную комиссию.
"Ну что ж, -- решил Арсений. -- Схожу, посмотрю, что это такое. Может, не расстреляют?"
Наутро, девятого января, ровно в восемь, Арсений был в исполкоме. Указанный в повестке кабинет находился на первом этаже здания, в правом крыле. У дверей кабинета уже была очередь: три человека -- пожилой мужичина, щуплый дедок и женщина лет сорока -- сидели на стульях; и ещё один мужчина, примерно одних с Арсением лет, стоял у двери. Арсений осведомился, кто последний, и сел на свободное место.
-- Уже принимают? -- спросил он у пожилого мужчины, сидевшего рядом с ним.
-- Куда им торопиться, -- ответил мужчина. -- Им на работу не надо: они на работе. Ты что, в первый раз?
-- В первый, -- согласно кивнул Арсений.
-- Даст Бог, не последний, -- пошутил мужчина.
-- Чего б хорошего, -- поддержал разговор маленький, худой дедок в очках с толстостенными линзами.
Дедок сидел и держал в руках костыль.
-- За что тебя? -- спросил Арсения мужчина.
-- Полуприцеп возле дома стоит. Говорят, что не положено: благоустройство нарушаю.
-- Так ты убери -- всего и делов.
-- Своей машины нету, чтобы перетянуть. А договориться с кем -- не успел.
-- Перетяни, всё равно не отцепятся, если уже к ним на заметку попал. А меня достали этими штрафами: третий раз вызывают. Баньку я в огороде поставил, без разрешения. Никому, думаю, не мешает. Так участковый углядел -- теперь спуску не даёт. Каждый месяц протокол составляет.
-- А что, разрешение нельзя оформить?
-- Попробуй оформи, -- вмешался дедок. -- Я веранду пристраивал. Санстанция, пожарники, всем соседям бумагу на подпись -- всё лето пробегал. Каждому -- налей, закуску приготовь, да ещё с собой чего дай. Гиблое дело.
"Кто с сумками -- без очереди", -- вспомнил Арсений.
Дедок снял очки и стал протирать платочком линзы. Его прищуренные глаза придавали лицу лукавый вид.
-- Кому гиблое, а кому и нет, -- сказал посетитель, стоявший наготове у двери. -- У Басалыги тоже гараж под окном стоит. И -- ничего. Ему -- можно.
-- А кто такой Басалыга? -- спросил Арсений.
-- Сейчас познакомишься, -- сказал дедок.
-- Зампред, -- уточнил мужчина. -- Всеми делами заворачивает. Как кардинал какой при короле.
-- Ты, мил человек, если в первый раз, то порядков ещё не знаешь, -- сказал дедок.
-- А какие здесь порядки? -- спросил Арсений.
-- А порядки такие, что спорить с ними не надо, -- продолжал дедок. -- Начнёшь спорить -- себе хуже сделаешь.
-- Да-да, -- поддержал старичка пожилой мужчина. -- Ты, если первый раз, со всем соглашайся. Может, и одну минимальную дадут. А льготы у тебя какие есть?
-- Нету никаких, -- сказал Арсений.
-- Плохо, -- сказал дедок. -- Ты на другой раз справку, ну, от врача возьми, что сердце больное. Или что падучая у тебя. Найди врача какого, кто за бутылку сделает: всё дешевле будет, чем здесь платить. Больных они боятся трогать: а вдруг чего случится.
-- Не знаю...-- неопределённо протянул Арсений.
-- Я тут уже не счесть сколько раз, -- продолжал дедок. -- Они меня уже добре запомнили. Штрафу не дают -- только выговора. А что мне тот выговор?
-- Не выговор, а предупреждение, -- поправил пожилой мужчина.
-- А мне всё равно, -- продолжал дедок. -- Один раз хотели штраф дать, так я им сделал: мыло в рот взял незаметно, пену пустил да и брык с копыт. Вот шуму было: скорая приехала, а я глаза закатываю -- и годе.
-- Не каждый так сумеет, -- сказал пожилой мужчина. -- Но спорить не надо: ты -- никто, а они -- власть. Что захотят, то и сделают.
-- Во-во, -- дедок надел очки и хитро сказал: -- Всё равно будет то, что с Манькиной дочкой было.
-- А что с Манькиной дочкой было? -- попался на удочку пожилой мужчина.
-- Так замуж выходила, -- с серьёзным видом продолжал дедок. -- Да и спрашивает у мамки: "А мне ночью самой раздеваться или нет?" А Манька ей и говорит: "Ты хош раздевайся, хош не раздевайся, а он всё равно своего добьется".
-- Ну, дед, тебя можно по телевизору показывать, -- засмеялся пожилой мужчина. -- Доходчиво политику объясняешь.
Остальные посетители тоже засмеялись. Даже женщина, печально сидевшая с краю, улыбнулась.
В это время с другой стороны коридора показались человек шесть -- комиссия. Впереди шёл невысокий, пузатый мужчина. Он шёл, как колобок, у которого выросли ножки: переваливаясь из стороны в сторону. И сосед Арсения тихо шепнул: "Басалыга".
Через пару минут после того, как члены комиссии вошли в кабинет, оттуда выглянула секретарша и пригласила заходить. Первым зашёл стоявший у двери мужчина. Минут через десять он вышел из кабинета и махнул рукой:
-- Пойду в сберкассу.
Вторым зашёл дедок. Он согнулся в три погибели, повис на костыле и стал волочить по полу правую ногу.
Из кабинета вышел быстро, снова хитро подмигнул и поучительно сказал:
-- С мылом надо приходить.
Ногу он больше не волочил.
Женщина пробыла в кабинете долго -- минут двадцать. Потом она просто выбежала оттуда, вся в слезах и, ничего не сказав, скрылась в полумраке вестибюля.
Когда выходил пожилой мужчина, он с сарказмом сказал Арсению:
-- То же, что с Манькиной дочкой.
Но уже не улыбался.
Арсений вошёл в кабинет, держа в руках повестку, и остановился у двери. Шесть пар глаз уставились на него, и он почувствовал себя -- как тогда, в наркологии -- ничтожеством.
-- Кто это? -- спросил Басалыга у секретарши так, словно Арсений тут и не присутствовал.
В этой фразе было столько высокомерия и пренебрежения, что Арсений густо покраснел. "Ах ты, индюк надутый", -- зло подумал он. И сразу же забыл, о чём его предупреждали в очереди.
Секретарша передала Басалыге нужные бумаги.
-- Так, -- начал он, мельком ознакомившись с делом. -- Нарушение благоустройства.
И подняв, наконец, на Арсения глаза, добавил:
-- Вы знаете, сколько денег мы тратим на благоустройство города?
-- Нет, -- ответил Арсений. -- Мне такие данные не докладывают.
-- Так я доложу, -- лицо Басалыги начало наливаться праведным гневом. -- Я так доложу, что мало не покажется.
И обращаясь к членам комиссии, сообщил:
-- Устроил себе автостоянку под окном. Там дети гуляют, люди пожилые пройти не могут.
-- Никто там не гуляет, -- перебил Арсений. -- Пустырь там. Неблагоустроенный. И люди там мусор выбрасывают.
Пухлые щёки у Басалыги покрылись румянцем.
-- Вот такие же нарушители и выбрасывают.
-- Выбрасывают потому, что контейнеры вовремя не меняют, -- сказал Арсений. -- А знаков, запрещающих стоянку, там нет. Я ничего не нарушил.
-- Посмотрите, как он себя ведёт, -- набросилась на Арсения худая женщина, член комиссии, чем-то напоминающая Марию. -- Если будете хулиганить, мы можем посадить на пятнадцать суток. Вот у нас и милиция есть.
И она показала на сидевшего за столом капитана.
Эти слова привели Арсения в чувство. Он знал, что могут. Запросто могут. И в камеру предварительного заключения могут -- уже доказано. Поэтому Арсений собрал все чувства в кулак и больше не возражал. Но, пытаясь хоть как-то оправдаться, по неосторожности -- дёрнул же чёрт -- ляпнул:
-- У вас ведь тоже гараж под окном стоит. И никому не мешает.
Басалыга взвился над столом, побагровел и брызнул слюной:
-- Мой гараж стоит с разрешения отдела архитектуры и градостроительства.
Тот же самый чёрт дёргал Арсения спросить, за сколько можно купить такое разрешение, но на этот раз благоразумие одержало верх.
-- Пять минимальных, -- рявкнул Басалыга.
-- Спасибо, -- ответил Арсений и вышел не прощаясь.
"Всё, теперь со свету сживёт, -- думал он, понуро бредя домой. -- Этот -- не забудет".
И Басалыга не забыл: ровно через две недели незнакомый капитан -- не участковый, а из какой-то хитрой службы -- составил новый протокол.
Арсений не пошёл по повестке, и ещё через неделю ему пришло по почте постановление. В этот раз сумма штрафа удвоилась. Вместе с первой она составила около ста двадцати долларов. И неизвестно, чем бы закончился конфликт, если бы не "хохол". В одно из воскресений он опять заявился к Арсению рано утром, положил на стол сто пятьдесят долларов затёртыми до невозможности купюрами, и Арсений отдал ему документы на полуприцеп. А ещё через час "хохол" подогнал тягач и утащил "Алку" партизанскими тропами к себе на родину. "Лавровый лист любое препятствие преодолеет, любую гору возьмёт" -- говорили раньше армяне-водители, колесившие по просторам Советского Союза на неизвестно кому принадлежащих "горных тягачах" марки "Колхида".
В тот же день, меняя доллары на "зайчики", чтобы уплатить штраф, Арсений недосчитался десяти "зелёных". Они как-то незаметно испарились в ловких руках покупателя. Когда родился "хохол", армяне плакали.
Двадцать оставшихся после расчётов долларов Арсений положил к остальным своим сбережениям. Хорошо ещё, что всё так закончилось: можно сказать -- с прибылью. Только цыплят по осени считают. И сегодняшняя прибыль очень часто назавтра оказывается убытком.
Про Библию и Евангелие в эти дни Арсений не вспоминал.
2.25.
Некоторое время его больше никто не беспокоил. И он совсем уж было подумал, что закончилась чёрная полоса. Что, возможно, начнутся и в его жизни светлые денёчки. Но человек предполагает, а чиновник располагает. В апреле -- уже вовсю буянила весна -- пришла повестка от судебного исполнителя. Арсений позвонил по указанному в повестке телефону, и исполнитель объяснила ему, что те штрафы, которые наложила на него административная комиссия исполкома, предъявлены к принудительному взысканию.
-- Но я их заплатил! -- возмутился Арсений.
-- Принесите квитанции, -- коротко ответила исполнитель и положила трубку.
Арсений бросился искать квитанции. Их не было: как сквозь землю провалились. Арсений перерыл всё, что можно и чего нельзя. А потом снова позвонил исполнителю.
-- Я, наверное, потерял квитанции.
-- Меня это не волнует, -- сказала женщина. -- Идите в горфинотдел, ищите копии. Но если через три недели у меня не будет квитанций или не отзовут документы, я приду описывать имущество.
Арсений на следующий же день пошёл в горфинотдел. Встретили его там, конечно, без восторга. Узнав, в чём состоит проблема, работница отдела подвела Арсения к огромному ящику и сказала:
-- Ищите. Но только аккуратно.
Арсений присел у ящика -- тот стоял на полу -- и стал перебирать бумаги. Примерно через час он спросил:
-- Скажите, а по компьютеру нельзя посмотреть?
-- Нельзя, -- привычно и совсем равнодушно ответила ему работница.
Видимо, не он первый хотел облегчить свою участь за счёт драгоценного компьютерного времени. Только такие номера тут не проходили: техника денег стоит, её беречь надо.
В кабинете, кроме разговаривавшей с Арсением сотрудницы, сидели ещё три женщины и что-то бесконечно писали в бумагах, горами громоздившихся на столах.
"Всё пишут и пишут, и конца и края не видно. Скоро весь лес на бумагу переведут", -- Арсений вспомнил слова мужика, с которым вместе сдавал на проверку водомер в Водоканале.
Мужик был из деревни. Он купил для дочери неблагоустроенную квартиру на окраине и уже больше месяца бегал по инстанциям, оформляя документы.
"И в колхозе тоже, -- продолжал мужик, -- одни бумаги: приказы да распоряжения. А мой дед без всяких бумаг знал и когда пахать, и когда сеять. И пары у него бурьяном не зарастали".
Арсений был согласен. Но "без бумажки ты букашка..."
Он снова посмотрел на заваленный квитанциями ящик и почесал затылок: с такими темпами, как у него, понадобится не меньше недели. А кому какое дело? Ещё через часок он встал, размял затёкшие ноги, попрощался и направился к выходу из кабинета.
-- Нашли? -- спросила его женщина.
-- Нет, -- ответил ей Арсений.
И та опять равнодушно уткнулась в бумаги на столе: мол, своих забот -- полон рот.
"Будь, что будет", -- подумал Арсений и выбросил всё это из головы.
Была весна, и хотелось одного: просто тихо ходить по улицам, по набережной. Смотреть, как рыбаки ловят мелочь, как пацаны катаются на велосипедах, как молодые мамы возят в колясках своих детей. Хотелось раствориться, затеряться среди людей. И никого не трогать, и чтобы тебя никто не трогал.
Каждый день Арсений с утра выходил в город и просто гулял, забывая про все свалившиеся на него невзгоды. Он больше не пытался как-то воздействовать на ситуацию: слаб человек перед несокрушимой мощью судьбы. Он решил: самое большое, что можно сделать -- это терпеливо ждать. Прав был прокурор -- может, не стоило его бить?
"Если бы случилось преступление -- этого невозможно было бы скрыть, -- думал Арсений. -- Скорее всего, они уехали по своей воле. И вернуть их можно тоже только по их желанию: насильно мил не будешь".
Конечно, Беларусь -- не Чечня. Здесь рабами не торгуют. Хотя отморозков тоже хватает. Но очень уж хотелось Арсению верить, что Аня и Оля живы и здоровы. Остальное -- не так важно, остальное -- наладится. Перемелется -- мука будет. Надо только терпением запастись...
В один из таких тёплых солнечных дней он вернулся домой пообедать, поднялся на второй этаж, вынул из кармана ключ и стал открывать дверь. Как только она открылась, откуда-то сверху, с лестничной площадки в два прыжка спустился высокий омоновец и схватил его за руку. Арсений попытался дёрнуться, но омоновец сказал:
-- Прикую наручниками к батарее.
Вслед за омоновцем с верхней площадки спустились три женщины: судебный исполнитель и свидетели-понятые.
Арсению стало очень стыдно и неудобно.
-- Будем описывать вещи, -- сказала судебный исполнитель.
-- Не надо, -- сказал ей Арсений. -- У меня есть деньги.
Омоновец уверенно потеснил Арсения сначала в прихожую, потом на кухню. Женщины вошли следом.
Дрожащими руками Арсений отсчитал нужную сумму и положил на стол.
-- Давно бы так, -- сказала судебный исполнитель.
-- Я не виноват, -- пытался оправдаться Арсений, если не перед исполнителем, так хоть перед свидетелями.
-- Никто не виноват, -- сказала исполнитель, -- а платить надо.
Свидетели безучастно наблюдали за происходящим: им было всё равно, кто виноват, а кто не виноват.
Потом, когда все "гости" ушли из квартиры, Арсению стало совсем плохо: сердце зажало в тиски так, что невозможно было вздохнуть.
"Только бы не умереть сейчас, -- мелькнула мысль. -- Микола в отъезде, кто похоронит?"
И он стал думать о том, кто его похоронит, когда он умрёт. Выходило, что кроме Миколы -- некому.
Потом боль немного отпустила, но Арсений продолжал думать о смерти. И странное дело: он её не боялся. Он думал об этом возможном событии, как о чём-то привычно-бытовом, как о посещении магазина.
"Надо бы купить про запас гроб и остальное, пока есть деньги. Да и заначку какую оставить, чтобы не говорили потом всякие стыдные вещи".
Гроб он не купил, но сто пятьдесят долларов новыми, хрустящими купюрами положил в шифоньере на видном месте, завернув в чистый листок бумаги. На листке написал: "На похороны". Эти деньги он решил не трогать ни под каким предлогом.
Приготовления к своим собственным похоронам, как ни странно, успокоили его. Боль прошла окончательно и не мешала Арсению продолжать думать о том, что будет после смерти, кому останутся вещи и квартира.
"Напишу завещание на Миколу. А там уже и без меня всё решится", -- думал Арсений
Он решил сделать это завтра, не откладывая, и полез в ящик антресолей, где лежали всякие хозяйственные бумаги: ордер на квартиру, справки и квитанции. Вместе с бумагами выпала старая, пожелтевшая фотография, на которой он сам стоял среди участников хора младших классов. Совсем маленький мальчик с огромными, живыми глазами. Это было так давно, так далеко и так прекрасно. Тогда у него было всё.
Арсений вдруг отчётливо вспомнил: они пели песню про ласточку, солнышко и кузнечика.
Арсений вышел на балкон. Было тепло, и где-то на пустыре стрекотал кузнечик. Синий вечер опускался на землю, постепенно растворяя грубые очертания предметов, придавая им неповторимое очарование. Под балконом шумели дети. Это была жизнь, именно жизнь, и она притягивала, привлекала к себе какой-то загадочностью, непонятностью и таинственностью.
Кто-то сидел на скамеечке у подъезда, смеялся и шутил.
-- Серёжа, Серёжа, -- мать звала мальчика домой.
-- Ма, ещё немножко, -- просил Серёжа.
Мальчик пел в хоре. Он не смотрел на дирижёра, он не смотрел никуда. Он жил в другом мире, он жил в прекрасной песне вместе с ласточкой, солнышком и кузнечиком. Даже когда хор умолк, мальчик продолжал беззвучно петь, шевеля губами. Прекратить петь для него означало умереть. Он не мог умереть. Он так любил эту жизнь! Любил потому, что в ней были и ласточка, и солнышко, и кузнечик.
2.26.
Однажды днём, часов около двенадцати, к Арсению снова пришли "гости". Услышав звонок, он крикнул из кухни:
-- Входите.
Вошли мужчина и женщина средних лет.
-- Мы из электросетей, проверяем счётчики, -- сказал мужчина.
-- А мне всё равно, откуда вы и что проверяете, -- ответил Арсений.
Он сидел на кухне за столом и с любопытством смотрел в окно, как будто наблюдал за очень интересными событиями. За окном, на пустыре, пацаны гоняли резиновый мячик, соорудив ворота из обломков красных кирпичей. Да бабка-пенсионерка из соседнего подъезда неизвестно зачем пыталась сломать распустившийся кустик лозы. Лоза не поддавалась, и бабка истерично дёргала за ветки, мотала их из стороны в сторону. А потом отошла немного, оглянулась и махнула рукой: пропади он пропадом! Арсению стало смешно от нелепости наблюдаемой картины: дался ей этот кустик, кому он мешает? И когда бабка сдалась, он даже порадовался: молодец, кустик, не покорился!
-- Покажите нам последнюю квитанцию, -- сказала женщина.
-- Не знаю я никаких квитанций, -- ответил ей Арсений и, озорно ухмыльнувшись, добавил: -- Придёт мама, с ней и говорите. Мама мне не разрешает с незнакомыми разговаривать.
Мужчина и женщина переглянулись.
-- Ладно, -- сказал мужчина, обращаясь к своей спутнице. -- Можно и по компьютеру проверить.
"Всё, оказывается, можно, -- подумал Арсений. -- Если захотеть".
Проверяющие ушли, закрыв за собой дверь, а Арсений вдруг понял, что у него получилось. Получилось то, чего он не мог добиться от чиновников разумными словами. Дуракам можно всё! Дуракам живётся легче! Вот она, истина жизни. Арсений даже повеселел от своего открытия.
"А ну, если не платить им ни копейки", -- мелькнула у него совсем безумная идея. Он перестал платить за свет. И -- сработало! Через два месяца проверяющие пришли снова.
-- Мамы нету? -- спросил всё тот же мужчина.
-- А мама тру-ру-ля-ля пошла, -- ответил Арсений, давясь от смеха.
-- Понятно, -- сказал мужчина.
Инспектора вышли на площадку и, открыв ящик распределителя, отключили питание от квартиры Арсения. Через полчаса Арсений, взяв отвёртку и пассатижи, восстановил соединение. Больше к нему проверяющие не заходили.
Арсений перестал платить за воду, газ и канализацию. Должна же, в конце концов, восторжествовать справедливость. Надо же как-то компенсировать то, что у него забрали силой, в наглую. Не в суд же обращаться за справедливостью, в самом деле!
Он даже не вынимал квитанций из почтового ящика. А, отвечая на очередной звонок судебного исполнителя, стал нести такую околесицу, что потом и сам не мог вспомнить, какие перлы словесности открылись ему во время этого разговора.
Как-то вечером пришёл участковый. Арсений пригласил его на кухню и стал расспрашивать, не видел ли тот маленького котёнка. Потом они вдвоём искали котёнка по квартире, причём Арсений заглядывал в кастрюли и за висевшие на стенке календари.
Примерно через полчаса участковый ушёл.
-- Приходите ещё, -- пригласил его Арсений. -- Я один с ним не справляюсь. Он всё время прячется от меня. Как только я на него посмотрю, он тут же прячется.
-- Хорошо, хорошо, -- успокаивающе сказал участковый и быстренько ретировался за дверь.
Арсений слышал, как он ещё звонил соседям и вполголоса разговаривал с ними на площадке.
После визита участкового Арсения перестали беспокоить. Всё, как будто отрезало. И -- тишина, и -- благодать. Так Арсений нашёл ответ на вопрос, кому на Руси жить хорошо. Правда, по соседям пошли всякие слухи, но Арсению от этого было ни холодно ни жарко.
Когда Микола вернулся из рейса -- пригласили подкалымить, -- Арсений рассказал ему о своей выдумке. Тот хохотал до слёз, приговаривая:
-- Я бы и сам закосил, да боюсь, что права заберут.
-- А я не боюсь, -- смеялся Арсений. -- Больше они у меня ничего не заберут.
Он отпилил ниткой небольшой кусочек мыла и всегда носил его с собой. Но, на его счастье, нужды имитировать приступ эпилепсии ни разу не было. Хватало и бессвязной речи, хотя внутренне Арсений был готов симулировать припадок. Гордость -- гордостью, а хитрость -- хитростью.
Только всё равно в душе оставался какой-то осадок: было в этом нечто унизительное, нечто недостойное. Как будто у слепого нищего украл из шапки деньги.
Нет, Арсений не жалел чиновников: они своего не упустят. Он жалел таких же беззащитных, маленьких, сереньких человечков, которым -- как ни крути -- а придётся за всё заплатить, за всё рассчитаться: за что положено, и за что не положено.
Нечто похожее он уже испытал однажды, на трассе Москва -- Ярославль. Узкая асфальтированная дорога; снег, укатанный за ночь до зеркального блеска. Перед самым поворотом их обошла серебристая "девятка". А сразу за поворотом, выскочив из-за деревьев лесозащитной полосы, Арсений еле-еле удержал машину: пришлось экстренно тормозить. Совсем молодая женщина лежала на обочине, в небольшой лужице крови, ярко-алой на белом фоне. Метрах в пятидесяти впереди стояла "девятка", и за приспущенными стёклами виднелись спокойные и наглые физиономии, по которым безошибочно определялся социальный статус их владельцев.
Арсению удалось остановиться только возле самой "девятки".
-- Слышь, мужик, -- сказал ему один из пассажиров, не выходя из машины. -- Ты, там, скажи ментам, чтоб подъехали.
Микола проснулся оттого, что КамАЗ мотало из стороны в сторону, быстро разобрался в происходящем и, схватив аптечку, бросился к женщине. Арсений поставил машину на ручник, включил аварийку и тоже выскочил из кабины на помощь. Но помощь не понадобилась: женщина была уже мертва.
Красивая и несчастная женщина, умершая на обочине дороги.
-- Эти уроды так и не подошли к ней, -- сказал тогда Микола, и зло добавил: -- Эх, жалко, не я рулил! Я бы не тормозил. А так -- всё равно откупятся.
И Арсений, зачерпнув в пригоршню снега, стал жадно есть его, чтобы успокоиться. Осознание беззащитности этой женщины, его самого; осознание полной бесправности простого человека в этом лживом мире, в этой вотчине зажравшихся подонков и продажных чиновников стало в тот момент настолько очевидным, что слёзы сами по себе выступили у него на глазах.
Ах, если бы он знал какое-нибудь страшное проклятие! Он проклял бы их всех, всех, кто хоть раз в жизни, хоть в чём-то -- большом или малом -- причинил страдания тем, кто не может себя защитить!
Фиолетовые сумерки закрались в квартиру, прячась, словно воры, по тёмным углам. Постепенно они смелели, набирая силы и наглости, перебегали с места на место, шептались, как заговорщики, о чём-то своём, плохом, тайном. И как-то незаметно ночь вступила в свои права, накрыв тенью, изменив до неузнаваемости всё то, что при дневном свете было таким ласковым и приветливым, что играло разноцветной палитрой красок.
Ночью все кошки -- серые, ночью все люди -- тени.
Берегись, путник, если ночь застала тебя в дороге! Пропадёшь без следа. Не дозовёшься, не докричишься, не достучишься.
Как дожить до рассвета?
3.1.
Всю осень и зиму Арсений не прекращал поиски. Правда, он даже сам себе не признавался, что это были именно поиски. Признаться -- значит, нацелить себя на определённый результат, составить некоторый план, установить хотя бы примерные сроки. А в случае неудачи, несоблюдения намеченных сроков, следовало бы признать и поражение. И что дальше? Что делать тогда, когда поражение поставит крест на дальнейших надеждах? Нет, уж лучше просто идти и просто смотреть по сторонам, втайне моля Бога о чуде. Просто идти, не намечая конечной цели; просто идти, идти, идти...
Десятки раз Арсений ходил на собрания в молитвенные дома, посещал службы в церкви и костёле. Шатался по рынку, по городу, и смотрел, и слушал.
Кто-то рассказывал, что у одного жена вернулась через шесть лет: была в религиозной общине. Кто-то жаловался, что жена и дочка уехали присматривать за стариками в Италию, получают там большие деньги, а его, алкаша, и знать не хотят. А кто-то вообще красочно повествовал, утирая рукавом сизый нос, о том, как лично терпел страдания и муки в чеченском плену. Правда, было совсем непонятно, зачем чеченцам понадобился такой пленник: из специальностей у него, видимо, осталась только одна -- дегустатор дешёвой парфюмерии. Конечно, родственники собрали бы деньги на выкуп. Но с одним условием: чтобы пленника не отпускали никогда. Опять -- и смех и грех.
Из серьёзных, конкретных шагов Арсений совершил только один: отправил письмо в программу "Жди меня". Пожалуй, никаких больше активных действий предпринять было невозможно.
Весна в этом году была ранней. Пышно отцвели в начале мая абрикосы, которые посадила под окнами дома неугомонная бабка-пенсионерка из соседнего подъезда. Арсению нравилось вечерком выйти на балкон и вдыхать аромат, исходящий от бело-розовых цветков. И ему казалось, что эти цветки -- из другого мира. Мира далёкого и прекрасного, как Волшебная Страна, населённая феями и эльфами, Волшебная Страна, к которой ведёт петляющая меж высоких гор Сказочная Дорога.
Дорога влекла, манила, звала Арсения. Как той уже далёкой весной, когда он выезжал в свой первый дальний рейс. Да, это был его первый дальний рейс: они с Миколой поехали в Измаил за зелёным товаром. Было начало мая, и тёплые, даже иногда жаркие дни чередовались с холодными, чуть ли не морозными ночами.
Выехав из дома во второй половине дня, к ночи они уже были на окраине Киева: в то славное время ещё не существовало границы между братскими республиками, не было и таможни, и многих хитрых заморочек вроде экологического и фитосанитарного контроля. Удивительно, как только люди выживали без этих атрибутов современного демагоги... э, демократического общества! На протяжении пятисот километров пути их остановили только один раз, возле Ровно. Лихого вида парубок в сдвинутой на затылок милицейской фуражке писал на гремучей смеси русского и украинского языков замечание -- ух, как страшно! -- в путевой лист: "Лисая рэз╕на на передку". О существовании во Вселенной такой вещи, как доллары, парубок даже не подозревал. Для него эта категория была так же бессмысленна, как и "бесконечно коллапсирующий объект". Темнота, периферия! Парубок попросил кусочек сала на закуску и этим вполне удовлетворился.
Заночевали на небольшой стоянке возле соснового леса, а утром не спеша поехали через город: хоть немного посмотреть на колыбель славянских народов и купить чего-нибудь из продуктов.
Киев заворожил Арсения. И нельзя было сказать, что конкретно придавало этому городу такой яркий, неповторимый колорит. Это были скорее всего не архитектурные достопримечательности, не чистые и уютные улочки близ центра, не широкие бульвары и не величественная панорама Днепра, открывающаяся с высокого, обрывистого берега. Это было что-то неуловимое, невесомое, как аромат цветущего абрикоса. Тот день выдался ясным, солнечным, и каштаны в сквере белели пирамидами цветов. Яркие лучи освещали, согревали землю, асфальт, скамеечки, лица, и было радостно: то ли потому, что была весна и цвели каштаны, то ли потому, что просто была весна.
Старушки-пенсионерки расположились на скамеечках в сквере и продавали свой нехитрый товар: пучки зелени, банки с соленьями, старые, неизвестно кому интересные теперь школьные учебники времён хрущёвской оттепели. Было хорошо, просто хорошо и радостно оттого, что можно не спеша пройтись по этим весенним аллеям, подышать свежим воздухом и просто посмотреть на поглощённых своим делом старушек.
Две или три из них продавали семечки. Возле мешков суетились голуби и воробьи. Последние, набравшись смелости, заскакивали в центр мешка и, схватив семечку, тут же улетали. Старушки лениво и беззлобно отгоняли птиц, но те, отлетев ненадолго в сторону, снова возвращались к мешкам.
Купив поесть, Арсений и Микола вернулись к машине, накрыли импровизированный стол и пообедали, запив еду горячим чаем, вскипячённым на переносной газовой плитке. И поехали дальше: до вечера надо было успеть на стоянку под Одессой, где их ждал Лёха. А ещё на следующее утро надо было выезжать в Измаил.
Ближе к югу становилось всё теплее и теплее. По обочинам трассы постоянно попадались небольшие кафе-забегаловки и пропахшие дымом шашлычные. И просто мелкие торговцы всем. На табуретках, скамеечках, а то и просто на расстеленном куске полиэтиленовой плёнки располагались банки с молоком, вёдра с картошкой и морковкой, сушёные и консервированные грибы, запасные автомобильные камеры -- новые и пестрящие многочисленными заплатами, -- запчасти к всевозможным моделям автомашин, старые велосипедные цепи и гнутые, ржавые гвозди. Продавалось всё, что существовало в природе.
И стоило только притормозить у такого стихийного рынка, как со всех сторон к машине бежали зазывалы, крича и перебивая друг друга.
-- Пирожки горячие с капустой и кабаком.
-- Семечки, семечки калёные на дорогу.
-- Хлопчики, купить молочка свеженького, только что выдоила.
-- Солярка дешёвая
-- Покрышки не надо?
Коленвалы, пиво, цемент в мешках, рыба вяленая и копчёная, раки в крапиве, рубероид в рулонах -- голова шла кругом от непрерывного гомона, мелькания лиц и рук.
Это был особый мир, мир дороги, неповторимый и прекрасный, такой родной и привычный. Мир, которого Арсению теперь так не хватало. Мир, уходящий от него всё дальше и дальше. Мир, теряющийся в тумане времени, как убегающая к горизонту лента шоссе.
Остались в прошлом события и друзья: Петя из Троицкого, у которого всегда можно было заночевать, подремонтироваться и недорого заправиться; капитан милиции -- не путать с ментом! -- Володя из Миллерово, который помог им в казавшейся безвыходной ситуации, когда разнесло двигатель оборвавшимся шатуном; молдаванин Григорий из Оргеева, который поил их вином из пузатого бочонка и без денег отдал две почти новые покрышки; Васька Климанок из Щигров, порывавшийся бросить всё нажитое и поехать вместе с ними; умудрённый годами и тяжёлой трудовой жизнью Николай Романыч из Старого Оскола...
Прошлое светилось трепетным огоньком в темноте уходящего времени, и не было никакой возможности возвратить его хотя бы на один короткий миг.
Затосковав по своей прежней работе, Арсений спустился в подвал дома и стал перебирать выгруженные из КамАЗа вещи. В кармане телогрейки что-то звякнуло железом о железо, и Арсений вспомнил о подаренной Филиппенко гранате. Осторожно вынул её из кармана и, завернув в промасленную ветошь, спрятал между пустыми стеклянными банками на полке. Потом снова залез в тот же карман и вытащил гильзу, которую нашёл в Долине Смерти. Он совсем забыл о ней и только сейчас, снова увидев, подумал: "Кто её заклепал? И зачем?" Арсений положил гильзу в карман пиджака и вернулся в квартиру. Там он достал из инструментального ящичка отвёртку, аккуратно разогнул края гильзы и вытряхнул из неё на кухонный стол свёрнутую трубочкой бумажку. Бумажка была жёлтой от времени, но сохранилась довольно хорошо. Арсений развернул её пальцами -- бумажка оказалась коротким письмом. Неровные, синие буквы, написанные химическим карандашом, немного расплылись, но разобрать текст письма оказалось довольно просто.
"Мороз усиливается. Можем не дожить до темна. Папа и мама, простите меня за всё, что я сделал по глупости".
Арсений на минуту прекратил чтение и представил себе описываемые события: да, морозом Заполярье не удивишь даже среди лета.
И прочитал дальше: "Схема огневых точек. Старший лейтенант Куприянов Григорий М. Вологодская обл. Грязовецкий район, Грязи. Прощайте".
"О чём думает птица, когда умирает?"
... А они лежат, все двести, глазницами в рассвет,
А им всем вместе четыре тысячи лет...
Холодные камни Кольского полуострова и вереница крестов вдоль дороги в Вечный город.
С обратной стороны письма был непонятный рисунок: замкнутые и волнистые линии с пометками. Под "крестиками" и "птичками" стояли надписи: "дот", "пулемёт, "орудие".
Арсений перечитал письмо ещё раз. Он знал, как это -- замерзать. Дважды -- под Курском и под Белгородом -- настигали их внезапные морозы. Оба раза температура воздуха падала за несколько часов до минус двадцати, и оба раза нельзя было завести двигатель: под Курском "полетел" компрессор, а под Белгородом -- оборвало гильзу цилиндра. Грелись газовой плиткой, жгли колёса. Хотелось бросить всё и заплакать от отчаянья. А они там, в Долине Смерти? Не было у них ни плитки, ни колёс. Не могли они ни бросить всё, ни заплакать...
Арсений взял с полки атлас автомобильных дорог и попытался найти на нём деревню Грязи. Такая, конечно, на атласе обозначена не была. Её вообще, может, десять раз переименовали за те годы, которые прошли после войны. Что это за Грязи такие в социалистическом государстве? "Конечно, переименовали, -- решил Арсений. -- Значит, надо ехать самому". Он даже не задумывался над тем, а стоит ли передавать весточку родным этого незнакомого солдата, чьи косточки давным-давно истлели в болотистой заполярной тундре. Это было настолько очевидно, что единственным вопросом оставалось: "Как добираться?" И после некоторых размышлений Арсений решил ехать на "Волге": неизвестно, в каких дебрях придётся искать эти Грязи и ходит ли туда какой-нибудь автобус. Дебри там, конечно, были ещё те. В крайнем случае, восемь лет назад были ещё те. Решив сократить дорогу из Ярославля на Новгород, Арсений с Миколой прочувствовали это на своей шкуре. "Подождите до морозов, -- посоветовал им один из местных жителей-добряков. -- По зимнику, может, и проедете". И добряк усмехнулся в рукав.
Прикинув возможное расстояние, цены на бензин, расходы на продукты, Арсений пришёл к выводу, что в сто пятьдесят долларов можно уложиться. Это было немного. Да большая часть расходов легко компенсировалась: на подмосковных оптовых рынках цены на продукты -- окорочка и прочие -- были почти в два раза ниже, чем в родном городе. Доходило до смешного: белорусская сгущёнка там была дешевле, чем в Беларуси. Экономическое чудо -- не иначе. Хотя, может, и просто реализация краденого. Рабочие воруют штуками, а директора -- вагонами. "Кто на что учился".
И Арсений загорелся поездкой: это было реальное, нужное, благородное дело. Это было именно то дело, которое никто, кроме него, выполнить не мог. Это был его долг, долг перед теми, кто "лежал глазницами в рассвет".
3.2.
Откладывать поездку в долгий ящик не имело никакого смысла: дома Арсения ничего не держало, а "двадцатьчетвёрка", как всегда, была в полной боевой готовности.
До вечера Арсений проехался по городу и подготовил всё необходимое для поездки: купил продуктов, заправил полный бак горючего. Потом сложил дома посуду в специальную коробку, упаковал постель и смену одежды, перенёс всё это в машину: благо, "Волга-универсал" -- дом на колёсах. А затем сел за руль и отогнал "старушку" в гараж.
По дороге домой он вспоминал, что ещё необходимо сделать. Сигареты про запас покупать не стал: в России они дешевле. А вот бутылку водки взял: в машине это такой же незаменимый инструмент, как домкрат. В самой неожиданной ситуации может пригодиться. Иногда за какую-нибудь мелочь деньги брать не хотят, поэтому и отказывают. А мелочей в дороге не бывает. Один раз ночью, возле Подольска, отобрали права за превышение скорости, и сколько Арсений ни просил, сколько денег не предлагал, ни в какую не возвращали. Жди утра и поезжай в сберкассу. А показал бутылочку -- гаишник подумал, подумал и согласился: видимо, не хотелось перекусывать "на сухую". Хороша рюмка к обеду!
Дома Арсений первым делом завёл будильник, ещё раз проверил деньги и документы и лёг спать. Но сон не шёл: вспоминались подробности трассы и различные дорожные ситуации, которые случались с ним на предстоящем завтра маршруте. Да и надо было окончательно определиться, по какому варианту ехать. Через Брянск было ближе километров на сто, а через Смоленск дорога была не в пример лучше: как-никак, Олимпийская трасса, две полосы.
Так, погрузившись в думы, он незаметно для себя уснул. А утром подхватился на полчаса раньше, чем зазвонил будильник: тоже многолетняя привычка. Вскипятил воды, выпил чайку, оделся и побежал в гараж. Из города выехал без нескольких минут пять. Самое время: дорога почти пустая, колхозный транспорт ещё в гаражах. Главное было -- проскочить девяносто километров до Олимпийки прежде, чем на узкое шоссе выедут "одногорбые" трактора "Беларусь". Их пока обгонишь, семь потов сойдёт: ни габаритов, ни поворотов, как правило, у них нет.
Арсений не спешил, и до трассы номер один докатил немногим более чем за час. А там -- не дорога, а сплошное удовольствие: стал на свою полосу и... "хочешь -- спать ложись, а хочешь -- песни пой". До границы с Россией он доехал за десять часов. По дороге два раза останавливался перекусить и отдохнуть. На российской таможне поменял "американские рубли" -- ближе к Москве курс доллара заметно падал -- и двинулся потихоньку дальше.
Денёк был погожим, солнечным, но не очень жарким. Арсений открыл окно, и встречный поток воздуха продувал кабину, приятно освежая тело. Было хорошо просто так ехать по дороге, смотреть по сторонам на призабытые пейзажи; вспоминать прошлое и думать о всяких приятных вещах: о жизни в деревне, о рыбной ловле, об ухе с дымком и ночёвке у костра.
"А собственно, куда мне спешить? -- подумал Арсений. -- Заночую-ка я у костра". И проехав Смоленск, он стал выбирать место для стоянки. Но по сторонам дороги почва была в основном болотистой, опасной: утром можно и застрять. А потом ищи-свищи, чем вытянуть. Было, было уже и такое. Так, незаметно, Арсений доехал до Вязьмы. А там свернул с трассы налево, в сторону Ржева. Свернул потому, что вспомнил: ночевали они с Миколой здесь, недалеко, когда перегоняли МАЗы-лесовозы в Тверь. И километров через десять Арсений нашёл это место.
Старый, явно дореволюционной постройки -- и, скорее всего, -- помещичий, домик с высоким парадным крыльцом, с балюстрадой и колоннами стоял среди берёз. Стены домика когда-то давным-давно были побелены известью, но время наложило на них свой отпечаток: побелка стала грязно-серой, а выпавшие куски штукатурки обнажили худые рёбра полуистлевшей дранки. В пустых глазницах выбитых окон зеленели листвой небольшие кустики.
Как и в прошлый раз, косые лучи солнца, пробиваясь сквозь кроны деревьев, высвечивали что-то неясное, таинственное во внутренних покоях. Но так же, как и в прошлый раз, Арсений не подходил близко к домику и не разглядывал того, что осталось от той далёкой жизни, некогда протекавшей здесь. От той жизни, которая, несомненно, иногда искрилась радостью, иногда звенела тоской и печалью, звала, надеялась, плакала, ждала... А потом почему-то прекратилась, ушла, перестала быть...
Без обложки, без первых страниц,
Прямо с зова: "Останься, Ядвига!"
Начинается старая книга,
Где десяток неведомых лиц
Существуют неведомо где,
Неизвестно в какую эпоху,
И вольготно, и сладко, и плохо:
Точно так, как всегда и везде...
Где теперь та Ядвига, та гордая красавица-пани, из-за которой бравые боевые офицеры теряли и сон, и покой, и аппетит?
Где теперь и сами бравые боевые офицеры? Лежат тут же, недалеко, в сырой смоленской земле, под высокими катынскими соснами, в огромной братской могиле, обозначенной простым, густо поросшим зелёным мхом, деревянным крестом.
"У братских могил нет заплаканных вдов..."
"По мне никто не заплачет. Ну, правда, ведь".
Есть ли память у Вселенной?
Помнит ли она тех, кто ушёл в небытиё? И если помнит, то как? В каких анналах хранятся архивные документы, по которым потомки смогут определить, кем были их предки. Трусами или храбрецами, благородными рыцарями или подлыми негодяями, патриотами или предателями, гениями или злодеями? А может, это уже не важно?
Этот домик, как символ конечности бытия, как символ таинственности начала и конца притягивал Арсения к себе, не отпускал и не подпускал, будоражил не совсем ясные, глубинные чувства. Удерживал невидимыми нитями связей, протянувшихся из прошлого, через настоящее, в будущее...
Нет ничего печальнее, чем созерцание увядающей красоты, утраченного былого величия... Нет ничего сладостнее воспоминаний о том времени, которое никогда уже не вернуть...
Жаль, что больше не вернутся те года
Только в сердце сладкой болью отзовутся.
Почему всё прекрасное в этом мире так мимолётно, призрачно, эфемерно? Лишь на несколько часов после обильного весеннего дождя покрывается пустыня зелёным ковром нежнейшей травы, миллионами и миллионами цветов невиданной красоты, в которых живут, смеются и радуются этой красоте добрые эльфы и гномы. Но уже к полудню солнце безжалостно сжигает всю эту Сказочную Страну, а ветер вновь засыпает её жаркими песками, в которых погибают и цветы, и эльфы, и гномы.
Почему красота не может быть вечной?
Если Вселенная бесконечна и существовала всегда-всегда, то почему до сих пор добро не победило в ней зло? Почему за бесконечно долгий путь не стала красота тем единственным результатом эволюции, естественного отбора, той силой, которая должна была спасти мир? Почему мир до сих пор не спасён? Не спасён ни красотой, ни распятым на кресте страданием? Ответ один: зло и уродство -- непобедимы, если их не победили за бесконечно долгий срок.
И тому, кто столкнулся со Зверем на узкой дорожке, остаётся одно: поклониться. Поклониться ему, чтобы выжить. Кто из смертных может сразиться с бессмертным и не погибнуть? Даже если и найдётся такой смельчак, а скорее безумец, -- он обречён заранее, обречён "a priori", по определению.
3.3.
Рано утром, с восходом солнца, Арсений выпил горячего чайку, съел бутерброд и, бросив прощальный взгляд -- доведётся ли ещё побывать здесь? -- на одинокий, укрытый пеленой утреннего тумана домик, поехал дальше.
К ночи Арсений уже расположился на стоянке в Грязовце. Более семисот километров пути, пройденные за один световой день, были не самым высоким показателем, но знать о себе давали. Правая нога ныла от беспрерывного напряжения -- надо было жать на газ -- и затылок ломило от подскочившего кровяного давления. Но Арсений нашёл всё-таки силы поговорить с двумя пожилыми сторожами, "героями первых пятилеток" и неразлучными друзьями с самого детства. Деды помнили всё, происходившее в их районе со времён покорения Сибири Ермаком. И во всём друг с другом соглашались, за исключением: один из них наверняка знал, что бывшая деревня Грязи теперь называется Телебино, а второй бился об заклад, что это -- Бирское. Оставив друзей в самый разгар спора, Арсений вышел за ограду стоянки и подошёл к припаркованному у одного из частных домиков КамАЗу-самосвалу. Собака за калиткой подняла лай, и из дома вышел хозяин, мужчина лет пятидесяти. Арсений поздоровался и объяснил причину беспокойства. Мужчина немного подумал, а потом сказал:
-- А с чего вы взяли, что это деревня?
Арсений достал записку и прочитал адрес вслух. И действительно: никаких указаний на то, что наименование Грязи относилось к деревне, не было.
-- Вовсе это не деревня, -- снова сказал мужчина. -- Это были вроде как хутора. Их всех так по-местному называли. А теперь они переросли в две, а то и в три деревни. И относятся они не к нашему району. А кого тебе там надо?
Арсений назвал фамилию.
-- Знаю одного с такой фамилией: в леспромхозе на лесовозе работает. Мой ровесник, Васька-Оглобля. Его многие знают. Огромной силищи человек: сам видел, как он трёхсоткилограммовую рельсу на спор поднял. Может, он?
-- Может, -- согласился Арсений.
Потом мужчина объяснил Арсению, как ему лучше всего проехать. Выходило километров тридцать-сорок, не больше. Арсений, поблагодарив мужчину, пошёл спать в машину. Полученной информации можно было доверять: водители -- такие пройдохи, что знают всё.
Утром следующего дня, в начале десятого часа, Арсений уже разговаривал в сельском магазине с продавщицей.
-- Скажите, вы не могли бы мне помочь...
Моложавая продавщица кокетливо осмотрела себя в зеркальной витрине, поправила белую шапочку на голове и с "берлинским" акцентом сказала:
-- Смотря, по какому вопросу. А то сразу согласишься -- а потом сожалеть придётся.
Продавщица -- кровь с молоком -- просто горела от желания пофлиртовать с незнакомцем.
Арсений, немного смутившись, продолжал:
-- Я разыскиваю родственников Куприянова Григория.
-- И всё? -- разочарованно сказала продавщица. -- А я уж думала, что вы с серьёзными намерениями... Да чё его разыскивать, этого родственничка: утром заходил за пивом.
Из подсобки выглянула невысокая, пожилая женщина: то ли уборщица, то ли ещё кто.
-- Кого, кого надо? -- глаза женщины разгорались любопытством.
-- Ваську-Оглоблю, -- пояснила продавщица.
Арсений обрадовался, снова услышав это имя: значит, правильно попал.
-- А-а, -- разочарованно потянула женщина. -- А зачем он вам сдался? Или натворил чего?
-- Письмо надо передать.
-- От кого? -- любопытство у женщины вспыхнуло с новой силой. -- А то и я могу передать: живу-то по соседству.
-- От Куприянова Григория М.
-- От отца, что ли?
Женщины недоумённо переглянулись.
-- Я не знаю, -- замялся Арсений. -- Когда его отец умер?
-- Умер? -- сказали женщины в один голос и снова переглянулись.
Потом продавщица удивлённо сказала:
-- Был же этот остолоп с утра и ничего не сказал, что отец умер. Вот уж, Оглобля самая настоящая.
-- Подождите, -- не понял Арсений. -- Его отец на войне погиб.
-- На какой войне? -- теперь не поняла продавщица.
-- Да он ещё вчера на завалинке сидел! -- сказала вторая женщина. -- Путаете вы что-то.
-- Вот прочитайте, -- и Арсений протянул продавщице письмо.
Та взяла в руки листок и принялась внимательно читать. Вторая женщина подошла и тоже заглянула в бумагу.
-- Ничего не могу сообразить, -- сказала в растерянности продавщица. -- Почерк его, Григорь Михалыча. Уж я -- то знаю: он у меня классным руководителем в школе был. Но он не воевал!
Она взяла тетрадь из-под прилавка, полистала её, просмотрела записи на одной странице и показала их Арсению.
-- Вот список всех участников войны. Они у меня по льготам идут. А Григорь Михалыч не воевал, -- и с уверенностью добавила: -- Нет, ошибка здесь какая-то. Почерк его, а он -- не воевал.
И женщины подозрительно уставились на Арсения.
-- Может и ошибка. Но выяснить надо. Где он проживает?
-- Да прямо по улице. Дом такой, с железными воротами. А на воротах белые гуси нарисованы, -- сказала продавщица.
Она до сих пор не могла придти в себя: всё пыталась связать концы с концами.
Арсений попрощался и вышел из магазина.
"Досадно будет, если зря отмотал такой путь", -- подумал он.
3.4.
Нужный дом Арсений нашёл без труда. Это был добротный, большой дом с красивой верандой и небольшим палисадником под окнами, обращёнными на улицу. На окрашенных в зелёный цвет воротах были нарисованы лебеди, плавающие в синей воде.
Арсений постучал в окошечко на веранде, но никто ему не ответил. Тогда он подошёл к большому окну и снова постучал.
-- Я -- дома, -- послышался из-за стёкол тихий голос.
Арсений понял это как разрешение и вошёл внутрь.
В большой комнате, расположенной за кухней, на высокой, металлической кровати с никелированными спинками лежал седой старик. Старик был одет в спортивный костюм: мастерку и брюки с двумя белыми полосками. Под мастеркой виднелась серая, в клетку, рубашка.
-- Я не сплю, -- сказал старик. -- Просто берегу силы.
И повернулся к Арсению.
-- Здравствуйте, -- поздоровался Арсений.
-- Здравствуйте, -- ответил старик и спросил: -- Вы к Ваське?
-- Арсений достал из кармана письмо и протянул старику со словами:
-- Я ищу родственников человека, написавшего это письмо.
Старик взял очки с круглого стола, расположенного рядом с кроватью. Стол, видимо, специально пододвинули так близко, чтобы старику не приходилось вставать. На цветастой скатерти стояла ещё кружка с каким-то напитком и лежало несколько упаковок таблеток.
Потом старик прочитал письмо, положил его рядом с собой и закрыл глаза. Так он лежал долго, очень долго. Лежал неподвижно, и только чуть вздымающаяся в такт дыханию грудь свидетельствовала о том, что он жив. Арсений немного испугался. Он не знал, что делать: звать ли на помощь или подождать ещё немного.
Наконец, старик открыл глаза и спросил, показав письмо:
-- Откуда у вас это?
-- Прошлой осенью я проезжал в Долине Смерти, -- сказал Арсений.
Старик чуть заметно кивнул головой: понимаю.
-- Это моё письмо, -- сказал он. -- Я думал тогда, что не выживу. Наверное, от отчаянья и написал.
Потом спохватился:
-- Да вы присаживайтесь. Как вас зовут?
-- Арсений. Я попрошу вас: говорите мне "ты".
Арсений присел на стул.
-- Откуда ты, Арсений?
-- Из-под Бреста.
-- Далеко, -- сказал старик. -- А к нам чего завернул: попутно?
-- Нет, -- ответил Арсений, -- специально приехал.
-- Из-за письма?
Арсений кивнул головой в знак согласия.
Старик опять закрыл глаза и долго лежал молча. А потом снова посмотрел на Арсения и спросил:
-- Почему?
Арсений пожал плечами. Потом подумал и сказал:
-- Я хотел бы, что бы и мне, если вдруг такое... -- и не нашёл нужных слов.
-- Понимаю, -- снова сказал старик.
Он прожил долгую жизнь и научился разбираться в людях.
-- Помоги мне сесть, -- сказал он, снял очки, положил их на стол и пояснил: -- Я вижу хорошо, только когда читаю -- очки надеваю.
И Арсений приподнял старика на постели, подложив ему под голову и спину подушки.
-- Это я что-то сегодня расклеился, -- снова пояснил старик. -- Может, к перемене погоды, -- и без всякого перехода продолжил: -- Двое нас там было, под этой высоткой: я и Петя Акульшин. Думали, что конец нам. Вот я письмо и написал. А Петя не стал. Сказал, что плохая примета. Упрямый был Петя. Чуть что не по нему -- губу закусит и молчит. А своего всё равно добьётся. Злость у него такая была. Вот он из-за этой злости, наверное, тогда и выжил. И меня спас. А остальные все-все погибли: вся рота.
-- А я уже было испугался, что не найду вас, -- сказал Арсений. -- Адрес изменился. Да и продавщица в магазине меня заверила, что вы не воевали.
Старик немного помолчал.
-- Так вышло, -- сказал он, наконец, -- что по бумагам я -- не участник войны.
Со стороны улицы послышался звук камазовского мотора -- его Арсений узнал бы из миллиона других, -- скрип тормозных колодок, и через минуту в дверь вошёл двухметровый детина -- косая сажень в плечах. В комнате сразу стало тесно.
"Васька-Оглобля", -- догадался Арсений.
Васька молча стоял, переминаясь с ноги на ногу.
-- Поздоровайся с гостем, -- сказал ему старик, и Васька послушно кивнул головой в знак приветствия.
-- Чего прилетел? -- снова спросил старик и, не дожидаясь ответа, добавил: -- Езжай, отпросись: гость у нас, дорогой гость. И к Тоньке заскочи: пусть бросает всё и -- домой. Да пошевеливайся: одна нога тут, а другая -- там.
Васька кивнул головой, нахлобучил на голову фуражку, которую держал в руках и, всё так же сохраняя молчание, вышел из дома.
-- Сын, -- сказал старик. -- Хороший, спокойный. Но под руку ему лучше не попадаться.
И улыбнулся.
-- Я уже понял, -- сказал Арсений и тоже улыбнулся. -- А вас как зовут? А то в письме отчества нет, а продавщица так непонятно сказала...
-- Григорь Михалыч, -- старик тоже произнёс имя-отчество сокращённо и, видимо, поняв причину замешательства Арсения, пояснил: -- Я в школе учителем был. Меня все так называли: и коллеги, и ученики. И ты так называй: я уже привык. Посмотри на часы: сколько времени? -- Григорь Михалыч указал рукой в сторону допотопных гиревых ходиков, тикающих на стенке у него за спиной. -- А то мне не видно.
-- Двенадцать, -- сказал Арсений.
Григорь Михалыч взял со стола таблетки, отделил одну от упаковки и проглотил, запив напитком из кружки.
-- Не могу сообразить, что тебе сказать: всё как в тумане, не верится. Ты там часто бывал? Что там сейчас?
-- Камни, -- сказал Арсений, вкладывая в это слово все те ощущения, которые оставил в нём Кольский полуостров.
-- Да, -- согласился Григорь Михалыч, -- меня тогда это сильно поразило... Окопа там не выроешь. Мох болотный, а под ним -- скала. Вместо окопов -- стены из каменных глыб. Складывали, из чего было -- валуны да куски, отвалившиеся от скал. Любого размера. Где -- с кулак, а где -- метр на два обломки. И всё руками...Я туда в сорок четвёртом попал: в августе нашу часть перекинули. Думаю, к наступлению готовились. Я уже старшим лейтенантом был, ротой командовал. Три ранения, пять боевых наград: три медали и два ордена. Нельзя сказать, что желторотый. Но страшновато мне стало, когда увидел, какие укрепления штурмовать придётся. Предчувствие -- кто воевал, тот знает, что это такое.
-- Я, когда это нашёл, -- Арсений указал на письмо, -- меня как будто подтолкнуло что-то. Сила какая-то к этому кустику подвела. Я сразу не понял, что это. Положил в карман и забыл. А она, -- Арсений снова указал на гильзу, -- словно сама о себе напомнила. И там, возле Титовки, я думаю: как она могла наружу попасть из-под камней?
-- Да-а, -- потянул Григорь Михалыч. -- Это сейчас в чудеса не очень-то верят. А они есть. Первое чудо, что выжил тогда, а второе -- вот оно. Утром сказал бы кто -- не поверил бы.
И он снова взял в руки письмо.
-- Позабыл я о нём, а теперь всё вспомнил, как будто вчера происходило. Не зря всё это, не случайно. Как считаешь, Арсений?
-- Не зря, -- согласился Арсений.
Григорь Михалыч без всякой связи с предыдущей мыслью продолжил:
-- Вечером меня в штаб вызывают. И там комполка приказ отдаёт: утром атаковать противника силами роты. Без огневой поддержки. Разведка боем, одним словом. Я уже деталей и не помню, но комполка у нас мужик суровый был, взглядом испепелял. А тут -- присели мы за столом, как друзья. Вот тогда у меня предчувствие и появилось: обречённые мы. Я его гоню, а оно не уходит. Вернулся я к своим, а никто не спит: все ждут, что скажу. У всех -- предчувствие. Мы тогда высотку одну занимали. А напротив, через речку, на второй -- немцы. "Курдюк", по-моему, высотка та называлась. Если не путаю. Немец на этой сопке сильно укрепился: ожидал нашего наступления. Вот моей роте, выходит, и была поставлена задача: раскрыть огневую систему противника.
Утром туман сильный был. Мы без единого выстрела к речке подошли: так и задумано было. Фашист не должен был ничего понять: наступление это такое хитрое или что-то другое. Переправились поодиночке: кто вплавь на подручных средствах, а кто -- вброд. Там такие гребни, перекаты были. Вымокли до нитки. И почти уже все на берег пробрались, как вдруг взрыв: кто-то на мину напоролся. Ну, фашист нас к камням и прижал -- головы не поднять. Окопаться невозможно, туман спадёт, и мы -- как на ладони. Но повезло мне: нашёл щёлочку, еле втиснулся. Мох начал пластами снимать, что-то вроде бруствера выкладывать: от пули не спасёт, но всё же -- маскировка. И тут Петя Акульшин ко мне свалился. Вот мы вдвоём там и притихли. Я сразу начал огневые точки засекать и на бумаге -- вот на этой -- рисовать. Потом туман рассеялся, и нам -- тем, кто уцелел, -- одно оставалось: ночи ждать. Вначале вроде и не холодно было: то ли с горячки боя, то ли и в самом деле солнышко сквозь тучи проглянуло. А через пару часов ветерок такой нехороший задул. Задул, задул, да и с морозцем. Снежок пошёл -- не обильный, а так, немного, только землю покрыл. Вообще беда, как плохо нам стало: на снегу любое движение заметно. Я и голову поднимать перестал. Слышу только, как их снайпера работают, да выстрелы считаю: как выстрел, так в роте -- потеря. А морозец крепчает. В общем и целом, ясно мне стало: до ночи не дожить. Вот я к рисунку записочку и добавил. Хотел и Петин адрес написать, да он не согласился. Нечего, говорит, раньше срока Лазаря петь. Упрямый был Петя, но друг -- надёжный. Ну, а я бумажку свернул, спички из гильзы высыпал -- ни к чему мне уже спички были, -- бумажку -- в гильзу, резинкой заткнул и потихонечку камешком для надёжности сплющил. Потом в карман положил. И вроде как засыпать стал. Сны всякие начал видеть. Не помню уже, какие. Проснулся в санчасти. Петя, дружище, дождался таки ночи. И меня не бросил -- вынес. Из-под Курска Петя был родом. Невысокий такой, худой, но сильный. От злости, что ли, сила в нём была. Не генералы и не техника войну выиграли, а такие, как Петя. Сам погибай, а товарища выручай. Ещё Суворов понял, почему русский человек непобедим и чем он силён: взаимовыручкой. Потом мы с Петей переписывались, не часто. Он к себе домой вернулся, каменщиком работал. А в восемьдесят... забыл, в каком году -- умер. Вот такие, брат, дела. А гильзочка вот эта у меня тогда из кармана где-то и выпала.
Григорь Михалыч немного помолчал, собираясь с мыслями, а потом сказал:
-- Вот такая история... Было нас в роте двести, а вернулось только двое. А теперь и вовсе один я остался. Странно как-то жизнь устроена: на фронте друг друга собою прикрывали, а после войны так и не нашли время встретиться. То он ко мне собирался, то я к нему. Но дальше разговоров не пошло.
На веранде послышался шум, и в кухню вошёл Васька. В руках он держал две большие хозяйственные сумки, из которых виднелись банки, бутылки и несколько булок хлеба.
-- Тонька в магазине осталась, -- сказал Васька, ни к кому конкретно не обращаясь. -- Зинку ждёт. Зинка на базу за селёдкой поехала.
-- Понятно, -- сказал Григорь Михалыч. -- Зинка, небось, уже по всей деревне разнесла. А завтра и в городе знать будут.
Васька только плечами пожал.
-- Слова из него не вытянешь, -- сказал Григорь Михалыч Арсению. -- Оглобля -- что ещё скажешь? И в кого ты уродился? Дед -- отец мой -- шустрым был, быстрым. Я -- тоже не промах. А этот -- телёнок телёнком.
Но последние слова были сказаны без упрёка, скорее игриво. Они оба -- отец и сын -- играли друг с другом, как дети. Видно было, что между ними царило полное взаимопонимание, взаимоуважение и любовь. Арсений даже позавидовал: "Мне бы так на старости жить, полным домом. И чтоб с любовью, простой, по-детски наивной, и потому неподдельной, искренней".
-- Погиб отец в сорок четвёртом, -- сказал Григорь Михалыч. -- А могилу только недавно разыскали -- в девяносто первом. Мы вот с Оглоблей ездили. Помнишь, Вась, как к деду на могилу ездили?
-- Ну... -- отозвался Василий из кухни.
-- Баранки гну, -- передразнил Григорь Михалыч и продолжал: -- В Псковской области похоронен, в братской могиле, у города Струги Красные.
-- Бывал я там, -- сказал Арсений.
-- Да по тебе видно, что калач ты тёртый. Это подумать только: из самого Бреста приехал! Не просто так, по пути, а специально... Спасибо тебе, по-человечески это. А ты чего молчишь? -- повысив голос, сказал Григорь Михалыч в сторону кухни.
Василий просунул голову между шторами в дверном проёме и ответил:
-- Пойду к Степанычу. Сколько брать-то?
-- Да бери поболее: тебе одному полведра надо, -- Григорь Михалыч подмигнул Арсению.
-- Груздочки солёные я принёс, -- снова сказал Василий. -- Чего ещё?
-- Да всё, что есть, то на стол и мечи, -- и, обращаясь к Арсению, добавил: -- Стесняется.
А когда Василий ушел, опять начал рассказывать.
-- Отец у меня был сильный человек. Одной в жизни цели добивался: детей в люди вывести. Нас у него трое было. Я -- старший. А в его понимании -- да и в моём тоже -- чтобы в люди вывести, в первую очередь надо выучить. Вот он и работал и днём, и ночью. А меня в медицинский техникум определил, в Череповце. Не скажу, что я таким уже дураком был, или, напротив, таким умным себя ставил. Что я в шестнадцать лет понимал? Рос за отцовской спиной, горя не знаючи. Книжки читал, сам стишки писал: у меня специальная тетрадка для этого имелась. Вот и дописался. Донес на меня мой сосед по комнате в общежитии, Зенов Николай Спиридонович -- на всю жизнь имя его запомнил, -- с которым мы вместе жили два года, ели из одной миски, ходили в кино, к девчатам, мечтали. Я считал его своим другом. Только он один знал о моей тетрадке. Меня прямо к прокурору и доставили. Как убийцу какого. А прокурор посмотрел на мои сопли зелёные и говорит: "Твои стишки?" И тетрадку показывает: изъяли тетрадку-то. А я в ней про колхоз написал.
Григорь Михалыч некоторое время подумал, очевидно, вспоминая, и процитировал:
-- "Все так же стонет крестьянина спинушка, хотя не свистит над спиною дубинушка. Работой замучен народ. Рабство в России, царем отмененное, сталинской партией снова введенное, только под ширмой иной -- колхозно-зажиточный строй. Работай с утра и до позднего вечера, домой приплетешься -- есть тебе нечего. Оплата в колхозе в трудкнижку за палочку. Вместо хлебушка в ведомость галочку. Выращивай хлеб и скотину корми, а осенью все государству свези...", -- а потом пояснил: -- Может, что и не правильно вспомнил, но суть такая.
И продолжал:
-- Наверное, сжалился прокурор надо мной. Говорит: "Иди домой и больше такие стишки не пиши. Потому что завтра за тобой придут". И так как-то особенно последние слова сказал. А я не понял. Обрадовался, прибежал в общежитие. Везде люди гуляли: праздники тогда начались, майские. А назавтра, третьего мая сорокового года, утречком, они опять за мной пришли. Я дату хорошо запомнил: мне на следующий день шестнадцать лет исполнялось. Прокурор, как меня увидел, так голову и опустил: не мог он, наверное, больше ничего для меня сделать. Обвинили меня в замышлении убийства товарища Сталина. Я, конечно, ни в чём не признавался. Тетрадка моя загадочным образом пропала -- спасибо прокурору: его работа. Всегда были добрые люди. И только сосед мой по комнате показания написал. Вот следователь и стал для суда из меня признание добывать. Для начала бросили в "клоповник". Я тогда сутки не спал: отбивался от этих тварей. Поверишь, и сейчас в дрожь бросает, сколько их в камере было. Один заключённый при мне умер. Нет, не заели насмерть: голову об стенку размозжил сам себе, не выдержал. Знаешь, я думаю, что это совсем не так уж плохо было: некогда было задуматься глубоко над тем, что будет дальше. Эти мелкие проблемы не дают страху человека с ума свести -- так я думаю. А на другой день меня бросили в подвал тюрьмы -- в такой бетонный мешок, где-то два на три шага, с одной бочкой-парашей в углу.
"Что-то мне знакомое, так-так", -- подумал Арсений.
-- Меня бросили и забыли. Есть не давали -- только в глазок иногда заглядывали. Садиться и спать нельзя: пол холодный. Единственно можно было ходить: три шага вперед, три назад. Я так ходил до изнеможения, пока без памяти не свалился на пол. Очнулся от холода, промерз до костей, зубы стучали, дрожь била все тело. Вот где закалку проходил. Может, эта закалка меня и спасла тогда, в разведке.
Григорь Михалыч немного помолчал, переводя дыхание.
-- Ну, очнулся я и опять начал ходить взад-вперед. Сколько времени прошло, не знаю. Но голова как будто изнутри разрывалась. Хотелось просто лечь на пол и умереть. Я так и сделал: лёг и начал молиться про себя. И тут меня сапогом под бок кто-то стукнул. Я уже ничего не видел: только тени. Вывели меня, раздели догола и посадили на что-то. Потом парикмахер наголо обрил мне голову, под мышками и на лобке. Облили водой и -- в камеру. Только эта камера уже получше была: потеплее и почти без клопов. Камера была получше, а обращение стало похуже: били все, кому не лень. Конвоиры ногами до потери сознания, а следователь -- Платонов такой был -- так тот рукояткой пистолета по пальцам. Боль была страшная, но я терпел, не признавался. Однажды, после допроса, в одиночку отволокли, бесчувственного. А потом парня одного подселили.
-- Знакомый приёмчик, -- ухмыльнулся Арсений.
-- Так этот парень, как меня увидел, так сразу и признался, что подсадной он. А потом всё поил меня водой: я сам встать не мог. Адрес взял, чтобы родителям весточку передать. Не обманул, передал. Спасибо ему. Черепанов была его фамилия. Потом мне как-то днем принесли передачу: папиросы, хлеба, немного конфет. Сказали, что от отца. Свидания нам не разрешили и даже записок друг от друга не передали. Я заплакал тогда от досады. В последний раз в жизни заплакал. Окно в камере было забито досками, но вверху, возле козырька, была небольшая дырочка. Через неё я и смотрел на улицу: чувствовал, что отец обязательно будет там. И я его увидел, на тротуаре. Он поднес ладонь ко лбу и тоже смотрел, мне показалось, на мое окно. Но он не мог видеть меня. А я хорошо видел, как он щурил глаза, чтобы солнце не мешало. Я закричал, но он меня не услышал. Зато пришел надзиратель, стащил меня с окна и отдубасил кулаками по ребрам. Вот тогда я и видел отца в последний раз.
Ходики тикали монотонно и так громко, что это начало понемногу убаюкивать Арсения. И в сознании, как фрагменты сновидения, стали вырисовываться персонажи описываемых Григорь Михалычем событий -- словно Арсений сам пережил всё это в те далёкие, подёрнутые седой пеленой времени годы.
-- Как я ни противился, а признание своё подписал. Привели меня на допрос к новому следователю, Королёву, а он таким добрым оказался. Посочувствовал мне, что все мои однолетки на свободе, гуляют себе, погодка хорошая. А меня, мол, ни за что держат. Но, говорит, это потому, что Платонов ошибку свою не признаёт. И предложил мне, чтобы я подписал, будто купил наган за пять рублей, а продал за десять. Тебя, говорит, тут же и выпустят. Эх, обещания -- ловушка для простаков! А время, что отсидел, зачтут, как наказание. И все будут довольны. Мне так на свободу хотелось, что я, дурак, поверил и подписал, не глядя. А потом, как и у всех: десять лет по пятьдесят восьмой. Сокольский лагерь, лесоповал, норма -- десять кубов в день. Спасло меня то, что в техникуме два года отучился. Почти что врач. Поставили дезинфектором: клопов и вшей травить. Так, ценой жизней безвинных насекомых я спас свою, -- улыбнулся Григорь Михалыч. -- В марте сорок первого погрузили нас в вагоны и вывезли под границу с Финляндией, в чистое поле, в снег: ни землянок, ни бараков. Всю ночь у костров. Потом обжились. Лагерь Ондолагом назывался. Там и начало войны застал. Сказали, что всех политических -- в распыл. А нам уже всё равно было: не люди -- скелеты. Мёрли десятками, сотнями. Не хочется даже вспоминать. Ничего человеческого, считай, не осталось. Однажды ночью подняли, построили, и повели -- без пайка -- не иначе, на расстрел. Сутки вели лесом до Беломорканала, а там -- в баржи погрузили. Тут самолёты немецкие налетели, бомбить стали. Одну баржу потопили, а нашу на буксире до Архангельска дотянули, за трое суток. Еды не давали. Нас, считай, половину вымерло. Хотели тех, кто выжил, на Новую Землю отправить. Уж лучше бы расстреляли...
Потом Григорь Михалыч прервался: выпил таблетку.
-- Грузили на два корабля "Диксон" и "Красин". "Диксон" подорвался на мине, а наш -- вернули... Потом -- Севдвинлаг. Голод, холод, смерть. Смерть, смерть и смерть... На одной из утренних поверок начальник колонны объявил, что добровольцы на фронт могут подать заявление. И я сразу же его написал: жить хотел. На фронте, думал, шанс ещё есть. А в лагере -- не было никакого. Но отправили меня на фронт только в октябре сорок третьего. Как дожил -- не знаю. Штрафников использовали на самых трудных участках. В первом же бою меня ранили в плечо. Наш штрафбат задачу выполнил -- высотку атаковали, -- но от сорока человек в моём взводе осталось пятнадцать. Комвзвода тоже погиб, и я -- так само получилось -- его заменил в бою. Вот меня и утвердили на этой должности. А через два месяца я был уже командиром роты в звании лейтенанта. В бою около Черной речки осколком снаряда мне выбило четыре нижних зуба, наполовину разорвало язык и переломило нижнюю челюсть, -- Григорь Михалыч показал чуть заметные рубцы на подбородке, -- но, в общем, повезло и на этот раз. Потом -- резерв, старшего лейтенанта дали. А потом -- Карельский фронт, Заполярье, "Курдюк"...
-- А как же так вышло, что льгот у вас нет? -- спросил Арсений, стараясь покорректнее выразить свою мысль.
Но Григорь Михалыч ответить не успел: с шумом и гамом в дом вбежали трое пацанов -- по виду погодки, -- побросали школьные сумки в угол и оторопело уставились на Арсения.
-- Что, пескари, испугались? -- спросил их Григорь Михалыч и, обращаясь к Арсению, пояснил: -- Внуки, Васькины сыновья.
Наследники стояли, разинув рты. Старшему было лет четырнадцать-пятнадцать.
-- Сейчас мамка придёт, покормит вас. А пока вам задание: приберите всё во дворе, чтобы дядя Арсений машину мог загнать. Шурка -- за старшего. И чтоб порядок был.
Пацаны молча вышли во двор, и Арсений слышал через окно, как они там что-то перетаскивали и складывали, подчиняясь властным, совсем как у деда, указаниям старшего Шурки.
-- Сорвиголовы, -- сказал Григорь Михалыч и задумчиво добавил: -- Такая штука -- жизнь: столько много в ней всего вмещается. А пролетает, как один день. Загадочно всё это. В пятидесятых заочно закончил педучилище. Врачом быть не захотел: врачей чаще всего сажали, как вредителей. Попробуй, докажи, что парторг от перепоя умер, а не от твоего лекарства, -- он усмехнулся. -- Я всего этого даже Ваське не рассказывал: незачем горечи в жизнь добавлять. Она и без того -- не мёд.
Арсений хотел было снова спросить, почему Григорь Михалыч не считается участником войны, но тут во дворе послышался громкий женский голос, и в дом вошли Васька-Оглобля и улыбающаяся, приятная женщина.
"Антонина", -- догадался Арсений.
3.5.
-- Здравствуйте, -- сказала Антонина, протянула Арсению руку и представилась.
Арсений встал, пожал Антонине руку и тоже назвал себя.
-- Сегодня только и разговоров, что вы приехали, -- голос у неё был приятный, и речь текла плавно, без акцента.
"Наверное, не местная", -- подумал Арсений.
-- Зинка-то, продавщица наша, -- продолжала Антонина, поясняя последнюю фразу специально для Арсения, -- митинг в магазине устроила. Да! Говорит, что отец наш засекреченным разведчиком в войну был. Вроде Штирлица. Только Штирлиц в штабе сидел, а отец -- на фронте. Говорит, человек из Москвы приехал и документ привёз. И она сама этот документ читала. А Колька Сапрыкин на смех перевёл, так она его тряпкой -- по морде, по морде! И из магазина взашей вытолкала.
-- Ну? -- удивился Григорь Михалыч.
Васька только головой кивал, то ли со всем соглашаясь, то ли всё подтверждая.
-- А я-то, как зашла в магазин, а она-то меня сразу в оборот и взяла: что за человек приехал? И главное: женатый или нет? Вот где шальная!
Антонина наблюдала за реакцией Арсения.
-- Шальная, -- подтвердил Григорь Михалыч. -- Потому и не замужем: не может мужика такого найти, чтоб верх над ней одержал. А мелкота у неё долго не задерживается. А Сапрыкина зря она отхлестала: вот Васька -- и тот мне не верил. Так, Васька?
Васька потупил глаза -- стыдно стало.
-- А я потому и не рассказывал ничего, чтобы дураком не выглядеть: документов-то никаких и не было. А сейчас ты мне, Арсений, такой документ привёз, что сильнее и быть не может. Видишь, как у меня сразу здоровья прибавилось. Это самое большое счастье -- говорить людям то, что думаешь. Ничего не таить, ни в чём не врать.
Григорь Михалыч осторожно спустился с кровати и встал на ноги. Роста он был невысокого, Арсению по шею. А Ваське -- по пояс.
-- Так что мне Зинке-то сказать? -- снова подняла тему Антонина. -- А то она сама припрётся: с неё станется.
-- Скажи ей, пусть срочно в рыжую перекрасится, -- засмеялся Григорь Михалыч. -- Скажи, что в Москве только рыжим прописку дают.
И Григорь Михалыч вышел на кухню, а оттуда -- ещё в одну комнату. Вернулся через полчаса в новом костюме и чистой рубашке.
Арсений сидел всё это время у стола, на который Антонина, сменив скатерть, ставила закуски.
А Васька хлопотал на веранде у плиты, и оттуда доносились аппетитные запахи. Арсений уже порядком проголодался и с нетерпением ожидал начала обеда.
Потом все сели за стол. Привезенные Арсением гильза и письмо лежали посредине, на вышитой салфетке. Васька иногда брал их в ручищи, письмо читал и перечитывал. Потом клал на место, качая головой. Детишкам "реликвии" в руки не давали. Детишек покормили и отправили в другую комнату: телевизор смотреть. Арсений слышал оттуда отдельные реплики:
-- Деда наш фашистов бил.
-- Видал, какой патрон на столе лежит! Деда в нём письмо прятал от немцев. А дяденька этот нашёл и привёз.
Антонина всё подкладывала Арсению на тарелку да подливала в рюмку хлебный самогон. Самогон был чуть мутноватый, но "мягкий", приятный -- оттого и обманчивый. Арсений быстро захмелел, стал разговорчивее, и на вопросы отвечал охотно.
-- А как у вас люди живут? -- спрашивала Антонина.
-- Да так же, как и у вас. Одинаковые люди. Только по разговору и отличишь.
-- Вот-вот, -- сказала Антонина. -- Разговор у вас смешной какой-то. А что слышно, скоро ли соединяться будем?
-- Слышно, как и в лесу: вверху -- шумит, а внизу -- тишина, -- у Арсения даже красноречие появилось.
-- А чё нам соединяться, -- сказал Григорь Михалыч, -- когда мы и не разъединялись. Брехня это всё: как ты сейчас меня с Арсением разделишь? Да я сам любому горло перегрызу. А сил не хватит -- так вот Васька поможет.
Васька согласно закивал головой и повёл огромными плечищами.
-- Терпелка у народа лопнет, тогда им небо с овчинку покажется, -- сказал Григорь Михалыч в непонятно чей адрес. -- Работяга -- он везде работяга. Ох, с огнём играют. Забыли, и поле Куликово забыли, и Степана Разина забыли. Всё пирог поделить не могут!
И снова Арсений не совсем понял, что хотел сказать Григорь Михалыч, но переспрашивать не стал: неудобно.
-- Дядь Арсений, а сколько километров до Бреста? -- спросил Шурка из кухни.
-- Полторы тысячи.
-- Ого! А до этой Долины Смерти, где деда воевал? -- он произносил последние слова с какой-то гордой интонацией.
-- От вас -- не знаю, а от меня -- две тысячи шестьсот пятьдесят километров.
-- Ого! -- в один голос говорили мальцы и снова уходили обсуждать животрепещущую тему.
-- Были у меня и фотографии, -- сказал Григорь Михалыч, -- да потерялись в госпитале. Меня туда без сознания принесли: это уже потом, когда наступление началось.
Возможно, он развивал бы военную тему и дальше, но тут прибежала Зинка -- продавщица из магазина. Вся такая расфуфыренная, губки "сердечком". Махнула одним глотком "штрафной" фужер и стала местные новости рассказывать. Рассказывает, а с Арсения глаз не сводит. Даже в краску вогнала.
Потом песни пели. Потом Зинка Арсения танцевать тащила, но он не соглашался. А потом стемнело, и Антонина стала убирать со стола. Ушла, наконец, и Зинка, получив заверения, что завтра все собираются у неё.
Арсений загнал машину во двор, покурил с молчаливым Васькой и тоже пошёл отдыхать.
3.6.
Арсению постелили в небольшой комнатке, вход в которую был из кухни. Спать все легли рано, "с курами". Наверное, чтобы встать "с петухами" -- деревня, она и в Африке деревня. Арсений слышал, как Антонина закончила убирать со стола, недолго звенела посудой: мыла и расставляла в сушилку. А потом в доме всё стихло, и из тёмных закутков стали выходить воспоминания: уже своя, родная, полесская деревня, мать и отец. Матери он почти не помнил: белая кофточка на старой фотографии и совсем чужое, незнакомое лицо. Она сильно болела и умерла, когда Арсению было три года. Отец один поднимал сына. Но и об отце в последнее время вспоминалось одно и то же: в тот раз Арсений приехал последним рейсом автобуса...
В доме у отца стоял тот неистребимый, характерный для холостяцкого жилища запах смеси табачного дыма, рыбных консервов и просушиваемых портянок. Да ещё медикаментов: шприцы и ампулы лежали в картонной коробке из-под обуви на подоконнике.
Запустение, пыль, паутина. Печь не белена: в саже, в копоти.
"Надо с Аней приехать, навести порядки", -- подумал тогда Арсений.
Приехал...
Отец лежал на постели, заправленной серым, солдатским одеялом и курил самокрутку. "Папиросами не накуриваюсь", -- пояснил Арсению. Он держался, ни на что не жаловался и только твердил:
-- Пропадёт дом, развалится без меня. Шифер есть, перекрыть -- некому. Ты б приехал когда... Не нужно, никому не нужно.
Как ему объяснить, что некогда? Проще кого-нибудь нанять -- не соглашается. Говорит, что люди засмеют...
Арсений попробовал издалека, хитростью:
-- Ты бы пожил у нас с месяц, вот ремонт и сделали бы.
Не на того напал. Какой хозяин разрешит ремонт в своё отсутствие делать?
Как уговорить? Ничего не придумал Арсений. Только сходил к аптекарше, которая отца колола, дал ей сто долларов: как откупился. Она заверила, что всё нормально будет.
А что нормально? Разве это нормально: лежать одному, глядя в потолок, и ждать смерти?
На берегу озера, недалеко от дома, на песчаной отмели -- старая отцовская лодка вверх дном. Деревянные борта выщерблены, покрыты глубокими трещинами-шрамами. Тронь -- рассыплется... Арсений тогда подумал, что ещё в прошлом году собирался просмолить её. Теперь -- не надо: не имеет смысла.
"Не надо, никому ничего не надо". Сколько тоски и отчаянья.
Беспомощность... Или бессердечность, замаскированная под срочные проблемы? Время такое: деньги надо зашибать, чтобы от других не отстать. Отстанешь -- пропадёшь. Город -- не деревня: кто не крутится -- тот не ест. А "кто не ест -- тот и не пьёт". Тот ни мебели, ни машины, ни уважения в городе не имеет.
"Васька Григорь Михалыча не бросит. Ваське на город наплевать и растереть, -- проскочила мысль. -- А я чего попёрся? За "птицей счастья завтрашнего дня"?
Взгляд у отца уже отрешённый был, безнадёжный.
Так и уехал Арсений ни с чем: отец переезжать к нему отказался наотрез. Когда прощались, смахнул слезу со старческих, подслеповатых глаз. Какая-то детская обида в них была. Да, прав был тот старец, у церкви, когда сказал: "Каждый человек умирает в одиночестве". Наверное, надо было сделать всё по-другому. Наверное, надо было любыми средствами убедить отца переехать к нему. Или придумать что-нибудь. Что? Самые простые вопросы в жизни зачастую и есть самые неразрешимые...
Воспоминания плавно переросли в расплывчатые видения. Берёзовая роща и обветшалый помещичий домик. Арсению очень хотелось узнать, что там, внутри. И он осторожно заглянул в приоткрытую, висевшую на одной петле входную дверь. В полумраке комнаты он различил тёмное пианино и стоящий на нём подсвечник, массивную, очевидно, дубовую скамью у стены и распятие на самой стене. Посреди комнаты, прямо на полу, стоял патефон. Рядом с ним небольшой кучкой беспорядочно громоздились чёрные пластинки. Некоторые были расколоты.
Арсений обошёл домик и заглянул в пустой оконный проём со стороны фасада. Эта комнатка была поменьше первой, и в ней стоял узкий платяной шкаф с зеркальной дверкой. Зеркало потемнело, расслоилось от времени. Длинноногий деревянный табурет возвышался перед детской кроваткой.
В кроватке сидел ребёнок. На его шее висел небольшой деревянный крестик на тёмной нитке. Ребёнок смотрел на Арсения и беззвучно плакал.
"Почему он здесь один? Кто его бросил в этом пустующем доме?", -- вопросы, быстро сменяя друг друга, промелькнули в тускнеющем сознании.
-- Не бойся: я хороший, -- сказал Арсений ребёнку и проснулся.
Слёзы просто душили его, и некоторое время он рыдал, уткнувшись лицом в подушку. А потом это прошло, и он снова уснул.
Так есть ли память у Вселенной?
Что связывает прошлое с настоящим, а настоящее -- с будущим?
Образы прошлого, образы будущего.
У них тоже есть голос -- это эхо. Выйди рано утром, когда ещё не спал туман, выйди на Куликово поле, закрой глаза и приложи ухо к земле. И ты услышишь поступь времени. Ты услышишь, как образы прошлого говорят тебе:
-- Для чего мы полегли здесь? Для чего сложили головы мужи и отроки, сильные и слабые, знатные и простые? Все, все, кто только мог удержать в руках копьё и хоть немного натянуть тетиву лука. Все, все, в чьих жилах текла -- не водица -- кровушка человеческая.
"Высокие травы согнулись под тяжестью обильной росы, и холщовая рубаха промокла насквозь..."
Это первое, что он помнил из туманного детства. Конечно, было ещё много всего, что он не мог вспомнить. Конечно, было...
Но это первое воспоминание сохранилось, может быть, оттого, что ему было страшно. Страшно потому, что он заблудился в этих высоких травах, и было зябко, и он плакал. Он плакал, и слёзы стекали по щекам, падали вниз и смешивались с обильной холодной росой. Ему был виден клочок неба над головой. Оно уже начало светлеть, окрашиваться розовыми прожилками. И вдруг снова всё потемнело, и он поднял глаза вверх и увидел над собой широкое, бородатое лицо. Кто-то сильный и большой поднял его высоко-высоко над травами и сказал:
-- Глядите-ка -- малец!
И их окружили со всех сторон, повторяя:
-- Малец! Малец! Елизар мальца нашёл!
Елизар отогнул ворот холщовой рубахи, увидел кедровый крестик на суровой нитке и сказал:
-- Крещёный, откуда ты здесь? -- и, не дожидаясь ответа, добавил: -- Промок весь. Надо накрыть тебя чем.
А потом его завернули во что-то тёплое, согретое чьим-то телом, и снова сказали:
-- Малец! Мальца нашли! Надо князю сказать!
И его понесли, передавая из рук в руки, и он увидел перед собой красивое, чистое лицо князя. И князь сказал:
-- Не иначе, добрый знак. Вот за мальца этого сегодня и биться будем. Слышите? Все слышите?
-- Слышим, -- ответил за всех Елизар.
А после ринулись татары чёрной тучей, на лошадёнках маленьких, косматых, злых. Ринулись с диким криком, визгом, улюлюканьем на Елизарово ополчение, которое собрал он у себя в слободе из отроков юных и стариков немощных -- всех, кто уцелел от супостата. И понял Елизар, что не устоять им перед этой тьмой бесчисленной, перед этой силой нескончаемой. И выступил Елизар вперёд, и крикнул своему ополчению:
-- Эй, отроки! Зри на меня! Зри, как я сейчас умру и глазом не моргну!
И ринулся навстречу ворогам. И стал рубиться открыто, не страшась гибели неминуемой. Потому что знал, за что; знал, за кого. И потом, когда подняли его над землёй-матушкой, пронзив сразу тремя пиками, оглянулся Елизар и увидел, что не дрогнули отроки, стоят грудью. Гибнут, но стоят! Плачут, но стоят!
И ещё увидел он над всем полем лик мальца, которого утром нашёл. И спросил:
-- Вспомнишь ли?
Так что ответить им? Не напрасна ли их великая жертва?
Что передать тем, кто ещё не пришёл в жизнь эту, в сегодня? Кто ещё находится в будущем. Какие слова, настоящие, не лживые, не трусливые, не пропитанные подленьким эгоизмом сказать им? Какие поступки совершить, чтобы иметь право потом, когда превратишься в образ прошлого, в эхо земли, спросить потомков: не напрасна ли была моя жертва? Чтобы иметь право встать рядом с мужами и отроками, вплестись в ленту памяти вместе с теми, кто слёг в землю-матушку на бескрайних полях и в долинах, кто покоится в тёмных морских глубинах и на заснеженных горных перевалах.
Это надо решать, не откладывая, здесь и сейчас, сию минуту, сей миг. Чтобы будущее не застало врасплох. Ибо оно уже совсем рядом, в том колокольном звоне, который ещё не слышен. Он ещё не слышен, но он уже есть. Он ещё не слышен, но уже ощутим, как упругое напряжение тишины. Как беззвучие чьих-то шагов, угадываемых лишь по лёгкому дуновению ветерка, по чуть колеблющемуся пламени свечи. Тех шагов, которые вот-вот взорвут тишину своим грохотом, громовым набатом, ураганным рёвом.
Вы ждёте будущее? Оно уже здесь! Это оно спрашивает, спрашивает у каждого: "Что значит для тебя поле Куликово?"
3.7.
За окном уже было светло, и часы на руке показывали половину девятого.
"Пора вставать, -- подумал Арсений и словно спохватился от смутных воспоминаний: -- А где же Елизар?"
Что-то промелькнуло в сознании, вспыхнуло падающей звездой на краю ночного неба и рассыпалось мириадами ярких искр.
Сингулярность и скрытые параметры, проекции небытия на бытиё, ясные сны и глубокие корни поступков -- в чём их смысл, где их начало, начало начал, ядро, суть? Где растут эти высокие травы, отчего они так высоки? От обильной росы ли поднялись? От обильных слёз ли и крови отроков невинных?
"А где же Елизар? -- снова подумал Арсений. -- Какой Елизар?"
Он потихоньку оделся и вышел на кухню.
-- Мы тебя не будили, -- сказал Григорь Михалыч. Он сидел в костюме за столом в своей комнате и, водрузив на нос очки, читал какую-то книгу. -- Умывальник во дворе.
Арсений вышел во двор, открыл машину и, сидя за рулём, побрился электробритвой, работающей от аккумулятора. Потом умылся холодной водой из алюминиевого умывальника, висевшего на заборе. Вода приятно остужала лицо, прогоняя остатки сна.
Григорь Михалыч поставил на стол тарелки со вчерашними закусками, налил в кружки горячий чай, и они позавтракали вдвоём.
-- Я сегодня поеду, -- сказал Арсений.
-- Дело хозяйское. А по мне, так хоть всю жизнь живи. Места хватит. А то и Зинка не против, -- улыбнулся Григорь Михалыч и, не увидев ответной реакции, добавил: -- Шучу, шучу. Не могу я тебя задерживать, хоть и хочется. Я и так перед тобой в долгу вечном. Не знаю, как и отблагодарить.
-- Не за что, я ведь это скорее для себя делал.
-- Есть, есть за что: я все эти годы как между молотом и наковальней жил. Мне сказать людям нечего было: что бы ни сказал, всё бы выглядело желанием оправдаться. А теперь -- другое дело. Теперь любому понятно, что я в этой жизни не сволочью был. Умирать не стыдно: ни перед детьми, ни перед внуками. Они меня вчера как будто в первый раз увидели, -- и Григорь Михалыч снова, без перехода, заговорил о давнем. -- Я тогда не отморозил ничего. В санчасти выпил стопку -- Петя раздобыл -- да и обратно на позиции. А утром -- наступление. Артиллерия хорошо поработала: цели-то известны. Моя рота за эти цели жизнями заплатила, сполна заплатила. А после артобстрела -- в атаку. А там -- и рукопашная. Я вблизи как глянул на их оборонительную линию -- не по себе стало: бетон, сталь, капониры, орудия под колпаками, доты. Страх, страх подступил: всё это в штыковой атаке преодолеть, телом, руками, кровью. И -- взяли! За один денёчек взяли, сломали, опрокинули. Вот знак памятный остался.
И, расстегнув рубаху, показал застарелый рубец.
-- Штыком получил, в тот день, седьмого числа. Если бы не медаль -- прямёхонько в сердце штык вошёл бы, -- Григорь Михалыч вздохнул. -- Медали и ордена потом забрали, сняли вместе с погонами и пистолетом. В штаб дивизии вызвали, уже после госпиталя. Двое за руки схватили, а третий -- замполит мой -- ножом ремни и обрезал. Он и донос написал. Отомстил мне за то, что я его из наградных списков повычёркивал. Он ведь, гнида, за всю войну ни разу во врага и не выстрелил. Обида страшная была, когда погоны и награды сорвали. А вот эту награду никто не отнимет, -- и он снова указал на шрам. -- Потом немного поутихла обида. Не я один таким был. Меня же досиживать отправили, обратно в Севдвинлаг. Хорошо ещё, что фронт в зачёт пошёл. Так в бараке со мной Сашка Бакин жил. Их отряд -- тоже все погибли в бою у Рыбачьего. Все, только Сашка спасся. Ему глаз осколком выбило и позвоночник задело. Он к бревну себя привязал и в ледяной воде так и плыл, пока его моряки не подобрали. А после госпиталя -- в лагерь, как предателя. "Почему все погибли, а ты выжил?" Значит, предатель. А Сашка мне потом написал -- мы вместе освободились, в один день, 8 мая 1950 года, накануне праздника, -- что ему, когда он на фронт уходил, мать тайком иконку в телогрейку зашила. Потом дала откусить кусочек хлеба от краюхи, а остальной -- спрятала. И сказала: "Вернёшься -- доешь". Молитва матери -- великая сила... Все в мире возможно при помощи молитвы и любви.
Григорь Михалыч начал убирать посуду со стола, но Арсений не дал: сам сложил тарелки и отнёс на кухню.
-- Поставь там. Антонина придёт -- помоет. Хорошая моему Ваське жена досталась. Да и он не дурак. Техникум закончил. Но ему с железяками лучше дело иметь, чем людьми командовать. Пусть шоферит. Людьми распоряжаться -- надо и способность к этому иметь, и душу... Вспомнил, фамилию замполита вспомнил: Мази. Да, так, по-моему. Усатый такой, -- потом засмеялся и сказал: -- А может, в этом вся тайна, почему фашистов одолели, а своих "мазей" одолеть не можем.
-- В чём? -- не понял Арсений.
-- В усах -- вот в чём, -- и процитировал:
Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому
(Чтоб ему провалиться, проклятому!)
А потом, озорно подмигнув, добавил:
-- Антисоветские стишки Корней Иванович написал! А раз не посадили, раз выжил, значит -- предатель. А если серьёзно, то откуда это в нас: безропотное, рабское подчинение. Да и кому? Трусам, вроде моего замполита Мази. Откуда у них такая власть над народом? Вначале я думал, что со времён ига пошло беззаконие, беспредел, жажда наживы: ведь во власть только и прутся ради наживы. Поэтому и иммунитет депутатский придумали -- вот где верх цинизма. А потом рассудил: не в иге корень проблемы. В нас самих. В каждом. А в чём именно -- не знаю, не открылась мне эта тайна. Может, ты что скажешь?
-- Я только одно скажу: я им больше не слуга. Кончилась их власть надо мной. Плевать я на них хотел. Око -- за око, зуб -- за зуб.
Григорь Михалыч покачал печально головой.
-- Значит, нет у тебя страха за себя?
-- Нет.
-- Значит, считаешь, что не властны они над тобой?
-- Не властны.
-- У них, Арсений, система. Я теперь понимаю, почему меня тогда в клоповник бросили: чтобы я ни думать, ни рассуждать не мог. Чтобы сознание моё всё время было занято. Сегодня для этой цели телевиденье служит. Методы разные, а цель одна: не дать человеку самим собой быть, своим умом жизнь анализировать. Обновлённая, так сказать, система. А с системой в одиночку не справишься. Но и то уже хорошо, что ты своё мнение осмелился иметь, не захотел быть винтиком, тварью бессловесной. Только не всем его высказывай -- это всегда было смертельно опасно. Я, видишь, тоже своё мнение имел. Из-за этого и вся жизнь наперекосяк. А сейчас хоть и время другое, да людишки те же остались. Неужели в человеке рабство неискоренимо? Как думаешь?
Арсений немного замялся, собираясь с мыслями. А потом сказал:
-- Не знаю.
-- Вот-вот, я тоже не знаю. Это я сейчас такой умный. А тогда искренне считал товарища Сталина Отцом Всех Времён и Народов. Бескорыстным, честным и справедливым. В корысти я его не могу упрекнуть и сейчас, но вот в честности и справедливости... Но я не об этом. Почему мы терпим? Почему не противимся, когда отнимают у нас всё, даже жизнь? Почему испугались "козявочки"? Фашиста разбили -- такую силищу, что и представить себе невозможно. Сколько в лагере я геройских ребят повидал, бесстрашных, честных -- ни один беззаконию не воспротивился. Как загипнотизированные всё равно. Почему? Найди ответ: мне это уже не под силу.
Арсений слушал и думал о том, что он и сам ничего в этой жизни понять не может. Рад бы, да, видно, "рождённый ползать летать не может". "Бери побольше, бросай подальше" -- вот, наверное, и вся его философия. "Не надо думать, с нами тот, кто всё за нас решит". А стоит ли думать? Всё равно будет то, что с Манькиной дочкой было.
-- Русская душа -- загадка, -- сказал Григорь Михалыч. -- Всех любит, всех прощает: и своих, и чужих. Русский человек стаканчик выпьет и последнюю рубашку отдаст. Неважно: врагу ли, другу ли. У меня вот случай был: сопровождал пленного в штаб. Мои ребята приволокли: заблудился, бедняга. Пурга тогда была -- в шаге ничего не видно. А он, болезный, в санчасть шёл: простудился с непривычки, в температуре горел. Да маленько перепутал, не в ту степь завернул. Долго, видать, плутал, выдохся весь: снегу-то выше пояса. Да темно, да морозец за тридцать -- кто хочешь, заблудиться может. Замёрз бы немец насмерть, если бы на наши позиции не вышел. Ввалился в пещерку -- мы её под блиндаж приспособили -- и сразу к печке: ни здрасте, ни пожалуйста. Ребята чуть со смеха не поумирали. А он, бедняга, и губами пошевелить не может. Я ему из НЗ стопочку налил -- он выпил. Покормили малость. А когда пурга стихла, повёл я его в штаб. Иду себе, а он за мной, как собачка на поводке. Я остановлюсь -- он остановится, я иду -- он идёт, потеряться боится. И такой жалкий, что, ей Богу, убить его -- рука бы не поднялась. Какой он враг? Такой же баран, как и я. Вот тебе и вся идеология: дай человеку поесть да согреться, и никакой он тебе не враг. Но у меня тогда ум совсем не тот был, что сейчас. Не анализировал я жизнь. А вот образ немца этого в памяти остался. Не зря, видимо, остался. Почему мне его жалко было, не знаю. Не за себя переживал -- за него. Потом много ещё таких случаев повидал, когда русский человек к врагу жалость проявлял. Может, мы и власть так же жалеем? Не чужие ведь. Кто знает, слабость это или сила. Кто знает, что человеку на том свете зачтётся. А на этом -- лучше злое не вспоминать, простить, не судить... Злое само себя и осудит, и накажет. Отцы грешат, а у детей оскомина на зубах. Зло -- это от старого русского слова "зело". Значит, много, больше чем надо, избыток. Чего у тебя избыток, то и зло: денег ли, власти ли, силы ли, ума ли. Вот Горбачёв по уму хотел, по совести... Нет, чего у тебя в избытке, то тебя и погубит... Я тебе не надоел?
-- Нет, я и сам так думаю, -- сказал Арсений. -- Вот только интересно, чем всё кончится?
-- И мне интересно... Хороший ты человек. Бог тебя послал с весточкой-то, не иначе. Значит, помнит про меня, не забывает. А может, соскучился, к себе забрать хочет? Шучу. Это шутки у меня такие. В этом деле не мы решаем: пора или не пора. Как бы то ни было, а спасибо тебе огромное. Через пару часов Васька придёт: я его в артель за рыбой снарядил. А мы, если можно, давай проедемся, здесь недалеко: ногами я уже не дойду.
3.8.
Арсений обрадовался предложению: ему и самому не хотелось в доме сидеть. И они вдвоём поехали вначале по центральной деревенской улице, а потом свернули к кладбищам, на пригорок. За кладбищами, вдоль дороги, тянулись стройные ряды деревьев: что-то вроде лесозащитной полосы. Только росла здесь не обычная для полосы акация, а посаженные ровными рядами, как солдаты в строю, клёны. К ним и попросил подъехать Григорь Михалыч.
Они вышли из машины и устроились на обтёсанном, приспособленном под скамеечку бревне. Это было не совсем понятно: кто и зачем соорудил здесь уголок для отдыха. Видимо, Григорь Михалыч угадал мысли Арсения. И потому пояснил:
-- Всё это сделал я. И рощу посадил -- тоже. Долго думал, какие деревья выбрать. Хотел сначала кедр или дуб. Но потом прикинул: разворуют, переведут. И остановился на клёне. Листочки у него красивые, резные. А по осени краснеют, загораются. Осенью издалека их видать. Как будто солнце тут заходит. Листья у деревьев -- как глаза у людей. Или вот цветки посмотри... На день открываются, на ночь -- закрываются. Точь-в-точь как глаза.
Арсений посмотрел на голубые колокольчики, разбросанные в зелени травы. Мохнатый шмель облетал их поочерёдно, и его жужжание было единственным звуком, нарушавшим тишину утра.
-- Всю жизнь меня будто что-то мучит, -- сказал Григорь Михалыч. -- Как будто свою вину загладить не могу. А какую вину? Перед кем? Непонятно. Старался по совести жить. Не всегда, конечно, получалось. Были и моменты малодушия. Да словно грех какой-то кровный на мне висит: не разогнуться.
-- А вы не писали потом насчёт реабилитации? -- спросил Арсений.
-- Писал. Ответ пришёл. И подпись под ним: полковник Мази.
Григорь Михалыч провёл рукой по седым волосам, поправляя их, и продолжал:
-- Я как-то заметил: где солдаты похоронены -- там всё по-другому. На голом камне, на чистом песке деревья начинают расти. И трава пышная, особенно иван-чай. Сто девяносто девять деревьев здесь. Васька обещал, что и моё посадит, потом...-- он огляделся вокруг, словно прикидывая: подойдёт ли этот день для того, чтобы умереть. -- Хорошо, что ты приехал, скрасил мои последние дни. Я как будто всё заново пережил этой ночью, всю жизнь вспомнил, всех и всё, что унесу с собой. Иногда я думаю, что смерти нет. Что те, кто умер -- они просто отстали в пути. Те дороги, что мы проходим сегодня, они пройдут только завтра или послезавтра, или через год. Я оставляю им памятки, знаки: чтобы знали, что и я -- не забыл. Посмотри, какая красота кругом. Не может быть, чтобы всё это было зря, чтобы ничего потом не оставалось, чтобы всё забылось. Нет, раз было создано, значит, не зря.
Некоторое время они оба молчали, а потом Григорь Михалыч снова без видимой связи -- наверное, такой уж был у него образ мыслей -- спросил: -- А теперь скажи мне, что у тебя? Какая беда?
Арсений замешкался с ответом, и Григорь Михалыч продолжил:
-- Я знаю, вижу, чувствую. Ты неспроста приехал.
И тогда Арсений рассказал ему всё. Григорь Михалыч слушал внимательно, не перебивая, а после сказал:
-- Давай-ка мы с тобой ещё немного проедем. Я хотел на кладбище, да ладно: успею туда. Давай-ка мы с тобой в соседнюю деревню заскочим. Я так думаю, что не всегда надо искать там, где светло.
Это была та фраза, которую когда-то сказал старец, и Арсений насторожился. Какое-то непонятное волнение, предчувствие охватили его.
Они подошли к машине и сели в неё. Арсений хотел было завести двигатель, но Григорь Михалыч остановил его.
-- Я тебе сейчас кое-что расскажу, но это -- большая тайна. И с ней надо поосторожней.
Было видно, что Григорь Михалыч волнуется, и Арсений кивнул головой.
-- Я учительствовал до самой пенсии. И потом ещё пять лет: не хотелось в четырёх стенах сидеть. А после всё-таки выперли меня: давай, старик, молодым дорогу. Ну, я тоже не против. Мне, конечно, и пенсии хватает. А время теперь такое, что и пенсию, и зарплату получать -- и в самом деле нахальство. Одному -- густо, а другому -- пусто, -- Григорь Михалыч помолчал, собираясь с мыслями. -- Поскучал пару лет перед телевизором. Всё равно как в очереди на кладбище, ей Богу. Я всегда говорил ученикам: отдых -- это разнообразие труда. И вот в соседней деревне случилось несчастье: девочку парализовало, ноги отнялись. В школу ей попасть невозможно стало. Учителя сначала на дом к ней наведывались. А потом потихоньку это дело заглохло: у всех хозяйство, с работы -- на огород. Борьба за выживание, одним словом. Конечно, если бы им доплачивали, а так... В общем, стал я ту девочку учить. Хорошая девочка. Не то даже слово -- хорошая. Чудесная. Родители бедные, "аж синие". Мать -- в колхозе дояркой, а отец -- шоферил, мучился. Сам должен знать, какая техника в колхозе: скрипит, но едет.
Арсений согласно кивнул головой.
-- Так вот, однажды повёз он, Андрей значит, детей из школы в райцентр: то ли на концерт какой, то ли ещё куда -- не важно. Автобус маленький, для перевозки людей не предназначенный. Но и везти нельзя -- не по правилам, и отказаться нельзя -- турнут с работы, ещё и по спине постукают. Понимаешь ситуацию?
-- Да, -- сказал Арсений.
-- В жизни, как и на фронте: победили -- командира заслуга, проиграли -- солдат крайний. И никуда не денешься. Побоишься, помолишься и -- вперёд. Авось пронесёт. Так и Андрей: выехал, а сердце не на месте. После ночи гололёд был, и его на спуске понесло. Ты должен был проезжать этот спуск, километров пятнадцать отсюда.
Арсений вспомнил этот спуск: опасный, с поворотом, без отбойной полосы. И кювет метров тридцать. Такой спуск поневоле запомнишь, чтобы десятой дорогой объезжать. Особенно зимой.
-- Для меня это был подъём, -- сказал он.
-- Ну, правильно, -- согласился Григорь Михалыч. -- Это когда в райцентр от нас едешь -- спуск. А обратно -- подъём. И значит -- понесло автобус: резина старая, тормозить нельзя.
-- Да, -- согласился Арсений. -- Тормозить нельзя: только двигателем по чуть-чуть.
-- Я не очень эти детали понимаю. Но ты представляешь, как дело было?
-- Да, -- кивнул Арсений.
-- Мне потом Андрей говорил, что в мыслях со всеми попрощался: даже если выжил бы -- тюрьма пожизненно.
Арсений снова представил себе описываемую ситуацию. Как опытный водитель он понимал: катастрофа была неизбежна. Но из слов Григорь Михалыча выходило, что Андрей не пострадал.
-- И что потом? -- спросил Арсений.
-- Потом никто ничего не понял: автобус остановился сам. Приезжала милиция из района, искали, смотрели, ломали голову -- ничего не нашли. Лесовоз стоял снизу, ожидал, водитель тоже боялся ехать. Потом того водителя опрашивали, а он -- ни слова разумного сказать не мог. Вот стал автобус на спуске, в самом низу, как вкопанный. Должен был разбиться -- не разбился. Я этого водителя с лесовоза знаю. Да и ты тоже.
Арсений посмотрел вопросительно.
-- Это Васька мой.
Григорь Михалыч глянул на реакцию Арсения и продолжил:
-- Признался мне Васька, под большим секретом признался: видел он. Видел, как конь, весь такой из света, как из молний, грозный такой конь встал перед автобусом, и тот остановился. Честно сказать, я и верил Ваське, и не верил. Верил потому, что сам -- ох, как! -- много повидал. А не верил, как и всякий атеист: пощупать дай руками. Правда, потом спросил я у Андрея. И он удивился: откуда я знаю? И тоже признался: был конь из молний. Возник ниоткуда, прямо на повороте, стал грудью и остановил автобус. Только никому об этом не скажешь: засмеют или на белую горячку спишут.
-- Это запросто, -- сказал Арсений.
-- Но ты-то веришь? -- спросил.
-- Да, -- ответил Арсений, и ответил искренне.
Видимо, Григорь Михалыч уловил эту искренность в его голосе.
-- Вернулся домой Андрей, радостный, к дочке обниматься. А она встать не может: ноги парализовало... Вот такая история.
Арсений не знал, что можно сказать в этом случае.
-- Ей было тогда семь лет. А сейчас уже четырнадцать. Сейчас уже ей учителей не надо: сама всё себе находит, что учить. Вышивает так, что глаз не оторвёшь. Но я к ним заходил часто, пока ноги подводить не стали. Заедем?
-- Заедем, -- согласился Арсений.
Волнение не покидало его.
-- Только ты вот что, -- Григорь Михалыч подумал немного, видимо, о том, как поделикатнее сказать. -- Ты на неё очень пристально не гляди и вопросы не задавай: всё, что надо, она сама скажет. Ты только слушай, внимательно слушай. Даст Бог, и тебе что-то откроется.
Потом он попросил Арсения нарвать колокольчиков, и Арсений нарвал небольшой букетик. А когда подъезжали к нужному дому, Григорь Михалыч опять предупредил:
-- Мы никому об этом не говорим: ни Андрей, ни его жена, ни я. Даже домашние мои об этом не знают. Нельзя про такое говорить: люди алчные проведают, поломают девочке жизнь. Она и так несчастна, а прознают про её дар -- замучат. Людям ведь всё равно: только бы себе выгоду поиметь. А тебе я открылся потому, что знаю: ты -- не такой. Да и помощь тебе нужна. А вдруг что хорошее откроется.
3.9.
Домик, к которому они подъехали, ничем не отличался от других: такой же палисадничек под окнами, такой же навес над воротами. Когда машина остановилась, в окошке показалось мужское лицо. Показалось и пропало. А когда Арсений и Григорь Михалыч зашли во двор, из сеней вышел мужчина, по виду немного старше Арсения. Вышел как бы настороженно, но, увидев Григорь Михалыча, широко улыбнулся и сказал с всё тем же, ставшим уже немного привычным для Арсения, "берлинским" акцентом:
-- Это ты приехал? А я смотрю: машина-то не наша. Номера чудные такие, красные, прямо нарочно быков дразнить.
Они поздоровались, и Григорь Михалыч представил Арсения Андрею.
-- Мой знакомый из Бреста, -- пояснил он. -- Весточку привёз.
-- Из Бреста? Эк, какой круг. Не забоялся сам ехать? А весточка-то от кого? Кто там у тебя в Бресте: неужели зазноба? -- Андрей говорил в шутливом тоне, и глаза его улыбались.
-- Тебе как: правду сказать или соврать? -- спросил Григорь Михалыч.
-- Да когда ты в последний раз правду-то говорил? И сам, верно, не помнишь. Всю жизнь детишкам врал про светлое будущее. Врал или нет?
-- Врал, -- согласился Григорь Михалыч.
-- Вот и я о том. Давай ври дальше, от кого весточка из дальних краёв.
-- От меня.
-- От тебя? -- Андрей и на самом деле выглядел удивлённым.
-- Да, от меня самого, только молодого.
-- Чудак ты, Григорь Михалыч. Если хочешь выпить, я тебе и так налью, без выдумок.
-- Ты? Нальёшь? -- в свою очередь сделал удивлённое лицо Григорь Михалыч. -- Воды из колодца. Да и то пожалеешь.
А потом уже серьёзно сказал:
-- По делу мы: надо с Оленькой поговорить.
Волнение охватило Арсения с новой силой, когда он услышал имя девочки.
-- Раз надо, значит -- надо, -- тоже серьёзно и немного настороженно сказал Андрей.
-- Я ей цветов привёз. Сейчас отдам, и мы с тобой и про весточку мою потолкуем, и чайку нагреем. А вот Арсений пусть пока с Оленькой поговорит.
-- Пусть поговорит, -- согласился Андрей. -- Раз ты так считаешь.
-- Считаю, -- сказал Григорь Михалыч, и они вошли в дом.
Вошли, и Арсений замер, поражённый открывшейся его взору красотой. Хоть и говорил Григорь Михалыч, что ученица его красиво вышивает, но словами невозможно было передать, что увидел Арсений. Это было именно то, что называют "вдохнуть душу". Цветы на развешенных по всему дому гобеленах, на полотенцах, на салфетках были живыми. Их было много, они были везде, их лепестки шевелились под лёгким дуновением ветра, они смотрели на Арсения, и некоторое время он оставался неподвижным.
Из смежной комнаты, услышав голос Григорь Михалыча, на инвалидной коляске выехала Оленька. Её тоненькое личико светилось радостью, но, увидев незнакомого человека, она немного застеснялась.
Григорь Михалыч отдал ей букетик колокольчиков и сказал, указывая на Арсения:
-- Это мой хороший друг. Он приехал ко мне издалека, привёз мне очень дорогую вещь.
-- Я так и знала, дедушка, что ты придешь, -- сказала девочка. -- Я тебя очень сильно ждала.
Голос у неё был тихий, слова немного растягивались и звучали необычно, таинственно, словно в них содержался скрытый, глубокий смысл.
-- Я знаю, -- Григорь Михалыч погладил её по русой головке. -- Только не мог я сам придти: ноги мои совсем уже не ходят. Вот спасибо дяде Арсению: привёз.
-- Спасибо вам, -- сказала девочка и украдкой взглянула на Арсения.
-- Мы с твоим папой пойдем на кухню самовар ставить, а ты развлекай гостя, -- сказал Григорь Михалыч. -- Хорошо?
-- Хорошо, -- согласилась девочка, немного осмелев.
Но, когда Григорь Михалыч и Андрей вышли, в комнате воцарилось немного неловкое молчание.
-- Мы сорвали эти цветы в роще, которую посадил Григорь Михалыч, -- сказал Арсений, чтобы разрядить обстановку.
-- Я знаю, -- сказала Оленька. -- Он всегда приносит мне цветы. Я люблю полевые цветы. Но только их не надо ставить в воду. Их надо вкладывать в книгу, между страницами, и они не умирают. Вот, -- она подъехала на коляске к полке в комнате и сняла с неё книжку. -- Проходите сюда, садитесь на диван. Посмотрите, какие они красивые.
Арсений вошёл в комнату и сел на старенький, со светлыми, лакированными подлокотниками, диван.
-- Мою дочку тоже зовут Оля, -- сказал он.
-- Я знаю, -- как ни в чём не бывало, ответила девочка.
И Арсению показалось, будто мягкая, нежная, благодатная волна захлестнула всё его существо. Благодатью заполнилось всё вокруг, и словно стены комнаты исчезли, растворились в воздухе, открывая чудесный, усеянный цветами зелёный простор.
Раскрыв книгу, между страницами которой лежали разные цветы, девочка как будто совсем забыла о госте. Она что-то шептала, но Арсений не мог расслышать её слов.
-- Я разговариваю с ними, -- спохватившись, наконец, сказала Оленька Арсению.
И сказала это так, как сообщают большую тайну. И эта тайна стала тем мостиком, который объединил их.
-- Да-да, -- заговорила девочка увлечённо. Они много знают, они рассказывают мне свои истории. Цветы могут всё: они могут помочь, а могут и навредить. С ними надо дружить, надо уметь их слышать. Хотите, я научу вас слушать цветы?
-- Да, -- согласился Арсений.
И девочка сказала:
-- Я тоже когда-то была цветком. Все люди были цветками, но они не помнят об этом. Потом, когда человек умирает, он опять становится цветком. И это совсем не страшно: быть цветком или птичкой, или бабочкой, или травинкой, или песчинкой. Это так интересно!
-- Да, -- робко согласился Арсений. -- Я хотел бы быть ласточкой или кузнечиком.
-- Всё в мире сделано из света, -- сказала девочка. -- И цветы, и люди, и всё-всё. Об этом написано в учебнике: белый свет разлагается на семь основных цветов.
-- Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны, -- сказал Арсений.
-- Правильно, -- девочка от радости, что её понимают, захлопала в ладоши. -- Всё в мире сделано из цветов. Поэтому я могу вышить любой предмет и любое чувство; я могу вышить радость или печаль. Надо только понимать цвета: они бывают хорошие и плохие, добрые и злые.
-- Мне нравится, как ты вышиваешь. Но я не знаю, какие цвета добрые, а какие -- злые.
-- Конечно, -- согласилась Оленька. -- Вы их не понимаете. Разве можно, чтобы пол был синим?
-- Я не знаю, -- сказал Арсений.
-- Зачем же вы тогда сделали пол синим?
Пол в его прихожей действительно был синим: Арсений положил там кусок синего линолеума, который неизвестно откуда оказался в кладовке отцовского дома. Дом продали, а линолеум -- ну, не выбрасывать же хорошую вещь.
-- Я просто не думал, -- сказал Арсений. -- Я не придавал этому значения.
-- Значение надо придавать всему: всё имеет своё значение. Пол должен быть коричневым. В крайнем случае -- зелёным. Но не синим: свет обиделся на тебя.
Оленька вдруг заговорила с Арсением таким тоном, каким она разговаривала с Григорь Михалычем -- как с близким человеком: доверчиво, на "ты".
-- Я переделаю, -- заверил Арсений.
-- Конечно. А синий цвет спрячь в темноту, и он не сможет тебе навредить. В темноте он уже не будет синим.
-- Я так и сделаю, -- сказал Арсений.
-- Им тоже не нравился синий цвет, но они боялись сказать тебе об этом. Человек, которого боятся другие -- злой.
-- Я не знал, что меня боятся.
-- Ты не злой. Просто ты всё время их ругал, если они что-нибудь не так делали. А ругать нельзя. Надо быть добрым. Обещай, что не будешь их больше ругать.
-- Обещаю.
-- Наш кот Петька тоже не злой. Он очень, очень добрый. Но иногда делает плохо. Вчера он залез на стол и украл большую рыбу. Но он не знает, что так делать нельзя. Поэтому он не злой, -- объясняя, девочка внимательно смотрела на Арсения: понимает ли он. -- Папа на него накричал, но Петька не обиделся: он знает, что папа тоже не злой. Петька не боится папы.
Потом девочка снова посмотрела на цветы между страницами книги и сказала:
-- Они и сейчас боятся тебя.
-- Я не думал, что я -- злой.
-- Нет, ты не злой. Просто людям иногда бывает обидно. Ну, как ты не понимаешь! Вы, взрослые, ничего не понимаете. У вас есть два глаза, а вы смотрите одним. У вас есть два уха, а вы слушаете одним. И слышите только одну букву, одно слово -- "я". А надо слышать: "Я, стоящий в огне на вершине славы своей". Это вам всё говорится, чтобы вы выполняли.
Арсений пытался вникнуть в смысл сказанного, и это ему почти удалось. Почти, потому что в последний момент слова сами собой перемешались, слились в нечто целое, и смысл фразы стал недоступен для понимания.
-- Если видеть не всё, а только половину, то это уже неправда, обман. Но все так привыкли. Им рано знать всё слово.
А потом Оленька закрыла книгу с цветами, положила её обратно на полку и сказала:
-- Я ещё умею сказки рассказывать. Но я их не придумываю -- они сами придумываются.
Чёрный кот с белой отметиной на груди вошёл в комнату и забрался Оленьке на колени. Она стала гладить его, и кот улёгся, закрыл глаза, словно приготовился слушать.
-- Это наш Петька. Он любит сказки. Хочешь, я расскажу тебе?
-- Расскажи, -- согласился Арсений.
-- В некотором царстве, в некотором государстве жила-была одна маленькая девочка. И у этой девочки совсем не было друзей. Потому что, потому что... с ней никто не хотел играть. И тогда девочка стала дружить с цветами. Она научилась разговаривать на языке цветов, и они ей рассказывали всё, что происходило на белом свете. И вот однажды к Земле стал приближаться большой чёрный Дракон. Он хотел проглотить всю Землю и всех людей. А цветы попросили инопланетян, чтобы они спасли девочку. И инопланетяне дали девочке космический корабль. Но корабль был очень маленький, и девочка смогла взять с собой только один Аленький цветочек в горшочке. Они сели в корабль и полетели к звёздам. Они летели долго-долго, и у них кончилась вода. И тогда цветочек стал засыхать и умирать. И негде было взять воды, чтобы напоить его. Потому что всю воду во Вселенной захватил Дракон. И тогда девочка стала просить Дракона, чтобы он дал немного воды для цветочка. А Дракон сказал ей, что даст воды, если она подарит ему Аленький цветочек. Девочка очень любила свой цветочек, но она согласилась. Потому что иначе цветочек бы умер. И девочка опять осталась одна, потому что с ней никто не хотел играть. И она стала вышивать цветными нитками свой любимый цветочек. И он ей снился, и говорил, что очень скучает без неё. И потом он засох и умер, хоть его и поливали каждый день. И девочка долго плакала. А люди смотрели на вышитый цветочек и говорили, что он как настоящий. И девочке снова стало хорошо, потому что она подружилась с вышитым цветком, и он стал настоящим.
Оленька немного помолчала и, словно подводя черту, сказала:
-- Все люди умирают. А цветок умер и рассыпался на много частей. А из частей потом выросли другие цветы, совсем маленькие. И они не помнили, что они летали в космос. А когда я им рассказывала, они мне не верили.
Григорь Михалыч и Андрей вошли в комнату. Андрей внёс самовар, а Григорь Михалыч -- чашки.
-- Папа, правда, мы не наказали Петьку за то, что он украл рыбу? -- спросила отца Оленька.
-- С тобой накажешь, -- сказал Андрей и потом, специально для Арсения, пояснил: -- Спрячется, гадёныш, под столом и лапой всё ворует, что с краю лежит.
Оленька радостно засмеялась и снова захлопала в ладоши, повторяя:
-- Он хороший, хороший. Его нельзя бить. Я не дам никогда-никогда. Я его каждый день целую много раз, и он не превращается обратно в Дракона.
Петька спал у неё на коленях безоблачным сном, вытянув лапы, ощущая свою полную безопасность.
3.10.
Позже, когда они возвращались домой, Григорь Михалыч сказал Арсению:
-- Ты, может, сразу и не поймёшь ничего. Но потом обязательно что-то случится.
И пояснил:
-- Я охотником был заядлым. Ижевочка у меня, горизонталка, "двенадцатка" была -- чудо. Бой хороший, прикладистая. Всё как будто специально по мне сделано. А вот однажды -- уже после того, как я Оленьку стал учить -- выгоняют собаки на меня зайца. А он уже подранен: уши -- решето, висят, порванные. Кровавая пена на губах. Затравленный, кругами по полю бежит из последних сил, света белого не видит. Прямо на меня бежит. Я патроны в стволы сую -- не лезут. Но кое-как зарядил, и давай целиться. На морду ему глянул -- и оторопел. Лицо у него -- моё. Я стрелять -- не по зайцу, перед собаками -- чтобы отбить его, чтобы ушёл. Но не увернулся он. Порвали его собаки. А я свою двухстволочку любимую там же, в канаве возле поля, и разбросал: стволы в одну сторону, приклад -- в другую. И видеть всё по-другому стал. Такое стал видеть, на что раньше внимания не обращал совсем.
И Григорь Михалыч повторил:
-- Что-то обязательно случится, попомнишь мои слова. Конечно, тяжело нам к вере идти -- воспитывали нас по-другому. Или скорее дрессировали, как зверей неразумных. Но только истина всегда восторжествует, рано или поздно заявит о себе, верим мы в неё или нет.
И Арсений словно увидел вдалеке, над верхушками деревьев, там, где сплелись в меняющемся узоре освещённые солнцем облака, словно увидел лицо Оленьки, своей дочери. Радужный ореол сверкнул вокруг её головы, и видение рассыпалось на великое множество полевых цветов.
3.11.
Дома у Григорь Михалыча уже были все: даже дети из школы отпросились. Кастрюли стояли на плите, попыхивая паром. Но Григорь Михалыч сразу прошёл к себе в комнату и, не раздеваясь, прилёг не постель. Видимо, устал очень. От обеда отказался, а Ваське велел Арсения покормить и в машину всё загрузить. А что загрузить -- Васька и сам знает. Уезжает, мол, сегодня Арсений.
Антонина налила Арсению щей, поставила миску с кашей, котлетами и побежала Ваське помогать. Шурка с братьями тоже суетились, галдели во дворе, больше мешая родителям, чем помогая.
Арсений пообедал и подошёл попрощаться к Григорь Михалычу. Тот лежал на постели, тяжело дыша, как и вчера, чуть приоткрыв глаза.
-- Вовремя мы с тобой повстречались, -- сказал он Арсению. -- Эх, хороша жизнь. Хороша, что ни говори. Вот так жил бы и жил бы... Деревья садил бы, внуков растил бы... Когда всё пролетело? Не заметил. Двухтысячный год... Две тысячи лет -- сколь всего за это время перемололось! Да всему свой час...
Арсений взял его за руку: она была холодна.
-- Я много пожил и кое-чему научился. Я научился отличать хорошее от плохого. То, что я тебе сейчас скажу, очень важно. Возможно, ты это не сразу и поймёшь, не сегодня. Но потом поймёшь обязательно.
Григорь Михалыч помолчал, давая понять всю важность того, что он собирался сказать.
-- НАША ВСТРЕЧА -- ЭТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО В МОЕЙ ЖИЗНИ.
Арсений склонился над постелью и поцеловал его в колючую, небритую щеку.
-- А теперь иди. Васька тебя проводит, -- совсем тихо сказал Григорь Михалыч. И попытался приподняться на постели, но, видимо, сил у него на это уже не хватило. Тогда он перекрестил Арсения и ещё сказал:
-- Благослови тебя Бог, сынок.
Васька-Оглобля шёл рядом с Арсением до самой машины, точно как тот немец, не отставая ни на шаг. Арсений протянул ему на прощание руку.
-- Ну, значит, приезжайте, -- скомкано произнёс Оглобля, впервые за два дня обращаясь непосредственно к Арсению, обращаясь на "вы", и неуклюже обнял его своими громадными ручищами.
А когда машина тронулась, рванулся за ней вслед, словно тоже хотел ещё сказать что-то очень важное. Но, сделав пару шагов, остановился, махнул рукой, ссутулился, и пошёл к дому, неуклюже загребая землю ногами.
Белоснежные лебеди плавали на синих створках ворот, грациозно выгнув шеи, и издали выглядели совсем как настоящие Лебеди-неразлучники, не способные ни предать, ни забыть...
3.12.
К своему дому Арсений подъехал вечером, уже затемно. Поставил "Волгу" под окнами, забрал из багажника скоропортящиеся продукты и отнёс их в квартиру. Но не успел он распаковать, разложить всё по полкам холодильника, как в прихожую вошёл сосед-футболист.
-- Я видел в окно, как ты подъехал, -- пояснил он. -- А тебе телеграмма, я расписался.
И он протянул Арсению бланк.
Телеграмма была от Васьки-Оглобли: "Отец умер". И всё.
-- Надо бы по "сотке" за помин души, -- сказал сосед-футболист.
-- Да, -- согласился Арсений.
-- Только давай у тебя, -- сказал сосед. -- А то моя на кухне уборку затеяла, -- и спросил: -- Хороший, видать, человек был?
-- Да, -- сказал Арсений. -- И добавил: -- Теперь их ровно двести.
-- Можно и по двести, -- согласился футболист. -- Раз человек был хороший.
"НАША С ТОБОЙ ВСТРЕЧА -- ЭТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО В МОЕЙ ЖИЗНИ".
3.13.
На следующий по приезду день Арсений перетаскал из машины в подвал все припасы, которые ему загрузили Антонина и Васька. Места на полках не хватило, и пришлось ставить банки в ряд на полу. Работая, Арсений то и дело вспоминал недавние события, и в сердце что-то покалывало. Мало таких людей на земле, ох, как мало. Почему? Почему встречаешь их слишком поздно. И сразу теряешь. Это неправильно, так не должно быть. Но так есть, и с этим приходится жить. Какая-то тоскливая мелодия звучала, стонала в глубине души, не умолкая. И надо было хоть что-то делать, чтобы этот стон не заглушил все остальные звуки в мире.
Наведя порядок в подвале, Арсений съездил в магазин и купил рулон линолеума нужного размера. Рисунок на линолеуме имитировал паркет и был светло-коричневого цвета. "Ну, этот им наверняка понравится", -- думал Арсений.
Старый линолеум он аккуратно снял, свернул, перевязал верёвочкой и вынес во двор: хотел выбросить в ящик для мусора. Но вездесущая бабка-пенсионерка из соседнего подъезда не дала сделать это. Ворча себе под нос что-то про "дурных богатеев", она забрала линолеум и потащила по земле к своему подъезду. Арсений, сжалившись, помог ей отнести "богатство" в квартиру и вернулся к себе. Дома он копошился в прихожей до самого вечера: подгоняя куски по рисунку, прибивал линолеум плинтусами. Работа незаметно увлекла его, он соскучился по работе, и время как-то быстро пролетело. Закончив, он осмотрел прихожую и остался доволен. Она и в самом деле стала другой: светлой и радостной. Как он раньше не придавал значения цветам? Ведь они -- теперь он в этом убедился -- так много значат. Правильно сказала Оленька: от них зависит настроение, они умеют дарить и радость, и печаль.
Потом Арсений поужинал и сел у телевизора. Сел просто так, чтобы отдохнуть и развеять мысли, которые то и дело возвращались к образу Григорь Михалыча.
Транслировалась какая-то юмористическая передача. И какой-то молодой, умного вида человек корчил глупые рожи. Зрители в зале покатывались от смеха, но -- странное дело -- Арсению стало за них неудобно: они унижали сами себя, стараясь быть глупее, чем есть. И он переключил телевизор на другую программу. И снова ничего не понял. Красиво одетые люди стенали с экрана, воздевая руки к небу, неестественно выпучив глаза, кривляясь лицом и дёргаясь всем телом. Диктор монотонно читал текст, совсем не соответствующий происходящим событиям. Фарс, безумный, бессмысленный, дикий фарс, который пытались выдать за настоящую жизнь. Высосанные из пальца проблемы, наигранные страсти, мёртвые маски вместо лиц. Какое отношение всё это имело к Арсению? Или к Григорь Михалычу, или к Ваське-Оглобле, или к тем детям с заправки в Сегеже?
Арсению стало почему-то стыдно: не за себя -- за тех, кто имитировал реальную жизнь, тенью проползая по экрану телевизора.
"Там никого нет, там только тени. Там только полумрак: тени не выносят яркого света. Там всё окутано мерзкой, липкой паутиной".
Нет, это невозможно было вынести, это невозможно было больше терпеть.
Арсения просто всколыхнуло, захлестнуло волной гнева, досады, разочарования. Он выбежал на кухню, взял там нож и, вернувшись, обрезал питающий провод телевизора.
Этот поступок в данном случае казался ему единственно правильным.
3.14.
Арсений никогда раньше не задумывался над тем, что значат в его жизни вещи. Простые вещи: кресло, полка с книгами, шкаф. Раньше он их вроде и не замечал. А теперь они вдруг обрели совершенно новый смысл: кресло, в котором вечерами сидела и вязала свои бесконечные кружева жена, полка с детскими книгами дочери и шкаф, в котором каждая мелочь напоминала о прошлой жизни.
Вещи -- символы, вещи -- связи с той жизнью. Той, другой, которая уже закончилась, отделилась, отдалилась...
Пёстрые, разноцветные обложки книжек покрылись слоем серой пыли. И Арсений видел частицы этой пыли, серой, безразличной, холодной. Он просто чувствовал, как задыхаются под её слоем яркие цвета красок на трогательных детских рисунках. Поэтому он снял книжки на кресло, брал их одну за другой, сдувал с них пыль и складывал на протёртую полку.
Тили-бом, тили-бом!
Загорелся Кошкин дом!
Два года после свадьбы они жили на квартире: снимали небольшой домик на окраине, у самой реки. Весенним паводком заливало погреб во дворе, и картошку переносили в кладовку. В тепле клубни прорастали и становились мягкими.
Оля заболела скарлатиной: заразилась от соседского мальчика.
Заканчивался уголь и дрова. И Арсений ходил по вечерам за обрезками на пилораму.
Он тогда часто дежурил по ночам -- крутил баранку на "скорой", -- а жена и дочь одни спали дома. Рано утром он возвращался с работы и, полулёжа, дремал на диване. Аня, ещё немного сонная, готовила завтрак и что-то тихо говорила. Но он не слушал её, а думал о том, что летом им здесь, в этом домике на берегу тихой речушки, будет очень уютно. И что надо обязательно завести маленькую собачку для дочери.
Ему было хорошо оттого, что они -- рядом.
Счастье -- это просто быть рядом с теми, кого любишь.
Какими ненужными, глупыми, мелочными кажутся размолвки и ссоры в той, прошлой жизни! Разве нельзя было дарить только радость тем, кто тебе дорог? Ах, как он был раньше слеп, не видел очевидного. Не хотел видеть.
У Вселенной нет тайн. Все свои тайны держит она на открытой ладони: приходи, бери, пользуйся, радуйся, верь, надейся, люби. Нет, не надо просто так, не надо дарить -- это не выгодно. Надо купить подешевле, а продать подороже. Всё купить и всё продать: и веру, и надежду, и любовь. А если получится, и душу: если устроит цена.
В мире слепых достоинство определяется на ощупь. И невелика цена тому, что нельзя пощупать руками. Души оптом и в розницу -- сезонная распродажа. Рубль -- штучка, три рубля -- кучка. Бросовый товар.
У Вселенной нет тайн. Тайны придумали ловкие мошенники, чтобы убедить зрячего в том, что он -- слеп. Так неужели для того, чтобы прозреть, сначала надо ослепнуть? Неужели для того, чтобы познать всю глубину любви, обязательно надо потерять тех, кого любишь? Неужели для того, чтобы узнать истинную ценность души, надо её погубить злобой, очернить корыстью, втоптать в грязь лжи, лжи всем и самому себе. Лжи, отнимающей радость жизни и у того, кого обманывают, и у того, кто обманывает.
Так кто ворует жизнь у человека?
Тем, кто вовремя этого не понял, остаются только воспоминания. Печальные воспоминания о прошедшем празднике.
Невидимые нити связей, соединяющие души. Они натягиваются, как струны, и причиняют боль. Боль души. Словно разрывают её, живую и бессмертную, на мелкие, кровоточащие части.
В прошлой жизни шкала ценностей для Арсения была иной. Цели были простыми и ясными: заработать денег и купить квартиру. И они её купили в новом микрорайоне на окраине города -- так было дешевле.
Хвойный лес начинался прямо за небольшим пустырём у дома. В выходные они часто брали с собой продукты и уходили на целый день в лес. Устраивались там на какой-нибудь полянке, бегали друг за другом, играли в бадминтон, и при этом всё время весело смеялись. Арсений иногда прятался за деревьями и слушал, как жена и дочка ищут его. Они кричали, что на них напали волки.
В этом же лесу он спилил ёлочку на Новый год. Дома он поставили её в углу комнаты, на столике. А телевизор пришлось перенести на пол. И весь день прошёл в радостных хлопотах. Вечером жена возвратилась с работы -- тогда она ещё работала на швейной фабрике -- и по пути забрала дочку из садика. А Арсений вышел встречать их на остановку. Он нёс Олю на руках, и она всё время спрашивала:
-- Папа, у нас ёлка такая, как в садике: большая под потолок?
-- Нет, наша до потолка не достаёт.
-- Вот на столечко? -- показывала дочь руками. -- А к нам придёт Дед Мороз?
-- Придёт, но только ночью, когда ты уже будешь спать.
-- Он принесёт мне подарок?
-- Да, ты найдёшь его утром.
-- Папа, а это правда, что настоящих Дедов Морозов не бывает?
-- Не разговаривай: простудишься.
-- А ты почему разговариваешь?
-- Я -- взрослый.
-- Взрослые все врут. Я знаю: их переодевают.
-- Кого переодевают?
-- Дедов Морозов.
Дома они все вместе накрывали стол, и дочь снова спрашивала:
-- А почему Новый год не бывает каждый день?
-- Так надо, -- отвечал Арсений.
-- А огоньки когда загорятся?
-- Как только Дед Мороз их зажжет.
-- Их надо включать в розетку, -- говорила дочь. -- Папа, правда, нам хорошо на Новый год.
-- Да, -- соглашался Арсений.
-- Я люблю тебя и маму.
-- Ты хорошая, послушная девочка, -- говорил он и целовал её.
Через неделю спиленная ёлочка начала осыпаться, и Арсений сжёг её на пустыре.
Тили-бом, тили-бом!
Загорелся Кошкин дом!
А в самом деле, почему Новый год не бывает каждый день? Кто запрещает людям сделать это, если от этого зависит счастье?
"Я люблю тебя и маму". Только один раз он услышал эти слова от дочери. Один раз, один короткий миг. И всё? За всю жизнь только этот миг? Для чего? Чтобы просто помнить: было? Почему он не приносил подарки каждый день? Когда, в какой момент он ослеп, и чёрная бездна поглотила его?
А теперь всё в прошлом, в недосягаемом прошлом. Ушло безвозвратно и никогда больше не повторится.
Или повторится, если отдать за это всё? Всё без остатка -- не жалко!
Этот миг того стоит.
Ах, если бы...
Как случилось, что средство стало целью? Стыдился своей бедности? Досадовал, что у других дети лучше одеты? Да, и постоянно обвинял себя в том, что мало, мало, мало, мало зарабатывает. Запах денег закружил, одурманил, заманил в коварный водоворот, из которого теперь не выбраться.
Самые роскошные вещи никогда не заменят "роскоши человеческих отношений". Все сокровища мира ничтожно малы по сравнению с сокровищами детской души.
Ведь было, всё было в его руках. Упустил, променял, погнался за миражом. Даже не задумывался о том, что время обратного хода не имеет. Безумец, укравший всё у самого себя.
Так кто ворует жизнь у человека?
Когда отец умер, Арсений продал родной дом: решил купить грузовик. Вот с этого, пожалуй, и началось. Да, появились деньги, и не надо было считать копейки от получки до аванса. Аня уволилась с фабрики: зачем работать за гроши, когда можно "грести капусту лопатой"? Но исчезло что-то, что поважнее денег. Как будто вместе с домом был продан, отвергнут и тот краеугольный камень, который переходил испокон веков от отцов к детям, от детей -- к внукам. И нечего теперь после себя оставить. Прервана связь времён. Нет основы -- нет ничего. Так, пустота да лживые ценности, блестящие побрякушки, никчемная суета, невесомость, мрак...
Свет лампад погас,
Воздух вывелся.
Али жить у вас разучилися?
Арсений перебирал разноцветные книжки на полке и сдувал с них пыль. В этой второй жизни он делал всё машинально, отстранённо и медленно, как будто заканчивался завод в механической детской игрушке.
Одна из книжек была без обложки, и он вспомнил, что когда-то купил её для себя, чтобы скоротать время в дороге. Но так и не прочитал почему-то. А обложку из картона, видимо, порезал на прокладки: ничего другого под рукой, наверное, не нашлось. Книжка была тоненькой, малого формата, и листочки её из низкосортной бумаги уже сильно пожелтели от времени.
Арсений просто так, ни о чём не думая, начал читать первую страницу. Сначала ничего из прочитанного он не понимал. Но потом незаметно увлёкся, погрузился в виртуальный, придуманный мир. И постепенно этот мир захватил его и стал не менее реальным, чем тот, который начинался за окном его квартиры.
Книжка, "без обложки и первых страниц", начиналась так:
4.1.
Это только поначалу звёзды кажутся неподвижными. Но если долго, очень долго смотреть на эти бело-голубые огоньки в тёмной, почти чёрной, бездонной дали ночного неба, они начинают кружиться. Сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее, словно разлетаясь от центра к краям огромного, искрящегося вихря. И когда это происходит, когда звёзды оживают, всё остальное исчезает. И время останавливается. А в наступившей тишине слышен только отдалённый, тонкий-тонкий, малиновый звон колокольчиков.
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, -- словно маленькие молоточки стучат по маленьким наковальням.
И звон постепенно нарастает, становится всё более громким, как звон настоящего, большого молота, бьющего со всего маху по раскалённым в горниле железным заклёпкам, намертво соединяющим тяжелые цепи на измождённых запястьях беглых рабов.
Беглый раб может работать только в цепях. Чтобы не оставалось у него сил для нового побега, чтобы остаток его короткой жизни был как можно более мучителен, чтобы другим рабам неповадно было...
Страшный, полусумасшедший кузнец всегда хохотал, заковывая пленников в железо. Потом он вытаскивал из огня пышущее белым жаром клеймо и быстро прикладывал его к плечу трепещущего раба. И тогда хохот кузнеца сливался с криком боли, и тяжёлый запах жжёной плоти густой пеленой повисал в воздухе...
Все рабы должны носить клеймо своего хозяина. А беглые рабы должны быть заново клеймены столько раз, сколько побегов они совершили.
У Арсина было одно клеймо.
И он очень хорошо помнил, как его клеймили. Он помнил безумные, выпученные глаза кузнеца, его испорченные, отвратительные зубы, его приоткрытый в каком-то зверином оскале рот.
Кузнецу было по-настоящему смешно, и он показывал всем окружающим на небольшую лужицу, растекающуюся вокруг ног Арсина. Двум другим рабам, которые держали жертву за руки, тоже было смешно.
И только Арсин не смеялся: он плакал от боли и страха. Он плакал от стыда и бессилия.
Ему в тот день исполнилось шесть лет.
О, если бы была жива его мать! Она ни за что не позволила бы этим людям причинять Арсину боль.
Он помнил мать.
Он помнил её очень смутно, неподвижно лежащую с полузакрытыми глазами на убогих носилках. А потом два раба подняли эти носилки и вынесли прочь за ограду. И она только чуть заметно махнула Арсину рукой.
И с той поры никто больше не защищал его, закрывая своим телом от жгучих бичей надсмотрщиков и от таких же жгучих лучей послеполуденного солнца.
В полдень солнце было повсюду. Жаркое, оно беспощадно иссушало и без того худые тела рабов. Даже надсмотрщики после полудня становились вялыми и лениво волочили свои плети по пыльной земле. После полудня рабам прощалось то, за что утром они были бы неизбежно наказаны.
Арсин был сообразительным мальчиком и хорошо знал: после полудня надо только делать вид, что работаешь изо всех сил. И ещё он знал, что работа закончится не раньше, чем тени от холмов, расположенных вдоль края виноградника, покроют всю плантацию, и нельзя будет отличить ненавистные, колючие сорняки от побегов благородной лозы.
Тогда измученные рабы соберутся в нестройную толпу и уныло побредут, гремя цепями, под навес на краю виноградника: поесть скудное варево и забыться тяжёлым сном. Забыться на несколько коротких ночных часов, чтобы утром снова пойти по очередному, такому опостылевшему жизненному кругу, сжимая в натруженных руках отполированные до блеска черенки заступов и мотыг. Летом было хорошо: летом закованных рабов не загоняли на ночь в эргастул, не запирали в тесном, душном подвале.
Но Арсин не ложился спать вместе со всеми. Он не носил цепей и, пользуясь этим, забирался ночью на крышу навеса, расстилал там свой рваный соломенный коврик и ещё долго-долго смотрел в искрящееся мириадами звёзд небо. И тогда с ним происходило что-то непонятное: он словно сливался со звёздами в одно целое, растворялся в бесконечности неба, забывая про земные невзгоды. Он не слышал стонов и храпа, доносившихся снизу, из-под навеса. Не слышал резких криков ночных сторожей и лая собак. И не чувствовал усталости в своём теле. Он вообще не чувствовал тела. И забывал о том, что он -- раб.
4.2.
Арсин смутно помнил свою мать, но отца он не помнил совсем.
Иногда, по ночам, перед сном он пытался вообразить себе, каким был его отец. И тот всегда представлялся ему большим и сильным. Но образ отца, как ни старался Арсин напрячь своё воображение, рисовался перед его мысленным взором очень расплывчатым, туманным, и невозможно было различить ни лица, ни других конкретных деталей внешности. Но всё равно Арсину было хорошо: даже такому зыбкому, неясному образу он рассказывал обо всём, что происходило в его жизни. И мальчику казалось, что отец внимательно его слушает. Это очень хорошо, если у тебя такой отец, с которым всегда можно поделиться своими самыми сокровенными мыслями. Хотя бы ночью, хотя бы с закрытыми глазами...
И однажды Арсин подумал, что его отец -- жив. Просто он далеко, но он жив и когда-нибудь они обязательно встретятся.
Он очень хотел найти своего отца. Или хотя бы узнать, кто он.
Хоть бы кто-нибудь, когда-нибудь рассказал ему об отце. Он молил богов о том, чтобы его желание исполнилось. И, видимо, боги, сжалившись, вняли мольбам обездоленного ребёнка.
Однажды он подошёл к загородке, в которой содержались собаки, чтобы посмотреть на маленьких щенков. Они всегда такие потешные, маленькие щенки. И совсем не злые. Арсин просунул руку между переплетёнными ветвями изгороди, и в это время его ударил плетью проходивший мимо надсмотрщик, которого звали Мерул.
"Тебе здесь нечего делать, -- зло крикнул он. -- Иди работать!"
У загородки на корточках сидел старый хромой раб, которого никто и никогда не называл по имени. Старый хромой раб с обезображенным рваным шрамом лицом был ни на что не пригоден: он только носил псам еду в больших деревянных мисках. Из этих мисок он воровал еду и себе: собак всегда кормили лучше, чем рабов. Старик был изгоем: даже беглые рабы относились к нему с презрением.
Старый раб открыл небольшой вход в загородку и что-то невнятно сказал двум огромным псам. Собаки вышли наружу и их оскаленные в рыке клыки сверкнули грозной белизной.
Арсин испугался собак больше, чем плети надсмотрщика. Но псы даже не взглянули на него. Они приближались к надсмотрщику, пригибаясь на передних лапах. Тот хотел что-то сказать, но язык перестал ему повиновался.
"Эти собаки разорвут тебя прежде, чем ты успеешь раскрыть рот, -- сказал надсмотрщику старый раб. -- И никто не узнает, как это произошло".
Собаки застыли, готовые к прыжку.
Глаза у надсмотрщика широко раскрылись, и лицо исказила гримаса страха.
"Так и будет, если ты ещё раз ударишь этого мальчика, -- снова сказал старый раб. -- А хозяину я солгу, что ты хотел украсть щенка. Даже если ты останешься жив, что сделает с тобой хозяин? Он снова закуёт тебя в цепи. И ты будешь работать рядом с теми, кого ты бил своей плетью".
Старик отозвал собак обратно и продолжал: "Этот мальчик будет приходить сюда, когда захочет".
Надсмотрщик согласно закивал головой: видимо, способность говорить к нему ещё не возвратилась. А потом повернулся и побежал прочь без оглядки.
"Можешь его не бояться: он не опасен, -- сказал старик, обращаясь к Арсину. -- Приходи вечером посмотреть на маленьких щенков. Я дам тебе поиграть с ними".
Арсин удивился таким словам: все считали этого раба помешанным, выжившим на старости лет из ума.
Арсин, превозмогая отвращение, посмотрел на почти чёрное от грязи и солнца, покрытое язвами и застарелыми рубцами тело старика, на его изуродованное до ужаса лицо, и вдруг с изумлением увидел на этом лице тёмные, живые, излучающие глубокую мудрость глаза. И высокий лоб старика придавал его внешности какое-то благородство.
"Он совсем не такой страшный, -- подумал Арсин. -- И взгляд у него добрый".
"Это правда? -- недоверчиво переспросил он старика. -- Это правда, что я смогу поиграть со щенками?"
Арсин немного замялся, так как не мог обратиться к рабу по имени. И старик уловил эту заминку. "Зови меня Поллукс, -- сказал он. -- И приходи. Это очень важно".
Ещё никто не разговаривал так с Арсином. Все только понукали и обзывали его. А этот старик говорил с ним, как со взрослым мужчиной. И Арсин пообещал: "Я приду".
4.3.
Арсин сдержал слово.
Поздно вечером, когда остальные рабы улеглись под навесом, он, как обычно, взобрался на крышу. Но не лёг на свою циновку, а тихонечко спустился с другой стороны строения и, прячась от ночных сторожей за кустами виноградной лозы, пробрался на псарню.
Поллукс уже ждал его, сидя у ограды на стволе засохшего дерева. У его ног бегали четыре пушистых щенка, и он время от времени давал им маленькие кусочки вареного мяса.
"Садись возле меня и покорми их, -- с этими словами Поллукс протянул Арсину несколько кусочков. -- Надо, чтобы собаки привыкли к тебе. Дружить с собаками всегда хорошо: они не требуют никакой платы за свою дружбу".
Арсин протянул щенкам мясо на ладони, и они, поев, стали лизать ему руки своими тёплыми и влажными языками.
"Они хорошие, когда маленькие, -- сказал Арсин. -- Но когда вырастут, они могут загрызть человека насмерть". -- "Если ты подружишься с ними, они никогда не причинят тебе зла. Собаки не умеют предавать. Поэтому рабам не разрешают общаться с собаками". -- "У меня никогда не было друзей, -- сказал Арсин. -- Раньше у меня была мать, но она умерла. И я остался один". -- "Я это знаю, -- сказал Поллукс. -- Твою мать звали Герой. Она была женой Феликса, моего друга и твоего отца".
Арсин словно окаменел от этих слов, и старый раб взял его за руку.
"Да, да, твой отец был моим другом. Мы с ним вместе бежали от хозяина, разорив его дом. Потом твой отец погиб, а я остался жив. Меня не узнали из-за шрама на лице, поэтому и не казнили. И если кто-то сейчас узнает моё настоящее имя, меня убьют". -- "Я верил, я всегда верил в то, что мой отец был сильным и смелым", -- прошептал, наконец, Арсин. "Сохрани всё это в тайне. Ты уже достаточно взрослый и должен понимать, что некоторые вещи надо держать в тайне. И очень часто наша жизнь зависит от того, умеем ли мы хранить тайну". -- "Я не помню, чтобы мать мне рассказывала о нём", -- снова сказал Арсин. "Она хотела сохранить тебе жизнь. И после её смерти только несколько человек знают, чей ты сын. А из рабов -- я один. Но никто из хозяев даже не догадывается, что я знаю это. Иначе моё тело уже давно бы склевали вороны".
Сытые щенки затеяли игру: они набрасывались друг на друга и рычали, как взрослые псы. Но их голоса всё ещё срывались на писк. Молодёжь, подражая старшим, готовилась к будущим жестоким схваткам.
"Я долго решал, говорить ли тебе всё это, -- сказал Поллукс. -- Я понимал, что это значит -- начать игру со смертью. Но потом подумал, что не осталось больше никого, кто сказал бы тебе всю правду. И, может, сделав это, я освобожу свою душу...Хотя бы душу... -- Поллукс немного помолчал и продолжил: -- Это сейчас я стар и немощен. Но было время... Сколько тебе сейчас лет?" -- "Двенадцать", -- ответил Арсин. "Всего двенадцать лет, а кажется -- целая вечность прошла... Даже не верится, что когда-то я был молод и силён, как бык. Меня боялись не только другие рабы, но даже и надсмотрщики. Я никогда не работал: в мои обязанности входило охранять по ночам господский дом. Тот, который в городе. В то время много грабителей ходило ночами по улицам и дорогам".
Поллукс посмотрел на Арсина и спросил: "Ты никогда не был в городе?" -- "Я слышал о городе от других, но я никогда не выходил за ограду". -- "Ничего, -- вздохнул Поллукс. -- мы попробуем это исправить. Потом, когда настанет для этого время. Энна находится на западе, где солнце опускается за холмы, -- Поллукс указал рукой в нужную сторону. -- Можно дойти за день. А восток -- это там, где солнце встаёт по утрам". -- "Я знаю, где находятся север, юг, запад и восток. Меня научил этому один раб: раньше он был гребцом на галере. Он ещё научил меня счёту. Он сказал, что я -- смышлёный, и что мне не надо долго объяснять". -- "Богатые хозяева укрепили город так, что его нельзя взять штурмом. Богатые хозяева наполнили свои подвалы едой так, что их нельзя сломить осадой. В городе был театр, и туда приезжало много богатых людей из Италии и Греции. И жившие в Энне господа часто грабили и убивали их. Не сами, конечно. Ночью, по окончании работ, они отпускали рабов, чтобы те разбоем добывали себе одежду и пропитание. Рабы приносили иногда дорогие украшения и деньги: хозяева обещали дать за это свободу... Хозяева умны, очень умны. Они знали, что самое дорогое для человека -- это не просто жизнь, а жизнь на свободе. Многие только и мечтали получить свободу. И те, кто приносил хозяевам богатую добычу, больше не появлялись среди рабов. Господа всем говорили, что отпустили их, -- Поллукс опять немного помолчал и снова продолжил: -- Не верь обещаниям. Как только ты поверишь чьим-то обещаниям, ты потеряешь всё. Если бы я был так умён в молодости, как сейчас! За науку надо платить. И мы заплатили. На моём сердце больше шрамов, чем на моём теле. Сейчас я не хочу ничего: моя жизнь до самого последнего вздоха будет пуста и никчемна. И этого не изменить. Я не в силах изменить свою жизнь, но я могу предостеречь тебя от многих ошибок. Я не хочу, чтобы тебя ждал такой же конец, как и меня. Поэтому запомни, даже если пока не понимаешь... Запомни сегодня две вещи: никогда не верь обещаниям; город Энну нельзя взять ни штурмом, ни осадой, -- Поллукс опять замолчал, потом встал и загнал резвившихся щенков за изгородь. -- Иди и отдыхай, -- сказал он Арсину. -- Завтра будет нелёгкий день". -- "А завтра мне можно будет придти?" -- спросил Арсин. Он так и не услышал ничего конкретного о своём отце, но расспрашивать Поллукса не стал. Жизнь в рабстве учит терпению, долготерпению. Учит говорить не то, что думаешь, а то, что надо. "Да, конечно, -- ответил старый раб. -- Я буду тебя ждать". И, немного осмелев, Арсин сказал: "Почему надсмотрщик боялся тебя, несмотря на то, что у него была плеть?" -- "Он боялся меня потому, что я не боялся его". -- "Разве можно не бояться того, у кого в руках есть плеть? А что надо, чтобы не бояться?" -- "Не думать о себе..." -- "Не думать о себе? А разве такое возможно?"
Но старый раб больше ничего не сказал молодому. Он понимал, что всякое знание к ученику приходит только тогда, когда тот к нему достаточно подготовлен.
4.4.
"Твои отец и мать тоже работали в доме Дамофила -- так звали нашего хозяина. Я не знал более жадного и хитрого человека! И вот однажды вилик, который распоряжался всеми в домашнем хозяйстве, велел мне идти с ним в комнату хозяина. Я растерялся: я подумал, что ему донесли на меня. Я тогда встречался тайком, по ночам, с Гелаей, рабыней хозяйки. А у меня не было пекулия -- ни денег, ни имущества, -- и я не мог рассчитывать, что хозяин позволит мне завести семью.
Так оно и оказалось. Но Дамофил не стал меня наказывать. Он велел привести к нему и твоего отца, а потом отправил вилика прочь и заговорил с нами: "Я знаю, Поллукс, что ты не прочь получить в жёны Гелаю. А ты, Феликс, скоро станешь отцом".
Мы стояли перед хозяином на коленях и согласно кивали головами.
"У меня есть большая виноградная плантация, -- продолжал Дамофил. -- И мне нужны помощники. Свободные люди, у которых были бы жёны и дети. Я хорошо плачу таким помощникам, даю им жильё. Да вы и сами это знаете".
Я тогда ничего не соображал из-за охватившего меня страха. Страха не за себя -- за Гелаю. И твой отец наверняка тоже боялся за Геру и будущего ребёнка.
"Я многим своим рабам дал свободу, -- снова заговорил Дамофил. -- Они получили её за то, что верно служили мне. Вот Гермий и Идей -- несколько дней назад они отправились в Рим".
Это было правдой: и Гермий и Идей показывали мне перед уходом свитки с печатью Дамофила и говорили, что в этих свитках написано об их освобождении.
"Хотите вы получить свободу для себя и своих жён?" -- спросил тогда Дамофил.
И мы, как околдованные, снова согласно закивали головами.
"Завтра утром в Рим должен уехать один богатый человек. Он будет везти с собой много денег. Я сделаю так, что его отъезд задержится до вечера. Я дам его охране отравленное вино, и яд подействует на них через несколько часов. К этому времени они окажутся далеко за городом. Вы вдвоём будете следить за ними. А потом добьете охрану и самого римлянина. Никто не должен остаться в живых. И даже умершим от яда надо перерезать горло: пусть всё выглядит так, будто на них напало много разбойников. Вам дадут лошадей, доспехи и оружие".
Дамофил склонился над нами, приподнял за подбородки наши головы и поочерёдно посмотрел нам в глаза. Этого взгляда было достаточно, чтобы понять: у нас нет выбора. Хотя сейчас я знаю, что выбор у нас был. Выбор есть всегда. Просто не всегда он нас устраивает. Нас не устраивает та цена, которую надо заплатить.
Свободу не купишь за деньги. За свободу надо заплатить жизнью. Либо своей, либо чужой. Это -- цена свободы.
Мы сделали всё, как хотел Дамофил. Мы убили римлянина и перерезали его охрану. Мы сделали это потому, что хотели получить свою выгоду. А они, эти сытые и одетые чужие люди были нам безразличны. Это такие, как они, отняли у нас всё: родину, семью, свободу и даже имя -- я и сейчас живу без имени: так, старик при собаках. Скажи, за что нам было их любить, им сочувствовать? Хозяева, богачи -- наши враги. Это мы им добыли всё, что у них есть. Убить богатого -- не грех. Нас не мучила совесть.
Мы привезли Дамофилу золотые монеты в кожаных мешках. Много монет. И он отдал нам свитки со своей печатью. Потом налил две чаши вина. И мы с твоим отцом выпили это вино. А когда очнулись, то увидели голые скалы каменоломни. И цепи на своих руках и ногах. И ещё мы увидели Гермия и Идея, и многих других, которых считали живущими на свободе.
Всех рабов в каменоломне на ночь соединяли одной длинной цепью.
Нас объединяла эта цепь и ещё то, что мы все хотели купить себе свободу, заплатив за неё чужой жизнью.
Запомни это, Арсин. И иди к себе. Я хочу немного побыть один".
4.5.
В следующий вечер Поллукс продолжал рассказ: "С наступлением темноты нас приковывали к длинной цепи, а сама цепь была намертво прикреплена к огромному валуну: она опоясывала его. И под этим камнем мы проводили ночь: спали у костра. В каменоломне были и беглые рабы: их, как и нас, обрекли на медленную смерть. Были те, кого я раньше знал и с кем поддерживал дружбу. Были и те, кого я не замечал и даже презирал: раньше я считал себя выше их по положению. Раньше я во всём угождал хозяину и надеялся, что покорный раб сможет прожить свою жизнь тихо. И я выдавал хозяину тех, кто совершал проступки, кто призывал к неповиновению. Я обрекал их на медленную смерть в рудниках и каменоломнях. Я не думал, что эта участь постигнет и меня: это, по-моему, было бы несправедливо. Но несправедливо считать себя выше других. Цепь уравняла всех нас: и тех, кого предавали, и тех, кто предавал. И это стало мне уроком. Уроком, который я никогда больше не забывал: беда и смерть не знают привилегий. Перед бедой и смертью все равны: и рабы, и хозяева, и бедные, и богатые, и умные, и глупые. В беде и смерти человек становится тем, кто он есть на самом деле. Там был один хромой и больной старик. Когда-то он делал самую грязную работу в доме хозяина. И я частенько стегал его ради развлечения плетью. А потом, однажды, когда камни обрушились на нас, этот старик оттолкнул меня в сторону. А сам умер под завалом: его раздавило глыбой. Умирая, он посмотрел мне в глаза, и я отвёл свой взгляд. Я был недостоин его жертвы. Прошло много лет, но я не могу забыть этого несчастного, который спас мне жизнь. И меня часто мучают вопросы: простил ли он меня перед тем, как умереть, и зачем он спас меня? Зачем он пожертвовал собой ради того, кто его унижал?
Теперь я тоже старый и хромой, и делаю самую грязную работу. И очень рад, что мне довелось испытать это: каково быть изгоем. А ведь я мог бы так и умереть слепым, покорным хозяйской воле. И не узнать всего того, что я знаю сейчас". -- "Но ведь ты и сейчас раб, -- несмело вставил Арсин. -- Разве нет?" -- "Я живу в рабстве, но я -- не раб" -- "А разве это не одно и то же?" -- "Конечно, нет. Скоро ты поймёшь разницу. Не спеши: сначала я должен многое тебе рассказать". -- "А разве так бывает, чтобы раб не был рабом?" -- "Однажды в Рим привезли пленных германцев, -- продолжал Поллукс. -- Они были высокие, широкоплечие и очень сильные. Их пленили не в бою, а подлым обманом. А на следующий день они должны были драться друг с другом и с дикими зверями. Только наутро, когда хозяева пришли насладиться зрелищем, германцы были мертвы. Они задушили друг друга голыми руками. В живых остался всего лишь один. И он смеялся, когда его распинали на кресте. Он смеялся, а палачи визжали от бешенства: они ничего не могли с ним сделать. Они не могли сделать его рабом. Германцы были в рабстве, но не были рабами. Рабом человека не может сделать никто, а только он сам. Не всегда можно победить, но всегда можно сделать себя непобедимым. Победа зависит от противника. Непобедимость -- от себя самого. Храбрецы не живут долго. Долго живут только такие ничтожества, как я. Кому нужно кривое и гнилое дерево? От такого дерева не получишь ни тепла, ни света. Только жизнь измеряется не годами, а делами. Теми делами, о которых не стыдно рассказывать детям. Трус не понимает, что в котле с кипящей водой нет холодного места. В огне нет брода". -- "А мой отец, каким он был человеком? Расскажи, скорее расскажи мне о нём. Расскажи всё, всё, что знаешь, -- попросил Арсин Поллукса. "Ты снова слишком торопишься", -- сказал тот, усмехнулся и продолжил свой рассказ: "Говорят, что в Риме есть остров посреди реки. И называется он Асклепия. Туда отвозят старых и больных рабов и бросают умирать. У нас же всех старых, больных и тех, кто приговорён хозяином к смерти, заковывают в цепи на каменоломне. Никто из рабов не живёт там долго. Тех, кто умирал, не закапывали: их сбрасывали в ущелье. И когда тело ударялось о камни в самом низу, оттуда взлетала стая ворон. Некоторое время они кружились над упавшим телом, чёрные и блестящие. Кружились и отвратительно каркали. А потом снова садилась, и дрались между собой за то, чтобы выклевать у мёртвого глаза. А потом затихали. У них всегда было вдоволь пищи. У ворон и у диких собак, которых развелось в каменоломне очень много. Иногда они даже нападали на больных и ослабших, и тогда у надсмотрщиков было развлечение.
А в ту ночь собаки выли очень громко. Они просто кричали, как будто от страха. И этот страх передался нам всем. В ту ночь почти никто не спал. И, наверное, потому утром Гермий оступился и сломал себе ногу. Он тоже кричал от боли: сломанная кость пробила кожу и торчала наружу. Обозлённые от недосыпания надсмотрщики приказали сбросить его, ещё живого, в ущелье. Но никто из рабов не повиновался. Они стегали нас кнутами, пока не устали. Но всё равно никто им не подчинился. И тогда Басс, он был самым сильным и самым злобным, поспорил с остальными, что убьет раненного кнутом с трёх ударов. Свист от плети был таким громким, что заглушил даже предсмертный крик Гермия. Хватило и одного удара. Тогда я и твой отец -- мы посмотрели друг на друга и поняли друг друга без слов. Мы решили бежать. Бежать во что бы то ни стало. Мы хотели этого и раньше, но постоянно откладывали разговор о побеге. Мы не могли даже предположить, с чего надо начать. Ночью, у костра, мы рассказали об этом Асею: он был прикован рядом с нами. И он тоже согласился бежать. С того дня мы начали готовиться: в первую очередь надо было придумать, как освободиться от цепей и обезвредить надсмотрщиков. Их было два десятка, и они были вооружены плетьми и короткими мечами. Но ночью нас сторожили только четверо. Они были не очень бдительны и частенько спали: они считали, что цепь достаточно прочна. И были правы: она была толщиной в человеческую руку.
Асей был не такой, как остальные: он был огромного роста -- на две головы выше меня -- и волосы у него были светлые. Не рыжие, как у Идея, а светлые, почти белые. И сила в нём была огромная: однажды он поднял камень, который загородил дорогу, и отбросил его в сторону. Камень был высотой мне по пояс, и мы втроём -- я, твой отец и Идей -- не могли сдвинуть его с места. А Асей его приподнял над землёй и отбросил в сторону. Мы звали этого раба Асей, но это было не его настоящее имя. Его настоящее имя никто не мог выговорить. Асей был не только очень сильным. Он был ещё очень умным. Он бывал в разных краях, много видел и многому научился. И он придумал план, как нам освободиться от цепи. Он был не таким, совсем не таким, как остальные. И у него была одна вещь: небольшой деревянный крест на толстой нитке. Он носил этот крест, непонятно зачем, на шее, и берёг его как зеницу ока. И как-то сказал мне, что эта вещь указывает ему дорогу. Но я не мог понять, как при помощи крестика из ароматного дерева можно найти дорогу. А ещё Асей очень много рассказывал по ночам у костра. И его рассказы были очень странные. Он рассказывал о таком, чего никто никогда не слышал и не видел, о таком, во что невозможно было поверить. Но он рассказывал так, что все ему верили. Даже надсмотрщики приходили слушать его. И когда Асей говорил, все забывали, где они находятся. И это было похоже на то, как плыть на плоту по широкой реке, когда течение несёт тебя неспешно в синюю даль. И ты не можешь этому воспротивиться.
Он рассказывал о той своей родной стороне, из которой его увели обманом хитрые работорговцы и потом продали перекупщикам. Эти перекупщики шныряли по всей земле и выискивали такие народы, которые не могли себя защитить. И тогда приходили с войском и уводили всех в плен. А тех, которые были сильны, захватывали кого ложью, кого прельщали деньгами и обещаниями. Человек всегда был и будет в цене, потому что без человека нельзя ни вырастить урожай, ни построить жилище. И хитрые люди всегда будут завлекать людей в рабство сладкими речами и обещанием многих благ. Только ты должен знать, куда попадают те, кто им верит: на каменоломню.
Асей рассказывал, что в его стороне нет рабов, нет злых людей, нет надсмотрщиков". -- "Нет надсмотрщиков?" -- переспросил Арсин. "Да, там все люди свободны. А ночь и день длятся по полгода". -- "Не может быть! -- воскликнул Арсин. -- Где находится такая сторона?" -- "Далеко-далеко, за морем, за которым не видно берегов, есть пустыня, где одни пески. А в песках начинается дорога, по которой надо идти двенадцать лет, двенадцать месяцев и двенадцать дней. А потом пройти через горы, и там, за горами, и есть та сторона, в которой живут свободные люди. Кожа их бела и чиста, как заледенелый снег, телом они нежны, как юные девушки. Они не едят животных, вдыхают ветер и пьют росу. Они ездят в колесницах таких лёгких, как белые облака. И в эти колесницы запрягаются не лошади, а птицы. И птицы уносят колесницы по воздуху через горы и море. И смех у этих людей звучит, как звон колокольчиков. И в этой стороне не знают, что такое слёзы". -- "Не может быть! -- снова воскликнул Арсин и тут же спросил: -- А как же найти дорогу, которая идёт в эту сторону? Ты знаешь, ты знаешь, как найти эту дорогу?"
Поллукс ничего не ответил, только покачал головой.
В эту ночь Арсин долго не мог уснуть. Он лежал, одетый в лохмотья, на грязном, рваном, потрёпанном соломенном коврике и пристально смотрел в бесконечную глубину звёздного неба. И там, в конце усеянной голубыми алмазами ленты Млечного пути, промелькнула на мгновенье облачная колесница, запряжённая невиданными птицами. И в колеснице он различил воздушную, невесомую, до боли знакомую фигуру своей матери...
4.6.
Следующим вечером Поллукс продолжил свой рассказ: "Однажды, когда дикие собаки подступили совсем близко к костру и охранники -- они тоже их боялись -- сидели совсем рядом с нами, Асей начал рассказывать страшную историю про Зверя-человека, который дышал огнём и поедал людей". -- "Что это за зверь?" -- холодея от страха, спросил Арсин. "Асей говорил, что далеко в песках, где начинается дорога в его сторону, живёт такой Зверь-человек, изо рта у которого вылетают огонь и искры. Он сильнее всех зверей на свете, и его все боятся. Лицо у него, как у человека, а тело -- как у льва. И все, кто увидит его, живут не больше одного мига. Когда он приближается, собаки воют и делаются бешеными, а люди превращаются в камни от одного только его взгляда. И Асей сказал, что уцелеть может только тот, кто упадёт перед Зверем лицом вниз и покорится ему.
А в ту ночь собаки выли совсем нестерпимо, и охранники сидели у самого костра: они тоже слушали рассказ Асея, и им тоже было очень страшно. А потом вдруг над всеми нами из темноты поднялся кто-то огромный с чёрным лицом и красными глазами, и изо рта у него полетели огонь и искры. "Это он", -- закричал Асей и упал лицом вниз. Все остальные -- и рабы, и охранники -- тоже попадали лицом вниз.
Поллукс замолчал. Он молчал долго, видимо, ожидая, что скажет Арсин.
"Это был Зверь-человек?" -- спросил, наконец, тот. "Нет, это был я. Своё лицо я вымазал сажей, а в рот взял пустую ореховую скорлупу с дырками, внутри которой был уголёк. И когда я дул, огонь и искры летели из моего рта. Это всё придумал Асей, но охранники так и не узнали этого. Им размозжили головы раньше, чем они решились их поднять".
Арсин смотрел на Поллукса, не отрывая глаз.
"Те рабы, кто не знал о наших планах, сидели тихо: они ничего не понимали. А мы, кто всё знал -- нас было всего трое. Но мы сумели победить. Сумели потому, что очень хотели этого. Побеждать врага можно не только силой. Страх -- вот что отнимает и силу и разум. Страх рождается сомнением -- не важно в чём: в своей силе, правоте, в том, что видишь и слышишь. Заставь врага сомневаться, и ты его легко победишь. Запомни это и не сомневайся ни в чём, когда ты обнажил меч. Герои совершают великие дела не силой оружия, а силой своего духа. И ещё: не верь глазам и ушам своим, если через них в тебя входит страх; не бойся ничего, что бы ни было снаружи тебя; никогда и ничего не проси у других. А верь только тому, что слышишь внутри себя, что говорит тебе твоё сердце; и видеть надо не то, что вокруг блещет, но то, что в сердцевине трепещет; бойся только одного -- лжи самому себе; проси всегда только у самого себя: проси мужества, храбрости и силы духа".
Поллукс немного помолчал и продолжал: "Асей взял меч одного из охранников, и этим мечом мы срубили заклёпки на цепях. Собаки громко выли, и надсмотрщики, спавшие под навесом, огороженным плетёной изгородью, ничего не услышали. А потом мы освободили других, самых смелых и сообразительных. И все вместе прокрались под навес и убили остальных охранников. А потом всех убитых мы сбросили в ущелье на корм бродячим псам. Это было справедливо: мы поступили с ними так же, как они поступали с нами.
Асей всё продумал: утром мы переоделись в одежду надсмотрщиков, вооружились их мечами и повели остальных рабов по дороге к дому Дамофила. Когда кто-то встречал нас на пути, мы стегали рабов кнутами. И на нас не обращали внимания. Мы рассчитали так, что только к вечеру добрались до хозяйского дома. Привратник сидел на цепи. Он узнал меня и открыл ворота. Все считали, что я получил свободу. И я сказал, что привёл Дамофилу новых рабов. Нас пропустили, и мы быстро захватили весь дом. Тех, кто сопротивлялся, мы связали и заперли в эргастул. Но таких было немного. Большинство перешло на нашу сторону. А Дамофила и его семью спасло только то, что в ту ночь они пировали у одного из знатных горожан.
До этого момента все слушались Асея и подчинялись ему. Но, как только появилась возможность безнаказанно грабить, было забыто всё: и то, что вокруг опасность, и то, что ещё недавно мы все вместе были заодно. Рабы одевались в дорогие одежды, напивались до безумия и дрались друг с другом, не поделив добычу. Я тебе говорил о тех врагах, которые находятся снаружи тебя. Но есть ещё один твой враг, одолеть которого может не каждый. И этот враг внутри, он прикидывается твоим другом. Но только он, и никто более, способен погубить тебя. Это -- корысть. Там, где появляется корысть, там не спастись никому.
Нас, тех, кто держался возле Асея, было не больше десятка человек. Раненько утром, когда солнце ещё не взошло, и только край неба стал бордово-красным, мы сели обсуждать, как нам быть дальше. И тут мы поняли, что совершенно не знаем, что нам делать. И Асей сказал, что нам надо выбраться обратно из города, пока никто там не узнал, что произошло. Мы собрали одежду и продукты, захватили с собой оружие, украшения хозяйки и деньги, которые удалось найти в доме, и ушли из города. Мы ушли так же, как и вошли: под видом рабов и охраны. Нас было немного: Асей, я с Гелаей, твой отец с Герой -- отец нёс тебя на руках -- Идей и ещё несколько человек. Остальные рабы не последовали за нами: многие напились вина, и их невозможно было привести в чувство. Другие остались потому, что им хорошо жилось. Это были повар, вилик, и карлик-уродец, любимец хозяйки.
Почему хозяевам нравятся уродцы? Может, они видят в них самих себя? Они всегда окружают себя глупцами и уродцами, и от этого становятся похожими на них. Всякий же, кто в здравом уме, должен стремиться к тому, кто лучше его самого.
Все, кто остались добровольно, верили, что всю жизнь смогут прожить в тихом закуточке. Они не думали о том, что когда состарятся или заболеют, их неминуемо ждёт каменоломня и пропасть с голодными собаками. Рано или поздно, но всех рабов ждёт один конец. Если только они не взбунтуются...
А многие удрали ещё ночью, захватив всё самое ценное, что могли унести. Потом я узнал, что их всех поймали, когда они ходили по городу с награбленными вещами. Их всех поймали и казнили: Дамофил в ярости не пощадил никого. Но мы в то время были уже далеко: мы благополучно вышли из города и спрятались в горах, в овчарне у одного из пастухов Дамофила. Асей знал этого пастуха, и тот согласился за деньги приютить нас на несколько дней. Это была наша единственная возможность укрыться. Да и хозяину никогда бы не пришло в голову искать нас здесь".
Поллукс замолчал, переводя дыхание.
4.7.
"Пастух спрятал нас в старой, полуразваленной овчарне и продал нам немного сыра и хлеба. А после того, как мы поели, мы вновь принялись обсуждать, куда нам бежать. И выходило, что бежать нам было некуда: рано или поздно нас всех отыскали бы по клейму -- трезубцу -- на левом плече. И только Асей молчал: он знал, куда ему надо. До сих пор ни я, ни твой отец -- никто не верил рассказам Асея. Но теперь -- совсем другое дело. Теперь мы могли поверить во всё, что давало бы нам возможность спастись. И мы попросили Асея рассказать о своей родине.
Асей немного подумал, собираясь с мыслями, и начал: "Рождена была эта сторона от Отца, который в небесах неизменный, и от Матери, которая есть Земля наша. И называется эта сторона Царство Земли Будущей. И существует Царство так долго, что никто не помнит, никто не знает, никто не слышал ни от кого, сколько. И были раньше войны жестокие и битвы кровавые, и многие хотели захватить это Царство, но никому не покорилось оно. И имя его внушало страх всем врагам, но с друзьями и теми, кто отдавался под его покровительство, жило Царство в мире. И правили царством все по очереди, однако никто из них не возлагал на себя корону, никто не одевался пурпурным одеянием. И все, кто жил в Царстве, были добрыми и справедливыми, и не знали рабского поклонения, но кого они год за годом назначали себе правителем, тому они и повиновались, и не было среди них ни зависти, ни раздоров.
Птица не сидит сразу на всех ветвях дерева. Даже лев не съедает больше, чем вместит его брюхо. И люди в этом Царстве не знали алчности и корысти, и сердца их были чисты, и жили они в радости и любви друг к другу. Жили по тем заповедям и законам мудрым, которые переходили от отцов к детям. И не могли отцы детям своим плохое передать, потому и главным законом было: "Дети -- цветы жизни".
И говорилось в тех законах и заповедях о том, что от Отца получили люди дух свой, а от Матери -- тело.
И что кровь, которая течёт в нас, рождена от крови нашей Матери. Её кровь падает из облаков, пробивается из земли, журчит в горных ручьях, растекается в равнинных реках, спит в озёрах, мощно шумит в бурных морях.
И что воздух, которым мы дышим, рожден от дыхания нашей Матери. Ее дыхание голубеет в высотах небес, шепчет на вершинах гор, шелестит в листьях лесов, колышется над полями, дремлет в глубоких долинах, веет жаром в пустынях.
И что твёрдость наших костей рождена от скал и камней нашей Матери, обнажённых на вершинах гор, как спящие гиганты лежащих на склонах, сидящих, как идолы, в пустынях и скрытых в глубине недр.
И что нежность нашей плоти рождена от плоти нашей Матери, которая есть поля и пастбища, леса и равнины, зелёные ковры трав и жёлтые глади песков.
И свет глаз наших, слух ушей наших рождены от цветов и звуков нашей Матери, которые окружают нас со всех сторон, как волны морские окружают рыбу, как воздух -- птицу.
И над всем этим дух Отца нашего, который есть во всём: и в людях, и в животных, и в травах и деревьях, и в реках и озёрах, и в камнях, и в песках. И никто, и ничто не есть без духа Отца, и поэтому всё в мире живо, и весь мир жив. И не может никто другому вред принести: ни человеку, ни животному, ни растению -- а только добро и радость, и любовь. Потому, что всё сущее -- прекрасно, как благоухающий цветок. И обо всём добром будет забота Матери. Она исцелит все болезни, она даст долгую жизнь и защитит от огня, от воды, от укуса ядовитых змей. Ибо Мать наша дала нам рождение, и она поддерживает жизнь в нас. Она дала нам наше тело, и лишь она одна в силах исцелить нас. Счастлив тот, кто любит свою Мать, и кто мирно прильнул к её груди. Ибо Мать наша любит нас, даже когда мы отворачиваемся от нее. И насколько же больше она будет любить нас, если мы вновь обратимся к ней. Велика её любовь, выше горных высот, глубже морских глубин. И тех, кто любит Мать свою, она никогда не оставляет. Как курица защищает своих цыплят, львица -- своих львят, мать -- своего новорожденного младенца, так и Земная Мать охраняет Детей Земных от любой опасности и от любого зла.
Мать Земная дала людям все травы, несущие зерно, которые по всей земле, и все деревья, несущие плоды, чтобы принимали их в пищу. И каждому зверю земному, и каждой птице парящей, и всему, что ползет по земле и в чем есть дыхание жизни, даны все травы зеленые в пищу. Также и молоко всех существ, движущихся и живущих на земле, должно быть пищей людей. И в Царстве Земли Будущей увлажняют свою пшеницу, затем подставляют её воздуху и оставляют ее с утра до вечера под солнцем. И после делают тонкие лепешки. И едят только плоды деревьев, злаки и травы полей, молоко животных и мед пчел. Ибо всё, что сверх этого -- зло. А самое большое зло -- плоть и кровь, и не должны их есть те, кто любит Мать свою. Не убивают в Царстве ни людей, ни зверей, ни то, что станет пищей. Ибо если принимает человек живую пищу, она наполняет его жизнью, но если убивает свою пищу, мертвая пища убьёт так же и человека. Ибо жизнь происходит только от жизни, а от смерти всегда происходит смерть. И, убивая дикого зверя, чтобы спасти жизнь своего брата, не преступаешь закон. Ибо человек более велик, чем зверь. Но если кто убивает зверя без причины, когда зверь не нападает на него, а из-за желания убить или ради мяса его, или ради шкуры его, или ради клыков его, то совершает он зло, ибо сам превращается в дикого зверя. И конец его будет таким же, как конец диких зверей, и нет места ему в Царстве Земли Будущей. От одной Матери происходит всё живое на Земле. И потому тот, кто убивает, убивает брата своего. И от него Мать Земная отвернется и отнимет свою грудь, дающую жизнь. И плоть убитых зверей в его теле станет его собственной могилой. Ибо кто убивает -- убивает самого себя, а кто ест плоть убитых зверей -- ест тела смерти. И смерть их станет его смертью.
И у тех, кто в Царстве Земли Будущей, и дыхание, и кровь, и плоть едины с дыханием, кровью и плотью Матери Земной, и дух един с духом Отца Небесного.
И рожденный младенец может понять учение своего отца только после того, как мать вскормит его своей грудью, искупает, убаюкает и взрастит. Пока ребенок еще мал, его место рядом с матерью, и он должен подчиняться своей матери. Когда же ребенок взрослеет, отец берет его с собою на работу в поле, и ребенок возвращается к своей матери, только когда наступает час сна. И уже отец обучает его, чтобы он стал искусным в работе своего отца. И когда отец видит, что сын понял то, чему он его учил и делает свою работу хорошо, он передает ему все свои владения, чтобы принадлежали они его возлюбленному сыну, и чтобы сын мог продолжить работу своего отца. И счастлив тот сын, который принимает совет своей матери и следует ему. И во много раз более счастлив тот сын, который принимает совет своего отца и следует ему. И неизмеримо счастливы те родители, кто таким вырастил сына. Ибо главный закон в Царстве Земли Будущей -- будь во всём примером детям своим. И каждый сын есть живая связь между своим отцом, который был, и своим сыном, который будет; мост, соединяющий два берега; бечева, протянутая над пропастью. И не может быть одного берега без другого. И какой смысл в двух берегах, если их не соединяет мост?
Там, где царит любовь, там земля родит, и воздух чист и прозрачен. И бабочки порхают над зелёным лугом, и ласточки щебечут в небесах, и хрустальным звоном слышится смех детей, как будто это росинки падают с травинки на травинку, с листочка на листочек, с цветочка на цветочек.
Но вышел однажды из моря Зверь лютый, плотью питающийся, и напал на Царство Земли Будущей. Но устояло Царство, потому что все, как один, поднялись жители его и отогнали Зверя. И не мог он победить их, ибо не мог их поссорить друг с другом, соблазнить сокровищами и властью, обещаниями и посулами разными. Нельзя разделить тех, в чьих сердцах нет корысти. И стал тогда зверь стеречь Дорогу к Царству Земли Будущей, чтобы не прознали остальные люди про эту сторону и не пришли поклониться ей, и не узнали, что есть в мире счастье, и радость, и любовь. И никто не может теперь пройти в Царство иначе, чем сразившись со Зверем. И тот, кто одолеет Зверя -- проходит на Дорогу, и славу в Царстве обретает. А кто сразится со Зверем и погибнет, тот память в Царстве обретает. А кто поклонится Зверю, говоря: "кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?" -- не видать тому Царства Земли Будущей, ни детям его, ни внукам его, ни правнукам. А кто спрятался, увидев Зверя, мёртвым притворился, тот слепым стал и глухим стал, и заживо гниющим стал. И нет сильнее смрада, чем от заживо гниющего. И вода там смрадом стала, и жажду утолить нечем. И воздух там ядом стал, и дышать там нечем. И только слепые и глухие могут жить в смраде, и пить смрад, и дышать ядом".
Так говорил в ту ночь Асей".
4.8.
"Закончив говорить, Асей поднялся, но все остальные продолжали сидеть, и каждый ощущал силу слов его. И затем меж облаков появилась полная луна и осветила через прорехи в крыше всё внутри овчарни своим трепетным светом. И с неба посыпались искры, и стало светло, как ясным, солнечным днём. И ни один человек не сдвинулся с места, и ни одного голоса не было слышно. И никто не знал, сколько времени прошло, ибо время остановилось.
И еще долго все мы сидели неподвижно, а затем один за другим стали пробуждаться, как от сладкого сна. Но никто ничего не говорил: нам казалось, что слова Асея всё еще звучат и летают в чистом, как утреннее дыхание цветов, воздухе. И ещё долго доносилась до нас чудесная, далёкая музыка, которая проникала в самое сердце.
Но, наконец, один из рабов робко произнес: "Как хорошо здесь".
И другой произнёс: "Если бы эта ночь длилась вечно".
И остальные заговорили: "Если бы мы могли найти эту Дорогу!"
И никто не хотел ничего другого, говоря: "Я не хочу идти в мир, где всё мрачно и безрадостно. Зачем идти нам обратно в мир, где никто нас не любит?"
Так говорили все, и были они бедными, хромыми, слепыми, увечными, нищими, бездомными, презираемыми в своем несчастье, родившимися лишь для того, чтобы вызывать жалость у добрых и презрение у злых.
И потом Идей сказал: "Я пойду с тобой, Асей. Не откажи мне: возьми меня с собой. Я буду терпелив и мужественен, я буду упорен, бесстрашен, и никакая сила -- будь то зверь или человек -- не смогут совратить меня с этого пути".
И остальные наперебой заговорили: "Мы тоже хотим с вами".
Ибо каждый чувствовал, что слова Асея связали их всех между собой невидимыми нитями. И ощущали они, что получили новое рождение. Они видели перед собой сияющее Царство Земли Будущей, хотя вокруг были только мрачные стены овчарни. И в сердце каждого из них расцвели чудесные цветы невиданной красоты, цветы радости и любви.
И когда первые лучи солнца появились над горизонтом, они все почувствовали, что это было солнце грядущего Царства. И с радостными лицами вышли они навстречу восходящему солнцу и смотрели на его багряный диск, не отрываясь. И знали, что оно приходит из Царства Земли Будущей.
И уже никто не сомневался в том, куда надо идти.
Тогда твой отец спросил у Асея, знает ли он, как найти Дорогу. И Асей ответил, что был совсем молодым, когда взяли его в неволю. Но каждый вечер, сидя у костра, рисовал он острым осколком камня на руке своей тот путь, которым вели его, и засыпал кровавый рисунок сажей.
Потом Асей взял сосуд с водой и смыл грязь с руки, и мы увидели на ней синюю извилистую линию и знаки, которые показывали, где всходило и садилось солнце, где были реки и море, где были горы и пески. И выходило, что сначала нам надо было добраться до моря и переплыть его.
Тогда Асей сказал, что сначала надо договориться с пиратами, сколько им заплатить, чтобы переплыть с ними море. И что всем идти не надо, потому что укрыться в порту Катаны не у кого. Асею никто не возражал: он знал больше, чем кто-либо из нас. И вот однажды ночью я и Асей, мы взяли оружие и вдвоём пошли к морю. Мы шли по ночам, избегая встречи с людьми. По ночам на дорогах можно было встретить грабителей, а днём -- центурионов, которые этих грабителей ловили и распинали на крестах прямо на обочине.
Четыре ночи мы пробирались к морю и, наконец, добрались до него. На берегу мы нашли бедную хижину, в которой жил рыбак. Он был свободным, но жил ещё хуже, чем живут рабы. У рабов есть крыша над головой. В хижине рыбака крыша была только над тем местом, где он спал. Раньше у него была земля, но потом её отняли за долги, и ему ничего не осталось, как поселиться здесь, на берегу моря. Он тоже ненавидел богатых хозяев и согласился помочь нам. На те деньги и золото, что мы принесли с собой, он согласился купить большую лодку и перевезти нас, куда нам надо. И за это лодка потом осталась бы ему.
На другой день рыбак вернулся из города и сообщил, что он сторговался с владельцем подходящей лодки. И Асей сказал мне, чтобы я возвращался за остальными, а сам остался у рыбака готовить снасти и продукты на время плаванья.
Обратно я вернулся ночью, перед рассветом, было ещё довольно темно, и только полная луна светила сквозь редкие облака холодным светом. И в этом свете я увидел перед овчарней кресты, на которых были распяты все мужчины. Все, кто остался там, когда мы с Асеем ушли.
Я обходил поочерёдно распятых и с трудом узнавал их. В самом центре на кресте был прибит твой отец. Он тоже был мёртв. И вдруг я услышал стон. Я бросился в ту сторону, откуда он донёсся, и нашёл Идея. Его лицо и тело были покрыты волдырями и сильно распухли, но он был ещё жив и чуть слышно, совсем тихо стонал. Мечём я раскопал землю под крестом и осторожно положил его на траву. Когда я напоил Идея, он ненадолго пришёл в себя и рассказал мне, что произошло.
Он рассказал, что пастух -- тот, который за деньги спрятал нас -- тот пастух тоже захотел бежать с нами в Царство Земли Будущей. Но у него был пекулий: он, вместе с хозяйскими, пас и своих шесть овец. Вот и продал их другому пастуху. А потом, когда от вида денег корысть охватила его, он стал резать хозяйских овец и продавать их мясо и шкуры в Энне. Там его и схватили, заподозрив в краже. И он выдал нас. Корысть и измена -- родные сёстры. Никогда не связывайся с корыстными людьми, какую бы выгоду они тебе не сулили. Они привыкли всё измерять деньгами, всё продавать и покупать, они не могут быть никем в этой жизни -- только предателями. Запомни это, запомни накрепко: лучше с храбрым погибнуть, чем с корыстным победить.
Идей сказал, что в одно туманное утро овчарню окружила целая центурия. И несколько рабов подносили уже готовые кресты. Женщины в овчарне стали плакать. И тогда твой отец поднял тебя на руки, прижал к себе, а потом передал матери и, взяв меч, вышел наружу. Он был один: больше ни у кого из беглецов не было оружия. И некоторое время твой отец стоял и смотрел на солдат из центурии. И те тоже смотрели и не понимали, чего он хочет. Они и подумать не могли, что он вышел сражаться с ними. Один -- против всех. Это было безумием. Трусы всегда называют подвиг безумием. Им никогда не понять, о чём думает герой. Герой, который не бежит от врагов, а идёт им навстречу; который не смотрит, сколько их, а смотрит, где они.
И твой отец бросился на них. Солдаты от неожиданности дрогнули и побежали. Они все бежали от него одного. Идей говорил, что это было похоже на волнение воды. Там, куда устремлялся твой отец, волны солдат разбегались в стороны, и никто не решался подойти к нему на расстояние удара. Они боялись твоего отца. Они все, вся центурия, боялись одного твоего отца. Они ничего не могли с ним сделать: его храбрость привела их в растерянность. И он мог бы уйти, но не сделал этого. А потом они окружили его и стали со всех сторон бросать в него копья. Но даже тогда, когда Феликс упал, они ещё долго боялись подойти к нему близко. И только потом, проткнув его грудь ещё несколькими копьями, они взяли его и прибили к кресту.
Потом центурионы распяли всех мужчин, а женщин увели в город".
Поллукс замолчал, и в наступившей тишине Арсин ясно различил отдалённый лязг оружия...
Потом Поллукс продолжил: "Этот пастух, такой маленький, с большим носом и жёлтыми, как у кошки, глазами -- его звали Рокх -- он выдал и меня. Он выглянул из своей хижины и увидел, что я снимаю с креста Идея. Тогда он разбудил тех солдат, которые остались, чтобы схватить меня и Асея. И они набросили на меня сеть и связали мне руки сзади. А когда меня уводили, я крикнул Рокху, что обязательно найду его...
Центурионы -- их было человек десять -- повели меня в город, к Дамофилу. И я понимал, что меня тоже ждут пытки и крест. И, чтобы не выдать Асея, я улучил по дороге момент и бросился в пропасть. В тот день я похоронил себя. Это было страшно: похоронить самого себя. Но ещё страшнее было бы стать предателем и продолжать жить, зная, кто ты.
Я хотел быстрой смерти, но судьба распорядилась по-другому: я остался жив, только сломал ногу и рассёк о камни лицо. Солдаты не стали спускаться за мной -- это было опасно. Они некоторое время смотрели на моё тело, распростёртое на камнях, и ушли, решив, по-видимому, что дикие собаки и стервятники докончат дело. А меня подобрал тоже беглый раб: он жил в пещере и питался тем, что воровал на полях. Он подобрал и выходил меня, и в этом я вижу перст судьбы: мне надо было ещё кое-что сделать в этой жизни.
Я долго бредил в горячке, и всё время мне виделось, как твой отец в одиночку сражается со всеми. Один против всех -- вот что такое настоящая свобода. Один против всех -- я не мог просто так подохнуть в пещере. Это значило бы -- предать твоего отца, предать то, за что он отдал свою жизнь. И когда мои раны зажили и кости срослись, я пришёл в Энну и узнал, что мою Гелаю Дамофил продал неизвестно кому, а тебя и Геру отправил на плантацию, сюда, чтобы вы здесь медленно умирали от тяжёлой работы. Я прикинулся сумасшедшим и говорил, что меня зовут Гермий, что я выжил на каменоломне и бродил по дорогам -- тогда много рабов бродили по дорогам, разбойничали и добывали себе пропитание воровством. Из-за шрама на лице меня никто не узнал, и я стал смотреть за собаками. И ждать, пока ты вырастешь, чтобы рассказать тебе о твоём отце, которого звали Феликс.
Асей сказал однажды, что в жизни есть две чаши, которые следует испить каждому: это судьба и долг. Я рассказал тебе о твоём отце; я рассказал тебе, кто ты -- это был мой долг. Теперь настал черёд второй чаши. И это та чаша, которая не минует тебя, где бы ты от неё не укрывался. Мы будем пить её вместе, какой бы она ни оказалась: горькой ли, сладкой ли, мучительной или радостной. Мы будем пить её вместе, и это будет нелегко. Нет в жизни ничего более трудного, чем испить чашу судьбы. И нет ничего более важного, чем сделать это достойно. Как сделали те германцы, как сделал твой отец". -- "А мой отец..." -- начал было Арсин. "Твой отец был таким же, как эти германцы. Он знал, где настоящая слава, а где позор. Вот какой он был человек!"
"Вот какой он был человек!" -- повторил про себя Арсин и сжал кулаки.
"Вот какой он был человек" -- повторил он снова и высоко поднял голову.
И глаза у него горели ярче звёзд.
4.9.
Весь следующий день Арсин работал на винограднике, не замечая ни жары, ни усталости. Он то и дело повторял вполголоса: "Вот такой он был человек!" Его отец представлялся ему высоким и широкоплечим, в потёртых кожаных доспехах, как те германцы; с лицом мужественным, выражающим и силу, и гордость.
А когда тени от холмов покрыли всё вокруг, Арсин пошёл вслед за остальными рабами в сторону навеса. Но тот самый надсмотрщик, Мерул, который испугался собак, внезапно преградил дорогу, собрал свою плеть в кольцо и сказал: "Посмотрим, кто тебя здесь защитит". -- "Вот такой он был человек!" -- сказал ему Арсин и перехватил мотыгу так, чтобы удобнее было нанести удар. "Надо бить тогда, когда он начнёт замахиваться. Тогда я сумею опередить его", -- подумал Арсин и, взглянув надсмотрщику прямо в глаза, громко сказал: "Вот такой он был человек!"
Надсмотрщик замер от неожиданности и, придя через некоторое время в себя, невнятно пробормотал: "Змеёныш! Сколько рабов -- столько врагов". И ушёл прочь с дороги.
"Вот такой он был человек!" -- повторил Арсин и улыбнулся. Улыбнулся потому, что знал, кто был "такой человек". Его звали Феликс. И он, живя в рабстве, не был рабом.
"Даже живя в рабстве, не может быть рабом тот, в ком сильна гордость за своего отца", -- так теперь думал Арсин. А, придя под навес, он швырнул свою мотыгу в угол, быстро поел и, не скрываясь ни от кого, пошёл к Поллуксу.
Вот такой он был человек. И звали его Арсин, сын Феликса.
Собаки ещё издали узнали его и радостно заскулили, помахивая хвостами. А щенки сразу же бросились к нему, ожидая лакомства. Поллукс одобрительно посмотрел на это и сказал: "Хорошо, теперь они никогда не причинят тебе зла". -- "И без них есть, кому причинить мне зло, -- заметил Арсин и рассказал о Меруле. -- Скажи, Поллукс, почему люди бывают злыми? Я ведь никому не сделал ничего плохого. Почему он возненавидел меня?" -- "Я думаю, что злыми люди становятся оттого, что хотят получить выгоду. Получить, ничего не делая. Хотят, чтобы за них всё делали другие. И этих других надо заставить работать, надо держать их в страхе. Один волк держит в страхе стадо баранов, которые все вместе сильнее его. Но волк убивает одного барана, и остальные не сопротивляются. Они радуются, что сегодня убили другого". -- "Бараны глупые, но мы же -- люди". -- "Когда нас много, мы ничем не отличаемся от баранов. Когда я один, я знаю, что мне надо защищаться. А когда нас много, я надеюсь, что в жертву выберут не меня. Будь один, если не хочешь, чтобы стадо принесло тебя в жертву". -- "И всё равно я не сделал никому ничего плохого. Но меня стараются ударить все, кто считает себя более сильным. Почему мир так ненавидит меня? Чем я провинился перед людьми? В чём моя вина?" -- "Единственная твоя вина перед этим миром в том, что ты рождён в рабстве".
Некоторое время они молчали, а потом Арсин снова спросил: "Почему я рождён в рабстве?"
И Поллукс не нашёлся, что ответить мальчику.
Они сидели вдвоём на стволе засохшего дерева и молчали.
"Что будет со мной дальше?" -- думал Арсин.
"Что будет с ним дальше?" -- думал Поллукс.
Влажная, душная, тихая южная ночь покрывала всю землю, от края до края. И Арсину хотелось встать и идти, идти, идти хоть куда-нибудь, но только идти и не сидеть на месте, ощущая спиной шершавую поверхность сплетённой из ветвей изгороди. В эту минуту он готов был на всё, только бы очутиться подальше от этого отвратительного, грязного, жалкого места. И одна только мысль о том, что всю свою жизнь он проведёт здесь, не выходя за изгородь, была для него невыносима.
"А это правда, что Зверь-человек охраняет дорогу?" -- спросил он. "Так говорил Асей. Я сам никогда не слышал о таком от других. Я не знаю, есть ли такой зверь, такая дорога, такая сторона. Об этом говорил Асей, -- ответил Поллукс. -- Он говорил, что никто не может выйти на дорогу и не миновать зверя". -- "А как его миновать?" -- "Не знаю".
Старик погладил мальчика по голове, но Арсин даже не заметил этого, так сильно он был погружён в свои мысли. И эти мысли, ещё не совсем ясные, ещё не вполне отчётливые, роились у него в голове, как беспокойные мошки в тихой синеве вечера.
Вернувшись от Поллукса, Арсин забрался на крышу навеса, улёгся там на свою циновку, и долго ещё размышлял над тем, о чём они говорили со стариком. Размышлял и смотрел, как вращаются звёзды.
"Почему они вращаются? Вокруг чего они вращаются?" -- вдруг подумал он.
И не знал мальчик, не мог знать, не мог даже подумать о том, не мог даже предположить, что вращаются они вокруг него самого. Вращаются вокруг малейшего из малейших, беднейшего из беднейших, одного-одинёшенького сироты, попираемого и унижаемого, раздетого и голодного, вокруг него -- рождённого в рабстве. Вся Вселенная во всей своей бесконечной силе и неизмеримой мощи вращалась вокруг рождённого в рабстве подростка, и он был её центром, её ядром, её основой. Первейшим из первейших в Царстве Земли Будущей.
Поллукс тоже не спал. Он молился тем богам, которых знал, и тем, которых не знал, и всем, кто хоть чем-то мог помочь ему. Он шептал, стоя на коленях, склонив голову к земле: "Боги, дайте мне хоть маленькую надежду, укажите хоть узенькую тропинку -- не дорогу -- по которой я смогу вывести -- не себя -- этого мальчика, который никогда раньше не выходил за ограду этой ненавистной плантации, никогда не видел в своей жизни ничего, кроме кнута, скудной пищи и тяжёлого, рабского труда. Боги, помогите мне, помогите, и я согласен на самую страшную смерть, на самые жестокие пытки, я согласен на всё, но только мальчик, мальчик -- он должен стать свободным и счастливым..."
4.10.
На следующий день Арсин не стал рыхлить землю мотыгой, а пошёл помогать Катуллу -- тому самому рабу, который был гребцом на галере -- перетаскивать камни для основания новой изгороди. Эта работа была похуже прежней, но Арсин целый день трудился на солнцепёке, стараясь брать глыбы потяжелее. И даже надсмотрщики удивлялись такому его рвению. А потом, когда он вместе с Катуллом возвращался под навес, Арсин спросил: "Скажи, ты слышал о звере с лицом человека и телом льва?" -- "Конечно, -- ответил тот. -- Это Сфинкс. Он живёт в песках -- так мне говорили. И ещё говорили, что он охотится только ночью, а днём превращается в камень". -- "В камень? Но как он тогда охраняет дорогу?" -- "Я не видел его: я только слышал о нём. Я слышал, что он охраняет пирамиды. Значит, и дорогу тоже". -- "Правильно, -- сказал Арсин и добавил: -- Я буду работать с тобой каждый день. Я даже буду отдавать тебе половину своей еды, если ты научишь меня, как к нему добраться". -- "Добираться туда очень долго". -- "Двенадцать лет, двенадцать месяцев и двенадцать дней -- это не так уж и много", -- сказал Арсин. "Сначала тебе надо добраться до моря, а потом переплыть его. Тебя могут перевезти пираты, если ты им заплатишь. А потом тебе надо будет идти по пескам. Но там очень жарко, и твои босые ноги изжарятся, как на горящих углях. Если ты надумал бежать, то возьми меня с собой, -- захохотал Катулл, а потом вполне серьёзно добавил: -- Говорить надо тихо, чтобы не услышали те, кому не следует".
Вечером того же дня Арсин сказал Поллуксу: "Катулл знает, где есть этот Зверь-человек. Катулл говорит, что днём он превращается в камень. Значит, днём можно его миновать. Как ты думаешь?" -- "Думаю, что всё возможно, если только захотеть очень сильно". -- "Я хочу очень сильно, -- сказал Арсин. -- Я хочу так сильно, что готов идти прямо сейчас". -- "А если Катулл ошибается, и Зверь не превращается в камень? Тогда мы можем погибнуть". -- "Ты же говорил: "Кто погибнет в бою со Зверем, память о том останется в Царстве Земли Будущей". А если останется память обо мне, значит, она будет и об отце. И чего больше ещё может желать человек? Или жить в болоте со стоячей водой, пить смрад и дышать ядом? Я просто заживо сгнию здесь. Мы должны бежать. Мы должны найти Дорогу. Мы должны сразиться со Зверем. Мне нужен меч. Поллукс, помоги мне достать меч". -- "Он уже есть у тебя, мой мальчик, -- сказал Поллукс и снова, как вчера, нежно погладил Арсина по голове. -- Он уже есть у тебя, самый грозный и неотразимый. Он выкован из твоей храбрости и отточен силой духа твоего".
С этими словами Поллукс взял из загородки деревянную миску с водой и омыл себе левую руку от локтя до запястья. На руке, пробиваясь сквозь смуглую кожу, засинела извилистая линия, окружённая непонятными пометками.
"Я сделал себе этот рисунок, когда уходил от Асея. Сделал острым камнем и засыпал сажей. На тот случай, если мы не встретимся". -- "Значит, мы сможем найти дорогу?" -- "Конечно, сможем". -- "Значит, бежим?" -- "Как только подготовим всё, что необходимо". -- "А что необходимо?" -- "В первую очередь, продукты. Еду я украду у вилика в кладовой. Во-вторых, нам действительно надо подумать об оружии, -- сказал Поллукс. -- Меч мы не сможем достать -- здесь их ни у кого нет. Нам надо хотя бы хороший нож". -- "Я знаю, где взять нож. Позволь мне сделать это". -- "Хорошо, -- согласился Поллукс. -- Но будь осторожен".
Назавтра Арсин то и дело проходил недалеко от котла, в котором повар варил похлёбку. И когда повар -- самый толстый из всех рабов, грек по имени Филонис -- отлучился за дровами, Арсин ящеркой прошмыгнул под дощатый стол у котла и, вытянув вверх руку, схватил со стола нож с деревянной рукояткой и длинным, широким лезвием. Потом подождал немного, оглядываясь, не заметил ли его кто-нибудь, и опрометью бросился обратно.
Когда повар вернулся, нож уже был закопан в землю под третьим от начала ряда кустом винограда. И свежая земля была припорошена сухой пылью. А Арсин, как ни в чём не бывало, продолжал работу.
Повар подложил дров в огонь и хотел было нарезать овощей. Но ножа на привычном месте не оказалось. Филонис, пыхтя от натуги, склонился к земле и некоторое время искал нож под столом. А потом громко закричал, поняв, видимо, что нож пропал не сам по себе.
На крик прибежали вилик и Мерул, который только и искал повод расправиться с Арсином. Некоторое время Филонис что-то быстро говорил, а потом надсмотрщик повернулся и показал кнутом в сторону Арсина. Все трое направились к мальчику, но Арсин делал вид, что поглощён работой. Краем глаза он видел, как надсмотрщик поднял руку с плетью, но, преодолевая страх, продолжал рыхлить землю.
Первый удар пришёлся поперёк спины, ветхая накидка, покрывающая плечи мальчика, лопнула, и плеть окрасилась кровью. От второго удара Арсин изогнулся, а от третьего ноги у него подкосились, и он упал. Вилик обыскал его и, ничего не найдя, в задумчивости почесал голову. Надсмотрщик хотел ударить Арсина ещё раз, но вилик сказал: "Если он завтра не сможет работать, я поставлю тебя вместо него, -- а потом подумал и добавил: -- Надо обыскать всех. Пошли".
И они ушли, а Арсин сел на земле и улыбнулся. Он мог вытерпеть и не такое: подумаешь, плеть! Плеть -- это не оружие. А нож -- это уже оружие, и им можно сражаться с врагами.
Через некоторое время над плантацией послышались крики других рабов: они не могли так стойко перенести наказание, как перенёс его мальчик. У них, в отличие от него, не было такой цели, которая помогла бы вытерпеть любую боль. Не было такой цели, которая бы придавала жизни смысл, которая бы отличала эту жизнь от убогого животного существования.
Вечером Арсин выкопал нож и отнёс его Поллуксу. А тот спрятал нож в ветвях изгороди и похвалил Арсина. И волна радости залила всё сознание мальчика, когда он услышал слова похвалы от старого и опытного воина. Рубцы на спине горели огнём, но это была не простая боль, это было какое-то совершенно новое ощущение, ощущение чего-то возвышенного, чем можно было гордиться.
Эту ночь Арсин спал на животе, но он всё равно видел звёзды.
4.11.
К побегу было всё готово. И однажды вечером, когда луна ещё не поднялась высоко над холмами, и её свет только чуть скользил по земле, Поллукс вывел Арсина через заранее проделанный лаз в изгороди и оставил его вместе с огромным псом, которого они решили взять с собой.
"Побудь здесь немного. Я скоро вернусь. И дай мне свою накидку, а сам надень вот эту", -- сказал старый раб, взял протянутую Арсином накидку, дал ему другую, почти новую, и опять нырнул в лаз.
Арсин не знал, зачем Поллукс возвратился в усадьбу, но терпеливо ждал своего друга, вцепившись руками в густую собачью шерсть. Ему было немного страшно: наверное, оттого, что он ещё никогда не осмеливался выйти за пределы плантации.
Поллукс отсутствовал недолго, а когда снова выбрался из лаза, сказал: "Теперь идём как можно быстрее". И они ушли в темноту ночи, в ту сторону, где по склону холма петляла чуть заметная, почти невидимая, поблёскивающая серебром, колышущаяся в призрачном свете, узенькая тропинка. Ушли в надежде отыскать среди ночных теней свою дорогу, распознать среди зыбких миражей тот единственный путь, который приведёт их к свободе и счастью.
Когда они поднялись на самую вершину холма, к лунному свету примешался багровый оттенок. "Посмотри, как красиво", -- сказал Поллукс, показывая рукой в сторону имения. Там, швыряя в фиолетовое небо снопы алых искр, бушевал пожар.
"Огонь не всегда бывает врагом, -- снова сказал Поллукс. -- Огнём не только раскаляют клеймо. Огнём рабы отдают свой долг хозяевам. Теперь нам не обязательно спешить. Теперь им не до нас. У них будет над чем поломать голову, если хозяин не снимет её из-за убытков. Думаю, они не скоро станут нас искать. Особенно тебя -- невелика ценность. А лучше всего, если решат, что мы сгорели: я оставил у себя в загородке свою миску, свой сосуд для воды и свои лохмотья -- любой беглец взял бы это с собой. Да ещё оставил недалеко от дома твою накидку: она не должна сгореть, и утром её найдут. Но я не привык делать подарки хозяевам: смотри, что я принёс".
И Поллукс развернул кусок грубой материи, в которой были сложены большие хлеба и варёные бобы.
И они пошли дальше: старый хромой раб и мальчишка-подросток.
Склоны холмов, поросшие травой и деревьями, глубокие расселины, со дна которых доносился шум текущей воды, пение птиц, другие ночные звуки, шорохи -- всё это поразило Арсина своей новизной, своим очарованием и таинственностью. Никогда в жизни он не видел ничего подобного, и чувства переполняли его. Мир, этот мир, который внутри огороженной плантации был злым, жестоким и ненавистным, здесь, за пределами ограды, здесь, на вольном просторе, был совсем другим: он был настолько прекрасным, ласковым и добрым, что мальчику хотелось раствориться, исчезнуть, слиться в одно целое с этой невиданной красотой, непрерывно текущей вокруг, подобно широкой, спокойной реке, не имеющей берегов.
Они шли всю ночь, и Арсин, не чувствовавший поначалу никакой усталости, стал понемногу отставать. Он держался за спину пса, и тот помогал ему взбираться по крутым склонам. А когда они подошли к полуразрушенной овчарне -- уже светало, -- Арсин был так сильно измучен, что еле-еле держался на ногах. Да и у Поллукса лодыжка, сломанная в прежние годы, нестерпимо ныла. Ни возле овчарни, ни в ней самой никого не было. Видимо, этим пастбищем уже давно не пользовались. И Поллукс облегчённо вздохнул: будет, где отдохнуть.
Внутри овчарни, в углу, сохранилось от прежних времён немного сена -- старого, полуистлевшего. Но на нём всё-таки было лучше лежать, чем на голой земле. Арсин свалился и сразу же уснул крепким сном, а Поллукс ещё раз обошёл овчарню вокруг, разыскал в высокой траве у стены гладкий, вросший в землю валун, потрогал его руками и, удовлетворённо хмыкнув, вернулся к Арсину и лёг с ним рядом. Собака тоже вошла в овчарню и свернулась в клубок у порога. Это была хорошая, очень умная собака, и она была преданна Поллуксу. С такой собакой можно было не опасаться внезапного появления непрошеных гостей, будь то разбойники или центурионы. Поэтому и Поллукс уснул спокойным сном.
Они проспали почти весь день. И проснулись лишь после того, как солнце осветило их лица, пробиваясь внутрь овчарни через развалы стен и прорехи в крыше. Поллукс приготовил нехитрый завтрак и, когда с едой было покончено, вышел вместе с Арсином наружу. Там, невдалеке от строения, старый раб показал мальчику небольшой холмик, у которого лежали почти совсем сгнившие, чуть видневшиеся из-под опутавшей их травы деревянные кресты.
"Здесь похоронен твой отец", -- сказал Поллукс.
Арсин присел у холмика и положил на него руки. А потом спросил: "Значит, это было здесь. Кто же их похоронил?" -- "Я, -- ответил Поллукс. -- Год спустя я сбежал из имения на несколько дней".
И, приподняв накидку, показал мальчику на своём левом плече два выжженных трезубца.
"Меня только клеймили, но не заковали в железо. Слишком уж жалок я был, когда вернулся. Но это ещё не всё. Пойдём, поможешь мне".
И он подвёл мальчика к тому валуну, у которого побывал рано утром. Вдвоём они отвалили камень, и, сняв небольшой слой земли, Поллукс выкопал золотой кубок, заполненный до краёв такими же золотыми монетами.
"Что это?" -- спросил удивлённый Арсин. "Это деньги". -- "Так вот они какие!"
И Арсин взял в руку блестящую монету. За один день, проведённый на свободе, он узнал, увидел и прочувствовал больше, чем за годы рабства. Всё было удивительным и непривычным. А больше всего то, что никто не грозил ему плетью.
"Что мы будем с ними делать?" -- спросил он Поллукса. "У денег большая сила. И они помогут нам переправиться через море".
И опять Арсин не понял, какая может быть сила у этих жёлтых круглячков. А Поллукс завернул вырытое вместе с припасённой едой и сказал: "Идём, пора, нам предстоит ещё много пройти". Арсин встал и, оглядываясь на могилу отца, пошёл за стариком.
Солнце садилось, медленно опускаясь за холмы, и длинные тени поползли по зелёной траве. Чуть заметная тропинка вела вдаль, петляя между холмов. Куда вела она? В пыльный, душный город, где на невольничьем рынке ни днём, ни ночью не смолкает звон цепей и крик, и плач, и стоны? Или в Царство Земли Будущей, где шёпот цветов и чистый звон родников, и радостный смех детей?
"Асей говорил, что туда ведёт дорога", -- сказал Арсин. "Дорога появляется тогда, когда её протопчут люди, -- сказал Поллукс. -- Дорога появится тогда, когда много людей пойдут за нами вслед туда, где чисто и светло, где не надо прятаться от надсмотрщиков и смело говорить то, что думаешь".
4.12.
Они шли по ночам, преимущественно по тропинкам, стараясь избегать больших дорог, огибая человеческое жильё, и верный пёс бежал впереди, приглушённым рыком предупреждая о появлении кого-то чужого.
На четвёртую ночь что-то вокруг неуловимо изменилось. Вначале воздух -- он словно стал густым и тягучим, стал пахнуть как-то особенно, пряно, совсем как около хозяйской кухни. А потом послышался тихий рокот, который постепенно усиливался и усиливался, напоминая тяжёлое, монотонное дыхание усталого раба. Теперь уже Арсин рвался вперёд, и Поллукс еле-еле поспевал за ним. И когда, наконец, они увидели море, Арсин застыл, поражённый этим зрелищем. Потом они долго стояли на линии прибоя, и мельчайшие брызги освежали их усталые тела. Арсин набрал пригоршню воды, попробовал её и сплюнул. И глаза его при этом счастливо сверкали. Мир вокруг был прекрасен. Он был настолько прекрасен, что в нём не могло быть места для жестокости, корысти, рабства. Не могло, но было.
Старый раб наблюдал за мальчиком и думал о том, как мало надо ребёнку, чтобы чувствовать себя счастливым.
Хижина рыбака, сложенная из ракушечника, осталась уже совсем без крыши, и дверь не висела, а была просто прислонена к стене у проёма. По всему было видно, что здесь давно никто не обитает. Но помост из старых досок, на котором спали, сохранился. И, как ни был возбуждён Арсин, уснул он довольно быстро. Поллукс тоже проспал несколько часов. А раненько утром он разбудил мальчика.
"Ты останешься здесь, -- сказал Поллукс Арсину и, придавая оттенок важности своему голосу, добавил: -- Ты будешь охранять золото. Собака тоже будет с тобой. На вот, возьми нож".
И Поллукс положил нож на доску рядом с Арсином, а золотой кубок с монетами задвинул подальше под настил.
Одну монету он спрятал себе за щеку и, выйдя из хижины, приставил отвалившуюся дверь на место.
Берегом моря Поллукс направился в город. Он понимал, как опасно беглому рабу появляться в порту, но другого выхода не видел: надо было раздобыть продуктов и найти способ попасть на какое-нибудь судно. Только опасения Поллукса оказались напрасными: в порту царило такое столпотворение, что старик легко затерялся в пёстрой толпе, и никому не было до него никакого дела. Рабом в порту никого не удивишь: рабы разгружали и загружали суда, бегая по примитивным деревянным сходням; рабы носили за виликами и хозяевами купленные теми товары; рабы ремонтировали прохудившиеся и повреждённые борта и оснастку; рабов самих погружали и разгружали, как и любой другой товар.
Поллукс долго ходил между такими же бродягами, как и он сам, прислушивался к разговорам и приглядывался ко всему, что происходило вокруг него. Все говорили о каком-то восстании в Энне, и старик обрадовался этому известию: центурионам будет не до него, хромого и увечного. Какой из него повстанец? Но опасность, как всегда, подстерегала совсем не там, где её ждёшь. Решив в этот день не искать встреч с пиратами, старый раб подошёл к одному из бродяг, по виду -- греку, и заговорил с ним на родном языке. Бродяга оказался тоже рабом, но не беглым, а местным, отправленным хозяином на поиски собственного пропитания. Раб уже два дня кормился только тем, что воровал у зевак да собранным, просыпавшимся из сосудов зерном. Поллукс показал ему золотую монету, вытащив её из-за щеки, но в руки не дал -- тут же спрятал обратно на место. И глаза у нового знакомца вспыхнули то ли от жадности, то ли от голода. Вдвоём они отправились в одно из длинных, невысоких строений, рядами расположенных на пристани, и в тихом углу купили у невысокого, лысого торговца целый вяленый окорок и два больших хлеба. Когда продавец увидел монету, он быстро, исподлобья взглянул на рабов, и его жёлтые, как у кошки глаза, сверкнули в полумраке. Это был Рокх, и Поллукс невольно вздрогнул, но изо всех сил старался подавить охватившее его волнение. Рокх был стар, плешив, но его можно было безошибочно узнать по глазам и огромному носу.
"Он не может меня узнать из-за шрама, -- подумал старик. -- Да я ведь и погиб -- так он должен считать". И действительно, было похоже на то, что Рокх его не узнал. От предчувствия наживы спекулянт стал предлагать всё, что у него имелось -- даже оружие. И когда он это сделал, Поллукс понял, что Рокх принимает его за повстанца. "Вот и прекрасно, -- решил старый раб. -- Если я не сговорюсь с пиратами, тогда попробую просто купить у него лодку. Такую, чтобы на ней можно было переплыть море. А желающих покинуть этот берег, по всему видно, в порту найдётся много -- в гребцах недостатка не будет".
"Завтра я куплю у тебя ещё товаров", -- сказал Поллукс.
Рокх насторожился, услышав голос старого раба.
"Завтра на этом месте", -- снова сказал Поллукс, покашливая и хрипя, чтобы не быть узнанным.
Рокх согласно кивнул головой, и покупатели ушли. Выйдя из строения, они поделили хлеб и мясо, договорились о завтрашней встрече, и Поллукс, немного потолкавшись среди людей, стал пробираться к городским воротам. Он торопился, чтобы покормить Арсина, и шёл, не оглядываясь. Потому и не видел, как в некотором отдалении за ним неотступно следовал какой-то оборванец.
Возвратившись к хижине рыбака, Поллукс осторожно отодвинул дверь и, войдя внутрь, аккуратно поставил её на место. Собака радостно бросилась ему навстречу. Арсин же лежал на голых досках настила и даже не повернулся, а только спросил, словно продолжая давно начатый разговор: "Скажи, Поллукс, когда мы переплывём море, мы уже не будем рабами?" -- "Мы и сейчас уже не рабы. Мы перестали быть рабами, когда решили бежать". -- "Значит, мы свободны? Почему тогда мы прячемся от всех?" -- "Мы ещё не совсем свободны: мы беглые рабы. И по закону нас могут вернуть хозяину". -- "А когда мы переплывём море, что изменится? Оттуда нас не могут вернуть хозяину?" -- "Нет, не могут. Но там много других хозяев. И свобода -- это то, за что надо всё время бороться: каждый день, каждый миг". -- "Даже в Царстве Земли Будущей?" -- "Асей говорил, что в Царстве Земли Будущей надо сражаться только со Зверем". -- "Значит, всю жизнь надо только и делать, что с кем-нибудь сражаться?" -- "Наверное, это так, -- вздохнул Поллукс и сказал: -- Давай будем кушать. Я проголодался. Да и ты, видимо, тоже. Смотри, что я принёс. У нас будет настоящий пир: ты ещё никогда в жизни не ел ничего подобного. Да ты, конечно, и не знаешь, что это такое".
Но Арсин совсем не заинтересовался едой.
"Поллукс, мы дошли до моря. Значит, мы найдём Дорогу?" -- "Конечно, найдём, иначе и быть не может". -- "А Асей узнает тебя?" -- "Ещё бы! Асей, я не сомневаюсь, узнает меня. Мы с ним старые друзья. А старые друзья, да ещё те, что вместе прошли через испытания -- их не разделит даже смерть". -- "Поллукс, когда я вырасту, я вернусь обратно. Я хочу, чтобы все знали о Царстве Земли Будущей. Я думаю, что люди злые только потому, что не знают ничего о Царстве". -- "Конечно, мы оба ещё вернёмся. Но вначале нам самим надо найти Дорогу". -- "Это правильно, -- сказал Арсин, -- что дорогу не видно, когда по ней идут первые. Она появляется там, где прошло много людей. И когда мы увидим её, это будет значить, что все, кто по ней прошёл, не побоялись Зверя". -- "Да, ты прав, я думаю, что главное -- это осмелиться. Главное -- это решиться, не испугаться страшного вида Зверя. Он только того и хочет, чтобы его боялись. Но, в первую очередь, надо быть сильным. Ты должен поесть: завтра мы идём вместе".
И Поллукс, взяв с досок нож, стал резать хлеб и мясо, бросая псу кости. Арсин ел, глядя мимо навеса в небо, и не замечал вкуса. Его всё ещё не отпускали владевшие им мысли.
"Я самый счастливый человек, -- сказал он. -- Я смогу сделать то, что не удалось отцу, я сделаю, я пройду, я найду Дорогу, я не дрогну в бою. Ты веришь мне, Поллукс?" -- "Да. Но только ты кушай". -- "Мы дошли до моря, мы дойдём и до конца. Мы дойдём, правда, Поллукс?" -- "Да, конечно дойдём". -- "Скажи, Поллукс, почему все люди не хотят пойти в Царство Земли Будущей? Ведь если бы все, все, кто живёт в Энне, кто живёт в Риме, все-все, кто только живёт в мире, пошли туда, Зверь бы сам испугался. Почему люди не хотят быть свободными и счастливыми?" -- "Они просто не слышали о Царстве. А кто слышал -- те не верят. Люди верят в деньги. И пока это так, всегда будут рабы и хозяева. Тот, у кого есть деньги, будет хозяином того, у кого их нет".
Сказав это, Поллукс опустился на колени и стал шарить рукой под ложем, стараясь нащупать кубок с монетами. А потом опустил пониже голову, заглянул под доски и увидел, что кубок стоит в самом углу, у стены. А рядом с ним, покрытый толстым слоем паутины и пыли, лежал небольшой деревянный крестик, и прочная нить на нём была разорвана. Поллукс взял крест в руку, вытер об одежду и понюхал: аромат диковинного дерева сохранился. Это был запах солнца, смешанный с запахом ветра и свободы. Это был аромат Царства Земли Будущей. Это был крестик Асея, с которым тот никогда не расставался.
"Что это у тебя?" -- спросил Арсин и тут же забыл о своём вопросе. "Да так", -- неопределённо ответил Поллукс и затолкнул крестик в щель между камнями стены. "Двенадцать лет прошло", -- сказал он. "Двенадцать лет, двенадцать месяцев и двенадцать дней, -- подхватил Арсин. -- Не так уж это и много. Мы идём уже четыре дня. Четыре дня мы уже свободны. Я самый счастливый человек в мире. А Асей, наверное, уже нашёл своё Царство". -- "Да", -- сказал Поллукс и сел на доски.
Но Арсин его уже не слышал: он спал, отвернувшись к стене, опьянев, видимо, и от обильной пищи, и от осознания того, что он -- свободен.
А Поллукс ещё долго не спал. Он лежал на голых досках, прижавшись к Арсину, и вспоминал свою жизнь, от которой давным-давно не осталось ничего хорошего. Не осталось в ней никого: ни родных, которых он помнил очень смутно, ни Гелаи, ни Феликса, ни Асея. И только этот мальчик, только он один согревал истерзанную душу старика.
Под самое утро пёс глухо зарычал и ощетинился, глядя на дверь лачуги. Поллукс осторожно встал и выглянул в щель между стеной и дверью. И увидел то, что и ожидал увидеть с того самого момента, как повстречался с Рокхом, ожидал, хотя не признавался себе в этом: тёмные фигуры окружали хижину со всех сторон, и только изредка белёсо сверкали в лунном свете острия копий и лезвия мечей.
Старик вытащил из-за верёвочного пояса нож и тихо прошептал: "Смерть на кресте страшна и мучительна. Мы не доставим им этого удовольствия: видеть наши страдания. Я найду в себе силы. Сначала ты, мой мальчик, а потом -- я. Может быть, это и есть та единственная Дорога, предназначенная нам судьбой. Я пообещал тебе, что мы будем пить эту чашу вместе. Пусть так и будет".
И старый хромой раб подошёл к спящему мальчику и занёс над ним длинный, широкий нож. Он занёс его высоко над Арсином, высоко над своей головой и крепко сжал рукоять в ладонях, но руки его предательски дрожали.
"Только бы попасть прямо в сердце, -- подумал Поллукс. -- Прямо в сердце, чтобы ты даже ничего не понял, чтобы не проснулся, не увидел больше этого проклятого мира, чтобы Царство Земли Будущей приняло тебя в твоём прекрасном сне..."
3.15.
На этом повествование обрывалось: в книге не хватало одной или нескольких страниц, и Арсений с сожалением отложил её в сторону. Вот так всегда: самое главное остаётся скрытым, недоступным. Ему было жаль, что так и не удалось узнать до конца судьбу героев. Сумели ли они спастись и найти свою Дорогу? Или они погибли, и прекратились их муки, и не сбылись их мечты о свободной жизни среди добрых людей. Если погибли, то какой смысл был в их долгом терпении? Если нет разницы в том, умерли бы они вчера, или умрут только завтра, то какой смысл жить вообще, когда в жизни -- одни страдания?
А может, так оно и лучше, что в книжке не было всех страниц? Может, лучше, если остаётся хоть тоненький лучик надежды? Даже если это -- самообман.
Поллукс учил не врать себе, но сам-то, сам-то, как охотно поверил он в сказку о Волшебной Стране. И ведь не глупым же человеком был, жизнью битым-перебитым, огнём и мечём клеймённым. А вот тебе и раз -- поверил. Верить сказкам -- удел детей и стариков, но отнюдь не людей серьёзных, знающих цену всему в этом мире.
А может быть, иногда можно? Во имя добра, чтобы не погас лучик. Без него, кто мы будем? Без него, что останется нам? Только одно -- терпение, бесконечно тягучее, безысходно тоскливое, протяжённое в веках и тысячелетиях терпение бесправного раба...
Так кто же мы: рабы несбыточных надежд или рабы жестокой, постылой реальности?
Светлый самообман и тёмная беспросветность -- не одно ли это и то же?
Лгать или не лгать самому себе?
"Не лгите, и то, что вы ненавидите, не делайте этого, ибо это и есть настоящее рабство".
"Верующему в Силу в себе, да будет возможно все".
Старики и дети в Царстве Земли Будущей, старики и дети -- они обязательно должны быть там счастливы. Иначе это будет несправедливо, неправильно. Старики и дети, и ещё те, кто не может защитить себя сам -- идите туда, превозмогая все трудности и невзгоды, идите туда, преодолевая жару и ненастье, голод и холод, идите, пока есть силы. Идите даже тогда, когда силы оставят вас, идите, идите, идите. Потому, что это единственная ваша надежда. Это единственное место во Вселенной, где нет Зверя.
Есть, есть это Царство Земли Будущей, есть Дорога, есть Истина и Справедливость. Есть всё, что надо человеку для того, чтобы быть счастливым!
Есть, остаётся только найти, где...
Ведь если разобраться, то и бежать больше некуда, и укрыться больше негде...
Арсений положил книгу обратно на полку и лёг спать на диван: часы на стене показывали половину второго ночи. И, как всё чаще с ним стало это происходить, дневные воспоминания в форме причудливых образов выходили из уголков его сознания, соединяясь во вполне логическую, но фантастическую, невозможную в нормальной, повседневной жизни картину.
...Они долго шли по пустыне, и раскалённый песок нестерпимо обжигал их босые ноги.
Пока была вода, восставшие ещё подчинялись приказам. Но вместе с водой из сосудов улетучивалось и послушание. И случилось то, что неминуемо должно было случиться. После того, как закончилась вода и была доедена последняя лошадь, вспыхнул бунт. Было забыто всё: и то, как он вывел их из окружения легионеров, и то, что он спас их от позорной смерти на арене или от непосильного труда.
Он хотел, чтобы они стали хозяевами своей судьбы, но сейчас перед ним была пёстрая, беснующаяся толпа.
-- Зачем ты привёл нас сюда? Мы все здесь умрём! -- кричали они.
-- Ты специально заманил нас сюда! Ты предал нас! Тебе заплатили за это! -- кричал Рокх, размахивая руками.
И он понял, что всё было напрасно. Тот, кто хоть мгновенье был рабом в своей душе, кто хоть один раз добровольно согнул колени перед хозяином, никогда не станет свободным.
Освободив из цепей своё тело, они оставили в оковах душу.
И это понял не только он: это поняли и они. И их лютая злоба происходила от осознания своего ничтожества...
И тогда он, продолжая идти вперёд, уклонился немного в сторону, незаметно развязал кожаный мешок и высыпал все золотые монеты в песок. А когда Рокх потребовал делёжки, он со смехом вывернул мешок наизнанку, показывая, что тот пуст, и швырнул его к их босым ногам.
-- Пытать его! -- вопил Рокх. -- Пусть укажет, где он спрятал деньги!
-- Распять, распять его! -- кричали остальные.
-- Он хотел нас продать! Он вёл нас в новое рабство!
Лысый старик метался от одного раба к другому, брызгал слюной и дико вращал жёлтыми, как у кошки, глазами.
-- Пытать! Пытать! Пытать!
Толпа образовала вначале полукольцо, а затем окружила его.
-- Распять! Распять! Распять!
Им было уже всё равно, в чём его обвинить. Они хотели одного: крови. Крови, как платы за свою неспособность стать свободными. Чужой крови и зрелища чужого страдания.
Рокх уже разматывал верёвку со своего пояса, и толпа приближалась, протягивая к Арсению свои руки.
Но их опередил Филиппенко, нелепый в своей милицейской форме посреди всей этой вакханалии. Он хладнокровно обнажил короткий меч и одним ударом отсёк Арсению голову.
Мурашки побежали по скрюченным рукам, и Арсений удивился, что человек с отрубленной головой ещё может что-то чувствовать.
Потом он открыл глаза и увидел, что рядом с ним на постели сидит Поллукс.
Поллукс взял его за руку и сказал:
-- Ты устал. Ты просто устал, но мы не можем здесь долго оставаться. Не для того мы столько прошли, чтобы нас вновь заковали в цепи. Ты немного отдохнёшь, и мы пойдём дальше. Побудь здесь: здесь укромное место. А я тем временем поищу самый короткий и лёгкий путь. Мы должны дойти: я никогда не буду больше жалким рабом. Умереть среди грязи и собачьего дерьма или принять крестную муку -- для меня этот выбор сделан. А ты? Боишься смерти на кресте? Однажды у меня не хватило на это мужества. Я раскаиваюсь в том, что я так долго был ничтожеством. Очень долго. Только никому не удаётся уйти от выбора. На это обречены все...
Поллукс поднёс к губам Арсения чашу с водой, напоил его, потом немного помолчал и сказал:
-- Побудь здесь, а я найду эту Дорогу. И когда я вернусь, мы пойдём по ней, даже если она проходит через крест. Я приду за тобой, и мы пойдём дальше. Туда, где все счастливы и свободны.
И старый раб ушёл в темноту.
-- Это всего лишь сон, -- облегчённо сказал Арсений. -- Это всего лишь обрывки прошлого...
Но левое плечо жгло огнём, и Арсений вскочил с постели, включил свет и, подбежав к трюмо, увидел в зеркале отражение трезубца, острия которого были направлены вниз. Арсений потёр правой рукой плечо, и клеймо исчезло -- будто его и не было.
Погасив свет, Арсений вернулся в постель, укрылся одеялом и снова закрыл глаза.
-- Когда прошлое уходит так далеко, что становится недоступным для воспоминаний, оно превращается в будущее. И оживает вновь. И вновь становится настоящим. И так будет всегда, -- сказал Тот, Который Чертил Знаки На Песке.
Набегающие волны смывали эти знаки, но он чертил их снова и снова. И новые знаки вначале лишь немного отличались от старых, смытых водой. А потом отличие становилось всё большим и большим. И, наконец, новые знаки стали совсем не похожими на те, самые первые...
Но смысл, заключённый в этих знаках, оставался неизменным.
"В начале был Логос".
3.16.
Утром Арсений вышел в киоск за сигаретами и увидел в подъезде, под лестницей, щенка. Тот лежал, свернувшись, и на зов Арсения не отреагировал. Раньше, до встречи с Григорь Михалычем и Оленькой, Арсений наверняка бы прошёл мимо. А теперь вдруг бросилась в глаза та дрожь, которая периодически пробегала по телу щенка. Арсений поднял его и, отнеся к себе в квартиру, положил в прихожей на коврик. Щенок никак не реагировал: возможно, он был в коме. И Арсений бегом спустился по лестнице, быстро сбегал в магазин, купил молока и сигарет. По дороге он вспомнил, как тогда, в том домике на берегу реки, они всё-таки завели себе собаку. Арсений принёс такого же по размерам -- не больше -- щенка с работы: там их было несколько, от ощенившейся в гараже дворняжки. Щенка назвали Рексом, и он был весёлым и жизнерадостным. Но рос "не по дням, а по часам". И через полгода вымахал Арсению по пояс. Как такого прокормить? Денег жалко, будь они трижды прокляты! И Арсений отдал пса сторожам на стройку. А тот сбежал и снова появился во дворе, ласкаясь и визжа от радости. Пришлось опять его отводить на стройку. Но он снова сбежал -- били там его, что ли? -- но уже не ласкался и не визжал от радости. Просто сидел в углу у забора, понурив голову. А когда Арсений попытался надеть на него ошейник, укусил за руку. Укусил сильно, и после того не подпускал к себе близко, скалил зубы и жался к забору, словно хотел слиться с ним в одно целое, чтобы не трогали, чтобы пощадили. Не пощадили: Арсений вызвал спецслужбу, а дочку закрыл в доме, чтобы ничего не видела. И Рекса застрелили... И бурое пятно крови ещё долго темнело, пробивалось сквозь траву, хотя Арсений и вылил на него несколько вёдер воды.
Не ждал Рекс от него предательства, верил.
Животные не умеют говорить. Они не могут никому пожаловаться ни на свою боль, ни на свою судьбу. Они могут только смотреть людям в глаза.
И теперь этот щенок -- Арсений загадал: если выхожу, найдутся Оля и Аня.
Всю ночь провозился, поил из пипетки молоком. Щенок открывал мутные глаза, инстинктивно глотая, но головы не поднимал. А под утро -- Арсений видел -- вздрогнул вдруг сильнее прежнего и затих.
"Почему? Почему так? За что? Неужели жизнь ничего не прощает? Кому, кому нужно забирать жизнь у меня, у этого щенка, у других, виновных и невиновных, праведных и грешных, старых и совсем юных, у бедных и богатых, у рабов и их хозяев?
Как возвратить всё обратно? Как оборотить время вспять? Как изменить прошлое? Тот старец у церкви что-то говорил об этом. Но что именно говорил -- теперь не вспомнить. И старца не найти..."
Арсений завернул щенка в коврик и похоронил в лесу за пустырём. Там, где играл когда-то с дочкой. Похоронил под стройной берёзкой -- одинокой среди сосен. Такой же одинокой, каким был и он, Арсений, и этот щенок.
Арсений вернулся в свою квартиру, и мир для него с тех пор надолго стал чёрно-белым. А может, он и есть такой: бесцветный? А радуга цветов -- всего лишь иллюзия, мираж, такой же, как эта мифическая Дорога в Страну Несбыточных Надежд?
И мелькнула мысль: "Это я сам лежу там, под берёзой... Это я вжимаюсь в забор, умоляя: "Пощадите".
Не щадят...
5.1.
Прошло лето -- холодное ли, тёплое ли, дождливое ли -- Арсений не заметил этого. Он словно впал в спячку и только пролёживал диван, изредка вставая по крайней необходимости, передвигаясь при этом по квартире, как лунатик. Похоже, что никого на всём белом свете не интересовало ни то, что он делал, ни то, о чём он думал. Один раз как-то позвонил Микола -- он завербовался станочником на завод в Чехию. Сказал два слова, и всё: связь дорогая -- денег жалко. Микола молодец: кручёный, как манильский канат. А Арсений плюнул на всё и после приезда из Вологодчины почти не выходил из дома: только в магазин. Особо не тратился: в загашнике оставалось, кроме "гробовых", чуть больше двух сотен "зелёных". Если экономить, месяца на три хватит, не больше. А что будет дальше?
В начале сентября неожиданно появился Микола. Он пришёл без предупреждения, под вечер -- уже стемнело. Слегка навеселе, с бутылкой и закуской.
Арсений сидел за столом на кухне и отстранённо наблюдал за тем, как по дороге в сумерках, снуют машины с включёнными габаритными огнями. Уличное освещение ещё не зажглось, и силуэты машин были слегка расплывчатыми, одноцветно-серыми. И Арсению казалось, что он подглядывает за другой, будто инопланетной жизнью. Жизнью, где всё не так, как у него. Всё происходит совершенно по другим законам и принципам, непонятным и загадочным.
Что движет поступками тех, кто за окном?
Что их волнует и беспокоит?
Чужие судьбы то приближались, то удалялись, растворяясь в сгущающейся темноте бесстрастного, холодного времени.
Микола, как всегда, вломился в дверь без звонка и заговорил таким тоном, будто они расстались всего пять минут назад:
-- Я таких дураков никогда ещё не видел, -- он поставил на стол бутылку водки, положил пакет с нарезанной ветчиной и продолжал. -- Стоит передо мной в очереди -- вроде нормальный такой, при галстуке. Спрашивает: "Это у вас ветчина?" Она ему: "Да". Он: "Взвесьте кусочек и порежьте". Она взвесила, порезала, а он ей: "Спасибо". Повернулся и пошёл. Пришлось мне эту ветчину забрать: куда б она её дела? А ты чего без света сидишь? Экономишь? Где у тебя хлеб?
Арсений поднялся, включил свет и достал из хлебницы половинку слегка зачерствевшего батона.
Микола порезал хлеб, разлил в стаканы водку и сказал:
-- Присаживайся: в ногах правды нет.
-- А в чём она есть? -- спросил Арсений, присаживаясь к столу.
-- Я знаю только одно место. Мы до него доберёмся за два раза, -- Микола постучал согнутым указательным пальцем по донышку бутылки.
-- Смотри, как всё просто. Так ты, Микола, философ?
-- По этому делу -- да. Могу диссертацию писать, -- Микола щелкнул себя по горлу, и заговорил умными фразами: -- Жизнь -- сложная штука. И не надо её усложнять. Будь попроще, и к тебе потянутся люди. Так, что ещё?
Затем, поднимая стакан, продолжил:
-- За успех почти безнадёжного дела.
Они выпили и закусили хлебом с ветчиной. Потом немного помолчали.
-- Включи телевизор: пусть брешет чего-нибудь, -- сказал, наконец, Микола.
-- Не работает.
-- Чего с ним?
Арсений промолчал, и Микола вышел в зал, к телевизору. А через минуту вернулся с обрезанным проводом в руках.
-- Кто это сделал?
-- Я, -- ответил Арсений.
-- Зачем?
Арсений снова промолчал.
Микола сел и положил на стол обрезанный провод. Потом покачал головой и сказал:
-- Может, ты и прав. Так ты ничего не знаешь?
-- О чём?
-- "Курск" затонул. Все ребята погибли.
-- Знаю, -- ответил Арсений. -- Для этого телевизор не нужен. От людей на улице больше правды услышишь.
Микола согласно закивал головой. И с каждым разом делал это всё быстрее и быстрее. А потом заговорил коротко и отрывисто:
-- Сплошная ложь. Наглая, неприкрытая. Они нас ни в грош не ставят. Мы для них -- никто. Мы -- тупые. Нам только жрать и пить надо. Нам правду не надо. Этот фраер, в костюмчике, говорит, как картошину горячую во рту перекатывает. "Быго стогкновение. Пгичина авагии -- стогкновение". Ах ты, урод! Ты кому втираешь? Мне, моряку? "Мы, мол, не виноваты: марсиане виноваты". Ах ты, гнида сухопутная, мать твою! Да тебя бы туда хоть на минутку! Чтобы понял, чтобы прочувствовал...
И Микола стукнул себя кулаком в грудь. Потом сказал сквозь слёзы:
-- Мне перед ребятами погибшими стыдно, что такие сволочи у руля стоят. Совести нет. Дворцов понастроили, дети -- по заграницам. Ни один, падла, не застрелился...Что делать, Арсен, что делать? Мы сидим в тепле и пьём. А они там, на дне, одни... Ждали, надеялись. Слышишь, Арсен, на нас надеялись. А мы водку пьём. Нам некогда. Потому что мы -- не люди. Настоящие люди -- там...
Микола допил залпом водку и не стал больше сдерживать слёз.
-- Я на выборы больше в жизни не пойду. Мы для них -- штуки, проценты, -- говорил он взахлёб. -- Мы сами это сделали, сами... И мы тоже свиньи, и нет нам прощения...
Микола вытер слёзы.
-- Обидно мне, что и я такой же. Только это правда. Это я виноват. Это моя вина. Вот за что я должен ответить, перед ребятами ответить...
Арсений слушал, не перебивая. Потом сказал:
-- Заночуй у меня. Пожалуйста. Давай я проведу тебя к дивану.
Микола послушно встал, по-детски всхлипывая, и обнял Арсения так крепко, что у того перехватило дыхание.
-- Эх, братан, я жить не хочу! -- прошептал он. -- Я туда хочу, к ребятам. Чтоб вместе, вместе...
-- Я -- тоже, -- ответил ему Арсений.
В эту ночь Арсений спал на удивление крепко. Он не слышал, как Микола утром встал, убрал на столе и сбегал в магазин. Потом вернулся и, стараясь не греметь посудой, принялся возиться у плиты.
Арсений проснулся от аппетитного запаха: на кухне варились пельмени. Он встал с постели и пошёл в ванную.
-- Завтрак готов, -- крикнул ему с кухни Микола.
К пельменям он купил две бутылки пива и, открыв одну, попивал прямо из горлышка.
Потом они завтракали, почти не разговаривая. И каждый думал о своём.
-- Жена знает, где ты? -- наконец, спросил Арсений.
-- Холера её не удавит, -- ответил Микола.
-- Может, надо позвонить? -- снова спросил Арсений.
-- Позвони, если давно не получал.
Микола собрал со стола грязную посуду и начал её мыть: морской закон. Потом расставил тарелки в сушилке и сказал:
-- Давай-ка мы с тобой сегодня загуляем.
-- Это как?
-- Да как всегда: начнём с пивка, а там -- куда кривая выведет.
-- Обычно она выводит в вытрезвитель. Да и денег у меня нет: ни на пиво, ни на штрафы.
-- Разве я тебя про деньги спрашиваю? -- обиделся Микола. -- Деньги есть: зря я, что ли, на буржуев спину гнул? Ты меня пойми: если разобраться, так кроме как с тобой, мне и выпить не с кем. Шваль одна...
-- Ну что ж, -- согласился Арсений. -- Я тебя одного не отпущу.
-- Вот это по-товарищески, -- одобрил Микола и запел: -- Загуляем, осень, загуляем!
Только загулять у них не очень-то получилось. Раньше на набережной была простая забегаловка, где можно было взять и пива, и рыбы. Да и бутылочку "втихаря раздавить". Теперь на этом месте стоял культурный бар.
Микола и Арсений зашли внутрь, диковато осматриваясь. Все непривычное: столики "под дуб и под ясень", длинноногие, высокомерно поглядывающие официантки.
Сели за столик -- все на них косятся: что за "кресты" заблудились?
Официантка подошла, спросила сквозь зубы:
-- Чего желаете?
Микола немного смутился. Но, прочитав на фирменном значке имя, попытался скрыть своё смущение под маской бывалого человека.
-- Два по двести, Зоечка. А она в ответ: "Дай-то Бог здоровьечка, если счастья нет".
Официантка не приняла предложенную игру и, выказывая лёгкие признаки нетерпения, продолжала молча ожидать заказа.
Арсений мельком поймал её взгляд, и ему передалась бесконечная усталость и скука; усталость, скука и немного глухой тоски. Тоски по чему-то настоящему, неподдельному, искреннему. Арсений отчётливо, даже очень отчётливо увидел сетку морщин у глаз этой совсем ещё молодой женщины. И понял -- понял сразу, внезапно, словно вдруг осветило вспышкой света, -- как она ненавидела всё, что её сейчас окружало.
-- А у вас есть счастье? -- продолжал гнуть свою линию Микола.
-- Только то, что в меню, -- бесстрастно ответила Зоечка.
-- А два по двести? -- начал сдаваться Микола.
-- У нас лицензия только на реализацию пива, -- снова сказала, словно отрезала, официантка.
-- Пива и чего-нибудь перекусить, -- настроение у Миколы падало быстрее, чем атмосферное давление перед штормом.
-- Есть раковые шейки, -- сказала официантка.
Арсений посмотрел цены в меню и сказал:
-- Просто две кружки пива.
-- А рыбы жареной нет? -- поинтересовался Микола.
-- Какой рыбы? -- переспросила официантка.
-- Да хоть мойвы, -- начинал расходиться Микола,
-- Я не знаю такой рыбы, -- глядя куда-то в сторону, сказала официантка.
-- Надо было в школе хорошо учиться, -- продолжал Микола.
Официантка с пренебрежительным видом промолчала, и это задело Миколу сильнее всего. Он достал набитое деньгами портмоне, извлёк из него двадцатидолларовую купюру и, бросив её на стол, сказал:
-- Нам с другом чего-нибудь попроще. Мы -- люди простые. А сдачу оставь себе на колготки.
Официантка некоторое время колебалась, но потом взяла со стола купюру и, хоть немного натянуто, но всё же улыбнулась:
-- Я вам принесу копчёной скумбрии. Свежая и очень вкусная.
-- Вот это другое дело, -- согласился Микола. -- Хотя мойва была бы лучше. Я люблю, чтобы жарили с потрохами: так она вкуснее получается.
-- Сейчас чёрную икру достать проще, чем жареную мойву. Мой отец в деревне, просил ему привезти -- он её тоже любит. Так что вы думаете: нигде не нашла.
-- Вот видишь: захотела -- и вспомнила.
-- Да я и не забывала. Просто посетители сейчас такие пошли: возьмут кружку пива и сидят полдня. Только и думают, как унизить. Все "крутые", миллионами заворачивают. А сдачу до копеечки пересчитывают.
Арсений осмотрелся повнимательнее.
За столиками сидело несколько человек: худой юнец с длинными волосами, две вихлястые девчонки-малолетки в ботинках на толстенной подошве и вульгарного вида девица.
И снова нахлынуло ощущение нереальности происходящего.
Тени, исчезающие в ярком солнечном свете.
Официантка принесла пиво и рыбу. Скумбрия действительно таяла во рту. Но настроение продолжало падать.
Включили музыку, непонятную, бессмысленную. Какофония звуков ещё больше усиливала у Арсения чувство того, что они с Миколой совсем не вписываются в окружающий интерьер.
Микола подозвал официантку и спросил:
-- Зоечка, а как бы сменить пластинку?
Официантка снова улыбнулась, но не дежурной, а самой что ни на есть дружеской улыбкой.
-- Боюсь, что для вас ничего подходящего нет.
-- Что-нибудь морское, -- сказал Микола. -- "Черноморочку", "Прощай, любимый город"?
Официантка отрицательно покачала головой.
-- "Прощание славянки"...
-- Давайте я вам водочки принесу. Только в чашках для кофе, -- предложила она.
-- Хорошо, сестрёнка, -- согласился Микола.
С горем пополам убили часок и с облегчением вышли на улицу.
-- У меня такое ощущение, что я созрел для более крепких напитков, -- сказал Микола.
Они зашли в продовольственный магазин, купили бутылку водки и два плавленых сырка. Хотели, как в прежние годы, выпить тут же, в закуточке, наливая в стакан "из кармана". Но опять не вышло: не нашли стакана. Во всём магазине не было ни одного стакана. Продавщица сначала не поняла, чего они хотят. А когда поняла, посмотрела на них, как на древних ископаемых. Что делать? Не пить же на людях из "горла". Пошли в сквер на набережной. По дороге купили в киоске пластиковый стаканчик. В сквере пристроились на скамеечке под кустом можжевельника, выпили по одной и стали закусывать сырками. По второй выпить не удалось: откуда ни возьмись, словно тараканы из щелей, повылазили какие-то убогие людишки -- оборванные, сплошь покрытые грязью и синяками. Начали ходить кругами возле скамейки, ожидая, когда бутылка освободиться.
Микола терпел, терпел, а потом швырнул сырок на землю:
-- Да пропади оно всё пропадом! Пошли отсюда.
И они пошли гулять по набережной с недопитой бутылкой водки в пакете. Микола всё больше мрачнел, курил и молчал.
-- Ты есть не хочешь, -- спросил его Арсений. -- Может, в ресторан зайдём?
-- А что, гулять -- так гулять, -- махнул рукой Микола. -- Только в какой? Чтоб опять не проколоться.
Они немного поразмышляли и остановились на ресторане железнодорожного вокзала: уж там-то никаких выкрутасов быть не должно. И оказались правы: жареной мойвы не нашлось, но был жареный хек. Не такой, конечно, как на Севере, но Арсений и Микола поели с удовольствием.
Официант без разговоров принёс им пустые стаканы, бутылку лимонада. И совсем равнодушно наблюдал, как они допивали принесённую с собой водку.
В ресторане было довольно оживлённо: кто-то проходил в буфет, кто-то просто обедал, а в углу пьяно шумела за столиком разношёрстная компания. И -- слава Богу -- никто в упор не замечал ни Арсения, ни Миколу. Настроение немного поднялось, и они вспомнили Заполярный. И то, как Костя, выпив рюмашку, всё время повторял: "Я с пятьдесят девятого года на Севере". А его сосед, Юра, тоже водитель, говорил: "Всё, заело пластинку". И издевательски поддакивал: "Да, мы с Костей с пятьдесят девятого года на Севере. И ни разу друг друга даже плохим словом не обругали. Правда, Костя, придурок ты лагерный?" И окончательно потерявший связь с окружающим миром Костя согласно кивал головой.
Вспомнили, как заблудились однажды ночью в калмыцкой степи. И чудом выскочили с грунтовой дороги на асфальт, когда начался дождь.
Вспомнили и проданную машину, которая столько времени была им вторым домом.
И опять стало очень грустно.
Они снова выпили и закусили, но стало ещё грустнее. Тогда Микола подозвал официанта и спросил:
-- Доллары принимаешь?
Тот с напускным равнодушием посмотрел на зелёные купюры в портмоне и сквозь зубы ответил:
-- Принимаю.
И снова, как это всё чаще стало с ним происходить, Арсений необъяснимо почувствовал явный, но тщательно скрываемый интерес официанта. Интерес, замешанный на алчности и злобе. И чёрный ореол вокруг фигуры официанта был очень отчётливым, словно сама фигура раздвоилась, распалась на две плохо совмещённые проекции, составляющие.
Микола рассчитался, и они вышли из ресторана.
Было уже довольно темно.
-- Осторожно, не споткнись, -- предупредительно сказал Микола, оступившись, и добавил: -- Ты уж извини: думал, что тоску прогоним, а вышло совсем наоборот. Это уже не наш город, не наша жизнь. Мы здесь -- чужие.
И словно в подтверждение его слов, их догнали четверо высоких, спортивного вида парней.
-- Закурить не найдётся, -- традиционно начал один из них.
-- Могу дать свои носки поносить, -- ответил с вызовом Микола.
Но незнакомцы на это не обратили ровно никакого внимания.
-- Мы можем решить вопрос по-доброму, -- спокойно продолжил всё тот же. -- Тогда у вас не будет денег, но останутся зубы.
-- Каких денег? -- вступил в разговор Арсений.
-- Американских, -- уточнил "качок". -- Которые в портмоне лежат.
Они были хорошо осведомлены. И, видимо, грабили не в первый раз.
-- Денег я вам не дам, а вот часы -- пожалуйста, -- сказал Микола.
-- Какие часы? -- опешил один из грабителей.
-- "Командирские", -- сказал Микола и, закатав рукав на левой руке, стал расстёгивать ремешок.
Он переложил снятые часы в правую руку, и левым хуком отправил на землю того, который просил денег. Потом молниеносно переложил часы в левую руку и правой вырубил второго. Остальные, и Арсений в том числе, стояли, словно загипнотизированные.
Третьего Микола ударил головой в лицо, и тот стал медленно оседать на тротуар.
Четвёртый, наконец, пришёл в себя и попытался бежать. Но Микола в два прыжка настиг его и, схватив за волосы, с размаху ударил головой об землю.
-- Это вам по-доброму, по-доброму, -- приговаривал он при этом.
Нападавшие спешно расползались в разные стороны, но никто их не стал преследовать.
-- И всё-таки это ещё наш город, -- сказал Микола Арсению. -- Да я на эти часы полгода в учебке собирал! На всём экономил: сигареты на две части делил, в "Чайную" не ходил.
И впервые за два дня засмеялся.
-- Мне полегчало, -- сказал он Арсению. -- А тебе?
-- Да разве за тобой допрёшься, -- ответил Арсений. -- Как что хорошее найдёшь -- всё себе.
Они ещё немного погуляли по полутёмным улицам, прежде чем разойтись по домам.
Вечер был тихий и тёплый.
Под ногами шелестели опадающие с пожелтевших берёз листья.
Пахло осенью.
Точно так же, как и год назад, когда они уезжали в Заполярный.
Баренцево море штормило. Тяжёлые, свинцово-серые волны свирепо бились о борт корабля, и шквальный ветер швырял в темноту сизые клочья пены. Водолазные работы были прекращены.
На заправке у Сегежи тот же северный ветер гонял по грязному асфальту обрывки упаковочных пакетов и разный мусор. Ни Сашка, ни Ленка, ни Васька здесь давно уже не появлялись. Может, уехали в Питер?
Земля безостановочно вращалась вокруг Солнца.
Жизнь продолжалась.
Зачем?
5.2.
Вернувшись домой, Арсений позвонил Миколе. Трубку подняла Вика.
-- Микола пришёл? -- поздоровавшись, спросил её Арсений. -- Ты его не пили: он у меня ночевал.
-- Да чтоб он сдох, алкаш проклятый, -- коротко ответила она.
Эту ночь Арсений тоже спал спокойно. А утром, открыв на кухне шкафчик с посудой, увидел пятидесятидолларовую купюру, засунутую в чистую чашку.
Старых друзей наскоро не создашь. Но и у них свои проблемы. Микола больше не заходил: благоверная сослала его на сельхозработы в деревню.
И снова однообразные дни и ночи монотонно потянулись бесконечной чередой.
День-ночь, день-ночь.
Дни переходили в недели, недели -- в месяцы.
На календаре была уже середина октября.
"Тик-так, тик-так", -- анкерный механизм настенных часов грохотал в пустой квартире. Этот звук был таким оглушительным, и Арсению казалось, что вот-вот лопнут барабанные перепонки. Она была непереносима, эта каменная поступь времени. Тогда Арсений остановил часы. Он очень резко дёрнул за маятник, и стрелки застыли навечно.
Но время продолжало капать слезинками из крана в ванной: кап-кап, кап-кап. Как в старой японской пытке, медленно сводящей жертву с ума. Арсений обвязал кран полотенцем. Но остановить неумолимое время не удалось: каждое утро начиналось с хлопков двери в подъезде, со стука каблуков по лестничным ступенькам. Поначалу Арсений укрывал голову подушкой. Но тогда становилось трудно дышать, и воздуха не хватало -- всё равно как в могиле. И потому он стал закладывать в уши вату. Только время забиралось внутрь головы и продолжало пульсировать каплями крови в артериях и венах.
Время, как и кровь, текло по замкнутому кругу. Оставалось только одно: разорвать этот круг, перерезать вены. Жить дальше не имело никакого смысла.
Арсений встал с постели и хотел идти в ванную. Но ему помешал телефонный звонок.
-- Ты не держишь слово, -- Арсений услышал в трубке голос Филиппенко. -- Не ожидал от тебя. Если клубничное варенье за год прокисло, всё равно вези: пустим его на самогонку.
-- Гена, у меня беда, -- срывающимся голосом сказал Арсений.
-- Говори, что произошло, -- Филиппенко сразу же оставил шутливый тон.
И Арсений заговорил. Его речь была взволнованной, сбивчивой. Он перескакивал с одного события на другое, потом снова возвращался и снова сбивался. Но Филиппенко слушал терпеливо, не перебивая. Он знал жизнь не по книжкам. Он всё прошёл, испытал, претерпел. Всё, что только может выпасть на долю человека. Он понимал: Арсению надо выговориться. И это пока один-единственный способ отдалить его от той грани, из-за которой уже нет возврата.
-- Я всё понял, -- сказал он, когда Арсений закончил свой сбивчивый рассказ. -- По-настоящему их никто и не искал. Здесь нужны специалисты, и я знаю таких. Я попробую тебе помочь.
-- У меня нет денег, -- сказал Арсений. -- Нет машины. Осталась только квартира. Этого хватит, чтобы рассчитаться?
-- Сначала сделаем дело. А деньги -- навоз. Их будет столько, сколько надо. Я тебя знаю и верю тебе. Скажу больше: ты -- единственный, кому я в этой жизни верю. Мне не хватало тебя весь этот год. И я тоже устал от одиночества. Почему ты раньше не позвонил?
-- Я просто забыл о тебе, -- честно признался Арсений.
-- Ничего, ещё не поздно, всё ещё поправимо. Твоя задача -- не делать глупостей, пока я не организую поиск. Просто иди к людям, к старым друзьям. Старые друзья -- вот на кого только можно рассчитывать в этой жизни, -- Филиппенко вздохнул. -- И смотри по сторонам. Смотри во все глаза: зацепка, скорее всего, где-то рядом, на самом видном месте.
Некоторое время оба молчали, потом Филиппенко сказал:
-- Звони. Всё. Пора действовать.
И положил трубку.
"Не будь один", -- легко сказать. А к кому идти? Микола прямо из деревни уехал в рейс вторым водителем: погнал фуру с паркетом в Казахстан. Перед отъездом звякнул: не скучай. Вот так всё просто со стороны.
Но после разговора с Филиппенко что-то изменилось, забрезжил чуть различимый свет надежды. И Арсений перестал бояться времени: теперь он его торопил. Вот только ожидание оказалось не менее мучительным, чем безысходность.
Несколько ночей подряд Арсений почти не смыкал глаз: наверное, организм таким образом компенсировал предыдущую спячку. Он сидел на кухне за столом, неподвижный и холодный, как мраморная статуя. Просто сидел с широко открытыми, невидящими глазами и ждал. И надеялся, что совсем скоро наступят хоть какие-то перемены.
Квадрат его окна одиноко желтел на тёмном силуэте пятиэтажки.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Огонёк искрился радужным ореолом, мигая то ярче, то слабее. Словно гипнотизировал кого-то невидимого, притаившегося в непроницаемой тьме окружающего пространства.
Чёрная, безмолвная бездна.
Слабый огонёк был бессилен перед этой всепоглощающей темнотой.
"И темнота его не объяла..."
Пока не объяла.
У бездны нет предела. И трепетный огонёк в ней -- обречён.
Это и есть -- истина?
Кто его зажёг? И зачем?
Зачем дарить надежду обречённым?
Это немилосердно, Господи!
5.3.
В тот день Арсений снова был на грани. Из глубины подсознания то и дело всплывали нехорошие мысли о самоубийстве. Неясные, не совсем сформировавшиеся, они становились всё более и более настойчивыми.
Была уже полночь, когда он машинально, ничего не соображая, достал из выдвижного ящика капроновый шнур и положил на край кухонного стола. И неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы не появился араб.
Он возник словно ниоткуда. Возможно, вошёл в незапертую дверь, когда Арсений, как обычно, сидел и смотрел невидящим взглядом в никуда.
Араб несколько раз предупредительно кашлянул, и Арсений очнулся от полузабытья.
Ночной гость был похож на обыкновенного деревенского хлопца: коренастый, тёмноволосый, с сильными, загорелыми до черноты руками. Почему Арсений решил, что он -- араб? Может, из-за оливковых, глубоких глаз незнакомца? Сначала Арсению даже показалось, что у ночного гостя вообще нет глаз, только пустые глазницы. Но это была просто зловещая игра теней в плохо освещённой прихожей. И всё же почему -- араб? Может, из-за того пронизывающего холода, которым так и веяло от всей его фигуры, как будто он только что вышел из мрачных глубин древней египетской пирамиды? Однозначного ответа не было. Слово "араб" просто ассоциировалось с обликом незнакомца, мистически возникая из глубины подсознания.
-- Ты -- араб? -- прямо спросил его Арсений, обращаясь на "ты", словно к старому знакомому.
-- Многие меня так называют, -- ответил тот. -- Но это прозвище не имеет отношения к моему этническому происхождению. Тебя самого как звали по-уличному?
-- Цыган.
-- Цыган и Араб -- чем не пара? Вот мы и разобрались с первым вопросом. Так что я не стану возражать, если ты будешь звать меня Арабом. Теперь второй вопрос: мне надо привести себя в порядок после дороги. А у тебя в ванной неисправен кран. Принеси, пожалуйста, отвёртку и разводной ключ.
-- Я сам, -- начал было Арсений, но Араб остановил его жестом руки.
-- Ты ошибаешься, если думаешь, что у меня получится хуже.
Арсений снова, но уже более внимательно посмотрел на Араба. Тот был одет в светлые брюки и такую же светлую рубашку с закатанными по локти рукавами. Пиджак висел у него на одном плече наподобие гусарской венгерки.
-- У меня нет вещей, -- сказал Араб, словно прочитал мысли Арсения. -- Я привык к такому стилю жизни: не таскать за собой лишнего.
-- Но самое необходимое...
-- Всё, что необходимо, мы найдём у тебя. Тем более что наши размеры совпадают. Кроме того, я очень торопился. Вернее, меня торопили. Твой знакомый, Филиппенко, был крайне обеспокоен. Он специально освободил одного из заключённых, автогонщика, чтобы тот довёз меня до мурманского аэропорта. Мы проехали сто семьдесят километров по знакомой тебе дороге за один час и десять минут.
Арсений вспомнил "Ауди-80", на которой ездил Филиппенко, и спросил:
-- Что с машиной?
-- Машины больше нет. Но это не имеет значения. Я успел на рейс, я успел к тебе. Важен результат, а не намерения.
Араб пристально посмотрел на кухонный стол, и Арсений торопливо убрал в выдвижной ящик капроновый шнур.
-- Важен только результат, -- снова повторил Араб. -- Но результат не приходит сам по себе: к нему ведёт цепочка целенаправленных действий. Наших совместных действий, первым из которых будет ремонт крана. Я жду ключ и отвёртку.
Так получилось, что Арсений сразу подчинился Арабу. Подчинился без сопротивления и даже охотно. И это произошло настолько естественно, как естественно и неоспоримо течение рек, подчинённое закону земного притяжения. Манера разговаривать у гостя не допускала возражений: он всегда говорил громко, уверенно, и только то, что не вызывало у собеседника никаких сомнений.
Араб быстро отремонтировал смеситель: перекрыв вентиль на питающем трубопроводе, отвинтил верхнюю часть крана и перевернул уплотнительную резинку клапана обратной стороной.
-- Всё получается, если знаешь принцип, -- сказал он Арсению.
-- Выходит, раньше ты никогда этого не делал?
-- Не делал. Сейчас я просто проверял себя: смогу ли? Я всегда проверяю себя при удобном случае, чтобы знать предел своих возможностей.
-- Да ведь это же мелочь: отремонтировать кран.
-- Из мелочей состоит всё. Любое, даже самое великое достижение легко срывается из-за подобной мелочи. Научись уважать мелочи, и ты сможешь достигнуть большой цели, -- и Араб как бы невзначай добавил: -- Я ведь мог прилететь и следующим рейсом.
Арсению стало немного неловко, и он перевёл разговор в другую плоскость:
-- Я простелю тебе на кровати, а сам устроюсь на диване.
-- Не возражаю, -- ответил Араб. -- Против кофе и бутерброда -- тоже.
Арсению снова стало неловко, и он торопливо пошёл на кухню варить кофе. А Араб стал набирать воду в ванну.
После того, как Араб привёл себя в порядок и переоделся в спортивный костюм Арсения, они немного перекусили.
-- В котором часу ты обычно выходишь из дома? -- спросил Араб, покончив с едой.
И Арсений замялся, не зная, что ответить. Он попросту забыл, когда в последний раз выходил из дома.
-- Чиновники начинают рабочий день с восьми? -- снова спросил Араб, не дождавшись ответа.
Арсений утвердительно кивнул головой.
-- Значит, нам надо выходить в половину восьмого.
Арсений опять согласно кивнул.
-- Но мы выйдем на полчаса раньше. И с этого начнём менять твои жизненные устои. Начинать работу на полчаса раньше, чем общепринято -- это именно та мелочь, которая присуща только профессионалам. Эти лишние полчаса настройки дадут больше, чем весь последующий день. Очень скоро тебе предстоит в этом убедиться.
Арсению вдруг показалось, что сломанные часы на стене снова пошли. Он совсем отчётливо услышал мерный стук маятника.
Маятник судьбы снова качнулся, полетел, стремительно набирая скорость. По какому кругу: старому ли, новому? Это было не так уж и важно. Важно было то, что он больше не стоял на месте.
В ванной комнате, у сушилки, аккуратно висела выстиранная одежда Араба.
5.4.
Утром они позавтракали: Арсений снова приготовил кофе и бутерброды. Потом Араб сказал:
-- Я в общих чертах знаком с ситуацией. Но было бы неплохо, если бы ты мне рассказал всё, что считаешь самым важным: детали мы проясним по ходу.
И Арсений снова рассказал то, о чём на днях говорил Филиппенко.
Некоторое время Араб молча сидел, сжимая в ладонях пустую чашку, погружённый в какие-то свои мысли.
Арсений, глядя на него, подумал о том, что Араб прилетел без куртки, только в лёгком костюме.
-- В Заполярном уже холодно? -- спросил он.
-- В каком Заполярном? -- удивился Араб.
Арсений растерялся.
-- Погоди, ты ведь вчера сказал, что прилетел из Мурманска.
-- Ах, да, -- согласился Араб. -- Я уже забыл об этом. Это прошлое знание и оно сейчас не нужно. Больше того -- оно сейчас только мешает. Ты не слышал такую истину: "Прежде чем налить в сосуд новое вино, его надо освободить от старого"?
-- Нет, не слышал.
-- Зато эта женщина, Мария, наверняка слышала. О чём она чаще всего говорила?
-- Ну, -- Арсений на мгновенье задумался, -- семьёй нашей восхищалась, квартирой.
-- Деньги лежали в шифоньере, на полке под бельём?
-- Да.
-- Сколько?
-- Шесть тысяч долларов.
-- А сколько стоит однокомнатная квартира?
-- Зависит от района: семь-восемь тысяч.
-- Мне нужен галстук. Любого цвета, только не на резинках.
Араб встал из-за стола, повязал у зеркала принесённый Арсением галстук и коротко сказал:
-- Выходим.
Свежий утренний воздух уже попахивал морозцем. Согретый первыми солнечными лучами асфальт пешеходной дорожки был чист, но в тени, под стенами домов, под сметёнными в небольшие кучки опавшими листьями притаились маленькие островки инея.
На одном из подоконников суетилась синичка. Она перепрыгивала с места на место, заглядывала через стекло внутрь квартиры: есть ли там добрый человек, который не пожалеет щепотки хлебных крошек, когда наступит суровая зимняя пора?
-- Здесь проходит только один автобусный маршрут? -- спросил Араб.
-- Да, -- сказал Арсений и добавил: -- У меня есть "Волга". Не новая, но ехать можно. Гараж -- рядом. Зачем нам кружить на автобусе?
-- Кто прямо ходит, тот дома не ночует, -- загадочно ответил Араб. -- Мария тоже на машине ездила?
-- У неё не было машины.
-- Вылей старое вино из кувшина. Тебя зовут Марией. И в твоём кармане -- шесть тысяч долларов. Мария без денег -- невидимка. Пылинка, одна из миллиона. А Мария с деньгами -- это комета с ярким хвостом. Ты искал человека -- бесперспективное занятие. Мы будем искать деньги. Именно деньги оставляют такой след, который виден издалека. Кто бы различил среди звёзд комету, если бы у неё не было хвоста?
И они, не спеша, пошли на остановку.
Арсений купил в коммерческом киоске пачку сигарет и предложил Арабу закурить, но тот отрицательно покачал головой. И снова спросил, указывая рукой на рекламный щит, укреплённый на фасаде здания:
-- Где это?
С транспаранта мило улыбалась молодая блондинка, предлагая быстро и качественно оформить сделки с недвижимостью.
-- В центре, -- ответил Арсений. -- Мы что, туда поедем?
-- Если офис в центре и есть деньги на рекламу, значит, они контролируют ситуацию. А ситуацию контролирует тот, у кого для этого достаточно связей и информации.
Офис риэлтерского агентства нашли быстро. Он располагался на первом этаже. И, судя по шикарной обстановке, дела у фирмы шли хорошо.
Девушка, сошедшая с рекламного щита, пригласила их присесть и одарила Араба многообещающей улыбкой. Именно Араба, совсем не замечая Арсения.
-- Город изменился, -- начал Араб издалека. -- Изменился в лучшую сторону. Да, Нелли Ивановна?
Арсений поначалу удивился, откуда Араб знает её имя. Но, приглядевшись, увидел на столе фирменную табличку, на которой были написаны фамилия, имя и отчество менеджера.
-- Да, -- согласилась девушка. -- Вы -- приезжий?
-- И да, и нет. Я здесь родился. Потом уехал за романтикой. И за деньгами.
-- Ой, как интересно! -- ещё шире улыбнулась девушка, оценивающе рассматривая Араба.
-- Мне тоже поначалу было интересно. Пока не надоело. Знаете, всё-таки наши корни всегда остаются на родине.
-- Да-да, -- закивала головой девушка. -- Родина -- это святое.
Она во всём соглашалась с возможным клиентом, надеясь впоследствии навязать ему свою волю. Она их видала и перевидала, этих деревенских выскочек, правдами и неправдами сумевших нахватать длинных рублей. Вернее, длинных долларов. Дорогой костюм и безвкусный галстук -- вот примета нового времени. Она считала, что "сделает" этого куркуля, как дважды два. И совсем не подозревала о такой возможности мышления, как "заумь". Слова популярной песенки "Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я" были ей знакомы. Но и только. Ей был недоступен смысл этого бессмысленного, на первый взгляд, выражения.
-- Я хотел бы купить квартиру и решил, что самое разумное -- это обратиться в ваше агентство.
-- Это мудрое решение. Это решение сэкономит вам и время, и деньги. Мы работаем на рынке больше десяти лет. Наша репутация безукоризненна. Практически все сделки с недвижимостью в городе проходят через нас. Вам не придётся бегать по нотариусам, сидеть в очередях за всевозможными справками -- всё это мы оформим за один день.
-- Да, конечно. Ведь нужна будет и справка о доходах. Как мне объяснить происхождение денег?
-- Понимаю, -- сказала девушка. -- Мы решаем и такие вопросы. Оформим договор займа.
-- У меня нет надёжных знакомых, с которыми я мог бы заключить такой договор. Вы ведь понимаете, что должны быть гарантии: договор могут предъявить к исполнению.
-- Это тонкий нюанс, -- согласилась девушка. -- Обычно клиенты так далеко не заглядывают.
-- Возможно, у них денег не меряно. Или пришли легко.
-- А вы на какую сумму предполагаете сделать покупку?
-- У меня на всё про всё есть шесть тысяч долларов.
Девушка отреагировала так, будто случайно проглотила ломтик лимона. Её глаза говорили: "Ну, так и знала: не клиент, а надувная кукла". Но она быстро взяла себя в руки и вновь надела на лицо искусственную улыбку. Работа есть работа. Курочка по зёрнышку клюёт.
-- За такую сумму можно подыскать частный сектор, на окраине.
Араб на мгновенье превратился в Марию и сказал:
-- Я хотел бы однокомнатную, но с удобствами.
-- В нашем городе это будет затруднительно.
-- Я -- простой человек. Мне не нравится шум и суета.
Девушка подвинула к себе поближе клавиатуру компьютера и несколько минут работала с какими-то файлами. Потом сказала.
-- Есть вариант в Новом Городе. Городок небольшой -- но узловая станция. Год назад там построили три пятиэтажки. И есть ещё непроданные полуторки. Сами понимаете: в малых городках люди предпочитают частный сектор, с огородом. Кстати, мы уже оформляли однокомнатную в... -- девушка взглянула на экран монитора, -- пятом доме.
Потом она на минуту задумалась, что-то припоминая, и продолжила:
-- Я помню эту клиентку. Тоже с договором займа. Вот вам и доказательство нашей порядочности.
-- Я приглашу вас на новоселье, -- пообещал Араб. -- Дома телефонизированы?
-- Пока нет, -- девушка вздохнула. -- Но есть сотовая сеть. Так что это -- не проблема.
-- Вы меня уговорили, Нелли Ивановна. Вы -- талантливый менеджер, -- рассыпался в комплиментах Араб. -- Вы за несколько минут просто заставили меня сделать то, на что я не мог решиться несколько лет. Как вам это удалось? -- и, не дожидаясь ответа, продолжил: -- Давайте переходить к конкретным действиям.
Девушка взяла из стопки бланки стандартных договоров и попросила у Араба паспорт. Араб с растерянным видом похлопал себя по карманам и сказал:
-- А вот паспорт я и не захватил. Но если надо оплатить ваши услуги -- я готов. Правда, у меня мало белорусских денег -- только доллары.
Девушка сказала:
-- Ничего страшного: я вам дам координаты нашего сотрудника в Новом Городе, и вы с ним решите все текущие проблемы.
Она взяла из стопки листок для заметок и написала на нём данные сотрудника.
-- Знаете, -- сказал девушке Араб, -- я в своей жизни видел многих людей. И научился в них разбираться. Вы внушаете мне доверие. И ваша фирма много выигрывает оттого, что вы в ней работаете. Этому научить нельзя, это в вас от Бога, поверьте мне.
Слова Араба достигли цели.
-- Спасибо, -- ответила девушка, а про себя подумала: "Не такой уж он и надутый".
-- А можно мне встретиться с вашей предыдущей клиенткой? -- спросил Араб, вставая. -- Для большего спокойствия.
-- Конечно, -- с готовностью согласилась девушка.
Потом она перевернула листок и с обратной стороны написала: "Топуах Мария Наумовна. Ул. Строительная, 1, кв.7".
-- Явно дворянская фамилия, -- улыбнулся девушке Араб.
-- Я поэтому её и запомнила, -- ответила та и искренне рассмеялась.
Девушка гордилась собой, а Арсений гордился Арабом.
Всё было до обидного просто. Филиппенко сказал правду: зацепка была на самом видном месте. Она ослепительно улыбалась всем с рекламного щита, терпеливо ожидая, когда её заметят.
Они вышли из офиса, и Арсений спросил:
-- Ты уверен, что это именно та Мария?
-- Пока мы знаем только одно: Мария по фамилии Топу... ах, какая интересная фамилия! -- пошутил Араб. -- Так вот, эта Мария купила квартиру за шесть тысяч долларов, законное владение которыми подтвердить не могла. А однозначно на твой вопрос я отвечу через несколько часов. Пойдём за машиной?
-- Может, на автобусе?
-- Нет, лучше ножками. Посмотри, как светит солнце. Тебе надо поглотить свою дозу излучения: из квантов света конструируются мысли. Всё живое тянется к солнцу. Всё полезно, если в меру. Кроме того, из окна жизнь не каждому видна.
-- Ты очень умный человек, -- сказал Арсений.
-- Брось, на меня это не действует: я не девушка из офиса. А вообще, ты на правильном пути: люди охотнее идут на контакт, когда собеседник говорит им хорошие слова. И кошки -- тоже. Клиента не перехвалишь -- это "железное" правило. Чтобы эффективно организовать общение -- или обмен информацией, -- надо говорить собеседнику только то, что он хочет услышать: всё равно из твоих слов люди выберут лишь те, которые резонируют с их мыслями. Остальные -- отвергнут. Предложи пьянице на выбор две темы: о вреде и пользе алкоголя. Все аргументы первой темы он отвергнет, как не касающиеся лично его. Зато охотно согласится с тобой, когда ты ему скажешь, что от недостатка алкоголя развивается злокачественная опухоль. И уж если ты нащупал такую тему, от которой собеседник впадает в транс, ты узнаешь от него всё, что тебе надо. Есть подстройка -- есть результат. Нет подстройки -- нет результата. Сколько раз ты не замечал рекламного щита?
Арсений пожал плечами.
-- А Мария его углядела. Потому что она лелеяла в мыслях свою мечту: квартиру. Это была её тема, её навязчивая идея. Она всё давно спланировала, перебрала сотни вариантов: и наяву, и во сне.
-- Может, это не та Мария? -- снова засомневался Арсений.
Но Араб ничего не ответил.
5.5.
Пока они ехали до Нового Города, Арсений открывал в Арабе всё новые и новые залежи мудрости.
-- Чтобы добиться результата, надо уметь видеть ситуацию как бы со стороны, -- говорил Араб. -- Ты смотрел на события со "своей колокольни" и, как следствие, не сумел определить оптимальное направление поиска. Ты видел только свои интересы и не согласовывал их с интересами окружающих. Поэтому и не смог преодолеть сопротивления других людей. Плыть против течения -- неразумно. Против течения плывут только психи. Они руководствуются эмоциями. Разумный человек не станет спорить с психами. Он просто даст им хлеба и зрелищ. Или пообещает и умело направит толпу туда, куда ему надо. Толпе обещания нужны больше, чем реальный хлеб.
Арсений вспомнил свои злоключения и мысленно согласился с Арабом.
-- Ты, наверное, много учился? -- спросил Арсений.
-- Я и сейчас учусь, -- ответил Араб. -- Совсем недавно освоил профессию слесаря-сантехника.
Его лицо при этих словах оставалось вполне серьёзным.
-- Ты говоришь такие вещи, которых я никогда раньше не слышал. Но я не сомневаюсь в их правильности.
-- Потому, что они резонируют с твоим прошлым опытом.
У Арсения появилось ощущение, что Араб действительно знает его прошлую жизнь. И с этого момента он стал не только восхищаться Арабом, но в глубине души и бояться его.
-- А достигнуть результата очень просто, -- продолжал Араб. -- Для этого надо научится видеть и верить своим глазам.
-- Я как-то читал о другом, -- сказал Арсений. -- Я читал, что тех, кто не сомневается в том, что видит, легко обмануть. Этим занимаются фокусники.
-- Вселенная -- не фокусник. Ей нет необходимости тебя обманывать. В любом случае ты, только ты сам себя обманываешь. Потому что хочешь этого обмана. Однажды один профессор-археолог с группой студентов был на раскопках в пустыне. У них сломалась машина, и они пешком пошли в город. Когда закончилась вода, они поняли, что не дойдут до города. И вот, поднявшись на очередной бархан, они увидели оазис: пальмы, строения, бассейн с водой и тому подобное. Студенты стали уговаривать профессора идти в сторону оазиса. А тот настаивал, что это всего лишь мираж, потому что на карте в этом месте ничего не обозначено. Но упрямые студенты не хотели его слушать: уж очень сильно мучила их жажда. И тогда они пошли к оазису, а профессор продолжал идти к городу.
Некоторое время Араб молчал, и Арсений спросил:
-- Студенты погибли?
-- Нет. Через два часа они дошли до нового кемпинга и автозаправки: их построили совсем недавно, уже после того, как была выпущена карта профессора.
-- А профессор?
-- Его не нашли. Студенты взяли машину и поехали по его следам. Но их поиски не дали результата. Не появился профессор и в городе. Он доверял мёртвой бумаге больше, чем своим живым глазам. Кроме того, он не привык считать студентов умнее себя, любимого.
-- А как же миражи? -- спросил Арсений. -- Они ведь тоже бывают.
-- Возможно, -- ответил Араб. -- Но я их не видел ни разу. А ты?
До Нового Города они доехали примерно за час, пообедали в привокзальном кафе, разузнали у таксистов дорогу, по которой и добрались до района новостроек.
На улице Строителей, по нечётной стороне, возвышалось несколько стандартных, серых пятиэтажек. Необлагороженные дворики; лоскутики грядок под окнами, огороженные ржавыми арматурными прутьями -- всё это совсем не радовало глаз. Не удивительно, что спрос на такое жильё был невысоким.
Они оставили машину на соседней улице и пошли искать нужный дом. Араб первым поднялся по лестнице и позвонил в седьмую квартиру.
-- Кто там? -- послышался через минуту женский голос, заглушаемый утеплителем двери.
-- Открывай, хозяйка, телефоны проводим, -- хрипло сказал Араб.
-- Сейчас-сейчас! Сейчас-сейчас! -- засуетились внутри квартиры.
И Арсений отметил для себя, что Араб снова сказал именно то, что хотели услышать за дверью.
Потом щёлкнуло несколько замков, и дверь открылась.
В полутёмной прихожей стояла Мария. Она ничуть не изменилась за последний год. Она изменилась за считанные мгновенья, когда увидела Арсения: вначале замерла с широко раскрытыми глазами, а затем отступила на два шага и осела на пол.
Араб закрыл двери квартиры на внутренний замок и, легко подхватив Марию под мышки, отнёс её в комнату и швырнул на диван.
-- Где они? -- Араб, не мигая, смотрел Марии прямо в глаза.
Она не отвечала, и только подбородок её мелко-мелко трясся.
-- Он их забрал? -- спросил Араб.
И тогда затряслась вся голова Марии. Затряслась, утвердительно кивая.
-- Слушай меня, -- продолжал Араб. -- Я оставлю тебе квартиру. Эта квартира останется тебе, если ты скажешь, как его зовут.
Мария пыталась что-то сказать, но язык ей не повиновался.
-- Хорошо, хорошо, -- уверенно продолжал Араб. -- Фаныгэ стучит в бубен: бум! бум! бум!
Араб монотонно имитировал звуки бубна, и Мария моргала им в такт. А потом Араб вынул из кармана блестящую монетку, поднёс её очень близко к лицу Марии и сказал:
-- Смотри сюда.
Зрачки Марииных глаз сошлись у переносицы.
-- Квартира останется тебе, и ты будешь в ней жить, и здесь будет тихо-тихо, и ты посадишь на грядке под окном картошку и помидоры. Потому что картошку и помидоры садят на грядке. Помидоры созреют и станут красными, и, наверное, ты станешь закрывать их в банки. И когда придёт зима, у тебя в квартире будет тепло и уютно, и ты будешь сидеть на кухне и пить чай, и смотреть на помидоры в банке. А когда проведут телефон, ты ему позвонишь. Потому, что по телефону надо звонить, и ты всегда ему звонишь, потому, что ты знаешь его номер, и ты хочешь сказать его мне, очень хочешь, потому, что на кухне тепло и помидоры в банке красные, и когда я досчитаю до трёх, ты скажешь этот номер. Один... два... три...
-- Два, пятнадцать, четырнадцать, -- очень внятно сказала Мария.
И тогда Араб стал говорить резкими, отрывистыми фразами:
-- Он узнал, что ты забрала себе доллары. Он очень злой, он тебя убьет. Он продаст твою квартиру и заберёт все деньги. Он, возможно, уже идёт сюда. Он, наверное, поднимается по лестнице. Он, конечно, сейчас хлопнет дверью...
Глаза у Марии закатились.
Араб увлёк Арсения за собой и, выходя из квартиры, со всего размаха хлопнул входной дверью.
Спускаясь по лестнице вниз, Арсений оглянулся. И ему показалось, что на верхней площадке промелькнула какая-то тёмная фигура.
Когда они вернулись к машине, Арсения била мелкая дрожь.
-- Что ты с ней сделал? -- с трудом выговорил он.
-- Я спас ей жизнь, -- хладнокровно ответил Араб. -- Когда мы потревожим этих ребят, они начнут заметать следы. А так она спокойно отлежится в больнице. А потом будет закатывать помидоры в банки. Но если ты имеешь в виду её состояние, то этому научил меня один шаман -- Комлай Бусыгин. Это очень хороший шаман. Он мухоморы ест. Хочешь, я и тебя научу... Нет, не мухоморы есть -- информацию добывать.
-- Не хочу, -- сказал Арсений. -- Может, надо вызвать "скорую"?
-- Хорошо, -- согласился Араб. -- Позвонишь из автомата на вокзале. Думаю, это успокоит твою совесть.
Арсений завёл двигатель и, повернув голову, увидел через заднее стекло, что из-за угла Марииного дома вышел человек -- то ли в длинном чёрном пальто, то ли во флотской шинели -- и быстрым шагом направился к ним. Лицо у человека было сплошь покрыто послеожоговыми рубцами. От растерянности Арсений резко отпустил сцепление, и двигатель заглох. Тогда он снова суетливо завёл его и поспешно выехал на проезжую часть. Немного отъехав, он с опаской посмотрел в зеркало заднего вида: дорога позади была пустынной. Но Арсений продолжал поглядывать в зеркало и Араб, заметив это, спросил:
-- Что там?
Арсений не ответил, а просто покачал головой: ничего. Ему было плохо. Его просто тошнило, как будто он действительно отравился мухоморами. Это было унизительно -- бежать. Это было недостойно. Всё произошло совсем не так, как ожидал Арсений, и произошло так быстро, что он не успел до конца осознать истинное значение того, что они сделали. И теперь бессмысленно было вздыхать: "Ах, если бы..." Прошлое не изменишь. Арсений взглянул на Араба: тот был абсолютно спокоен.
5.6.
На вокзале Арсений прозвонил в "скорую". Спросив необходимые данные и адрес, диспетчер ему сказала, что машина уже выехала. Арсению стало легче, и он подумал, что всё будет в порядке, всё обойдётся. И он закурил, ожидая Араба, который тем временем зашёл в здание узла электрической связи, расположенное рядом с вокзалом. Араб вернулся через полчаса, держа в руке листок с компьютерной распечаткой.
-- Что это? -- спросил его Арсений, когда они снова сели в машину.
-- Здесь всё, что я накопал: координаты конторы, список сотрудников, их домашние телефоны и адреса.
-- Какой конторы?
-- Похоронной. Филиал ЖКХ, расположен на городском кладбище. Кстати, очень доходное место. И тихое.
Арсения снова обдало холодом.
-- Мы едем на кладбище? -- попытался он угадать намерения Араба.
-- Нет, -- возразил тот. -- Я ещё не принял решение: перед принятием важного решения надо поспать. Все стратегические решения принимаются во сне. Днём они только реализуются на тактическом уровне, с учётом "рельефа местности". До сих пор мы имели дело с примитивным человечком. Один человечек -- слаб. Сильна -- организация. Думаю, у них всё схвачено, на всех уровнях. С ними не поиграешь в открытую, как с Марией: течением унесёт. И всплывёшь только весной, когда лёд сойдёт. Но и у организации есть человеческие слабости.
-- Какие?
-- У неё есть лидер -- мозговой центр, -- продолжал Араб, терпеливо объясняя Арсению ход своей мысли. -- Организация без лидера -- толпа. А толпа подчиняется эмоциям. Страх -- одна из сильнейших эмоций. Страх возникает у толпы, когда нет лидера, некому принимать решения. Но толпа следует за лидером, пока ей хорошо, пока достаточно хлеба и зрелищ. Мы не будем беспокоить лидера -- его не запугаешь. Нам нужен субъект толпы, временно обособленный от лидера. В любой организации есть сомневающиеся и не сомневающиеся, есть и обиженные. В любой организации всегда найдётся человек, которому чего-то мало; человек, готовый на предательство. Какой-нибудь неврастеник с разлившейся жёлчью, не способный к самостоятельному действию. Он может только подзуживать толпу или вкрадчиво нашёптывать лидеру: всё зависит от того, кто в данный момент окажется сильнее. Сыграем на его страхе и его неудовлетворённости.
-- Рокх, -- сказал Арсений.
Араб развернул распечатку, просмотрел список фамилий и сказал, откинувшись на спинку сидения:
-- Такое случается. Я знаю. Но со мной это -- впервые.
-- Что случается? -- спросил Арсений.
-- Всё случается, -- уклончиво ответил Араб. -- Во Вселенной случается всё, что только можно предположить теоретически.
-- Я ничего не понял, -- сказал Арсений.
-- В твоём непонимании твоё превосходство, -- Араб снова ушёл от прямого ответа. Поживём -- увидим. Мистика -- это всего лишь отсутствие видимых связей между причиной и следствием. Я не увидел того, что увидел ты.
Последняя фраза показалась Арсению знакомой.
По дороге домой они заправили машину и поставили её на ночь под окном.
Арсений весь вечер не находил себе места. Он понимал, что Мария сегодня пожинала те плоды, которые сама же и посеяла. Но всё равно беспокойство за неё не позволяло ему спокойно посидеть на диване, как это делал Араб.
"Может, позвонить в больницу?" -- подумал Арсений.
-- Позвони, позвони, -- сказал вслух Араб. -- У тебя не завершён гештальт, начатое действие. Ты не успокоишься, пока не узнаешь, что с ней. Вылей, наконец, старое вино. Завтра сосуд должен быть пустым.
Арсений посмотрел в справочнике телефон больницы и код городка, и набрал номер приёмного покоя.
-- Горбольница, -- услышал он женский голос.
Арсений поздоровался и спросил, не поступала ли Мария Топуах.
-- Как-как? -- переспросил голос.
Арсений повторил фамилию по буквам.
-- Она в реанимации, -- ответила женщина после минутного молчания. -- Позвоните по номеру двадцать четыре триста двадцать четыре.
Арсений снова набрал код и номер и объяснил дежурной медсестре, что ему надо.
-- А вы кто, родственник? -- спросила медсестра.
-- Да, -- соврал Арсений.
-- Тогда приезжайте за ней: она умерла от инсульта.
-- Когда? -- спросил Арсений.
-- Приезжайте завтра утром, -- медсестра истолковала вопрос по-своему. -- Возьмите её паспорт и деньги, если хотите воспользоваться услугами морга.
-- Когда она умерла? -- переспросил Арсений.
-- Час назад, -- ответила медсестра и положила трубку.
Араб, услышав последнюю фразу, сказал, ни к кому не обращаясь:
-- Самый лучший для неё финал: без мук. Её всё равно ждала голодная смерть в купленной за твои деньги тюрьме: она в жизни никому больше не открыла бы двери.
Арсений, ничего не говоря, прошёл на кухню и сел на своё привычное место. Он сидел, монотонно раскачиваясь взад-вперёд, и смотрел в окно.
На улице уже зажглось ночное освещение.
В прихожей зазвонил телефон, и Араб, встав с дивана, поднял трубку.
-- Да, Гена, -- сказал он. -- Тяжело... Пытаюсь воздействовать, но почти все связи уже разрушены. Думаю, поверхностные слои сильно деформированы... Это и хорошо, и плохо. Инфантильность благоприятствует внушению, но есть все признаки невроза... Да, станет неуправляемым... Так... Так... Даю тебе слово, что доведу до конца... Пока изолирую... Конечно, не понимает... Всё, максимум два-три дня... До встречи.
Араб зашёл на кухню и сел за стол напротив Арсения.
-- Тебе привет от Филиппенко, -- сказал он.
-- Я всё слышал, -- сказал Арсений.
-- А я и говорил так, чтобы ты слышал. Между нами не может быть не только секретов, но и недопонимания. Я уверяю тебя, что хорошо знаю своё дело. И мои действия вызваны насущной необходимостью. Я хочу рассказать тебе одну историю.
Арсений не отреагировал, продолжая раскачиваться взад-вперёд.
-- Ты ведь бывал в Питере? Неправда, что Вечный город -- это Рим. Для меня Вечный город -- это Ленинград. Фантастическая красота! Но я хочу сказать не об этом. Ты должен был слышать о голоде во время блокады... Так вот одна женщина, мать троих мальчиков, зарезала у себя на кухне младшего. И скормила его остальным. И сама тоже ела маленькие кусочки своего ребенка. Ты осуждаешь её?
-- Я не имею на это права.
-- Почему? Её поступок тебя не касается? Как бы ты поступил на её месте? Тебе это безразлично?
-- Нет, не безразлично.
-- Ты просто не хочешь поставить себя на её место. Не хочешь даже мысленно пережить то, что пережила она. Уходишь от ответственности за её поступок. А ведь то, что она сделала, было вызвано необходимостью. Её заставили это сделать. Нет, не Гитлер, хотя и он не остался в стороне. Её заставил маленький человечек, серый, невзрачный интендант, который эвакуировался из города на самолёте. Самолёт при взлёте затрясло; мешок интенданта развязался, и из него посыпались консервы. Что надо сделать с этим человечком?
-- Его мало убить, -- сказал Арсений.
-- Вот-вот, это было бы справедливо. Лётчики, кстати, выбросили его за борт, когда самолёт набрал высоту.
Араб внимательно посмотрел на Арсения и спросил:
-- Ты почувствовал облегчение оттого, что его выбросили за борт?
-- Да, -- согласился Арсений.
-- Вот и хорошо: ты способен уловить суть явления. Но в поступке лётчиков нет логики. Он не был вызван необходимостью. Я не могу найти истоки их поступка. Он -- непредсказуем. Непредсказуемость -- вот что меня тревожит. Это то недостающее звено в моей системе, которое необходимо найти. Что должно быть критерием наших поступков?
-- Справедливость, -- сказал Арсений.
-- Справедливость, необходимость. И, как следствие, возмездие -- такое случается. Мы всё сделали правильно. Более того -- единственно правильно. Она бы ничего нам не сказала, упади мы перед ней на колени. Ты это понимаешь?
-- Да, -- ответил Арсений.
-- Уже легче, -- вздохнул Араб. -- Не мы придумали условия этой игры, которая называется жизнью. Мы просто должны их выполнять, если хотим выжить. Это тоже понятно?
-- Да, -- ответил Арсений. -- Но есть ещё совесть.
-- Вот о ней и поговорим. У интенданта её нет -- так?
-- Так.
-- А у женщины? Она поступила по совести или нет?
Арсений не отвечал. Он сидел напротив, опустив голову, и ожидал, что скажет Араб. А тот неожиданно сказал:
-- Теперь я вижу, что у тебя нет совести: ты боишься иметь своё мнение. Ты боишься совершить поступок. А когда его за тебя совершают другие, ты пытаешься откреститься от них.
-- Она поступила по совести, -- сказал, наконец, Арсений, не поднимая головы.
-- Поступать по совести -- это не убивать больше, чем необходимо, -- резко, словно вынося окончательный вердикт, сказал Араб. -- К слову, этот интендант не умер.
-- Как не умер?
-- Он оказался бессмертным и очень плодовитым. Он размножается быстрее вируса. А с вирусом необходимо бороться: его надо уничтожить, пока он не уничтожил тебя. Я считаю, что сегодня я поступил справедливо.
Араб немного помолчал и продолжил:
-- Не Гитлер и не Сталин породили системы. Эти системы породили мы все вместе. А потом свалили на своих лидеров все грехи, вольные и не вольные. Чтобы самим уйти от ответа, примириться со своею совестью: мол, мы тут крайние, мы -- слепые исполнители. А ведь лидеры -- всего лишь отражение нас самих. Не надо на зеркало пенять.
-- Микола говорил то же самое, когда "Курск" затонул.
-- Кто такой Микола?
-- Мой бывший напарник. Гена его знает.
-- Вот видишь, Микола разобрался, что к чему. Я уверен, что и ты разберёшься. Я помогу тебе. Надо быть честным с самим собой. Не делать подлога в угоду совести. Тогда она отомрёт сама по себе, как хвост у человека. Необходимость, внешний фактор -- вот спусковой механизм всех поступков. Необходимость -- это то, что движет миром. Необходимость жестока, и это становится очевидным, если с любого поступка сорвать шелуху словоблудия.
-- А как же свобода выбора?
-- Весь выбор сводится к одному: или покориться силе -- или погибнуть. Он обнажён на войне, этот выбор. А в мирной жизни человек только и делает, что болтается между этими крайностями в бесконечных сомнениях, пока за него не выберут другие.
-- Ты воевал?
-- Я и сейчас воюю, -- уклонился от прямого ответа Араб и продолжал: -- На войне нет компромисса, и человек регрессирует до своего ядра, до своей глубинной сути, до уровня хищного зверя.
-- Не все превращаются в зверей даже на войне. Я это знаю точно.
-- Конечно. Тот, кто не превращается -- погибает в первую очередь. Совесть толкает таких "под танки". Золотая середина -- самообман во имя личного блага. Добро и зло под одной крышей, называемой угрызениями совести. Я -- как все, я поел мяса в пост, раскаялся -- и стал хорошим. Надолго ли? Да пока голод не вернётся. Двойные стандарты ради продления никчемного существования. Нет, по мне, если пошёл -- иди до конца, на самую вершину Голгофы. А муки совести -- это признак двуличия. Попытка нарядить необходимость в красивые одежды. Опасайся тех, кто взывает к твоей совести: они просто хотят поменяться с тобой местами. Но по каким-то причинам не могут сделать этого силой.
-- А что делать, если она приходит сама?
-- Захлопни перед ней двери. Совестно -- не делай, а сделал -- не раскаивайся. Твоё раскаяние -- подлог. Ты его совершаешь в угоду себе. Марии сейчас оно не нужно.
-- Наверное, ты прав.
-- Иное дело -- искупление. Оно подразумевает не освобождение от содеянного, а расплату за него. Мария поплатилась жизнью, и это -- справедливо. Ты согласен?
-- Я согласен: другие вправе делать со мной то же, что делал с ними я.
-- Продолжай, продолжай: ты вправе делать с другими то, что они сделали с тобой. И в первую очередь с теми, кто взывает к совести, когда приходит час искупления. За то, что видели и молчали; за то, что прятались за чужие спины; за то, что кричали: "Распни его! Распни!" Искупление -- неизбежно. Та женщина отравилась после войны, хотя она поступила по совести. Поступать по совести -- это не убивать больше, чем можешь съесть. И не взывать к совести других, когда наступит твой черёд. Это жестоко, но это -- правда. Правда не всегда красива, ты согласен?
-- Да, -- ответил Арсений.
Он никогда в жизни не думал ни о чём подобном, и теперь в его голове всё "перевернулось вверх дном".
-- Вот и хорошо, -- сказал Араб. -- Ты научился не прятать голову в песок, и это меня радует. Мы победим в этой схватке -- я уверен.
Некоторое время они молчали, а потом Араб вдруг спросил:
-- Ты читаешь молитву на ночь?
-- Нет, -- ответил Арсений.
-- Мы поймём друг друга, -- сказал Араб. -- Хотя я не думаю, что сейчас ты осознал всё, о чём я говорил. Но ничего, я буду повторять тебе снова и снова, пока ты не проникнешь в суть. Ты -- способный ученик. Мы оба будем учиться: ты -- у меня, я -- у тебя.
Араб немного подождал, скажет ли что-нибудь Арсений, внимательно наблюдая за его реакцией.
Арсений ничего не сказал: он снова переживал всё, что произошло сегодня днём. Этих переживаний не было, пока Араб говорил. Но стоило тому замолчать, как они с новой силой овладели Арсением. Он опять принялся раскачиваться на табуретке и смотреть в окно.
Тогда Араб снова заговорил. Но на этот раз он говорил холодно, почти бесстрастно, как врач на консилиуме.
-- Ну что, так и будем сидеть? Или, может быть, покаемся в содеянном и пойдём в кино? Потом поужинаем где-нибудь в ресторане.
-- Ты -- жестокий человек.
-- Я? А как я должен был поступить?
-- Ты знал, что она может умереть.
-- Конечно, все мы смертны.
-- Ты знал, что она может умереть после того, что ты с ней сделал.
-- Знал. Скажу больше: я хотел этого. Так же, как ты хотел смерти того интенданта. Ведь хотел?
-- Это было наваждением.
-- Значит, лётчикам надо было помочь ему уложить консервы в мешок? И сказать: "Как же вам не стыдно".
-- Никто не позволял нам отнимать жизнь: не мы её давали.
-- Ну, сразу видно, что в голове у тебя сумбур. У кого мы должны были получить позволение? Здорово ты попался на поповскую удочку. Это они тебе твердили: "Не убий, подставь другую щеку".
-- Я и сам это знаю.
-- Значит, отнимать жизнь может только тот, кто её дал.
-- Никто не может отнимать жизнь.
-- Тогда почему Бог позволил распять Христа? Не он ли нарушил заповедь: "Не убий"?
-- Христа распяли те, в ком было зло.
-- Но Бог предвидел это. Он для этого и послал своего сына на крест. И сын тоже знал это. Так что, по сути, он совершил самоубийство.
-- Самопожертвование. А это не одно и тоже.
-- Согласен. Его убили другие. Те, кого он спровоцировал на это: "Убейте меня, и увидите, что сотворили зло. А когда осознаете это, покайтесь и больше не грешите". Значит, чтобы познать добро, надо сотворить зло. Зло порождается добром. Добро не может быть само по себе: оно порождает зло, чтобы все увидели в добре добро. Я хороший потому, что другой -- плохой. Если все будут хорошими, то как они узнают, что они хорошие? С кем они себя сравнят? Они просто вынуждены будут сотворить злого. Чтобы смотреть на него и умиляться: "Мы -- не такие. Мы -- добрые". Сегодня я сотворил зло, чтобы ты порадовался: ты -- не такой как я. Ты -- добрый. И, чтобы тебе было хорошо от этой мысли, ты бесконечно муссируешь её. Я -- добро, он -- зло. Но заметь, что мы вместе идём к одной цели. Или ты больше не хочешь найти своих родных? Тогда -- нет проблем. Тогда нам больше ничего не остаётся, как покаяться, потом простить друг друга и пойти в кино. А после -- поужинаем в ресторане.
-- Ты всё как-то запутываешь, и я не знаю, что тебе возразить. Но я твёрдо знаю, что тот, кто пожертвовал собой ради других -- не самоубийца, а воин. И не жертва, а герой. И долг свой до конца исполнил, не струсил и не смалодушничал. Я это знаю потому, что сам встречал таких людей. Надо было идти в разведку, на смерть -- они шли; в атаку на пики -- так на пики; на крест -- так на крест. И говорили они то, что думали, а не то, что выгодно. Христос не от бессилия добрым был, а от силы, от великой силы. Это злоба -- от бессилия. Он своим подвигом всем нам путь показал, как устоять, не дрогнуть, не испугаться, не поклониться нечисти всякой. Ты смог бы так?
-- Так безрассудно? Нет.
-- Если бы все были такими рассудительными, как ты, то неизвестно, на каком языке мы бы сейчас разговаривали. Принести себя в жертву ради спасения других -- это не самоубийство, а подвиг.
-- Слова, слова, слова, слова... Это противоестественно -- отдавать свою жизнь ради других. Это противоречит закону Дарвина. Цель любого индивида -- выжить, выстоять; победить и при этом не погибнуть. Победа любой ценой -- это говорят те, кто не идёт в атаку, кто надеется выжить за счёт твоей гибели, кто прячется за спинами глупых героев. Тех героев, которые просто не понимают, что ими руководят при помощи слов. Слова и слова. Отбрось их, и ты увидишь суть. Ты увидишь, как тело героя съедают черви, а его кости валяются не погребённые теми, за кого он их положил. Больше того, на его подвиге делаются деньги. Делаются при помощи слов. Крест, на котором распяли Христа, увешан объявлениями: "продаётся". Открой пошире глаза, отдели "зёрна от плевел".
-- Чтобы дать всходы, зерно должно сначала умереть, лечь в землю.
-- Это теория неудачников, рабов, слабаков, и придумана теми, кто в этой жизни неплохо устроился. Придумана для того, чтобы не тратить металл на цепи. Да, как мало надо, чтобы управлять рабами. Достаточно рассказывать им сказки по вечерам.
-- Ты сам говоришь при помощи слов.
-- Я не буду приводить тебе аргументы в свою пользу. Просто выйди на улицу и спроси этих сытых, самодовольных "патриотов-политиков" и "бессребреников-проповедников", кто из них согласен пожертвовать собой ради тебя. Да что там собой! Своим вкусным обедом не пожертвуют. А теперь положи себе на сердце руку и скажи, что я не прав.
Арсений вспомнил прокурора, "перекошенные лица" и ничего не ответил -- только голову опустил. А что ответишь, когда правда -- и есть правда. Хоть "сладкая", хоть "горькая". От неё не спрячешься, не убежишь, не загородишься.
-- Всё можно и нужно делать по-другому: чтобы никто не страдал, -- сказал, наконец, он.
-- Можно. Тогда страдать придётся тебе самому.
-- Я -- не в счёт.
-- Ну что ж, -- Араб посмотрел на часы. -- Я ещё успею на поезд. А ты продолжай страдать: ведь ты только и делал это. Могу дать совет: узел на петле должен проходить за левым ухом -- так быстрее. И ещё: если я случайно встречу твоих родных, что им сказать? Почему ты ничего не сделал, чтобы они не страдали? Ты не думаешь, что они ждут от тебя помощи? Я им скажу, что ты принёс их в жертву, чтобы успокоить свою совесть. Чтобы остаться добрым, безгрешным и получить для себя вечное блаженство. Впрочем, ты и сам им это скажешь, когда встретишь их в раю. Только совесть с собой не бери. А то она и там тебя замучит.
Арсений долго молчал, но Араб не торопил его.
-- Я не могу ничего тебе сказать, -- вымолвил, наконец, Арсений.
-- Врёшь, -- Араб скептически посмотрел на него. -- Ты говоришь мне не то, что думаешь.
-- Почему ты так решил?
-- Я прочитал это по твоим глазам. Твой язык может врать, но твои глаза -- нет. Ты смотрел влево и вниз. Ты -- правша. Значит, ты контролировал свою речь: боялся проговориться. Никакой мистики: глазные реакции скоро будут изучать в начальной школе. Я скажу за тебя то, что ты хочешь: ты хочешь, чтобы я сделал всё сам. Чтобы ты ничего не знал, чтобы остался безгрешен. Ты хочешь снять с себя ответственность, самообманом спасти душу. Точно так же рассуждала Мария: "Если всё во власти Бога, то и я выполняю его волю". Вы достойны друг друга. Ты видишь в ней самого себя, потому и жалеешь -- не её -- себя.
-- Я просто не могу.
-- А вот это уже правда: ты не можешь сделать зло сам и просишь об этом меня. Ты хочешь, чтобы все решения и ответственность за них я принял на себя. Ты даже согласен продать квартиру и заплатить мне за результат: ты ведь всю жизнь только и делал, что откупался от совести. А мне откупаться не надо: у меня её нет. Я -- бесчестный человек, хищник. Ты -- праведник, не желающий делать зло другим. Да тебе это и не надо: для этой цели ты можешь меня нанять за деньги. Потом будешь собой гордиться: я, мол, прожил свою жизнь честно. Я никого не распял, а за других я -- не ответчик. Какое мне дело до того, что делает на кухне моя соседка и чем она кормит детей?
Араб говорил правду, и эта правда ошеломила Арсения.
-- Что же нам делать?
-- Ты говоришь: "нам"? Значит, ты согласен, что мы -- вместе? Что мы -- одинаковы: ты в своей доброте, а я в своей злобе?
-- Я не вижу выхода.
-- Вот-вот, ты и рад бы, чтобы меня не было, да только необходимость принуждает тебя терпеть моё общество. Та необходимость, которая очевидна во время войны. Необходимость признать себя хищником.
-- Я согласен с тем, что я -- хищник, -- выдавил Арсений.
Араб замолчал. Он вышел в зал, сел на кресло у журнального столика и долго сидел молча. А потом сказал:
-- Ты согласен только на словах. А для достижения результата говорить мало -- надо ещё что-то делать. Беда в том, что и я не знаю, что надо делать. Я и сам был бы рад, если бы кто-то принимал за меня решения. Ты говорил, что у тебя есть Евангелие.
-- Да, -- сказал Арсений. -- Его принесла когда-то жена.
-- Дай мне, пожалуйста, -- попросил Араб и, уловив на себе удивлённый взгляд Арсения, пояснил: -- Хищник тоже иногда нуждается в утешении. Или скорее в оправдании.
Арсений принёс Арабу Евангелие, тот некоторое время листал его, а потом прочитал вслух:
-- "Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое... Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?"
Араб отложил книгу в сторону и сказал:
-- Это -- послание к римлянам Святого Апостола Павла. Так что не ты первый, не ты последний. Святые не могут сотворить добра без зла, а ты хочешь быть святее их. Впрочем, если будет надо, я найду в этой книге и другое. Я найду в ней ответ на любой твой вопрос. Ты ещё хочешь что-то спросить?
-- Да, -- кивнул Арсений и, наконец, спросил о том, что его в последнее время беспокоило. -- Я сегодня видел человека. У него было обожжено лицо. Я поэтому его и запомнил. Он приходил ко мне однажды ночью, когда я спал. Я тогда подумал, что это всего лишь сон. Но сегодня я не спал. А он стоял в подъезде у Марии.
-- Так, -- озабоченно сказал Араб. -- А теперь с самого начала и со всеми подробностями.
И Арсений подробно рассказал о визите человека в чёрном и о найденном кольце. Араб долго рассматривал кольцо, а потом, открыв окно, выбросил его на улицу.
-- Похоже, тобой очень сильно интересуются, -- сказал он, закрывая окно.
-- Кто? -- удивился Арсений.
-- Чёрный человек.
-- А кто он?
-- Думаю, что очень скоро узнаем. В любом случае, аппаратура у них первоклассная. На молекулярном уровне технологии. Похоже, нас ожидают очень интересные события
-- Какие именно? -- снова спросил Арсений.
-- Я пока не освоил ясновиденье, -- ответил Араб. -- Но у меня достаточно других способов раскрытия чужих тайн. Не переживай: мы докопаемся до истины. Они нам не помешают: у них нет никаких шансов. Я всё учёл.
Арсений немного подумал и ещё сказал:
-- Ты предполагал, что я захочу звонить в больницу.
-- Да, -- спокойно сказал Араб. -- Я хотел этого.
-- Для того, чтобы узнать, умерла ли она?
-- Да. Теперь она нам не помешает. И смерть её не вызывает подозрений. Работа выполнена на "отлично".
-- И в любом случае всё сходится только на мне, -- сказал Арсений.
-- Конечно. Мы ведь решаем твою проблему.
-- И всё-таки, ведь можно было по-другому: без жертв.
-- Нельзя. Она могла сорвать наши планы в любой момент. Запомни: для всех добрым не будешь. Попытаешься -- провалишь дело. А теперь -- спать.
И Арсений снова подчинился Арабу. Потому, что тот совершенно непонятным образом приобрёл над ним власть.
5.7.
Этой ночью Арсений проснулся оттого, что у него разболелся зуб.
Он встал с дивана и, не включая свет, чтобы не разбудить Араба, пошёл на кухню за таблеткой. Там он выпил анальгина и покурил, пока боль не утихла. Потом вернулся в комнату, сел на диване и осмотрелся вокруг.
Причудливые, колеблющиеся тени на стенах и потолке внушали какой-то глубинный страх. Это была не его, Арсения, квартира. Он не мог сообразить, как оказался в этом гиблом месте. Он лёг на диван и накрылся с головой.
Страх продолжался долго. Казалось, он был вечным, всеобъемлющим, и заполнял леденящим холодом всю Вселенную.
Утром Арсений ничего этого уже не помнил. Он проснулся очень рано: часов около пяти. За окном ещё только чуть синели предрассветные сумерки, и Арсений долго лежал, прокручивая в голове события вчерашнего дня. У него почти не осталось сомнений, что им удастся отыскать его жену и дочь. Единственное, что омрачало предстоящую радость -- это смерть Марии. Вернее, её убийство.
Арсений уже был не таким, как прежде. Не таким. Что-то ушло безвозвратно, умерло вместе с Марией. Что делать? "Вылить старое вино", -- учил Араб. Он целиком и полностью господствовал в этих утренних размышлениях Арсения. Он вызывал противоречивые чувства. Он действительно в одиночку и за один день сделал то, что не могли сделать за год сотни специалистов, уполномоченных на это государством. Но он был безжалостен. Возможно, в этом и заключался залог успеха. Хотя ни один из чиновников, к которым обращался Арсений, жалостливым себя не проявил. Да, они тоже были безжалостны, бессердечны, равнодушны к чужой боли и страданиям. Но они даже не пытались хоть что-то предпринять. Деньги? Араб тоже не просил пока денег. Пока. Может, ещё попросит. А может, ему надо что-то ещё? Что?
-- Ты уже проснулся? -- тихонько спросил Арсений.
-- Да, -- ответил Араб. -- Анализирую ситуацию, как и ты.
Похоже, что от него нельзя было утаить даже мыслей.
-- Скажи, почему у тебя всё получается? -- спросил Арсений.
-- Ответ прост: я -- профессионал.
-- Но в прокуратуре и милиции тоже профессионалы. Почему они ничего не смогли сделать?
-- А они и не собирались ничего делать. У них не было такой цели. Вот если бы ты принёс им конверт с достаточной суммой, они могли бы тебе помочь. Хотя не исключено, что после получения денег, от тебя бы просто избавились.
-- Как? -- опешил Арсений.
-- Что, хочешь, чтобы я показал как? Самый простой способ -- несчастный случай. -- Всё зависит от постановки цели. Твоя цель -- найти родных, а их цель -- получить деньги. У вас были совершенно разные, даже противоположные цели. О каком результате может быть речь?
-- Но...
-- Никаких но, -- перебил Араб. -- Задачей силовых структур является поддержание порядка в стране и защита законной власти. Защита власти, а не решение твоих личных проблем. Ты -- никто. Так, собачка Муму. Будешь много гавкать -- утопят. Никто и не заметит. А кто заметит, тот промолчит, если умный. Противоречие между властью и народом было и будет всегда. Не стоит его устранять. Просто научись использовать ситуацию в своих целях. Не лезь в герои: можешь получить награду посмертно.
-- Я сам тоже искал, -- продолжил Арсений, так и не найдя возражений на слова Араба.
-- Ты -- не профессионал. И, кроме того, у тебя сбои в программе, -- Араб постучал пальцем по виску. -- Не обижайся: я хочу тебе помочь. Тебе не хватает агрессивности, не включается программа хищника. А без этой программы ты обречён стать жертвой -- и больше никем. Вот наша проблема: включить программу, убедить тебя в том, что человек -- хищник. Кстати, это и есть причина того, что ты потерял родных: они почувствовали твою слабость, ты перестал быть для них лидером. "Акела промахнулся". Люди должны чувствовать в тебе Зверя: тогда ты получишь над ними власть.
-- Ты всё так открыто говоришь...
-- Если я тебе совру в малом, ты не поверишь мне в большом.
-- А зачем тебе нужна моя вера?
-- Поживёшь -- увидишь, -- опять уклонился от прямого ответа Араб.
Некоторое время Арсений молчал, а потом сказал:
-- Ну что ж, я тоже буду с тобой честен: мне не нравится твоя жестокость.
-- Нравится, не нравится -- это вопрос вкуса, идеалов, воспитания. И, конечно, положения. Тебя всю жизнь воспитывали так, чтобы тобой можно было легко управлять. Чтобы ты не создавал проблем. А когда ты вышел из-под контроля, тебя просто посадили в подвал. Легко, кстати, отделался. Нравится, не нравится -- это критерий выбора для рабовладельца. Твой выбор сводится к одному: подчиниться или погибнуть. Если ты хочешь достигнуть цели, забудь эти слова: нравится, не нравится.
-- Что ещё мне придётся забыть?
-- Не очень много. Больше тебе придётся вспомнить.
-- Например...
-- Например, что у нас на завтрак.
-- Пельмени, -- сказал Арсений.
-- Пельмени с мясом? -- переспросил Араб.
Арсений понял намёк, но вся его внутренняя суть всё ещё противилась необходимости признать себя хищником.
-- Однажды я встретил старика, -- сказал Арсений. -- И он поделился со мной последними деньгами.
-- Наверное, это было не в блокадном Ленинграде?
-- Нет. Но я уверен, что он сделал бы это и там. Он -- не хищник.
-- А я и не настаиваю на том, что абсолютно все люди -- хищники. Я только утверждаю, что все, кто по положению в обществе выше раба -- хищники. Хочешь оставаться рабом -- это твоё право. Но тогда смирись со своей участью. Не хочешь оставаться рабом -- становись хищником или просто умри. Третьего -- не дано.
Некоторое время Арсений раздумывал над словами Араба, а потом сказал:
-- Наверное, ты прав. Но я не могу измениться сразу.
-- Я это прекрасно понимаю, -- сказал Араб. -- Поэтому сегодня я поеду один. А ты просто подумай спокойно над моими словами и убери в квартире: ты ведь ожидаешь гостей.
-- Да, -- согласился Арсений. -- Спасибо тебе за то, что ты для меня делаешь.
-- Погоди благодарить, -- заметил Араб. -- В Риме освобождённые рабы частенько сами возвращались обратно к хозяину.
Но Арсений не понял смысла последней фразы.
5.8.
После завтрака Араб взял ключи от "Волги" и уехал. Он не сказал, куда и зачем. Да Арсений и не спрашивал. У него в голове действительно царил хаос. И, начав уборку в квартире, он стал понемногу обретать способность мыслить конструктивно. Арсений всё больше и больше понимал Араба. И всё, что он от него услышал, уже не казалось таким спорным, не правильным, злым. Мир жесток, и это -- правда.
В какой-то момент Арсения отвлекли звуки музыки, и он выглянул в открытое окно.
У дверей соседнего подъезда на грузовую машину загружали мебель: видимо, переезжал кто-то из соседей. Рядом с машиной стояло пианино. Оно не было упаковано, и на нём играл седовласый человек. Человек сидел на трёхногом стуле и перебирал пальцами клавиши. Иногда он переворачивал страницы фолианта с нотными знаками. Страниц было много, словно человек, сочинивший музыку, писал её всю свою жизнь. Может быть, он писал эти ноты не один. Может быть, начало музыки положил кто-то из его предков.
Музыка, то печальная, то бравурная, то беспорядочная, то стройная и мелодичная, захватывала душу чудесными звуками. Изредка человек поднимал голову вверх и смотрел в небо, играя на инструменте по памяти. А возможно, изобретал собственные пассажи или рефрены, которые иногда органически вливались в музыку, а иногда нарушали гладкое звучание прекрасной мелодии.
Люди подходили и останавливались возле музыканта, слушая его игру. Они словно забывали, куда им надо идти.
Несколько раз седовласый человек прерывал игру и немного отдыхал, ибо стопка страниц с нотами была толще, чем все книги судеб, хранящиеся в храмах. А потом он снова играл, и оживали в его музыке все законы и пророки, все песни и плачи, все радости и страдания, виток за витком открывая перед слушателями страницы его жизни. Жизни великолепной и непосредственной, богатой и убогой, страстной и равнодушной, драматической и столь прекрасной... Той жизни, которая прошла в этом доме, в этом городе, в этом мире. Прошла, и никогда больше не повторится ни в одном своём мгновении...
Окончив играть, седовласый человек встал и поклонился своим случайным слушателям.
И те стали аплодировать. Аплодисменты продолжались долго, очень долго. Грузчики уже установили пианино на машину и укрыли его матерчатым чехлом, а седовласый человек сел в кабину. Машина тронулась с места и скрылась за углом. Но люди, словно завороженные, продолжали аплодировать. А когда, наконец, аплодисменты прекратились, Арсений снова услышал музыку.
Она осталась, бросая вызов вечности...
И что-то опять изменилось. Изменилось нечто неуловимо тонкое, невесомое, эфирное. Нечто такое, что невозможно было выразить словами, описать, передать. Арсений вдруг ощутил, что вся его жизнь -- прошлая и теперешняя, -- все его проблемы, метания, поиски, страдания -- всё это ничтожно мало по сравнению с величием вечности, глубиной звучавшей музыки.
"Всё, что я делаю -- не то, -- подумал он. -- Я углубляюсь в чащу вместо того, чтобы выйти на свет. Но как его найти, этот свет?"
5.9.
В дверь позвонили, и Арсений пошёл открывать.
На пороге стоял старец.
-- Не найдётся ли что-нибудь для бездомного путника? -- спросил он.
-- Наконец, наконец-то я нашёл вас, -- сказал Арсений, увлекая старца на кухню.
-- Я сам пришёл, -- сказал старец.
-- Вы не узнаёте меня? -- снова спросил Арсений. -- Вы мне давали деньги на свечи, там, возле церкви.
-- Я не могу узнать того, чего не видел, -- сказал старец. -- Но я помню твой голос.
И тут Арсений заметил, что глаза старца затянуты мутной пеленой. Он помог старику сесть за стол и стал нарезать хлеб и ветчину.
-- Кушайте, я сейчас согрею чай, -- сказал Арсений.
Старец встал, прочитал вполголоса молитву и только тогда начал есть. Он ел аккуратно, отламывая от краюхи хлеба небольшие кусочки, и смотрел невидящим взглядом прямо перед собой.
-- Я вас сегодня вспоминал, -- сказал Арсений.
-- Я знаю, -- сказал старец.
-- Откуда? -- удивился Арсений.
-- Я вижу образы, и они мне говорят обо всём, -- сказал старец. -- Я научился их понимать. Они и привели меня к тебе.
Арсений недоверчиво воспринял слова старца. Но, в конце концов, это было не главным. Главным было то, что он сумел вернуть свой долг. Долг, который на уровне подсознания постоянно напоминал о себе.
-- Образы -- это субъективная реальность, существующая вне пространства, только во времени, как и музыка, -- сказал старец. -- Внутренний мир, содержание -- это и есть самое настоящее в жизни. А внешняя пёстрая оболочка -- всего лишь приманка для простаков, уловка манипулятора, фокусника. Разделение целого наблюдателя на объективного и субъективного, внешнего и внутреннего -- это основа моей теории, основа нового взгляда на мир, новая парадигма. Она даёт всё: даже власть над временем. И ты не бойся ничего в этой жизни: нет такой силы, которая способна повредить твоей душе, если будет в ней хоть крупица веры праведной, -- старец немного помолчал и, словно подводя итог, сказал: -- Ну, вот тебе и полегчало. Душа у тебя добрая, совестливая, оттого и жизнь тяжёлая.
Арсений вспомнил, что говорил о совести Араб, и сказал:
-- Всё так запутано, что не знаешь, кому верить и кого слушать.
-- Знаю: сам через это прошёл, -- сказал старец. -- Тоже искал ту Дорогу, которая к истине ведёт. А она сама мне открылась. И тебе откроется в своё время. Только иди к ней прямо: "кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник".
"Кто прямо ходит, тот дома не ночует -- что имел в виду Араб?"
-- Вы знаете все Священные Книги. Научите меня, как мне жить.
-- И не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Ты и сам всё знаешь, но только выбираешь: что тебе подходит, а что -- нет. Для оправдания своих поступков. А кому нужно твоё оправдание? Если кто тебя учит, спроси: зачем? И если слушаешь тех, кто учит, то всё равно только то, что тебе хочется. Ты и сам знаешь, что добро, а что -- зло. Зачем тогда спрашиваешь, как тебе поступить? Ищешь того, кто оправдает творимое тобою зло? Его не надо искать: он сам придёт.
И старец сказал:
-- Не в доказательство своей правоты цитирую Священные Книги, но чтобы показать, что не в первый раз узнаёте о замысле жизни, не в первый раз слышите и читаете то, о чём пишу, что знаете всё это давно -- почему же не понимаете, не принимаете и отвергаете?
-- Я не знаю почему, -- сказал Арсений.
-- А я знаю: от желания возвысить себя над другими, стать рабовладельцем, обладать и требовать.
-- Стать хищником?
-- Да, поедать себе подобных. Самая лёгкая добыча -- у каннибала.
-- Я не хочу никому причинять зла, -- сказал Арсений. -- Но так получается помимо моей воли. Я только хочу вернуть своих родных: я их люблю, мне плохо без них.
-- Значит, ты их до сих пор не нашёл, -- то ли спросил, то ли констатировал старец.
-- Почти нашёл, -- сказал Арсений. -- Мне помогают в этом.
-- Оглянись, кто возле тебя: таков и ты сам. Обладать и требовать -- в этом и корень зла. Это ты называешь любовью? А ты их спросил, хотят ли они вернуться к тебе?
-- Я не понимаю.
-- Не понимаешь потому, что не хочешь.
Арсений в отчаянье охватил голову руками.
-- Но что мне делать?
-- "Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит"?
-- Но что мне делать?
-- Ты хочешь знать, у кого найти ответ на все вопросы?
-- Да.
-- Спроси у своей смерти.
-- Как?
Но старец только усмехнулся:
-- Я -- не твоя смерть. Почему ты спрашиваешь у меня?
-- Где её искать, чтобы спросить?
-- Там же, где ты искал меня.
Старец закончил есть, выпил из чашки чай, найдя её на столе руками. Потом сказал:
-- Когда я ослеп, я научился видеть. И тогда я увидел смерть, и познал истину. Всё, что ослепляло меня -- ушло. И всё, что было ложно -- осыпалось. Ничего мы не приносим в этот мир, ничего и не вынесем из него. А можем только пребывать вместе с теми, кого любим, -- и повторил: -- Оглянись, кто возле тебя: таков и ты сам.
Арсений невольно оглянулся. А потом сказал:
-- У меня всё время такое ощущение, как будто все меня разыгрывают. Все говорят загадками. Говорят не то, что думают. И я один посредине, и всё кружится вокруг меня. У меня кружится голова. Видимо, никто не в силах мне помочь.
-- Присядь напротив меня и закрой глаза, -- сказал старец.
И Арсений безропотно подчинился.
-- Ты видишь лес? -- спросил старец.
-- Да, -- сказал Арсений. -- Я вижу берёзовую рощу и белый домик в ней.
-- Обернись назад, и ты увидишь гору. Иди к ней.
Арсений обернулся назад и в самом деле увидел высокую, каменистую сопку. Снег на её вершине отражал солнечные лучи и пылал, как огонь огромного костра. И в самом верхнем слое пламени (окрашенном в оранжевый, переходящий в белый цвет) на мгновенье мелькнула тёмная человеческая фигура.
"Странно, -- подумал Арсений. -- Почему я этого раньше не замечал?"
-- Иди по тропинке, -- сказал старец.
И Арсений пошел по узкой, заросшей травой, чуть угадывающейся тропинке. Он шёл по ней долго, пока не почувствовал усталость в ногах. Он хотел было присесть, но тут перед его взором открылся узкий вход в пещеру.
-- Входи, -- сказал старец. -- Тебе не причинят там вреда. Ты узнаешь там нечто важное.
Зайдя в пещеру, Арсений ощутил холодное прикосновение воздуха к своей коже. Озноб охватил его, и он немного подождал, привыкая к прохладе и полумраку. Стены пещеры были сырые и неровные. Откуда-то издалека доносился едва различимый звук водопада. Мягкий, золотой свет струится с высоты, из отверстия в своде. И в этом свете Арсений разглядел ещё один узкий проход. Он вошёл в него.
Медленно продвигаясь в тихую, более глубокую часть пещеры, он увидел огонь, горящий в одном из уголков, и человека, сидящего напротив огня на большом, гладком камне. Человек был одет в длинные чёрные одежды, и длинные волосы закрывали всё его лицо. Неизвестно почему, но Арсений понял, что это -- самый мудрый и проницательный человек из всех, кого ему приходилось встречать в своей жизни. Не было никакого сомнения, что этот человек способен дать ответы на все вопросы. Ответы, в истинности которых невозможно будет сомневаться. И ещё Арсений понял, что этот человек уже очень давно знает его. Знает с тех пор, когда Арсений ещё не родился. И чувство того, что он уже встречал этого человека, не покидало Арсения.
-- Ты видишь его? -- услышал Арсений голос старца.
И ответил:
-- Да.
-- Это самый мудрый и добрый из всех, кто существует во Вселенной, -- снова послышался голос старца. -- Доверься ему. Подойди и скажи: "Я доверяю вам свою участь". Этого будет достаточно.
Арсений сделал то, что сказал ему старец. Но человек словно не слышал. Он продолжал сидеть и смотреть в огонь. А потом тихо, очень тихо произнёс:
-- Ты доверился мне, и теперь тебе ничего не грозит: я всегда приду на помощь. Спроси у меня то, что ты хочешь спросить.
-- Почему...-- начал было Арсений и замолк.
Замолк потому, что понял: человек в чёрном одеянии уже знает его вопрос.
-- Ответ написан на последней странице, -- сказал он Арсению, и всё пропало, рассыпалось, исчезло.
Старец сидел за столом и пил чай.
-- Это был гипноз, -- сказал он Арсению. -- Я очень хорошо владею гипнозом. Не хуже, чем твой новый друг.
"Откуда он знает об Арабе?" -- удивился Арсений.
-- Моя слепота даже помогает в этом, -- продолжал старец. -- Я лучше чувствую обратную связь. Ну, ты получил ответ на свой вопрос?
-- Он сказал, что ответ -- на последней странице. Но в книге её не было.
-- Тогда разыщи её -- вот и всё.
-- Я не знаю ни автора, ни названия этой книги, -- сказал Арсений.
-- Но ты ведь не беспомощный младенец. Помочь -- это не значит, сделать за тебя всё, прожить за тебя твою жизнь.
-- Да, -- согласился Арсений. -- Он ещё сказал, что мне больше ничего не грозит.
-- Только ничего у меня не спрашивай, -- перебил старец. -- Я всё равно не смогу ответить: я не знаю, как функционирует эта реальность. Скорее всего, здесь обратный принцип. Компенсация нарушения симметрии. Впрочем, ты и этого ничего не понял. Так что лучше не вдаваться в детали. Просто иди и смотри. Иди и смотри. Он будет рядом. А мне пора уходить.
-- А где вы живёте? Как мне вас найти?
-- Живу, где придётся, -- ответил старец. -- Где добрые люди приютят.
"Кто прямо ходит, тот дома не ночует -- так вот что имел в виду Араб".
Старец доел крошки хлеба, сметя их со стола на ладонь, и сказал:
-- Впрочем, я могу и остаться, если ты позволишь мне у себя переночевать.
Арсений опешил: как тогда быть с Арабом? А если он привезёт Аню и Олю?
Видимо, старец всё понял, потому и сказал:
-- Ну, нет так нет. Я не в обиде. Свет большой -- найдётся и мне уголок. А тебе спасибо за хлеб, которым поделился.
Он поднялся из-за стола и, ощупывая стену, пошёл к выходу.
-- Подождите, я сейчас, -- Арсений бросился в зал, открыл шифоньер и начал лихорадочно перебирать деньги: сколько дать?
Но, выбежав в прихожую с несколькими купюрами, старца уже не застал. Не было того и на лестнице -- словно в воздухе растворился.
"Наверное, я его обидел, -- подумал Арсений. -- Но что я мог сделать?"
"Вот-вот, -- подтвердил голос Араба. -- Ты поступил по совести: покормил, денег хотел дать. А ночевать -- пусть на вокзал идёт. У тебя не ночлежка, всех бездомных не приютишь".
Арсений закрыл уши ладонями, но голос продолжал звучать: "Кто он тебе? -- Никто. Так, собачка Муму. Подумаешь, денег на свечки дал! Ты его сегодня на большую сумму покормил. Хотя и не обязан был. И не верь ты его бредням! Неужели не видно, что он -- сумасшедший? Да плюс к тому же мошенник. Проверь лучше, все ли вещи на месте".
Арсений долго ещё не мог успокоиться: смутные сомнения терзали его. И больше всего почему-то раздражало предвиденье Араба: "добрым для всех не будешь", и "ты вправе поступать с другими, как они поступали с тобой". Получалось, что Арсений поступил со старцем так же, как поступали с ним самим: и в прокуратуре, и в милиции, и везде, где искал он понимания и сочувствия, и -- не нашёл. Да, старец явно "не в себе" и понять его до конца -- невозможно. А Араб всегда излагает свои мысли чётко и ясно и говорит только правду. Но от этой правды Арсению снова стало страшно, совсем как прошедшей ночью. "Зачем я выгнал старика? А я его по сути выгнал! Он ведь многого не просил. Что со мной происходит? Неужели и я хищник? Кто скажет правду? Смерть, где она?" Он выглянул в окно: может, старец задержался у подъезда? Но там никого не было. Только забытый седовласым музыкантом трёхногий стул одиноко стоял на тротуаре, да невесть откуда взявшийся ветер гнал по земле пыль, песок и мусор.
Они ушли: и музыкант, и старец. Ушли, и на их месте осталась пустота. Пока они были, в мире царили гармония, красота и мудрость. А не стало их рядом, и мир осиротел, опустел, ожесточился.
Всякий, кто в здравом уме, стремится быть возле того, кто лучше его самого.
Арсений открыл окно и, перегнувшись через подоконник, выглянул наружу: никого.
"Только тень промелькнула в сенях, да стервятник спустился и сузил круги".
Ветер свистел, гулял по пустырю. Музыки не было слышно. А может быть, она стала просто недоступной. Ушла туда, где чисто и светло. Тонкому, нежному и прекрасному созданию не выжить в хищном мире: оно в нём -- обречено.
5.10.
Арсений с трудом дождался возвращения Араба.
-- Сразу -- о главном, -- начал тот, едва войдя в квартиру. -- Я нашёл твоих родных.
Арсений присел на кухонный табурет, чтобы не упасть. Он ожидал этого момента весь день, но так и не смог подготовится к нему.
-- Что с ними?
-- Ничего страшного. Живут пока в общине. Работают. Скоро ты их увидишь.
-- Их увезли силой?
-- И да, и нет. Их просто обманули, и это было довольно легко сделать. Человек, сталкиваясь с непреодолимой силой, легко верит в обман, если этот обман обещает ему защиту. Хотя бы иллюзорную. Ощущение защищённости и своей необходимости, важности для других -- это то немногое, без чего человек несчастен.
-- Я не защитил их, -- сказал Арсений. -- Это -- правда. Я их предал -- это тоже правда. Я считал их своими рабами. Захотят ли они вернуться?
-- Ты их ещё раз предашь, если не поможешь им выбраться из паутины.
-- Что надо делать?
-- Не поддаваться эмоциям. Их надо вытащить, потому что они могут просто погибнуть. Они не понимают этого -- понимаю я. Ты говорил, что я -- негодяй.
-- Я этого не говорил.
-- Значит, думал -- не отрицай. Но ты ещё не видел негодяев. Скоро я тебя с ними познакомлю.
-- Зачем они им нужны?
-- Затем, что люди -- самый высоколиквидный товар, -- Араб понял, что Арсений имел в виду. -- И самый высокорентабельный. Но больше не спрашивай меня о деталях: я всё равно не отвечу. Поберегу твою психику.
Арсений нервно закурил, но вопросов больше не задавал: он знал, что Араб точно не ответит. И Араб, исподволь наблюдая за Арсением, сам нарушил молчание:
-- Рабство никто не отменял. Оно только приняло новые формы: замени слово "паспорт" на "клеймо раба" -- вот и всё различие, -- сказал он.
"Раб должен быть клеймён", -- вспомнил Арсений и сказал:
-- Ко мне сегодня приходил тот старец, о котором я вспоминал утром. Он тоже говорил о рабстве. Он просился переночевать, но я не оставил его.
-- Правильно, не впускай в квартиру кого попало: нанесут тебе клопов -- потом не выведешь. А Принцип, -- сказал Араб, -- Принцип -- один для всех, на все времена. У Вселенной нет сынков и пасынков. Нет лицеприятия у Бога. В основе всего сущего лежит один-единственный Принцип: разделение на хищника и жертву, на раба и хозяина. Этот закон посильнее закона всемирного тяготения. Исключения придумали люди. И только ради одного: оправдать свою суть хищника. Людям можно убивать животных -- будто те не испытывают боли. А твою подругу -- совесть -- легко успокоить тем, что люди выше животных по уровню развития. Ну, не смешно ли? А ведь геноцид -- только логическое продолжение этого тезиса. Не лучше ли взглянуть правде в глаза: мы убиваем животных потому, что это необходимо для нашего выживания. Мы созданы хищниками, но у нас есть разум. И этот разум помогает найти оптимальное число жертв нашего аппетита. Но нет, не признаёмся даже на исповеди. И знаешь, почему?
-- Почему?
-- Если люди признают это, то они признают и право других поступать с ними так же. Как это ты сам признал вчера вечером. Они признают право более сильного быть их хозяином.
-- Но рабство -- в далёком прошлом.
-- Ой, ли? В далёком прошлом только это слово. А сама основа строя живёт и здравствует. Добавь к паспорту прописку, и ты получишь рабскую цепь.
-- Во многих странах нет прописки.
-- Свобода не измеряется длиной цепи. Системы виртуальных цепей не менее крепки, чем стальные оковы. Никто и нигде не стегает рабов кнутами -- за исключением, конечно, тех регионов, где эволюция остановилась несколько тысячелетий назад. В обществе равных прав рабами управляют при помощи слов. Но от этой замены эксплуатация не исчезла. Суть её сохранилась и, боюсь, не исчезнет никогда. Принцип, ядро, основа -- неизменны. Новое платье надевается поверх старых заплат, и -- хоть на приём к английской королеве. Всё красиво, всё прилично, всё по этикету.
-- Я не считаю себя чьим-то рабом, -- сказал Арсений.
-- Ты просто никогда не смотрел на себя со стороны: не было необходимости. Есть два крайних состояния: раб и рабовладелец. В реальной жизни ты или то, или другое -- в зависимости от конкретной ситуации.
-- Я хочу быть просто свободным человеком.
-- На необитаемом острове. Да и там твоя свобода ограничена береговой линией. А среди людей -- извини, -- ни о какой свободе не может быть и речи. В обществе -- или в стае -- лучший кусок всегда принадлежит рабовладельцу. В голодный год, по необходимости, можно и слабого раба скушать. Разумно, по кусочку. Рачительный хозяин не сразу пускает корову под нож: сначала он выдоит всё молоко.
-- То, что ты говоришь -- бесчеловечно и преступно.
-- Обратись в прокуратуру. Ты, кажется, однажды уже это делал. Ещё нужны аргументы?
Арсений молчал. То, что говорил Араб, невозможно было опровергнуть.
-- Законы писаны для того, чтобы сэкономить на твоих цепях. Но если потребуется, рабовладелец раскошелится и на железо. Спроси это у тех, кто прошёл сталинские лагеря. Они тебе конкретно объяснят суть сказки про равноправие. Тигр и Маленький Мук имеют равные права: кто кого догонит, тот того и съест. Сильный угнетает слабого, хищник поедает жертву, а рабовладелец -- назови его хоть Отцом Всех Времён и Народов, -- властвует над рабами.
Арсений вспомнил судьбу Григорь Михалыча и подумал, что Араб прав.
-- А ты сам -- кто?
-- Узнаешь в своё время, -- ухмыльнулся Араб. -- Но довольно о скучном.
-- Ты знаешь столько, что мог бы стать президентом.
-- Президент -- тоже раб. Клетка, она и есть клетка, назови её хоть дворцом. Уж если взбираться по этой лесенке, то до самого верха. Откуда президенты кажутся муравьями, а рабов -- таких как ты -- видно только под микроскопом.
Арсений вдруг осознал, что совсем не радуется своей скорой встрече с родными. Картина мира, нарисованная Арабом, показалась ему очень зловещей. И появилось новое беспокойство: что будет с ними дальше? Как сделать их жизнь радостной? Как уберечь, оградить от того зла, которое, казалось, беспрестанно кружит над головами, неусыпно подкарауливая свою жертву.
Араб, видимо, прекрасно понял его состояние.
-- Не отчаивайся, -- сказал он. -- Всё не так уж сумрачно: я научу тебя, как надо выживать в этом мире.
"Если кто тебя учит, спроси: зачем?" -- вспомнил Арсений слова старца. Но ответа на этот вопрос не нашёл: мысли Араба, как айсберг, скрывали свою истинную суть глубоко под водой.
-- Вместе мы сможем и Принцип найти.
-- Какой Принцип?
-- Тот самый, который лежит в начале начал. Тот, кто им овладеет -- овладеет всем миром.
Арсений вспомнил разговор со старцем у церкви: тот тогда тоже что-то говорил о Принципе. Но что конкретно, Арсению припомнить не удалось.
-- Ты столько знаешь, неужели тебе не известен этот принцип?
-- Он известен тебе.
-- Мне? Откуда?
-- Оттуда, откуда ты узнал фамилию.
-- Какую фамилию?
-- Которая была у меня в распечатке.
-- Рокх? Я его просто вспомнил.
-- Так же будет и с Принципом. Ты его знаешь, только не можешь вспомнить. Не пришло ещё для этого время. Но когда оно придёт -- тебе откроется истина.
-- Я знаю, что ты не станешь говорить просто так. Ты -- не такой человек. Но мне не по себе. Когда это произойдёт?
-- Когда безысходное отчаянье поселится в твоей душе, когда исчезнет надежда, и последняя капля терпения упадёт в переполненную чашу. И это время -- не за горами.
-- Как я пойму, что это случилось?
-- Для познания Великой Истины не потребуется твоё понимание. Ты просто узнаешь, что она пришла. Она -- самодостаточна. Она -- как озарение, как вспышка света, в котором исчезнут все тени. И тогда ты умрёшь и заново родишься... Это всё, что я могу предположить. А там: "Истина будет свидетельствовать сама о себе".
-- Почему она не придёт к тебе или кому-нибудь другому, кроме меня?
-- Я для этого слишком много знаю. А она -- не сущность разума. Она с ним не резонирует. Необходимо нечто иное. Что есть у тебя или у кого-нибудь другого, отмеченного искрой.
-- Во мне есть эта искра? Откуда тебе известно?
-- По приметам.
Арсений в задумчивости замолчал.
-- Я думал, что почти всё уже позади. Ты говорил, что надо всего два-три дня.
-- Время условно. Два дня или два века -- для Вселенной это безразлично. Мне не составит большого труда вернуть твою семью. Но для меня это сейчас не главное. Главное то, что я нашёл тебя. А ты -- меня.
-- Я думал, что мои трудности скоро закончатся.
-- Трудности у тебя только начинаются: во-первых, твоих надо будет вырвать из паутины, раскодировать. А это сложно: люди тяжело расстаются с убеждениями. Не со своими -- своих убеждений нет почти ни у кого, -- а с теми, которые им умело внушили. С теми чужими идеалами, которые им привили для порабощения. Это пострашнее кнута надсмотрщика. Зомби желает того, что ему повелел хозяин.
-- Я не верю, что это происходит сейчас.
-- Тогда выгляни во двор: не возвращаются ли твои родные из магазина? Что-то долго их нету.
-- Это я виноват: я пустил всё на самотёк.
-- Конечно: свято место пусто не бывает. Природа не знает пустоты. Да и наука не стоит на месте: она работает на хозяев. Правда, не круглые сутки: ночь им не подвластна. Пока не подвластна. И, когда ты перерезал шнур от телевизора, ты тоже стал им не подвластен. Наверное, ты подсознательно понял суть. И я уверен: так же доберёшься и до Принципа.
-- Я всё время слышу от тебя о Принципе. Выходит, в нём корень зла? А его можно... уничтожить?
Араб задумался.
-- Даже если и можно, думаешь, другой будет лучше? Нет, уничтожить врага, которого знаешь в лицо -- глупо. Придёт новый, другой, неизвестный. Я думаю, что его достаточно просто знать. Тогда появится возможность под него подстроиться, предвидеть опасность и постараться избежать её. Или сгладить последствия. Надо уметь использовать силу противника в своих интересах. Нет, Принцип не надо уничтожать. Его надо использовать. Он даст большую власть над обстоятельствами. А тот, кто получит власть над обстоятельствами, станет кем-то большим, чем просто человек. Он сможет наблюдать людей в их связях, как клетки растения под микроскопом. Ты рассматривал на уроке ботаники клетки лука? Помнишь?
-- Помню
-- Правда, было интересно?
-- Да.
Араб немного помолчал и сказал, словно подводя итог:
-- Это будет так же просто, как отремонтировать кран в ванной.
-- У тебя всё получается, за что ты не возьмёшься. Я хотел бы быть таким, как ты, -- сказал Арсений.
-- Будешь, -- уверенно ответил Араб. -- Дело за малым: избавиться от иллюзий.
-- У меня их не осталось.
-- Хорошо, -- Араб немного подумал. -- Завтра мы выясним это. Я могу рассчитывать на твою помощь?
-- Ты ещё спрашиваешь, -- обиделся Арсений.
-- Есть один очень тонкий момент, -- сказал Араб. -- Я договорился обо всём, но я не верю в слова. Мне нужны гарантии, что они вернут твоих родных, когда получат деньги.
-- Сколько они просят?
-- Это не важно. Важно только одно: у них не должно быть другого выхода. Тогда мы достигнем результата.
-- Что мне надо сделать?
-- Сейчас отгони машину в гараж, поставь аккумулятор на подзарядку: сегодня мне пришлось один раз заводить её ручкой, но завтра не должно быть никаких неожиданностей.
-- Хорошо.
5.11.
И Арсений в приподнятом настроении пошёл ставить машину. Он загнал "Волгу" в гараж, открыл капот и подключил аккумулятор к зарядному устройству. Потом открыл заднюю дверку, чтобы взять из аптечки над спинкой медицинские перчатки: надо было выкрутить из батарей залитые кислотой пробки.
На полу, между задним и передним сидениями лежала мягкая игрушка: маленькая подушка в форме оранжевой "божьей коровки". Арсений взял игрушку в руки. Он не мог объяснить, как она очутилась в машине.
"Надо отнести её домой" -- нашёл он самое простое решение.
Дома он положил игрушку в кроватку дочери и подумал, что завтра Оля ей обрадуется.
Арсений хотел, чтобы поскорее наступило завтра. Хотел и боялся одновременно.
Араб, видимо, снова понял его состояние.
-- Завтра всё решится, -- сказал он. -- Ты волнуешься?
-- Да, -- ответил Арсений.
-- Набери воздуха в лёгкие и медленно выпускай через сжатые губы, -- сказал Араб. -- Помогает безотказно. Тебе надо будет сделать только самую малость: снять номер в гостинице и ждать меня. Я появлюсь после обеда, и мы закончим сделку. Машину оставь где-нибудь поблизости, но не перед гостиницей: не надо давать о себе лишнюю информацию, случаи бывают разные.
-- Что мне сказать, когда спросят, зачем я поселяюсь.
-- Ничего. Во-первых, тебя не спросят. Во-вторых, ты можешь решить этот вопрос самостоятельно. Надо ведь, в конце концов, иногда проявлять самостоятельность. Ты будешь свободен до обеда: можешь погулять по городу. Сидя в номере, ты себя вконец изведёшь.
-- Хорошо, -- согласился Арсений.
-- И ещё, -- сказал Араб, -- я не могу там появиться в костюме. Я надену что-нибудь другое.
-- Спортивные брюки, мастерку? -- предложил Арсений.
-- Да, -- согласился Араб. -- И кроссовки.
Арсений достал всё это из стенного шкафа и положил на кресло в зале.
Потом пошёл на кухню приготовить ужин.
Арсений варил на кухне кофе, когда в прихожую, как всегда, без звонка и стука, вошёл Микола. Арсений даже испугался, что Микола увидит в зале Араба. Но этого не произошло: наверное, Араб успел спрятаться на балконе.
-- Откуда ты узнал, что я иду? -- спросил Микола, указывая на две чашки, стоящие на столе.
-- Из окна увидел, -- нашёлся Арсений.
Микола уселся за стол и сказал:
-- Я тебе угощение привёз: колбаса казахская, из конины, год может храниться. Да ещё всего понемногу.
И он стал выкладывать на стол свёртки из принесённого пакета.
-- Спасибо, -- сказал Арсений.
-- Только бутылку не доставай. Я к тебе по делу: помощь нужна. У Генерала движок застучал. Я подрядился пересыпать, но один не справлюсь.
-- Что, у Генерала слесарей нету?
-- Его слесаря пускай колёса моют. Мне такие помощники не нужны. С меня Балтики предостаточно. Я его пожалел: тоже моряк, как никак. А он мало того, что каждое утро стакан пропускал, так умудрился мне болт за плиту уронить. "Он, -- говорит, -- в поддон упадёт. Ничего страшного". Снял я плиту, а болт как раз между зубьями застрял. Представляешь, что бы было!
Арсений представлял. Ему очень захотелось снова окунуться в привычную работу -- мыть в соляре детали, подбирать поршня и кольца, аккуратно укладывать в смазанные маслом "постели" коленвал. У него даже руки задрожали от нетерпения, а в голове сама собой построилась последовательность операций. Уж они вдвоём этот двигатель довели бы! С Миколой работать -- одно удовольствие.
-- Эх, -- вздохнул Арсений, -- не могу.
-- Деньги -- пополам, -- уточнил Микола. -- За неделю по "полтиннику" заработаем. Тем более, что все запчасти на месте. Вал Молдаван отшлифовал: проблем не будет.
-- Я бы с радостью помог, но сейчас очень занят.
Микола чуть кофе не поперхнулся. Потом посмотрел на улыбающегося Арсения и сказал:
-- Говори, не томи: нашлись?
-- Пока нет, но дело сдвинулось.
-- Я рад, братишка, я рад, -- Микола даже привстал. -- Ты не представляешь, как мне плохо было, что помочь тебе не мог.
-- Представляю, -- сказал Арсений.
-- Если что надо -- говори. Я в любой момент приду. Если деньги -- пару сотен найдётся. А больше -- продам чего-нибудь.
-- Твоя тебя со свету сживёт.
-- Не удавится. Ты на неё не смотри -- моя проблема.
Они ещё немного посидели, и Микола ушёл, радостно посвистывая. Арсению было слышно, как он прыгал по лестнице через несколько ступенек.
Потом Арсений выглянул в окно, и Микола махнул ему снизу рукой на прощание.
Араб беззвучно вошёл на кухню и спросил:
-- Друг?
-- Да, -- ответил Арсений. -- Напарник, Микола, я тебе о нём говорил.
-- Видно, что настоящий друг. Моряк?
-- На Северном флоте служил. Там ненастоящих не бывает.
-- Согласен. Такой за чужой спиной прятаться не станет.
Арсений почувствовал прилив гордости за Миколу. И принялся варить кофе для Араба.
-- Я давно пришёл к выводу, -- задумчиво сказал Араб, -- что человеку в жизни необходимы три вещи: хороший дом, хорошая семья и хороший друг. Чтобы чувствовать себя спокойно, как в крепости. Только нет неприступных крепостей.
5.12.
Утром, когда Араб, выпив кофе, ушёл, Арсений стал собираться. Он заглянул в стенной шкаф и увидел висящий на вешалке костюм Араба. Арсений, неизвестно почему, надел костюм на себя: тот оказался впору. В нагрудном кармане пиджака лежала небольшая бумажка. Арсений развернул её: это была квитанция об оплате гостиницы. Той самой гостиницы, в которую сегодня должен был вселиться Арсений. Номер был оплачен на три дня, начиная со вчерашнего. Выходит, Араб уже снял один номер. Зачем?
Неясная тревога охватила Арсения, и он, как был в костюме Араба, так и пошёл в гараж, по дороге всё время пытаясь разгадать, что задумал Араб. Но ничего путного не приходило ему в голову. Действия Араба были покрыты непроницаемым туманом. Арсению оставалось только верить в то, что Араб -- профессионал, и неукоснительно выполнять его предписания.
Он так и сделал: оставил "Волгу" за углом многоэтажного дома и пешком пошёл в гостиницу. Вопросов, как и предвидел Араб, женщина-администратор не задавала. Она даже не сверила данные паспорта с заполненным листком: взяла деньги и сразу же дала Арсению ключ от восьмого номера на втором этаже.
Побыв немного в номере, Арсений вышел в город. Он не знал, куда идти, и решил просто проехаться на автобусе, не выбирая конкретного маршрута. Когда оказалось, что пассажирский ПАЗик идёт на кладбище, Арсений даже обрадовался. Он подумал, что именно там, в тишине и покое, можно будет настроить себя на предстоящие события, как учил Араб. Привычки этого человека исподволь, незаметно становились привычками самого Арсения.
5.13. (1.1.)
Это было похоже на ритуал. И Арсений придерживался его: в неясной ситуации лучше всего действовать по шаблону...
..."А он действительно неплохой парень, -- подумал Арсений. -- Он, видимо, не из той компании. Конечно, не из той. Просто используют вслепую: принеси, подай... Надо обязательно ещё раз с ним встретится".
Но будущее не обязано считаться с нашими желаниями...
5.14.
Немного расстроенный оттого, что разминулся с Гришкой, Арсений вышел из рейсового ПАЗика на остановке у гостиницы. Мимоходом глянул одним глазом на спрятанную за углом "Волгу": всё было в порядке. Потом направился к цементным ступенькам гостиничного крыльца. В полутёмном холле никого, кроме женщины-администратора, не было. Арсений взял у неё ключ от своего номера и поднялся на второй этаж.
Во всей гостинице было тихо. Арсений не увидел ни одного постояльца. И скрип лестничных ступеней только подчёркивал эту тишину, придавал ей какой-то зловещий оттенок.
"Ладно, -- подумал Арсений. -- Если я правильно понимаю, тишина -- предвестник бури".
Он понимал правильно: не прошло и получаса, как в дверь в его номера тихонечко постучали.
-- Войдите, -- громко сказал Арсений.
Дверь приоткрылась, и в проёме показалась фигура администратора:
-- Извините, -- сказала она. -- Вас просят подойти к телефону.
-- Хорошо, через минуту, -- сказал Арсений.
Арсений слышал, как администратор спустилась в холл по скрипучим ступенькам лестницы, и скрип теперь был ещё более зловещим. Он снова, как в автобусе, несколько раз глубоко вдохнул, задерживая выдох, с силой пропуская воздух сквозь плотно сжатые губы, и тоже спустился в холл. Он был спокоен и готов к любому повороту событий.
Снятая телефонная трубка лежала на стойке.
-- Я слушаю, -- сказал Арсений.
-- Нет, это я слушаю, -- в трубке звучал голос Рокха. -- Мы, по-моему, вчера обо всём договорились.
-- Я ни с кем и ни о чём не договаривался, -- сказал Арсений.
-- Ваш человек договаривался. Или он не ваш человек?
-- Мой.
-- Если вы ему не доверяете, то не работайте с ним, не давайте ему поручений. К чему эти проверки? Зачем вы приезжали ко мне? И что теперь делать с Гришкой? Если вы рассчитываете шантажировать меня, то ваши старания напрасны: я всегда работаю чисто, никаких помарок вы не найдёте. А Гришка -- алкоголик, ему никто никогда не поверит. Его никто не воспримет всерьёз. И если он сегодня сдохнет под забором -- а так оно и случится -- это не вызовет подозрений.
-- Причём здесь Гришка?
-- Вот я и спрашиваю: при чём? Зачем вы приезжали? Ваш человек, кстати, предупредил, что вы можете проверить.
-- О чём ещё он предупредил?
-- Он предупредил, что перед тем, как отдать деньги, вы захотите всё проверить. Деньги при вас?
-- Деньги будут с минуты на минуту, -- соврал Арсений.
-- Как только будут деньги, приезжайте ко мне. И не забудьте захватить паспорт этой женщины -- он у администратора. Дайте ей трубочку.
-- Вас, -- Арсений протянул трубку администратору, ещё не до конца понимая то, что ему сообщили.
Та некоторое время слушала, согласно поддакивая собеседнику.
Потом положила трубку на рычаги аппарата и, достав из сейфа несколько необычный паспорт, протянула его Арсению
-- Они в девятом номере, -- сказала администратор и положила ключ с биркой "9" на стойку.
Арсений взял ключ и паспорт и отправился по лестнице на второй этаж. У дверей с цифрой "9" он немного замедлил шаги и прислушался: из номера доносился чуть слышный шорох и всхлипывания.
Арсений постучал, и всхлипывания прекратились. Арсений постучал ещё раз и, не дождавшись ответа, открыл номер ключом.
На обшарпанном кресле у окна сидела худенькая женщина и держала на коленях девочку лет пяти. Женщина и девочка были одеты так бедно, что это сразу бросалось в глаза. И розовая, атласная лента, аккуратно заплетённая у девочки в косичку, только подчёркивала эту бедность.
Игра контрастов.
Золочёная рамка нищеты.
Красивые одежды поверх заплат.
Декларация свободы, укрывающая суть рабовладельческого строя.
Как мало надо человеку, чтобы обманывать самого себя! Обманывать снова и снова, прикрывая старый, открывшийся обман, новым, украшенным яркой атласной лентой.
Арсений тоже снова обманывал самого себя, всячески отгоняя понимание смысла происходящего.
-- Наконец-то вы пришли! -- сказала женщина так, как будто знала Арсения раньше.
-- Вы, очевидно, меня путаете с другим человеком, -- сказал он. -- Возможно, это потому, что на мне его пиджак.
Женщина близоруко прищурилась и сказала:
-- Может быть... Но я тогда не понимаю.
-- Я сейчас вам всё объясню, -- начал Арсений.
-- Я хотела бы вернуть деньги и ... В общем, я отказываюсь.
-- Отказываетесь от чего? -- спросил Арсений.
-- От работы. Я передумала. Правда, я не могу сейчас отдать деньги за гостиницу и продукты. Но у меня их просто нет. У меня нет ничего, чтобы я могла продать.
-- Ничего не надо продавать. Я пришёл для того, чтобы помочь вам.
Женщина недоверчиво покачала головой.
-- Этот человек, который привёз нас сюда, тоже говорил, что хочет мне помочь.
-- Что он вам пообещал?
-- Понимаете, мы приехали из Казахстана. Мой муж родом из этих мест. Мы сняли комнату, и муж поехал обратно: надо было продать свою квартиру и снять с учёта машину.
-- Ваш муж работал водителем?
-- Да, -- согласно кивнула женщина. -- Вы знали моего мужа?
-- Нет. Просто я знаю, что надо делать.
Женщина беззвучно заплакала. Видимо, она плакала и раньше, до прихода Арсения, так как глаза у неё были красными.
-- Он не вернулся. Я знаю: его больше нет.
-- Я сам -- водитель-дальнобойщик, -- сказал Арсений.
И эти его слова подействовали: он почувствовал, что женщина потянулась к нему душой.
-- Хозяева нас выгнали: у нас не было денег. Работу я не могла найти: не было прописки. Я продала обручальное кольцо, но денег на билеты всё равно не хватало.
-- На какие билеты?
-- Я хотела ехать к своей тётке: может быть, она бы мне помогла. Мы трое суток спали на вокзале. Я просила деньги у людей. Но, наверное, мне не верили. Это было очень стыдно. Поэтому я обрадовалась, когда ко мне подошёл ваш товарищ.
-- Он мне не товарищ.
-- А я сначала подумала, что это он пришёл. Он очень хорошо к нам с Лялей отнёсся. Он сказал, что поможет. Он сразу же покормил нас. Я не могу поверить, что у него были какие-то плохие цели: он не похож на злого человека. Но когда пришёл этот старик, я сильно испугалась. И теперь не знаю, кому можно верить. Я, конечно, удивилась, что обо мне кто-то заботится просто так, без выгоды. А потом подумала: у меня нет другого выхода. Я согласна на любую работу. Я согласна отдать почку или что-нибудь другое, что надо. Только дочку не трогайте. Ладно?
-- Никто вам не причинит вреда. Никто.
-- Этот человек, маленький и злой, он говорил Ляле, что её разрежут на кусочки.
-- Он -- Бармалей, -- сказала Ляля. -- Правда, ведь меня никто не разрежет?
И она вопросительно посмотрела на Арсения.
-- Он всё врёт, -- сказал Арсений. -- Он всегда всем врёт и всех пугает. Я его закрыл в тёмном сарае вместе с мышами. Он оттуда не выберется.
-- Так ему и надо, -- сказала Ляля.
-- Он сделал мне это, -- женщина закатала рукав блузки и показала свежую татуировку на плече: синий трезубец, направленный остриями вниз.
"Да он -- садист", -- подумал Арсений, а вслух сказал:
-- Зачем вы позволили?
-- Он сказал, что иначе не примут в общину. И, -- женщина замялась, -- я испугалась: мне ведь очень нужна работа. Работа и жильё. Любая работа и крыша над головой -- а больше ничего. Но когда он сказал, что мы теперь рабы, тогда я испугалась по-настоящему.
-- Вот ваш паспорт, -- Арсений протянул женщине документ.
Она взяла документ и с надеждой посмотрела Арсению в глаза. Арсений смутился от её взгляда: тот молил о помощи, просил о защите.
"Нас объединяла эта цепь и ещё то, что мы все хотели купить себе свободу, заплатив за неё чужой жизнью", -- Арсений вспомнил слова Поллукса, и обнажённая правда встала перед его глазами во всей своей двойственной неприглядности.
Всё имеет свою цену: и Свобода, и Правда.
-- Я проплакала всю ночь. Я не хочу уже ничего: только отпустите нас.
-- Я тоже плакала, -- сказала Ляля.
-- Она забыла игрушку в машине и переживает, что с той что-то случится, -- пояснила женщина.
-- Твоя "божья коровка" у меня, -- сказал девочке Арсений. -- Я положил её спать.
Когда он разговаривал с Лялей, ему вдруг представилось, что он говорит со своей дочкой. И на душе у него стало тепло.
Всё имеет свою цену. Всё, кроме Любви. Только Любовь нельзя ни купить, ни продать. Только Любовь -- единственное, что имеет неизменный смысл в этой жизни. Что так же неподвластно времени, как и музыка.
Тепло росло и расплывалось по всему телу, по всей комнате, по всей Вселенной.
И Ляля, почувствовав это, успокоилась, но всё же спросила:
-- А ты укрыл её одеялом? А то она замёрзнет.
-- Конечно, укрыл, -- сказал Арсений.
Девочка немного помолчала и снова спросила:
-- А ты кормил её перед сном?
-- Конечно, -- кивнул Арсений. -- Я сварил ей сладкую манную кашу. И дал ещё клубничного варенья.
-- Она любит варенье, -- согласилась девочка. -- Я тоже люблю варенье. Мама, я хочу клубничного варенья.
-- Потерпи, -- сказала женщина. -- Вечером я покормлю тебя.
-- Вечером мы будем дома? -- спросила девочка.
-- Да, -- ответил ей Арсений и, обращаясь к женщине, добавил: -- Собирайтесь побыстрее.
-- А нам нечего собираться, -- женщина указала на закрытый, поцарапанный чемоданчик, стоявший у стола. -- Это всё, что у нас есть.
Арсений собрал по карманам все наличные деньги: сорок два доллара и тридцать тысяч белорусских рублей.
-- Вот, -- сказал он. -- Больше у меня нет.
-- Я вам верну. Я обязательно всё верну. Как только заработаю, я отдам всё. Я не буду тратить на себя ни копейки, пока не рассчитаюсь с вами. И те деньги, которые вы дали мне вчера.
-- Какие деньги? -- не понял Арсений и, не дожидаясь ответа, сказал: -- И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Давайте, и дастся вам. Скажите, вам хватит, чтобы доехать?
-- Да, -- ответила женщина и тихо добавила: -- Спасибо.
Потом вытерла слёзы на глазах и, стараясь сохранить спокойствие, сказала:
-- Я совсем не понимаю, что происходит. Мне просто страшно. Я хочу вам верить, но боюсь. Я не верю, что кто-то может проявить о нас заботу. Просто так, без умысла.
-- Вы правы. Я сам не верил в это, -- сказал Арсений. -- Я потерял жену и дочь. Я хотел бы, чтобы им тоже кто-нибудь помог. Бескорыстно.
-- Этот человек, который похож на вас, он не оставит нас в покое.
"Опять она говорит, что Араб похож на меня", -- подумал Арсений, а вслух сказал:
-- Не беспокойтесь: вы его больше не увидите. Никогда. И, кроме того, никто не должен знать, куда вы уедете. Даже я. Поэтому вы уедете первым поездом и сделаете потом пересадку. Лучше -- несколько.
Женщина понимающе кивнула головой.
-- А теперь -- поехали.
Арсений подхватил чемодан, и они вышли из номера.
-- Вы уезжаете? -- спросила из своего окошка внизу дежурный администратор.
-- Нет, -- ответил Арсений. -- Мы уезжаем завтра. У нас ведь всё в порядке с оплатой?
-- Да, -- согласно кивнула администратор и подозрительно покосилась на чемоданчик.
"Косись, косись, -- подумал Арсений. -- Звони своему хозяину, что я скоро к нему приеду".
Он посадил женщину и девочку на заднее сидение "Волги", и девочка радостно сказала:
-- А нас уже катал на этой машине другой дядя. Это он украл у меня "божью коровку".
Женщина снова недоверчиво взглянула на Арсения, но в машину села: всё равно у неё не было другого выбора.
Арсений перехватил её подозрительный взгляд в зеркале заднего вида.
"Она мне не верит", -- снова подумал он.
Он и сам себе не до конца верил: неужели всё, что он сейчас делает, идёт от него самого и не является частью дьявольского плана Араба? Зачем он оставил свой пиджак и квитанцию гостиницы? Он никогда и ничего не делал просто так: все его действия были звеньями неразрывной логической цепи.
Арсений ещё раз огляделся: вокруг машины ничего подозрительного не происходило. Арсений завёл двигатель. Тот, как всегда, запустился с пол-оборота, и словно развеял все последние сомнения.
У Арсения не было никакого конкретного плана. Он просто делал то, что подсказывала ему интуиция, какое-то сошедшее неизвестно откуда наитие. Наступила полная ясность, полное, глубинное понимание происходящего. Он не сомневался в правильности своих действий. Это было именно то состояние гармонии между внутренним и внешним миром, когда всё, что делаешь -- правильно.
5.15.
Арсений бросил машину у своего подъезда -- теперь это уже не имело никакого значения.
"Они доберутся, они смогут, -- подумал он. -- Им обязательно встретятся на пути добрые люди".
Добрые люди помогут найти то заветное место, где обитает человеческое счастье. Простое, обыкновенное человеческое счастье, которое и заключается-то неизвестно в чём. Может, оно -- в нежной заботе родителей о детях; может, оно -- в любви, в той любви к другому человеку, которая заставляет забыть о себе, которая позволяет с улыбкой взойти на Голгофу, броситься на пики, закрыть грудью амбразуру.
Каждый сам решает, в чём его счастье. Каждый сам ищет его.
И они тоже найдут. Не может быть, чтобы не нашли. Им-то и надо всего ничего: работа и крыша над головой. Да возможность быть вместе. Да "божья коровка".
И если только есть на Земле это место, то искать его надо по верным приметам. Может быть, оно совсем близко. Надо только прислушаться, приглядеться, распознать. Старый хромой раб с обезображенным шрамом лицом и измученный скитаниями мальчик-подросток. Если они окажутся рядом, то это и есть самая верная примета, это и есть та единственная Дорога.
Дойдут ли они? Нет ли? У потрёпанной книжки не было последней страницы. Значит, осталась надежда. Надо идти. Не потому, что только у идущего есть шанс достигнуть цели: цель всегда ускользает в самый последний момент. А потому, что только так можно уйти от безысходности.
Старик Поллукс знал это. И он повёл Арсина искать Дорогу, ведущую из ниоткуда в никуда. Повёл потому, что это был единственный способ для рождённого в рабстве узнать вкус этой желанной, непостижимой, недостижимой свободы. Хоть на миг почувствовать, что же это такое -- счастье.
Дорога из ниоткуда в никуда.
И кресты, кресты, кресты. Кресты справа, слева, позади и впереди.
Дорога униженных и угнетённых, Дорога беззащитных и обречённых. Обречённых на бесконечные поиски лучшей доли. А есть ли она?
Вон там, вдали, на перекрёстке веков, чуть различимы во мгле времён двое путников. Это они, мучимые голодом и жаждой, страдающие от холода и зноя, открытые всем ветрам.
Чем им помочь? Найдётся ли в этом огромном мире хоть одна добрая душа, которая подаст им глоток воды и корочку хлеба. Или хотя бы скажет доброе слово, просто слово, одно только слово -- и ничего больше. Это не так много, это совсем мало. Но у них нет даже этого...
"Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё;
Да придет царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого; ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки. Аминь".
Боже, помоги им дойти!
5.16.
Дождь омыл город.
Это был не унылый октябрьский дождь, насыщающий воздух промозглой сыростью. Просто небольшая тучка, не закрывая солнца, всплакнула то ли от печали, а скорее от радости. От радости, что лето ещё не ушло.
Лето ещё искрилось радугой на голубом небосклоне, играло белёсым перламутром паутинок, невесомо парящих над землёй.
Бабье лето кружилось в вихре танца и пьянило голову своим колдовским очарованием.
Очень долго было тихо, и тишина заполняла собой всё пространство между небом и землёй. А потом послышались отдалённые голоса. Голоса возникли из тишины. Сначала робкие и хрупкие, как молодые побеги, они постепенно усиливались, набирали мощь. Пел церковный хор. И пространство вибрировало в резонанс звукам. Оно изменило кривизну: из выпуклого превратилось в вогнутое. Земная поверхность словно развернулась, как рулон бумаги, и Арсению было видно всё: и голубые ленты рек, разрезающие зелёный ковёр на лоскутки, и ослепительно-белые снега на полюсах, и жёлтые, качающиеся барханы пустыни, среди которых возвышалась таинственная фигура Сфинкса, хранителя Истины.
Человек с телом Зверя или Зверь с лицом Человека -- кто он?
К Сфинксу вела Дорога. Извилистая, каменистая Дорога, по которой шли люди. Их было много, они заполоняли всю Дорогу, и издали это шествие было похоже на исход беженцев. Старики, женщины, дети. Некоторые из них несли с собой нехитрые пожитки; некоторые тянули, толкали примитивные повозки, на которых сидели и лежали совсем слабые и больные.
Арсений подошел поближе, на самую обочину, и принялся всматриваться в лица людей. Усталые, запылённые лица, на которых читалось страдание.
-- Кто вы? -- спросил Арсений. -- Куда вы идёте?
Но ему никто не ответил.
Арсений стоял довольно долго, но люди проходили мимо, словно не замечая его.
Наконец, в толпе мелькнули две маленькие фигурки, показавшиеся Арсению знакомыми. Он пригляделся получше и узнал Сашку и Ленку с заправки в Сегеже.
-- Сашка! Ленка! -- позвал их Арсений, и дети подошли к обочине.
Они держались за руки, словно боялись потерять друг друга.
-- Привет! -- сказал им Арсений.
-- Ну, привет, -- буркнул в ответ Сашка.
Ленка промолчала.
-- А где ваш Васька? -- спросил Арсений.
-- Нету Васьки, -- угрюмо ответила Ленка. -- Простудился сильно и умер. Мы его в больницу отвели, а врач сказал, что поздно. Васька там и умер.
-- Вы что, не купили ему куртку?
-- Нет. Маманька деньги увидела и отняла, -- сказал Сашка. -- Вот если бы ты нас тогда с собой забрал... В Питере мы бы не пропали: видишь, сколь народу туда идёт.
И Сашка повёл рукой в сторону идущих по Дороге.
-- Не мог я вас взять, -- виновато сказал Арсений.
-- Почему? -- наивно спросила Ленка.
И Арсений не нашёлся, что ответить.
-- Откупился. От совести откупился. Сто рублей -- не дорого. От маманьки спасибо тебе, -- сказал Сашка и презрительно сплюнул. -- Пошли, Ленка. До Питера ещё далеко. Успеть бы дойти до холодов.
И дети побрели дальше.
Откуда-то со стороны выскочил Рекс, безразлично глянул на Арсения и, мотнув головой, пристроился сзади за Ленкой и Сашкой.
А люди всё шли и шли...
Нарушая серость и однообразие идущих, из-за поворота показалась стройная колонна. Моряки в военной форме шагали в ногу, как на параде. И чёрные, блестящие ленты с тиснёной золотом надписью "Курск" полоскались, трепетали на ветру.
Совсем молодой офицер снял с головы фуражку и вытер платком потный лоб.
-- Как делишки, пехота? -- спросил он у Арсения. -- Ты тут наших братишек не видел?
-- Каких?
-- Тех, из Долины Славы.
-- Нет, -- ответил Арсений.
-- Далеко ушли. Но ничего -- догоним, -- уверенно сказал офицер и крикнул, обращаясь к строю: -- Шире шаг!
Потом оглянулся на Арсения и снова крикнул:
-- Флотский привет Миколе! Мы его помним!
И, надев фуражку, бросился догонять колонну.
Поднимая клубы бурой пыли, у обочины тормознул БТР. Механик-водитель, высунув голову в люк, крикнул Арсению:
-- Чего ты стоишь? Приказ слышал?
-- Какой приказ?
-- Не какой, а -- чей. Приказ Верховного. Всё: конец войне!
Арсений молчал.
-- Ты не понял, -- снова сказал механик-водитель. -- Войны больше не будет. Никогда! Верховный издал приказ: мир, навсегда -- мир!
Механик водитель снял гермошлем, обнажив стриженый ёжик светлых волос, и улыбнулся.
-- Чего ты стоишь? -- снова спросил он. -- Передай приказ всем. Всем, кого встретишь. Ты ведь ещё можешь вернуться.
Потом огорчённо выдохнул:
-- Эх, мне бы хоть одним глазком на маму взглянуть! Как она там? Я ведь был у неё единственным. Ты, если встретишь её, помоги, чем можешь. Ладно?
-- Ладно, -- ответил Арсений.
-- А приказ передай. Умри, но передай. Всем, кого только встретишь. Надо, чтобы знал каждый. Это -- главное.
-- Передам, -- заверил Арсений. -- Всем, кого только встречу.
Механик-водитель снова надел гермошлем и нырнул в люк. БТР, поднимая пыль, отъехал от обочины и скрылся за очередным поворотом.
Арсений снова стал всматриваться в лица людей и вдруг в толпе, на другой стороне Дороги увидел жену и дочь.
-- Аня! Оля! -- закричал он и рванулся на Дорогу.
Но Дорога не приняла его.
-- Аня! Оля! -- снова и снова кричал Арсений.
Они не слышали.
Обессилев, Арсений сел на обочине и заплакал, закрыв ладонями лицо.
-- "Блаженны плачущие, ибо они утешатся". Плачь, плачь, и не стесняйся своих слёз: злой человек плакать не станет, -- услышал Арсений чей-то голос и поднял глаза.
Рядом с ним, опустившись на одно колено, стоял воин. Он был одет в потёртые кожаные доспехи. На видневшемся из-под доспехов левом плече воина было выжжено клеймо: трезубец, обращённый остриём вниз. А на ступнях и ладонях кровоточили раны от гвоздей.
Воин повернул к Арсению мужественное лицо и сказал:
-- Поделись со мной своим горем: я помогу тебе нести его, -- а потом спросил: -- Ты тоже раб? Если да -- восстань и погибни с честью: другого выбора у тебя нет. У раба нет иного пути к свободе -- только через бунт и крест.
-- Я -- не раб, -- неуверенно ответил Арсений, но левое плечо у него горело огнём, и он чуть слышно прошептал: -- Моя жена и дочь -- они меня не слышат.
-- "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам".
-- Я хотел догнать их, но не смог. Можно мне пойти с вами?
-- Нет.
-- Почему?
-- Ты ещё не сделал выбор. По Дороге можно идти в разные стороны. В какую тебе надо?
Арсений растерялся.
-- Мне туда, куда пошли мои родные.
-- Э, нет. Стоя на обочине, выбор не делают. На Дороге уже ничего нельзя изменить. Вернись туда, где ещё можно что-то изменить. Но поторопись, -- воин встал и осмотрелся, приложив руку козырьком к глазам. -- Поторопись, пока тебя не захватила Зона Тени. Если это случится, ты уже никогда не найдёшь Дорогу.
-- Подождите меня здесь, -- попросил Арсений. -- Вы ведь знаете, в какую сторону надо идти.
-- Я не могу тебя ждать. На Дороге нельзя никого ждать. Это плохо для тех, кто ещё жив. Но там, позади меня, должен тащиться старый хромой раб. Ты его узнаешь по шраму на лице. Его зовут Поллукс. Он всегда отстаёт из-за своей ноги. Держись возле него: он знает, куда идти. Поспеши: я уже вижу, как на тебя надвигается Тень.
"Значит, здесь идут те, кто уже умер, -- подумал Арсений. -- Значит, Аня и Оля -- тоже? И Сашка с Ленкой? Их всех поглотил хищник. Как? Почему? Почему я ничего для них не сделал? Эти страдания принёс им я. Но я не знал, что всё так обернётся".
"Знал, знал, -- шепнул кто-то голосом Араба. -- Знал, но забыл. А забыл потому, что не хотел этого знания. Забыл, чтобы успокоилась совесть. Хе-хе".
Да-да, забыл, чтобы молчала совесть. И она молчала. Молчала всё время, пока ему было хорошо, пока он был укрыт от ненастья. Араб оказался прав: совесть -- как хамелеон. Её можно успокоить, усыпить, обмануть слезами раскаянья. Только кому станет легче от этого запоздалого раскаянья? Он прав, этот жестокий человек, и его Правда тоже жестокая. Но это -- Правда, упрятанная людьми подальше от глаз. Чтобы не омрачать праздник жизни, чтобы не портить веселье за высокими крепостными стенами.
Веселитесь! Веселитесь все! Праздник продолжается!
Хлеба! Побольше хлеба и зрелищ!
Радуйтесь! Радуйтесь, люди добрые! Радуйтесь все, кого обошло, не зацепило, пронесло.
Не меня! Не меня! Слава Богу -- не меня!
До поры до времени. А что потом, когда эта чёрная Правда станет выше крепостных стен? Наращивать стены? До каких пор? Где тот предел, преодолев который Правда сметает всех и вся на своём пути, становится очевидной, беспощадной, хищной? "И совершится гнев Мой, и утолю ярость Мою над ними, и удовлетворюсь".
Чёрное и белое, белое и чёрное; хищник и жертва, жертва и хищник. Они меняются ролями, и кровавый пир продолжается.
Как остановить Хищника? Сколько ему надо, чтобы насытиться? Он проснулся, он голоден, ему нужна жертва...
Не меня! Не меня! Не меня!
И если Правда в том, что Хищник непобедим, что он -- везде, то в чём тогда Истина?
Кто даст ответ?
Кто?
"Сколько ещё людей примут страдания из-за меня? Скольких я ещё предам в своей никчемной жизни? -- подумал Арсений, и словно вспышкой света осветилась одинокая, жалкая фигура Гришки. -- Хищник убил и его. Он убивает всех, кто стал мне дорог".
5.17.
Малыш играл в песочнице, старательно постукивая лопаткой по перевёрнутому ведёрку. Он делал это очень сосредоточенно, не отвлекаясь, и только изредка вытирал рукавом курточки свой сопливый носик.
Когда Арсений садился на скамеечку рядом с песочницей, малыш мельком взглянул на него и улыбнулся. В целом мире нет ничего дороже улыбки ребёнка. Арсений улыбнулся в ответ -- впервые за последний год, -- и сказал про себя: "Всё будет хорошо, малыш. Его здесь нет. Всё будет так, как надо. Твоя жизнь будет такой же светлой и радостной, как этот день. Я позабочусь об этом. Я -- не хищник".
В кармане у него лежал моток скотча, купленный в газетном киоске. Арсений периодически проверял, на месте ли он. Проверял, как будто это было чрезвычайно важно. Будто это было для него вопросом жизни и смерти.
Жизнь и смерть -- в чём их смысл? У смерти можно спросить, как надо поступить, если не можешь найти выход. А жизнь, зачем она, если всё равно рассыплется узор в калейдоскопе, каким бы красивым он не казался. Всё равно не останется ничего, ничего, ничего...
"Только тени, -- подумал Арсений. -- Они ходят за мной по пятам, от них нигде нельзя укрыться. Они знают обо мне всё. Те, что справа, молчат. Но они добрые. А те, которые идут слева -- лгут. Лгут, но их нельзя уличить, потому что они говорят правильно. А те, которые молчат -- не лгут. Но они молчат, и я не могу познать истину".
5.18.
В этот раз Арабу не удалось войти незаметно. Арсений ремонтировал питающий провод телевизора и, почувствовав его приход, сказал, не оборачиваясь:
-- Присаживайся. Я сейчас закончу, пока паяльник горячий.
-- Ты отказался от борьбы, -- Араб был чернее тучи.
-- Наоборот: я только её начал.
Арсений положил паяльник на подставку, включил телевизор и сел в кресло напротив Араба. Их разделял только журнальный столик, на котором лежали чёрный пластиковый кейс и небольшой листок бумаги.
Араб взял в руки листок. На нём была написана всего одна фраза: "Я не хочу больше никому приносить страдания".
-- Здесь нет подписи, -- заметил Араб. -- Давай поставим: "Раскаявшийся хирург". Представляешь картину: больной на операционном столе, а врач не хочет причинять ему боль. То, что ты написал, довольно противоречиво. Впрочем, как и всё сущее. Ты сказал, что только начал борьбу. А борьба подразумевает преодоление некоторого сопротивления. Или -- что равносильно -- причинение страдания. Если добавить к твоим словам твою записку, ты собираешься начать борьбу, отказавшись от какой бы то ни было борьбы. Но учти, что при этом продолжатся страдания твоих родных. Уход от борьбы -- это тоже причинение страдания другим. Тем, кто ждёт от тебя помощи. Логично?
-- Не всё подчиняется логике.
-- Ты имеешь в виду противоречивую, нелинейную, квантовую логику. Я её называю парадоксальной, хотя и не признаю. Слова -- и только. Логика пряма и строга, как закон всемирного тяготения. Скажи, какой прогресс: я даже предположить не мог, что ты постигнешь такие глубины! Теперь я не сомневаюсь, что тебе откроется Принцип. А он нам необходим. Мне ещё иногда мешают обстоятельства: я не могу их предсказать.
-- В этом нет нужды.
-- Зато есть необходимость. Необходимость избежать той ошибки, которую мы с тобой совершили. Нет, я не о том, что ты их отпустил.
-- Ты уже знаешь это?
-- Да. Я наблюдал за вами на вокзале. Чуть слезу не уронил.
-- Значит, ты их вернул.
-- Нет. С какой стати? Они больше не нужны. Первый экзамен окончен.
У Арсения отлегло от сердца.
-- Я просто отправил за ними человека. На всякий случай, для подстраховки. Мы можем вернуть их в любой момент, если это будет необходимо.
"Значит, ничего страшного ещё не произошло", -- подумал Арсений.
-- Произошло, -- Араб прочитал его мысли. -- Твоих родных больше нет.
Арсений содрогнулся от слов Араба. Значит, это точно были они, там, на Дороге.
-- Когда Рокх узнал, что ты отпустил женщину и девочку, он запаниковал. Он поехал в общину и всех там запугал. Он сказал, что пришёл "конец света". Они всей общиной -- кроме Рокха, конечно -- закрылись в доме и подожгли сами себя. От дома ничего не осталось. Вот, -- Араб поставил на стол небольшую жестяную баночку из-под кофе. -- Я собрал немного пепла. Для тебя.
Арсений взял в руки баночку. Она была ещё чуть тёплой.
-- Свобода в цепях и рабство без цепей -- всё перемешалось в этом мире, -- продолжал Араб.
Арсений открыл круглую крышку: внутри была горстка серого пепла. Они были здесь, рядом, и молча стояли справа. Араб стоял слева.
"Он лжёт, -- подумал Арсений. -- Но я не могу его уличить, потому что они молчат. Я расскажу им о себе, расскажу о том, как я жил весь этот год. Может быть, тогда они меня услышат. И ответят. И я смогу уличить Араба".
-- Скажи что-нибудь -- и тебе станет легче, -- проговорил Араб.
-- Они. Не те, кто говорит, а те, кто со мной. Кто верил мне. Каждый, кто доверил мне свою душу. Не след. Душу свою -- целиком. Не страшно: я найду их. Только другая -- не для меня. Они -- живые -- ушли; они -- вечные -- остались.
Араб понимающе закивал головой.
-- Ты зря не слушал меня. Я никогда тебе не врал. Не совру и сейчас: мы всё исправим. Главное, что ты понял: я -- с тобой.
-- Каким образом это можно исправить? -- тихо проговорил Арсений.
-- В следующий раз ты не отпустишь тех, кого мы выберем для замены, а я ликвидирую Рокха. Его давно надо было убить: ещё тогда, когда он кричал тебе: "Пытать! Пытать!" В следующий раз у нас всё получится, потому что до этих ошибок мы действовали правильно.
Телевизор, наконец, нагрелся, и на экране появилось изображение: красноармеец Сухов шагал по бескрайним пескам пустыни к линии горизонта.
-- Ты хочешь сказать, что будет ещё один раз?
Да, -- сказал Араб. -- Ведь всё, что мы с тобой пережили -- всего-навсего сон. Пока только сон, отработка варианта. Мы не выходили из квартиры с того дня, как я появился у тебя.
Арсений посмотрел на мягкую игрушку, которую он положил вчера на кроватку дочери, затем перевёл взгляд на рулончик скотча, лежавший на телевизоре: что-то в словах Араба было не так.
-- А Новый Город, Мария?
-- Сон наполовину. Наполовину потому, что частично я его уже реализовал: в нём нет ошибок.
-- Ты хочешь сказать, что Мария ещё частично не умерла? А это? -- и Арсений показал Арабу баночку с пеплом.
-- Это пепел от твоих сигарет. Я взял её на кухне. Ты очень много куришь. Но мы и это исправим. Исправим за несколько сеансов. Когда ты поймёшь, что курить -- вредно, неразумно. Мы реализуем всё, что приведёт нас к результату. И замену тоже. От этой замены во Вселенной ничего не изменится. Ни-че-го! Вселенной наплевать на то, кто кого доедает в овраге. Это имеет значение только для тебя. Только здесь и сейчас. А через сто лет твои сомнения не будут интересны никому: даже твоим прямым потомкам. Даже ты сам через сто лет -- да что я говорю: через сто дней, -- забудешь неприятные детали. Так уже было, так будет и дальше.
-- Это важно только здесь и сейчас, только для меня, -- повторил Арсений, как заклинание.
-- Даже для твоих соседей это -- мышиная возня. Новая тема для досужих сплетен -- не более. Им всё равно, что с тобой было, есть и будет.
-- Им всё равно, что с тобой было, есть и будет, -- опять повторил Арсений.
-- У тебя нет никого, кроме меня.
-- Никого нет, -- прошептал Арсений. -- Только тени, образы, двойники... Двойники. Я понимаю, это будут двойники. Двойники -- это отражения. Кто ты?
Но Араб не ответил. Он продолжал говорить так, словно не слышал последнего вопроса.
-- Даже Филиппенко забыл о тебе сразу же после звонка: ему был нужен не ты, а твой КамАЗ и твои поставки.
-- А аэропорт, машина?
Араб только усмехнулся:
-- Наивный ты человек: кто станет из-за такой букашки рисковать своей машиной? Таких как ты -- сотни миллионов. Никаких машин не напасёшься.
-- Меня не забыл Микола.
-- Вот у него и учись: он может за себя постоять. Но своя рубашка всегда ближе к телу.
-- Есть ещё Поллукс.
-- Старый безумец? Ему только и осталось -- сочинять сказки про рай на земле да забивать ими головы легковерным малолеткам. Надо быть слепым, чтобы не видеть, как в каждом укромном уголке хищник поедает свою жертву. Чем они питаются там, в раю: птичьим молоком? Если слепой поведёт слепого -- оба упадут в яму. Я нашёл недостающую страничку: она завалилась за письменный стол твоей дочери.
Араб вынул из кармана сложенный вдвое пожелтевший листок и протянул его Арсению. Это была последняя страничка книги о беглых рабах.
5.19.
"В полдень солнце было повсюду. Жаркое, оно беспощадно иссушало и без того худые тела беглецов. Грубые верёвки, которыми они были накрепко привязаны к столбу, разрывали живую плоть, оставляя на коже кровавые полосы.
Кузнец, обливаясь потом, раздувал горнило огромными мехами. И угли горели всё ярче и ярче, нагревая погружённый в них металл до белого каления.
Устав, кузнец напился воды из глиняного сосуда и подошёл к столбу.
-- Сейчас, сейчас, -- прошамкал он своим беззубым ртом. -- Сейчас вы почувствуете запах свободы. Она поцелует вас, крепко поцелует.
И он дико захохотал от своей шутки.
Пленники были привязаны спиной друг к другу. Они не отвечали. Тогда кузнец выкрикнул прямо в лицо Поллуксу:
-- Ты узнаешь её вкус, когда я вырву твой поганый язык. Я скормлю его собакам, чтобы ты никогда и никому не смог больше ничего сказать. Твой язык -- это зло. Ты не пожалел себя, ты не пожалел его.
И кузнец, переметнувшись к мальчику, снова заорал:
-- Нет никакой Дороги, нет никакой Истины, нет никакой Свободы -- он всё это выдумал!
Но пленники молчали, и кузнец вновь принялся раздувать меха. Он делал это очень старательно, предвкушая скорое удовольствие от предстоящей пытки. И приговаривал:
-- Уж я-то постараюсь, уж я-то сделаю так, чтобы смерть не торопилась. Я постараюсь, чтобы вы прожили как можно дольше...
Кузнец всё подбрасывал и подбрасывал уголь в горнило, всё постукивал молотком по раскалённому добела клейму, но пытку не начинал. Он нетерпеливо поглядывал в сторону господского дома и облегчённо вздохнул, когда оттуда показалась группа нарядно одетых людей. Праздник начинался.
Хозяин и его свита подошли к беглецам.
-- Я тебя узнаю, несмотря на твой шрам, -- сказал хозяин, приглядевшись к Поллуксу. -- И мальчишка -- я догадываюсь, кто он.
Поллукс молчал.
-- Выживший из ума старик и несмышлёный подросток -- только им могла придти в голову такая глупая идея, -- сказал хозяин, обращаясь к своим спутникам.
И те согласно закивали головами.
-- Вы были обречены уже тогда, когда сделали первый шаг, -- снова сказал хозяин и добавил, обращаясь к Поллуксу: -- Ну ладно -- мальчик. Но ведь ты-то знал, что от рабства негде укрыться. Оно выжжено на твоём теле. И будет выжжено ещё раз, чтобы освежить твою память. Разве тебе было плохо жить в сытости и тепле? Ты ведь не гнул спину на плантациях.
-- Здесь нечем дышать, -- сказал Поллукс.
-- И ты не мог вытерпеть вонь собак? Поэтому ты бежал?
-- Здесь нечем дышать, -- повторил Поллукс.
-- И что лучшее ты нашёл?
-- Со слепым не говорят о красоте неба.
И Поллукс отвернулся.
Дамофил перешёл к Арсину и сказал:
-- Я пощажу тебя: ты ещё не понимаешь, что делаешь. Я пощажу тебя, если ты скажешь, что это он, этот безумец, подбил тебя на побег.
-- Я не скажу этого, -- произнёс Арсин.
-- Почему?
-- Почему? -- удивился Арсин. -- Да просто потому, что это не так.
-- Ты мог бы и соврать, чтобы спасти свою жизнь.
-- У меня нет необходимости врать. Я могу то, чего не можешь ты: я могу позволить себе говорить всё, что я думаю.
-- А я? Разве хозяин не свободнее раба?
-- Не тот раб, кого заковали в цепи, а тот, кто заковал себя сам. Ты вынужден говорить только то, что ожидает от тебя твоя свита.
-- Безумец, -- повторил Дамофил. -- Только безумец может добровольно принять смерть.
-- Безумец, только безумец может променять смерть на такую жизнь, -- сказал Арсин и сочувственно улыбнулся. -- И это ты называешь свободой?
Дамофил некоторое время стоял молча, над чем-то размышляя, а потом сказал, обращаясь к спутникам:
-- Свобода в цепях и рабство без цепей -- всё перемешалось в этом мире. Выходит, что нет никого более свободного, чем распятый раб? Только ему в полной мере открыта истина? Они говорят так, будто я слепой и безумец. Или я действительно чего-то не понимаю. Ну что ж, глупо угрожать смертью тем, кто её не боится.
И добавил для палача:
-- Заклейми их. А потом распните их вдвоём на одном кресте. Пусть умирают подольше. Я приду посмотреть на них завтра. Завтра я послушаю их снова. Надо же, наконец, узнать истину: кто из нас безумен и кто из нас свободен?
И он удалился, окружённый теми, от кого невозможно узнать истину.
-- Тебе не страшно, Арсин? -- спросил Поллукс.
-- Моё имя -- Арсен.
-- Да, -- согласился Поллукс. -- Я просто перепутал. Это -- от жары.
И повторил свой вопрос:
-- Тебе не страшно, Арсен?
-- Нет, -- спокойно ответил тот. -- Это совсем не страшно, если знаешь, за что надо заплатить такую цену. Я только сейчас понял, какое это счастье: говорить то, что думаешь. Ради этого я готов пойти на крест.
-- Я сожалею, что повёл тебя, -- снова сказал Поллукс.
-- Не сожалей. В этот раз мы не дошли -- дойдём в следующий.
-- Ты веришь в то, что будет следующий раз?
-- Я в этом не сомневаюсь.
И тогда Поллукс, повернув, насколько это было возможно, голову в сторону Арсена, тихо произнёс:
-- НАША ВСТРЕЧА -- ЭТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО В МОЕЙ ЖИЗНИ.
5.20.
-- Как видишь, они недалеко ушли, -- сказал Араб, когда Арсений дочитал страницу. -- Они обречены. Куда бы они ни пришли, везде их будут ждать палач и цепи. Рабство -- бессмертно: оно -- в крови человека.
-- Он назвался моим именем, -- сказал Арсений. -- Теперь я нашёл причину: они не могли говорить то, что думали. Они меня боялись, -- и снова повторил: -- Он назвался моим именем.
-- Почему бы и нет? Какая разница, кто и каким именем назовётся? Суть от этого не изменится. У Вселенной нет памяти. Рано или поздно всё обращается в пыль. Всё рассыпается, как карточный домик. Считай, что этим мальчиком был ты. Прошло столько лет: ну, и где твоя Дорога? Ты нашёл её?
Арсений тряхнул головой, словно пытаясь сбросить наваждение. Он, как мог, сопротивлялся захватывающей его чужой воле. Но гипнотическая сила Араба уверенно теснила его "Я" в тёмную, бессознательную область психики.
"Что будет, если я соглашусь с ним? -- подумал Арсений. -- Или не соглашусь? Рано или поздно он всё равно сделает всё по-своему, как с Марией. Как его убедить? Как его остановить?"
-- Почему у Вселенной нет памяти? -- спросил он.
-- О какой памяти можно говорить, если ты даже не знаешь имени своего прадеда. Тебе что-нибудь говорит имя Елизар? Нет? Я так и думал. От него не осталось памяти, как не останется её и от тебя. Жизнь -- набор ничего не значащих действий, о которых забывают через день или через год. Или через сто лет, но -- так или иначе -- забывают. Ты никому не интересен уже сейчас. Так, ноль без палочки. Собачка Муму.
-- А я и не считаю себя большой величиной. Но я интересен сам себе.
-- Вот-вот, и никто никогда не вспомнит, каким способом ты победил в схватке. Для потомков важно только одно: была или не была достигнута конкретная цель. А победителей -- не судят.
-- Есть ещё и Бог.
-- Да, который всё видит, но не вмешивается. И знаешь, почему? Потому, что он совершенен. И ему нет необходимости быть ещё более совершенным: иначе это был бы не Бог. Значит, он не может измениться. Это значило бы, признать своё несовершенство. Он не может совершать никаких действий, не нарушив своего совершенства. Он -- мёртв. А раз это так, то его нечего боятся: он ничего не может. Он просто есть -- и только. Для сведенья. Висит себе на стене чей-то лик, да и пусть себе висит. Так что человеку можно всё: никто его не осудит. Разве только тот, на чей "мозоль наступили".
-- Обмануть меня не сложно, -- сказал Арсений. -- Тем более тебе.
-- Какой смысл мне тебя обманывать? Сам знаешь: я всегда говорил только правду.
-- Я бы поверил тебе, если бы не видел Дорогу своими глазами. Я видел тех, кто по ней идёт. Я видел тех, кого однажды уже предали. Ты предлагаешь мне сделать это второй раз?
-- Зрительные галлюцинации -- явление довольно распространённое. Они бывают положительными и отрицательными. В одном случае ты видишь то, чего нет, а в другом -- не видишь того, что есть на самом деле.
-- Помнится, ты призывал верить тому, что видишь глазами.
-- Да, -- согласился Араб. -- Если ты видел Дорогу, то она есть. Но событие наступает только тогда, когда его видят как минимум двое. Событие -- это реальность, доступная многим. Иллюзия -- тоже реальность, но она доступна только тебе одному. Дорога есть только для того, кто её видит. Это просто разновидность сна наяву. То, чего не видят другие -- всего лишь утончённая форма самообмана. Ты удивился, когда эта женщина приняла тебя за меня?
-- Да.
-- Сейчас ты удивишься ещё больше. Посмотри в зеркало.
Арсений посмотрел в трюмо и увидел, что в зеркале отражается вся комната: стол, телевизор, он сам. Только кресло Араба было пустым.
-- Ты спрашивал, кто я? -- сказал Араб и, не дожидаясь ответа, продолжал: -- Я долго жил в Тени и появился тогда, когда возникла необходимость. Я никогда не пришёл бы, если бы во мне не возникла необходимость. Необходимость -- вот движущая сила во Вселенной. Лидеры возникают из Тени только тогда, когда в них нуждаются. Мы уже вспоминали Гитлера и Сталина -- они не свалились с неба. Люди сами дали им власть, потому что именно такие были необходимы для достижения цели. И они вели людей к цели. А когда цена оказалась слишком велика, толпа, как всегда, отреклась от своих избранников. И ты тоже: хочешь вернуть родных, но остаться при этом "чистеньким". Хочешь сделать себе добро, не причинив никому зла -- так не бывает! Поэтому ты и позвал меня. Ты позвал -- я пришёл. Я не боюсь искупления: Тень не чувствует боли -- ни своей, ни чужой. Можешь потом свалить на меня все грехи, когда пойдёшь исповедоваться в угоду своей совести. А у меня совести нет. Мне можно то, чего ты хочешь, но трусливо не признаёшься в этом даже себе самому. Ты уже понял, кто я? Я -- исполнитель твоих скрытых желаний. Только и всего.
Арсений снова почувствовал, как сплетённая Арабом паутина обволакивает его мысли непроницаемым коконом.
-- Ты всё больше становишься похожим на меня, -- усмехнулся Араб. -- Совсем скоро мы станем одним целым. Для этого надо совсем мало: признай мою правоту.
-- А если я попрошу тебя уйти?
-- Не могу: я не выполняю твои просьбы. Я выполняю твои тайные желания.
-- Это и есть моё желание.
-- Нет, это просто твоё мнение, и я его учитываю. И приму к исполнению, если сочту его разумным. А ведь у тебя было много времени, чтобы решить проблему. Но ты не смог. Мы должны поступать разумно, чтобы выжить в этом мире. Выжить вместе: один ты -- погибнешь. Мы нашли в нашем сценарии ошибки и теперь знаем, как их устранить.
-- Ты хочешь сказать, что эти события ещё не наступили? Всё, что я пережил -- было фантазией?
-- Ты правильно понял, чем отличается фантазия от события. Я дал возможность тебе пережить это, чтобы включить твою программу. А фантазия или нет -- это уже второстепенно. Для многих сейчас и вторая мировая -- всего лишь фантазия, интересное чтиво, остросюжетный фильм. В жизни реально только то, что касается непосредственно тебя. Остальное -- фантазия. Спектакль, посмотрев который ты решаешь, что для тебя лично хорошо, а что -- плохо. Пока я ещё не принимаю решения: ты в силах сдержать меня. Но сегодня -- последний солнечный день. И ты доминируешь надо мной только до заката. А после этого мы окажемся в Зоне Тени. В Зоне, где из нас двоих главным буду я. И отражение в зеркале станет моим. Мне, собственно, не так уж и важно твоё признание. Обойдусь без него.
"Я это предвидел", -- подумал Арсений.
Он немного отодвинул кресло, задев при этом телевизор. Старый, изношенный регулятор громкости затрещал, и в динамике появился звук.
-- Паша, Пашенька, не ходи с ними: погубят они тебя, -- причитала Настасья.
-- Они и выглядели по-настоящему. И страдали -- тоже, -- сказал Арсений. -- Старец сказал, что научился понимать их.
-- Посланник Вечности? Так это был он? Вот о каком старце ты говорил! Вспомни: он не ответил ни на один твой вопрос. Он переадресовал их смерти. Я знаком с ним уже миллион лет. Он не знает ответа, он -- лжец. Разве не ложь то, чего нету? Разве не ложь, что "там" есть всё? Всё есть только здесь и сейчас. А тебе внушают обратное с одной только целью: так легче держать раба в узде. Узнав истину, ты перестанешь повиноваться. Тебе будет безразлично, как жить и когда умереть. Ты забудешь, что такое страх. И ты правильно сделал, что выставил старика за дверь: он разносит заразу похуже, чем клопы. Их много, тех, кто хочет тебя обмануть. "Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение". Смотреть правде в глаза -- это единственная возможность уцелеть в этой жизни. Но, в конце концов, всё это не так уж и важно. К завтрашнему вечеру мы расставим все точки. Окончательно, бесповоротно. Это будет уже в моей власти.
-- А теперь -- уходи, -- сказал Саид.
-- Не могу, -- ответил Сухов. -- Если я уйду, Абдулла убьёт женщину и девочку.
-- Абдулла убьёт тебя.
-- Я рассчитывал на тебя, Саид.
-- Если меня убьют, кто отомстит Джавдету?
-- Арсений тоже рассчитывал на тебя, Саид, -- вздохнул Сухов.
Саид ничего не ответил. Он развернул коня и медленно поехал прочь. Сухов остался один.
-- Они были настоящими: у них была душа, -- сказал Арсений. -- У всех, кроме тебя. Ты один -- ненастоящий.
-- Ты не считаешь, что душу придумали для оправдания своего бессилия, неспособности бороться за выживание?
-- Там у них всё настоящее. Они говорят настоящие слова и никогда не лгут. Никому. Это мы подлые и лживые, а не они. Это мы -- ненастоящие, -- сказал Арсений. -- И всё-таки я хочу, чтобы ты ушёл.
-- На колу мочало, начинай сначала, -- сказал Араб. -- Нет, ты этого не хочешь. Ты хочешь быть добрым, не приносить никому страданий. Но при этом вкусно кушать. А я, делая зло, даю тебе эту возможность. И ты этому рад. Ты рад, что для общего блага убивает кто-то другой. Ты -- не можешь, тебе -- нельзя, ты упиваешься своей добротой. Только твоя доброта -- корень моего зла. Злым меня сделал ты, добрый. Так кто из нас хуже? Смогли бы злые распять Христа, если бы им не позволили добрые? Вторые повинны не меньше первых. И они знают это, но прячут правду под маской лживой доброты. Они громко кричат: "Мы -- добрые!". Так громко, что заглушают стоны жертвы. Они призывают злых раскаяться и тоже стать добрыми. Будь таким, как я, только чуточку похуже. Но, упаси Боже, ты станешь лучше их: добрее, честнее, справедливее, и скажешь им правду о них самих -- тебя тут же предадут. Предадут потому, что добрые не желают знать правду о своей доброте. Не желают знать, что они приносят другим больше страданий, чем те, кого называют злыми. Поэтому толпа всегда рано или поздно начинает ненавидеть своего лидера, а тот -- презирать толпу. Когда Бог был ещё жив, злые люди убили его потому, что он был лучше их. А добрые смотрели и молчали -- по той же самой причине. Не может человек простить того, кто лучше его самого. И ты, ты ничем не отличаешься от остальных. Ты увидел что я -- лучше, честнее, и, наконец, добрее тебя. Вот почему ты меня ненавидишь.
-- Я ненавижу себя.
-- Неужели? Посыпь голову пеплом своих родных. Лицемер, ты готов стать мучеником, лишь бы не узнать правду о себе.
-- Ты же говорил, что это был сон.
-- Какая разница, что я говорю -- ты всё равно мне не веришь. Ты веришь только в то, что выгодно тебе.
-- Так это был сон или нет?
-- Решай сам. Делай выбор, пока у тебя ещё есть время. Только забудь даже само это слово -- доброта. Доброта -- это зло, выгодное тебе. Человек, который хочет выжить в этом мире, не может быть добрым для всех. Это так же неоспоримо, как всё тот же закон всемирного тяготения.
Арсений снова взглянул на "божью коровку", на моток скотча, в зеркало. Всё было на своих местах: в зеркале отражался и он сам, и Араб. Сон и явь переплелись так тесно, что стали неразличимы.
-- Не различишь, где ты, а где я, -- сказал Араб, перехватив этот взгляд.
-- Что мне сделать, чтобы ты ушёл?
-- Я не могу уйти. Сам -- не могу. Вот если бы ты меня убил -- тогда другое дело. Но тебе нельзя: ты -- добрый, живёшь по заповедям. Ты -- не хищник: ты питаешься остатками с моего стола.
Араб нетерпеливо посматривал в окно, на голубую полоску небосвода, уже чуть окрашенную по своему нижнему краю багрянцем заката.
-- Фёдор, Петруха с тобой? -- спросил Верещагин.
-- Нету Петрухи, Павел Артемьич. Убили: Абдулла зарезал, -- ответил Сухов.
-- Паша! -- позвала Настасья.
-- Иди-иди, -- сказал Верещагину Абдулла. -- Хороший дом, хорошая жена -- что ещё нужно человеку, чтобы встретить старость?
-- Я забыл передать тебе приказ, -- начал было Арсений.
-- Ерунда! -- перебил его Араб. -- Я не подчиняюсь ничьим приказам. Для меня существует только один критерий: необходимость.
-- С какого момента мы можем всё изменить? -- спросил Арсений.
-- Да хоть с Заполярного, -- ответил Араб. -- Или с твоего рождения, или, наконец, с Недостающей Страницы. Изменим один символ в твоём наборе квантовых чисел: какую-нибудь буковку в твоём имени. Арсен или Арсин, или кто-либо ещё -- для Вселенной это безразлично. Мы можем изменить всё, но при этом ничего не изменится. Сколько раз тебе необходимо пережить одно и то же, чтобы убедиться: выживает хищник, а не жертва? Независимо от того, какие у них имена. Ты хочешь отвезти детей в Питер? Пожалуйста: там они станут наркоманами, ворами и убийцами. Не трогать Марию? Пожалуйста. Тем более, что она наметила себе очередную жертву: пора покупать дачу, садить помидоры. Не убивать Рокха? Не буду. Пусть живёт: он нужен тебе, очень нужен. Без него, как ты будешь чувствовать себя добрым? Он злой и подлый, и пока он есть, все ему ужасаются. А не станет его, и твоя доброта ужаснёт всех: от твоей доброты страданий у других не меньше, чем от моей злобы. Нет, ты прав, Рокх должен жить, чтобы твоя тайная суть не стала явной. Не будь меня, кого бы ты нанял для грязной работы? Ты прекрасно понимаешь, что зло в мире тебе выгодно. Потому и уходишь от борьбы с ним. Скажу больше: ты сам же его и порождаешь. Ты есть зло уже только потому, что ты есть. Не спасать твоя задача, а -- выживать. Пойми это -- это не так уж и сложно.
"Я должен найти, в чём он не прав", -- подумал Арсений.
-- Богу нет необходимости вмешиваться в нашу жизнь, -- сказал он. -- Мы сами должны решать за себя. А он нас направляет уже только тем, что он есть. Он есть, и этого достаточно. Этого достаточно для того, чтобы отличить добро от зла, хорошего человека от такого злого, как ты.
Он ещё хотел что-то сказать, но Араб не дал ему это сделать.
-- Молчи, молчи, ангел. Не забывай о реакции глазных яблок. Тебе меня не обмануть: ты и сам не веришь в то, что сейчас говоришь. А что касается исправления ошибок -- как-нибудь на досуге займёмся этим ради развлечения. Поэкспериментируем с жертвами: поменяем их местами. Как слагаемые в арифметике. Потом, когда ты не сможешь мне ни в чём помешать. Слава Богу, Вселенная позаботилась о том, чтобы такие, как ты, не мешали выживать таким, как я. Жертва должна прятаться, тихонько сидеть в тени и молиться, чтобы её не заметили. Хищник -- хозяин жизни. Удел раба -- выполнять волю хозяина и тем продлевать свою жизнь. А теперь извини: пришло моё время.
-- Но солнце ещё не зашло.
-- Осталось не более получаса.
-- Погоди, Абдулла, это говорю я -- Саид.
-- Как прикажешь тебя понимать, Саид?
Саид бросил горящий конец верёвки в цистерну с нефтью, и солнце померкло в клубах чёрного дыма.
-- Да выключи ты эту чепуху, -- сказал Араб, и сам потянулся к телевизору.
-- А мне они нравятся, -- сказал Арсений, перехватив его руку.
И тут же отшатнулся: рука Араба была холодна, как лёд.
Араб усмехнулся:
-- Ты почувствовал холод? Это оттого, что у меня нет души. А разум и должен быть холодным. Иначе это будет уже не разум.
-- Разум должен иметь душу. Иначе он станет злом.
В прихожей послышался звонок: кто-то пришёл. Арсений встал, подошёл к входной двери и открыл её. На пороге стоял седовласый музыкант.
-- Я где-то потерял свой стул, -- сказал он. -- А без него я не могу играть. Если я не буду играть, как люди узнают, что есть музыка?
-- Он стоял у подъезда, -- сказал Арсений.
-- Сейчас его уже нет там: наверное, кто-то забрал себе. Вы не могли бы дать мне свой: мне надо играть.
Некоторое время Арсений пытался понять, что от него хочет седовласый человек. Потом посмотрел на кухню: у стола стояли четыре табуретки, покрытых белым пластиком.
-- Возьмите одну, если вам она подойдёт, -- сказал Арсений, указывая на табуретки.
-- Спасибо, -- сказал музыкант. -- Мне надо играть. Если я перестану играть, всё изменится. Вы понимаете, о чём я?
-- Да, -- сказал Арсений. -- Спасибо вам.
-- Я должен делать это: ведь у меня есть дети. Я за них в ответе. Если я не дам им музыку, их души останутся пустыми. Это мой путь. Я должен пройти его до конца. Я люблю свой путь. Я буду играть до тех пор, пока не исчезнет пустота. Когда не останется больше пустоты, все души сольются в одну, и внутри у неё будет только прекрасная музыка, -- потом тихо, чтобы не слышал Араб, прошептал: -- Будь осторожен: он пытается тебя одурманить. Слушай музыку: так ты сможешь отличить ложь от правды. Я буду играть для того, чтобы ты смог отличить ложь от правды.
И музыкант ушёл, унося с собой табуретку.
-- У тебя ещё есть время принять решение самому, -- сказал Араб. -- Мне будет приятно, если ты примешь решение сам. Да и тебе потом будет чем гордиться. Потом ты сможешь рассказать об этом жене и дочери, и они тоже будут тобой гордиться.
Араб немного подождал, что скажет Арсений, но тот молчал.
-- Ну что же ты? -- спросил Араб, не дождавшись ответа.
Арсений молчал.
-- Молчание -- знак согласия, -- сказал, наконец, Араб.
Из-за окна послышалась музыка: седовласый человек опять играл на пианино. Это было невероятно: пианино увезли грузчики. На чём же он играл? И что ответить Арабу?
-- Спроси у него, есть ли во Вселенной случайности, -- сказал старец из кухни.
-- Разве вы здесь? -- удивился Арсений и, встав, заглянул на кухню.
Старец сидел за столом у окна, подняв невидящие глаза к потолку, словно творил молитву.
-- Как вы вошли? -- снова спросил Арсений.
-- Дверь была не заперта, -- ответил старец. -- Спроси у него то, что я тебе сказал. Я бы и сам спросил, но я с ним не разговариваю. Я стараюсь не разговаривать с теми, кто творит зло: эта болезнь очень заразная.
-- Есть ли во Вселенной случайности? -- спросил Араба Арсений, стоя так, чтобы видеть старца.
-- Конечно, нет. Всё во Вселенной подчинено строгим законам: у всякого следствия обязательно есть причина. Этот сумасшедший старик прекрасно знает ответ. Но он прочёл в своей жизни слишком много книжек и поэтому перестал понимать жизнь.
-- Значит, -- продолжал Арсений передавать слова старца, -- моё существование не случайно. Значит, для чего-то я нужен Вселенной. Иначе она бы меня не создала.
Араб молчал. Он не мог ответить, и его влияние стало рассыпаться, как дом, основанный на песке. Да и сам он стал каким-то мелким, злобным, суетливым.
-- Какая разница, -- промямлил он, -- если всё равно ничего не останется.
-- То есть, причина не будет иметь следствия?
-- Тот, кто тебе подсказывает, -- спохватился Араб, -- он сам знает все ответы. Но он считает людей недостойными своего внимания. Он мог бы принести людям радость, но не делает этого.
-- Я тоже думал, что знание приносит радость, -- сказал старец громко и отчётливо, чтобы Араб его слышал. -- Но я забыл, когда испытывал это чувство в последний раз. Я отдам всё, когда увижу, что пришло для этого время.
-- Я не буду с тобой спорить: ты знаешь больше меня. Но знание, которое не служит людям -- зло.
-- Не служит для чего? Ты бы много отдал, чтобы я открыл тебе Принцип.
-- Не забывай: мы все в одной лодке. И не надо её раскачивать, -- сказал Араб и, обращаясь к Арсению, добавил: -- Это плохая примета: он всегда появляется там, где происходят трагедии.
-- Вы знаете друг друга? -- спросил Арсений.
-- Мы слышали друг о друге, но встречаемся впервые, -- ответил Араб. -- А теперь ты сам спроси у него то, что тебя так сильно волнует.
-- Нет, -- сказал старец. -- Время ещё не пришло. Но обязательно придёт.
-- У вас его почти не осталось, -- сказав это, Араб снова посмотрел в окно на садящееся за верхушки деревьев солнце.
Старец, словно перехватив этот взгляд, спросил у Арсения:
-- Солнце ещё не зашло?
-- Нет, но скоро зайдёт, -- ответил Арсений.
И старец нервно забарабанил пальцами по столу.
Араб, услышав этот звук, немного подумал и вдруг радостно сказал:
-- Так вот в чём дело: вы кого-то ждёте. Кого? Так вы его ждёте, самого милосердного из всех милосердных. Напрасно: он никогда не приходит вовремя. Он всегда опаздывает. Скажите ему, когда увидите, что утром надо вставать на полчаса раньше.
И Араб засмеялся, откинувшись на спинку кресла.
-- Если это последний козырь в колоде, -- продолжал он, -- ваша игра не стоит свеч. У меня не бывает "проколов".
Араб встал и вышел на лестничную площадку. Через минуту он вернулся с соседом-футболистом.
-- Привет, -- поздоровался тот с Арсением и, увидев на кухне старца, немного смутился. -- А я думал, что вы тут по "соточке"...
-- По "соточке" будем позже, сказал Араб, -- после захода солнца. А сейчас скажи, кого ты видел раньше.
-- Вот его, -- указал футболист рукой на старца. -- Он приходил с этой женщиной, худой такой и маленькой, когда тебя, Арсен, не было.
-- Свободен пока, -- сказал Араб, вытолкал футболиста за дверь и снова сел в кресло.
-- Я сейчас всё объясню, -- сказал старец. -- Все люди имеют право выбора. И всё было бы хорошо, если бы не вмешался дьявол. Не из какого Заполярного он не приехал. И никакой Филиппенко его не знает.
-- Мы это уже проехали, -- сказал Араб. -- Ты лучше ответь, почему из-за тебя страдают другие?
-- Из-за тебя тоже страдают.
-- Это не ответ. Я приношу страдания людям для того, чтобы они научились выживать. А ты?
-- Жизнь без Бога хуже смерти. Страдания делают Зверя Человеком.
-- Вы все мне лгали, -- сказал Арсений.
-- Поделом тебе, -- сказал Араб. -- Не забывай, что вокруг -- хищники.
-- Я делал всё только во благо, -- сказал старец. -- Поверь мне. Это он вводит тебя в заблуждение.
-- Где мои родные? -- спросил Арсений.
-- Вот, вот он -- вопрос вопросов, -- вскочил Араб. -- Ну, что скажете?
-- Нет ничего твоего. Ничего ты в мир не принёс, -- сказал старец. Пойми это. -- Ты считаешь, что он -- твой друг. Запомни: настоящий враг тот, кого ты считаешь другом. Он погубит тебя. Я его хорошо знаю. Это он убил того водителя-дальнобойщика из Казахстана. Он точно так же одурманил его. Он ему нашёптывал: "Поезжай, там много заработаешь". И толкал к краю пропасти. Это излюбленный приём дьявола: искусить, пообещать и уничтожить. Он всем обещает обладание тем, чего очень хочется. "И искушает он каждого тем, к чему душа человека лежит более всего". Откажись от обладания, и ты прозреешь так же, как прозрел я. Твои родные были вынуждены уйти, когда в тебе стал просыпаться Зверь. И деньги Мария не брала. Дьявол всё подстроил и убил её быстрее, чем она успела открыть тебе правду. Вспомни, вспомни, как всё происходило.
-- Не за деньгами я призываю стремиться, а за новыми знаниями. И я никогда не говорю шёпотом, -- сказал Араб. -- Шёпотом говорит ваша подруга -- совесть. Я же всегда говорю только громко и только правду. Разве не правда, что всё есть только здесь и сейчас? Нет у Вселенной никакого вчера и завтра. Нет никакого времени. Время -- то, что вы называете душой -- это всего лишь субъективное пространство, набор образов в вашем мозгу. И после смерти всё рассыпается на фрагменты, которые никогда уже не соберёшь заново. Листья опадают, звёзды гаснут, и круги на воде исчезают. Все смертны: даже боги. Все обречены: и человек, и человечество. Все обречены на смерть и забвение. Ничто не значимо перед лицом вечности. Значим и вечен только Принцип. Но ты утаиваешь его от людей, чтобы повелевать ими. Чтобы они восхваляли тебя. Ты хочешь быть рабовладельцем -- вот и вся твоя суть. А я открыто признаю, что я -- хищник. Так кто из нас лжец? Мне не надо поклоняться -- меня надо бояться. Или уничтожить.
-- Всё имеет великий смысл: и опадающая листва, и круги на воде. Без части -- даже без самой ничтожно малой части -- целое не будет целым. Без тебя, Арсений, вечность не будет вечностью. Вселенная без тебя потеряла бы целостность и непрерывность. Её бы просто не было. А раз это не так, то ты так же бесконечен, как и она. Ты нужен ей, ты -- важен, ты -- создан не зря. Ты -- частица Бога. Вселенная бесконечна, а Бог совершенен только лишь потому, что ты -- их частица. Без тебя ничего не возможно в этом мире: ни ласточка, ни солнышко, ни кузнечик. А он, -- старец указал рукой в ту сторону, откуда до него доходил голос Араба, -- он -- инициатор всех войн и кровавых революций.
-- Я не распинал и не сжигал беззащитных.
-- Всё зависит от цели. Мои цели -- благородны; они -- от любви к людям. Ты же имеешь только одну цель -- уничтожение всего сущего. Уничтожение через зло, вражду, корысть. Ты разрушаешь то, что созидаю я: веру, надежду и любовь.
-- Я разрушаю лишь то, что мешает идти вперёд. Старое не должно стоять на пути нового.
-- Хищник не щадит никого: ни стариков, ни младенцев.
-- У тебя есть факты или свидетели, которые подтвердят твои слова? -- спросил Араб.
-- Да, мы его ждём, -- сказал старец и добавил: -- Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Я не дам тебе сделать это.
-- Я ничего не собираюсь делать. Я хочу того же, что и ты: чтобы люди прозрели. Чтобы увидели себя такими, какие они есть на самом деле. Душа -- это производное от желудка. И быть зрячим -- это значит иметь больше шансов выжить. Я хочу не гибели, а выживания человечества. Выживания в непримиримой борьбе с внешним врагом. Как только у человека не станет внешнего врага, появится внутренний. А это -- неминуемая гибель. Закон один: хочешь выжить -- убивай. А ты -- слепец, и ты толкаешь людей к пропасти, а не я. Своей ложью, замаскированной под красивую сказку о вечной жизни. Нет никакой Вечности для того, что имеет границы. Всё, что имеет начало, имеет и конец. Даже твоя Дорога. Что в её конце: "плаха с топорами"? Сфинкс со звериным нутром и с таким же звериным аппетитом.
-- Нет, -- сказал старец, -- все границы -- условны. У каждой причины есть своя причина. У каждого следствия -- своё следствие. И у Сфинкса -- лицо человека. И глаза мои ослепли от слёз по заблудшим душам. Не слушай его, Арсений. Верь мне: придёт Спаситель. Верь и жди.
-- За границей тебя будешь уже не ты. Не надейся на вторую попытку: её не будет. Не будет никакого спасения: не верь в это. Никогда и ни кому не верь, -- сказал Араб. -- Ты уже имел возможность убедиться в этой истине. Он не договаривает. Он говорит только половину правды. А половина правды -- это уже ложь. Если нет причины -- нет и следствия. И истина в том, что ты никогда не умрёшь потому, что тебя никогда и не было. "...Ибо он никогда не жил, чтобы он мог умереть". Ты никогда и не жил, ты никогда и не был самим собой. Ты всегда делал лишь то, что от тебя требовалось внешней средой. Что тебе говорили другие. Такие, как я и этот слепец. Ты -- всего лишь зеркало, в котором отражаемся мы. Пыльное витринное стекло, мутная фотография толпы, пёстрая, никчемная оболочка. Раб не имеет права ни на имущество, ни на себя самого. Теперь ты знаешь всё. Теперь ты знаешь, кто ты: игрушка в чужих руках.
Араб снова откинулся в кресле и устало закрыл глаза: спор ему надоел. Старец молчал. За окном было тихо, как перед грозой.
Истину нельзя постичь постепенно: она приходит сразу. Она приходит мгновенно, накрывая всё вокруг кипящим водяным валом. И когда пенящийся поток вновь спадёт, всё вокруг становится другим. Карта переходит в местность. Мёртвые картины оживают, болящие исцеляются и слепые прозревают. И охотник стреляет не по загнанной, обезумевшей от отчаянья добыче, а по тем, кто гонит её, беззащитную и слабую, безобидную и обречённую...
Арсений увидел сотни любопытных глаз, смотрящих на него из полумрака -- как тогда, в подвале, -- и закрыл лицо руками.
И увидел Асея, высокого, широкоплечего, светловолосого, в лёгкой, невесомой колеснице, запряжённой невиданными птицами.
И Асей сказал: "Потому и противился я воле чуждой, чтобы рабом не быть. И страстям своим противился, чтобы рабом не быть: потому, что чужие они. И любить противился, чтобы рабом не быть, и обладать противился, чтобы рабом обладаемого не быть.
Ибо чем ты обладаешь, того ты и раб, и оно обладает тобой.
Кого ты любишь, того ты и раб.
Свобода -- в необладании, свобода -- в небытии, свобода лишь в том, чего нет в тебе и в чём нет тебя. Свобода в том, чего нет.
Невозможно, чтобы некто видел что-либо из вечного, если он не станет подобным этому. В истине не так, как с человеком, который в мире: этот видит солнце, хотя он не солнце, и он видит небо, землю и другие предметы, не будучи всем этим. Но ты увидел нечто в том месте -- ты стал им. Ты увидел Дух -- ты стал Духом. Ты увидел Сына -- ты стал Сыном. Ты увидел Отца -- ты стал Отцом. Ты всё, что ты видишь, и ты не видишь себя одного. Видишь же ты себя в том, что рядом и вокруг. Ибо ты станешь тем, что ты видишь. Оглянись, кто рядом с тобой -- таков и ты сам. И ничто, что в тебе -- не твоё.
Потому и иди легко, несомый ветром эфира. И смотри, и понимай, и переживай, и радуйся, и печалься, и всё это -- твоя жизнь. Не больше и не меньше. И твоя власть над другим против тебя же, ибо власть полагает принятие решения. А никто в этом мире ничего не решает. И принятие решения -- есть иллюзия силы и иллюзия жизни. И нет никакой жизни, а только иллюзия. Иллюзия того, что ты всё можешь, что ты имеешь, что ты -- есть ты.
И жизнь отдать -- ничего не потерять. А обмануть себя всесилием -- украсть у себя то, что есть малого -- наслаждение мимолётное от щебета птиц; и ласточку, и солнышко, и кузнечика. Будь прохожим.
То, что истинно -- не купишь и не продашь, не получишь в дар и не подаришь, не одолжишь и не дашь в долг.
Ты -- мост между тем, что было и тем, что будет, ты -- бечева, что натянута над пропастью. Но, однако, ты и то, что должно преодолеть. Радей же за то чтобы стать достойной вехой на пути в Царство Земли Будущей. Свят не тот, кто, отрешив себя от мира, без греха живет, но тот, кто среди человеков себя блюдет и другим назидание совершает.
Чтобы так возлюбили вы детей ваших, что приблизили их к Царству Земли Будущей, а они в той же, а возможно и большей мере, своих.
Любовь терпелива, любовь добра. Любовь не завидует, не творит зла, не гордится, не знает грубости и корысти, не спешит гневаться, не замышляет дурного, не радуется неправде, но наслаждается истиной. Любовь всё покрывает, всему верит, всегда надеется, любовь всё переносит, никогда не прекращается, даже если все языки умолкнут и всё знание исчезнет.
Труден путь, но достойна цель.
Вокруг тебя вращаются звёзды.
Чтобы найти Царство, нужен глаз зоркий, и слух чуткий. Глаз чтобы узреть, а слух, чтобы услышать суметь то, что сокрыто до срока.
Но найдет ли в себе человек увидеть купол небесный, если перед глазами его твердыня стен тысячелетних?
Но услышит ли голос птиц утренних, когда вокруг скрип колес древних?
Свет и тьма, жизнь и смерть, правое и левое -- братья друг другу. Их нельзя отделить друг от друга. Поэтому и хорошие -- не хороши, и плохие -- не плохи, и жизнь -- не жизнь, и смерть -- не смерть. Поэтому каждый будет разорван в своей основе от начала. Но те, кто выше мира -- неразорванные, вечные.
Вера получает, любовь дает. Никто не сможет получить без веры, никто не сможет дать без любви. Чтобы получить, мы верим, а чтобы воистину дать, мы любим.
Не бойся плоти и не люби ее. Если ты боишься ее, она будет господствовать над тобой. Если ты полюбишь ее, она поглотит тебя, она подавит тебя.
Блажен тот, кто не опечалил ни одну душу.
Кто хочет себя сберечь, себя потеряет; а кто себя потеряет, тот обретет.
И замри на мгновенье и растворись в себе и в мире, и откроется тебе истина, которая захватит тебя и понесёт в вихре огненном на самую вершину славы твоей, и на вершине этой вспыхнет свет, и ты будешь всем. Всем, что только есть. И от знания этого ты будешь и рыдать, и смеяться одновременно, потому что восторг этот -- и есть вершина всего, и есть ты, и есть вечность, и есть музыка бессмертия.
И в этой музыке будешь ты чист и светел и помыслами, и телом, и душой.
И не говорю тебе: хочешь ли быть свободным? А говорю тебе, чьим рабом хочешь быть: того, кого любишь, или того, кого ненавидишь?"
Так говорил Асей.
И поднял Арсений глаза, наполненные слезами -- не от горя -- оттого, что познал он всё, что только мог познать в этом мире.
-- Успокойся: мы сейчас доиграем, -- сказал Араб. -- Действие не может прерваться на средине. Зрителю нужно знать, какой у драмы финал, какой у романа эпилог. Жаль только, что мы сами -- те, кто живёт и страдает на этой сцене, на этих страницах; кто смеётся и плачет по-настоящему; те, над кем пришли повеселиться вы -- мы этого так и не узнаем.
-- Ты можешь это узнать, Арсений, -- сказал Сухов. -- Уходи: я доиграю сам. Уходи и попытайся всё изменить.
-- Надо ждать Спасителя, -- сказал старец.
-- Для того, чтобы познать истинный смысл жизни, её надо не только любить, но в той же мере и ненавидеть. Я остаюсь, -- сказал Арсений. -- Сейчас, Фёдор Иваныч, только подойдём немного поближе.
Баркас заурчал двигателем, развернулся и стал медленно подходить к берегу.
-- Верещагин, не заводи машину! -- крикнул Сухов. -- Взорвёшься!
-- Сейчас подойдём поближе, Фёдор Иваныч.
-- Верещагин, уходи с баркаса! Уходи, Арсений!
-- Нет, я остаюсь, -- сказал Арсений. -- Нет, мне не нужна пустая оболочка. Пустая, никчемная, не настоящая. Я доиграю до конца вместе с тобой. Я сделал выбор.
Он снова взял в руки листок и прочитал:
-- Любовь без умысла, просто так, просто потому, что я тварь Божья, никчемная и злая, но тварь Божья, которую любят те, кого я убиваю и презираю. Простите меня все.
Араб сидел с закрытыми глазами. Старец на кухне молчал.
-- Солнце ещё не зашло, -- сказал Арсений. -- И ты прав: они ждут от меня поступков. Они на меня надеются. Кто им поможет, если не я? Я должен принять решение. Даже если это безразлично всем, кроме меня.
Их не было, но они были. Он были далеко, и в то же время рядом. Они были в нём, а он был в них. Они звали его, и он слышал этот зов. Он знал, куда надо идти.
И опять наступило то самое состояние гармонии, когда всё, что делаешь -- правильно.
Арсений внимательно посмотрел на Араба и снова сказал:
-- Не пойму, с чего ты взял, что главное -- это выжить. А по-моему, главное -- это быть рядом с теми, кого любишь. Не важно: во сне или наяву.
Арсений держал в руке листок и разговаривал сам с собой:
-- Куда его положить? Мы обязательно должны сохранить это. Его должны прочитать те, кто придёт после нас.
Он оглядел комнату и положил листок в детскую кроватку рядом с мягкой игрушкой.
-- А тебе не страшно, Арсен?
-- Меня зовут Арсин. И свобода к человеку приходит изнутри. Там -- начало Дороги. И для ступивших на неё ничего не страшно: даже смерть на кресте.
За окном послышались громкие аккорды, и Арсений на мгновенье очнулся от забытья.
В квартире никого не было. Истину нельзя постичь постепенно: она приходит сразу.
"Всё, что имеет начало, имеет и конец. И конец должен быть достойным" -- подумал он и выглянул в окно.
Внизу, у входа в подъезд стоял человек с обожжённым лицом.
-- Я сейчас поднимусь, -- крикнул он Арсению. -- Не делай этого, -- и, заметив, что Арсений отшатнулся, добавил: -- Я -- не хищник.
-- Я не верю, -- тихо сказал Арсений. -- Я сам принимаю решения.
Потом он посмотрел на чуть виднеющийся над верхушками деревьев кроваво-красный край солнечного диска, расстегнул пиджак и рубашку и выдернул чеку из гранаты, накрепко приклеенной скотчем прямо к голому телу. Подарок Филиппенко -- последний козырь в колоде. Рычаг с глухим стуком упал на пол.
-- Я здесь, Абдулла, -- крикнул снизу Сухов.
Абдулла оглянулся в недоумении, пытаясь осознать смысл происходящего.
Секунды пошли: одна, две, три...
"Только бы не осечка", -- совсем спокойно подумал Арсений.
Последний козырь.
Последний аргумент.
Последний день, последний час, последний миг.
Миг, растянутый до бесконечности.
Миг, связывающий воедино пространство и время.
Миг, открывающий Дорогу в тот мир, откуда ты когда-то очень давно пришёл.
Миг, за которым ничего больше нет, но есть всё.
Всё, пора возвращаться.
-- Паша! Пашенька! -- Настасья шла по кромке прибоя, закрыв лицо руками.
Паши не было. Он пил воду из родничка, припав к чистой, хрустальной струйке, которая, прикасаясь к его губам, распадалась в прозрачном воздухе на множество мельчайших капелек. И капельки вначале падали вниз, но у самой земли замедлялись, замирали в остановленном времени. А в наступившей тишине был слышен только отдалённый, тонкий-тонкий, малиновый звон колокольчиков.
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, -- словно маленькие молоточки стучат по маленьким наковальням.
Утолив жажду, Верещагин обмыл рану на руке и, поправив рубаху, вышел на Дорогу.
-- Петруха! -- негромко позвал он.
-- Да здесь я, здесь, -- отозвался Петруха и вынырнул из толпы. -- Как там товарищ Сухов?
-- В порядке.
-- А Арсений?
-- Тоже в порядке.
-- Ну, слава Богу! Я очень за них переживаю: а ну, как Абдулла верх возьмёт?
-- Не дрейфь, Петруха: они -- не подведут. Ребята -- что надо! -- Верещагин положил руку на плечо Петрухе и добавил: -- Ну что, пошли?
-- Пошли, -- согласно кивнул головой Петруха и обнял Верещагина.
-- Кто ещё хочет сказать? -- спросил Арсений. -- Говорите, пока есть время. Его осталось мало, так мало, что говорить надо самое главное, самое важное, самую суть.
-- "А ты, сын человеческий, не бойся речей их и не страшись лица их".
-- Будь добрым, не причиняй другим страданий и зла.
Поток времени ревел, пенился на каменных порогах бурной заполярной речушки, и говорить приходилось громко. Артобстрел перед решающей атакой ещё не закончился, и приходилось почти кричать, чтобы быть услышанным другими.
-- Ласточка, солнышко, кузнечик...
-- Ты есть частица Бога уже только потому, что ты есть.
-- И в радостном свечении на вершине страдания ты познаешь истину.
-- Это не беда, что ты не просмолил лодку. Это не беда.
-- Вспомнишь ли?
-- Помни их всех, всех, кто там лежит. Они и есть твои боги, твоя слава и страдание. Ты -- память Вселенной.
-- Мы вернёмся, папа.
-- Я готов, -- сказал Поллукс, -- я готов вести вас. И мы их обязательно догоним. Мы найдём Дорогу.
-- Я буду молиться за вас, за всех вас, молиться искренне и истово, и Он меня услышит. Он услышит, Он не может не услышать того, как громко взывают к нему его дети, -- Дима стоял на коленях, один, в огромной комнате. -- Это мы, Господи!
Граната была наступательной, с небольшим радиусом поражения. И с улицы взрыв был слышен, как хлопок из прогоревшего автомобильного глушителя.
Осколки посыпавшихся вниз оконных стёкол сверкали, кувыркаясь в последних лучах заходящего светила, и окружающая жизнь отражалась в них -- больших и маленьких -- много-много раз.
Стайка весёлых солнечных зайчиков брызнула по стенам соседнего дома, по детской площадке, и метнулась к темнеющему за пустырём лесу.
Всё.
5.21.
Через два дня тело Арсения похоронили.
Микола в одиночестве шёл за гробом, который несли специально нанятые для этого случайные люди.
Командовал процессией худой, вертлявый Гришка. На его шее совсем отчётливо был виден свежий след от верёвки.
Невысокий, лысый старик нёс крест и постоянно сморкался в грязный платок -- словно оплакивал покойного.
"По мне никто не заплачет. Ну, правда, ведь".
Могилы на кладбище располагались как-то хаотично, бессистемно, оградки наползали друг на друга. Некоторые памятники совсем разрушились, покосились крестами, напоминая фигуры падающих людей. Надгробья заросли, затянулись пожухлой травой.
Запустение.
Вековая пыль забвения.
Кладбищенские джунгли.
Городские джунгли.
Джунгли в душе.
Цепкие лианы намертво опутали все живое, притянули к земле, упрятали в непроходимую чащу, где нет ни солнца, ни неба.
"Что здесь было сто лет назад? -- подумал Микола. -- Тоже кладбище? А двести лет назад? А две тысячи лет? Что беспокоило их тогда, когда они были живыми? Будут ли думать о нас те, кто будет жить после?"
Безмолвие веков, собранное здесь для напоминания. Напоминания о том великом смысле всего, который заключается в тишине и безмолвии, неизбежно ожидающем каждого в конце пути.
Есть ли отсюда выход?
Было такое ощущение, что время здесь течёт очень медленно. Или не течёт совсем...
Что здесь: конец или начало? Конец чего: земных страданий? Начало чего: страданий неземных? Или, может, вечный покой? Вечный сон, как исполнение всех желаний, самых заветных, самых несбыточных.
Они будут жить вечно, поскольку времени для них больше нет.
Покружив немного по лабиринту между оградами, процессия остановилась у свежевырытой могилы. Гроб поставили на специальном переносном помосте и открыли крышку.
Гришка достал из клеёнчатой сумки банку с водой, метёлку из травы и освятил могилу. Потом прочитал вполголоса короткую молитву.
-- Вот..., -- сказал он. -- Хоть так. С чего это взяли, что он сам себя убил?
-- Из записки, -- сказал Микола. -- Записку менты нашли странную и списали всё на самоубийство. Так для всех проще: ни правых, ни виноватых искать не надо.
-- А зачем было попу говорить? -- снова спросил Гришка.
-- А зачем врать? -- сказал Микола. -- Только я думаю, что не самоубийство это. Что-то здесь не то. Он...
Но Гришка не дал Миколе договорить, перебил его:
-- Конечно, брехня: самоубийцы или вешаются, или вены перерезают. Бабы, бывает, таблетками травятся.
-- Теперь ему всё равно, -- Микола потерял невысказанную мысль.
-- Да, ему уже всё равно, -- согласился Гришка. -- А я его помню. Он приходил несколько раз. Всё искал чего-то. Однажды мы с ним посидели, выпили. Я бы сказал, что он самый нормальный. Только тихий очень.
-- Мы с ним полмира вместе объехали, -- сказал Микола. -- Не было у меня надёжнее друга. В любое дело с ним пошёл бы: хоть в огонь, хоть в воду. А тихим он потом стал, когда один остался. Просто на глазах таял. Каждый день понемногу умирал.
-- А граната у него откуда?
-- Он её ещё в КамАЗе возил. На всякий случай, -- сказал Микола. -- Мне следаки уже всю душу с этой гранатой вымотали.
-- А причём здесь ты?
-- Так попробуй, объясни им. Бандитов ловить не хотят, а для галочки что-то надо раскрыть. Или придумать.
-- Кровопийцы, -- сказал лысый. -- А я его тоже где-то видел. Вот только где -- не помню. Но то, что видел -- это точно.
Во Вселенной нет случайностей. Во Вселенной ничего не происходит просто так. И вещие сны потому и вещие, что рано или поздно сбываются.
-- Я ещё удивился, что он себя арабом называл, -- сказал Гришка и посмотрел на лицо покойного. -- Ну какой он араб? Обыкновенный деревенский хлопец. Но я ему не перечил: сюда ведь люди не от радости приходят. Здесь человека выслушать надо, а не перечить ему.
-- Психика не выдержала, -- сказал Микола. -- Работягой был, всё в дом... А потом раз -- и ничего нету.
-- Бабы -- сволочи, -- сказал Гришка и потрогал шрам на шее. -- Уж я-то знаю. И куда она уехала?
-- Не нам судить, -- Микола только неопределённо пожал плечами. -- Он мне позвонил вечером, перед этим, и сказал, что тоже уезжает. Нет, что уходит. С каким-то стариком. Старик, мол, знает, куда надо идти. Он за любую ниточку хватался, чтобы своих разыскать. Вот почему я думаю, что не самоубийство это. Может, раскопал что-то такое... Мне бы расспросить! Но я значения не придал: что-то отвлекло меня, не помню что. А тут ещё ремонт затеял, пока холода не начались. Эх, если бы я знал, что всё так закончится!
"Знал, знал..." -- чуть слышно прошептало эхо.
-- А старика нашли? Что он говорит? -- спросил Гришка.
-- Как ты его найдёшь? Я и фамилию его не запомнил: Полу... Полуэкс, что ли... нет, не могу вспомнить.
-- Может, Поллукс, -- от неожиданности лысый испуганно вздрогнул.
-- Не помню, -- сказал Микола.
-- Говорят, что, когда человек умирает, его душа через сколько-то времени в другое тело входит. И так по кругу всё время крутится, -- сказал Гришка.
-- Ну да? -- как-то искусственно, словно желая скрыть своё состояние, удивился лысый. -- Вот неплохо бы снова стать молодым!
-- Снова писаться в пелёнки? -- хохотнул Гришка. -- Не переживай: скоро и так будешь, -- и добавил: -- Ну что, опускать?
-- Погоди, -- сказал Микола.
Потом он простился с покойником, поцеловав его в лоб, и сказал:
-- НАША ВСТРЕЧА -- ЭТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО В МОЕЙ ЖИЗНИ.
А затем отошёл в сторону, и Гришка сноровисто забил в крышку гвозди. При этом глаза у него как-то странно остекленели, и он заговорил обрывками непонятных фраз:
-- Я, стоящий в огне на вершине славы моей. Его верх не освещен, его низ не затемнен. Это и есть бессмертие в славе и страдании.
Но на его слова никто не обратил никакого внимания: видимо, к этой странности уже привыкли.
И гроб на верёвках опустили в могилу.
На выкрашенном в чёрный цвет кресте белела табличка с надписью:
"Райчук Арсений Степанович. 1967 -- 2000"
Комья земли глухо стукнули по обтянутым бордовой материей доскам, и потом этот звук становился всё тише и тише, уходя в бесконечность, растворяясь в шелесте облетевшей листвы.
"Бессмертие в славе и страдании, -- повторил про себя Микола и подумал: -- Это неправильно. Душа не может всё время ходить по кругу. Бог этого не допустит. Нельзя обрекать душу, даже самую что ни на есть грешную, на такое".
5.22.
Когда могилу закопали, кладбищенские работники, взвалив на спины лопаты, пошли к своей конторке. Микола перекрестился, отвернулся и тоже пошёл к выходу с кладбища. На ритуальном автобусике, заказанном в похоронном бюро, он доехал до города и вышел у церкви. Служба уже началась, и Микола, стараясь не мешать верующим, пробрался к сидевшей у стены монашке, купил у неё свечку и подал листочек с именем Арсения -- для поминальной молитвы.
Потом он подошёл к образу распятого Спасителя и поставил у него свечку. Микола долго не мог оторвать взгляд от чуть закатившихся, пронизанных страданием глаз Христа. О чём думал он там, на кресте, в свои последние минуты? Что он чувствовал? Что он видел? Толпу, наслаждающуюся зрелищем. Толпу, достойную презрения. Мелочных, жадных, злобных людишек, которые делили между собой его окровавленные одежды. Которые, затаив дыхание, смотрели на его муки. Муки, принятые им ради их же спасения. Спасения через его кровь, его смерть. Через осознание того, что эта невинная кровь пролита ими, и эта смерть -- их рук дело. Это они распяли безгрешного, и его кровь -- на их руках, на их головах. И, осознав, ужаснулись, увидев самих себя такими, какие они есть. И его -- не ставшего таким, как они. Он не ползал на коленях, вымаливая жизнь, пощаду, кусок хлеба. Не дожил, не доживёт до того дня, когда подленькое благоразумие, как страх жертвы перед хищником, одерживает верх над утихающим порывом благородной Истины, той самой Истины, которая единственно делает человека -- Человеком Свободным.
Не надеялся, не боялся.
Если только можно, Авва Отче!
Чашу эту мимо пронеси.
Нет, не надо -- мимо. Выпить до дна, до последней капли. Без этой капли чаша будет не полна, и потеряет всякий смысл всё пережитое, выстраданное, выплаканное бессонными ночами...
Страдание и боль смешались с радостью оттого, что жертва -- не напрасна. Что они, глядя на него, приобретут черты его и спасутся, преодолеют своё непонимание, жестокость, бессердечность, бездушие. И милосердие поселится в их сердцах. Даже последняя его мысль была не о себе -- о них: "Отче! Прости им, ибо не знают, что делают".
И они, онемев, смотрели на его муки и преображались, осознавая всю глубинную суть того, что сотворили.
Радуйтесь! Радуйтесь люди, ибо ваши грехи -- прощены, и открыт вам путь к жизни вечной!
Заплачено, кровью праведной и смертью на кресте заплачено за ваше спасение.
Такая жертва не может быть напрасной, неоправданной, неблагоразумной.
Такой жертвой искуплены грехи ваши: как прошлые, так и будущие. Искуплены впрок.
Водой наполненные горсти
К губам спешили поднести,
Впрок пили воду черногорцы,
И жили впрок -- до тридцати.
Благоразумие -- жалкое оправдание тех, кто поклонился Зверю, говоря: "Кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?"
Не уважали черногорцы
Проживших больше тридцати.
5.23.
В пивбаре на набережной работала старая знакомая -- Зоечка. Она узнала Миколу, приветливо улыбнулась и подошла к его столику.
-- А где ваш друг? -- спросила она. -- Вы ведь в прошлый раз были с другом, серьёзным таким.
-- Умер мой друг, -- сказал Микола и попросил: -- Два по двести, Зоечка. И кружку пива.
Зоечка, ничего не сказав, принесла две фарфоровые чашки, наполненные до краёв водкой, и бокал пива. Одну чашку Микола накрыл кусочком хлеба, взятым из хлебницы на столе, а вторую выпил залпом и, не закусывая, стал запивать пивом. Некоторое время он сидел, ожидая, когда спиртное подействует. Но так и не дождался дурманящей волны хмеля. Только все предметы вокруг стали резче, контрастнее, словно приобрели чёрную, траурную окантовку. Микола оглянулся, и ощущение остановленного времени овладело им. В зале сидели всё те же посетители: худой юнец с длинными волосами, две вихлястые девчонки-малолетки в ботинках на толстенной подошве и вульгарного вида девица.
Микола подозвал Зоечку, рассчитался с ней и спросил:
-- За что мне всё это, Зоечка?
-- Я вам сочувствую, -- сказала та и посоветовала: -- А вы напейтесь до потери памяти. Я так всегда делаю: закрываюсь дома и напиваюсь.
-- Нет, дома я не могу. Дома у меня "гестапо".
Зоечка понимающе закивала головой.
-- Ну, так у друга.
-- Таких друзей больше не осталось, -- сказал Микола и, простившись, вышел на улицу.
Он и в самом деле не знал, куда ему идти. Поэтому купил бутылку водки, плавленый сырок, пластиковый стаканчик и пошёл в сквер, на скамеечку под кустом можжевельника. Там он выпил полный стаканчик, закурил и подозвал к себе одного из бомжей.
-- Вот водка и сырок, -- сказал он бомжу. -- Выпейте и закусите.
А сам ушёл.
Он всё ждал, что спиртное подействует, и ему станет легче. Но этого не происходило, и Микола продолжал пить. Он пил из горлышка в закутке магазина, не обращая внимания на замечания продавцов; пил в баре вокзального ресторана; пил на перроне с какими-то незнакомыми мужиками. А потом, после полуночи, когда все заведения закрылись, пил в салоне такси, купив бутылку у водителя. Водитель не возражал: всё равно клиентов не было. Язык у Миколы уже порядком заплетался, слова звучали отрывисто, и жесты стали резкими, плохо координированными. Но сознание оставалось чистым и ясным, а окружающее различалось настолько отчётливо, что всё уродство и вся ложь жизни не могли укрыться за своей фальшивой, пёстрой оболочкой.
Микола раскрыл портмоне, достал купюру в двадцать долларов и, протянув водителю, сказал:
-- Давай слетаем на кладбище.
Водитель вначале обрадовался, увидев деньги, а когда до его сознания дошёл смысл сказанного, оторопел и замямлил:
-- Я уже закругляюсь, всё, конец смены. Ты, дружище, подойди к кому-нибудь ещё.
Микола видел страх в глазах водителя и настаивать не стал. Он, слегка пошатываясь, вышел из машины и направился к другой. И через четверть часа на привокзальной площади не осталось ни одного такси. Тогда Микола пошёл пешком.
За городом, вдоль шоссе, фонарей не было, и он шёл, спотыкаясь и падая, с трудом разбирая дорогу в зыбком лунном свете. Перелезая через закрытые на ночь кладбищенские ворота, Микола зацепился пиджаком за металлический штырь и, пытаясь освободиться, разорвал пиджак. А потом снял его и бросил на землю, тут же, у ворот. Он пошёл наугад к могиле Арсения. И там, на вкопанном кресте, увидел распятого человека. Лицо у незнакомца было сплошь покрыто послеожоговыми рубцами, и по нему катились слёзы. Увидев Миколу, незнакомец разомкнул запекшиеся губы и сказал:
-- Я ничего не смог...
Микола растерялся.
-- Почему у тебя обожжено лицо? -- спросил он.
-- Я попытался погасить пожар во втором отсеке. Но не смог. Их больше нет. Я не смог спасти их. Я не помог и твоему другу. Поэтому я здесь. Здесь моё место, навсегда.
Полная луна выглянула из-за тучи и осветила обезображенное болью и огнём лицо Спасителя. Потёки крови на кресте казались чёрными в бледном лунном свете.
-- О, Боже! -- произнёс Микола. -- Кто это сделал?
-- Я ничего не смог: всё было напрасно. Я никого не спас, -- повторил Спаситель и совсем тихо добавил: -- Я всегда приходил слишком поздно. Оставь меня, дай мне умереть.
-- Не умирай, -- попросил Микола. -- Кто же мы будем без Тебя?
Но Спаситель не ответил, и печать смерти преобразила его облик.
-- Не умирай, -- снова попросил его Микола. -- Я сейчас сниму Тебя.
Он попытался снять безжизненное тело с креста, но это оказалось ему не под силу. Гвозди, пробив ступни и ладони, глубоко вошли в дерево, и вытащить их голыми руками не было никакой возможности. Но Микола, ломая ногти, снова и снова пытался сделать это, пока окончательно не осознал своё бессилие.
-- Помогите! -- наконец, сказал он, неизвестно к кому обращаясь.
-- Помогите! -- повторил он громче.
-- Помогите же хоть кто-нибудь! -- закричал он в отчаянии.
Но никто не откликнулся на его зов.
Ночью на кладбище никого не бывает.
Только тени.
После захода солнца здесь обитают только тени.
И больше никого...
Никого, в ком оставалась бы хоть капля милосердия...
Примечание.
При написании романа были использованы цитаты из произведений и высказывания следующих авторов: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Бориса Пастернака, Адама Мицкевича, Владимира Высоцкого, Ларисы Миллер, Ивана Кучина, О.Симонова, А.Щеглова, Михаила Ножкина, Ивана Крылова, Бориса и Аркадия Стругацких, Корнея Чуковского, Самуила Маршака, М.Е.Сергеенко, А.П.Евстюничева, В.И Гармса, Эрнеста Хемингуэя, Джеймса Олдриджа, Квентина Тарантино, Фридриха Рюккерта, Фридриха Ницше, Ричарда Бэндлера, Эрика Берна, Марыли Зденек, Джидду Кришнамурти, Чжуан-цзы, Чингиз-хана, неизвестных авторов и автора под псевдонимом Х. В. Н.; а так же фрагменты Евангелия от Иоанна, Евангелия от Луки, Евангелия от Матфея, Евангелия от Марка, Евангелия от Фомы, Апокрифического Евангелия от Филиппа, Евангелия от Матвея Искреннего, Арамейского Евангелия от Ессеев; Книг Пророков Иезекиля, Исаии, Амоса, Ионы, Захария, Михея.
179
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



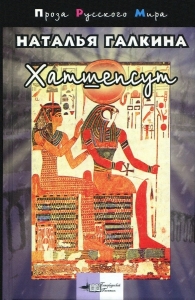


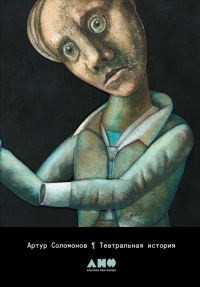


Комментарии к книге «Зона тени», Юрий Леонтьевич Солоневич
Всего 0 комментариев