Эдриан Джоунз Пирсон Страна коров
Adrian Jones Pearson
COW COUNTRY
Copyright © 2014 by Adrian Jones Pearson
© Немцов М., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО Издательство «Э», 2017
Часть 1 Излучение
Возвращение в Коровий Мык
Размещаясь в котловине долины Дьява, общинный колледж Коровий Мык предлагает студентам всестороннее гуманитарное и техническое образование, чтобы они могли вести полноценную и плодотворную жизнь. Будучи старостами местного сообщества, мы также верим, что наш особый долг – поддерживать уникальную культуру региона, которому мы служим во имя как нынешнего, так и грядущих поколений.
Из пересмотренной декларации миссии ОККМЕсли по правде, первым моим впечатлением о Разъезде Коровий Мык была не столько полноценность или плодотворность его, сколько усыхание и уныние. Мне только что предложили работу в колледже местной общины, и я, продав все свои мирские пожитки и не оставив родне или друзьям адреса для пересылки – но поклявшись когда-нибудь известить град и мир, где я и что я, – вскочил в старый автобус, который доставит меня через полстраны и высадит на обочине при подъезде к этому городку. Тогда стоял конец лета, вся эта область – от Разъезда Коровий Мык по всей шири котловины долины Дьява – переживала худшую на памяти старожилов засуху. Земли ранчо спалило дотла, и золотые травы пастбищ, что во времена повлажней поэтично колыхались от дуновений летнего ветерка, лежали ныне поникшие и бурые сразу за окнами конца августа, уподобляясь бессодержательной прозе. Местное скотоводство, некогда царившее в этом пейзаже, уже впало в агонию, и скотоводы справлялись с бедою, как могли; кустарные предприятия, какие, похоже, всегда отрастают на туше умирающей промышленности – писательские колонии, студии йоги, ностальгические экскурсии по заброшенным мясокомбинатам и скотобойням, – уже возникали буквально как грибы на коросте навозных куч здешней местности. Область и умирала, и возрождалась. И пока я стоял со своим багажом на жарком солнце и пот обильно струился у меня по загривку, во мне возникло слабое ощущение, что местный воздух утратил способность шевелиться, словно бы ветерок попытался дуть сразу в слишком много сторон, но тут же бросил дуть вообще. Провожая взглядом автобус, я провел ладонью по загривку и стряхнул пот с кончиков пальцев. Затем сел на чемоданы и стал ждать того, кто подбросит меня до городка.
* * *
Президентом общинного колледжа, куда меня наняли, был человек по имени Уильям Артур Фелч, бывший скотовод и ветеринар; высшую школьную должность он занимал уже больше двадцати лет, и все в городке уважали этот дедовский лик высшего образования. Привезти меня в Коровий Мык рекомендовал именно доктор Фелч, невзирая на мое мучительное трехчасовое собеседование с отборочной комиссией, после которого я долго приходил в себя от выслушанных оскорблений и задавался вопросом, и впрямь ли я хочу работать в настолько недееспособном колледже у черта на рогах.
– Вам предстоит столкнуться с глубоким культурным расколом, – предупредил он меня по телефону за несколько часов до собеседования. – Так что будьте готовы к худшему.
«Худшим» оказались дребезжащая телефонная связь и шестерка незримых членов комиссии, которые взялись допрашивать меня обо всем на свете, – от моего любимого Верховного судьи США до взглядов на нынешнюю политическую ситуацию в Разъезде Коровий Мык. Связь была плохая, и я, прислушиваясь, ловил себя на том, что еще и прищуриваюсь, чтобы разобрать слова. Несколько вопросов касались моего сколько-нибудь значимого опыта работы в среде, раздираемой разногласиями: как я мог бы улаживать какие-нибудь гипотетические конфликты, – к примеру, что стал бы делать, если бы кто-то из моих коллег попытался обезглавить важного администратора. Задали мне и другой гипотетический вопрос: как бы я отреагировал, узнав, что штатный преподаватель спровоцировал внештатного тем, что оставил в ее рабочем почтовом ящике вздутую телячью мошонку после обеда в пятницу, прекрасно сознавая, что она останется там по меньшей мере до утра понедельника и к тому времени, как эту жуткую пакость обнаружат, будет вся кишеть мухами и личинками. Прозвучал вопрос о пожаре в здании (мне дали список преподаваемых дисциплин – математика, химия, философия, евгеника – и попросили обозначить порядок, в котором я стал бы выволакивать заведующих соответственных кафедр из пылающего и задымленного зала заседаний); а затем мне предложили комплект упражнений на выбор слов (в одном таком – паре существительных «филей-руккола», к примеру, или «сыромять-тантра» – меня попросили выбрать то, что, по моему профессиональному мнению, в большей степени указывает на продуктивную студентоцентричную среду обучения). В рамках собеседования меня заставили импровизированно изложить мою философию образования белым стихом; затем предоставить самостоятельный критический разбор собственного выступления, и, наконец, подвергнуть самокритике структуру и размер моей самокритики. Кто-то попросил меня выбрать государственное образование современного мира, которое лучше всего характеризовало бы мой темперамент (я предпочел Бенилюкс); кто-то еще – назвать мою любимую ветвь христианства (англиканство?); а кто-то третий – сравнить два значительных произведения литературы из различных культурных контекстов и предоставить пример того, как эти работы иллюстрируют некую общую тему или принцип (мое сравнение ведической системы образов в Упанишадах с зеленым огоньком Гэтсби в конце пирса завершилось призывом к литературной переоценке этого неизвестного, однако многообещающего произведения Фицджеральда). В ходе собеседования прозвучали и каверзные вопросы, и наводящие, и открытые, где мне предлагалось ровно столько свободы маневра, чтобы я не слишком болтался, повесившись на дереве, как чучело. Мелькнули отсылки к древним геометрам и средневековым поэтам, а также неуклюжее отступление о взлете и падении римского числительного. В какой-то миг комиссия напомнила мне, что я до сих пор не предоставил требуемого образца мочи, после чего я исправно извинился и отошел; вернувшись же в гостиную с пластиковым стаканчиком, над которым курился пар, в одной руке и холодной телефонной трубкой в другой и, описав эту суровую дихотомию с искрометными подробностями, осознал, что комиссию результаты, судя по всему, решительно не тронули.
– Каково ваше величайшее достоинство? – спросили меня.
– Я много всего разного, – ответил я.
– А величайший недостаток?
– Будучи многим разным, – вздохнул я в трубку, – я склонен к тому, чтобы не быть ничем этим целиком.
Прочими вопросами, похоже, они выясняли историю моей семьи в Разъезде Коровий Мык: дед мой некогда жил там, пока не перевез жену и детей сначала в другую часть штата, а потом и вообще на другой край страны; теперь же, отчаявшись найти хоть какую-то работу и ухватившись за такое редкое совпадение, я счел наилучшим упомянуть о сем незначительном факте в сопроводительном письме.
– Так вы, значит, выходец из Коровьего Мыка? – осведомился один голос в трубке.
– Ну, сам я там, вообще-то, ни разу не бывал. Но слышал множество рассказов… – И тут я изложил им легенду, передававшуюся у нас от предков к потомкам, о том, как мой дед некогда спас тонувшую в реке Коровий Мык суфражистку. Семья наша поистине гордилась его отвагой, и несколько поколений самозабвенно пересказывали друг другу эту историю.
– Вот как! – воскликнул дамский голос как раз в тот миг, когда дед мой укладывал безжизненное, однако еще дышавшее женское тело на речной берег. – Стало быть, вы бы признали вероятность того, что женщины равны мужчинам? Или вы скорее считаете справедливым, что женщина-хирург, производящая аборты в конце срока, должна зарабатывать значительно меньше своего коллеги-мужчины в соседней клинике?
– А если так, – перебил ее другой голос, – поддержали б вы или не поддержали ту или иную из множества инициатив, призывающих допускать в наши школы красных коммунистов и их гомосексуальных союзников посредством субсидируемых правительством гуманитарных программ?
– И, если позволите… – тут же встрял в разговор третий голос. – В своем заявлении вы утверждали, будто у вас имеется значительный опыт работы с коллегами разнообразного этнического происхождения. Так не могли б вы рассказать нам, пожалуйста, у кого из них, по-вашему, больше естественные способности к образованию и не полагается ли таковым, следовательно, большее представительство в образовательной среде? Иными словами, подбирая кандидатуру на ответственный административный пост, вы были бы скорее склонны нанять монголоида, европеоида или негроида?..
Далее – четвертый голос:
– Не хочу совсем уж до смерти забивать эту конкретную лошадь, но случись вам видеть, как лошадь забивают до смерти, вы бы вмешались? Или попросту отвернулись бы, как будто это неизбежное следствие жизни? Вроде смены времен года. Или же возникновение и исчезновение той или иной мировой цивилизации вместе с языком ее, культурой и всеми институциями, что дороги ее сердцу?
Три утомительных часа комиссия прощупывала меня и тыкала то одним вопросом, то другим: о моем прежнем опыте работы, моих нынешних наклонностях и моих долгосрочных планах на будущее. Если меня наймут «координатором особых проектов», останусь ли я в Коровьем Мыке? Или же уеду после первого года, как множество иных пришлых людей, нанимаемых, в глаза не видя, по итогам единственного убедительного телефонного собеседования? Куплю ли я себе там дом? Рассчитываю ли жениться? Привезу ли с собой каких-либо домашних животных? Аллергии есть? Занимаюсь ли йогой? Нравится ли мне рыбалка? Охота? Какой грузовик умею водить и сколько в нем цилиндров? Бывали ль у него на переднем сиденье дети? А в зеркальце заднего вида? Не страдал ли я чесоткой в особо запущенной форме? И если да, не готов ли поделиться каким-либо неинвазивным, однако надежным и эффективным средством от нее?
Но самый загадочный вопрос прозвучал под самый конец собеседования, когда уже казалось, будто три часа милостиво истекли сами собой и все мои разнообразные скелеты эксгумировали и выставили на открытый воздух перед комиссией. На другом конце провода неожиданно – и даже настойчиво – впутался еще один голос:
– Слушайте, – произнес он. – Давайте перейдем к сути дела. Вообще-то мы все желаем знать одно: вы бычатину едите или нет? И какую роль – если она существует – должно играть вегетарианство в текущем пережевывании и экскреции новаторских замыслов?
Должен признаться, именно к такому вопросу я не был готов. Но сработал мой примиренческий инстинкт:
– Разумеется, для всего бывает время и место, – сказал я в потрескивающую даль дискового телефона. – Если хотите приготовить поистине достойное рагу, вам потребуются и говядина, и овощи!
(Позднее я выяснил, что работу мне обеспечил именно этот безвкусный ответ на вегетарианский вопрос – даже больше моего блистательного памятного ответа на гипотетическую вздутую мошонку, больше моих тонких связей с Коровьим Мыком.)
Комиссия должна была принимать решение дольше двух недель, поэтому мне, после того как я положил трубку, осталось лишь проигрывать в уме данные мной ответы и прикидывать, как их восприняли. По-прежнему ошарашенный, я размышлял, как удалось мне так быстро пасть так низко: от необузданного почти-отличника в старших классах к подающему надежды филологу до усталого выпускника, «обсыхающего», но в баке у него горючки ровно столько, чтобы перевалить за академический финиш, сжимая в кулаке магистерскую степень по управлению образованием с особым упором на общинные колледжи на грани краха. Теперь, после двух неудавшихся браков, быстро сменивших один другой (первый – целиком моя вина, второй – лишь в первую очередь моя), и прорвы невзрачных работ, преимущественно ведших туда же, с чего начинались… вот, сижу. Сижу у себя в затрапезной гостиной, пресмыкаюсь перед безликими чужими людьми, в руке – чашка чуть теплой мочи, умоляю дать мне работу в общинном колледже, которого и не видел никогда. Жизнь моя уже превратилась всего лишь в разрозненную мешанину полуначал и почти-промахов. Браки мои тяготели к позору. Работы сочились ядом. («Не могли бы мы снестись с поручителями, которых вы указали?» – спросила меня по телефону комиссия. «Я бы не стал», – ответил я.) Друзья приходили и уходили – или же я приходил и уходил от них. Ясно было, что жаркий потенциал моей юности остывал, как чашка забытой мочи в руке. Вдруг что-то неодолимо повлекло меня к безрассудному переезду в пустынное и далекое место посреди истории, оказавшейся не моей. В общем направлении к новому началу. К тому, чтобы взяться за все с нуля. Странно это и удивительно: я поймал себя на том, что хочу этой нежеланной должности в общинном колледже Коровий Мык; интуитивно, должно быть, я чуял бремя прошлого, которое смогу наконец оставить за спиной, если мне выпадет такая возможность. «Только не промотай, – говорил я себе. – Не спусти в канализацию, как ты поступал со многим целесообразным в своей жизни. С женами своими. С карьерой. С дружбами». И, выплескивая холодную мочу в унитаз, я дал себе слово: если мне дадут еще один шанс создать что-либо значимое в жизни, на сей раз я отнесусь к этому прилежней. Ведь жизнь – не случайное слиянье вод, какое можно легко выплеснуть одним махом. Это длинная и привольно текущая река, что блуждает и вьется по-своему странно, однако неизменно достигает назначенья. Река состоит из воды, а вода свою суть получает от влаги. Жизнь моя, как я осознал, и есть эта самая река, и слишком уж долго ее перегораживала плотина. Пусть же течет! – сказал я себе. Пусть река моя течет из вечного своего истока сквозь время и пространство к поджидающему меня кампусу общинного колледжа Коровий Мык!
* * *
С предложением должности мне позвонил сам доктор Фелч.
– Мило вы справились со вздутой мошонкой, – сказал он. – С вашей стороны это был вдохновенный ответ. – Я его поблагодарил и сказал, что мне как раз кажется, будто я все испортил – особенно вопрос о вздутой мошонке.
– Я рад, что вы меня нанимаете, – сказал я. – И несколько удивлен.
– Ну, легко-то это не было. Характеристики ваши были не то чтоб недвусмысленны. Но после двух недель ожесточенных дебатов у комиссии остались только вы. Поздравляю.
Доктор Фелч очертил условия трудоустройства в Коровьем Мыке и пообещал, что, если я вступлю в должность, он сам возьмет меня под крыло и лично поможет сориентироваться в том культурном расколе в кампусе, что обнаружился при моем собеседовании с комиссией.
– Мы на перепутье, – пояснил он. – Не только сам колледж. Но вся наша община. Нам нужен тот, кто сможет осмотрительно пройти тропу. Тот, кто не отягощен бременем важных дружб или сильных личных убеждений. Такой человек, кто в силах вдохновить других на действия, а сам останется в стороне, непредвзятым и слегка над всею суетой. Тот, кто все это сделать сможет, но сам будет надежен, скучен и обходительно приемлем. Короче говоря, нам нужен годный образовательный управленец. Именно поэтому мы тут возлагаем на вас большие надежды. – Слова эти звучали не то чтобы лестно, но я отнесся к ним всерьез. В кои-то веки двойственность моя, похоже, обратилась достоинством. И более того: моя склонность обходить стороною любые обязательства предлагала нечто многообещающее; странное дело, но она вселяла надежду! То, что всегда было моим величайшим проклятьем, теперь стало и великим благом: будучи многим разным, не быть ничем этим целиком! На следующий день я перезвонил и принял предложение.
Случилось это месяц назад, и вот я сидел на своем багаже рядом со временной автобусной остановкой и впервые по-настоящему внимательно осматривал окраину собственно городка. Через дорогу стояли два сломанных и покосившихся крытых фургона XIX века, в одном еще догорала индейская стрела. Рядом – автозаправка, на которой возле раскуроченной бензоколонки из другой эпохи в землю возвращалась ржавая «модель Т». На скамье, обсуждая дневные события, сидели морщинистые мужи. Кассирша в продмаге напротив опиралась локтями на страницы газеты, которую читала; из глубин доносилось надрывное нытье губной гармоники. Сидя там, я озирал зловещую красную глину, раскинувшуюся вокруг меня на века. Сухой кустарник тянулся до самого горизонта. Мертвый ветер мог затаиться, кажется, на миг, затерянный во времени, а затем вдруг взвихрялся откуда ни возьмись и взметал в воздух пыль. В мареве вокруг жужжали крупные мухи – и через мои ботинки перебирались черные муравьи. Куда бы ни повернулся я, казалось, везде виднелись останки того, что некогда было, но теперь уже не было. Отрезок старого железнодорожного состава там, где когда-то ходили поезда. На боку лежал брошенный волокноотделитель. Заржавленная телефонная будка, провод обрезан, а стекла выбиты. Разлагающая туша бизона, с которой койоты еще сдирали мясо. Слева от меня стояло ведерко вампума, а справа, приколоченная к телефонному столбу одним длинным гвоздем, – выцветшая афиша концерта, состоявшегося больше поколения назад. Все это казалось мне грустным, важным и отчего-то пронзительным. Странное меня тут ожидает будущее. Но будущее это – мое, и в тот миг я был к нему готов больше, чем когда-либо прежде.
Несколько минут спустя туда, где я сидел, подкатил старый пикап, и из него вышел доктор Фелч.
– Простите, что опоздал, Чарли, – улыбнулся он. – Приятно с вами наконец-то встретиться! – Доктор Фелч был сед, в ношеных ковбойских сапогах и зеленой кепке «Джон Дир»[1], а хватка у него оказалась до того крепкая, что мне сплющило руку, когда он ее пожал. – Запрыгивайте, – сказал он и метнул два моих тяжелых чемодана в кузов пикапа, легко, по одному каждой рукой; затем перегнулся через задний борт и сдвинул вбок крупную кипу сена, чтобы чемоданы мои легли ровно. – Извините. Не самый чистый грузовик на свете… – Он жестом пригласил меня в кабину, и я влез.
– Спасибо, что подвозите меня, – сказал я и захлопнул тяжелую дверцу. Кабина внутри была вся замусорена, а на сиденье между нами лежала стопка манильских папок, из которых под разными углами торчали бумажки; сверху на ней покоилась коробка с патронами. Пристегиваться доктор Фелч не стал, а с моей стороны ремня не было вовсе – лишь толстый слой грязи в бороздках потрескавшегося винилового сиденья.
– Что вы, что вы, – ответил он. Затем доктор Фелч пояснил, что у него это личная традиция – подбирать всех новоприбывших работников общинного колледжа Коровий Мык, и он истово ее не нарушает вот уже двадцать лет. – В этом вот самом грузовичке! – рассмеялся он и завел двигатель, взревевший всею мощью восьми цилиндров. Воздух был жарок, и ни он, ни я стекол не поднимали. Доктор Фелч высунул локоть в окно со своей стороны и на ходу – а к опасным тридцати милям в час он даже не приближался – ему приходилось перекрикивать этот рев восьми цилиндров, летевший снаружи. – Я за это время подобрал так больше двухсот сотрудников, – добавил он. – Аж из самой Калифорнии приезжали!
Колледж располагался на другом краю городка, и, катя по пыльной дороге с одной окраины на другую, доктор Фелч показывал мне достопримечательности Разъезда Коровий Мык. Хотя городок и был уныл, в нем таилось некоторое очарованье: ржавеющее железнодорожное депо; обшарпанное почтовое отделение с вознесшимся ввысь флагштоком, на котором гордо реял флаг с двадцатью тремя звездами; раскинувшаяся бревенчатая штаб-квартира ранчо «Коровий Мык» – того первого предприятия, что и породило сам городок Разъезд Коровий Мык и дало ему имя. Через милю или около того от автобусной остановки мы проехали знак, приветствовавший нас в Разъезде Коровий Мык – «Где сходятся миры!», сулил он, – а еще через несколько миль – одинокий городской универмаг, где у коновязи с двумя лошадьми был припаркован одинокий пикап. Затем мы проехали вдоль кромки пересохшей реки, что завела нас за опустелые сараи и пастбища с разлагающейся на них сельхозтехникой и ссохшимися шкурами скота, сложенными в кипы. Еще нам попались по дороге закрытый ларек снастей и наживки и заколоченный маникюрный салон, а потом мы свернули влево и проехали через городской центр, в котором с закрытыми ставнями стояла мэрия – была суббота, – рядом окружная тюрьма, а через дорогу – здание, в котором размещались местная газета и однокомнатный музей, посвященный истории животноводства в Разъезде Коровий Мык. Все это, выяснил я, было нерасторжимо связано друг с другом, а почти всё и все, на что и кого доктор Фелч показывал, совсем немного погодя будет как-то соотноситься с моей новой ролью в колледже.
– Тут вот миссис Гризэм живет, – говорил он. – Наш библиотекарь. Вы с нею познакомитесь на общем собрании в понедельник. А вон в том доме раньше жила Мерна Ли, покуда за нею дети из города не приехали и ее не забрали. Она у нас издавна за данные отвечала, но как бы растеряла к концу побрякушки…
В ответ на все это я кивал.
В какой-то момент доктор Фелч вытащил из нагрудного кармана рубашки пачку «Честерфилда».
– Курите? – спросил он.
– Нет, сэр, не курю.
– Вам же хуже, – сказал он и постукал пачкой по рулю, вытряхивая сигарету, затем извлек из кармана книжку спичек. Не притормаживая, он убрал обе руки с руля, чтоб чиркнуть спичкой и прикрыть ладонью пламя, когда прикуривал; грузовичок тут же начал съезжать на встречную полосу, и я машинально потянулся к рулю. Но доктор Фелч лишь рассмеялся:
– Успокойтесь, Чарли… Я машину вожу с восьми лет! – Он выкинул спичку в окно и вновь спокойно взялся за руль.
Держался доктор Фелч дружелюбно и прямо – он просто не мог не нравиться; однако во всех его движеньях сквозила заметная напряженность, как будто он пытался вести две беседы сразу. Какое-то время мы ехали молча, и чтобы развеять тишину, я спросил его о своей работе; я так поспешно принял должность координатора особых проектов по телефону, что даже забыл спросить, что мне вообще-то полагается делать в этой роли.
– То есть мне, вероятно, следовало спросить это у вас до того, как я спрыгнул с автобуса.
Доктор Фелч рассмеялся.
– Надо полагать, вам уж очень не терпелось уехать оттуда, где вы были, Чарли?
– Да, наверное. Можно сказать и так…
– Ну, как бы там ни было, я рад, что вы тут. У координатора особых проектов нет установленных обязанностей. По крайней мере, у нашего их нет. Вы будете моей правой рукой, так сказать. А это значит, что время от времени я буду просить вас погасить какое-нибудь возгорание в кампусе. Равно как и пускать контролируемый пал с нашей стороны…
Я посмотрел на него, ожидая подробностей. Но их не последовало.
– Интригующе звучит, – в конце концов сказал я. – Надеюсь, я справлюсь.
– Не волнуйтесь – отлично все у вас будет. Я попросил Бесси показать вам, что к чему… – Тут доктор Фелч сообщил мне, что Бесси его помощница и что она – «ротвейлер», но мне работать с нею понравится, потому что она из тех немногих людей на свете, кто и день, и ночь повидали, и не боится прямо обозначать разницу между ними. Вообще-то по десятибалльной шкале честности, где десять – старая монахиня, дающая показания в суде, а единица – то, что колледж написал в своем свежем самостоятельном отчете для аккредитации, – она примерно равна двенадцати. – Только пистолет в штанах держите, а то она его отломит и вам же вручит.
– Монахиня?
– Нет. Бесси.
– Изо всех сил постараюсь, сэр, – сказал я.
Доктор Фелч еще немного рассказал о моей должности в колледже – излагал он оптимистично и бурливо, хоть местами и вполне загадочно, – но вдруг сменил тон.
– Не хочу обескураживать вас, Чарли, но вы уже третий координатор особых проектов, кого мы нанимали в последние два года. Первый не пережил даже первой вздутой мошонки. Та, что была после него, – ну, она оказалась бедствием вселенских пропорций. Поэтому скажем так: вы вступаете не совсем в море больших надежд.
При упоминании неудачи моей предшественницы я навострил уши.
– А что случилось с последним координатором? – спросил я. – Отчего она оказалась таким бедствием?
Доктор Фелч помолчал, затягиваясь, и мне показалось, что он готов вообще сменить тему.
– История долгая… – Но тут же без дальнейших понуждений с моей стороны пустился в мерзкую повесть о том, как его последняя координатор особых проектов оказалась бедствием вселенских пропорций: – В конечном счете, это я виноват, – начал он. – Видите ли, нам был нужен человек, способный работать с нашим расколотым кампусом, поэтому мы и наняли эту деваху после одного телефонного собеседования. Приехала она к нам со всеми бубенцами и свисточками. Степени от двух колледжей Плющевой лиги. Блистательное резюме. Опыта до такой-то матери. Без счета наград и благодарностей. Поручительства от самих королевы английской и эрцгерцога Кентерберийского. Сами, в общем, таких знаете…
Я рассмеялся.
– …Приезжает она в Коровий Мык, и я ее забираю с автобусной остановки. На этом вот грузовичке. А она в него садиться отказывается. Пыльно, говорит, и нет пассажирского ремня. Да вы шутить изволите, думаю я себе, – пыльно?! – однако включаю презумпцию невиновности, вызываю нашу историчку по искусствам, и она в воскресенье сюда приезжает на своем «саабе», забирает эту даму с ее всевозможным багажом и шитцу ейным и везет в кампус. Назавтра мы с нею встречаемся у меня в кабинете, и я начинаю ей выкладывать, что от нее в этой должности будет ожидаться, со всеми необходимыми предуведомленьями: что перед нею расколотый кампус и ей лучше быть к этому готовой, потому что разногласия эти корнями уходят очень глубоко, и, если она не будет осторожна, они ее поглотят. Послушайте, говорит она, у меня степени двух колледжей Плющевой лиги, опыта посредничества до такой-то матери, личные поручительства от израильского кнессета и лично шаха Ирана…
Тут доктор Фелч умолк на полуслове. Впереди у нас был старый дом, возле которого мужчина в джинсовой робе мыл машину. Мыльная вода струилась по дорожке и вытекала на улицу.
– Это Расти Стоукс, – сказал доктор. – Наш преподаватель зоотехнии. Он же управляет музеем. И еще он председатель совета нашего колледжа. Полезное знакомство. Он тоже придет на общее собрание в понедельник… – Доктор Фелч два раза гуднул и дружелюбно помахал Расти, а тот поднял голову, махнул в ответ и сразу же вернулся к мытью. Доктор Фелч выждал некоторое время, после чего продолжал: – В общем, я пытаюсь эту деваху предупредить о некоторых тонкостях нашего колледжа. Что у нас тут глубокие разногласия. Что преподавательский состав поляризован. Что в кампусе имеется две фракции и отличаются они друг от друга как день и ночь, что фракции эти друг друга презирают и на что угодно пойдут, лишь бы противник их не одолел. Сами понимаете – как вегетарианцы осуждают мясо, а вот мясоеды осуждают… вегетарианцев. В общем, я ей рассказываю, что придется отыскать способ, как работать и с теми, и с другими. А она такая руку подымает и говорит, что я напрасно время трачу – ей уже приходилось работать с разнообразными преподавательскими составами, все они довольны и всеядны, и она сомневается, что Коровий Мык от них чем-то будет отличаться. Ну разумеется, он отличается, говорю я. Все места отличаются друг от друга! Но ее ничем не сдвинуть. У нее все под контролем, говорит она. Училась на тренировочных курсах и теперь специалист по поиску взаимовыгодных решений. Когда она тут со всем разберется, говорит, не будет больше нужды ни в ночных, ни в дневных расколах, потому что весь кампус будет твердо и счастливо сумеречен. Вы только мне доверьтесь, говорит она мне. И я отхожу в сторону…
– Зловеще вы это как-то сказали…
– …Вы погодите. Я, в общем, отхожу в сторону, и она в первый свой день выходит на работу, паля из всех стволов, а я прикидываю: чтоб она лишь одной ножкой водичку попробовала, назначу-ка я ее ответственной за рождественскую вечеринку, потому что ну что тут может быть проще? У нас каждый год рождественская вечеринка – столько, сколько мы и есть колледж. Это для всех праздник. Вообще-то, единственный раз, когда все преподаватели и сотрудники забывают о своих разногласиях и собираются все вместе, проявляя гармонию и доброжелательство. Само собой, и бесплатная выпивка этому не вредит! Стало быть, это данность, так? Все прямолинейно и непротиворечиво! В общем, чтоб особо не развозить: и двух недель не прошло, а рождественская комиссия тоже вцепилась уже друг другу в глотки. Они отказывались собираться в одном помещении без адвокатов. Произошла по меньшей мере одна физическая стычка с метанием стульев и взаимными обидами. Я попробовал вмешаться и помочь, но было уже поздно. Рождественская вечеринка так и не состоялась. Вот так вот: ФУК! – и нету. Долгую традицию – как корова языком. Чарли, в прошлом году впервые в истории общинного колледжа Коровий Мык у нас не было даже чертовой рождественской вечеринки!
Доктор Фелч докурил одну сигарету и от ее окурка поджигал другую. Окурок первой он сердито швырнул в окно.
– Так она поэтому ушла? – спросил я. – Из-за того, что ей не удалось организовать рождественскую вечеринку?
– Если б!.. – Доктор Фелч потряс головой. – Нет, тогда она по-прежнему еще верила, будто отлично справляется с работой. Считала себя великим приобретением для колледжа. Она, конечно, в этом не виновата. Она вообще ни в чем никогда не была виновата! А кроме того, у нас просто времени на этом долго задерживаться не было, поскольку нам в затылок дышали аккредиторы.
– Аккредиторы?
– Ну, каждые два года к нам с инспекцией приезжают аккредиторы, и то как раз был наш год. А она координировала весь процесс – собирала наш самостоятельный отчет, организовывала им условия пребывания и все такое. И вот в тот день, когда они должны приехать, мне звонит наш преподаватель химии, который как раз случайно проезжал мимо временной автобусной остановки на другом краю города – как раз там, где я вас подобрал, – и говорит, что все они до сих пор стоят там и ждут, когда их отвезут в кампус. Все двенадцать человек. В костюмах и платьях, с планшетками в руках. Они прождали там два часа на солнцепеке, им жарко и хочется пить, и они вполне злы на весь мир вообще и на общинный колледж Коровий Мык и его потуги на подтверждение аккредитации в частности. Она перепутала время! Я, в общем, все бросаю и мчусь забрать их оттуда, покуда их солнечный удар не хватил…
– Вы забирали их… на этом вот грузовичке?
– На нем самом. Приезжаю, а в кабину ко мне помещаются только двое, поэтому из уважения к организационной иерархии председателя комиссии я сажаю к окну – вот где вы сейчас сидите, – а вице-председателя – посередке, у него одна нога по мою сторону от рычага, а другая по вашу… – Доктор Фелч показал, как некогда располагались раздвинутые ноги вице-председателя. – Он президент своего колледжа – докторская степень по прикладной лингвистике или как-то, – и мне нужно руку ему между ног совать, чтоб со второй передачи на третью переключиться. А еду я при этом как могу медленно, чтоб четвертую передачу не включать, потому что – ну, ни одна научная степень вас к такому не подготовит! Меж тем остальная аккредитационная комиссия со своими планшетками болтается у меня по кузову. Все десять туда набились. Черт, да если б я знал, что они там окажутся, хотя б из шланга окатил…
Я рассмеялся:
– Неудачно сложилось, мистер Фелч. Но я уверен, они отнеслись к этому снисходительно. Вероятно, расценили все как одно из тех экзотических приключений в мелких городках, каких люди из больших городов как раз ищут. Знаете, ну как яму лопатой копать. Вероятно, до сих пор любят эту историю друзьям рассказывать…
– Сомневаюсь.
– …Хотя в изложении их тут наверняка было еще жарче, а вы ехали еще медленней. Но помимо этого первого впечатления – как прошел их визит?
– Не очень. Колледж понизили до статуса «предупреждение». Теперь доклад-другой – и нас могут лишить аккредитации. Конечно, не она одна во всем этом была виновата – у нашего колледжа имеются вопиющие недостатки, которые нам нужно исправить. Но тот первый инцидент как бы задал всю тональность их визиту. То есть, елки зеленые, мы бы хоть с этой чертовой остановки их забрать могли!
Пока доктор Фелч все это произносил, мы разъехались на дороге со встречным грузовиком, и мой новый начальник помахал кому-то знакомому.
– Одна из моих бывших жен. Заправляет нашей бухгалтерией.
Я поглядел в заднее зеркальце на удалявшийся грузовичок.
– Вы сказали – одна из ваших бывших жен. Сколько же у вас бывших жен?
– Четыре. Это не включая мою текущую…
– Вы были женаты пять раз?
– Именно.
– На пяти разных женщинах?
– Ну да. И все они живут в Коровьем Мыке. А это значит, что мне ежедневно приходится с ними видеться. Одна в колледже консультант по профориентации. Другая только что ушла на пенсию с ранчо. Моя третья бывшая заведует нашей бухгалтерией. А последняя – ну, давайте просто скажем, что об этой мне говорить не очень хочется.
– Разумеется, я вас совершенно понимаю. У меня самого две бывших…
Между нами повис нежный миг общих мужских воспоминаний. И когда он развеялся, я решил направить беседу в другое русло:
– Так, мистер Фелч, а дети у вас от всех браков есть?
Он рассмеялся.
– Конечно. Меня, знаете, не холостили. Три сына и дочка. Но все они выросли и разъехались…
Тут доктор Фелч не спеша перечислил мне всех своих детей по именам, возрастам и особым талантам – вместе с тем, какой отрез мяса они любят, на чем ездят, и хотя бы по одной прелестной истории из детства соответственно каждого ребенка. С гордостью перечислял он мне имена супругов своих детей, на чем именно они ездят, а также различные места по всей стране, где они теперь живут со своими семьями.
– Всё в гости их приглашаю, – сказал он. – Они пока так и не собрались. Наверно, в Коровьем Мыке особо и нечего смотреть, если разок его увидишь. Да и чертовски далеко автобусом ехать просто ради удовольствия…
– Это уж точно, – сказал я. И добавил: – Знаете, мистер Фелч, вам просто тонна чести. Не могу сильно не уважать человека, женатого пять раз…
Меж нами промелькнул еще один томительный миг, а когда и он миновал, я продолжил:
– Так последняя координатор особых проектов, судя по тому, что вы говорите, не вполне расположила к себе кампус?
– Это еще мягко сказано. Однако ей это как-то все же удалось. Видите ли, есть люди, которые ее любили и любят до сих пор. Но я еще до самого смешного не дошел. Значит, если припоминаете, мы уже сожгли на солнце наших аккредиторов и тем скомпрометировали свою аккредитацию. А у нас осталась дюжина коробок рождественской выпивки – где-то собирала пыль на складе, а выпить ее негде. Ну и в довершение всего наш расколотый преподавательский состав начинает еще туже стискивать друг другу глотки. Если культурный раскол и раньше казался скверным – а он таким и был; вообще-то эскалация продолжалась много лет, – то теперь он совершенно разбушевался. И поверите ли – на пике этого всего данная личность заходит ко мне в кабинет и просит о прибавке?
– Жалованья?
– Дескать, устала она, что об нее все ноги вытирают, и хочет поправку на рост прожиточного минимума, чтобы компенсировать ей проживание в такой сельской, богом забытой местности. А вы учтите, мы уже оплатили доставку ее машины через полстраны, не говоря уж о предоставлении единовременной ссуды на переселение ее собаки и разношерстного сборища сиамских котов. Мы ее в целях профессионального роста на конференции по тантре посылали. Мы даже предоставили ей бесплатное жилье на пару месяцев, покуда она искала постоянное место, что было бы ей больше по нраву.
– Она не хотела жить в преподавательских квартирах на кампусе?
– О нет. Это ей не годится – для шитцу места мало. В общем, полгода она искала жилье. А все это время отменяла заседания рождественской комиссии, потому что ездила смотреть предложения. Маклеры оставляли записки у нее на дверях. И посреди всей этой катавасии она просит меня о прибавке. О прибавке! Вероятно, она еще и полагала, что ее заслужила.
– Дали?
– Нет уж, к черту. И так ей и заявил. Хоть и не такими словами. И вот тогда она вчинила мне иск…
Излагая эту сагу, доктор Фелч, казалось, все больше оживлялся. И чем глубже он погружался в историю, тем настойчивее курил. Он уже довершил вторую сигарету и ею подкурил третью, затем поднес тлевший кончик третьей к четвертой. Легкие его теперь явно расплачивались за его решение нанять мою предшественницу, в глаза ее не видя, после одного телефонного собеседования.
– …То есть прикидываешь ведь, что прилежно потрудился – нанял администратора, лауреата премий с личными характеристиками от президента Родезии. Она ж должна знать, что делает, правильно? Чарли, черт бы драл, у нее два плющевых образования!..
Я сочувственно покачал головой. Доктор Фелч продолжил:
– В общем, так или иначе, вот во что вы ввязываетесь как наш новый координатор особых проектов. Вам придется постараться как следует, Чарли. Я не могу позволить, чтобы эта должность снова себя не оправдала. Слишком много на кону стоит. Нельзя, чтоб эти липовые телефонные нанятые эдак вот оборачивались…
– Похоже, работа мне та еще предстоит.
– Мягко говоря. Я попрошу вас помочь мне в этом году присмотреть за рождественской вечеринкой. И доверю вам самостоятельно провести процесс аккредитации. Наш следующий отчет должен быть составлен в ноябре, а комиссия по аккредитации прибудет в марте. И нам очень нужно все сделать правильно. То есть вы представляете себе, что с нами станет, если мы как колледж потеряем аккредитацию?
– Ну, если Коровий Мык не аккредитован, это будет значить, что ваши студенты не получат действительные дипломы. Их степени не будут признаваться.
– Верно. А это значит, что образование свое им придется получать в других местах. И они пойдут туда его получать. Нас покинут все лучшие и блестящие. И не вернутся. Как мои дети уехали и, вероятно, не вернутся никогда…
И доктор Фелч объяснил недавний демографический сдвиг в сообществе: как семьи, прожившие в Разъезде Коровий Мык не одно поколение, теперь уезжают в поисках работы – и как на их место вторгается орда приезжих. Несколько лет назад в рудниках к северу от городка обнаружили какие-то редкие целительные минералы – тот пригород назывался Предместье, – и теперь вокруг городится и растет новая бутиковая промышленность: торговцы продают туристам выходного дня волшебные минеральные кристаллы и мешаются с новым нашествием целителей, хиппи, пророков и священников.
– Чокнутые психи, – завершил доктор Фелч. – Лишь половина здешнего народу на самом деле родилась в Коровьем Мыке. Другая половина переехала сюда еще откуда-то. Либо за волшебными минералами. Либо от собственной истории. Либо и то и другое. Вы заметили, что в отборочной комиссии было ровно шесть человек?
– Я слышал, да…
– Так вот, трое там – из самого Коровьего Мыка, а трое – из других мест. Так у нас тут все и делается. Нынче любая группа старается, чтобы ее не задавили числом…
Доктор Фелч притормозил на переходе для скота – перед нами трое верхами гнали вереницу коров. Рядом трусили овчарки, чтобы стадо не разбегалось.
– …То есть – не поймите меня неправильно – это здорово, что у нас преподаватели из далеких экзотических мест. Черт, да у нас одно время даже штатный физкультурник был из Калифорнии!..
Доктор Фелч просиял. Казалось, он особенно гордится этим фактом.
– …Но становится все трудней и трудней, – продолжал он. – В какой-то момент же приходится и местных нанимать. А сегодня это сделать невозможно. Нынче они должны куда-то еще ехать за своими степенями – а уехав, уже не возвращаются. Обещают вернуться, но просто берут и не приезжают. А вы б вернулись?
Я покачал головой:
– Нет, – ответил я. – Наверное, нет. У Коровьего Мыка для такого чужака, как я, есть некоторая притягательность. Но я понимаю, почему местному может хотеться чего-то большего.
Доктор Фелч рассмеялся.
– Вообще-то, – сказал он, – вы из тех, кто вернулся.
– Я? Но я же не отсюда! Я и не был-то никогда в Коровьем Мыке, пока на этой временной автобусной остановке не сошел. Я вообще не отсюда!
– В некотором смысле – нет. И все же – отсюда. Не забывайте, здесь жил ваш дед. Он даже суфражистку из реки спас – и я уверен, что в Коровьем Мыке до сих пор живут потомки этой женщины, избиратели. А еще я уверен, что ее потомкам тоже есть что рассказать. Поэтому вы у нас, считай, вполне вернувшийся. Думаю, именно это в вас и разглядела комиссия, и вот поэтому мне удалось заставить всех шестерых подписать ваш наем. Половине понравился тот факт, что вы отсюда. А другой половине понравилось, что вы не отсюда.
– Так у меня обычно и бывает, – сказал я. – Много разного, но ничего целиком…
От перехода для скота мы отъехали и теперь проезжали мимо старого мясокомбината, чей длинный забор, казалось, убегает от нас вперед, в бесконечность. Забор был обшарпан, но внушителен – и так велик, что, казалось, никогда не закончится.
– Это знаменитое ранчо «Коровий Мык». В период расцвета оно кормило полстраны. А теперь еле дышит…
Забор был старый, деревянный, высотой футов восемь, белая краска облупилась, а время от времени на нем попадались выведенные красным лозунги: «ЕШЬ ФАРШ» – гласил один, а через несколько сот ярдов: «ГОВЯДЫ ГОРАЗДЫ!»
Прозвучал еще один встречный клаксон, и доктор Фелч слегка махнул.
– Бывшая жена, – пояснил он. – Консультант по профориентации. – Пока мы ехали, казалось, что каждой второй или третьей встречной машине требовалось помахать, дважды гуднуть или крикнуть что-то в окно. А из них в каждой четвертой или пятой ехала бывшая жена отягощенного ими президента общинного колледжа Коровий Мык. По правую руку мы теперь проезжали тот отрезок длинного забора, что гордо провозглашал: «СТРАНА КОРОВ».
– Ладно, – сказал я немного погодя. – Значит, я, судя по всему, стану помогать с этими двумя задачами? Аккредитация и рождественская вечеринка?
– Именно. И еще кое-какие обязанности будут возложены…
Доктор Фелч теперь съехал с главной дороги на засыпанную гравием парковку возле уличной вывески «Бар и гриль «Елисейские поля». На стоянке было несколько грузовиков – и ни единой легковушки.
– Но ко всему этому мы перейдем попозже. Сначала я хочу вас познакомить кое с кем из ребят…
Доктор Фелч заглушил мотор, кинул ключ на сиденье и, не закрыв окно, направился ко входу в заведение под розовым неоновым силуэтом грудастой француженки, скачущей на необъезженном жеребце. Следом за ним вошел и я.
В баре было темно и прохладно, а изнутри показалось, что мы вступили в параллельное царство времени и пространства. Разменявший полвека музыкальный автомат исторгал песню времен моих деда с бабкой. По одинокому черно-белому телевизору, укрепленному над стойкой, показывали студенческий футбольный матч; позади приемника торчали длинные кроличьи уши антенны. Мы сели за столик в углу, к нам подошел старик в ковбойской шляпе, с зажатой в зубах сигарой и поставил перед нами две банки «Фальстафа»[2].
– Пиво пьете? – спросил доктор Фелч.
– Можно сказать и так, – ответил я и потянул за ярлык на банке.
– Рад слышать, – кивнул доктор. – А то нынче с образованными нипочем не скажешь… – Он открыл свою банку, а колечко положил в металлическую пепельницу. Я сделал долгий глоток из банки и свое тоже туда положил. Потом сказал:
– Спасибо, что привезли меня в Коровий Мык, мистер Фелч. Очень я это ценю.
– Пока не стоит благодарить. Приберегите до того, как переживете свой первый семестр. Черт, да на рождественской вечеринке спасибо скажете! – И он лукаво мне подмигнул.
– Точно, – кивнул я. – Тогда-то я точно вам спою святочный гимн-другой.
Мы пили и беседовали, и несколько минут спустя в бар зашли двое друзей доктора Фелча и подтащили стулья к нашему столику.
– Это Чарли, – сказал доктор Фелч, когда двое устроились. Мужчины откупорили свои банки и положили колечки в металлическую пепельницу к остальным: теперь их там лежало четыре. За разговором доктор Фелч прикурил пятую сигарету от бычка четвертой, потом затер тлеющий огонек, как и три предыдущих. – Чарли у нас будет новым координатором особых проектов, – сказал он.
– Координатором особых проектов?
– Я буду правой рукой доктора Фелча…
Мужчины кивнули.
– …Буду вести процесс аккредитации колледжа…
Мужчины опять кивнули.
– …И помогать с ежегодной рождественской вечеринкой.
Тут они рассмеялись.
– А вот с этим – удачи вам! – сказали они.
Доктор Фелч продолжал:
– Ребята, о Чарли я вам рассказывал… с неожиданным ответом на вопрос про вздутую мошонку.
– Так это вы?! – сказали они и одобрительно захлопали меня по плечу.
Мы пили, а когда всё выпили, третий человек выставил еще по пиву и мы выпили еще. Пока сидели, беседа шла, куда полагается; время от времени мужчины поднимали головы посмотреть матч по старому телевизору, и после долгой перебежки от борьбы за мяч или важного перехвата защиты раздавался крик.
– Надеюсь, вы привезли с собой дождь, Чарли! – сказал один после дискуссии о засухе в области – засухи веков, как они ее называли, – и я им ответил, что вообще-то немного прихватил:
– Он в машине, у меня в чемодане.
Мужчины рассмеялись, и беседа вилась себе дальше. С любопытством, свойственным всем маленьким городкам, они расспрашивали меня о предыдущих работах и браках, о том, что привело меня обратно в Коровий Мык после стольких лет, – и я на них отвечал, как мог. Но главным образом – слушал, как эта троица обсуждает происходившее в городке и прочую сиюминутную болтовню, что в самой мимолетности своей также бесконечно вневременна. Страстно беседовали они о самых насущных политических вопросах Разъезда Коровий Мык, о том, как изменился городок за эти годы по сравнению с тем, каким они его знавали в молодости. С усталым смиреньем говорили о новых людях и их странных ухватках, о здешних старожилах, которых давненько не видали, – кто умер, кто уехал, а иные того и гляди переедут или помрут.
– Слыхали, сестра Мерны наконец-то дом свой продала? – спрашивал один.
– Да ну? – отвечал другой. – Та, что на «додже» ездит?
– Это ее другая сестра. У этой – «форд».
– Шестицилиндровый?
– Ну.
– С деревянной обшивкой по борту?
– Именно.
– И трубчатой рамой?
– Да.
– Знатная у нее трубчатая рама!..
И все мужчины согласно закивали.
– Ее будет не хватать, – сказали они и выпили в память о Мерне. И вновь беседа вилась, и вновь возвращалась к злободневным темам: переменам в политике Разъезда Коровий Мык, различным пошлинам, вызванным понаехавшими, и последними трудностями у множества их знакомых горожан, с кем они вместе росли.
– Но слыхал, другая сестра Мерны по-прежнему свой грузовик продать никак не может…
– Та, что на «додже» ездит?
– Точно.
– А какой она продает? Джип?
– Нет, «форд». Джип она уже продала.
– Да ну? И кто такой рыдван купит?
– Расти.
– Зачем это Расти джип? У него ж и так уже два грузовика!
– Нет у него двух. Его дочка месяц назад «шеви» разбила.
– Да ты что?
– Ну, девчонка в канаву заехала, когда домой с речки возвращалась как-то вечером.
– Одна?
– С дружком своим.
– Нехорошо это.
– Да уж куда хуже-то.
– Так у Расти, значит, один грузовик остался?
– Именно. Потому и купил у Мерны этот старый джип. И теперь у него опять два.
– Ну-у… вот сразу видно, насколько я тут от жизни отстал!..
– Да, дружище, тебе точно почаще надо б на улицу выходить!
Мы вчетвером пили дальше, и в какой-то момент двое мужчин отошли покидать дротики у стойки рядом с барменом, а доктор Фелч закурил еще одну сигарету, шестую.
– Ну, на дорожку… – сказал он и протянул банку в мою сторону; в металлической пепельнице теперь лежало семнадцать колечек. Я положил восемнадцатое. Доктор Фелч одобрительно кивнул, а потом сказал: – Отлично тут у вас все будет, Чарли. – Банку я держал в руке, словно она была хрупкой судьбой всего местного сообщества. – Только окажите мне одну любезность…
– Само собой, – сказал я.
– Не забывайте воспринимать нас всерьез.
– Прошу прощенья, мистер Фелч?
– Я вас сюда не просто так привез, Чарли. И поначалу мы к вам отнесемся с презумпцией невиновности – стиль у нас такой. Но не принимайте нас как должное. Такого здешняя публика не прощает.
(Я вдруг услышал голос своей жены – то, что она много раз говорила мне, пока мы были женаты. «Ты принимаешь меня как должное», – говорила она, выражаясь так или иначе. Но я, как обычно, отмахивался со смехом: «Это ровно то, что мне говорила моя предыдущая жена!» И затем: «Все вы, женщины, одинаковы!..»)
Доктор Фелч дожидался, не опуская пива – и не отпивая.
– Я вас услышал, мистер Фелч, – сказал ему я. – Поверьте мне, именно в этом я и стараюсь чего-то добиться. Ценить людей, пока они рядом, чтоб они могли понять, как я их ценю…
– Просто запомните, Чарли, в этом мире легко любить красивое. Но если вы намерены тут у нас в Коровьем Мыке как-то обустроиться, вам понадобится любить и нечто иное. Вам придется полюбить то, что не любят.
– Не любят?
– Да. Нечто потоньше. То, что не так легко поддается восхищению.
– Приложу все силы, сэр, – сказал я. – И буду любить то, что не любят.
Тут-то мы и выпили.
Спустя несколько мгновений фонового шума – болтливой рекламы сигарет по телевизору, шороха виниловой пластинки, скачущей в музыкальном автомате, потом за стойкой чпокнули еще одной банкой пива – доктор Фелч посерьезнел. Впервые за время нашего знакомства он заговорил еле слышно:
– Только я вот чего не понимаю. И, может, тут, Чарли, вы мне сумеете помочь… – Я подался вперед, чтобы лучше расслышать в окружающем шуме, что́ он говорит. – …Может, вы мне сможете объяснить, как это человек способен уехать оттуда, где был его дом, и больше туда не возвращаться? Как отказаться от своей культуры ради чьей-то еще? Чарли, может, вы сумеете помочь мне понять, как человек с такой большой историей просто… уезжает?
Я начал было сочинять ответ, но не закончил. У меня другой опыт, это я знал, и в нем для доктора Фелча не будет особого смысла. Поэтому мне осталось лишь пожать плечами – и только. Доктор Фелч с минуту смотрел на меня, затем покачал головой и проглотил остаток пива. Потом собрал из пепельницы все колечки и ссыпал их себе в карман рубашки – для внучкиной коллекции, пояснил он. В углу бара снова раздался рев вокруг телевизора – тачдаун провели «свои»; я признал команду четырехгодичного колледжа за тысячу с лишним миль отсюда. Когда я допил свое, доктор Фелч хлопнул меня по плечу.
– Ладно, Чарли, пора везти вас в кампус. Рассчитывайте быть у меня в кабинете первым делом с утра в понедельник на общем собрании. На следующей неделе студентов еще нет – только преподаватели и сотрудники, – поэтому вам выпадет хорошая возможность познакомиться с коллегами и попривыкнуть к личностям. А как я уже сказал, Бесси поможет вам завестись и поехать…
Доктор Фелч расплатился и, когда мы выходили, кивнул троице у стойки, а они крикнули, оторвавшись от своих дротиков:
– Держитесь давайте, Чарли! – сказали они и: – Удачи!
Я их поблагодарил, и мы направились к свету дня.
* * *
Снова сев за руль, доктор Фелч весь остаток пути ехал, чередуя пустячную болтовню с пьяненькими паузами.
– Мы почти в кампусе, – сказал он, пока мы следующие десять минут ехали мимо высохших деревьев и старых домов с выбитыми окнами, вдоль еще одного оросительного канала, по которому не текла никакая вода. – Главный въезд вон там, за путями. – Мы перевалили через рельсы и поехали по пыльной дороге. Как и с самого моего приезда сюда, пейзаж вокруг был сух и пустынен, уныл и бесцеремонен. Доктор Фелч свернул влево на небольшую дорогу, затем еще раз влево – и направился прямо к щиту в отдалении, который гласил: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОБЩИННЫЙ КОЛЛЕДЖ КОРОВИЙ МЫК», а ниже и мельче: «Где сходятся умы». Перед въездом в кампус поставили будку охраны, а через дорогу тянулась деревянная рука, преграждавшая нам путь.
– Добрый день, мистер Фелч, – сказал охранник, шагнув из будки.
– Привет, Тимми.
Охранник протянул доктору Фелчу планшет с какими-то бланками на подпись; тот их подписал, не читая, а потом показал на меня.
– Это Чарли, – сказал он. – Он у нас будет новым координатором особых проектов.
Я перегнулся поздороваться.
– Приятно познакомиться, – сказал я сквозь открытый трапецоид окна доктора Фелча.
– Взаимно, Чарли! – ответил он. – Добро пожаловать в Коровий Мык!
Доктор Фелч начал было прикуривать восьмую сигарету от седьмой – или девятую от восьмой? – но передумал. Вместо этого он загасил ее в пепельнице приборной доски.
– Чуть не забыл. Новая политика… мы с этого года – некурящий кампус. – Доктор Фелч покачал головой и вздохнул. – Черт бы драл…
Тут рука поднялась, и наш грузовичок миновал ворота и въехал в кампус общинного колледжа Коровий Мык.
По другую сторону ворот
Из тьмы невежества
К свету высшего образования
Ведут простые ворота,
Старые и тяжеловатые.
А я, образовательный управленец, —
Их верный страж,
Чьи умелые, но дрожащие руки
Должны как-то справиться с засовом.
Сказать, что кампус общинного колледжа Коровий Мык отличался от городка вокруг, давшего ему имя, – все равно что отметить: дочь часто совсем не похожа на мать, в чьем доме она живет и к чьей фамилии уже не может вернуться, – или что остров часто склонен отличаться по цвету и содержимому от окружающего его того, что повлажнее. Пока я в изумлении пялился на разворачивавшуюся передо мной панораму, доктор Фелч миновал ворота, отделявшие колледж от пыльного мира снаружи, и въехал в изумрудный оазис просторных лужаек и густой зеленой травы, чей каждый стебелек был ярок, а поливалки плевались и шипели. Четкий метафорический порог, пересекаемый каждым, кто вступает в кампус высшего учебного заведения и поскромнее, – внезапный перелом в ландшафте, предназначенный укрепить раздел опустошенного мира невежества по другую сторону ворот и царства наманикюренного просвещения по эту, – здесь, в Коровьем Мыке, казался еще отчетливей, чем в других колледжах, где мне довелось побывать. И пока доктор Фелч сворачивал на главную дорогу, делившую кампус надвое, я, разинув рот, разглядывал этот манящий мир свежей травы, зеленой надежды и аккуратно подстриженного оптимизма. У череды прудов и рукотворных лагун высились сосны, а по воде гребли лебеди, плескалась рыба, и на берегах прохлаждались пеликаны. Живые изгороди роз и лаванды росли вдоль дорожек к зданиям, тщательно предопределенными орнаментами вспыхивали цветы всевозможных видов и оттенков, и казалось, что все это – все до единого петунии, тюльпаны и нарциссы, все орхидеи и одуванчики – все это цветет и благоухает. Докуда хватало глаз, все было ароматным и пышным, и столь внезапное явленье такого количества зелени, красок и свежести посреди растрескавшейся жары и солнцепека моего долгого автобусного путешествия до Разъезда Коровий Мык – из удушающей пыли медленной дороги через весь городок – было так внезапно и неожиданно, что я буквально и вполне громко ахнул при виде всего этого. Вместо застойной духоты последних нескольких часов теперь – казалось, с обоих краев кампуса сразу, – дул прохладный ветерок. Птицы чирикали и пели. Крякали утки. Под клонившимся к закату солнцем цвел жасмин. Уж точно никогда не представало предо мной более изящного портрета студенческой жизни, на котором учащиеся в школьных формах полеживают с раскрытыми учебниками на травке, а сами весело хохочут над неукротимостью собственного будущего. Даже воздух тут казался прохладней и осенней – коллегиальней, – чем несколько минут назад. Впитывая это все, легкие мои полнились зябким многообещающим воздухом, что был гораздо живее тех жары и выхлопа, какие мы только что оставили за воротами, как будто всю жизнь и все плодородие из городка Разъезд Коровий Мык высосали, а окружающая котловина долины Дьява вся сосредоточилась здесь, в этой щедрой колыбели науки, плодотворности и полноценности.
В конце этого субботнего дня один лишь грузовичок доктора Фелча катил по кампусу, и мы медленно проезжали мимо разнообразной флоры, наделявшей колледж всею этой пробуждающейся жизнью. На центральной аллее, еще не заполоненной студентами, не вернувшимися с летних каникул, на изысканный кафетерий отбрасывал тень огромный платан. У административного корпуса исполинские тополя мешались с березами и фиговыми пальмами, образуя причудливый полог растительности. Вдоль главной трассы вела долгая эспланада, обрамленная попеременно саженцами фиг и вязов. А вдалеке я различил баньян, старый кедр и даурскую лиственницу – все они росли в нескольких шагах друг от друга, однако ни одно дерево не покушалось на тень другого и всем удавалось жить бок о бок в гармонии экосистемы. Рядом с грушами росли гранаты. Сожительствовали грейпфруты и абрикосы. Виргинский ломонос нежным питающим объятьем оплетал собою ветви вздымавшегося вишневого дерева. Кампус раскинулся вокруг трех рукотворных лагун, и пока грузовичок наш тарахтел к преподавательскому жилому корпусу, мы миновали три тематических фонтана, по одному в каждой лагуне: каждый выбрасывал в воздух высокие струи воды из внушительных бронзовых статуй, символизировавших богатство истории Коровьего Мыка. В первом фонтане, у библиотеки, на задние ноги вставала аппалуза, и вода била у лошади изо рта; во втором, у корпуса естественных наук, на свой аркан смотрел ковбой, и вода била у него изо рта; а в третьей лагуне – той, что расстилалась у корпуса зоотехнии и служила лицом всего кампуса, – огромный бык готовился покрыть телку, и из него тоже хлестал внушительный поток воды.
– Да это прекрасный кампус! – воскликнул я.
– Да, к сожалению… – ответил доктор Фелч с усталым вздохом.
Наконец мы добрались до двухэтажного кирпичного здания, укрытого ложным плющом, – Центра преподавательского и временного жилья имени Фрэнсис К. Димуиддл. Доктор Фелч подъехал к обочине и выключил мотор. Звук замер так же внезапно, и в этой новой тишине окружающие звуки птиц, ветерка и пеликанов поражали еще сильней.
– Ну, вот жилой комплекс для преподавателей, – сказал он. – Вы на втором этаже.
Доктор Фелч схватил мои чемоданы и занес их по лестнице к дверям квартиры.
– Извините, но жить вам придется рядом с математиками. Надеюсь, будет нормально…
– А почему нет? – начал было спрашивать я, но доктор Фелч уже отпер дверь и толкнул ее. Не входя в квартиру, он отдал мне ключ и пожелал хорошего отдыха в оставшиеся выходные.
– Увидимся первым делом в понедельник, – напомнил он и потряс мне руку. Затем еще раз хлопнул меня по плечу и сказал: – Отлично у вас получится, Чарли… будущее у вас в руках.
Я его поблагодарил, и он ушел.
Рев мотора доктора Фелча затихал вдали несколько минут, и лишь когда звук пропал совсем, я принялся разбирать чемоданы и раскладывать вещи: обязательные зубные щетки и лекарства, бритвенные принадлежности и записи, которые следовало подготовить к первому дню моей работы в понедельник. Я обрадовался, обнаружив исторический роман, который читал в долгой автобусной поездке, и положил его на подушку; это художественное произведение по-прежнему было заложено на той странице, куда я вставил закладку перед тем, как приехать в Разъезд Коровий Мык. Когда это было сделано, я открыл в гостиной окно, выходившее на ковбоя с арканом. Воду, бившую у него изо рта, разбрасывало ветром, и она падала странствующим туманом, а солнце отражалось от водяных кристаллов и творило изменчивые радуги в брызгах.
– Мое будущее! – сказал я и, прихватив ключ от квартиры, отправился внимательней осматривать три фонтана, в которых танцевали радуги.
* * *
Кампус оказался на удивление просторен для такого маленького колледжа, где училось меньше тысячи студентов, и я, шагая по главному тротуару от одного фонтана к другому, отметил Мемориальный спортзал имени Сэмюэла Димуиддла, а рядом – Стадион Димуиддла, граничивший с Ботаническим садом и Природным терренкуром имени Дороти Димуиддл с одной стороны и Оружейно-стрелковым комплексом Димуиддла – с другой. На какое здание ни глянь – каждое несло на себе имя Димуиддлов, и очевидно было, что эти самые Димуиддлы – кем бы ни были они – питали сильную приязнь к учебному заведению и оставили ему значительное наследство. На тротуарах никого не было, и в безмолвном покое, что так странен, однако так знаком перед началом нового семестра, я воображал себя последним выжившим в постапокалиптическом мире, где не осталось ни одной живой души. Если и есть что-либо еще более одинокое, нежели поездка в одиночку на автобусе сквозь время и пространство, то лишь этот тихий экзистенциальный страх школы, в которой нет молодежи. Душу кампусу сообщает радость жизни, рожденная в смехе и непосредственности молодежи; отнимите ее – и вам останется зловещая пустота, полое безмолвие растущей травы и творимой писанины. Без всякой полноценной цели скрипучие качели, пустые классы, велосипедные стоянки без велосипедов – все это намекает на мимолетную природу самой жизни: жизнерадостных молодых людей, переросших это самое яркое время своей жизни и перешедших к скучному спокойствию взрослой зрелости. Там, где раньше я ощущал возбужденье нового начала, покуда ехал по кампусу в грузовике доктора Фелча, ныне я переживал полную его противоположность: тягостное молчанье, повисшее после того, как новизна надежды потускнела, – когда остались только сама школа без смысла ее, или городок, отказавшийся от собственной души, или колледж, рискующий сбиться с пути, растерять свою историю и утратить аккредитацию, все сразу.
Я сел против гаснувшего света на цементную скамью перед самой обширной лагуной – все жесткое сиденье было мокрым от мороси, надуваемой от фонтана. Бык в центре лагуны был так же вирилен, а телка – так же покорна, как и прежде, когда я проезжал мимо; но теперь солнце склонилось и туман стал холодным. Сидя там, я думал о мучительной тропе, что привела меня в Разъезд Коровий Мык, – о бессчетных случайных совпадениях, которые должны произойти, чтобы человека занесло через полстраны к фонтану в этой зябкости, где собираются радуги, а бык вечно кроет телку. Одно за другим припоминал я звенья в этой цепи, смутные милости случайных людей по пути, что привели меня сюда, где я теперь. Лица, которых я не видел – или даже не думал о них – много лет: учительницы во втором классе, с каштановыми волосами и прекрасной улыбкой; девочки из старших классов, что, сама того не ведая, вдохновляла самые беспокойные мои грезы в те пылкие годы; дружелюбной кассирши; мужчины с тростью; медсестры; знакомой по колледжу, что позволила мне сопроводить себя от невинности к женственности; трех прохожих, поднявших меня с окровавленного асфальта, – теперь эти лица явились мне со всею ясностью: эти люди коснулись ненадолго моей жизни и затем всего лишь продолжали чертить одинокие траектории своей, словно стрелы, выпущенные друг мимо друга. Как ясно и прямолинейно казалось все это, если обернуться. Как совершенно значимо множество незначительных встреч по пути, какие почти неощутимо подталкивали меня к этой моей судьбе – координатора особых проектов общинного колледжа Коровий Мык. И вот в тот миг сколь правильным все это казалось – столь непреклонно и целенаправленно организовано, чтобы привести меня в единственное место на целом свете, где такой вот фонтан мог бы олицетворять собою надежду и обещанье.
Уже почти стемнело и очень похолодало. Я не захватил куртки, и зубы у меня стучали от озноба и мороси. Но прежде чем вернуться, следовало сделать еще кое-что. Вынув из кармана старую монету, я поглядел на величественного быка и его телку, отпечатавшихся навеки в гаснувшем небе. В полутьме казалось, что вода, хлеставшая из этого массивного быка, действительно будет течь сквозь нескончаемые время и пространство, до самого своего истока. Изо всех сил я швырнул монету в середину фонтана и проводил глазами ее отплытие в вечность.
В квартире я принял теплый душ и тихо лег в постель. Местные новости по телевизору давали полезные советы, как пережить засуху, парализовавшую всю область; спортивный диктор сообщал о сокрушительном поражении, что потерпела футбольная команда, за которую болела та троица в баре; а за спортивной сводкой последовал прогноз погоды на следующие пять дней – для городского центра так далеко от Разъезда Коровий Мык, что значения он не имел, звучало скорее экзотично. Устало я повернул ручку и взялся за свой исторический роман. Уже через несколько минут меня стало клонить в сон, и, несмотря на все усилия, я чувствовал, как книга выскальзывает у меня из рук. Я было подумал, что прочту хотя бы еще одну главу – несколько страниц, чтобы завершить этот полный событий день, – но не успел я дочитать и следующий абзац, как густой сон окутал меня, и я отошел к нему, не погасив ночника, не укрывшись, а недочитанная книжка латной пластиной упокоилась у меня на груди.
* * *
Последнее воскресенье перед моим первым рабочим днем прошло без треволнений, в спокойном созерцании моей новой квартиры. Я прочел новую главу романа, начатого в автобусе. Посмотрел по телевизору у себя в комнате какие-то старые эстрадные программы. Честолюбиво составил список из трех личных целей, которые поставил себе на первый год в общинном колледже Коровий Мык:
1. Отыскивать влагу во всем.
2. Любить нелюбимое.
3. Переживать как день, так и ночь.
В тиши своей квартиры я смотрел на эти цели, и мне нравилось, как они звучат. У человека никогда не будет чересчур много целей в жизни, подумал я, и три – число не хуже любого другого. Однако чего-то не хватало. Через несколько минут я взял листок снова и дописал себе четвертую цель на весь период пребывания в Коровьем Мыке. И вот эта четвертая цель – без нее никак – наверняка станет самой честолюбивой из всех:
4. Стать чем-то целиком.
* * *
Наутро я направился в административный корпус на встречу с доктором Фелчем, чей кабинет находился на втором этаже, откуда открывался непревзойденный вид на фонтан с аппалузой. Я легонько постучал в дверь, а когда ответа не последовало, постучал еще раз, погромче.
– Его нет, – раздался голос. Я развернулся и увидел женщину моего возраста, густые волосы подобраны и завязаны в строгий узел, в темно-синем деловом жакете из полиэстера и такой же юбке. – Он еще не пришел. Вам что-нибудь нужно? Или вы просто хотели и дальше стучаться?
– Простите, – сказал я. – Но уже девятый час, а мистер Фелч назначил мне ровно на восемь. Я здесь новенький…
– Вы новый координатор особых проектов?
– Именно! Приятно познакомиться… Я Чарли…
Я протянул руку, и женщина пожала ее, стиснув мне пальцы еще болезненней, чем двумя днями раньше делал доктор Фелч на временной автобусной остановке.
– Славная хватка! – сказал я.
Женщина не улыбнулась:
– Не похожи вы на координатора особых проектов, – пояснила она. Рассматривала меня она оценивающе и с любопытством, едва ль не подозрительно. – Так или иначе, можете присесть вот на этот жесткий пластмассовый стул и подождать президента Фелча. Он должен быть с минуты на минуту.
Я сел и взял журнал. Женщина устроилась за какой-то писаниной у себя на столе и, хотя могла бы занять меня какой-нибудь любезной беседой, очевидно, не сочла это необходимым. В тишине тикали часы на стене, а за окнами снаружи раздавались крики пеликанов. И в этом беспрецедентном наложении звуков – часов, пеликанов и газонокосилок, стонавших вдали, – мне оставалось лишь недоумевать, среди бесчисленных прочих загадок, на что должен быть похож координатор особых проектов.
Сидя на холодном пластмассовом стуле, я исподтишка изучал манеры этой туго скрученной женщины. Глубокий клинообразный вырез ее блузки. Как трепетали у нее ресницы, когда она щурилась, читая письмо. Украдкой я оглядывал очертания ее полных плеч под полиэстеровым жакетом и то, как локоны падали ей на лицо, пока она раскладывала карандаши и смахивала пыль с печатной машинки. А затем – как ее мягкие руки еле заметно подрагивали, когда она отвлеклась, чтобы с любовью протереть две рамочки с портретами, как я предположил, ее маленьких детей.
Я раскрыл журнал и принялся его листать. В одной статье вкратце излагалась суть текущего конфликта; другая очерчивала портрет недавно опозорившегося политика; еще одна рассказывала о выводе наземных войск из крупнейшей на свете горячей точки. Я вяло переворачивал страницы и прочел уже полстатьи о распаде некогда великой сверхдержавы, когда в приемную вошел доктор Фелч.
– Утро, Бесси, – сказал он, после чего: – Доброе утро, Чарли. Простите, что опоздал. Вижу, вы уже познакомились? – Доктор Фелч жестом поманил меня, и я следом за ним вошел в кабинет, где он предложил мне пластинку жевательной резинки, от которой я вежливо отказался. – Говорят, помогает сбросить тягу к куреву, – пояснил он. – Но мне-то вот уж точно не помогает!
Доктор Фелч пошелестел какими-то бумагами у себя на столе. Кабинет его был отделан панелями темного дерева и меблирован черными кожаными креслами по бокам от рабочего стола. Над ним к стене была привинчена лакированная коровья голова. За его креслом стояла большая латунная плевательница, сообщавшая всему кабинету острый дух отхаркнутого жевательного табака с отдушкой из гаультерии. Окно, смотревшее на фонтан с аппалузой, от потолка до пола обрамляли ниспадавшие буро-малиновые шторы. На столе у доктора располагались всевозможные рамки с портретами детей и их семейств: молодая пара багроволице улыбалась посреди какого-то заснеженного лыжного курорта; несколько загорелых туловищ стояли на тропическом пляже; студийные кадры улыбающихся мамы, папы и детей.
– Ну и как вам Бесси? – спросил он.
– Так это была Бесси? – сказал я. – Вроде ничего. Хотя мне показалось, я ей не очень-то пришелся.
Доктор Фелч рассмеялся.
– Ага, она со всеми такая. Но не принимайте на свой счет. Я же говорил, она бульдог. Но со временем и вы к ней привыкнете.
– Надеюсь.
– Только терпение. И не пытайтесь к ней в блузку залезть. С этим почти никогда хорошо не выходит…
Доктор Фелч протянул мне листок, на котором сделал какие-то пометки.
– Вот ваши первоочередные задачи на семестр, – сказал он. Список был пронумерован и содержал два императива и тавтологию в кружке:
1. Провести процесс аккредитации.
2. Обеспечить рождественскую вечеринку.
3. Расколотый преп. состав.
– Последний пункт будет гадским, – сказал он. – Я даже не знаю, какой глагол перед ним поставить. Примирить? Сомкнуть? Умиротворить? Сегодня это может быть даже разоружить. В общем, вы поняли. Какой бы глагол ни пришел вам в голову, постарайтесь, чтоб он был хорошим. От вас зависит будущее нашего колледжа.
Доктор Фелч умолк. Потом произнес:
– Занятия начинаются только в следующий понедельник, но все преподаватели должны быть в кампусе уже на этой неделе. Через несколько минут начнем наше общее собрание. Я попросил Бесси предоставить вам всю полезную предысторию. Попробуйте запоминать имена и обращайте особое внимание на личности и их динамику. Отмечайте автомобили и попытайтесь не запутаться в различных началах координат, что привели всех нас к этому сегменту времени и пространства. Для вас это сразу будет чересчур информации, я знаю, но вы уж постарайтесь. И просто задавайте Бесси все вопросы, какие у вас возникнут. Еще она вам отдаст ключ от вашего кабинета. Тот прямо по коридору отсюда, напротив кабинета нашего научного сотрудника, поэтому рассчитывайте, что отныне и впредь мы вчетвером будем часто встречаться.
Еще доктор Фелч сказал, что предоставит мне экземпляр самого последнего самостоятельного отчета к аккредитации, а также разочарованное резюме приезжей комиссии. («Нам нужно будет разобраться со всеми их рекомендациями и выговорами».) И еще Бесси мне даст копию протоколов заседаний прошлогодней рождественской комиссии, чтоб я сам убедился, с чего все начало разваливаться и как нам вновь собрать все куски воедино.
– Помимо того, – продолжал он, – эта неделя – просто возможность подготовиться к грядущему семестру. Распорядитесь этим временем с умом. Поверьте, в данный миг все вам может показаться медленным, но как только семестр начнется, все задвигается совершенно в другом темпе: оно заживет какой-то собственной жизнью. Пока же смотрите во все глаза на различные группировки и фракции в кампусе. Вскоре вам уже придется меж ними лавировать.
Доктор Фелч посмотрел на часы: время приближалось к половине девятого.
– Бесси! – крикнул он в приемную. Та вошла, и доктор Фелч показал на меня: – Бесс, возьмите вот Чарли и покажите ему кафетерий, будьте добры? Мне нужно подготовиться к общему собранию.
Мы вдвоем вышли из кабинета доктора Фелча, спустились по лестнице и ступили на эспланаду.
Как я быстро понял, Бесси была отнюдь не словоохотлива. Но пока мы долго шли от административного корпуса к кафетерию, вела она себя как верный экскурсовод, – исправно объясняла все, мимо чего мы проходили: прачечную кампуса, книжный магазин колледжа, тир для преподавателей и сотрудников, конюшни, где студенты-зоотехники готовят свои работы по осеменению. Сюда по вторникам сдается химчистка, говорила она. А вот там, если хотите, можно купить бритву для этой вялой щетинной поросли у вас на верхней губе.
– Вы имеете в виду мои усы?
– Если предпочитаете называть их так…
Бесси ходила напористо, и я на ходу не мог не отметить, как шелестит у нее при каждом шаге юбка. Эта женщина носила высокие каблуки, а ноги у нее были в колготках – при этом она справлялась с тяжелой коробкой бумаг, которую отказалась отдать мне, – однако поступь у нее была столь проворна, что я за нею едва поспевал.
– Вы так быстро ходите! – попробовал вымолвить я, но она в ответ лишь хмыкнула.
Вскоре мы миновали Обсерваторию Димуиддла, а через несколько минут – Концертный зал Саймона и Кэтрин Димуиддлов. Когда мы приближались к Центру скотоводства Димуиддла, мое любопытство наконец не выдержало.
– А кто все эти Димуиддлы? – спросил я. – Их имена на каждом здании! – Не сбавляя шаг, Бесси объяснила, что патриарх Димуиддл сколотил состояние на военной промышленности и крупную долю своей компании оставил общинному колледжу Коровий Мык. Поговаривали, что каждая седьмая пуля, выпущенная во всем мире, изготовлена в Арсенале Димуиддла – и всякий раз, когда где-то на свете вспыхивает вооруженный конфликт, колледж получает прямое вливание средств из Фонда наследников Димуиддла.
– Нам очень повезло с такой палкой о двух концах, – завершила она.
В итоге мы дошли до кафетерия, где проводилось общее собрание, – Мемориального кафетерия имени Артура и Мейбл Димуиддлов, – и Бесси, оставив коробку с бумагами секретаршам при входе, стала пробираться к сиденью в самом дальнем углу кафетерия, откуда было бы удобно наблюдать за всей панорамой преподавателей и сотрудников, пока те входят, получают раздаточные материалы к общему собранию и рассаживаются по залу.
– Вам лучше взять блокнот, – посоветовала она. – Будет много фактов и цифр. – Я в ожидании извлек желтый линованный блокнот из своего жесткого портфеля и лизнул кончик ручки.
– Готов! – сказал я.
Когда в зал, улыбаясь и здороваясь друг с другом, стали входить первые преподаватели и сотрудники, секретарши за передним столиком их регистрировали, а Бесси зачитывала мне их имена, должности и отличительные отзывы – почти как комментатор, перечисляющий коров-лауреатов на сельской ярмарке:
– Расти Стоукс. Преподаватель зоотехнии и злостный курильщик, – говорила она, и я принимался ожесточенно корябать у себя в блокноте. – Председатель Совета колледжа и один из самых пугающих людей в кампусе. У него два грузовика, включая джип, купленный у сестры Мерны Ли. Овощей не ест. Не любит коммунистов. Не верит в существование целесообразных альтернатив гетеросексуальности. Обожает огнестрельное оружие.
Следом за ним вошла женщина средних лет в развевающемся сари, с болтающимися хрустальными серьгами и элегантной красной точкой на лбу:
– Марша Гринбом. Преподаватель медсестринского дела на втором курсе. Переехала сюда из Делавэра прошлой осенью, продав там свою конопляную ферму. Строгая вегетарианка. Предпочитает ситарную музыку. В новом районе города, который называют Предместьем, у нее холистическая медицинская практика. В свободное время обучает йоге. Пылко стремится к нирване и вот настолько отстоит от ее достижения. – Большим и указательным пальцами Бесси обозначила, на сколько Марша отстоит от нирваны. – К несчастью, у нее также чесотка в запущенной форме…
Я все это записал.
Через минуту вошел пожилой человечек в сером костюме, федоре и с красным галстуком-бабочкой. Бесси сказала:
– Уилл Смиткоут. Самый старый педагог у нас в колледже. Преподает раннюю историю США и лекции читает все по тем же конспектам, что и тридцать лет назад, когда начинал. Прошлой осенью был председателем рождественской комиссии – тогда в первый и единственный раз за все время существования колледжа нам удалось не провести вечеринку. Раньше в кампусе был силой, а теперь просто досиживает до пенсии. В этом процессе ему помогает бурбон с тоником…
Снаружи у кафетерия начала выстраиваться очередь, а в зале накапливалась энергия – предвкушением общего собрания, которое начнет для колледжа новый учебный год. Секретарши суетились, стараясь побыстрее запустить всех внутрь, и я едва поспевал записывать массу биографических и исторических сведений, которые Бесси метала в меня стремительным бубнежом. Там была внештатная беженка из Пенсильвании, преподававшая историю искусств и ездившая на «саабе». И пухловатый мужчина в штате – он водил «форд ф-1» и преподавал оружейное дело. За ним стояли Херолд и Уайнона Шлокстины, единственная формально признаваемая колледжем семейная пара; слева от них – Сэм Миддлтон, знаток средневековой поэзии и ведомственный анархист с членской карточкой; а за ним – Алан Длинная Река, преподаватель ораторского искусства и потомок коренного населения из первоначального местного племени, который вот уже более двенадцати лет не перекинулся ни единым словом ни с кем в колледже, включая своих студентов.
– Это крайне парадоксально, – сказал я. – Как кто-то может преподавать ораторское искусство, при этом не…
– Разговаривая? Об этом я знаю не больше вашего, Чарли!
Мой наблюдательный проводник представляла мне одну за другой множество примечательных личностей общинного колледжа Коровий Мык – не только чем занимались мои новые коллеги в профессиональной своей ипостаси, но и чем стремились быть под сенью личной жизни. Так я узнал о сорокашестилетней преподавательнице антропологии и матери шестерых детей, некогда танцевавшей в кабаре в Нью-Джерси; она и поныне лелеяла мечту о карьере в интерпретационном танце. И о дородном учителе физкультуры, чье знакомство с пальцами собственных ног теперь ограничивалось косвенными слухами и смутными детскими воспоминаниями, – но все свои летние каникулы он участвовал в турнирах по боксу без перчаток в своем родном штате Джорджия. И о чарующем преподавателе творческого письма без единой опубликованной работы – однако его сексуальные подвиги со студентками уже вошли в местные легенды. («Его хоть в Новую ориентационную программу для абитуриентов вписывай!» – буркнула Бесси.) Был преподаватель психологии, по средам вечером певший блюз в «Елисейских полях»; и давний заведующий кафедрой садоводства и огородничества, в последнее время проводивший творческие отпуска в поездках по стране – за изысканиями в анналах американского кукольного театра; и недавно пошедший на повышение приглашенный профессор астрономии – он ни разу за всю свою работу в штате не улыбнулся, но, как поклялась Бесси, через выходные ездил за шестьсот миль отсюда, чтобы выступать в комическом разговорном жанре по клубам ближайшего крупного города. Вообще-то таланты цвели в нерабочее время по всему кампусу общинного колледжа Коровий Мык, словно кусты ночецветного жасмина. Так вот – и с помощью полезных подсказок Бесси – я постепенно убедился, что общинный колледж может быть рассадником возможностей не только для своих студентов, но и для преподавателей: ибо у всех моих коллег имелись какие-то яркие таланты – страсть, жгучее стремленье, тайное призвание, засевшее глубоко в расщелинах творческой души, – что поддерживались преподаванием студентам общинного колледжа Коровий Мык.
– Помяни черта!..
Бесси показывала на двери, в которых теперь группой толпилась кафедра английской филологии, – секретарши деловито их записывали. Во всем преподавательском составе, пояснила Бесси, учителя английского были самыми вдохновенными: каждый увлеченно занимался каким-либо частным проектом с немалыми литературными и художественными достоинствами – то мог быть научно-фантастический роман, чье действие происходило в футуристическом Коннектикуте, сборник невозможно коротких рассказов, полнотомная элегия, в которой подробно излагались взлет и падение скотоводства в Разъезде Коровий Мык. Из пяти штатных преподавателей английского в Коровьем Мыке ровно трое работали над своими первыми романами; двое были активными драматургами; четверо опубликовали в самиздате по меньшей мере по одной брошюре нерифмованной поэзии; у одного на опционе был киносценарий; и все пятеро пребывали в непрерывном и отчаянном поиске надежного литературного агента.
– А вон что за люди? – Я показал на темный столик в самом дальнем углу зала, за которым мрачное сборище полуосвещенных лиц тупо пялилось прямо перед собой. У каждого за тем столиком на руке была черная повязка.
– Почасовики, – объяснила Бесси. – Нам не разрешается звать их по именам.
Все больше и больше людей набивалось в кафетерий, и немного погодя я познакомился с недавно нанятым в школу учителем евгеники; завкафедрой предпринимательства; деканом по учебной работе; Кармелитой – сотрудником по мультикультурализму; составителем заявок на ассигнования с полным рабочим днем; главным библиотекарем и всем ее штатом; Глэдис из отдела кадров; мэром Разъезда Коровий Мык (который по совпадению был нашим преподавателем сварочного дела на полставки); и «саабо»-владелицей и перевозчицей шитцу – преподавателем истории искусства, жившей неподалеку от временной автобусной остановки. Одна за другой на меня налетали фамилии – как ночь на ветровое стекло: Джампстон и Драмрайт, Мэндерз и Пуви, Дризделл, и Ранкл, и Тот. Кротуэлл и Войлз. Килгэс и Спрэтлин, Яксли и Джоурз. Куили и Татт. Пранти и Пристэш. Кларди, и Еркс, и Хотмайр, и Сприч. Бридлав и Тилли. Барнз, и Уивер, и Редфилд, и Тали, и Круч, и Слокэм, и Лайнберри, и Тиббз, и…
В какой-то миг Бесси пихнула меня локтем и прошептала:
– Особо отметьте вот эту, сейчас входит…
Вошла неприметная женщина лет сорока пяти – в простых джинсах, простой футболке и очках в проволочной оправе, которые тоже были очень просты. С непривлекательной физиономией и общим видом внутреннего спокойствия она, казалось, нежится в самом том факте, что в ней нет совершенно ничего явно примечательного, – и оттого было еще загадочнее, что Бесси выделила эту женщину из всех прочих.
– Это Гуэндолин Дюпюи, – сказала она. – Талисман всех новеньких. Сама из Массачусетса, но здесь уже лет пятнадцать. Любит цифры. Преподает логику. Гуэн хорошо знают по всему кампусу – она смертный враг Расти. Если Расти у нас по одну сторону забора, можете быть уверены – она расположится по другую. Если Расти честно хочется добиться того или сего, Гуэн без всяких сомнений так же честно будет стоять за полную противоположность. Там, где он представляет наше коллективное прошлое, она скорее будет символом нашего разъединенного настоящего. И если он – Мэриленд при свете дня, она совершенно точно – Южная Каролина во мраке ночи… – Заинтригованный, я смотрел, как женщина входит в зал, тщательно пробирается мимо американского флага, висящего на стене: тринадцать полос и двадцать три звезды, растянутые по всей длине кафетерия, – и садится за столик дальше всего от того, где с Маршей Гринбом расположился Расти Стоукс.
Теперь уже преподаватели и сотрудники всевозможного мыслимого разбора втекали в зал, и характеристики Бесси звучали еще быстрей. Вон та советница по финансовому содействию, мрачно информировала меня она, – из центрального Нью-Хэмпшира и водит «фольксваген». А вот учитель биологии справа от нее водит «додж-династи» и родом из Вирджинии.
– Это и в самом деле чересчур, – не выдержал я. – Мне никак не запомнить все эти имена, лица и марки машин. Не говоря уже о штатах Союза. В смысле – все сразу, вот так?
– Впитывайте, что можете. У вас скоро будет время самостоятельно все освоить…
В кафетерии почти все преподаватели уже сидели со своими кафедрами, и я там и тут слышал обрывки конкурирующих разговоров. Ближе ко мне английские филологи скорбели о непостоянстве и продажности нью-йоркского книгоиздания и той неохоте, с какой литературные агенты берут писателей из Разъезда Коровий Мык. Столиком дальше Расти Стоукс председательствовал над сборищем кафедры зоотехнии – они сами занимали целый стол и живо обсуждали недавнее осеменение быков. За столиками дальше я видел кафедру медсестринского дела, преподавателей автомобилистики, советников по финансовому содействию, обслуживающий персонал и безопасность и кафедру современных языков. Гуманитарные науки расположились главным образом по одну сторону зала, точные и естественные – по другую. Искусства занимали столики ближе к переду, а вот Ремесла – к заду. Для такого маленького колледжа, казалось, хорошо представлены все академические дисциплины, хотя взаимодействия меж ними наблюдалось на удивление мало.
– И это еще не худшее, – согласилась Бесси. – Приглядитесь внимательней к столикам. Получше присмотритесь…
И я, присмотревшись получше, увидел, что в широких различиях есть подразделения, а внутри этих подразделений – подразделения подразделений. Даже за отдельными столиками замечались разницы, стратификации и бесчисленные группировки и фракции. С помощью Бесси я начал замечать, что даже у гуманитарных наук все обстояло не так гармонично, как выглядело снаружи: группками сидели преподаватели из сельской местности, а также – владельцы четырехцилиндровых импортных машин, те, чьи родители содействовали отказу от власти большинства, и те, кто, будучи настоятельно спрошены, с большей готовностью признали бы в себе духовность, а не религиозность. Доктора наук сбились в кучку, вполне отдельную от их менее маститых коллег. Республиканцы сидели слева, федералисты – справа. Европеоиды держались по преимуществу вместе, а монголоиды колледжа, где могли, заполняли лакуны – а сильно сбоку и поодаль сам по себе и занимая три пятых очень маленького стула сидел единственный штатный негроид[3]. В оживленном кафетерии все это было наполнено неким странным, хаотическим, вихрящимся смыслом – такую гармонию обнаруживаешь в пуантилистской карте выборов, если рассматривать ее издали. Однако несмотря на хаос, во всей этой сцене чувствовалось нечто успокоительное, покуда в пульсирующей толпе я не заметил примечательного отсутствия. Не хватало чего-то важного. Чего-то насущного и сущностного. Упущенье неисчислимых пропорций: где же преподаватели математики?
– А, да, наша прилежная кафедра математики, – вздохнула Бесси, когда я отметил вычитаемое. – Что-то мне подсказывает, они до сих пор в Северной Каролине…
– Почему в Северной Каролине? Это что значит?
– Дайте срок. Немного погодя сами увидите…
Наконец в зале почти не осталось места. В одном углу маленькая толпа женщин окружила нечто, вызывавшее особый интерес; оттуда то и дело неслись взвизги женского восторга.
– Что там происходит? – спросил я.
– Это наш новый аналитик данных, – пояснила Бесси. – Наш ведомственный научный сотрудник, по-моему, это сейчас называется. Он только что переехал в Коровий Мык на должность Мерны Ли. И он, очевидно, роскошен.
Наконец, когда все преподаватели и сотрудники колледжа расселись по местам, к трибуне в передней части зала пробрался доктор Фелч. Встав за микрофон, он вскинул ладонь, словно присягал на верность, и несколько мгновений так ее подержал. Медленно, очень медленно глухой рокот начал стихать. Доктор Фелч несколько раз стукнул по микрофону, и звук эхом раскатился по кафетерию.
– Эта штука работает? – произнес он. – Вы меня слышите?
– Мы вас слышим! – крикнул кто-то из задних рядов. И несколько человек рассмеялись.
Доктор Фелч поправил очки для чтения.
– Тогда ладно, – сказал он. – Давайте приступим…
* * *
– Перво-наперво, – сказал доктор Фелч, – позвольте начать с того, что я вновь приветствую вас в Коровьем Мыке. Те из вас, кто уезжал на лето, – надеюсь, вы здорово отдохнули и готовы теперь засучить рукава и вернуться к работе. Те из вас, кто оставался здесь, – надеюсь, публика, вы за лето не слишком задохнулись всей этой пылью.
По залу пробежал легкий смешок.
– Но прежде чем двинуться дальше, меня попросили сделать одно важное объявление…
Доктор Фелч сунул руку в карман и вынул клочок бумаги. Держа его на вытянутой руке, он дал очкам съехать себе на кончик носа и прочел:
– Владелец лаймово-зеленого гибридно-электрического транспортного средства с высокоиндивидуализированными номерными знаками – просьба передвинуть его с инвалидной стоянки, где оно запарковано в данный момент…
По залу пробежал ропот; где-то впереди поднялась смущенная лекторша с кафедры экономики и быстро выбралась наружу.
– Благодарю вас, – сказал доктор Фелч. После чего: – И вот еще одна победа лучших ангелов природы нашей, верно, а?
По всей публике рассыпался смех, а также позакатывались некоторые глаза – в адрес кафедры экономики в частности и изучения экономики вообще.
– Ладно, – продолжал доктор Фелч. – Теперь, коли с этим разобрались, мне бы хотелось начать сегодня это приветственное обращение с темы единства. Мои дорогие друзья и сограждане, наш новый учебный год я хочу открыть, подчеркнув важность того, что все мы делаем – что делает каждый из вас – в этом колледже. Все до единого в Коровьем Мыке жизненно важны для нашей организации, а также для обучения и успеха наших студентов. Не имеет значения, скромный ли вы президент заведения, кем выпало быть мне. Или штатный преподаватель кафедры, обучающий наших студентов, как им логичнее вести себя, чем занимается на своих лекциях Гуэн Дюпюи. Или же вы вносите свой вклад в мироздание, осеменяя коров извлеченной бычьей спермой, – большое спасибо, Расти Стоукс! Какова бы ни была ваша роль – от декана по обслуживанию студентов до нашего фантастического персонала в отделе финансового содействия… до тех трудолюбивых людей, что стригут нам газоны, чтобы все до единой травинки были ровно той же длины, что и их соседки, – каждый из вас важен для нашей миссии, и вам следует гордиться вкладом, какой вы вносите здесь в общинный колледж Коровий Мык. Знайте, пожалуйста, что ваша работа ценится, и она невероятно влияет на обучение и успеваемость наших студентов. – Здесь доктор Фелч пошелестел страницами своего конспекта. – И как теперь должно быть известно каждому из вас, работу нашего учебного заведения направляет наша миссия. Поднимите-ка руки… сколько из вас выучили наизусть декларацию миссии нашего колледжа?
Доктор Фелч подождал, когда поднимутся руки, но их оказалось немного. Среди поднятых рук не только самой высокой, но и самой крупной вообще была рука Расти Стоукса; он гордо подтверждал свое абсолютное знание и владение декларацией ведомственной миссии Коровьего Мыка.
– Ну что, молодцы! – сказал доктор Фелч. – А теперь остальным нам я хочу предложить упражнение, чтобы напомнить, зачем все мы здесь. Я зачту вам декларацию миссии и хочу, чтобы вы повторяли ее вслед за мной. Встаньте, пожалуйста…
По полу кафетерия заскрежетали стулья – все поднялись из-за своих столиков. В возникшей суматохе раздавались иронические реплики в сторону, мягкие смешки и треск суставов, а когда все это в достаточной мере улеглось, чтобы можно было расслышать доктора Фелча, тот принялся зачитывать декларацию миссии колледжа. Торжественным голосом он размеренно и веско произносил каждое слово. И когда заканчивал, толпа за ним послушно повторяла:
– Миссия общинного колледжа Коровий Мык такова…
(Миссия общинного колледжа Коровий Мык такова!)
– …предоставлять воспитание и проверенное временем образование…
(Предоставлять воспитание и проверенное временем образование!)
– …основанное на американских ценностях и процветании…
(Основанное на американских ценностях и процветании!)
– …американского образа жизни…
(Американского образа жизни!)
– …чтобы наши студенты могли стать…
(Чтобы наши студенты могли стать!)
– …сознательными, богобоязненными, платящими налоги гражданами…
(Сознательными, богобоязненными, платящими налоги гражданами!)
– …Соединенных Штатов Америки.
(Соединенных Штатов Америки!)
– Спасибо. Можете садиться.
Все снова уселись за свои столики, стулья заскрежетали и заскользили обратно.
– Теперь как преподаватели и сотрудники задумайтесь, пожалуйста, над этой декларацией миссии в свете всего, что вы делаете. Это не абстрактное заявление о намерениях без всякого практического значения – это живой, дышащий, потеющий документ. Да, временами у него может быть халитоз. Но это потому, что он жив. Поэтому в своей работе спросите себя: как миссия общинного колледжа Коровий Мык применима к тому, что я делаю? У себя на занятиях по ботанике – все ли я делаю для того, чтобы студенты мои платили налоги? Обучая своих студентов-кулинаров печь французские круассаны, как добиваюсь я, чтобы они пекли французские круассаны по-американски? Математики – здесь есть математики? Пока нет? – математики… натаскивая своих отстающих студентов по преобразованию простой дроби в десятичную, всегда задавайтесь вопросом: как это поспособствует тому, чтобы они стали богобоязненными гражданами Соединенных Штатов Америки?
В зале раздался плеск аплодисментов; за их исключением мало какой отзыв нарушил уважительную тишину. Бесси ткнула меня в руку:
– Он теряет управление судном, – прошептала она. – Человек он великий, и я очень его люблю. Но судно он потерял…
Не смущаясь, доктор Фелч продолжал:
– Как вам известно, мы уже некоторое время ступаем по очень тонкому льду в том, что касается наших аккредиторов. А поэтому в наступающем году в процессе аккредитации мы станем удваивать наши усилия, чтобы продемонстрировать, насколько мы поистине преданы успеваемости наших студентов. Для этого потребуется пересмотреть декларацию нашей миссии и при необходимости отредактировать ее – и каждый из вас будет в этом участвовать. Поэтому я прошу вас серьезно подумать о том, что вам нравится в нашей нынешней декларации миссии, а что вам не близко и вы бы хотели это изменить. Как нам ее улучшить? Сделать эффективней? Сделать эффектней? Что позволит нашей декларации больше отражать то, что мы есть как преподавательский состав и персонал общинного колледжа Коровий Мык, и образование, какое мы хотим дать нашим студентам…
Доктор Фелч оторвался от своих заметок.
– Есть вопросы по этому поводу?
Со стула поднялся Расти Стоукс и встал, засунув мясистые большие пальцы под свои подтяжки. Доктор Фелч посмотрел на него.
– Да, Расти?
– У меня вопрос есть.
– Да, Расти?
– Зачем?
– Что зачем, Расти?
– Зачем нам менять декларацию миссии? Мы много времени потратили на текущую, и мне кажется, она и так совершенна.
– Это очень ценное замечание, Расти. И я рад, что ты с ним выступил. Никто не утверждает, что мы должны менять нашу декларацию миссии. Однако нам нужно пересмотреть ее и модернизировать, чтобы она отражала нынешние реалии. Сделать ее еще более совершенной, если угодно. В последний раз мы пересматривали декларацию миссии одиннадцать долгих лет назад. И ты знаешь, сколько с тех пор изменилось? Сравнительно с тем, каким был наш колледж одиннадцать лет назад?
– Конечно, знаю. Я тут дольше работаю.
– Верно. А потому ты помнишь, что одиннадцать лет назад у нас было всего шесть штатных преподавателей, и все они – из Разъезда Коровий Мык. У нас не было ни концертного зала, ни обсерватории, ни природного терренкура. Не было пеликанов. Среди всех наших преподавателей мы в кампусе не могли выделить ни единого негроида – и это казалось нам совершенно естественным. Не существовало такой должности, как аналитик данных, – а уж ведомственного научного сотрудника не было и в помине, потому что Мерна по-прежнему учила первокурсников математике. (Да, в те поры мы их звали первокурсниками!) Зачисление студентов составляло четверть того, что у нас сейчас, и – поверите ли? – они были преимущественно мужского пола! За воротами колледжа процветало ранчо, а железная дорога по-прежнему действовала, и сила пара еще казалась волною будущего. Но теперь мы живем в другом мире, Расти, и Коровьему Мыку нужно меняться с ним вместе. Нам необходимо в этих переменах участвовать. Включая лично тебя…
– Так ты, значит, ратуешь за перемены лишь ради перемен? В смысле – ты сам-то в это веришь, Билл? Сам веришь в то, что нам сейчас говоришь?
– Это к делу не относится. Как президент я выступаю от лица всего заведения. И я не ратую за перемены только ради перемен… Я ратую за перемены, чтобы мы не потеряли своей аккредитации, и нас, в жопу, не закрыли.
– Понятно. Так ты, стало быть, утверждаешь…
Но тут доктор Фелч подался ближе к микрофону:
– Давайте дальше, пожалуйста…
Наблюдая, как седой бывший ветеринар неуклюже пытается сомкнуть свои войска и двинуть их на аккредитацию, – наблюдая, как возится он с написанным от руки конспектом, разыскивая следующий пункт в повестке дня, – я еще глубже ощутил, насколько серьезна для него будет моя роль координатора особых проектов. За его двадцать лет у кормила Коровий Мык, очевидно, изменился до неузнаваемости, и в том была его заслуга. Но также становилось ясно – прискорбно ясно, – что мир вокруг менялся еще быстрее и написанным от руки оставаться ему уже недолго.
Когда Расти неохотно уселся обратно, доктор Фелч поблагодарил его за это замечание, после чего продолжил:
– А теперь нам бы хотелось представить вам наших новых преподавателей и сотрудников, которые к этому семестру съехались к нам со всех концов света. Когда я вызову вас по имени, встаньте, пожалуйста, чтобы вас могли поприветствовать…
Доктор Фелч перевернул страницу заметок и принялся зачитывать.
– Наш первый сотрудник – Нэн Столлингз. Нэн, встаньте, будьте добры?..
На другом краю зала поднялась женщина.
– Нэн приехала к нам из чудесного штата Род-Айленд, где была частным адвокатом, юридическим исследователем, лауреатом премий и советником таких известных юридических команд, как у истца в деле «Уэст против Барнса»[4], а в последнее время – у адвокатов в деле «Браун против Совета по вопросам образования»[5]. Кроме того, у нее обширный опыт по представлению в суде жертв этнического геноцида, а также она успешно урегулировала выплаты фармацевтических компаний, безнравственно выбрасывавших на рынок недоброкачественную продукцию. Она поступает к нам с восторженными характеристиками младшего сенатора, представителя федеральных ведомств и верховного судьи в отставке. Она будет преподавать политологию, и мы очень рады, что она с нами. Добро пожаловать, Нэн.
Последовали аплодисменты, а Нэн улыбнулась и опять села на свое место.
– Наш следующий сотрудник – Льюк Куиттлз, Льюк, где вы?..
Тот встал и помахал.
– Льюк будет работать у нас на кафедре кулинарии. Он к нам приехал из Парижа, Франция, где был шеф-поваром в своеобразном трехзвездочном ресторане на рю де Пасси. Льюк – кулинар – лауреат премий, он специализируется по техасско-мексиканской кухне и подавал свои уникальные кушанья нескольким бывшим и нынешним главам государств, включая султана Брунея и герцогиню Йоркскую. Жить он будет в корпусе для преподавателей, пока не подберет себе собственное жилье, поэтому если кто-то из вас случайно знает квартиру невдалеке от кампуса по разумной цене, пожалуйста, дайте ему знать. Спасибо, Льюк!
И вновь все зааплодировали, а Льюк уселся.
– Дальше у нас Рауль Торрес. Рауль?
Рауль встал и элегантно помахал средь женских взвизгов из публики.
– Рауль будет нашим новым аналитиком данных. Или, следует говорить, – ведомственным научным работником. Конечно, ему предстоит носить обувь не по ноге, поскольку наша любимая Мерна занимала эту должность больше десяти лет, прежде чем внезапно оставила нас в прошлом семестре, и нам будет ее недоставать. Но прошу вас – давайте же поприветствуем его на этой новой должности с распростертыми объятиями. Рауль к нам приехал из… Калифорнии! – На этом месте доктор Фелч сделал шаг назад от кафедры, чтобы лично поаплодировать такому радостному факту; затем снова подошел. – Немного о Рауле… Магистерскую степень свою он защитил по статистическим методам, а докторскую – по межкультурной статистике. Он статистик – лауреат премий и был выдвинут на несколько гуманитарных наград за вклад в мир во всем мире и культурную гармонию через распространение рекурсивных алгоритмов. Рауль также хотел бы сообщить вам, дамы, что играет на гитаре фламенко, поет баллады с гортанными модуляциями и любит долгие романтические прогулки вдоль вневременных каналов Венеции, пляжей Рио-де-Жанейро и пышных берегов нашей реки Коровий Мык. Родом он из Барселоны, но уверяет, что разъезд Коровий Мык столь же прекрасен – если не прекраснее, – как и его родной город, а потому он очень счастлив быть здесь. Давайте все поприветствуем Рауля у нас в колледже!..
Последовали громкие аплодисменты, а несколько женщин даже поднялись со стульев, устроив стоячую овацию.
Тут доктор Фелч посерьезнел.
– Знаете – и этого нет у меня в конспекте, публика, но я чувствую, что должен это затронуть. Мы часто говорим о Мерне. Я говорю о Мерне. Вы говорите о Мерне. Все говорят о Мерне. Мы все говорим о Мерне, потому что, ну, она здесь проработала тридцать пять лет и мы все ее любили. И вы, конечно, помните, вероятно, что́ с нею произошло в прошлом году. Или если вдруг вы в колледже новичок, быть может, вы слыхали о том, что с нею произошло. О ней говорилось многое, и кое-что из всего этого, конечно, правда. Но кое-что другое – неправда совсем. Вот это я и хочу сказать. А именно, видите ли, вот что: что бы вы о ней ни помнили или слыхали – забудьте все это. Пусть его. Она была поразительной дамой и невероятным человеком, внесшим в свое время громадный вклад в Коровий Мык. Поэтому когда бы мы о ней ни думали, давайте, пожалуйста, думать о ней из-за тех замечательных лет, что она здесь провела, а не из-за того, что вы могли слыхать или помнить, не из-за того, что могло или не могло говориться или происходить. Договорились?
Доктор Фелч умолк, собираясь с мыслями.
Видя это, я наклонился к Бесси.
– В чем тут все дело? – прошептал я. – Что произошло с Мерной?
Но Бесси лишь отмахнулась от моего вопроса.
– Потом расскажу… – ответила она.
Взяв себя в руки, доктор Фелч продолжал:
– На чем я остановился? Ах да, Стэн и Этел Ньютауны. Стэн и Этел здесь?
Встали муж с женой. Они очаровательно держались за руки и махали своим новым коллегам.
– Как вы, вероятно, догадались, Стэн и Этел женаты и могут, следовательно, по праву считаться второй формально признанной парой нашего колледжа. Этел преподает журналистику и приехала к нам со Среднего Запада, где была репортером-расследователем и лауреатом премий. Ее очерки выдвигались на множество наград, а ее недавняя серия материалов, разоблачающая американскую экономическую систему как самую потрясающую пирамиду в мировой истории – и дискуссионно предсказывающая неизбежный крах (системы, разумеется, не мира) – завоевала ей множество призов… как и множество врагов. Нам очень хотелось привезти ее в Коровий Мык, и мы счастливы, что она влилась в наши ряды. Рядом с нею меж тем стоит ее супруг Стэн, который столь же внушителен, хоть и несколько ниже ростом. Он археолог – лауреат премий, открывший останки нескольких погибших цивилизаций, а его работа в Восточной Африке привела к радикальному пересмотру прежде существовавших представлений об эволюции. Стэн пылкий игрок в теннис и теоретик-конспиролог, а также полагает, будто под городком Разъезд Коровий Мык ждет своего открытия затерянный мир очень маленьких людей. Нужно ли говорить, что Стэн у нас будет преподавать археологию…
Доктор Фелч подождал, когда Ньютауны усядутся – под гром аплодисментов всего зала. Затем сказал:
– …Ладно, кто у нас дальше? Ах да, и вот наконец наш последний сотрудник на этот учебный год. Он к нам прибыл из не разглашаемой местности за полстраны отсюда. Всего два дня назад сошел с автобуса. Чарли? Чарли, мальчик мой, где вы?
Услышав свое имя, я встал.
Доктор Фелч посмотрел на меня и улыбнулся:
– Чарли у нас будет новым координатором особых проектов. Он поведет неимоверно важный процесс аккредитации в подготовке к визиту комиссии следующей весной – нынче, я уверен, кажется, будто до него много световых лет, но он состоится, не успеете и глазом моргнуть. Чарли прибыл без успешной истории наймов. Он не добился ни наград, ни титулов, а личная жизнь у него тоже несколько не организованна, поскольку он в свои сравнительно юные лета уже дважды разведен…
По залу пронесся озабоченный ропот.
– …Эй, Чарли, как вам холостяцкая жизнь?..
Я без энтузиазма показал два больших пальца.
– …Наслаждайтесь ею, покуда можете, друг мой! В общем, у Чарли две бывших жены и хвост несложившихся работ и прочих полуначал и почти-промахов по всей стране. Видите ли, Чарли всегда был много чем разным, однако ничем целиком…
Тут я почувствовал, что озабоченный ропот вокруг меня становится громче.
– …Однако мы здесь возлагаем на него большие надежды. Вообще-то некоторые из вас могут припомнить по собеседованию с Чарли, что его семья раньше проживала в Разъезде Коровий Мык. Его дед спас от неминуемой смерти суфражистку, выхватив ее из реки Коровий Мык. И ему нравится говяжье рагу, в котором очень много овощей! Чарли станет третьим человеком, занимающим эту должность менее чем за два последних года, но мы твердо верим, что он справится с брошенной ему серьезной перчаткой и превратится в ценного долгосрочного сотрудника нашего колледжа. Добро пожаловать в Коровий Мык, Чарли. А самое главное – с возвращением!..
Я снова помахал и сел. Вместо аплодисментов раздавался лишь смятенный рокот полуголосов, шепотков и пальцев, направленных в общем направлении меня.
– Значит… – прошептала мне во всем этом ропоте Бесси, – …похоже, вы почти так же разведены, как и я… – И в ее голосе мне почудились легчайшие начала таянья айсберга.
Доктор Фелч снова сверился с конспектом, после чего продолжал:
– Ладно, короче, таковы наши новые преподаватели и сотрудники в новом учебном году. Давайте еще раз поаплодируем им всем!..
Все прилежно захлопали, и я был признателен, что мое представление преподавателям и сотрудникам общинного колледжа Коровий Мык осталось позади.
* * *
После представления доктор Фелч перешел к следующему вопросу своей повестки, который оказался поправками и напоминаниями на грядущий семестр.
– Но прежде, чем мы перейдем к новым инициативам в кампусе, мне хотелось бы напомнить всем о некоторых долгосрочных политиках и процедурах, которые должны быть уже знакомой вам информацией… – Доктор Фелч умолк, чтобы вдохнуть побольше воздуха, после чего сказал: – …Не забывайте, пожалуйста, выключать свет, когда выходите из комнаты на любой период времени, и смывать за собой после пользования туалетом. Не паркуйтесь на местах для инвалидов, если вы в действительности не инвалид. Для важных документов пользуйтесь черными чернилами. Не бросайте монеты в фонтаны. Не катайтесь на роликовых коньках по тротуарам. Старайтесь не ходить по траве – от этого отдельные травинки выглядят неровными. Не кормите пеликанов. Если вам хочется сорвать какой-либо колоритный цветок в кампусе, подавайте, пожалуйста, заверенное нотариусом заявление заведующему вашей кафедрой не позднее первого числа месяца. Не забывайте, что в любой устной и письменной коммуникации от вас теперь требуется употреблять выражения в нейтральном роде, а не те, что достались вам от наших предков. Точки с запятой должны применяться благоразумно; страдательного залога следует избегать по возможности вовсе. Никогда не назначайте студенту встречу у себя в кабинете при закрытых дверях, особенно если она склонна к сутяжничеству. Никогда не прикасайтесь к сослуживцу так, что она заерзает от неудобства, – но, если это совершенно необходимо, просьба сперва убедиться, что у вас на руках имеется ее подписанное согласие. Предоставляя студенту свой отклик на что-либо, будьте конструктивны, позитивны и пишите аккуратно. Всегда будьте вежливы с Тимми, который работает в будке охраны, – в конце концов, он не виноват, что вы вышли из дому позже, хотя у вас ровно через три минуты важный экзамен. Поддерживайте коллег. Уважайте свою ровню. Всегда чтите многообразие студентов. (Это требование удваивается для тех, кому выпало родиться негроидами.) Старайтесь выказывать сопереживание к людям, которые, быть может, водят марку машины или грузовика, отличную от вашей. По воскресеньям ходите в церковь. Давайте на чай официантке. Верьте в Америку и святость ее институтов – брака в особенности. Истово платите налоги. Любите жену свою – что достаточно трудно, – однако также, и это главное, публика: любите своих бывших жен. Заполняя опросники о мероприятиях в кампусе, не забывайте заполнять бланк с обеих сторон. И самое важное… что бы вы ни делали здесь в колледже, всегда стройте свои решения на жестких, холодных, объективных данных и не пренебрегайте документировать все свои действия, применяя статистику или другие поддающиеся проверке свидетельства. Помните: когда дело дойдет до наших аккредиторов, любое решение, принятое без учета численного обоснования, будет считаться скверным решением… а то, что не располагает правомерным и измеряемым подтверждением своего существования, каким бы прекрасным при наблюдении или тяжелым при поднятии ни было оно, – на самом деле вообще не есть что-то…
Доктор Фелч умолк и потряс головой.
– А, и вот еще что… удивительно, что я по-прежнему вынужден вам об этом напоминать… Из уважения и любезности к своим сослуживцам по общинному колледжу Коровий Мык, пожалуйста, не оставляйте никаких вздутых мошонок в почтовых ящиках преподавателей, чтобы за выходные они превратились в жуткую пакость…
Тут я воззрился в воцарившуюся тишину. Доктор Фелч листал свои записи, и это дало мне время поразмыслить над моими собственными личными целями, мерилами и стремленьями, что поведут меня в грядущий семестр и будут направлять меня весь первый год в колледже: Отыскивать влагу во всем. Любить нелюбимое. Переживать как день, так и ночь. И, разумеется: Стать чем-то целиком.
– Вопросы по вышесказанному есть? – спросил доктор Фелч.
– У меня один… – Женский голос донесся с одной стороны зала. Гуэндолин Дюпюи встала и простерла длинный палец в сторону доктора Фелча. Вид у нее был недовольный. – Вы упомянули две вещи, которые мне видятся вполне лишенными смысла…
– Так, Гуэн? И что же это может быть?
– Конечно, я согласна со вздутыми мошонками – это попросту должно прекратиться. Но где-то по ходу вы утверждали, что если нам захочется рвать цветы, то нам потребуется нотариально заверенное прошение, подаваемое в начале месяца. Затем позднее вы обмолвились, что если преподаватель пожелает, чтобы его сотрудница ерзала, он предварительно должен обзавестись ее письменным разрешением…
– Он или она…
– Точно. Он или она должны получить разрешение на то, чтобы сослуживец ерзал. Так вам не кажется, что запрос на такое требование также должен быть нотариально заверен? Я имею в виду – где же тут логика? Или вы имеете в виду, что сбор цветов достоин высшего стандарта согласия, нежели непрошеное трогание наших сотрудниц?
– Нет, я пытался сказать вовсе не это, Гуэн. Это вовсе не то, что я говорил. Но чем вдаваться сейчас в эти подробности, давайте просто скажем, что на заседании Совета колледжа мы это подробно обсуждали. А также в новом учебном году мы вскоре организуем серию семинаров повышения квалификации, в которую будет включена по крайней мере одна, посвященная исключительно должному и этичному тисканью сослуживцев. Я призываю всех вас ее посетить…
Гуэн села.
– Переходим к следующему пункту повестки дня… Некоторые новые инициативы в кампусе…
Пока доктор Фелч перечислял множество перемен в кампусе, я оглядывал кафетерий и убеждался, что большинство преподавателей и сотрудников прилежно и исправно слушают его. Как учащиеся на первом занятии по развивающей математике. Или стадо безучастного скота, ожидающее, чтобы с грузовика им сбросили утреннее сено.
– Как вам известно, – говорил теперь доктор Фелч, – начиная с этого семестра общинный колледж Коровий Мык становится некурящим кампусом. Мы решили пуститься с этим во все тяжкие, а это означает, что абсолютно нигде на территории кампуса общинного колледжа Коровий Мык не будет никакого курения…
При этом половина зала разразилась дикими криками восторга и аплодисментами, а другая громко зашикала и засвистела. Доктор Фелч дождался, когда стихнет гвалт, затем продолжил:
– …Как я упомянул несколько минут назад, мы с удовольствием представляем вам нашу серию семинаров повышения квалификации на этот учебный год. Первая еженедельная сессия будет посвящена измерению непосредственных результатов непрерывного обучения, происходящего у нас в классе. Следующая станет введением для начинающих в разработку вдохновляющих и побуждающих акронимов для обозначения различных академических явлений вокруг. Прочие возможности профессионального развития будут включать в себя: «Контент и контекст: применение разговорного языка для эффективной коммуникации в классе»; и «Любит – не любит: как уместно и как не уместно взаимодействовать на рабочем месте»; а затем: «Твердо наложим руку на двоеточие: разработка выразительных заголовков и подзаголовков к семинарам повышения квалификации»… Наконец, я хочу напомнить всем нашим новым преподавателям, что на завтра для вас запланирован особый день приветственных мероприятий. Мы будем проводить сплочение коллектива вместе с некоторыми обязательными упражнениями по сплочению. И у нас фантастическая повестка этого дня, в которую включена долгая автобусная поездка и очень особый сюрприз, с любовью подготовленный нашей трудолюбивой комиссией по ориентации нового преподавательского состава, возглавляемой профессором Смиткоутом. Направляющая тема в этом году – «Любить культуру Коровьего Мыка». Поэтому на завтра приготовьте закрытую обувь…
– Закрытую обувь? – повернулся к Бесси я.
– Да, – ответила она. – И открытый ум.
– Но зачем автобус? Мы куда-то поедем?
– Можно и так выразиться…
После приветственного обращения доктора Фелча к трибуне выходило еще несколько представителей кампуса и давали собственные поправки к тому, что будет в нем происходить. Завкафедрой сельского хозяйства поставил кампус в известность о своей инициативе разводить карпов во всех трех фонтанах колледжа; заведующая бухгалтерией – бывшая жена доктора Фелча – сообщила новости о пожертвованиях Димуиддлов в связи с удачной эскалацией нескольких этнических конфликтов в разных точках планеты; руководитель отдела информационных технологий выступил касаемо попыток осуществить неоднозначный технический план по введению в рабочие процессы общинного колледжа Коровий Мык электрических пишущих машинок и калькуляторов; и наконец, Кармелита, сотрудник по мультикультурализму, отчиталась о текущих успехах кампуса в обеспечении равенства в кампусе, о чем свидетельствуют наличие в Коровьем Мыке шести преподавателей монголоидных убеждений, профессора астрономии из Бангладеш и недавний наем негроида.
Примерно в половине двенадцатого к трибуне снова вышел доктор Фелч, чтобы произнести заключительное слово и закрыть на этом общее собрание.
– Прежде чем все вы разойдетесь и начнете свои семестры, – сказал он, – хочу вам напомнить об одном очень важном событии. Возьмите, пожалуйста, блокноты и отметьте у себя в календарях одиннадцатое декабря…
Все вопросительно переглянулись.
– Как вам известно, – сказал он, – это последний день семестра. Выпадает на пятницу. А важным событием в вашей жизни этот день станет потому, что мы проведем тогда нашу ежегодную рождественскую вечеринку.
По залу пронеслись шепотки.
– Все правильно, публика, Рождество случается ежегодно. И поэтому одиннадцатого декабря этого достославного года Господа нашего – anno domini, как выражаются историки, – мы определенно будем проводить рождественскую вечеринку. Просьба отметить, что дата эта попадает в ваше соответственное рабочее время, поэтому все вы настоятельно приглашаетесь. Вернее сказать, приглашаетесь неистово.
Гомон стал еще громче.
Доктор Фелч окинул взором зал, не спеша глядя в глаза всем в толпе.
– Кроме того, объявляю, что начиная с сегодняшнего дня рождественская комиссия официально распускается. Я принял это исполнительное решение на основании того, что представительская демократия в данном случае нам явно не на пользу. С данного момента и далее весь процесс планирования будет осуществляться небольшой группой доверенных лиц, включая меня и нашего нового координатора особых проектов, имеющих в виду долгосрочные интересы колледжа… – Доктор Фелч опять оглядел толпу, нахмурившись едва ли не угрожающе, и, выталкивая слова сквозь стиснутые зубы, сказал просто: – Вопросы есть?
Гуэн Дюпюи, казалось, хотела поднять руку, но, ощутив решимость в голосе доктора Фелча, передумала.
– Нет вопросов? – объявил доктор Фелч после напряженной паузы, предоставлявшей все возможности выступить. – Вероятно, это и к лучшему. Но если какой и возникнет, адресуйте его, пожалуйста, лично мне. Или Чарли как координатору особых проектов. В остальном я рассчитываю видеть вас всех одиннадцатого декабря на нашей ежегодной рождественской вечеринке. Отличного вам всем семестра и, пожалуйста, не забудьте сдать свои оценочные опросники сегодняшнего мероприятия секретаршам на выходе…
На том общее собрание и завершилось.
* * *
Вот только не совсем. Едва доктор Фелч произнес последние слова и выключил на сегодняшний день микрофон, двери кафетерия распахнулись и в зал ввалилась улюлюкающая масса дико разодетых клоунов, русалок и зомби в цепях и оковах. Всего их было шестеро, и они все вопили, орали и буйно хохотали.
– Мы опоздали?! – завизжал один и яростно завертел педали детского трехколесного велосипеда по всему кафетерию.
Другая запрыгнула на длинный стол и пошла по нему колесом от одного конца, за которым сидели специалисты по маркетингу и работе с клиентами, до другого, где ее ждал советник по студенческим задолженностям; преподаватели и сотрудники по обе стороны отскочили от стола, чтобы их не задело ее размахивающими ногами. Меж тем мужчина в костюме русалки и женщина, наряженная в зомби, соответственно шлепали и ползали по всему залу. Еще двое – молодая пара без рубашек, мужчина с голой грудью, женщина в шелковом бюстгальтере – стояли, засунув руки друг другу в задние карманы и сомкнувшись в страстном поцелуе, столь всеобъемлющем – столь статистически невероятном, – что, казалось, он бросает перчатку самой вероятности.
На это Бесси, обычно быстро объяснявшая мне причуды колледжа, просто закатила глаза и предоставила кратчайшее из объяснений:
– Наша кафедра математики, – сказала она. – Только что вернулась со своей конференции в Северной Каролине.
Доктор Фелч, понаблюдав за развитием этой сцены несколько минут, пожал плечами и снова включил микрофон. По залу разнесся громкий «бум».
– И сердечное добро пожаловать от Коровьего Мыка и вам, кафедра математики! – сказал он, после чего: – Я рад, что вам так нравится ваша работа у нас в штате!..
На это публика засмеялась, и доктор Фелч выключил микрофон окончательно. Толпа теперь поняла, что общее собрание полностью завершилось. Они с благодарностью оторвались от стульев и стали расходиться по своим кабинетам готовиться к грядущему семестру – и каждый на выходе оставлял секретаршам свой прочувствованный оценочный опросник мероприятия.
– За мной, – произнесла Бесси, когда толпа вывалила из кафетерия и мы сдали свои опросники. – Нам нужно вернуться в административный корпус, чтобы я показала вам, где ваш кабинет. Он как раз напротив ведомственного научного работника. Что здраво, поскольку вам предстоит серьезное планирование.
Я посмотрел на Бесси и улыбнулся. Отчего-то после всего услышанного и увиденного она, показалось, яснее всего придает мне уверенности, что я принял верное решение, проехав через полстраны и заняв должность координатора особых проектов в общинном колледже Коровий Мык. А пока она говорила, я не мог не обратить внимание на то, как она подводит себе глаза, чтобы разгладить морщинки времени и неудавшейся семейной жизни. Во флуоресцентном свете кафетерия трудно было вообразить, что кто-нибудь, подобный ей, вообще может остаться нелюбимым.
– Пойдемте, Бесси, – сказал я и открыл перед нею дверь. – После вас!..
Любовь и общинный колледж
Если противоположность учению – знание,
А противоположность любви – действенность,
Что есть тогда противоположность общинному колледжу?
Уилл Смиткоут– И вот он, – сказала Бесси, когда мы дошли до административного корпуса и она вручила мне ключ от моего кабинета. – Пользуйтесь на здоровье. – Я повернул ключ и открыл дверь, рассчитывая увидеть опрятное уютное рабочее пространство, но ввалился вместо этого в катакомбы загроможденной внутренней святой святых моей предшественницы. Перед отбытием эта женщина не навела порядок в кабинете, и пожитки ее, все скопом, по-прежнему оставались здесь ровно в том же состоянии, в каком она их побросала, словно ее вынудило отсюда бежать неотвратимое стихийное бедствие – быть может, эпический потоп или тайфун встречных обвинений. По комнате были раскиданы старые туфли. Под ногами у меня хрустели бумаги. На шурупе, вбитом в гипсокартонную стену, висели очки для плавания. На столе, на картонной тарелке покоились два ломтика окаменевшего цуккини. К стенам липкой лентой крепились личные фотографии – наконец-то я сумел сопоставить черно-белое лицо на них с красочными историями, что я уже услышал, – а с потолка зловеще свисал огромный, написанный от руки плакат со словами, очевидно вдохновлявшими мою предшественницу на выполнение служебных обязанностей:
ЛЮБОВЬ – ЧТО РЕКА
НИКОГДА НЕ РАВНА
В ДВУХ МЕСТАХ
– Похоже, она решила вам оставить небольшое наследие, – сказала Бесси.
– Наследие – хорошее слово тут! – рассмеялся я. – Можно мне раздобыть совок и мешки для мусора?
– Мы вызовем уборщиков, они и приведут все в порядок.
– Не надо, все нормально. Много времени это не займет…
В комнате было полно безделушек и сувениров, оставшихся от пребывания этой женщины в колледже, и я, рассматривая такую мешанину, удивлялся, сколько бумаги и пыли, сколько личных памяток можно накопить меньше чем за год. Значки и булавки для волос. Пузырек антиблошиного средства. Визитные карточки торговцев недвижимостью. Никель с бизоном[6]. Полупустой коробок противозачаточных пилюль, которому также случилось быть полуполным. Солонка неосуществленной соли. Магниты на холодильник от далекого торговца «фольксвагенами». Статуэтка коровы и ламинированная книжная закладка с отпечатанной на ней декларацией миссии Коровьего Мыка – той же клятвой, что мы скандировали на общем собрании нынче утром.
– Мне кажется, надо позвать этого археолога. Как его… Ньютона?
– Ньютауна, – поправила меня Бесси.
– Точно. Может, если Стэн Ньютаун проведет раскопки, здесь и отыщется тот мифический маленький народец, в который он верит.
Бесси принесла мне кое-что для уборки и мусорные мешки, после чего вернулась к собственной работе, а я остался барахтаться в беспорядке кабинета. Среди оставленных здесь личных предметов у многих имелась явная причина для существования в этом мире, а следовательно, их можно было выбрасывать без зазрения совести: грязный коврик для йоги и набор гантелей, зодиакальная схема, полноцветный календарь с собачками на прошедший год. Но были и такие, что не обладали никакой собственной личностью: ожерелье с маленьким энергокристаллом, три карты таро, сколотые друг с другом так, чтобы образовался равнобедренный треугольник, «пацифик» из нержавеющей стали и приблизительной окружностью очень крупной пули. На столе располагался комплект маятников – пять шаров из нержавейки в совершеннейшем покое, и я не удержался и привел их в действие; приподняв в сторону один на дальнем конце комплекта, я отпустил его: четыре шара столкнулись, громко клацнув, и тот, что был на ближнем конце, качнулся в воздух. Теперь все повторилось в обратном порядке: туда и сюда, вверх и вниз, один шар поднимался и опускался, а прочие сбивались вместе, ожидая следующего толчка. Со временем именно этот ритмичный звук – клацанье нержавеющей стали по нержавеющей стали – и станет закадровой музыкой всей моей жизни здесь, в Коровьем Мыке. К черту трение – звук этот, казалось, желал длиться столько, сколько будет существовать сама история.
Когда стол наконец очистился, я перешел к книжным полкам, по-прежнему набитым литературой, – их следовало оголить. Среди этих отбросов нашелся старый атлас с позолоченной крышкой переплета; фотоальбом, озаглавленный «Прелестные котики мира»; экземпляр Бхагават-гиты в мягкой обложке, в переводе на эсперанто; календарь «Цитата дня», до сих пор застрявший на 21 июня («Любовь – странствие, а не пункт назначения»); и серия книжек по самопомощи с названиями вроде «Как написать неотразимое резюме», «Сила тантрического ума» и «Справочник для кого угодно: как плавать и не тонуть». Полки заполняли тома вдохновляющей литературы и духовных сборников. Повсюду – женские любовные романы. На средней полке имелся ряд справочных трудов, включая рифмовник, двадцатитомную энциклопедию без тома на букву «К» и словарь католических святых. На самой нижней полке – с еще ясно просматриваемым ценником – стояла единственная книга литературно-художественного вымысла: лоснящиеся двести страниц современных озарений, изложенных действенной прозой, – а рядом покоился шестисотстраничный том в твердом переплете, озаглавленный «Справочник для кого угодно: как написать совершенный роман». Учебник письма был весь затаскан от обширных маргиналий и подчеркнутых пассажей. (На странице 61 моя предшественница нарисовала три восклицательных знака напротив подчеркнутой апофегмы, гласившей: «Письмо есть стремленье к личному освобождению – предельному акту безответной любви».)
Судя по литературным вкусам моей предшественницы – или, по крайней мере, по тем книгам, что после нее остались, – ясно было, насколько мало, помимо самого этого кабинета, у нас с нею могло бы случайно оказаться общего. Вообще-то из сотен книг, засорявших кабинет, только одна глубоко меня поразила; заинтригованный заголовком, я отложил в сторону «Справочник для кого угодно: любовь и общинный колледж». Книга была глянцевой и привлекательно переплетенной, а на передней стороне обложки изображались два приглашенных профессора при всех регалиях, сомкнувшиеся в романтических объятьях: «Обязательное чтение, – изливался один рекламный текст, – для всех, кто пытается отыскать подлинную любовь в регионально аккредитованном общинном колледже!» После двух разводов беспокойной чередой – первый целиком моя вина, второй лишь в первую очередь моя – и с новой должностью в Коровьем Мыке теперь, можно сказать, железно моей этот справочник предлагал мне какой-то проблеск надежды. Я проглочу его прежде всех остальных. И научусь у него. И впитаю его. И когда отыщу обещанную им любовь, я положу его в картонную коробку и подарю библиотеке, чтобы мои собратья, мои недолюбленные коллеги могли сделать то же самое. Я нежно отложил книгу в сторону.
Уборка мне удавалась, и уже совсем скоро три мусорных мешка полнились выброшенными предметами. Дверь кабинета я оставил открытой для вентиляции и так увлекся протиркой пыльного стола, что не заметил, как в проеме остановилась непримечательная фигура. Легкий стук в дверь вынудил меня оторваться от беспорядка, и я, подняв голову, увидел, что в дверях стоит Гуэн Дюпюи.
– Здрасьте, – сказала она. – Вы же Чарли, так?
– Верно.
– Я Гуэн. Преподаю логику. И ни за что б не променяла свою жизнь ни на сколько романтики или приключений.
Гуэн протянула мне руку, и я крепко ее пожал, нечаянно сильно притиснув ее пальцы друг к другу. Она поморщилась от боли и отдернула руку.
– Это было больно, – сказала она.
– Простите.
– Слушайте, я знаю, что в личной жизни у вас были какие-то трудности. И мне жаль слышать о ваших неудавшихся браках. Такое случается, я уверена. Но это не повод отыгрываться на мне.
Гуэн стояла и вытряхивала боль из руки. И я снова извинился. Но она лишь покачала головой.
– Чарли, – пояснила она, – я женщина, а не молодой вол. У меня настоящее сердце. У меня вечная душа. Тело у меня – плоть, а не бронза.
– В этом я уверен. Слушайте, я же попросил прощения!
– Ну, вы хотя бы овощи в говяжье рагу кладете. – Тут Гуэн едва заметно улыбнулась. Потом сказала: – Ого, Чарли, у вас в кабинете воистину постдилювиально!
– Это все не мое. – Обведя беспорядок в комнате широким жестом, я объяснил, что убираюсь тут после моей предшественницы, а мусорные мешки и коробки вообще-то содержат остатки ее наследия колледжу.
– Н-да, бедняжка, – сказала Гуэн. – У нее не очень много времени было убраться отсюда после суда. – И тут Гуэндолин Дюпюи проинформировала меня, что бывший координатор особых проектов была на самом деле очень милым человеком и отлично трудилась на благо колледжа, пока работала тут, да и для всего мира была ценным приобретением, а в особенности для общинного колледжа Коровий Мык, и ее будет здесь очень не хватать. – Стыд и позор, что наш колледж не в состоянии удержать таких хороших людей, как она, – завершила Гуэн.
Я кивнул.
– Чарли, если вы даже на одну десятую будете таким же координатором особых проектов, какой была она, – окажетесь достойны занимать этот кабинет!
Гуэн по-прежнему стояла у меня в дверях.
– Садитесь, пожалуйста, Гуэн. Можете вот сюда. Я этот стул только что протер…
– Я постою, спасибо. Мир изменяется, видите ли. И мы устали сидеть.
– Мы?
– Да, мы. Я не сидеть в Коровий Мык приехала, Чарли. Вообще-то я к вам заглянула пригласить вас на нашу предсеместровую встречу в среду. Будут легкие закуски и водяная музыка, и мы станем говорить об альтернативных путях к духовности и просветлению. Рукколу можете принести с собой, если хотите.
– Рукколу?
– Да, не стесняйтесь, приносите любую рукколу, какая вам нравится.
Я поблагодарил ее за приглашение, но уважительно отклонил его:
– Очень приятно, что вы обо мне подумали. Но я не очень общителен. Вообще-то я предпочитаю быть сам по себе. И я, честное слово, понятия не имею, что такое руккола и даже где мне ее искать.
– Может, оно и так. Но эти ценные уроки следует выучить. А кроме того, там будут кое-какие очень хорошие люди. Поэтому считайте это возможностью познакомиться со своими коллегами и сотрудниками – знаете, с теми личностями, среди которых вам придется в этом году лавировать.
И она была права. Я так быстро любезно отклонил ее предложение, что совсем забыл о наказе доктора Фелча изучать различные личности в кампусе.
– Ну, если вы так вопрос ставите…
– Здорово. Значит, в эту среду в половине шестого. В студии у Марши, в Предместье. Знаете, где это?
– Не очень. Я лишь два дня назад приехал с временной автобусной остановки. У меня даже машины пока нет…
– Тогда я за вами заеду. Я слышала, вы поселились в преподавательском корпусе рядом с математиками?..
Мы с Гуэн условились обо всем необходимом на вечер среды, она повернулась и ушла, а я вновь занялся уборкой в выдвижных ящиках стола. Через несколько минут я взялся за четвертый мешок для мусора и, запихивая в него крупную кипу газет, заметил в дверях другую фигуру. На сей раз на том же месте, где до нее отстаивала свое Гуэн Дюпюи, высился внушительный силуэт Расти Стоукса.
– Чарли! – сказал он и протянул руку. – Приятно с вами наконец познакомиться, Чарли! Я Расти Стоукс! – Осторожно я потряс Расти за руку, а он в ответ так энергично встряхнул мою, что снова сокрушил мне кости руки. Не дожидаясь приглашения, Расти вошел в комнату и решительно огляделся, сперва мазнув пальцем по слою пыли на конторском шкафчике, а затем принюхавшись так, словно ощущал в воздухе запах неприятного воспоминания. – Тут пахнет шитцу! – Лицо Расти исказила болезненная гримаса, как будто он вспоминал некую допотопную цивилизацию – либо унюхал разлагающийся труп странствующего голубя. – Можно попробовать какой-нибудь освежитель воздуха, мальчик мой… он творит чудеса.
– Спасибо за совет, мистер Стоукс. Тут в зачет идет что угодно.
– Вообще-то – доктор Стоукс. Но вы мне нравитесь, Чарли. Поэтому зовите меня, пожалуйста, мистер Стоукс.
Расти сдвинул со стула какие-то бумаги и тяжело уселся.
– Интересное у вас тут приспособление, – сказал он, – эта штука с маятником…
– Интересное, – подтвердил я. – Называется «колыбель Ньютона», и я привел ее в действие минут десять назад. А она по-прежнему щелкает. Вероятно, призвана демонстрировать, насколько сила кинетической энергии превосходит инерцию…
Расти скривился.
– Ага, ну это мы еще посмотрим. Как бы то ни было, не хочу отрывать вас от уборки, Чарли. Просто решил зайти сказать вам, как мы рады, что вы с нами. Все мы в Коровьем Мыке возлагаем на вас большие надежды. То есть я уверен, что вы не окажетесь хуже той последней, что мы нанимали!
Расти неодобрительно покачал головой.
– …То есть это же была пустая трата времени!
– Вам не нравилась моя предшественница?
– Не нравилась? Да только из-за нее аккредиторы выписали нам предупреждение. И из-за нее у нас в прошлом году не было рождественской вечеринки. Какая жалость, что мы вынуждены нанимать таких людей по телефону – знаете, профессионалов-лауреатов премий с блистательными резюме и рекомендациями ключевых советников Оттоманской империи…
И Расти снова покачал головой.
– Так или иначе, мы рады, что вы приехали с нами работать, Чарли. Билл мне о вас много рассказывал. Что ваша семья тут в округе раньше жила. И что вы первостепенным ингредиентом рагу считаете говядину. А также он пересказал мне ваш отклик на вопрос о вздутой мошонке, и я должен сказать, ответ вы дали совершенно гениальный…
Я поблагодарил его.
Расти игриво мне подмигнул. Затем – смиренно – рассказал о множестве своих жизненных достижений. Разумеется, ему претит хвастаться, добавил он, но, помимо всего прочего, он – ведущий авторитет в истории здешних мест, и я могу считать себя приглашенным навестить его в музее Коровьего Мыка, чьим куратором он является. Мне выпадет хорошая возможность изучить корни моей семьи, и он, возможно, даже сумеет отыскать статью в газете о знаменитом вкладе моего дела в мировое избирательное право. Я еще раз его поблагодарил и дал слово, что как-нибудь зайду навестить его.
– А меж тем, Чарли, что вы делаете в эту среду? У нас барбекю на реке, и мы надеялись, что вы тоже придете.
– Мы?
– Ага, мы. Я и остальные. Вам приятно будет со всеми познакомиться до начала семестра, неформально. Знаете, поскольку вам уже совсем скоро придется между всеми нами лавировать. – (И вновь я вспомнил просьбу доктора Фелча. Быть может, встреча с обеими группами – Гуэн и Расти – даст мне лучшее представление о природе их разногласия, подскажет, как их можно свести воедино?) – Кроме того, мы устроим небольшие поминки по Мерне, – продолжал Расти. – Вероятно, вы слышали, что с нею произошло в прошлом году. Вот мы и сделаем что-нибудь в память о ней. Состоится в среду в половине шестого.
– Половине… шестого?
– Ну или где-то рядом. И не беспокойтесь насчет еды с собой. Убоины вокруг на всех хватит.
Расти ушел, и я возобновил уборку. Через несколько минут заглянула Бесси – спросить, не нужны ли мне еще мусорные мешки.
– Кабинет словно бы преобразился, – заметила она. – Мне нравится внезапное возвращение первоначального намеренья. И эта штука с маятником такая стильная.
– Это уж точно. Я, наверное, так и оставлю ее тут, не буду останавливать – посмотрим, сколько еще она прощелкает!
Бесси кивнула. Потом сказала:
– А я видела, как вы с Гуэн и Расти беседовали. Порознь, само собой. И как вам оно?
– Меня пригласили на две вечеринки в среду после работы. И я пообещал на обеих быть. Но меня терзает некоторое противоречие, потому что они в одно и то же время.
Бесси рассмеялась:
– Само собой!
– Так что же мне делать?
– Выбрать одну и идти на нее целиком.
– Но это же будет значить, что я не пойду на другую…
– Очевидно.
– А это будет подразумевать явно выраженное предпочтение или даже, осмелюсь сказать, приверженность с моей стороны. Нет, так не получится – пока что, во всяком случае. Думаю, я пойду на обе. Мне следует появиться на барбекю у Расти и на водяном сборище Гуэн. Но вот как?
Бесси на несколько мгновений задумалась. Потом сказала:
– Ну, сама я собираюсь на барбекю – при условии, что найду няньку на вечер. Так что, если вы действительно хотите попасть и туда, и туда, я б могла забрать вас со сборища Гуэн по пути к Расти. Только встретьте меня на обочине ровно в половине восьмого. Так у вас будет достаточно времени насладиться рукколой.
Уладив таким образом со средой, я сказал ей спасибо, и она собралась уйти.
– А, и вот еще что, – сказала Бесси, вновь повернувшись ко мне лицом. Поверх тишины в комнате слышалось лишь клацанье маятника; шарики непреклонно щелкали друг по другу в идеальном ритме. – Не забудьте о закрытой обуви к завтрашнему утру. Наш консультант по ответственности очень на ней настаивает…
* * *
Дома после первого рабочего дня я взялся размышлять о своих достижениях: я успешно прибрался в кабинете и запустил инертный маятник, сообщив ему непреклонное движение; начал знакомиться со школьными процедурами; пережил свое первое общее собрание. И хотя еще оставалось множество нерешенных вопросов – Корни разобщенности между Расти и Гуэн? Относительные достоинства расширительного толкования?[7] Неясное семейное положение Бесси? – такое начало несомненно ободряло.
Прежде чем улечься в постель, я вынул бритвенные принадлежности и впервые с тех пор, как перевалил через финишную черту старших классов, целиком сбрил усы. Освободившись от них, я выбросил сбритое в мусорку и взял недочитанный исторический роман, который мусолил с автобусной поездки в Коровий Мык. Затем передумал и отложил его в пользу нехудожественного произведения, которое только что принес из кабинета предшественницы. «Справочник для кого угодно: любовь и общинный колледж» был весь в пыли после своей летней спячки, и когда я открыл книгу, из нее выползла чешуйница и опрометью кинулась прочь по моей подушке. Через несколько минут я усну с книгой на груди. Но пока я раскрыл ее и прилежно прочел первую страницу этого полезного справочника по любви столь истинной и простой, что ее способен обрести кто угодно. «Человеческое желание любви, – объяснялось там, – столь же старо, как и сам общинный колледж…»
* * *
{…}
Вообще-то любовь даже старше – корнями она уходит к тем дням, что были еще задолго до появления общинного колледжа, когда сердце по-прежнему оставалось необузданным зверем, как и множество неодомашненных коров, что некогда бродили по всему свету. То были дни скитаний и чудес, обширных непокоренных земель, что поощряли диаспору и достигательство. Ибо история человечества есть история того, как человек утоляет свои желанья. Вернее – его стремления к ним. Через континенты и сквозь время. С прилежаньем, что не знает себе равных среди прочих вьючных животных. Более любой силы природы такова любовь – к себе, к семье, к богу и стране, к великим идеям: это она служила постоянным катализатором создания мира в известном нам виде. Без любви бы не было религии. Искусства. Философии. Без любви у нас бы не появились святые, мученики или пророки. И, разумеется, без любви у нас бы не было общинных колледжей.
Говорят, для того, чтобы нечто существовало, оно должно жить бок о бок со своей противоположностью. День не может быть днем без ночи. Да и прилив не может существовать без отлива. Так же не может быть радости без отчаяния. Никакого просвещения без невежества. И никакого теченья времени без окончательной развязки смерти. Но до появления общинного колледжа всего этого быть не могло – вообще ничего, лишь очень темная пустота. И затем явился Бог, и вселенная, кою Он сотворил, коя, в свою очередь, породила время и пространство, да так, что за многие миллиарды лет и многие миллиарды миль от вневременных ее предков произошла вся родословная обучения:
От Бога произошла вселенная, а от вселенной – время и пространство. А из всего этого произошел общинный колледж, где взлелеяна сама любовь – так же, как небо лелеет в своем объятье звезды. Ибо ведь не может быть любви истинней, чем любовь к обучению. Преподавание идеи требует передачи знания от одного ума к другому, как рождение ребенка требует передачи семени от одного млекопитающего к другому. Вот именно поэтому среди всех мировых институтов общинный колледж есть колыбель всего, чем стремится быть любовь, и поэтому среди всех возлюбленных на свете его преподаватели – народ избранный. По этой-то причине общинный колледж всегда был, навсегда остается и всегда будет питомником любви. Ее вечным источником. Местом, куда она всегда возвращается и откуда всегда происходит. Ибо познать мир во всей его целостности есть познать – по-своему, скромно – ваш местный общинный колледж. И наоборот.
{…}
* * *
На следующее утро я стоял у будки охраны со своими вновь нанятыми коллегами, дожидаясь автобуса, который доставит нас к занятиям по сплочению коллектива.
– Как у вас оно, мистер Чарли? – спросил Тимми, завидев меня, и я ответил:
– Отлично, спасибо, а у вас? – Под ныне высоким небом утренний воздух был еще холоден, и мы вшестером стояли, засунув руки прямиком в карманы и сбившись в рыхлую стайку, переминаясь с одной ноги на другую, чтобы согреться. Учитель кулинарии Льюк Куиттлз во всей нашей кучке был самым общительным, и, казалось, он лучше всего подготовлен вести за собой общую беседу о пустяках. Ньютауны, Этел и Стэн, тоже смеялись и шутили с остальными. Нэн Столлингз и Рауль Торрес стояли немного порознь – они меньше участвовали в необременительной беседе, но были не менее ею увлечены. Когда мы открывали рты, за нашими словами из них тянулись хвосты холода.
– Так что вы, ребята, пока думаете о Коровьем Мыке? – спросил Льюк.
– Потрясающий кампус, – ответила Нэн. – Великолепные фонтаны.
– Они и впрямь поразительны, – согласилась Этел. – А вы заметили, как они радуги пускают против света?
– Похоже на волшебный фонтан Монжуика[8], – сказал Рауль.
– Возможно, – добавил Льюк. – Но животноводческая скульптура здесь гораздо лучше!
Все согласно кивнули.
– Только с этими чертовыми пеликанами осторожней, – пробормотал Стэн Ньютаун. – Злые могут быть!
Беседа сколько-то текла по этим руслам, Нэн рассказывала группе о бригаде литейщиков, которой некогда помогала организовать профсоюзную ячейку, Стэн и Этел подробно излагали, как ищут себе жилье настолько близко от кампуса, чтобы из окна спальни хорошо просматривался фонтан с быком и телкой. Льюк поделился старым семейным рецептом приготовления пеликана. Рауль быстро вычислил количество калорий в романтической трапезе на двоих, на что Нэн заявила, что никогда раньше не слышала такого чарующего акцента и ей всегда хотелось съездить в Барселону. В легком отдалении от всего этого я следил за разговором по большей части в молчании, хотя время от времени кто-нибудь втягивал меня в общение, и я отвечал исправно, а беседа после этого текла дальше так же исправно мимо меня и к каким-нибудь другим вещам, поинтереснее.
Наконец подъехал желтый школьный автобус и двери его открылись. Из него вышел доктор Фелч в синих джинсах, поношенной кожаной ковбойской шляпе и рабочих сапогах.
– Всем доброе утро! – сказал он. – Рад видеть, что все вы в закрытой обуви!
Пока автобус урчал вхолостую на заднем плане, группа дружески трепалась о холоде и перешучивалась насчет автобуса, а затем, собрав с нас всех отказы от претензий, доктор Фелч оглядел нашу группу и сказал:
– Коллеги. Сегодня вам предстоит научиться кое-чему крайне важному. Это называется совместной работой в команде. Кое-кто еще называет ее командной работой, и она существенна для любой институции – будь то спортивная команда, высшее учебное заведение или бригада на животноводческой ферме. Сегодня вы увидите командную работу в действии. Сегодня вы сами станете командной работой в действии. Потому что сегодня вы будете учиться работать все вместе… Поехали!
Мы вшестером забрались вслед за доктором Фелчем в большой автобус и направились к сиденьям. То был рабочий школьный автобус – с красными мигалками и восьмиугольным знаком «Стоп», который выскакивал перед встречным транспортом, когда открывались двери. В автобусе могло с удобством разместиться шестьдесят младшеклассников, поэтому каждому из нас вдоволь хватало места выбрать себе ряд и удобно развалиться на нем – что мы и сделали. Ньютауны устроились в середине автобуса по обе стороны от прохода; Рауль сел на полпути между их рядом и передом автобуса; Льюк ушел в самый конец, а Нэн расположилась на полпути между ними. Я тоже сел сам по себе.
Скрестив руки на груди, доктор Фелч стоял в голове прохода рядом с водителем и наблюдал за всем этим с некоторым изумленьем. Когда все расселись по местам, распределившись по всему автобусу, и устроились там поудобнее перед поездкой, он расплел руки и сделал шаг вперед.
– Так! – объявил он. – Все вы только что не справились с первым заданием! Первый и самый важный шаг в сплочении коллектива – узнать членов вашей команды. Поэтому вставайте со своих мест и садитесь рядом с теми, кого не знаете. Ну, давайте!..
Удивившись, мы переглянулись. Льюк Куиттлз отреагировал первым – поднялся с места, перешел и подсел к миссис Ньютаун. Ее муж последовал его примеру и ушел в конец автобуса, где занял место рядом с Нэн Столлингз. Остались Рауль и я, поэтому я взял на себя инициативу подойти к его сиденью и представиться.
– Что ж, Рауль, – сказал я. – Похоже, нам с вами предстоит сидеть довольно тесно друг с другом…
Рауль учтивым жестом пригласил меня к нему подсесть, как можно дальше отодвинувшись к окну. Теперь мы с ним сидели плечом к плечу на узких сиденьях, идеально подошедших бы паре третьеклассников, только сейчас, с двумя взрослыми мужчинами на них, они ощущались какими-то недомерками. Пока доктор Фелч смотрел, как мы опять занимаем места, мы с Раулем взирали на него поверх зеленой виниловой обшивки сидений перед нами.
Доктор Фелч продолжал:
– Ладно. Теперь, раз вы расселись, мне бы хотелось попросить каждого из вас получше узнать своего соседа по сиденью. Вчера на общем собрании вы уже узнали кое-что друг о друге. А теперь давайте познакомимся на самом деле. Чтобы хорошенько взломать лед, я бы хотел попросить вас поделиться несколькими важными вещами о себе. В ответах своих будьте подробны, поскольку немного погодя мы вновь соберемся под чахлым деревом и поделимся ими с группой в целом. Поэтому – вот вам задание…
Доктор Фелч воздел кулак и отогнул большой палец, показывая, что считает и намерен начать с номера один.
– …Первое, – сказал он, – сообщите, пожалуйста, своему партнеру, как вас зовут. И под этим я подразумеваю не одно только ваше имя. Сообщите его полностью. Расскажите его историю. Как вам дали это конкретное имя? Придумала ли его ваша мать? Или отец? Как они его выбрали? Обладает ли оно каким-либо культурным или историческим значением? Какой-то символикой или тайным смыслом? В этом отношении будьте конкретнее, потому что вообще-то не существует лучшего ключа ко внутреннему существу личности – к ее глубочайшим страхам и надеждам; к предполагаемой роли в мире, не говоря уже о тех ожиданиях, какие на них возлагают другие, – нежели то имя, какое вам дали и используют во взаимоотношениях с окружающим миром…
Доктор Фелч подождал, пока мы запишем его слова. Когда все оторвались от заметок, он вдобавок к уже отогнутому большому пальцу отогнул и указательный, чтобы отметить номер два:
– …Второе… сообщив свое имя, расскажите нам следующее: если б вы не оказались в Коровьем Мыке, где бы вы были и что бы делали? Стали бы каскадером? Царем-пророком? Диск-жокеем? Отправились бы в Парфенон? Бегали с быками в Памплоне? Навестили Тадж-Махал в рабочий день? Отнеситесь к этому творчески – в конце концов, ваши личные таланты так же разнообразны, как и ваши внутренние устремления. А сам мир очень велик…
Некоторые преподаватели в автобусе уже повернулись друг к другу и начали отвечать на вопросы, но доктор Фелч их прервал:
– …Постойте! Это еще не все! Автобусная поездка нам предстоит долгая… – И тут он отогнул третий палец, средний: – Далее – давайте продолжим дискуссию, которую начали вчера, рассказом всему миру, что привело вас в общинный колледж Коровий Мык: как вы оказались на сиденьях этого желтого школьного автобуса, направляясь в самое сердце засухи веков, – и как вы видите собственный вклад в миссию нашего колледжа, когда вернемся оттуда. Декларацию нашей миссии вы услыхали из первых уст. Не сомневаюсь, вы заучили ее назубок и соответственно подстроили под нее собственные личные ценности. И вот теперь, отплывая здесь, в колледже, к своей новой жизни, расскажите нам, какую лепту вы намерены внести в нашу ведомственную миссию?..
Пока доктор Фелч отгибал четвертый палец, безымянный, я впервые заметил, что на нем у него толстое обручальное кольцо. Оно было изящно и одновременно туго – казалось, кольцо это намекает, что никогда не покинет пальца, что, вероятно, ни по какой иной причине действительно может быть его последним обручальным кольцом:
– …Четвертое, поделитесь, пожалуйста, хотя бы одной постыдной личной тайной, какую вы бы предпочли держать в тайне от всех…
– Постыдная тайна?! – возразили мы.
– Да. Нечто настолько личное и унизительное, чего вам бы ни за что не хотелось, чтоб о вас знали – в особенности ваши новые коллеги, с кем вы только знакомитесь.
Доктор Фелч улыбнулся и быстро отогнул последний палец, мизинец, обозначая номер пять:
– …И пятое – а вот с этим, публика, спешить не советую – поделитесь, пожалуйста, своей догадкой о том, что вы узнали из личного опыта и что поможет вашим сотрудникам лучше понять многие входы-выходы…
В этот самый миг, словно бы мешая его высказыванию, взревел мотор; шофер включил передачу, и автобус с громким стоном покатился вперед. Доктор Фелч попытался перекричать внезапный шум, но тщетно, и так вот автобус выехал из колледжа на пыльную дорогу, а доктор Фелч схватился за микрофон рядом с водителем и включил его.
– Вы меня слышите? Эта штука работает?..
– Мы слышим вас! – заорал Льюк. – Работает!
– …Ну, похоже, мы тронулись в путь. Итак, наконец… поделитесь, пожалуйста, своей догадкой, которая поможет вашему соседу по сиденью понять входы-выходы, взлеты-падения, уникальные особенности и идиосинкразии… любви.
Теперь автобус громыхал через железнодорожные пути, и доктор Фелч, по-прежнему стоявший в проходе, вынужден был дотянуться до сиденья перед собой, чтобы не упасть.
– Всё записали? – спросил он. – Надеюсь, вы хорошо законспектировали, поскольку предполагается, что вы поделитесь этим со всей группой. Так к тому времени, когда мы достигнем нашего пункта назначения, каждый из вас узнает о своем партнере все, что можно, и он… прошу прощения, он или она – будет знать все, что только можно знать о вас. Поездка займет тридцать пять минут, поэтому вам должно хватить времени, чтобы всем поделиться. На старт? Внимание. МАРШ!..
Доктор Фелч сел.
За окном пейзаж опять сменился. Жара вернулась, и мы теперь ехали по пустынной местности с мертвой травой и белыми скелетами скота, над которыми кружили стервятники. В суши неукротимого солнца воздух снова был бесплоден, словно воды, столь обильные в кампусе, вдруг испарились, а пересаженная зелень рассохлась в прах, как только мы выехали за деревянный шлагбаум, отделявший колледж от мира снаружи. Рауль сидел у самого окна, наблюдая, как все это медленно и вяло проплывает мимо, безжизненным континуумом, словно цепочка цифр, убегающая в бесконечность.
– Довольно красиво, а? – сказал он.
– Я не подумал заметить, – ответил я. – Но да.
– Нет ничего обнаженнее засухи. Или вневременней солнца.
– Очень изящно сказано, Рауль.
– Это мне напоминает детство, когда я часами играл на улице и ни мгновенья не беспокоился из-за мелодрам или меланом этого мира. Жизнь тогда была настолько проще…
И тут Рауль пустился томительно пересказывать историю своей жизни – о том, как оказался он в общинном колледже Коровий Мык, – а я меж тем прислушивался к ответам на вопросы, заданные нам доктором Фелчем.
– Когда я родился, – говорил он, – мать назвала меня Раулем…
* * *
Когда он родился, излагал Рауль, родители назвали его Раулем. Мать не стала бы так называть его в первую очередь, но настоял отец – так именовался его любимый дядюшка. Говоря правду, признался Рауль, родился он не в самом городе Барселоне, а в сонной рыбацкой деревушке в нескольких милях вверх по побережью. Отец его был рыбаком, но однажды зимой его унесло в море, не успел Рауль его как следует узнать. Мать взялась растить своего юного сына, зарабатывая швейным ремеслом, и в самых ранних воспоминаниях Рауля фигурировали деревенские мужчины, заходившие к ним в дом, чтобы оставить его матери свои штаны. Она была молода и красива, и мужчины поэтому заходили в дом просить ее об услугах, держа шляпы в руках. Раулю тогда было всего три или четыре года, но он по-прежнему помнил запах ольяды, разносившийся по дому: картошка, бобы и солонина варились в тяжелой кастрюле на кухне. Однажды он вернулся домой после игр со своими двоюродными и обнаружил, что над его матерью на кухне стоит мужчина, которого он раньше никогда не видел. Мужчина утверждал, что его отец много задолжал ему, долг до сих пор не погашен, и он пришел его взыскать. Мать Рауля рыдала на полу и умоляла незнакомца о прощении, в котором он ей отказывал. Месяц спустя Рауль с матерью уже были на судне, шедшем через Атлантику в Южную Америку, где они сошли на берег и автобусом, пешком и на муле двинулись на север, через Центральную Америку, Мексику и в Калифорнию с заездами в Теночтитлан, Тайясаль и Чолюлю – но еще и через Веракрус, Чапультепек и Буэна-Висту. Несколько лет назад двоюродная сестра матери переехала с мужем в Сонору, и мать в отчаянии теперь попросила ее помочь с бумагами для этого путешествия. Дорога была опасна, и по пути они сталкивались с вооруженными пиратами и неутомимыми миссионерами, с участками джунглей, где по-прежнему свирепствовала малярия, поэтому, когда наконец прибыли к пограничному посту в Тихуане и таможенник махнул, пропуская их через границу в США, ей уже казалось, что в жизни у нее никаких больше пунктов назначения не будет. Мать нашла себе работу уборщицы в домах Сан-Диего, а еще она чинила одежду, Рауля же сдали в местную школьную систему. Отбившись от родного своего языка, Рауль поначалу страдал от того, что его английский расцветает медленнее, чем того желали его учителя. А вот математика оказалась совсем другим делом: она ему давалась легко и бегло – и стала подлинной его страстью. С цифрами находил он себе единственную отраду в верном решении уравнения, радость недвусмысленных истин в их чернейших и белейших обличьях. Вскоре Рауль стал лучшим учеником в классе. Постепенно и английский нагнал у него математику – слова его даже превосходили его числа, – и его перевели в особую специализированную школу в другом районе города, где он учился рьяно, всю школьную неделю жил у двоюродной родни, а домой возвращался только на выходные. Мать его к этому времени уже работала на трех работах и, хоть с каждым учебным годом становилась все старше и хрупче, продолжала жертвовать собою ради него. Вообще-то мечтала она попасть отнюдь не в Калифорнию, а в Техас, который видела в кино, – с его распахнутыми небесами и просторами земель. Она любила этот романтический идеал – ковбоев на лошадях, родео и ширь слова, произносимого громко и крепко. Когда за год до его выпуска она умерла, Рауль поклялся когда-нибудь съездить в Техас и осуществить ее неосуществленную мечту, тем упокоив наконец и память о матери.
Здесь Рауль прервал свой рассказ.
Снаружи мимо автобуса проплывал длинный забор ранчо «Коровий Мык», и каждые несколько сот ярдов возобновлялась его мясолюбивая пропаганда. «ЖИВИ ПЛОТОЯДНО», гласила одна надпись, а затем, чуть дальше по дороге – «БЫКУЙ!».
– Так вы там побывали? – спросил я. – Удалось вам съездить в Техас?
Рауль посмотрел в окно на длинный забор с его выцветающими лозунгами.
– Пока нет, – ответил он. – Как-то пока не сложилось. Хотя один раз чуть было не…
– Всего лишь раз?
– Да, когда я был моложе.
И тут Рауль начал историю о периоде в своей жизни, когда он совсем чуть было не доехал до Техаса и не осуществил посмертно мечту своей матери.
– У меня даже билет был… – сказал он.
Случилось это, когда он писал магистерскую, а его заманивал к себе маленький частный колледж где-то под Далласом. Колледж нанимал перспективных статистиков к себе в новую докторантуру по межкультурной статистике, а академический и культурный багаж Рауля были убедительны. Они даже собирались оплатить ему визит в кампус. То был последний год его магистерской программы, и несмотря на удачу с привлекательной внешностью, ему еще только предстояло влюбиться во что-либо другое, помимо цифр. Вообще-то он так сосредоточился на своих занятиях, что все прочее в жизни – все, от любви до гигиены и нежности, какую мог бы питать к молодым женщинам вокруг, оказывающим ему знаки внимания, – все это вечно откладывалось на потом, словно иррациональное число, помноженное само на себя. Такое могло бы длиться вечно, если б не случайный поворот судьбы, вынудивший его готовить к экзаменам студентку, которой оказалось на роду написано, какой может быть любовь. Выяснилось, что девушка далеко не блистательна, но мерцала она так, что большего ему и не требовалось. «Зачем так далеко уезжать?» – спросила она. И он отменил поездку, забрал заявление и отказался от стипендии, чтобы остаться там же, где и был. С того момента он и начал одеваться с умыслом, научился играть на гитаре, говорить стал со слегка модулированным каталанским акцентом, который вдруг начал привлекать внимание противоположного пола. И хотя это решение изменило всю его жизнь, он так и не оправился ни от своего тогдашнего нравственного выбора, ни от упущенной возможности.
– Странная штука – любовь, – сказал он. – Мать любила меня семнадцать лет. А я отбросил память о ней ради девушки, с которой был знаком всего несколько недель.
– Уверен, мать бы вас поняла…
Рауль покачал головой.
– Может, и поняла бы. Но от этого все только хуже…
– А что стало с девушкой? – спросил я.
– Вскоре после мы с ней расстались. Но она все же успела показать мне, какими бывают последствия любви.
Тут Рауль печально задумался.
– Сегодня нас попросили поделиться нашими понятиями о любви. А я слышал множество разных мнений по этому вопросу. Кто-то говорит, что любовь – это процесс. Другие возражают, что это результат. Но если вы спросите меня, любовь – ни то и ни другое. Потому что в действительности это вообще не что-то, а лишь его последствия. Без такого последствия никакой любви не бывает. Поэтому, отвечая на ваш вопрос – вернее, вопрос доктора Фелча, – любовь, я бы сказал, есть само следствие себя.
– А как же Техас, Рауль? Вы планируете туда съездить?
– Конечно. Хотя в данный момент ничего конкретного.
– Отчего же? Вы этому, похоже, очень привержены.
– Это же так далеко…
– Отсюда?
– Да. От Разъезда Коровий Мык.
– Но, Рауль, это будет очень легко осуществить. В смысле, если вдуматься, сколько вы проехали, чтобы попасть сюда. По сравнению с расстоянием от Барселоны до этого пересохшего пастбища, расстояние от этого пастбища до Техаса – почти совсем ничто.
– Наверное, так и есть, – сказал он. – И я уверен, что когда-нибудь туда доберусь. Пока же буду просто терпеливо ждать. Пока у меня нет другого выбора – лишь терпеливо ждать.
И тут мне в голову пришла мысль. Словно внезапный шквал бури она обрушилась на мой ум, и я, не подумав, выпалил:
– А как насчет будущего лета, Рауль? Могли бы съездить! Мне самому всегда хотелось посмотреть, что это за место – Техас. И у меня кое-какие деньги отложены. Поедем вместе, вы и я!..
Рауль рассмеялся и протянул мне руку. Я пожал.
– Вы очень любезны, друг мой. Я это запомню.
Я вспыхнул от собственной восторженности. Потом сказал:
– А ваша постыдная тайна, Рауль? Вы не против поделиться ею со мной?
– Моя тайна? – переспросил он. – Да, тайна у меня есть. Но я был бы благодарен, если бы всей группе ее не передавали.
– Конечно, – ответил я. – И в чем она?
– На самом деле я не из Барселоны.
– Нет?
– Нет, нет. И никогда не пересекал Атлантику. Говоря честно, я никогда не был ни в Венеции, ни в Рио, хотя весь остальной мой рассказ – правда. Мать моя действительно работала на трех работах, лишь бы я закончил колледж. И мы действительно перешли границу, чтобы сюда попасть. И от своей третьей работы она умерла. И я по-прежнему жалею, что так и не доехал до Техаса.
– Но если вы не из Барселоны, из какой же культуры вы на самом деле?
Рауль помолчал, глядя в окно, словно копался в далекой памяти. Затем произнес:
– Нынче я принадлежу культуре подтверждений[9].
– Но зачем вам эта басня? К чему вам мифология?
– Ну, Чарли, вы же знаете, как говорят: на этом свете есть ложь, наглая ложь и автобиография.
– Не статистика?
– Она, наверно, тоже.
Я рассмеялся.
– Вероятно, вы правы, – сказал я. – Спасибо, что поделились. Да и как бы то ни было, не беспокойтесь – я буду нем как рыба.
Мы проезжали выжженное поле с видавшей виды сеялкой, валявшейся в отдалении. Небо раскрылось во всю ширь, и жара в автобусе нарастала с каждой милей, оставшейся позади. В нескольких рядах за нами добродушно беседовали Льюк и Этел. А еще дальше за ними, по другую сторону прохода, Стэн Ньютаун и Нэн Столлингз, похоже, обменивались собственными важными прозрениями. Впереди же всех, в самой голове автобуса, сидел доктор Фелч с зажженной сигаретой – его десятой – и о чем-то пересмеивался с шофером, его давнишним приятелем еще по старшим классам; судя по всему, президент колледжа был удовлетворен тем, как у него за спиной проходят мероприятия по взлому льда.
– А у вас как, Чарли? – спросил Рауль. – Я, похоже, рассказал вам обе истории моей жизни. Что же с вашей? Как вам досталось ваше имя? И какую часть света вы б вероятнее всего посетили? Что б вы делали, не будь вы координатором особых проектов в нашем общинном колледже на грани краха? И как вы вообще тут оказались, в этом жарком школьном автобусе, что едет мимо выцветающих заборов ранчо «Коровий Мык»?
Я прилежно излагал ему историю того, как я до этого дошел и настолько быстро – от отличника в старших классах до невезучего закоренелого разведенца и ничьего отца, – а Рауль внимательно слушал мои слова.
– Знаете, – говорил я, – если б вы мне сказали, когда я был моложе, что я в итоге стану работать в сельском общинном колледже, я бы решил, что вы спятили. Так далеко это от того, что сам я себе воображал. Все равно как если б вы мне сказали, что однажды я стану рыбаком в Барселоне…
– Почему это так удивительно? А чем вы хотели быть?
– Ну, в начальной школе я хотел стать мусорщиком. В средней школе – пожарником. К старшим классам цели мои изменились, и я пожелал быть поэтом, хотя в колледже это быстро прошло – когда я понял, что этим попросту не проживешь и лучше бы мне быть философом. К магистратуре я уже склонялся в сторону карьеры в управлении образованием. Забавно, как мы снижаем планку своих ожиданий с получаемыми степенями…
– Так где вы были б, если не здесь? И чем бы занимались?
– Даже не знаю. Наверное, где-нибудь там, где мне позволят стоять немного сбоку от большого скопления людей. Ночным уборщиком, быть может. Или капельдинером в театре. Но я не там, а тут. Миновав столько времени и пространства, я сижу вот на этом тесном сиденье с вами, Рауль. Не то чтоб я, конечно, жаловался…
– Конечно…
– …Вообще-то мне сейчас все представляется ясным, прямым и совершенно разумным. Буквально на днях я вспоминал каких-то людей, кто незначительно и непредсказуемо – и, вероятно, сами того не ведая, – сыграли свою роль в том, чтобы привести меня туда, где я сейчас. Добрая учительница начальных классов. Подруга по колледжу, позволившая проводить себя от невинности к женственности. Три прохожих, поднявших меня с окровавленного асфальта…
– Окровавленного асфальта?
– Да, окровавленного асфальта.
– И это ваша самая постыдная тайна?
– Да нет вообще-то, хотя определенно одна из самых болезненных! И оглядываясь на все это, я иногда думаю: ух, как же здорово было б, если б я мог пройти по собственным следам. Вернуться к тому асфальту. И в тот класс. Вновь посетить по дороге всех тех людей. Просто несколько минут побыть с ними, сообщить, как они повлияли на мою жизнь. Пожать им руку и сказать: эй, спасибо, что подняли меня тогда с асфальта. И что подтолкнули меня к управлению образованием. Что позволили мне дрожащими руками ласкать очертанья вашей невинности. Сколь мимолетно бы ни было ваше присутствие в моей жизни – каким банальным бы оно тогда ни казалось, – в итоге оно стало поворотным и неизбывным…
Рауль кивал так, будто понимал. Я продолжал:
– Но я знаю, что это невозможно. Потому что все они идут своими тропами. Как миллион разных стрел, что все выпущены навстречу друг другу…
И вновь Рауль кивнул.
– Пересекая в полете траектории друг друга?
– Именно. И продолжая свой одинокий путь.
– Смелый образ.
– Я одна из тех стрел, Рауль.
– Да и я тоже, – сказал он. После чего отвел назад руку, взводя воображаемый лук и целясь прямо в Техас. – Итак, Чарли, – произнес он, выпустив стрелу, – что еще вы можете рассказать мне о себе?..
Следующие несколько минут Рауль задавал мне назначенные нам вопросы, я отвечал на них один за другим. Когда он спросил меня о причинах приезда в Коровий Мык, я рассказал ему о своей обшарпанной квартирке и стаканчике еле теплой мочи. А когда спросил о моих предполагаемых лептах в колледж, я ответил, что доктор Фелч дал мне ясно понять, каковы будут мои обязанности: что я буду вести процесс аккредитации, помогать в организации рождественской вечеринки и стараться изо всех сил сомкнуть наш расколотый преподавательский состав – и, если мне удастся отыскать способ три эти задачи выполнить, я спасу колледж от падения в пропасть ведомственного краха. Затем я рассказал ему, что, помимо профессиональных заданий, я выработал себе и личные цели, которые станут направлять меня весь год.
При этот Рауль встрепенулся.
– У вас есть личные цели? – спросил он. – Это достойно восхищения. Могу я их услышать?
И я рассказал ему, что весь грядущий год буду стремиться отыскивать влагу во всем, любить нелюбимое и переживать как день, так и ночь.
– А как насчет того, чтобы стать чем-то целиком?
– Да, разумеется. И это тоже.
– Цели у вас определенно благородные, – сказал он. – Но достижимы ли они? Вы можете их измерить?
– Измерить?
– В цифрах.
– Не уверен. Никогда этого так не рассматривал.
– Цели-то выглядят высокими. Но каковы их итоги? К примеру, вы утверждаете, что хотите «стать чем-то целиком». Но что это в точности означает? Можете привести пример, показавший бы ощутимый итог этой конкретной цели?
Секунду-другую я подумал над вопросом Рауля. Потом сказал:
– Да, могу. Вот только вчера я сбрил усы. Прежде я всегда им давал расти наскоками и урывками, но они никогда не достигали состояния результативных усов. Вчера Бесси перед общим собранием обратила на это мое внимание, и знаете что – она права! Поэтому я совершенно их сбрил. Вчера у меня были усы, а теперь их больше нет. Поэтому итог – стопроцентное сокращение моих усов!
– Наверное, это неплохое начало. Но не забывайте, что у ваших общих целей должны быть подкрепляющие задачи, а у каждой подкрепляющей задачи должны быть ощутимые, измеримые итоги. И все это должно соответствовать вашей общей причине жить, вашему предназначению в этом мире, вашей личной декларации миссии, если угодно. По сути, люди ничем не отличаются от институций, поскольку, если присмотреться, Чарли, человек есть не более чем общинный колледж без пеликанов. В случае сельского колледжа вроде нашего соответствие это выглядит примерно так… – И тут Рауль достал из кармана рубашки ручку и блокнот и нарисовал следующую блок-схему:
– Обратите внимание, что все это происходит из декларации миссии. А значит, всему, что требуется колледжу, необходимо проистекать из этой декларации. И я не шучу – всему. Занятию по развивающей математике. Человеку, подстригающему траву. Закрытому тиру. Быку, покрывающему телку. Всему!
И тут он опять взял схему и заполнил ее конкретикой нашего колледжа, чтобы показать, как даже простейшие вещи, которые мы видим в кампусе, суть производные этого соответствия:
– Либо, если представить это иначе, она может выглядеть вот так…
– Разумеется, вам лучше меня известно, как это работает, Чарли. В конце концов, это вы поведете нас через процесс аккредитации. Но вы могли не задумываться вот о чем: о ценности этой системы для индивидов. У каждого из нас имеется своя декларация миссии, поддерживаемая общими целями, которые, в свою очередь, поддерживаются конкретными задачами и измеримыми итогами. Общинные колледжи, само собой, располагаются на переднем крае этого. Но мы люди, а оттого эти декларации у нас еще и погребены очень глубоко. И мы скорее следуем им интуитивно, хоть и наобум. Однако закавыка тут в том, что мы почти никогда их не проговариваем, а это приводит к путанице и размыванию миссии. Например, в вашем случае это может выглядеть так…
И тут Рауль вытащил красную ручку и принялся писать рядом с первоначальной схемой миссии колледжа, которую уже нарисовал. Заняло это несколько минут, и пока он строчил, я глазел мимо его профиля в окно на проплывающие декорации. За стеклом солнце палило и волнами жара отражалось от черной дороги. У обочины шоссе покоились перекати-поле, дожидаясь, чтобы порыв ветра – любого ветра – сдул их куда-нибудь дальше. Промелькнула брошенная хижина, за нею – безжизненная мельница; странно, что нам не попадалась ни одна встречная легковушка или грузовик. Наконец Рауль пристукнул ручкой по диаграмме.
– Вот, пожалуйста, Чарли… – сказал он. – Это диаграмма вашего жизненного предназначения, представленная в таком формате, который может помочь вам яснее увидеть, где здесь место для непрерывного совершенствования…
– Либо, если представить это иначе…
– Глядя теперь на это, можно увидеть, что с Целями у вас все хорошо, а вот в Задачах и Итогах вы слабоваты. Но самое важное – вам очень нужно хорошенько покопаться у себя в душе и спросить себя: какова моя Миссия? Цели у вас, конечно, есть, Чарли. А из них могут родиться задачи. Но где же всеобъемлющая декларация миссии, которая придавала бы всему этому единство и смысл? Какова главнейшая причина, почему вам хочется отыскивать влагу во всем, любить нелюбимое и переживать как день, так и ночь?
– Вы имеете в виду, почему я хочу стать чем-то целиком?
– Верно. Кроме того, что все это мило звучит и хорошо выглядит на бумаге. Пока не отыщете эту главнейшую декларацию миссии, вы будете обречены лишь барахтаться на уровнях целей и задач, даже не зная, приближаетесь ли вы к исполнению своей главнейшей миссии в жизни. А это, в свою очередь, не даст вам результативно двигаться к конкретным измеримым итогам.
Рауль вырвал страницу из блокнота.
– Можете оставить себе… – Он вручил мне бумажку, и я ее взял, сложил квадратиками и сунул себе в карман рубашки.
– Спасибо, – сказал я. – Но я правда ничего об этом не знаю, Рауль. В смысле, все это выглядит как-то до ужаса функционально. Вы разве не считаете, что в жизни осталось место интуиции? Разве нам, людям, не следует стремиться к несовершенству вместо совершенства? К неумению вместо умения? К корявым резюме, а не к тем, что отполированы до полной неузнаваемости? Я, наверное, вот что пытаюсь сказать, Рауль: все это кажется целенаправленным и верным, да… но также каким-то липовым. К примеру, вы утверждаете, что человек есть не более чем общинный колледж без пеликанов. Но разве это не лишает нас ощущения чуда, проистекающего от того, что мы – люди? Разве общинный колледж не есть измышленное место с соответствующей миссией, целями и задачами, куда, согласно плану, поместили пеликанов и разнообразную флору… в то время как человеческая душа есть место, все заросшее сорняками, где зевака по-прежнему воображает даурскую лиственницу и донкихотски грезит о пеликанах?
Рауль задумался на несколько мгновений. Потом сказал:
– Быть может. Но вы же явно чего-то ищете. Позвольте, я спрошу у вас вот что. Вы жаловались, что вы – много чего, но ничего целиком. Так что это в точности означает? К чему вы на самом деле стремитесь?
– Трудно сказать, Рауль. Просто. Ну, возьмите две любые противоположности, и я окажусь чем-то между ними. Я практичен среди идеалистов, но идеалист среди прагматиков. Я мужествен в сравнении с женственными мужчинами, но женствен по сравнению с мускулистыми. Агностикам я кажусь религиозным, а для набожных я всего лишь духовен. В культурном смысле я сижу на двух стульях. В философском – виляю. А профессионально и лично мне недостает приверженности, чтобы не разбрасываться. У меня нет ни тяги, ни решимости, ни смелости. И вот это объясняет, почему я скачу от одного к другому. Как бык-производитель на пастбище, полном телок.
– А это плохо?
– Ну, быку-то, может, и отлично – да и, возможно, телкам. Но это еще и как-то скверно. Наверное – и так, и эдак.
– Ну вот, вы опять…
– Именно! Видите, как оно все со мной. Если я дылда среди коротышек и коротышка – среди дылд, то вообще-то я ни то и ни другое. И в этом-то смысле я ни практичен, ни идеалистичен. Ни подлинен, ни фальшив. Ни федералист, ни республиканец. Для Запада я Восток, а вот для Востока я – Запад. И все это означает, что на самом деле я вообще ничто. Я вообще нигде. И вот поэтому-то у меня такое томленье стать чем-то во всей полноте. Чего б не отдал я, лишь бы стать или дылдой, или коротышкой! Быть логичным или интуитивным. Быть бесконечно сложным или бесконечно простым. Иметь возможность сказать без малейших колебаний, что я – то или я – сё. И при этом – то или сё целиком. Чистота, Рауль, – вот чего я для себя ищу! Чистоты!
Рауль кивнул и собрался было заговорить. Но меня уже захватил поставленный вопрос. И потому я продолжал:
– К примеру, возьмем вас, Рауль. Есть то, что вы просто есть, так? То, что вы собой представляете, не слишком об этом задумываясь. Никто не стал бы спорить с тем, что вы высоки, или что вы логичны, или элегантны, или европеоидны, или привлекательны для представителей противоположного пола…
– Я не европеоиден!
– Но вы же привлекательны для представителей противоположного пола?
– Я шикарен, да.
– Ну и вот. И все это хорошо, Рауль. Это позволяет вам целенаправленно двигаться вперед. Ваши жизненные решения зиждутся на данных. Ваши процессы можно воспроизвести заново. Вы сумели соразмерить свои цели, задачи и измеримые итоги так, чтобы они поддерживали вашу миссию пребывания на этой земле. Все у вас действует в безупречной гармонии, как те баллады, что вы поете. Наверное, я вот о чем, Рауль: ваша жизнь обладает предназначением и действенностью. Она сообразна и управляема данными. Если б вы стремились к аккредитации, вы, без сомнения, получили бы от своих аккредиторов блистательные характеристики вместе с полным шестилетним подтверждением. А я… ну… другой.
Рауль попытался задать еще один вопрос, но мы уже сворачивали с шоссе на пыльную грунтовку. Автобус остановился перед большой вывеской, приветствовавшей нас на ранчо «Коровий Мык» («Где сходятся мясо и мык», гласил знак), и остановился, урча мотором, а доктор Фелч встал и схватился за микрофон. Щелкнул выключателем. Динамики запищали от самовозбуждения.
– Эта штука работает? – сказал он. – Вы меня слышите?
– Мы вас слышим! – заорали все мы.
– Хорошо. Если посмотрите в окно – увидите, что мы въезжаем на ранчо «Коровий Мык». Тем из вас, кто не знаком с уникальной историей Разъезда Коровий Мык, интересно будет узнать, что ранчо «Коровий Мык» было первоначальной скотоводческой фермой, вокруг которой и вырос городок Разъезд Коровий Мык. Ранчо основали на заре прошлого века, и в пору своего расцвета оно кормило полстраны. И под этим, разумеется, мы имеем в виду ту половину страны, которая ест мясо…
Автобус уже покатился вперед и проползал через ворота на обширные просторы ранчо. По обе стороны нашего автобуса вырастали огромные загоны и ограды, и в некоторых располагались сборища скота, а в каких-то нет. Пока мы медленно ехали мимо оранжевых и черных стад, скот подымал головы, разглядывая нас со смутным говяжьим безразличием, после чего возвращался к более насущным и сиюминутным своим потребностям.
Наконец автобус доехал до места, где причудливым лабиринтом размещались загоны и ограды. То был старый участок ранчо, который по своему прямому назначению больше не применялся – доктор Фелч договорился со своей бывшей женой, что нам сегодня можно будет им воспользоваться, – и в смысле удобств предлагал мало что: один водопроводный кран и обшарпанный стол для пикников под чахлым деревом, не дававшим тени.
– Так, – сказал доктор Фелч. – Приехали. Пожалуйста, осторожно выходите из автобуса. Тут высоковато… – Доктор Фелч поблагодарил шофера, своего школьного друга из старших классов, и условился о времени обеда. Двери автобуса открылись, и мы вышли гуськом.
* * *
После долгой автобусной поездки ноги у нас занемели, и приятно было выйти наружу – хоть небо и было по-прежнему безоблачным, а солнце сияло нам непреклонно. В мертвом воздухе Льюк Куиттлз обильно потел. Этел Ньютаун обмахивалась своим номером «Коровьемыкого экспресса» – разделом объявлений, – как веером. Даже Рауля, обычно выступавшего монументом физического изящества и элегантности, жара, казалось, немного выводит из себя.
– Давайте присядем вот сюда… – предложил доктор Фелч и подвел нас к столу для пикников под чахлым деревом, чья редкая сень не защищала даже от десятой части солнца. Скамьи по обеим сторонам стола были обшарпаны и щепасты – и они скрипели, пока мы по очереди рассаживались за ним. – Давайте несколько минут подождем, – сказал доктор Фелч. – Профессор Смиткоут должен появиться с минуты на минуту.
Ожидая Уилла Смиткоута, председателя комиссии по ориентации преподавателей, мы всемером обменивались впечатлениями об автобусной поездке и жаре. Нэн сказала, что жарко было так, что, ей казалось, она того и гляди растает. А Льюк пошутил, что сиденья в автобусе не предназначены для двоих взрослых, но они с Этел в данных обстоятельствах старались как могли, и, если при грядущем анализе на отцовство его заподозрят, он вполне готов поступить по совести и оплатить аборт, хотя счет он также направит в колледж как накладные расходы, подлежащие компенсации. В ответ доктор Фелч рассмеялся и сказал:
– Такова цена сплочения коллектива, друзья мои! – После чего добавил: – Ну, похоже, Уилл запаздывает больше, чем я рассчитывал. Давайте начинать без него.
Сидя на перевернутом ведре во главе стола для пикников, доктор Фелч повторил, что всем нам предстоит поделиться ответами наших партнеров на вопросы, которые он назначил нам в автобусе. Пока он говорил, солнце продолжало палить нам макушки, ветерка отыскать где-либо было невозможно, и мы вшестером ерзали и вертелись на жаре.
– Вспомните же вопросы, на которые вам нужно ответить, – подсказал нам доктор Фелч. – Имена ваших партнеров; как они оказались в Коровьем Мыке; каков будет их вклад в наш колледж; что бы они делали, не окажись они здесь; их любимая унизительная тайна; и, разумеется, что-нибудь проницательное про любовь. И дабы продемонстрировать вам, как это делается, и подчеркнуть демократический стиль руководства, я сначала предоставлю вам свои ответы на эти вопросы… иными словами, представлю самого себя…
Доктор Фелч вынул сигарету – уже одиннадцатую – и прикурил ее.
– …Итак, меня зовут Уильям Артур Фелч, имя мне выбрали родители за тринадцать лет до моего рождения. Родители никогда не объясняли мне, почему им так захотелось это конкретное имя, но мать однажды сказала, что даже родись я девочкой, меня бы назвали точно так же. Очевидно, что в Коровьем Мыке за прошедшие годы я сыграл важную роль в становлении колледжа, но теперь своей непосредственной целью вижу вверить колледж в хорошие руки преемника, который придет следом. Надеюсь, это будет кто-то из Коровьего Мыка, хотя понимаю, что, может, и нет. Если б я не был сейчас здесь, я бы навещал своих детей и их семьи по всей стране, там, где они сейчас живут. Моя постыдная личная тайна – в том, что лично на меня несколько раз подавали в суд, хотя, к счастью, всякий раз дело улаживалось во внесудебном порядке. Что же касается любви…
Доктор Фелч продолжительно затянулся сигаретой, затем выдохнул дым.
– …Что же касается любви, ну, в таком возрасте, мне кажется, я больше подготовлен говорить о том, чем любовь была, нежели что она есть. Видите ли, я был женат пять раз и каждый раз женился на женщине, которой было тридцать лет. Странное совпадение, я знаю, но оно также служило некоторым контрольным механизмом в туче иначе комплексных переменных. Мой первый брак, когда мне еще было чуть за ревущие двадцать, а ей исполнилось тридцать, был поразителен! Сплошь плоть и надежда, и грубые незамутненные нервы; почти все, что я знаю сейчас о жизни, я узнал от той поразительной женщины постарше. Второй брак, когда мне было тридцать и ей тоже тридцать, был равноценен и равноправен – подлинное партнерство ровни. Мой третий брак, когда мне только исполнилось сорок, а ей едва сравнялось тридцать, был органичен, расслаблен и совершенно прагматичен; мы с ней состояли уже во втором и третьем браке соответственно, и нам даже церемония не понадобилась – мы лишь подписали брачные контракты. Четвертый раз, когда мне было пятьдесят, а ей тридцать, бодрил! Я вновь ощутил оголенные нервы юношеского желанья и впервые за много лет поймал себя на том, что пользуюсь многоточиями и восклицательными знаками, а не банальными запятыми и точками! (К сожалению, этот брак закончился восклицательными знаками по совершенно не тем причинам, и вот по этой причине я бы предпочел о нем не распространяться.) И потом случился мой пятый брак, текущий, когда я уже двигался к шестидесяти, а ей было лишь тридцать, и этот брак был – как бы тут лучше выразиться? – победой над жизнью! Все эти мои браки были замечательны каждый по-своему. И поэтому могу сказать, что любовь – это все, на что я только мог надеяться: поразительная и утешающая, равноправная и воодушевляющая, а в итоге – победа над жизнью. Вот чем любовь была. Что же она нынче есть, я понятия не имею…
Доктор Фелч стряхнул длинный столбик пепла, собравшийся на кончике его сигареты.
– Вот, так или иначе, кое-что обо мне.
– Спасибо, что поделились, доктор Фелч.
– На здоровье. Теперь ваша очередь. Кто хочет первым?..
– Давайте я, – сказал Льюк и показал на Этел Ньютаун, чей грядущий иск об установлении отцовства так его расстроил. – Это Этел Ньютаун. Этел назвали в честь героини любимого комедийного телесериала ее матери[10]. Свою роль в колледже она видит в использовании своих занятий по журналистике, чтобы помочь студентам оценивать и анализировать окружающий мир критически. Если б не оказалась здесь в Коровьем Мыке, она, как ей видится, жила бы где-нибудь на севере штата Нью-Йорк и работала модельером. А ее постыдная личная тайна – в том… – Льюк умолк и посмотрел на Этел, словно ожидая ее разрешения продолжать. Этел в подтверждение хихикнула. – Постыдная тайна Этел в том, что со Стэном она никогда не достигала оргазма.
– Что? – воскликнул Стэн. – Это неправда! Этел, скажи им, что это не так!
Этел снова хихикнула. Стэн помотал головой.
Льюк продолжал:
– Что же касается ви́дения любви, Этел чувствует, что любовь – такая штука, у которой есть начало, середина и конец.
– Со Стэном – нет! – сказала Нэн. – С ним у нее есть только начало и середина!..
Все рассмеялись.
– Очень смешно, – сказал Стэн, хотя и сам смеялся.
– …Поэтому Этел полагает, что в любви должны быть все три эти составляющие, потому что без начала любовь – не любовь; а просто фрагмент. Без середины – тоже не любовь, а лишь справка об авторе. А без конца, даже если в какой-то миг это по правде была любовь, она уже не будет любовью той же разновидности, а будет чем-то совсем иным. Без конца это будет фраза, набранная в подбор и тянущаяся в забвение…
Когда Льюк закончил представлять взгляды Этел на любовь, доктор Фелч поблагодарил его, и слово взяла Этел – представлять, в свою очередь, Льюка.
– Как обещано, я буду представлять Льюка Куиттлза, – сказала Этел. – Имя его происходит из библейских источников, поскольку оба его родителя – экуменические баптисты. Евангелист Лука выбран был потому, что он, библейский Лука, выступал святым покровителем художников, мясников и неженатых мужчин – а родители Льюка надеялись, что он, кулинарный Лука, однажды станет ими всеми; к сожалению, когда в достаточно раннем возрасте стало ясно, у Льюка другие устремления в жизни, родители полностью от него отказались. Льюк утверждает, что, если б он не был в Коровьем Мыке, он бы где-нибудь работал знаменитым шеф-поваром, однако Судьбе и тщательно скрываемой – и да, мучительно постыдной – тяге к выпивке угодно было замыслить привести его сюда, в колледж, в период его засухи и опустошенья. Он благодарен за выпавший ему второй шанс и свою миссию в колледже видит в помощи студентам отомкнуть скрытый в них потенциал не только на кухне, но и в каждом аспекте их существования. Он верит, что любовь – как энчилада, незатейливая на вид, но с бесконечным разнообразием перемешивающихся вкусов и текстур в сердцевине.
– А личная тайна? – подсказали мы.
– Словно мало одной привычки к пьянству, – сказала Этел, – у Льюка еще и слабость к насильственной порнографии и несовершеннолетним шлюхам.
– Ой, – произнес доктор Фелч. – Ну, это определенно засчитывается. Ладно, кто следующий?
– Я, – сказала Нэн, откашлявшись перед тем, как продолжить: – Как все вы знаете, мой партнер – Стэнли Айзек Ньютаун, или, как сам он отметил, причем не без гордости, сокращенно САН. Имя свое Стэн получил потому, что его родители воспитывались в разных социальных контекстах и решили, что оно звучит экзотично. Его второе имя они выбрали потому, что сочли, будто тонкая отсылка к основоположнику матанализа будет хороша. Стэн говорит, что если б он не оказался здесь, в Коровьем Мыке, жил бы в Вермонте и работал консультантом на строительстве бункера для выживания; но раз уж он здесь, можно и внести лепту в миссию колледжа, поощряя студентов исследовать великое разнообразие множества мировых культур, чтобы учащиеся лучше могли ценить достоинства американского образа жизни. Его постыдная личная тайна – в том, что однажды он фальсифицировал исследование, опубликованное несколькими академическими журналами, однако по иронии судьбы именно оно стало краеугольным камнем, на котором воздвиглась вся его карьера. Но раз там все фальшивка, он тревожится, что однажды правда вылезет наружу и ему как ученому и человеку настанет конец.
– Спасибо, Нэн, – сказал доктор Фелч. – А озарения Стэна о любви? Он вам что-нибудь открыл?
– Ах да, чуть не забыла. Стэн полагает, что любовь мимолетна и обманчива, но к ней нужно стремиться во что бы то ни стало. Он утверждает, что она не сильно отличается от потерянной цивилизации, что является взорам лишь через много лет непрерывной веры в ее существование – ну и, конечно, тщательных раскопок. Он признает, что, хотя ему удалось открыть в свое время несколько потерянных цивилизаций, у него так и не получилось обнаружить тайны истинной любви. То есть по-настоящему влюблен он никогда не был.
За столом все ахнули.
– Вы имеете в виду, не считая Этел?..
– М-м, нет… считая Этел. – Нэн пожала плечами, словно извиняясь за бесчувственность Стэна.
Тут вся группа примолкла. В воцарившейся неловкости никто за столом толком не знал, что и сказать. Наконец Рауль обхватил миссис Ньютаун рукой за плечи и сочувственно их сжал.
– Не беспокойтесь, Этел, – сказал он. – На этом свете конспирологов навалом.
– Ну хорошо! – сказал доктор Фелч, стараясь быстро направить обсуждение в новое русло. – Кто дальше? Нэн только что закончила представлять Стэна. Поэтому теперь, Стэн, бессердечный вы мерзавец, похоже, вы – следующий…
При этом Стэн сверился со своими записями и сжал губы перед тем, как заговорить. Но не успел он начать свое представление, низкий рокот, нараставший в отдалении уже некоторое время, вдруг стал очень громким, мы все подняли головы и увидели, как хвост пыли тянет за собой голубой «олдзмобил-звездное-пламя». Машина была огромна, вся сверкала и блестела полировкой – и когда подъехала к чахлому дереву и остановилась, открылась дверца, наружу вышел Уилл Смиткоут, многолетний штатный профессор истории и недавно назначенный председатель комиссии по ориентации нового преподавательского состава. Одет Уилл был точно так же, как на общем собрании – в щегольской серый костюм с красным галстуком-бабочкой и федору. Только теперь он прицепил на лацкан красную розу, а из нагрудного кармана у него торчала сигара, по-прежнему в целлофановой обертке.
– Прошу прощения, что опоздал, – сказал он, огибая стол для пикников. Обошел поочередно всех своих новых коллег и каждому представился, спокойно снимая всякий раз федору левой рукой, а другой либо пожимал руки мужчинам за столом, либо брал женщин за пальцы и целовал их костяшки с изящным и благовоспитанным поклоном. Переходя так от одного человека к другому, он тянул за собой шлейф сильного запаха алкоголя, словно тучу пыли за своим «олдзмобилом». – Пытался приехать раньше, – объяснял он. – Но движение на дороге было просто ужасным.
В ответ на извинения Уилла доктор Фелч покачал головой.
– Садись, Уилл. Мы почти закончили взламывать лед. К твоему мероприятию по сплочению коллектива будем готовы через несколько минут.
– Знамо дело, – сказал Уилл, отряхивая брюки перед тем, как перебраться через скамью и занять место рядом с Раулем, который протянул ему руку, чтобы помочь.
Меж тем Стэн Ньютаун, все это время стоявший и ждавший, продолжал ждать, пока Уилл вытащит носовой платок и сотрет пот с виска, а затем, ко всеобщему удивлению, извлечет блестящую металлическую фляжку, из которой сделает большой прилежный глоток.
– Никуда не хожу без своей манерки! – произнес Уилл, и доктор Фелч вновь покачал головой. И только когда весь пот был стерт, а колпачок Уилловой фляжки закручен на место, Стэн начал свое представление Нэн. Бодрым голосом он провозгласил:
– Итак, дамы и господа, моей соседкой по сиденью была Нэнси Столлингз! Но она предпочитает, чтобы к ней обращались Нэн…
Слушая Стэна, одним глазом я косил, в общем, на него, а другой пристально направил на Уилла: тот уже убрал «манерку» обратно в карман пиджака и теперь счищал с сигары целлофан; хруст упаковки был чуть ли не так же громок, как и голос Стэна, ныне произносившего:
– …И вот такова долгая и невероятная история о том, как Нэн получила свое имя!..
Люди улыбались в очевидном восторге от рассказанной Стэном истории. Сбоку от меня Уилл наконец извлек сигару из обертки и теперь ею любовался.
– Отвечая на другие вопросы доктора Фелча, – продолжал Стэн, – Нэн считает, что ее миссия в колледже – обеспечить каждому студенту понимание юридической системы, что управляет нашим существованием. Она чувствует, что без этого мы не лучше коров, которых водят от одной кормушки к другой на жестоком и безжалостном пути к скотобойне. Если бы она не служила учителем политологии в Коровьем Мыке, полагает она, то служила бы учителем политологии в каком-нибудь другом общинном колледже, расположенном в равноудаленном месте где-нибудь в Кентукки или Теннесси. Ее определение любви в точности соответствует тому, которое можно найти в «Мерриэм-Уэбстере», а после продолжительных расспросов о постыдной тайне – поверьте мне, ребята, я старался! – наконец заявила, что таковую личную информацию откроет только в том случае, если ее к этому обяжет суд.
– Справедливо, – произнес доктор Фелч. – Это голос истинного юриста. Итак, Чарли и Рауль… ваша очередь. Кто хочет быть первым?
– Можно? – спросил я.
– Пожалуйста-пожалуйста, – ответил Рауль.
И я начал.
– Ух, – сказал я. – С чего ж начать? Мы с Раулем только что здорово поговорили в автобусе, и у меня такое чувство, будто я знаю его, ну, целую вечность. Рауля назвали в честь его дяди по отцу. В Коровий Мык он приехал, пересекши зимой Атлантический океан. Он чувствует, что любовь не есть нечто само по себе, а скорее ее следствие, и дал мне понять, что откажется от всех своих престижных наград, если б только смог на один-единственный день заехать в Техас. Рауль, знаете, я, по-моему, забыл спросить у вас, какова будет ваша лепта в Коровий Мык. Но судя по нашей беседе, мне кажется, запросто можно сказать, что вы поможете упорядочить наши Цели, Задачи и всеобъемлющую Миссию – и обеспечить, чтобы все они приводили к измеримым итогам. Это, конечно, достойные цели для нашего колледжа – или же это задачи? – и я, например, стану часто прибегать к вашей помощи, пока мы будем разбираться с аккредитацией. Наконец, мне бы хотелось заверить каждого из вас лично – и всех вас совокупно, – что у Рауля нет никаких постыдных тайн. Это потому, что он совершенно прозрачен и подотчетен – за что купил, за то и продал, – и, вероятно, эта его черта больше какой-либо другой – даже больше его невероятной внешней привлекательности, или того, как он поет баллады с гортанным барселонским акцентом, – объясняет такую его популярность у дам и зависть всех нетронутых мужчин.
– Спасибо, Чарли, – сказал доктор Фелч. – Я рад, что вы вдвоем будете вместе работать над аккредитацией. Помните, судьба нашего колледжа отныне у вас в руках. Но я верю в вас обоих. Итак, Рауль… не могли бы вы теперь представить нам Чарли, будьте добры?
Рауль вынул блокнот, в котором делал пометки по ходу нашего с ним обсуждения в автобусе. Тщательно с ним сверившись, он сказал:
– Как вы уже все хорошо знаете, этот пригожий молодой человек, сидящий рядом со мной, – Чарли.
– Пригожий? – возразила Нэн.
– Молодой?! – отозвалась Этел.
– Ну, достаточно молодой и пригожий, – сказал Рауль. – Свое имя Чарли получил потому, что Чарлз казалось слишком формальным и женственным, а Чак сообщало бы впечатление гораздо большей мужественности, нежели он располагает на самом деле. Видите ли, Чарли прозябает где-то посередине. В профессиональном смысле, заявил он, его вклад в Коровий Мык будет состоять в том, что он спасет нас от ведомственного краха, а если бы его тут не было, он бы по-прежнему сидел в своей убогой квартирке, рассматривая стаканчик своей тепловатой мочи на предмет нахождения в ней остатков влаги. У Чарли имеется множество разных взглядов на любовь, многие противоречат друг другу, и он заявил, что нацелен любить в этом мире все, что иначе нелюбимо. Например, Огайо. Он признает, что его самая постыдная личная тайна – та, которую он бы нипочем не хотел, чтобы кто-либо из нас узнал, ни при каких обстоятельствах, – в том, что у него две соперничающие друг с другом фобии, с которыми он сражается на ежедневной основе: с одной стороны, это необъяснимое отвращение ко всем людям, граничащее с неврозом, а с другой – соответствующий страх остаться одному. Он пытался лечиться от обоих, однако это неизбежно приводило к улучшению одного состояния за счет другого.
Рауль замолчал. Потом произнес:
– Я что-нибудь упустил, Чарли?
– Нет, Рауль, вы примерно все изложили…
– Стало быть, вот вам Чарли в сути своей.
– Здорово. Большое спасибо вам обоим, что поделились, – сказал доктор Фелч. Обратившись ко всей группе, он прибавил: – …И больше спасибо всем вам за то, что, не жалея времени, поделились этими сведениями о себе со своими коллегами. Думаю, с первой частью нашей сегодняшней программы действий мы закончили. Хочешь что-нибудь добавить, Уилл?
– Пока нет. Лишь то, что сигара эта – дьявольски прекрасная!..
Все рассмеялись. Затем кто-то заметил, что раз дорожное движение вынудило его опоздать, может быть, Уиллу тоже следует представиться всей группе:
– А как же вы, мистер Смиткоут? Мы все поделились нашими самыми потаенными мыслями и постыдными тайнами. Как насчет ваших? Вы можете ответить на эти вопросы, призванные взломать лед, чтобы мы и о вас что-нибудь узнали?
Уилла, казалось, удивило неожиданное внимание, оказанное его персоне, но он откашлялся, приготовившись отвечать. Затем сказал:
– Ну, что тут сказать? Имя у меня такое американское, что лучше и не пожелаешь. Отца моего звали Уильямом Смиткоутом, а дед был Саймоном Смиткоутом, и если проследить за историей этого имени через многие поколения, вы обнаружите в итоге Джефферсона Смиткоута, который привез сюда свою семью на «Майском цветке»[11]. Среди семейства Смиткоутов отыщутся те, кто подписывал Декларацию независимости и консультировал Луизианскую покупку[12], а также генералов c обеих сторон в Гражданской войне. Смиткоуты строили эту нацию и были первопроходцами, они убивали индейцев и запрещали алкоголь. Один из моих предков сыграл важную роль в изложении Предначертания Судьбы страны[13], а другой, собственный сын его, активно участвовал в защите прав ее коренного населения. Один дальний родственник был ведущим аболиционистом своего времени, а другой – самым пылким из рабовладельцев. Смиткоуты жили во всех штатах Союза и выступали со всех сторон всех философских дебатов и политических конфликтов. Короче говоря, история нашей страны есть история самого семейства Смиткоутов.
Уилл умолк, чтобы закурить сигару, которую обрезал несколькими мгновеньями раньше. Запах был ароматен и сладок, и даже некурящие за столом – а нас таких уже становилось большинство – его оценили. Уилл сделал долгую затяжку, помедлил, наслаждаясь вкусом, затем выдохнул дым. После чего продолжил:
– При таком-то моем наследии вы могли бы предположить, что история станет моим естественным родом занятий. Однако тут вы бы ошиблись. На самом деле мне всегда хотелось стать поэтом и писать стихи в рифму. Я не хочу сказать, что у истории нет своих плюсов. Но как сравнить ее с той свободой, какая проистекает из сочинения того, что будет существовать вечно? Вы б не согласились?
– Мы б согласились, мистер Смиткоут, конечно, согласились бы. Но, мистер Смиткоут, история разве тоже не длится вечно?
Уилл рассмеялся.
– Зовите меня, пожалуйста, Уилл.
– Но, Уилл, вы разве не считаете, что история также длится вечно?
– Так можно было бы решить. Но вот, наверное, нет ничего такого, что подчинялось бы капризу настоящего больше, чем наше прошлое. Подумайте только обо всех переоценках, что случились за эти годы. Раньше считалось, что рабы недостойны того, чтобы иметь собственные сказы и историю. А теперь они больше не рабы, а свободные люди со своей богатой литературой. (Черт, да у меня даже в классе есть один негроид – сидит прямо в первом ряду!) А женщины! Женщины были дочерями и сестрами, женами и матерями. Теперь же к ним относятся как к личностям, совсем как к вам или ко мне. Хотя, конечно, моя собственная жена предпочла бы первое последнему. Она была невероятной дамой…
– Была?
– Скончалась два года назад. Мы были женаты тридцать восемь лет.
– Какая жалость, Уилл.
– О, нечего тут жалеть. В свое время у нас с нею бывал изумительный секс!
Все рассмеялись.
– Да и не скажешь, что мы с нею снова не увидимся. Но я вот о чем: есть то, что длится вечно, и то, что лишь приходит и уходит. История приходит и уходит. Поэзия длится вечно. Техника приходит и уходит. Любовь длится вечно. Брак приходит и уходит… черт, да сама жизнь приходит и уходит. А вот память о вашей жене – она длится вечно…
– А журналистика? – спросила Этел. – Журналистика вечно длится?
– Нет, Этел, она просто приходит и уходит.
– А политика? – спросила Нэн.
– Приходит и уходит, конечно.
– А археология? Анализ данных? Координация особых проектов?
– Все это приходит и уходит! – объявил Уилл. – Все до единого! Хоть какого-то черта на этом свете стоит лишь что, что вневременно и вечно. Такое, чему нельзя научить, но оно передается из поколения в поколение как приобретенная мудрость и интуиция. Иными словами, все, чем мы занимаемся в колледже, – временно. Все оно мимолетно и фальшиво. Это трата времени, ресурсов и ведомственной…
– Проехали, Уилл! – сказал доктор Фелч.
– …Ну да. В общем, преподавать историю я начал потому, что, ну, тогда мы так делали. И я по-прежнему пользуюсь теми же конспектами, что у меня были, когда я только начал тридцать лет назад. Мне всегда все говорят, дескать, эй, Уилл, а чего ты не займешься чем-нибудь другим? Не встряхнешься чуток? Не подстроишь планы занятий под своих студентов? Не пойдешь им навстречу? В конце концов, мир за последние тридцать лет поменялся – и тебе неплохо бы измениться с ним вместе! А я отвечаю так: за каким чертом? В этом что – вечность? В конце концов, мы разве не должны стремиться ценить то, что длится вечно, превыше того, что приходит и уходит? Разве не должны мы стремиться оставить хоть одно неувядающее наследие, не растленное текущей модой?
После чего Нэн сказала:
– Мистер Смиткоут, расскажите нам, пожалуйста, о любви! Дайте нам каких-нибудь откровений о самой природе любви. Последние несколько часов мы все о ней думали, но пока не пришли ни к какому решающему определению. Вы можете нам помочь?
– Ну, – сказал Уилл, – любовь – такая штука, которую лучше оставлять невысказанной. Ибо чем больше пытаешься объяснить ее, тем больше она ускользает. Это как черная марашка у вас на сетчатке, что убегает, едва попробуешь посмотреть прямо на нее. Чтобы ее увидеть, нужно глядеть немного в сторону – только тогда она вплывет в отчетливый фокус. И потому, если б вы спросили у меня, что такое любовь, я бы ответил, что любовь – это не то, что она есть, а то, чем она была бы. Не болтайте попусту о самой любви, скажет вам истинный философ, а лучше сообщите мне, чем любовь быть не может, но была бы, если б не стала тем, что она есть. И точно так же я бы ответил вам, что будь любовь птицею, она была бы пеликаном. Будь любовь океаном земным, она была бы Атлантикой зимой. Будь любовь штатом Союза, она была б Индианой или Миссисипи… а может, даже Иллинойсом. (Но никогда, никогда и ни за что не Алабамой!) Будь любовь деревом, она была б баньяном. Будь любовь рыбой – была бы карпом. А если б любовь была высшим учебным заведением – если бы все желанья ее и небесное блаженство можно было бы превратить в кампус с елями и платанами, – она бы наверняка была регионально аккредитованным общинным колледжем. Ибо любви требуются открытые двери и открытые сердца. Она требует надежды и упорства. И, конечно же, – самопожертвования. Она воспитывает сноровку даже в самых косных и логичных из нас, равно как и способность преодолевать пересеченную местность на непредсказуемом жизненном пути. Будь любовь абстрактным математическим понятием, она была бы трансцендентными числами. Или примарностью. Будь любовь животным, она была бы жвачным. Будь любовь академической дисциплиной, она была бы философией. Будь любовь реликтом вымирающего жанра литературы, она была бы рифмованным стихотворением. Или очень длинным романом. Будь любовь знаком препинания, она была бы многоточием. Будь любовь транспортным средством. Будь любовь фонтаном. Будь любовь восьмицилиндровым двигателем. Будь любовь. Будь она. Будь…
Голос Уилла затих, и тут мы поняли, что он задремал – голова его теперь, как у младенца, покоилась на изгибе его руки. Он похрапывал. Видя это, Рауль взял у Уилла из пальцев сигару и загасил ее о край стола. Нэн смахнула у него с лица прядь седых волос, а Этел мягко надвинула федору ему на переносицу, чтобы прикрыть Уиллу глаза от солнца.
– Что ж, – произнес доктор Фелч, – похоже, мероприятие по сплочению коллектива для вас все же буду проводить я. Не так мы это планировали, публика. Но руководство требует стойкости. Следуйте за мной… – Мы все встали со скамей и двинулись следом за доктором Фелчем к краю загона. За спинами у нас Уилл Смиткоут остался храпеть, лицом по-прежнему в изгиб руки, за столом для пикников. – Вот сюда… – сказал доктор Фелч и подвел нас к алюминиевой ограде, окружавшей обширный загон, где в дальнем углу уныло стоял один-единственный черный теленок. Он щипал какое-то сено, выложенное ему в угловую кормушку. – А теперь, – сказал доктор Фелч, – нам пора научиться тому, что на самом деле означает командная работа…
И с этими словами он распахнул перед нами алюминиевую калитку, чтобы мы вошли. Шагнув в загон, мы услышали слабый и горестный звук, который маленький теленок издал на другой его стороне.
* * *
{…}
Противоположность «любви» – ныне больше, чем когда-либо – есть «результативность». Результативность влечет за собой способность достигать большей цели, затрачивая то же количество усилий, либо достигать той же цели, вкладывая меньшие усилия. Ни то, ни другое не есть достойные цели. Поскольку, вообще-то, достойно лишь то, что нельзя оптимизировать. Любовь оптимизировать нельзя. Да и научение чему-то значимому нельзя сделать более действенным; ибо если б можно было, оно тогда бы перестало быть поистине значимым. Любовь – неспешное дело времени, вечного неизменного времени. А если что-то заставили происходить быстрее или результативнее, значит, это с самого начала не было любовью. К счастью, общинный колледж это осознает…
{…}
* * *
Закрыв калитку загона, доктор Фелч повернулся к нам и сказал:
– Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Многие из вас работали в других общинных колледжах по всему свету, и вы себе думаете, дескать, ох нет, только не это. Еще одно упражнение по сплочению коллектива, чтобы все наши рабочие процессы стали результативней! Будьте честны – об этом вы сейчас и думаете, верно? И я вас не виню! Потому что, если вы похожи на большинство преподавательского состава и персонала типичного общинного колледжа, вы столько раз уже участвовали в упражнениях по сплочению коллектива за свою штатную работу, что всех и перечислить не сумеете. В Коровьем Мыке мы перепробовали их все: упражнения и с измерительной линейкой, и с теннисными мячиками, и с обручем, и то, где вы с небольшой командой коллег-преподавателей носите на большое расстояние яйцо на кухонной лопатке. Вообще-то готов спорить, все это вы тоже перепробовали. А еще я могу поспорить, что в конце дня, когда со всеми этими мероприятиями покончено и оплаченный тренер уехала со своим чеком, вы возвращались к себе в одинокий кабинет, а представления ваши о том, что такое работа в команде, не стали яснее тех, что у вас были перед тем, как вы схватились за ту лопаточку. Но почему? Да потому что во всей этой чепухе нет никакого практического или культурного значения. Какое отношение имеет обруч к конкретному сообществу, которому вы служите? И кому какая разница, что вам удалось перенести яйцо через поле? В конечном счете чего на самом деле вы добились? Совершили что-то для улучшения человечества и мировой цивилизации? Чуть сильнее «Полюбили культуру Коровьего Мыка»? Разумеется, нет! Так зачем же нам тратить столько времени на всякие обручи, теннисные мячики и лопатки?..
При третьем упоминании слова «лопатка» Рауль подался ко мне и раздраженно прошептал:
– Чарли, о чем это он, к черту, говорит? Вы вообще понимаете?
– Без понятия, Рауль, – ответил я. – Полагаю, скоро мы это выясним…
Доктор Фелч достал еще одну сигарету и теперь ее прикуривал. Он говорил, а губы его при этом кривились вокруг нее, и он щурился от дыма:
– …Как человек, подверженный метафоре, я бы хотел предположить, что мы учимся видеть мир в метафорических понятиях. Поскольку то буквальное, что вы сейчас перед собою видите, – этот загон, эта пыль, маленький теленок вон в том углу, – все это можно рассматривать как прекрасную и сложную метафору самого́ общинного колледжа. Загон этот, видите ли, есть царство образования, которое мы занимаем как высшее учебное заведение, – это обширное интеллектуальное пространство населяем мы, ученые и скульпторы юных умов. А окружают его эти алюминиевые изгороди, представляющие собой границы нашего воображения, традиционные правила времени и пространства, что предписывают нам мыслить знакомыми способами и делать то же, что мы делали всегда. И потому, если мы способны увидеть мир в этом новом свете, если только мы в силах научиться вырываться из привычки рассматривать явления, нас окружающие, в строго буквальных понятиях, а вместо этого начнем видеть все в этом мире метафорически, то вот это… – тут доктор Фелч обвел рукой пространство загона, пыль, маленького теленка, по-прежнему медленно жующего сено набитым ртом, – все, что вы тут видите, станет не просто тем, чем оно кажется, но еще и тем, что существует в высшей, риторической плоскости. Что, в свою очередь, обогащает нашу жизнь, делает ее красивой, интересной и достойной. Эй, Этел!..
Услышав свое имя, внезапно выпрыгнувшее из монолога, Этел навострила уши.
– Да, доктор Фелч!
– Этел! Вы любите метафору?
– Не очень, доктор Фелч. Я журналист.
– Ну, вот и давайте поглядим, не удастся ли нам немного раздвинуть ваши горизонты. Ответьте-ка мне вот что. Говоря метафорически, если этот загон – царство образования, населенное нашим колледжем, и ограды – ограничения нашего коллективного воображения… то каково, по вашему беспристрастному журналистскому мнению, метафорическое значение этой сухой пыли, на которой мы сейчас стоим?
– Земля, на которой мы стоим? – переспросила Этел. – Ну, эта грязь, на которой мы стоим, тогда будет ведомственным основанием, на котором покоится наш колледж. Иными словами, это будет декларация миссии колледжа, которая направляет нас во всем, что мы делаем, – особенно же в той части, где мы платим налоги.
– Прекрасно, Этел! Для журналиста неплохо. Теперь давайте спросим Льюка…
Услышав свое имя, и Льюк в ответ выпрямился.
– Льюк! Скажите нам, пожалуйста… если загон – царство обучения, ограды – ограничения, а грязь, на которой мы стоим, – декларация миссии, поддерживающая нас в нашей работе, тогда в этой долгой и сложной – быть может, даже запутанной – метафоре, что, по-вашему, представляет калитка, в которую мы только что зашли?
– Вы имеете в виду, вон та? С алюминиевой щеколдой?
– Да. Вон та.
– Ну, калитка, в которую мы только что вошли, доктор Фелч, может быть общим собранием, которое все мы вчера посетили. Так же, как несколько минут назад вы открыли эту алюминиевую калитку, чтобы впустить нас в загон, вчера на собрании вы распахнули ворота, приветствуя нас в царстве высшего образования в общинном колледже Коровий Мык. Калитка, следовательно, – порог, что ведет из бесплодного мира невежества на арену ухоженного просвещенья.
– Верно говорите! Именно это она и есть, Льюк. У вас всех отлично получается – я знал: не стоило мне так беспокоиться из-за того, что вас пришлось нанимать, в глаза не видя, после единственного собеседования по телефону. Стэн!
– А? – отозвался тот; он стоял, заложив руки за спину, и старался не встречаться взглядом с доктором Фелчем. – Кто? Я?..
– Стэн! Скажите нам, пожалуйста… если грязь – это декларация миссии, загон – царство обучения, а калитка – собрание, приветствовавшее новых преподавателей в Коровьем Мыке, что вы тогда скажете о метафорическом значении жаркой автобусной поездки, которую мы недавно завершили?
Лицо Стэна приобрело глуповатое выражение.
– Автобусной поездки?
– Да, Стэн, автобусной поездки от туманной зелени нашего кампуса к этому сухому и пыльному загону высшего образования?
– М-м, не уверен, – ответил тот, а затем, после долгой паузы: – Я даже не знаю, доктор Фелч…
– Стэн! Да ладно вам! Примените свою богом данную способность к высшему мышлению! Что такое автобусная поездка?
– Это… э… река Коровий Мык?
– Река Коровий Мык?! Как она может быть рекой Коровий Мык?
– Ну… я просто думал, что и дорога, и река – они как бы такие длинные. И река в основном пересохла. Но дорога тоже сухая из-за засухи. Они обе… Я в смысле… Ай, черт, да не знаю я! Мне такие штуки никогда особо не давались!..
Доктор Фелч покачал головой.
– Нет, Стэн. Дорога – не река Коровий Мык. Кто-нибудь еще хочет попробовать?
Тут заговорила Этел Ньютаун, только что нанятый преподаватель журналистики, – либо в поддержку супруга, либо поперек ему, теперь уже ничего не было так ясно, как некогда.
– Может быть так, – сказала Этел, – что автобусная поездка символизирует нашу общую тропу, по которой все мы должны пройти, стремясь к учительской безупречности и студенческой успеваемости? Каждый из нас прибыл в Коровий Мык разными тропами. Однако в итоге вот они мы – сидели в жарком автобусе, нас везли по засухе целую вечность в этот жаркий пыльный загон. Стало быть, автобусная поездка наверняка будет представлять нашу общую судьбу. А из этого следует, что сам автобус символизирует собой вселенную. И это значит, что шофер автобуса, ваш друг по старшим классам, доктор Фелч, – Господь Бог. Зеленые виниловые сиденья – множество различных мировых религий… или, быть может, множество церквей в Разъезде Коровий Мык. А это означает, что отказ от претензий, который мы подписали перед тем, как нас взяли в эту автобусную поездку нынче утром, есть наше безмолвное согласие на гегемонию высшей власти.
– Именно, Этел! А дерево, отдавшее свою жизнь ради бланка этого отказа?
– Дерево, конечно, символизирует Его неумирающую любовь к нам.
– Отлично! Итак, подведем итог. Загон – наш колледж. Грязь – его декларация миссии. Ограды – правила и условности. Автобус – наша судьба. Мой друг по старшим классам – Вседержитель. И поскольку все мы нынче утром прилежно подписали и сдали письменные отказы от претензий, мы можем быть спокойны, что на одном уровне наш колледж застрахован, а на другом – что мы спокойно уступили и приняли то, что никому из нас не определить окончательную судьбу нашей собственной души. И вот, если подойти к вопросу еще ближе, то есть еще более метафорически, пыльный съезд с шоссе на ранчо становится…
– …нашим поступлением в магистратуру!
– А знак, приветствовавший нас в том месте, «где сходятся мясо и мык»…
– …есть приветственный комплект документов!
– А чахлое дерево – это…
– …наш отдел финансового содействия!
– А манерка Уилла с бурбоном…
– …есть Соблазн!
– А его сигара…
– …это несбывшаяся греза!
– А история семейства Смиткоутов…
– …поучительный сказ, изложенный задом наперед!
Так доктор Фелч рьяно проверял на прочность нашу способность к метафоре, а мы с готовностью, изголодавшись по небуквальному, отвечали ему. Это продолжалось некоторое время, покуда мы уже, казалось, не вошли в превосходный ритм и препятствия эти пройдем с высоко поднятыми флагами, – как доктор Фелч в механику нашей вселенной вбросил эмаскулятор – вернее сказать, в механику моей вселенной. Пристально глядя на меня, он произнес:
– Итак, Чарли…
– Да, доктор Фелч?
– Итак, Чарли, раз мы теперь со всем этим разобрались, скажите-ка мне вот что. Как насчет теленка?..
– Теленка?
– Да, Чарли… что здесь делает этот одинокий теленок?..
– Ну, в данный момент он задирает хвост…
– Я имею в виду метафорически, Чарли!..
Я посмотрел на теленка, который задирал хвост и принимался делать то, что телята делают сразу после того, как задерут хвост.
– Не знаю, доктор Фелч. Я про теленка особо не думал. Можете мне что-нибудь подсказать?
– Нет, Чарли, не могу. Но к этому вопросу мы вернемся чуть погодя, поэтому не оставляйте этой мысли…
Доктор Фелч прикурил еще одну сигарету от окурка предыдущей и глубоко затянулся. Затем, прокашлявшись, строгим тоном начал:
– Вон в том углу, друзья мои, стоит трехмесячный теленок, которого только предстоит отлучить. Он мужского пола…
Как по команде, мы все посмотрели на теленка, а тот пялился на нас от своего сена, которое жевал. Теленок смотрел на нас медленными печальными глазами, и по бокам его рта болтались пряди соломы, однако жевать он не переставал.
– Теленок этот, – сказал доктор Фелч, – как мы это называем, нетронутый. Может мне кто-нибудь сказать, что означает быть нетронутым? Стэн?
– Ох, да он откуда знает?! – произнесла Этел. – Он же из Мэна! Нетронутый означает, что у него по-прежнему есть яички, доктор Фелч.
– Хорошо, Этел. И спасибо за такой решительный ответ. Вы абсолютно правы. Нетронутый теленок – тот, кто по-прежнему наделен яичками. Как все вы хорошо себе можете представить, для мужской особи любого биологического вида в наделенности яичками имеются определенные и весьма конкретные преимущества; они хорошо задокументированы, поэтому нет нужды тратить на это много времени. Однако с точки зрения животноводства также имеются практические, исторические, экономические, кулинарные и гуманитарные причины в отделении теленка от его яичек до того, как его самого отлучат от матери. Процесс этот называется холощеньем у лошадиных и обеспложиванием у бычьих, и это, скажем так, обряд посвящения, который должны пройти почти все телята мужского пола. Для большинства телят, видите ли, кастрация – нормальная и важная часть жизни, проводимой среди алюминиевых оград…
(Заслышав слово «кастрация», я вдруг вынырнул из своего оцепенения. Со всеми этими разговорами о метафоре я упустил из виду то, что мы стоим в настоящем загоне с настоящей грязью и на нас встречно смотрит настоящий теленок, изо рта у него по бокам свисает сено, а лицо у него грустное и беспомощное. Все стало медленно обретать у меня в мозгу форму, и пока это происходило, в промежности у меня начала расти некая тревога.)
– Вот этот инструмент в скотоводстве именуется эмаскулятором…
Доктор Фелч показал приспособление, похожее на мощные металлические щипцы для орехов, только длиннее и подозрительнее с виду, с острым краем обжатия. Завидев это устройство, женщины в нашей группе сбились в кучку поплотнее, чтобы лучше его разглядеть; мужчины же коллективно отступили на шаг.
– С начала времен скотоводы применяли кастрацию как инструмент управления своими стадами. В древности вавилоняне ввели эту практику, пользуясь кремневыми ножами, чтобы управляться со своими прирученными животными. Свиней, овец и коз теперь можно было одомашнивать и заставлять мирно сосуществовать в только образующихся человеческих поселениях. В Восточной Европе, как свидетельствуют недавние находки, ранние европеоиды применяли кастрацию для укрощения тяглового скота, что столь прилежно таскал их плуги и транспортные средства, и происходило все это аж за четыре тысячи лет… до Рождества Христова! (Если вы считаете, что нетронутые быки столь прилежно возделывали эти целинные земли, готовя их к семенам европейской культуры и цивилизации… так пересчитайте!) Во всех аграрных обществах кастрированные самцы покорнее, надежнее и менее склонны убегать или нападать на своих хозяев – или же физически увечить себя или своих соплеменников. Они скорее будут удовлетворены скучным однообразием повторяемых задач и нудного труда и вероятнее будут знать и принимать свое место в бычьей мужской иерархии. Без преимуществ кастрации, можно с уверенностью сказать, мир в известном нам виде не стал бы миром в известном нам виде, а превратился бы во что-то неузнаваемое. Будь быки нетронуты, они бы так ровно не вспахивали нам поля. Пылкие быки не сосуществовали бы в пределах ранних сельскохозяйственных поселений. А доисторические скотоводы так хорошо бы не питались, так экстенсивно бы не плодились, да и свободного времени на изобретения и усовершенствования у них вдосталь не было б, поскольку все его они бы тратили, гоняясь за нетронутыми жвачными и исцеляя нанесенные ими ранения. Сама история развивалась бы по совершенно иной, не такой прогрессивной и более медленной траектории. И это задержало бы развитие человечества на многие тысячелетия. Поэтому такая древняя практика стала и причиной, и результатом человеческого развития. Как орошение, грамотность и брак… кастрация, друзья мои, – не просто тавро, но катализатор цивилизованного общества…
Доктор Фелч выкинул окурок в пыль загона и растоптал его.
– …За много лет мы как-то упустили этот факт из виду. И начали сбиваться с пути. Но теперь, как только что нанятые преподаватели и сотрудники общинного колледжа Коровий Мык, вы приобщитесь к этой гордой традиции – традиции, покоящейся на историческом, экономическом, кулинарном, гуманитарном и, да, метафорическом значении. Сегодня ваша цель – поймать этого теленка и предать его судьбе. Поймайте его, смирите его, уложите на бок в пыли и придержите в безопасном и надежном положении. А остальное проделаю я сам…
Доктор Фелч умолк, чтобы слова его дошли до нас. Молчание длилось по крайней мере полминуты, прежде чем кто-либо сумел произнести связную мысль.
Наконец тишину нарушила Нэн.
– Доктор Фелч?.. Если позволите? Когда вы говорите «остальное»… вы имеете в виду, что наше сегодняшнее упражнение по сплочению коллектива состоит в кастрации этого теленка? Это ли я понимаю, слыша, как вы говорите, что нам нужно поймать его и смирить, а вы сделаете «остальное»?
– Все верно. Таково ваше задание. Я уже знаю, что не все вы занимались подобным в прошлом и поэтому, возможно, не уверены в своих кастрационных способностях. Но помните – в самом акте кастрации, как и в акте преподавания, не может быть места страху. Если у вас есть сомнения в ваших навыках укрощения, не забывайте, пожалуйста, что вес этого теленка сейчас – всего двести пятьдесят фунтов; все вместе вы вшестером в этом загоне весите как минимум в пять раз больше. Поэтому у вас есть преимущество – грубый вес на вашей стороне. Не говоря уже о роскоши времени. И человеческого разума. А также бремени человеческих отношений с окружающим миром. Но самое важное – и никогда не забывайте этого, друзья мои, – у вас есть… вы сами…
Доктор Фелч вытащил из пачки еще одну сигарету, но держал ее в пальцах, а закуривать не стал.
– …Командная работа, друзья мои, – вот что сделает ваше пребывание в общинном колледже Коровий Мык либо поразительным успехом… либо же бедствием эпических пропорций. Совместная работа – вот что связывает радуги между фонтанами. Это эспланада, соединяющая все различные камеры человеческого сердца нерушимыми и легко доступными связями. И потому, если станете работать вместе ради достижения этой важной и полезной цели, мне бы хотелось, чтоб вы держали в памяти более глубокое метафорическое значение того, чем вам предстоит заниматься. Ибо вы не просто кастрируете теленка, дорогие коллеги, – о нет! – но приносите присягу славе самого процесса обучения. Так стратегируйте же с коллегами. Сформулируйте план. Общайтесь друг с другом. Будьте смелее. Помните – укротить теленка мужского пола, даже когда ему три месяца и весит он едва ли двести пятьдесят фунтов, нелегко. Еще нетронутый теленок деятельно предпочтет таковым и оставаться, и какой-нибудь один преподаватель – особенно новичок в таких делах – не сумеет отговорить его от такого предпочтения в одиночку. Как вам предстоит узнать, для этого понадобятся скоординированные усилия. Это потребует связи друг с другом и участия всех вас до единого. Это потребует… командной работы! Поэтому соберитесь группой и решите, как станете валить этого гада. Я буду наблюдать за вами из-за вон той калитки. И когда увижу, что вы работаете всей командой, чтобы выполнить эту миссию, – подойду и покажу, что делать дальше…
Доктор Фелч сунул эмаскулятор себе в задний карман джинсов и вышел из загона, закрыв за собой алюминиевую калитку, а мы вшестером остались стоять в загоне с нежданно заволновавшимся теленком, который перестал жевать сено и принялся медленно, однако заметно отодвигаться от нас подальше.
Любить нелюбимое
…блаженны неплодные…
Лука, 23:29– Итак, Бесси, а по-вашему – что такое любовь?
– А? – ответила Бесси. – С чего вы это? И почему у меня спрашиваете? Почему сейчас?
– Просто любопытно, – сказал я. – Вопрос возник вчера на нашем упражнении по сплочению коллектива. И мне стало интересно, как вы смотрите на этот вопрос.
Бесси строго воззрилась на меня.
– Во-первых, Чарли, такой вопрос не задают женщине за пишущей машинкой. Во-вторых, если бы мне давали по никелю за каждого мужчину, кто пытался бы залезть ко мне в трусы при помощи таких подкатов, вероятно, я бы могла купить приличный дом себе и двум моим маленьким детям, а не жить в лачуге в конце грунтовки, где мы все живем сейчас.
– Это не подкат, Бесси. Мне честно хочется знать. Быть может, вы бы могли мне об этом рассказать сегодня за обедом в кафетерии?
– За обедом? – переспросила она. – Ну ладно. Только знайте, за себя я буду платить сама.
После моей беседы с Бесси медленное утро среды тянулось дальше с успокоительным однообразием конторской работы. Доктор Фелч предоставил мне экземпляр самого последнего самостоятельного отчета колледжа для аккредитации, и я пробирался через его двести с лишним страниц как мог. Читая, я оставил дверь кабинета открытой, и время от времени какой-нибудь новый коллега задерживался у нее поприветствовать меня в Коровьем Мыке и сокрушить все кости у меня в пальцах – или чтоб я сокрушил все кости в пальцах у нее. Все пользовались случаем радушно представиться и сказать что-нибудь о ценности моей предшественницы (ровно половина считала, что она была замечательна, а прочие радовались, что ее больше нет), а также осведомиться, пойду ли я на ту или иную вечеринку после работы. «Вы идете на барбекю к Расти сегодня?» – спрашивали они, или: «Вы идете на водяное сборище Гуэн?» И на оба вопроса, соответственно своему намерению, я подчеркнуто утвердительно отвечал, что иду. Стоя в дверях, мой новый коллега оделил меня комплиментом за лоск в моем недавно прибранном кабинете. В почтительных тонах некоторые даже хвалили диплом в рамке, который я гордо вывесил на стене, – мою магистерскую степень по управлению образованием с упором на общинные колледжи на грани краха, – и все выражали изумление по поводу бодрого маятника, что по-прежнему пощелкивал у меня на столе.
– Сколько эта штука уже ходит так взад-вперед? – спрашивали они.
– С понедельника, – отвечал я. – И с тех пор ни разу не остановилась. А мне любопытно, сколько она еще продержится.
На исходе утра, когда часы пробили полдень и я закрыл дверь кабинета, чтобы сходить на обед, металлические шарики по-прежнему неутомимо качались.
– Вы не поверите, – сказал я Бесси, пока мы с ней шли по эспланаде от административного корпуса к кафетерию. – Я только приподнял один шарик и всего разок его отпустил. Простое высвобождение потенциальной энергии. А он тукает туда-сюда уже почти два дня! – Бесси кивнула. Ей не нужно было нести тяжелую коробку, и она шла еще быстрее, чем на общее собрание два дня назад, а от такой скорости походки поддерживать с нею беседу о чем угодно было затруднительно, не говоря уже о человеческой вере в вечность. – Поверите ли? – снова сказал я. – Он как будто и не намерен останавливаться.
– Конечно, поверю, – сказала она. – Чему тут не верить?
– Ну, что маятник неутомимо качается уже два дня. То есть поверить в это трудно, разве нет?
– Нет, в это нетрудно поверить. Трудно поверить в то, что человек с вашим образованием не способен ходить немного быстрее…
Когда мы дошли до кафетерия, было уже десять минут первого и длина очереди за едой составляла несколько учителей. Возглавляла столпотворение Марша Гринбом, а сразу за нею стоял Алан Длинная Река, коренной преподаватель ораторского искусства, не говоривший ни с кем уже двенадцать лет. Бесси схватила себе поднос, салфетку и приборы, и я последовал ее примеру.
– Итак, Бесси, – сказал я. – Вот теперь вы можете мне сказать, что такое, по-вашему, любовь? Приборы уже у вас в руке, поднос под мышкой – можете ли вы мне поведать, что есть, по вашему убеждению, любовь?
Бесси вновь глянула на меня укоризненно. Но затем, словно бы чуя мою искренность, она, похоже, сдалась. От всех этих разговоров о любви я, с одной стороны, проголодался, а с другой – у меня возникли важные философские опасения. И если я не смогу утолить этот голод с нею, моим проводником средь сложностей общинного колледжа Коровий Мык, на кого же мне тогда в этом смысле рассчитывать?
– Любовь? – переспросила Бесси. – Вы желаете знать, что такое, по моему мнению, любовь? Так вот, Чарли, не у того человека вы спрашиваете. Я не такой жизнью живу, что позволила бы мне рассказывать кому бы то ни было о том, что есть любовь. Но на меня производит впечатление ваше упорство. Поэтому давайте я вам расскажу кое-что другое. Чем говорить вам, что такое любовь, дайте-ка я вам вместо этого расскажу, чем она могла б быть…
(В начале очереди Марша Гринбом стояла с полной тарелкой салата. Но она один за другим перебирала в ней отдельные листики латука, отчего вся очередь и застопорилась.
– Мы так весь день тут простоим! – жаловалась за нами одна преподавательница экономики, а ее подруга с нею соглашалась:
– Ей просто повезло, что за нею Длинная Река. Любой другой бы уже ей устроил!..)
Бесси взяла салфетку и обернула ею приборы. Затем сказала:
– Чарли, даже не знаю, как вам об этом сообщить. Но я была замужем и разводилась три раза. Три отдельных раза, Чарли. А что это говорит о женщине, разводившейся столько раз? Что сообщает это любому мужчине брачного возраста, которому, возможно, захочется вступить с нею в серьезные отношения? Что, по-вашему, ему это говорит, Чарли? Что это говорит вам?
– Мне это говорит, что вы страстны и идеалистичны, но также порывисты. Вас легко ранить. И вы легко совершаете ошибки. Все это не плохо, Бесси. Не многократных разведенок этого мира нужно порицать… с подозрением мы должны относиться к неразборчиво незамужним – к тем, кто свой мир любит не так сильно, чтобы выходить за него замуж.
– Возможно, так это рассматриваете вы – как человек только что с автобуса, приехавший из какого-то другого места. И это, по-моему, в каком-то изысканном смысле выглядит причудливо и старомодно. Но позвольте сказать вам, что это означает для меня, кто родился и вырос в Разъезде Коровий Мык. Видите вон ту даму за стойкой, она сейчас подает рубленый бифштекс?
– Та, что в сеточке для волос? И с красивыми глазами?
– Она самая. Так вот, это моя одноклассница по старшей школе. После церкви я ей уши прокалывала. А она мне красила ногти. И видите, вон человек выносит мусор из кафетерия? В перчатках и засаленном фартуке? Так вот, это тренер по футболу у моего сына и старый друг моей семьи…
– Правда?
– Да. А знаете, кто был моей первой любовью? Кому я первому отдала себя всю, умом, душой и телом? На заднем сиденье «шеви-эль-камино»? В узкой мини-юбке и розовой блузке? В пылу мгновенья, как пятнадцатимесячная телка? Чарли, знаете ли вы, кто был моим самым первым мужчиной?
Вопрос Бесси интриговал, и на несколько секунд я задумался над ответом. Но, разумеется, знать такого я никак не мог.
– Нет, Бесси, не знаю. Мне этот человек вообще может быть знаком?
– Да, может. Вы его видели всякий раз на пути в колледж и обратно. Моим первым любовником, Чарли, был Тимми.
– Из будки охраны?
– Да. Тимми из будки охраны. А те три человека, с кем вы познакомились в баре, когда только ехали в кампус? Та троица, что смотрела футбол по телевизору, – ну, помните, вы даже их имена еще запомнить не успели… так вот, давайте я вам расскажу, кто они такие…
(Очередь за едой наконец-то поползла вперед, но тут же намертво встала через полшага; Марша Гринбом уже отошла от латука, но теперь она перебирала мини-морковку, держа каждую против света, а затем либо клала ее себе на тарелку, либо возвращала в лоток, откуда выбирала следующую.)
– …Так вот, те три человека из бара, Чарли? Хотите знать, кто они такие? Ну, один из них – мой брат. Второй – мой зубной врач. А третий – ну, скажем просто, он располагает обо мне более интимным знанием, чем могут вообще надеяться первые двое.
– Ваш консультант по налогам?
– Мой бывший муж. Чарли, после вашей остановки в «Елисейских полях» я знала, что вы направляетесь в кампус – еще до того, как вы в свой первый день вышли на работу. Брат процитировал мне ваш ответ на вопрос о вздутой мошонке. Стоматолог рассказал, что вы не очень-то тянете на поклонника футбола и вообще не похожи на координатора особых проектов. А Бак – это мой бывший – даже позвонил сообщить мне, что у вас не только запас дождя в чемоданах снаружи, но и что сестра Мерны продает свой «форд». Чарли, этот «форд» я только что купила. Вот это и значит быть трижды разведенной и по-прежнему жить в Разъезде Коровий Мык…
– Ух, просто невероятно, что мужчина в баре – ваш бывший муж. Какое странное совпадение. Он ваш первый муж?
– Второй. Моим первым был водитель автобуса. Ну, тот, что возил вас на упражнение по сплочению коллектива.
– Наверно, городок и впрямь невелик. А ваш третий муж? Видимо, его я тоже знаю?
– Мой третий муж? Извините, но об этом я разговаривать правда не хочу. И да, вы его знаете…
Голова у меня уже кружилась от всех этих безымянных мужей и предыдущих любовников. И вот, пока мы стояли в очереди и ждали, когда Марша выберет себе помидоры «черри», Бесси рассказала мне о множестве мужчин в Разъезде Коровий Мык, которых она раньше любила. Продавца из книжного магазина. Человека, стригшего газон перед нашим корпусом. Специалиста по технологиям. Шофера автобуса и его двоюродного брата. Даже человека, игравшего на губной гармошке за временной автобусной остановкой.
– Его тоже?
– Его тоже. И потому, Чарли, отвечая на ваш вопрос – нет, я не скажу вам, что такое любовь. Но давайте я вам лучше расскажу, чем любовь могла бы для меня быть. Чем она могла бы стать, обернись жизнь чуточку иначе. Видите ли, обернись жизнь для меня чуточку иначе, любовь могла бы стать красивого цвета свежескошенной травы или зеленого винила. Мягким прикосновением к моей руке перед операцией. Или томительной губной гармошкой, играющей в темноте. Она могла бы стать футболом субботним днем с добрыми друзьями в баре; или совместной тягой к садоводству; или еженедельными поездками вместе в христианскую церковь нашей излюбленной конфессии. Черт, да было такое время, когда она могла бы даже стать романтической поездкой на старом грузовичке, в котором нет ремней безопасности. Чарли, любовь могла бы стать чем угодно из перечисленного, обернись все чуточку иначе. Конечно, я понимаю – любовь не может быть всем сразу, но даже теперь чувствую, что она могла бы стать любым из этого порознь. Если б только жизнь обернулась чуточку иначе…
– Марша! – закричал кто-то у нас из-за спин. – Черт возьми, Марша, давайте уже двигаться! – И Марша наконец положила на место зеленую оливку, которую внимательно рассматривала, и от прилавка с салатами, минуя мяса и подливы, направилась прямо к кассе расплачиваться.
– Очень вовремя!.. – сказала Бесси. – Я думала, нам придется говорить о любви вечно!..
* * *
Заплатив за еду и заняв места, я спросил у Бесси о так называемом Наставническом Обеде, который был обязателен для всего нового преподавательского состава на следующий день. Бесси объяснила, что каждому новому преподавателю назначается старший коллега, который поможет ему с адаптацией к жизни в Коровьем Мыке: где забирать стирку, как подавать прошение на сбор цветов, как не получить нежеланную вздутую мошонку себе в почтовый ящик в понедельник и все такое прочее. Наставнические обязанности, объяснила она, не добровольны, но от старых штатных преподавателей их выполнение ожидается, и задания эти назначаются поочередно. Ты себе наставника сам не выбираешь, и наставник не может выбрать тебя.
– Так вы знаете, кого назначили нам? – спросил я. – Похоже, вам известно все, что здесь происходит.
Бесси объяснила, что назначения еще не объявили.
– Но кем бы он ни был, молитесь, чтоб не он… – Бесси показала жестом на столик кафетерия – пустой, за исключением единственного преподавателя, который сидел за ним сам по себе и спокойно читал газету. То был Уилл Смиткоут, и, сидя вот так и читая газету, он курил сигару и отпивал из своей манерки с бурбоном, нимало этого не стыдясь, на виду у всего остального кафетерия.
– Это же Уилл Смиткоут! – сказал я. – Он был вчера с нами на упражнении по сплочению коллектива.
– Хотите сказать – он туда явился?
– Опоздал на несколько минут. Но приехал. И поделился своими мыслями о любви, что мы в полной мере оценили. Похоже, он приятный малый, Бесси. Почему вы говорите, будто мне следует надеяться, чтоб его не назначили моим наставником?
– Не поймите меня неверно – я знакома с Уиллом Смиткоутом много лет и люблю этого парня как личность. Но его нельзя и близко подпускать к новому преподавательскому составу. Этот человек черств и циничен. Он только и делает, что сидит за тем столиком с газетой и бурбоном. Он теперь почти не учит. А когда проводит занятия, читает материал по тем же конспектам, с каких начинал тридцать лет назад.
– Если с ним все так плохо, почему же он председатель комиссии по ориентации нового преподавательского состава? Не странно ли, что такая ответственность возлагается на человека, которого и близко нельзя подпускать к новым преподавателям?
– Его стараются держать подальше от настоящих комиссий. В прошлом году вот поручили рождественскую, помните? Предполагалось, что это просто формальность, лишняя строка ему в резюме, но и ее он успешно развалил. В этом году решили поручить ему комиссию по ориентации нового преподавательского состава, поскольку в теории эту комиссию испортить еще труднее.
– В этом, наверное, есть смысл.
Бесси слегка посолила свой рубленый бифштекс.
– Ну и как вообще получилась?
– Что вообще получилась?
– Ориентация нового преподавательского состава?
– Вы имеете в виду нашу автобусную поездку к просветлению?
– Да, упражнение по сплочению коллектива. Это Уилл такое придумал. Поэтому мне и любопытно, как оно вышло.
– Да прекрасно вроде…
И тут я рассказал Бесси о дне, который я провел со своими новыми коллегами. О том, как мы вшестером стояли на холоде, беседуя о фонтанах, и о том, как ее бывший муж забрал нас и отвез на ранчо «Коровий Мык», где мы делились постыдными тайнами, а затем нас завели в загон и попросили кастрировать теленка. Когда я дошел до той части, где доктор Фелч сует эмаскулятор в задний карман и закрывает за собой калитку загона, Бесси насадила на нож брусок масла и намазала им обеденную булочку.
– Ну и что вы сделали? – спросила она, обмакивая булочку в ту часть подноса, что содержала подливу от рубленого бифштекса, после чего откусила. – После того как доктор Фелч забрал с собой эмаскулятор и оставил вас шестерых одних в загоне кастрировать теленка, – что вы сделали тогда, ребята?
– Ну а что мы могли сделать? Собрались вместе и принялись стратегировать…
– В загоне?
– Да. Мы встали кружком и начали смыкаться в команду. Это было вообще-то очень щемяще.
– Расскажите же, Чарли. Расскажите мне о вашем упражнении по сплочению коллектива…
– Вы уверены, Бесси? В смысле – мы же есть едва начали. А мне бы не хотелось портить вам аппетит подробностями…
– Я из Разъезда Коровий Мык, Чарли, – мне аппетит не испортит ничто. Перенесите же меня туда!..
И потому я возобновил рассказ с того места, на каком остановился.
– Ну, тогда ладно, – сказал я, – в общем, Рауль собрал нас в круг разрабатывать стратегию того, как лучше всего кастрировать теленка, который уже начал от нас пятиться…
* * *
– По-моему, он знает, – произнесла Нэн, оглядывая теленка. – Мне кажется, он знает, что мы собираемся с ним сделать.
– Откуда ему знать? – возразил Стэн. – Он же просто теленок! Телята вообще ничего не знают!
– Это ты так думаешь… – сказала Этел. – Телята – они как все прочие животные. Могут ощущать и чувствовать, что происходит в человеческой душе. Несмотря на шестнадцать лет нашего брака, Стэнли, я знаю: тебе это понятие усвоить по-прежнему очень трудно…
– Но если даже и так, – сказал Льюк. – Какая разница, знает он или нет?
– Ну, я просто сказала, – сказала Нэн, – поскольку не уверена, что мне хочется это испытывать. В смысле, вы видели его глаза… какие они у него грустные? По-моему, я так не смогу – зная, что он знает…
– Да ничего он не знает! – сказал Стэн. – Он не знает, потому что он – корова, а коровы – животные, а животные ничего, блядь, не знают ни про что на свете. Потому-то они и животные! Вот что отличает нас от них! Вот почему он за этими оградами, а мы…
– Ну, по правде говоря, Стэн, мы тоже за этими оградами…
– Послушайте, – сказал Рауль. – Мы можем не отвлекаться от нашей миссии? Нам дали конкретное задание, которое надо выполнить. И не знаю, как насчет вас, ребята, а мне жарко и хочется пить, а мои черные брюки со стрелками и тщательно начищенные ботинки все уже запылились в этом загоне. Мне бы хотелось покончить с этим делом и продолжать жить дальше. Поэтому давайте уж всё сделаем, пожалуйста?
Мы все согласно кивнули.
– Здорово. Я тут об этом подумал, и вот как мы можем поступить. Давайте я вам все представлю визуально…
Мы вшестером стояли кру́гом, но когда Рауль опустился на колени в грязь, все мы последовали его примеру. Теперь мы стояли на одном колене идеальной кучкой, словно футбольная команда начальной школы вокруг своего распасовщика. Рауль закатал рукав своей рубашки с белым воротничком и пальцем принялся рисовать в пыли загона. Чертил он деловито, и пока не закончил, мы все хранили выжидательное молчание. На заднем плане слышались предкастрационные звуки: теленок блеял, а его мать жалобно стонала – звала его из дальнего отсека загона. Меж тем доктор Фелч стоял за алюминиевой калиткой, упокоив одну ногу на самом нижнем ее брусе. В руке у него был мегафон, и когда он опирался локтями на ограду, тот болтался на руке над калиткой. Рауль продолжал ожесточенно рисовать в пыли, а закончив, показал нам, что получилось:
– Так, – произнес он, – вот наш загон. Рисовал я его поспешно, но будьте уверены, масштаб соблюден. С этой его стороны калитка, а в том конце – кормушка, там же, где теленок. Нас шестеро, а он всего один. А это значит, что в угол нам его загнать будет нетрудно. А там уже каждый уцепится за него и станет держать. – Тут Рауль нарисовал еще одну диаграмму, на сей раз – показывающую наши соответствующие задания:
– Как только мы все его схватим – тут же накреним и придержим, чтобы доктор Фелч смог сделать все остальное. Только осторожней хватайте за ноги, он может брыкаться. Вопросы есть?
– Ага, – сказал Стэн. – Отчего вы думаете, что он станет брыкаться?
– А вы б не стали?! Так или иначе, я думаю, вот как нам надо поступить.
Рауль вытянул руку в середину нашего людского круга и оглядел каждого из нас. По его подсказке я свою руку возложил поверх его, Этел положила свою на мою, Льюк свою на ее, Нэн на его, а потом Стэн.
– Вперед, КОМАНДА! – закричали мы и поднялись из полуприсяда.
Тут из мегафона раздался голос доктора Фелча – прилетел оттуда, где тот стоял.
– Вы меня слышите? – спросил он. – Эта штука работает?
– Мы слышим вас! – заорали мы. – Работает!
– Хорошо. Я просто хочу вам напомнить, что чем дольше вы тянете, тем сильнее будет нервничать теленок. А чем сильней он нервничает, тем больше крови потеряет, когда мы его чикнем. Это не любовные ласки, публика, где чем дольше разминка, тем лучше результат. Давайте уж приступайте!..
Доктор Фелч отключил мегафон.
– Хорошо, – сказал Рауль. – Мы готовы? Чарли, вы готовы?
– Я готов.
– Льюк, вы готовы?
– Готов.
– Этел. Готовы?
– Готовей не бывает.
– Нэн?
– Я все равно думаю, что он знает…
– Нэн? Вы готовы или нет?
– Ну, наверное, готова. В смысле, да, я готова.
– Здорово. Стэн? Стэн, вы готовы? Стэн?..
И тут мы перевели на него взгляды как раз вовремя: тело Стэна с глухим стуком рухнуло наземь, в грязь загона. Он судорожно дергался, глаза его закатились, а изо рта шла пена.
– Принесите ему воды! – сказал Рауль.
Льюк выбежал из калитки и набрал в ведро воды, но когда вернулся, она оказалась так горяча, что была уже ни к чему.
Вновь включился мегафон доктора Фелча.
– Льюк! – сказал в мегафон доктор Фелч. – Льюк, нужно дать горячей воде стечь из шланга, а потом наполнять ведро!
И вновь Льюк сбегал туда и обратно с ведром, и на сей раз вода оказалась достаточно прохладна, чтобы безопасно вылить ее на голову Стэна. Этел положила ее себе на колени и перебирала пальцами мокрые волосы у него на черепе. Веки Стэна затрепетали, он заморгал, после чего, ко всеобщему облегчению, открыл глаза. Этел еще побрызгала на него водой.
– Давайте отнесем его под чахлое дерево, – сказала Нэн.
Льюк, Рауль и я подняли Стэна и перенесли его под дерево. Под неожиданной тяжестью стол для пикников заскрипел и содрогнулся, и Уилл Смиткоут тут же зашевелился и начал пробуждаться от своего глубокого сна, осоловелый и обалделый, а изо рта у него свисала вожжа поблескивавшей слюны:
– Если б любовь была фонтаном… – бормотал он, – …она была бы «олдзмобилом»…
Мы впятером стояли вокруг, а Стэн оторвал голову от стола, на который мы его положили.
– Что это было только что? – спросил он.
– Вы отключились, – объяснили мы.
– Вы меня дурите…
– Нет.
– Правда? Я отключился?
– Да.
– Как бы совершенно без движения?
– Да.
– Так вы мною воспользовались?
– Нет, – ответили мы. – Не воспользовались.
– А почему?
И тут мы поняли, что рассудок к Стэну вернулся, и, если предоставить ему немного отдыха, гораздо больше воды и чуть больше тени, он снова станет тем Стэном, которого мы уже полюбили.
При этом Уилл тоже, кажется, пришел в себя.
– Что я пропустил? – спросил он. – Вам удалось? Вы предали теленка его судьбе? И где моя сигара? Где моя чертова сигара?!
– Она у вас в кармане, Уилл.
– Попробовала б там не оказаться, к черту. Значит, теленок уже кастрат?
– Нет, Уилл. Мы попробовали, но не вышло. Нэн выразила сострадание и сомнение, а Стэн лишился чувств на жарком солнце. Похоже, мы еще не готовы поднять эту конкретную перчатку. По крайней мере – сейчас.
– Правда? Так, значит, все решено? На сегодня хватит? Вы задираете лапки перед заданием? Закругляетесь? Выбрасываете белый флаг? Или все же вернетесь и покажете этому теленку, как сажают семена цивилизации? Господи боже, да если б у американских колонистов было такое отношение вялых хренов, мы б до сих пор пили чай с молоком и в субботу днем смотрели, как играют в снукер. Давайте, ну – вперед назад…
– Но, Уилл, – воспротивились мы. – Стэн обезвожен и слаб. Уж точно если и есть убедительная причина не кастрировать теленка – это она, а? Уж точно если и есть достойное оправдание оставить мошонку нетронутой – это тяжелый солнечный удар и обезвоживание, от которых в настоящее время страдает Стэн?
Уилл еще раз отхлебнул из манерки. Затем понюхал сигару.
– Слушайте, – произнес он. – Если вы считаете, что сплачивать коллектив с коллегами трудно, поживите-ка с другим человеком под одной крышей тридцать восемь лет. Знаете, сколько раз мне хотелось все бросить? Уложить свой эмаскулятор и пойти оттуда к черту? Но я не стал… я застрял еще на тридцать семь лет. Еще на двадцать девять лет. Еще на семнадцать лет… Вот так-то я и вырос как человек и как работник образования. Если б любовь была женщиной, видите ли, она была б той, рядом с кем просыпаешься каждое утро тридцать восемь лет. А не красоткой из супермаркета, что пришла и ушла ох как давно и далекое воспоминание о ком возбуждает тебя и по сию пору…
Я умолк.
Бесси насаживала последний кусок рубленого бифштекса на кончик вилки.
– И что? – сказала она, возя вилкой в подливе. – И что же было дальше?
– Ну, тогда мы все осознали, что Уилл прав. Мы поняли, что, как и в преподавании, в любви требуется несгибаемая преданность результату, а не только процессу.
– А потом?
– И поэтому мы вернулись за ограду и загнали теленка в угол. Было нелегко. Как только теленок увидел, что мы вокруг него смыкаемся, он развернулся и кинулся в брешь в ограде, голова у него там застряла, и он принялся брыкаться, но мы вшестером схватили его и втащили обратно через пролом, и каждый из нас взялся за ту часть, за какую и должен был, и держался за нее изо всех сил. Рауль выгнул бьющемуся теленку шею и повалил его на бок, прямо на Стэна, который допустил ошибку и схватился за передние ноги не с той стороны. Теленок брыкался и кряхтел, а в крученом захвате, который на него наложил Рауль, у него язык вывалился, но мы удержали животное на земле. Увидев это, доктор Фелч подбежал рысцой с эмаскулятором и взялся нас инструктировать. «Нэн, протяните ему хвост между ног… Льюк, прижмите ему нижнюю ногу верхней… Этел, упритесь коленом ему в бедро и немного надавите… не слишком!.. Чарли, осторожней, лицо не подставляйте, мальчик мой, он вас может пнуть под этим углом…» Затем он вытащил карманный нож и одним взмахом отрезал верхушку телячьей мошонки. Теленок дернулся и забился, но мы его удерживали, и тут доктор Фелч выдавил тестикулы – нажал на эти белые овалы и выдавил их из мешка так же легко, как выдавливал бы из кулька влажный чернослив. «Где мой эмаскулятор? – спросил он. – Черт бы драл, должно быть, выпал из кармана!..» И вот так вот, без эмаскулятора, он взял свой простой карманный нож и острым краем лезвия принялся выбривать мешок, проводя заточенным лезвием взад и вперед, как резчик строгал бы деревяшку, пока овалы не оказались у него в руках, а мешок не втянулся обратно. Затем он выхватил из кармана аэрозольный баллончик и побрызгал из него разрез, из которого хлестала кровь. «Так, – сказал он, – на счет три отпускаем его… только следите за задними ногами, чтоб не брыкнулся… готовы?.. раз… Два… ТРИ!» На счет три мы все отпрыгнули от теленка, а он вскочил и опрометью кинулся прочь от нас. На ходу он еще спотыкался, чтоб вернуть равновесие, и пока убегал, за ним по грязи тянулась тонкая струйка крови. Доктор Фелч взял отсеченный кончик мошонки со всей его черной колючей щетиной в крови и сунул к себе в карман рубашки. Затем взял тестикулы и положил их в пластиковый пакетик на застежке…
– А потом? – спросила Бесси.
– А потом разверзлась преисподняя. Бесси, вы не поверите. Мы скакали, и орали, и обнимались! Этел бросилась в объятья Стэну, а тот кружил ее, как фигуристку. Мы с Раулем лупили друг друга в раскрытые пятерни, кричали и хлопали друг друга по спинам. Доктор Фелч стоял и просто наблюдал, а сам улыбался, как гордый папочка. «Друзья мои, – сказал он. – Теперь вы знаете, какая степень командной работы ожидается от вас во время вашей службы в штате общинного колледжа Коровий Мык!» Со всеми нашими обедами подъехал автобус, мы смыли из шланга кровь и потную телячью щетину, а также телячье дерьмо с одежды, как смогли, и, сидя на лавочке под чахлым деревом, с наслаждением пообедали…
– Так все в итоге получилось хорошо?
– Ага. Получилось. Конечно, у Стэна остались ушибы ребер. А Льюка пнули в лодыжку, пока он пытался обороть теленка. Этел оцарапала себе подбородок о телячью морду, а Нэн вывихнула плечо, сами увидите – у нее рука на перевязи. И все мы искупались в дерьме, пока пытались завалить теленка наземь возле кормушки. Но в целом все прошло хорошо.
– А у вас?
– У меня тоже все хорошо. Вообще-то я остался относительно невредим и молча наслаждался обедом вместе с остальными, когда, к моему удивлению, доктор Фелч посмотрел на меня из-за своего сэндвича и спросил: «Ну что, Чарли, сейчас вы готовы ответить на вопрос?» Я не понял, о чем он. «На какой вопрос?» – спросил я. И все посмотрели на меня – и засмеялись.
– Он, вероятно, имел в виду тот не отвеченный вопрос, который задавал вам о метафорическом значении теленка.
– Именно. И вот он смотрит на меня и спрашивает: «Если загон – наш колледж, грязь – наша миссия, ограды – стандарты аккредитации, автобус – наша судьба, шофер – Он (или Она), а бланк отказа от претензий – наша покорность высшему присутствию… если все это правда, что тогда, Чарли, теленок, чьи тестикулы ныне покоятся в этом пластиковом пакетике на застежке?..
– И он показал пакетик?
– Точно. С легким наклоном, чтобы вся кровь стекла в один его угол.
– И что вы сказали?
– Я не сказал ничего. Я вообще не ответил. Я сказал ему, что мне нужно больше времени на обдумывание. Что я ему сообщу дополнительно.
– И на этом все?
– Пока что – да. Я пообещал ему дать определенный ответ к концу семестра. Он мне ответил, что не забудет и спросит с меня, и это попадет отдельным пунктом в мою первую аттестацию.
Бесси рассмеялась.
– Ну, тогда удачи вам с этим!.. – Она допила свой чай со льдом. Затем глянула на часы. – Было занятно, – сказала она, – но некоторым из нас пора возвращаться к работе. Хотя увидимся вечером…
– Непременно. Семь тридцать, у студии Марши. И еще раз спасибо, что согласились меня подобрать. Я рад, что не придется выбирать одну вечеринку в ущерб другой…
Мы с Бесси сбросили остатки трапезы с наших подносов в мусорные баки и направились обратно к административному корпусу заканчивать свои дневные труды. Выходя из кафетерия, я обратил внимание на мужчину в засаленном фартуке – имени мужчины я так никогда и не узнаю, – который вытащил мешок из бака и завязывал углы его узлом.
Расколотый преподавательский состав
В центре всякой хорошей истории есть конфликт.
Это влага, что несет жизнь жаждущей, высохшей почве самого бесплодного воображения.
«Справочник для кого угодно: как написать совершенный роман», стр. 36Последний самостоятельный отчет колледжа был документом, читать который оказалось совершенно не в радость. По правде сказать, прилежно вгрызаясь в его две сотни заплетающихся страниц – ряд за рядом отпечатанного на машинке текста, – я ужасался тому, что читал. В заявлениях колледжа о собственном состоянии я обнаруживал фактические ошибки, расхождения и искажения. Там содержались многочисленные утверждения, не имевшие никакого логического смысла, а еще больше было таких, что казались преувеличенными, или неясными, или даже намеренно двусмысленными или ложными. Декларация миссии сформулирована неверно. Цели неверно выстроены по ранжиру. У некоторых фраз не было окончаний, и они убредали в небытие, как будто написавшего их прервали на середине мысли или же редактор обрубил фразу, а потом забыл ее дописать. На странице 34 утверждалось, что общинный колледж Коровий Мык очно зачисляет 987 студентов, а его преподавательский состав насчитывает 161 человека, меж тем как несколькими страницами далее цифры эти переставлены местами. Графики и таблицы подписаны наобум. Кишмя кишели орфографические ошибки. Некоторые разделы давались от первого лица, другие – в третьем. Информация, которую можно было разложить по пунктам, излагалась повествовательными абзацами, а то, что можно было изложить повествовательно, членилось на сжатые и бесполезные пункты. Средь хаоса располагались карты без легенд и легенды без морали, а также имелся пассаж о недавних улучшениях на кафедре английской филологии, написанный, похоже… стихами. Одна глава, судя по всему, была целиком слизана с последующей главы на совершенно другую тему. А в другой раздел была вставлена, судя по ее виду, реплика в сторону – быть может, продиктованная случаем, – которая вообще не предназначалась для включения в этот документ: («Нижеследующее представляет собой изложение того, что по сути не так в этом мире»). Хуже всего то, что не существовало практически никаких доказательств истинности этих заявлений, которые могли здесь приводиться из лучших побуждений и оказаться правдивыми. Бесшабашные заявления об успехах размещались почти на каждой странице, однако не приводилось ничего в их поддержку. На странице 173 автор – или же авторы – утверждал, что «с введением в строй комплекса из тира и полигона для стрельбы из лука наблюдается громадный всплеск удовлетворенности студентов и заинтересованности преподавателей»; однако никаких данных в доказательство этого голословного утверждения, никакого графика или диаграммы, никакого полезного приложения не приводилось – ничего, предполагавшего бы действительный всплеск удовлетворенности и заинтересованности в результате введения в строй нового комплекса из тира и полигона для стрельбы из лука.
– Так, – сказал я доктору Фелчу, входя к нему в кабинет, дочитав весь этот ошеломительный документ. – Я только что закончил самостоятельный отчет.
– И?
– Это было жестоко. Невероятно, что вы могли сдать его своим аккредиторам. Неудивительно, что они нас подстрелили.
– Это ерунда. Погодите, я вам вот чего еще покажу… – Доктор Фелч извлек скрепленную стопку бумаг и шлепнул ее на стол. – Их ответ…
Я поежился.
– Боюсь даже взглянуть…
Когда я вернулся к себе в кабинет, худшие опасения мои подтвердились. В ответе на самостоятельный отчет аккредиторы бичевали все нестыковки до единой и все неверные и прямо-таки ложные заявления, на которые я наткнулся при собственном чтении этого документа. Они отмечали «провал управления» и «грубое искажение фактов», «бесхозяйственное расходование ресурсов» и «серьезные опасения» относительно будущего колледжа. В самом первом абзаце, подчеркнув красоту кампуса и превознесши «свежие ряды сирени и величественные платаны» – похоже, единственное хорошее, что было им сказать о своем визите, – аккредиторы перешли к тому, что эстетическое очарование кампуса «скрывает собой неспособность учебного заведения предоставить качественное образование своим студентам». Далее следовало ведомственное избиение на двадцати страницах, аккредитационное холощение, равного которому мне не доводилось видеть никогда прежде. И, читая язвительные комментарии – едкие отповеди и рекомендации, ядовитые предположения и резкую критику, – я чуть ли не обонял гнилостную вонь горящих волос и бледной незащищенной плоти, шипящих на солнце.
– Так что вы думаете, Чарли? – донесся до меня голос доктора Фелча. Он теперь стоял у меня в дверях, ожидая ответа. – Как вы считаете, есть у нас какая-то надежда?
– Не знаю, мистер Фелч. Хуже, по-моему, и не бывает…
– Я вас предупреждал…
– Это верно. Но я, видимо, не осознавал, что все зашло так далеко. Кто вообще собирал этот отчет?
– Ваша предшественница. Она должна была собрать все черновики от конкретных завкафедрами и объединить их в единый документ. Но она тянула до последней минуты. И когда подала мне его на подпись, было уже слишком поздно. – Доктор Фелч протянул мне третий документ, длиной всего в шесть страниц. – Вот, – сказал он. – Это наш план отклика на замечания аккредиторов…
Я открыл его и на первой странице увидел таблицу, где перечислялись заключения аккредиторов и предполагаемые ответные меры колледжа. И это при чтении тоже не вызывало довольства:
1 Закон США «О недопущении возрастной дискриминации» (1975) запрещает дискриминацию по возрасту при реализации программ, частично или полностью финансируемых за счет государственных средств, за исключением программ, изначально направленных на поддержку той или иной возрастной группы населения; запрещает также возрастную дискриминацию при найме; действует параллельно с законом «О возрастной дискриминации при найме» (1967) и содержит оговорку о том, что имеющиеся в законе «О недопущении возрастной дискриминации» положения не следует толковать как корректировку положений закона «О возрастной дискриминации при найме».
Тщательно прочтя эту первую страницу, я пролистнул остальные в ужасе. Всего там было тридцать шесть существенных заключений, с которыми колледж обещал разобраться до следующего приезда комиссии в марте, и я, читая их и на каждом вжимая голову в плечи, обводил кружками те, что касались меня лично: рождественская вечеринка для всех преподавателей и сотрудников, которую я стану организовывать во имя морального состояния в кампусе; оценки с посещением занятий, которые я, очевидно, обязан проводить в надежде увеличить способность ключевого преподавательского состава к оценке действенности их оценок; и пересмотр декларации миссии, который обеспечит нам приведение в соответствие наших целей, а также достижение ощутимых, измеримых итогов. Все это невозможно было переварить за один присест, и, выходя в конце того дня из корпуса, я заглянул в кабинет к доктору Фелчу попрощаться.
– Ни на какие вечеринки сегодня не идете, Чарли?
– Не планировал, честно говоря. Но потом ко мне заглянула Гуэн. А потом зашел Расти. Поэтому я, кажется, согласился на обе. А вы?
– Я буду у Расти. Мы устраиваем эту штуку по Мерне, и я никак такого пропустить не могу. Кроме того, на другую меня как бы не приглашали. – Доктор Фелч рассмеялся.
– Я немного опоздаю, – сказал я. – Бесси заберет меня в семь тридцать.
– Бесси? О! Тогда мы, наверно, увидимся с вами обоими, когда приедете!..
У себя в квартире я принял душ и стал ждать, когда за мной заедет Гуэн Дюпюи. За стеной громко играла бухающая музыка, и я слышал частый грохот, визг и хруст стекла, словно там били тарелки. Меня предупредили насчет кафедры математики, и теперь я испытывал это на себе непосредственно. Последние две ночи они не давали мне уснуть допоздна своим весельем, воплями, гортанным визгом и стонами, судя по звукам, сексуального разгула половозрелых кошек. Стараясь заснуть, я накрывал голову подушкой и затыкал уши бумажными салфетками. Но ничто не помогало. Если так и дальше будет продолжаться – если шуметь не перестанут на выходных, а особенно если это затянется и в наступающем семестре, – придется серьезно поговорить с ними о черствости. Я содрогался от одной лишь мысли: мне никогда толком не нравилось конфликтовать, у меня с этим не складывалось, и я, как правило, стремился такого избегать, когда только можно. Но об этом я подумаю как-нибудь потом: к корпусу как раз подъехала машина Гуэн, и она уже сигналила, чтобы я спускался.
* * *
{…}
Если б любовь была чем-то легким, наверняка она б не стоила того, чтобы к ней стремиться. Ибо лишь то, что проистекает из мук больших усилий, поистине чего-то достойно. Как трудность родов у женщины, что приводят в мир ребенка, так и муки чьей-либо любви к жизни приводят в мир еще больше любви. И ровно так же, как семена стебелька сельдерея – единственное, что приводит к родам большего количества сельдерея, семена любви – единственное, что приведет к посеву еще большей любви. В великом огороде общинного колледжа любовь – сельдерей, ожидающий посева, там огурец расцветает на лозе, а хрупкая руккола, еще не распустившаяся, затаилась в своем уединенье перед разливом вод жизни.
{…}
* * *
Машина у Гуэн – желтая двухместная, как выяснилось, и я тут же ее опознал как машину Гуэн, когда этот маленький купе сразу после пяти подъехал под окна моей квартиры. Заслышав ее клаксон, я тут же направился вниз, и Гуэн потянулась, отомкнула дверцу и впустила меня. Глубокое сиденье было мягким и манящим, и меня так очаровало удобство всего этого, что я не сразу понял, насколько легка дверца ее машины по сравнению со всеми, какие мне в последнее время доводилось закрывать; к моему великому изумленью, дверца захлопнулась с яростным, костоломным грохотом.
– Чарли, – произнесла Гуэн спокойно и немедленно. – Автомобиль, в который вы сели, есть совершенное произведение человеческой инженерной мысли. Это не калитка загона. Пристегните, пожалуйста, ремень и в следующий раз будьте осторожнее…
Внутри машина Гуэн была безупречна, и когда она выезжала со стоянки, все чувства мои захватил аромат вечнозеленой хвои и корицы. Снаружи чирикали птицы кампуса, а пеликаны прохлаждались на берегах лагун так, словно с последнего раза, когда я их видел, не трогались с места. Кампус закрывался на ночь, и работники администрации уже выходили из кабинетов и направлялись к машинам. Минуту-другую мы ехали молча, а затем Гуэн посмотрела на меня вопросительно.
– Скажите же мне, Чарли, – произнесла она, стоило нам свернуть на главную дорогу, пересекающую кампус, и проехать мимо большого плавательного бассейна с одной стороны и Института Димуиддла с другой. – Как вам пока нравится Коровий Мык?
– Прекрасно, – ответил я.
– Правда?
– Вас это, похоже, удивляет.
– Так и есть. В смысле, что именно делает наш колледж таким прекрасным?
– Ну, мне очень нравится кампус. И лагуны замечательные. Все, с кем я успел познакомиться, очень мне помогали и были дружелюбны – они либо заходили ко мне в кабинет представиться и поделиться крайне разнородными впечатлениями о ценности моей предшественницы для мира… либо не жалели времени и показывали мне, как пройти в библиотеку, где однажды остатки ее пестрого книжного собрания перейдут по наследству потомкам.
– Вы еще не избавились от ее книг?
– Нет, но избавлюсь. Тем временем несколько коллег высказали мне комплименты по поводу моего только что прибранного кабинета. Другие выразили свои глубочайшие соболезнования по поводу моих неудавшихся браков. И у меня такое чувство, что всего за три коротких дня я узнал больше о политической ситуации в Разъезде Коровий Мык, нежели большинство историков будет иметь удовольствие узнать за всю жизнь…
– Поздравляю.
– Спасибо.
– А чтение как продвигается? Вы хоть как-то углубились в те книги, которые откладывали к прочтению?
– Я продвинулся не только с ними, но и начал пару новых. Пока что я прочел понемногу страниц в нескольких – и по нескольку страниц в немногих. В целом же я сейчас читаю около восьми книг… – Тут я упомянул «Справочник для кого угодно: любовь и общинный колледж», мой недочитанный исторический роман и «Прелестных котиков мира». – Конечно, это значительный объем чтения, но я надеюсь с ними всеми справиться в ближайшем будущем.
– Значит, все для вас складывается гладко?
– Глаже некуда! Хотя должен признаться, я по-прежнему еще не очень разобрался в том, что вижу. Знаете, эти блуждающие радуги, рябь на отражениях и многочисленные сложные личности с их разнообразными группировками и устремленьями. Все это, если честно, меня по-прежнему немного ошеломляет.
– Вы действительно выглядите немного усталым.
– Это потому, что мне никак не удается толком поспать – после того, как кафедра математики вернулась из Северной Каролины…
– Не стоит из-за этого так огорчаться. Я тут уже пятнадцать лет и до сих пор стараюсь понять то, что вижу. Что же касается кафедры математики, подозреваю, достаточно скоро вы к ним привыкнете.
– Они всегда так громогласны?
– Они игривы, да. Это неизбежное следствие. В рациональном уме есть нечто такое, что заставляет его взывать к иррациональному. То и другое идут рука об руку, в это я твердо верю.
– А сами при этом преподаете логику?
– Да. Полагаю, можно сказать, что мне это известно по личному опыту. И из личных наблюдений. Очевидно, что между логикой и разумом есть разница. Но людям логическим требуется разум. А разумным людям в жизни требует очень много рациональности. И чем больше нужда в логике, разуме и рациональности… тем сильнее тяга к их противоположностям. Это применимо к любому общинному колледжу. Просто наша кафедра математики склонна доводить все до крайности…
За рулем Гуэн рассказывала мне о легендарных выходках нашей кафедры математики. О полуночных «Математических загулах», когда студенты и преподаватели переодевались в женское платье, удалбывались и пытались решить беспрецедентные алгебраические уравнения. И как каждый год четырнадцатого марта вся кафедра выходила в кампус с тачками сухих коровьих лепех, собранных по всей округе; и преподаватели раздавали их студентам у себя на занятиях; и как в самом начале четвертого уславливались встретиться у платана; и затем, как только большие часы на административном корпусе показывали ровно три часа четырнадцать минут и пятнадцать секунд, все математическое сообщество с воплями неслось к платану и затевало там всеобщую битву коровьими пирогами. С восхищением в голосе Гуэн описывала, как учителя математики дошли до того, что силой заняли целое крыло жилого корпуса для преподавателей, где некогда окопались гуманитарии, заявили о своем праве сквоттеров и превратили весь общий холл в математический мавзолей, увешанный графиками, диаграммами и вырезанными ростовыми фигурами Лейбница и Ньютона, дующих из одного кальяна на двоих. И как этих молодых учителей за их страстную преданность математической пытливости любили студенты, но за их безрассудное безразличие к правилам и непреклонную верность чистоте их принципов ненавидела администрация. И как они были знамениты своими массовыми перемещениями на различные конференции по повышению квалификации, где все мероприятия, похоже, неизменно скатывались в очередной туман беспробудного пьянства всю ночь напролет и оргий, насквозь пропитанных математикой.
– Они практикуют суровую форму любви к математике, – заключила Гуэн.
– Все это здорово и прекрасно. Но мне бы просто хотелось, чтобы они свои любовные радения ограничивали более подобающим временем. Я не сплю уже двое суток!
– Не беспокойтесь. Как только начнется семестр, поутихнет.
– Любовь к математике?
– О нет, она-то никогда не исчезнет! Я имела в виду буйное веселье.
– Надеюсь. Мне нужно спать. Аккредитационные документы читать и без того трудно!
Гуэн рассмеялась.
– Уверена, сегодня вы хорошенько выспитесь. Возможно, вы еще не привыкли к смене часовых поясов. Кроме того, я слышала, вчера вы поздно вернулись со своего мероприятия по сплочению коллектива. Этел мне рассказывала, как у вас на обратном пути в кампус сломался автобус и вам пришлось лишний час ждать на обочине. Она говорила, само мероприятие было, гм, интересным, если это слово в данном контексте подходит лучше прочих?..
– Его определенно можно так назвать.
– Она сказала, вы посеяли кое-какие семена цивилизации.
– Ну еще бы.
– И поделились постыдными и даже унизительными тайнами.
– Да, и это тоже.
– Она говорила, у вас он особенно нелогичен, поскольку, с одной стороны, вам не очень нравится быть с людьми, однако с другой – вы в равной же мере боитесь остаться один. Говорит, вы – много всякого, но ничто из этого не целиком.
– Тут она права.
– И еще она мне сказала, как Фелч все время прикуривал одну сигарету от другой. А Смиткоут отключился на столе с сигарой во рту, опьяненный прошлым, как обычно!
– Этел все это вам доложила? А что еще ей было сказать?
– Ну, еще она говорила, что они со Стэном движутся в разные стороны – и не только из-за оргазма. Она-де готова простить и забыть. Но я ей напомнила, что отношения мимолетны, а оргазмы – долг супруга, и это даже не обсуждается. Поэтому, наверно, можно было бы сказать, что у нас состоялась обоюдно просветительная наставническая встреча!
– Наставническая встреча? Так назначения уже распределили?
– Конечно. У вас – Длинная Река.
– Учитель культуры речи, который не говорит? И он – мой наставник?!
– Верно. Должно быть интересно, а! Но слушайте, вам хоть не Смиткоут достался!.. – Гуэн снова рассмеялась. Она проезжала мимо Центра здоровья и благосостояния имени Хэрриет Бауэрз Димуиддл. – Ну, Чарли, мне любопытно услышать еще что-нибудь о вашем вчерашнем упражнении по сплочению коллектива. Как все было? Сомнений нет, это вас очень развлекло. Но было ли оно по-настоящему поучительным? В смысле, как работник образования вы, разумеется, понимаете разницу между одним и другим, верно?
– Хотелось бы надеяться, что да.
– Так после этого упражнения по сплочению коллектива готовы ли вы вшестером работать вместе как команда?
– Абсолютно.
– Рука об руку ради вящей студенческой успеваемости?
– Думается, да.
– И совершенствования всего нашего сообщества?
– Да.
– И процветания американского образа жизни?
– Вполне.
– Они больны, Чарли.
– Что? Кто болен?
– Все они – больные люди. Фелч. Смиткоут. Стоукс. В смысле, назовите мне еще хоть один общинный колледж в стране – общинный колледж в какой угодно исторический период или какой угодно культуры на свете, – где было бы принято сгонять впечатлительных новых преподавателей, заталкивать их в школьный автобус, везти мимо заброшенных зданий и разлагающейся туши бизона, а затем вынуждать их всех… всех их – даже женщин! – и затем их вынуждать… боже мой, я от одной мысли об этом содрогаюсь… и затем их всех вынуждать…
– Все в порядке, Гуэн, говорите-говорите…
– …И затем их всех вынуждать беседовать о любви! Как это унизительно!
– Но, Гуэн, было не так уж плохо. Вообще-то мне кажется, мы получили из этого опыта все, что и должны были получить.
– Вы имеете в виду – метафорически? Или буквально?
– Понемногу того и другого.
– Сомневаюсь. Но, так или иначе, любовь не должна быть темой для смешанного общества.
– Не должна?
– Нет, не должна. Не о таких вещах следует разговаривать в жарком школьном автобусе или под чахлым деревом. Любовь не должна быть орудием манипуляции или подчинения. Она не должна быть транспортным средством без возвышенной точки назначения. Или инструментом, применяемым в чьих-либо личных целях. Любовью никогда не следует размахивать, как морковкой или палкой. Она не должна быть ни мучительной, ни натужной. Ни трудной. И, разумеется, она не должна быть способом достижения высшей цели, задачи или итога. По очевидным причинам ее никогда не следует рассматривать как нечто риторическое, метафорическое или аллегорическое. Любовь вообще не должна быть совсем ничем, кроме того, что она действительно есть. Чем бы ни была…
Гуэн притормозила и засветила свою карточку охраннику в будке. Тимми улыбнулся и махнул ей, пропуская.
– Спасибо, мисс Дюпюи! – крикнул он, но Гуэн, похоже, не заметила и проехала, никак ему не ответив.
– Знаете, – сказала она, когда мы в очередной раз проскакали через железнодорожные пути, – вот такое вот – это фиаско со сплочением коллектива, к примеру, – начинается с самой верхушки. Все идет оттуда. То есть, вот посмотрите, кто руководит нашим учебным заведением…
– Президент Фелч? Да он вроде приличный малый…
– Фелч? Вы смеетесь? Этого человека уже давно пора отправить на выпас. После всего, что он сотворил с нашим колледжем! И что творит с преподавательским составом. А в особенности – после того, что он сделал в прошлом году с вашей предшественницей… – Гуэн стиснула руль и покачала головой. – После того, что он сделал с ней, его самого надо бы охолостить!..
Тут я опять навострил уши.
– Почему? Что случилось с моей предшественницей? Что с ней такого плохого сделал доктор Фелч?
– Это некрасивая история… – Гуэн вдруг резко остановилась, чтобы пропустить через дорогу броненосца. Животное никуда не спешило и не торопясь переходило дорогу, а мы вдвоем терпеливо ждали. Без всякой спешки броненосец перемещался с одной обочины на другую, но, едва дойдя до противоположной стороны, остановился, развернулся и направился обратно, туда, откуда пришел, точно так же медленно и точно так же неспешно.
– Я отмечаю здесь некоторое сомнение, – заметила Гуэн. – Такая нерешительность вас всякий раз и приканчивает, мистер Броненосец!
Когда нерешительный броненосец достиг той же точки, с которой в самом начале и отправился в свое путешествие, Гуэн отпустила тормоз, и машина тронулась вперед, мимо броненосца, мимо заколоченного остова единственной городской типографии и прямиком – в темную повесть о том, как доктор Фелч совершил ужасную несправедливость с моей предшественницей во время ее преждевременно прерванной работы в штате в должности координатора особых проектов.
– В конце концов, виноват здесь Стоукс, – начала Гуэн. – Поскольку именно он решил, что здорово будет построить в кампусе плавательный бассейн, и тот должен быть в точности по форме американского флага…
Вновь пейзаж за окном изменился – от листвы нашего пышного кампуса до жаркого опустошенья всей окружающей местности. Ветер исчез. Воздух был мертв. Трава побурела и стала хрупкой под гаснущим солнцем раннего вечера. Я уже совершал путешествия в обе стороны, и такая перемена больше меня не удивляла так, как раньше.
– Случилось это лет десять назад, – продолжала Гуэн, пока мы ехали мимо рощицы высохших мескитовых деревьев, – когда наш кампус лишь начинал пожинать плоды щедрых вложений Димуиддла. Мы только что построили Обсерваторию и Концертный зал, уже планировались Стадион и Стрелковый тир (его должны были закончить раньше, но пришлось переместить подальше от библиотеки из-за опасений об избыточном шуме). То было особенно изменчивое время в мире, поэтому для нас все шло очень хорошо…
(Пока Гуэн говорила, я не мог не заметить некоторой идиосинкразии ее вождения. У ее машины была автоматическая коробка передач, и казалось, что в любой данный миг Гуэн либо сильно жала на педаль газа, либо сильно жала на педаль тормоза; ничего промежуточного у нее там не было – будто ноги, которые она применяла к педалям, были конфликтующими тенденциями, сокрытыми в глубине ее сердца, и она ежемгновенно с ними боролась. Пока она вела машину, желудок у меня дергался то вперед, то назад – с этим ее постоянным разгоном и торможеньем.)
– …Денег у колледжа тогда было хоть залейся на всякие блистательные проекты, и Стоукс в какой-то момент вбил себе в голову, что кампусу очень нужен плавательный бассейн и он должен быть в форме американского флага, поэтому Стоукс предложил это Фелчу, и они вдвоем продавили разрешение – у Фелча хорошие связи в местном правительстве, и планировщикам понравилась эта мысль: тринадцать полос и двадцать четыре звезды, нарисованные на дне бассейна, – и за год или около того выстроили олимпийских габаритов помещение, которое окрестили Акватическим комплексом Алберта Росса Димуиддла. Стоукс получил, чего хотел, а в Коровьем Мыке теперь был свой бассейн…
Тут Гуэн решительно дала по тормозам, после чего так же решительно – по газам. В ответ желудок у меня дернулся вперед и взад соответственно. Меня уже немного укачало, но от этой новой истории о появляющейся воде я изо всех сил старался не отвлекаться:
– Я не вполне уверен, к чему вы тут клоните, Гуэн. Бассейн – это же хорошо, нет? То есть, если где-то в мире будет литься кровь – а она неизбежно будет литься, – ну так на ней вы себе хотя бы бассейн построили, верно? А кроме того, я не очень понимаю, какое отношение это имеет к холощенью доктора Фелча или моей бессчастной предшественнице, чей мятник по-прежнему щелкает у меня в кабинете…
– Я ко всему этому подхожу.
Она уже опять разгонялась в свою историю, а мой желудок мчался с нею вместе.
– …Ладно, перемотаем вперед на десять лет, к найму нашего второго координатора особых проектов. (А вы помните, что первый продержался всего месяц?) Поверьте, Чарли, женщина эта не была заурядным координатором особых проектов. Она пришла к нам с многочисленными лигоплющевыми образованиями и предыдущим административным опытом после работы в Лиге наций и ООН. Она помогала заключить мирное соглашение между враждующими кланами в Сомали, а однажды преуспела в том, чтобы усадить делегацию израильтян рядом с делегацией палестинцев на импровизированной пасхальной службе. Характеристики у нее безупречные. Чувство приличия – непревзойденное. Она приехала с рекомендациями Генерального секретаря и его верховного помощника. И завоевала несколько наград за вклад в управление образованием. Поэтому можно было даже сказать, нисколько не греша против истины, что она была не просто администратором, но администратором – лауреатом премий…
– С виду-то здорово… Но какое отношение это имеет к…
– …Судебному разбирательству? Ну да. В общем, бассейн построили на крови страданий других стран, и открыли его на церемонии с разрезанием ленточки, и семейство Димуиддлов даже прилетело аж из Миссури на эту церемонию, чтобы макнуть пальчики в хрустально чистые воды. Какое-то время все было хорошо. Но можете себе представить: стоимость содержания бассейна в таком месте, как Разъезд Коровий Мык, довольно высока. И за годы на оплату этого непродуманного плавательного бассейна из нашего операционного бюджета были перенаправлены многие ресурсы. А это означало, что нам пришлось урезать некоторые жалованья, которые иначе оплачивали бы работу наших учителей. Все эти расходы на хлорку, насосы и спасателей, на страховку от претензий и все прочее, требуемое для работы бассейна, устроенного ради 987 студентов (из которых, может, всего человек десять этим бассейном пользуются) и 161 преподавателя и сотрудника (из которых всего пять умеют плавать)… все это были ресурсы, которые можно было бы пустить на что-то другое. Например, нанять больше преподавателей логики… или дать прибавку к жалованью в высшей степени ее заслуживающему координатору особых проектов в знак признания ее выдающихся заслуг перед нашим колледжем…
Гуэн теперь опять жала на тормоз. Нет, разгонялась. Мой желудок никак не мог вычислить, что именно она делала, поэтому дергался во все стороны разом.
– Так вы утверждаете, что моя предшественница действительно внесла свою лепту в жизнь колледжа? Потому что я слышал совершенно иное.
– Вы не с теми людьми разговаривали, Чарли: с не той половиной кампусного мнения. Она была изумительна! Нужно помнить: когда она у нас появилась, нам, по сути, дальше падать было некуда. Колледж уже стоял на грани потери аккредитации. Декларация миссии не пересматривалась много лет. В кампусе имелось две фракции, разделившиеся по философскому рубежу: одни вопили и требовали перемен, другие отчаянно цеплялись за надоевший статус-кво. Кампус был настолько поляризован, что некоторые преподаватели даже начали получать вздутые мошонки по средам. Хуже и быть не могло, Чарли. Поверьте. Вот тогда-то и прибыла она на временную автобусную остановку – знаете же, ту самую, куда в прошлую субботу прибыли и вы…
– Рядом с продмагом. Где играл человек с губной гармошкой.
– Верно. Хотя продмаг там уже некоторое время закрыт…
– В каком смысле? Я же там был всего четыре дня назад!
– Будьте уверены, его там больше нет.
– А женщины, читающей газету?
– И ее нет. Ни того, ни другого. Особенно газеты…
Снаружи перед нашей машиной пролетела первая полоса отпечатанной газеты. Гуэн подбавила газу мимо нее и продолжила:
– В общем, я и говорю… колледж наш уже и так был в глубокой яме, и мы наняли эту поразительную даму, и она приехала в Коровий Мык, и не успела через полстраны добраться до городка, как Фелч выезжает ее встречать ко временной автобусной остановке на… том своем грузовике!.. – Лицо Гуэн исказилось, точно она вспоминала отрезанную телячью мошонку или окровавленный эмаскулятор. – У нее, бедняжки, аллергия на пыль, поэтому ей приходится ехать с учителем истории искусства, у которой «сааб» чистый, и в нем есть пассажирский ремень безопасности, а на следующий день Фелч приводит ее к себе в кабинет и говорит: «Слышьте, мисс, я знаю, вы – девка неглупая…» – Стоило ей произнести слова «мисс» и «девка», лицо Гуэн еще больше сморщилось – так, словно теперь ей вручили отрезанную телячью мошонку или окровавленный эмаскулятор. – «…Короче, я знаю, девка вы неглупая, – говорит он, – и это-то ладно, но вам придется разбираться с расколотым кампусом, и потому вам нужно делать сё и не следует делать то, а также внимательно глядеть под ноги. Следите за тем, чтоб ходить осторожно, – не топтать ни ту фракцию кампуса, ни другую…» Но тут наша дама ему напомнила, что у нее два лигоплющевых образования и богатый опыт в улаживании конфликтов, Коровий Мык ничем не отличается от любого другого места, а женщин более не удовлетворяет быть просто объектами мужской фантазии, и если она увидит, что здесь нужно что-то менять, она это поменяет, даже если для этого придется наступать кому-нибудь на ноги! Чарли, она бы могла просто сидеть себе, любуясь на неизменное качанье своего маятника и получая зарплату в тихом своем соглашательстве. Но она не стала. Она действительно решила взять быка за рога, так сказать, и сражаться за осмысленные перемены в колледже. Но с чего же лучше начать? Думала она долго и упорно и после тщательнейшего – и стратегического – обдумывания решила начать с Рождественской комиссии…
– Почему с нее?
– А что тут может быть лучше? Ее богатый теоретический опыт подсказывал, что общая концепция вечеринки – сама основа ее – устарела и ее требуется пересмотреть. Поэтому она поговорила с Уиллом Смиткоутом о том, чтобы ввести в работу комиссии кое-какие мелкие улучшения. Предлагались простые, однако продуманные инновации – например, сменить название сборища с «Рождественской вечеринки» на «Зимнюю экстраваганцу» и добавить в меню больше овощей, а также передвинуть эстраду на другую сторону зала и запретить на мероприятии употребление алкогольных напитков. Также она сочла, что посещаемость мероприятия повысится, если проводить его на выходных, что оно должно быть внеконфессиональным, салфетки – красновато– и розовато-лиловыми, а не красными и зелеными, а музыка – посовременнее: не старые рождественские мелодии, исполняемые из года в год самими преподавателями и сотрудниками, а более пестрое попурри из предварительно записанной мировой музыки, что лучше отразит меняющиеся демографические показатели окружающего сообщества, равно как и неуклонно возрастающее многообразие нашего персонала. Она предложила международную тему и отметила, что большой флаг на стене с его тринадцатью полосами и двадцатью пятью звездами можно перевесить, чтобы лучше поместились равно привлекательные флаги других стран мира; на стене много места и для других наций, говорила она, и нет никакой причины, чтобы стену таких размеров не сделать более флагоприимной…
– Дерзкое предложение, по-моему…
– Таким оно и было. Но Смиткоут был против каждого пункта. А когда она выдвинула свои предложения, он уперся. Она принялась на них настаивать – он начал сопротивляться. Она побудила прогрессивную фракцию комиссии взбунтоваться – он склонил реакционную фракцию стоять насмерть. Как Клейбёрн в Арканзасе[14]. Она делала выпад – он парировал. Она запрещала – он отменял. Через некоторое время ни одна сторона уже не могла встречаться с другой, если в комнате также не присутствовали их адвокаты. И в итоге наша дама наконец сдалась. Все ее добрые намерения пропали втуне. Для нее это было чересчур. А кроме того, неуклонно надвигался приезд аккредитационной комиссии, к которому ей по-прежнему следовало подготовиться…
– Ехали аккредиторы?
– Да. На самом деле они уже прибыли и ждали на автобусной остановке, чтобы их кто-нибудь оттуда забрал.
– На солнце?
– Точно. С планшетами.
– Но я думал, что она все это организует? Разве не она сама должна была их оттуда забрать?
– О нет! С чего бы это входило в обязанности координатора спецпроектов? Особенно – с ее образованием и опытом! Нет, там случилось недопонимание между Фелчем и его коллегой из инспекции, тем, которому повезло с местом у окна…
– Забавно, что вы упомянули аккредитацию, потому что я только что сегодня днем дочитал наш самостоятельный отчет. Это был ужас!
– Но она в этом не виновата. Она лишь собирала этот отчет, а не писала его. Писать сами черновики было поручено заведующим кафедрами по разным дисциплинам, и они должны были сдать ей материалы еще за несколько месяцев до этого. Но они этого не смогли. Или не захотели. Некоторые вообще что бы то ни было делать отказались. А те, кто хоть что-то сделал, – не постарались. Стоукс, как обычно, раздул количество коров, которых осеменил. Бухгалтерия не сумела объяснить, сколько на самом деле стоит эксплуатация бассейна олимпийских габаритов (который кое-какие преподаватели уже прозвали «Акватическим комплексом Альбатроса»![15]). Комиссия по технологии разрывалась между внедрением новых электрических пишущих машинок и своею верностью старым ручным. И был еще Сэм Миддлтон, учитель английского и специалист по средневековой поэзии, который всячески оттягивал написание своего раздела из соображений личных, профессиональных и эстетических. «Это извращение языка», – сказал он ей как-то раз, а много месяцев спустя, когда наконец сдал ей нечто, оказалось, что это не достоверный отчет для аккредитации, а трактат в стихах, который на одном уровне вроде бы прославлял успехи кафедры английской филологии, а на другом (и гораздо более мрачном) – оплакивал подрыв академических свобод и растление языка поэзии. Прозаического повествования к нему не прилагалось, поэтому за неимением лучшего ей пришлось включить в отчет то, что есть. Окончательное произведение глубокой прозой не было, Чарли, но и в этом нет ее вины. Что бы она могла сделать тут иначе? Она выжала все, что смогла, из того, что ей предоставили для работы…
– Нет, глубоким произведение уж точно не стало. Но я теперь понимаю, как это могло оказаться и не совсем ее рук делом…
– …Меж тем все это происходило, покуда она старалась преодолеть множество противоречий в собственной личной жизни. Бедняжка. Колледж не согласился принимать во внимание ни ее собак, ни ее аллергии, ни ее дилемму незамужней женщины средних лет, уже отчаявшейся отыскать перспективного замечательного партнера в сельской местности, где большинство людей завязывает первые брачные узы уже к двадцати годам…
– Послушайте, Гуэн… Я все жду кульминации. Как все это соотносится с доктором Фелчем? Почему его следует охолостить?
– Потому что из-за него она вчинила иск.
– За что? Я все равно не понимаю. Какой иск? И я до сих пор не сообразил, какое отношение ко всему этому имеет бассейн… и почему во всем виноват Расти Стоукс!..
– Проще простого. Когда эта в высшей степени достойная женщина попросила у Фелча прибавку, он ответил «нет». Вообще-то он сказал: «Черта с два!» А когда она попросила назвать причину, он отказался. Она пригрозила обратиться через его голову – он ответил, что над его головой никакой другой головы нет – как будто он какое-то божество, – а если б даже и была, денег все равно не хватит. Тогда она отказалась принять эти объяснения («Вам придется мне показать!» – настаивала она), он объявил стоимость содержания бассейна, куда вливались все наличные ресурсы, поэтому на что-то другое просто ничего не оставалось – особенно на свеженанятого координатора особых проектов, которому только предстояло внести хоть какую-то значимую лепту в работу колледжа. Чарли, на том бы, вероятно, все и завершилось. Однако после всего этого он сделал еще кое-что, и вот оно уже стало совершенно непростительным…
– Все происходило у него в кабинете?
– Да.
– Рядом с плевательницей?
– Нет, плевательница возникла позже. Видите ли, он не только отказал ей в прибавке, которую она заслуживала, предложив совершить ей половой акт, но и раскрыв перед нею дверь своего кабинета, чтобы ее выпроводить, и когда она уже проходила в двери, он… он протянул руку и похлопал ее по попе. По попе, Чарли! Как распасовщик ведущего блокирующего игрока после успешной защиты линии ворот. Ее, женщину с личными характеристиками помощника министра войны и торговли, на минуточку. А когда в ответ она отпрянула, – в конце концов, никто в Лиге наций никогда не разыгрывал мяч вне игры! – он лишь рассмеялся и напомнил ей, что бассейн – олимпийских габаритов, а также предложил ей сходить и хорошенько там поплавать. И после этого рассмеялся еще раз и закрыл за нею дверь.
– А потом?
– Ну и потом она вчинила ему иск.
– Так быстро?
– Не успела дверь закрыться.
– За что? Домогательства? Гендерную предвзятость? Обманутые ожидания?
– Нет, все догадки, как одна, хороши…
– За что же тогда?
– Она подала на него в суд за запугивание на рабочем месте и профессиональный стресс.
– А?
– Как ни парадоксально, за грань ее подтолкнул отнюдь не хлопок по попе – она выросла в семье с несколькими братьями. И не низкая заработная плата. И не то, что ее завлекли на задворки академического мира ложными обещаньями. И даже не пыль, что подспудно копилась у нее в кабинете с каждым проходящим днем. Вообще говоря, ничто из вышеперечисленного не подтолкнуло ее к столь негативной реакции на ее работу в Коровьем Мыке…
– Так что же тогда?
– Замечание насчет бассейна! Она не умела плавать!..
– Ой!
– Поэтому в том контексте замечание явно было угрозой из неприязни. И потому она вчинила ему иск за создание стрессовой рабочей среды, которая не давала ей выполнять ее обязанности координатора особых проектов. В ретроспективе все это вместе и оказалось для нее чересчур. Замечание про плавание. Неразбериха с аккредитацией. Нескончаемые деленья и группировки. Двуличие рождественской комиссии и ее председателя. По сравнению с работой в Коровьем Мыке, сказала мне она как-то раз, убеждать израильтян и палестинцев вместе посетить пасхальную службу было все равно что убеждать американского ребенка развернуть подарки рождественским утром…
– И во всем этом отчего-то виноват Расти?
– Верно. Если б не этот проклятый бассейн в форме американского флага, у нас, может, сегодня по-прежнему была бы наша изумительная координатор особых проектов!..
– Понятно. Все это очень логично. Но, Гуэн, а как же вы? Вы намекнули на внутренне вам свойственную иррациональную черточку. А я вижу, что вы очень страстно относитесь к своей роли в колледже. Все это замечательно. Но что еще вы бы могли мне рассказать о себе? То есть, помимо того много, чем не должна быть любовь. Что у вас с именем? И как вы оказались в Коровьем Мыке? И где б вы были, если б не стремились поддерживать тут логическое мышление? О и, конечно же… постыдная личная тайна, ваша собственная! Не согласитесь ли поделиться всем этим со мной в этой уютной машине, пахнущей хвоей и корицей?
– Вот честно, Чарли, вы многого просите. Но вы мне нравитесь, и поэтому я расскажу вам немного о себе.
– Спасибо, Гуэн.
– Конечно, кое-что я вам расскажу. Но учтите, пожалуйста, что бы я вам ни рассказала, оно должно остаться в этой машине. Как чешуйница в томике рифмованной поэзии, чтобы никогда не увидеть света дня. Вы меня понимаете?
– Да, разумеется, Гуэн. Я сохраню это между нами двоими и этими мягкими глубокими сиденьями, на которых мы размещаемся последние полчаса, направляясь прямиком в засуху веков.
– Хорошо. Так с чего же мне начать? – Гуэн сняла ногу с педали акселератора и начала жать на тормоз. Затем убрала ногу с педали тормоза и принялась жать на газ. Затем снова включила тормоза. Потом акселератор. – Ну, – произнесла она, – полагаю, начать мне, вероятно, следует недвусмысленно, иными словами – со своего прошлого…
Снаружи нашей машины солнце забралось за горизонт, и небо окрасилось в легкий оттенок лилового. То было охвостье еще одного зрелищного заката; вскоре стемнеет. Гуэн уверенно нажала на тормоз, затем вдруг разогналась, потом затормозила и разогналась снова – всякий раз так быстро, что казалось, она проделывает то и другое одновременно. Однако машина неуклонно перемещалась к Предместью, где уже началось водяное сборище Гуэн.
– Да, – говорила она, – полагаю, мне следует начать с моих самых ранних детских воспоминаний. Видите ли, я не всегда была рациональным человеком. На самом деле в моей жизни было время, когда я и в самом деле превратилась в нечто совершенно противоположное. Конечно, все это теперь кажется таким далеким. Однако стоит мне сейчас оглянуться, как выясняется, что эти воспоминания до сих пор радуют меня больше всего, а также мне за них стыднее всего. Но я забегаю вперед. Давайте начнем логически, что скажете? Стало быть – с начала?..
И тут она твердо вдавила ногой педаль акселератора, и машина покатила тихо и непреклонно в отступавший солнечный свет.
* * *
– …Даже когда была маленькой, – начала Гуэн, – я всегда знала, что хочу стать учителем. Другие дети мечтали быть спортсменами, или актрисами, или предпринимателями, я же знала, что для меня все дороги ведут к преподаванию, и из множества путей, что могут меня к нему привести, самый истинный и прямой – тот, что из них всех и самый логичный. Такое осознание пришло ко мне отнюдь не случайно – его воспитало мое любознательное сердце в течение всего не по годам развитого детства. С ранних лет я видела, как мои ровесники пытаются справиться с величайшими вопросами мира и как это неизбежно приводит к скуке, экзистенциальному страху и саморазрушению. Один из моих друзей по колледжу, честолюбивый будущий философ, на свой двадцать седьмой день рождения передозировался; другой предался пьянству и бесцельности; еще один бросил все под бременем множества вопросов, что никогда не могли быть решены; много лет спустя я узнала, что он стал преуспевающим биржевым маклером. Но почему? Почему такой ужас обязательно должен происходить с мыслящими людьми? С людьми, подававшими такие надежды? Неужто не могли они разглядеть, что все это – ну или хотя бы то, что мы способны сколько-нибудь как-то контролировать, – можно категоризировать, изолировать друг от друга и свести к определенным процессам, и что даже самые сложные явления жизни можно объяснить в понятиях их собственной, внутренне им присущей связности, либо, напротив, отбросить их? Для меня в этом и заключалась красота логики, надежность, что она предоставляла. Конечно же, взгляды мои обрели больше нюансов по мере того, как я переходила из средней школы в старшую, затем оттуда в колледж, затем в магистратуру…
(Поначалу, пока Гуэн рассказывала свою историю, я ловил себя на том, что активно киваю, дабы заверить, что слежу за ее словами. Но как только она вошла в повествовательную колею, я вскоре понял, что все мое кивание, все мое слушание – быть может, и само присутствие мое в машине – в данный момент не значат для нее ровно ничего. Словно бы в трансе, Гуэн погрузилась в изложение своей истории, и покуда уходила в нее все глубже и глубже, я откинулся в уютном глубоком сиденье и впитывал ее слова. В моих словах никакой нужды не было – чистейшее состояние блаженства, – и потому я весь отдался слушанию ее истории, а сам глазел в окно на темневшую округу.)
– …Для меня жизнь была доро́гой, – говорила она. – Вообще-то жизнь мне всегда представлялась дорогой, и дорога эта была широка, пряма, и хоть и длинна, но недвусмысленно вела от одной точки к другой, как прямейшая линия между двумя противоположностями. Жизнь для меня была последовательностью конечных точек, вроде координат на оси. И если точка А – мое вхождение в этот мир (а родители назвали меня в честь моей двоюродной сестры, утонувшей, когда ей было два годика); а точка Б – мой аккумулированный опыт в его сумме: мои детские чаепития, учебные подвиги и похвалы, слепленные все воедино; а В – моя нынешняя среда: легкость моего дипломного исследования, жесткая определенность моего каждодневного распорядка; ну, тогда Г, Д и Е – все это мое будущее. Вместе с Ё, Ж, З и всеми остальными точками по расширенному континууму жизни. Ибо на этой прямой Г может оказаться моим заявлением о зачислении в штат, Д станет моим повышением до приглашенного профессора, а Е и Ё наверняка окажутся моей полной профессурой и занятием должности завкафедрой соответственно. И все это достигнет кульминации где-то в конце череды координат моим выходом в отставку уважаемым академиком в каком-нибудь престижном колледже, где стены увиты плющом. Даже тогда я допускала, что по пути могут быть легкие отклонения; однако со всею убежденностью своего логического ума я знала, что стезя эта будет такой прямой, какой я сама смогу ее сделать, и неизбежно и результативно доведет меня до моей точки назначения…
…Наконец окончив вуз, свою первую преподавательскую работу я получила в колледже без кампуса в самом сердце города – в городском колледже, и в первый же день занятий ко мне подошел молодой человек с привлекательным лицом и экзотическим акцентом. Похоже, родом откуда-то из Азии – то были дни, когда студенты из таких стран еще бывали редки и их еще удавалось категоризировать по континентам, – и в глазах его я увидела, что мир, откуда он приехал, какую бы страну, общество или континент он ни представлял, был явно миром обширных возможностей и неохватных горизонтов с бессчетными повтореньями излучения и угасания. Есть нации, у чьих представителей в глазницах размещаются очи всей вечности, и его нация – какой бы и где бы ни была – определенно была как раз такой. Я только что вытерла доску после неуклюжей первой лекции, в ходе которой сама искала ответы на собственные вопросы, и, словно бы почуяв мое внутреннее смятенье и уязвимость, он подошел ко мне после занятия, как раз когда я собирала вещи. В окно сочился осенний свет. Дуло от потолочного вращающегося вентилятора. Остальные студенты гуськом тянулись из класса, а я еще держала в пальцах кусок мела после лекции. Несколько мгновений мальчик – мужчина? – лишь молча стоял, наблюдая за мной, не то чтобы словно не зная, что сказать, но просто не говоря ничего и лишь пристально глядя на меня бесконечными своими глазами. Затем вдруг чистейшим на свете голосом он заговорил: «Профессор», – сказал он, и тут я поразилась твердости его голоса, прозвучавшего, как любовный клич самого желанья. «Профессор, я очень заинтересован научиться всему, что вы можете нам предложить касаемо логики вселенной. Ибо вселенная обширна и внушает страх, а сама логика есть такой же инструмент, как и любые другие. Я буду ходить на все ваши занятия и садиться вон там, в первом ряду, где сидел и сегодня. И буду тщательно все записывать. Но прежде, чем я приступлю, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов…» Молодой человек был невысок и, произнося все это, смотрел на меня снизу темными черными глазами, вполне похожими на влажный антрацит или же погасшие звезды в небе, что таинственны, как наша всеобщая душа, и чей свет мы теперь видим, хоть сами они уже давно умерли. «Скажите мне вот что, профессор. Если два соседа живут по разные стороны очень тонкой стены – один сосед очень шумный и всегда предпочитает примирению конфликт, а другой спокойный и почтительный, он всегда выбирает не конфликт, а примирение, – так вот, в таких условиях сосуществования возможно ли этим двум соседям, живущим по разные стороны тонкой стены, хоть когда-нибудь сойтись во мнениях? И если да, то может ли случиться так, что эти два соседа сумеют придерживаться своих соответственных предпочтений, а именно: почтительный сосед и дальше сможет пользоваться благами покоя и тишины, ни разу не вступая в конфликт?» То была логическая ловушка, и потому я сказала: «У вас нечеткая предпосылка. Или же недостаточно четкая. Ибо хорошо известно, что звук распространяется не как абсолют, а в диапазоне, и потому по шкале от нуля до единицы – где единица есть совершенный звук, а нуль совершенная тишина – постижимо, что оба соседа сумеют договориться об уровне шума, который не будет ни нулем, ни единицей. Одно это можно сказать для разрешения вопроса их соответственных предпочтений в отношении шума – что было бы в достаточной мере достаточно, если б не тот факт, о котором вы упомянули: один из соседей также предпочитает примирению конфликт, а другой – примирение конфликту. Что касается сильного желания конфликта (у одного соседа) и в равной степени сильного желания избегать конфликта (у другого соседа) – ну, в данном случае можно было бы доказать, что ни та, ни другая стороны не сумеют в итоге достичь решения, поскольку сторона, стремящаяся к конфликту, всегда будет навязывать конфликт оппоненту, а это значит, что тот, кто желает конфликта избежать, никогда не будет оставаться в покое. Но в то же время сосед, стремящийся к конфликту, сам никогда не останется в покое, поскольку душа его будет постоянно пребывать в состоянии конфликта, а ни единая душа на свете не может быть в покое, пока в ней имеет место конфликт. И потому ответ на ваш вопрос – да. Иными словами, ответ на ваш вопрос с такой же вероятностью – нет».
«…Понятно, – сказал молодой человек, после чего: – Поэтому разрешите мне задать вам другой. Это правдивая история, что происходит где-то в невозможном круговороте времени. Видите ли, стоит очень темная ночь – ночь, быть может, в конце августа, – и мужчина и женщина сидят на переднем сиденье недавно приобретенного женщиной грузовичка. Небо ясно, а луна поражает воображение. Тихонько играет музыка по АМ-радио в машине, приемник старый, и звук поэтому очень хриплый. Издалека доносится заливистый стрекот сверчков. Двое в грузовике взаимно нежны и взаимно восприимчивы. Однако стоит мужчине потянуться к женщине, как он вдруг приходит к логическому осознанию, что для того, чтобы дотянуться через все это расстояние между ними, он для начала должен преодолеть расстояние между собой и рычагом переключения передач, располагающимся на полпути между ними… но прежде, чем преодолеть это расстояние, ему сначала придется достичь средней точки между собой и этой средней точкой, а прежде, чем он достигнет этой средней точки, сначала придется достичь другой средней точки, и так далее и тому подобное ad infinitum[16]… А значит, если все так, и при условии, что пересечь бесконечное число порогов невозможно, сумеет ли когда-нибудь этот мужчина поистине дотянуться через бесконечное пространство между ними, чтобы расстегнуть на женщине пуговицы блузки?» В ответ на этот вопрос я, узнав его, рассмеялась. То была старая дилемма, уже разрешенная множество раз за прошедшие века величайшими любовниками на свете. И потому я сказала: «В данном случае луна тоже должна быть женщиной, поскольку она обманывает их обоих. Видите ли, он никогда не сможет преодолеть это сокровеннейшее из пространств. Ибо расстояние, которое он должен покорить, есть не просто протяженность самого пространства между ними, но максимальное пространство времени и женской вечности. А поистине покорить такое не удастся никогда, сколь близко ни располагались бы пуговицы или сколь завлекательны бы ни были соски под этой блузкой». В ответ молодой человек улыбнулся, взглянул на меня еще раз темно-карими глазами и сказал: «Если все так, позвольте мне предложить вам последнюю дилемму…»
Глаза молодого человека были темны, как сама тьма, и тут он произнес: «Моя дилемма такова. Предположим, в колледже настал первый день занятий для подающего надежды студента, который в принципе не согласен с тем, что пуговицы на свободной блузке невозможно расстегнуть, и предположим, этому самому студенту колледжа выпало попросить своего преподавателя логики, которая, так уже вышло, надела розовую юбку и белую блузку из полиэстера, у которой столь провокационно расстегнуты две верхние пуговицы, отужинать с ним в очаровательном ресторанчике за углом. При таком вот предположении, дорогой профессор, каков, по вашему просвещенному мнению, будет ее ответ?» Очевидно, вопрос его оказался неожиданным. Но я в тот день тщательно подбирала себе наряд – розовую юбку и белую блузку из полиэстера с двумя верхними пуговицами, расстегнутыми столь откровенно, – и потому, чтобы остудить его рвение, я застегнула одну из расстегнутых пуговиц и сказала, что его преподаватель логики не станет недвусмысленно отвечать на его приглашение, а вместо этого ответит, сказав так: она дает ему слово отужинать с ним, если – и только если – он сумеет предсказать неизбежный итог собственного предложения, то есть отужинает она с ним в тот вечер или же предпочтет питаться в одиночку в своей уединенной квартирке-студии; и если он сможет предсказать верный итог, она и впрямь с ним отужинает; но если предсказание его окажется неверным, то ужинать с ним она не станет. В ответ на мой отклик молодой человек на миг задумался и после этого сказал, не испытывая ни малейшей нужды в дальнейших размышлениях: «Ну что ж, тогда мне придется сказать, что она, конечно же, пойдет с ним ужинать». – «Вот как? – сказала я. – И что же могло сообщить вам основания для такой уверенности?» И он сказал: «Все очень просто. Если этот человек отвечает, что она с ним отужинает, то ей по праву предстоит сделать выбор, захочет ли она, чтобы его предсказание сбылось, действительно с ним отужинав, и в таком случае она будет вольна сделать свой выбор открыто, по собственному усмотрению и без боязни вызвать глубокий конфликт с весьма логичным подходом профессора к миру. Но если, напротив, студент отвечает, что она не станет с ним ужинать – иными словами, если я скажу, что она не пойдет с ним на ужин, – то я не только откажусь от привилегии поужинать с вами сегодня вечером, но, говоря логически, этим я заведу вашу систему в сокрушительный тупик. А никакой студент, разумеется, стремящийся отыскать свою богиню-мать, нипочем не пожелает причинять такого интеллектуального насилия системе убеждений женщины. Поэтому да, учитель пойдет ужинать с молодым студентом сегодня примерно в семь часов вечера, и они вдвоем отужинают во взаимном удобстве вне любых противоречий, как два великих собеседника, коих мы именуем логикой и парадоксом…»
Разумеется, его ответ меня ошарашил, поскольку он, ну, был прав! В истинных глубинах моей души я покамест не была готова прямо согласиться на его предложение, однако исполняла свое согласие под аккомпанемент лютни, лиры и ситара – то было одно из немногих мгновений моей жизни, когда логике моего ума случилось в совершенстве совпасть с логикой моего сердца. Класс уже давно опустел, и там было очень тихо и совершенно спокойно, если не считать звуков наших задышливых намерений. Время больше не текло. Мы вдвоем остались одни, словно бы вместе находились в этом состоянии вечно и одни. За несколько прошедших минут он превратился в прекраснейшего студента, какого мне когда-либо доведется знать: плечи его были узки и благоприятны; глаза сверкали черным, как Рождество; а имя его, как мне вскоре предстояло узнать, на языке его предков означало «Пожиратель Вселенной». В повисшем в классе молчании было ясно, что я сдалась его предложенью и в тот вечер пойду с ним ужинать. Но я не могла просто оставить все как есть; в вопросах логики я, в конце концов, учитель, а он – просто ученик. Из благородных интересов управления классом нужно всегда поддерживать эту древнюю иерархию и никогда не позволять ей пошатнуться. И потому, придя в педагогическое чувство, я сказала: «Вы правы, молодой человек! Вы действительно очень правы. Чтобы ничего не усложнять и сохранять уважение, ваш ответ должен быть «да». А чтобы избежать упомянутого вами парадокса, моим ответом должно быть либо «да», либо «нет». Иными словами, на самом деле он может оказаться нет… но с таким же успехом он может быть и да. И потому он – да…» Мужчина при этом улыбнулся. На манящую секунду улыбка расплылась у него по лицу, и я помолчала, позволяя ему насладиться триумфом. Затем продолжила: «Но… – и тут увидела, как в его взгляде сверкнула обнаженная дрожь сомнения, эта вневременная заноза неуверенности, что есть следствие древнейшей власти женщины. – Но, – сказала я, – со всем этим есть только одна загвоздка. Видите ли, женщины никогда не говорят правду. А это значит, что, поскольку я – женщина, я тоже никогда не говорю правду. А это значит, что я всегда лгу. А поскольку я всегда говорю правду, когда открываю рот, фраза, которую я только что произнесла о том, что никогда не говорю правду, правдива, что означает, что фраза, только что мною произнесенная, – как и та, что я произношу сейчас, и та, какую я могла бы произнести для принятия вашего приглашения, если б на самом деле все обстояло так, что я приму ваше приглашение от имени гипотетического преподавателя логики, – сама по себе также есть ложь. Поэтому, когда я сказала, что она бы согласилась с вами сегодня вечером отужинать, это было неправдой. На самом деле она этого вообще не говорила. А отсюда следует, что ужинать с вами она бы не стала. И я бы не стала. И не буду. Какая жалость, что я принесла вам это скверное умозаключение, но сегодня к тому же вечер лунный, уже довольно поздно, и меня ждет моя одинокая квартирка-студия…» И тут я повернулась к двери. Это было жестоко, да, но логика без жестокости – ничто. Я быстро отвернулась и уже выходила из класса, когда мальчик меня окликнул: «Профессор!..» И когда вновь повернулась к нему, я увидела, что он улыбается. Улыбается! «Профессор, если то, что вы говорите, – правда, если правдивы ваши притязания на неправду, или же, как вы сами сказали, ваши притязания на правду – неправда, то логика ваша наверняка чуть менее, чем крепка. Ибо если вы лжете, принимая приглашение, отказ ваш есть также ложь. А если вы говорите правду, отказываясь, то ваше принятие приглашения есть также правда! И потому, гораздо правдивее этого – того, что вы сказали, будто мы вдвоем ужинать не будем, – будет сказать, что молодой студент с темными глазами встретится со своим учителем логики в месте неподалеку отсюда сегодня вечером ровно в семь часов…»
Я поерзал на сиденье. Хоть и слушал ее в блаженной бессловесности, тут я не мог не воскликнуть.
– Простите, Гуэн, – сказал я. – Какое-то время я был с вами. Но в конце как-то потерялся. Что на самом деле произошло? Вы с ним пошли в ресторан или нет?
– …Конечно, пошла!
– Правда?
– …Разумеется. Я же сказала – то было время у меня в жизни, когда логика подвела меня сильнее всего. Или я ее подвела. В тот вечер он встретил меня вне класса, и мы пошли в азиатский ресторанчик за углом, где говорили о логике нелогичного и сути разума, внутренне присущей неразумным вещам. «Если фраза, которую я сейчас произношу, правдива, – говорил он, – то вы в меня влюбляетесь». И я ему отвечала вот чем: «Вы вернули себе ощущение реальности?» За овощами с рисом мы обсуждали начала вселенной и как, превзойдя вечное время, она дошла до нас в виде огня и воды, слов и молитвы. «Если вселенная бесконечна, – говорила я, – она также должна быть и безвременна, и непостижима, и превыше нашей способности называть ее бесконечной». – «Но если она конечна, – парировал он, – должно существовать такое место, где она заканчивается и начинается что-то другое. А не есть ли это «другое» тоже вселенная?» И вот так, в тот вечер за ужином мы пришли к соглашению, что вселенная не конечна, не бесконечна, а бесконечна она лишь настолько, сколько нам позволяет наша способность ощущать любовь к бесконечному. Бесконечная любовь к богу. Вневременная любовь ко вселенной. Бесконечная и вневременная любовь ко всем регионально-аккредитованным общинным колледжам, что дошли до нас сквозь эпохи, словно лучащиеся круги энергии…
– Значит, все было хорошо?
– …Все было замечательно. Каждый вторник и четверг я приходила днем на лекцию и видела, как он занимает место на первом ряду. И когда я обращалась к студентам, видела я только его. И когда прислушивалась к миру, слышала только его, голос его подстегивал меня ко все более высоким уровням постиженья. Не знаю, как это у вас, Чарли, но, быть может, раз в жизни появляется такой человек, который возбуждает в вас идеи. Кто стимулирует ваши мысли и пришпоривает вас к невероятным творческим свершеньям и границам. Если у вас в жизни когда-либо и был такой человек, можете считать себя благословленным. А я считаю благословленной себя, что в мою жизнь вошел этот молодой человек и стал моим возлюбленным…
При этих словах я встрепенулся от своего спокойного созерцанья. Местность за окном теперь была почти совершенно черна, а запах хвои и корицы развеялся, словно бы вдогонку солнцу за горизонтом.
– Постойте, Гуэн. Вы только что сказали, что вы с ним стали любовниками? Типа действительно романтически влюбленных? В отличие от философской платонически интеллектуальной общности, каковая свойственна колледжам?
– Именно.
– Ого! И это нормально? То есть, с учетом того, что вы с ним располагались на противоположных концах кривой обучения. Приемлемо ли этически преподавателю и ее студенту вступать в такие отношения?
– Какая разница? В смысле, мне – никакой. То есть, говоря технически, нет, вероятно, это было неприемлемо. А с точки зрения аккредитации оправдания этому не найти. И, разумеется, с рациональной точки зрения смысла в этом почти никакого. В конце концов, меня только что наняли в преподавательский состав, мне прямой путь к штатной должности, а при этом в перерывах между лекциями я ускользала ради тайного романа со студентом, который был на десять лет моложе меня. В каком учебном заведении подобное имело бы смысл? Нет, ни в каком высшем учебном заведении это бы не было рациональным образом действий – и, уж конечно, не в общинном колледже! Оглядываясь, сейчас я понимаю ясно, что мы с ним – из противоположных миров, различных эпох, конкурирующих общественных слоев. Траектории наших жизней не совмещались никак: моя – результативно линейна, его – изящно синусоидна. Кроме упреждающего дорожного знака, где еще на свете это имело бы хоть какой-то смысл? Но в логической системе моего собственного сердца смысл оно имело. И потому я отдалась ему целиком.
– В каком это смысле – целиком?
– Чарли, в истиннейшем смысле этого слова. Целиком! Вот как я ему отдалась. На следующие три с половиной месяца мы вдвоем погрузились в слияние ума и тела, в союз духа и души настолько неистовый и всеобъемлющий, что он легко бы мог стать сюжетом рифмованной поэзии. Словно внезапный муссон, он утолил мою жажду. И, как виргинский ломонос, оплела я его, словно бы он был моим единственным источником пропитания. Поначалу мне удавалось примирять две соперничающие между собой логики: логику моего сердца и логику моего ума. Понедельники, среды и пятницы, говорила я себе, оставлены за логическим умом; вторники и четверги – за логическим сердцем. Таким манером, полагала я, временной континуум общинного колледжа послужит моим собственным буфером самоконтроля. Но постепенно сердце начало господствовать всю рабочую неделю, а затем, будто вода, растекающаяся по пересохшей земле, принялось проникать и в выходные дни. Чарли, я была безнадежна. Страдало мое преподавание. Взаимоотношения с коллегами пошатнулись донельзя. Невзирая на профессиональную беспечность и несостоятельность в адекватном их этому обучении, вскоре мои студенты самостоятельно пришли к косвенным дедуктивным выводам. Если в начале мы скрывали наши нежные чувства друг к другу, со временем мой возлюбленный и я стали являть их публично. И наслаждаться ими приватно. Далеко не один раз я ловила себя на том, что отменяю занятие в понедельник или среду, чтобы провести лишнее утро в страстной хватке бессмертия. Однажды я просила коллегу подменять меня на занятиях в пятницу три недели подряд, а в другой раз отправила своих студентов по домам пораньше – под предлогом домашней контрольной. Чарли, этот священный человек с темными глазами – вот все, о чем я могла думать. Он был всем, что я могла чувствовать. Вместе с ним мы были путешественниками в восхитительном странствии к миру яркому, новому и прекрасному. И оно все было чисто, хорошо и вневременно. Но затем со скрежетом застопорилось. Наше странствие. Мой мир. Не то что мой мир действительно подошел к концу – так никогда не случается, верно? по крайней мере, покуда на самом деле не закончится, – но тот мир, который я знала и успела полюбить за последние три с половиной месяца, – этот новый яркий мир – он уже подходил к своему логическому разрешению…
* * *
– …Настал вторник, и он не пришел на занятия. Он был самым верным моим студентом и верным моим любовником и оправдывал все надежды. Не просто был верен мне, как своей матери-богине, но и играл свою роль студента-музы. Каждый вторник и четверг приходил на занятия, где всегда садился в первом ряду и тщательно все записывал. Он был крепкой скалой в моей газообразной вселенной. Опорной точкой оси, вышедшей из-под контроля. А теперь его не стало. В тревоге я ждала его после занятий, но он не появился. А когда я ему позвонила – не ответил. И потом, когда он не явился ко мне на занятия и в четверг, я отправилась к нему на квартиру, где узнала, что он уехал совсем: сосед, с которым он ее снимал, сказал, что он выехал, но не мог сказать, куда именно. Неделя пришла и прошла в полнейшем унынии. Я даже не могла найти силы подняться с кровати. Я не ела. Я позвонила в школу и сказала, что у меня воспаление легких и в ближайшее время вести свои занятия я не смогу. Они пожелали мне выздоравливать и напомнили, что надо сохранить справку от врача; едва повесив трубку, я проспала еще два дня. Так, ночами опасных снов и днями тоски и воспоминаний настал и закончился сезон. Пришел и ушел семестр. И все равно облегчения не было. Со временем я бросила работу в колледже. Сидела в квартире. Не смела выходить на улицу. Так продолжалось несколько недель, и кто знает, как или когда все бы закончилось. А потом однажды я получила от него письмо. Оно было длинным, но я могу прочесть вам его наизусть даже сейчас, если захочу, хотя прошло уже двадцать лет. «Дорогой профессор, – писал он. – Жаль, что пришлось уехать. Таковы превратности жизни. Знайте, пожалуйста, что теперь для той логической вселенной, которой вы со мною поделились, я стал лучше. Это постижимо и навсегда. Но с тех пор, как начал учиться в вашем общинном колледже, я также пришел к пониманию, что некоторое время не так вечно, как нам бы от него хотелось, а некоторая жизнь и впрямь сама подходит к своему бесславному концу. И теперь настало время, когда я должен предпочесть двигаться к своему новому будущему…» Чарли, я прочла эти строки тысячу раз. И всякий раз, когда их вижу, я вижу их по-разному. Стоя с письмом в руке, я вдруг осознала, что все кончено. Что никаких ужинов больше не будет. Что итог наших дискуссий можно теперь сдать в архив великой библиотеки Времени и доступ к ним отныне можно осуществлять информационно-поисковым инструментом, который называется памятью. И что наше будущее теперь навсегда останется в царстве красного смещения воображения, как сирена, чей тон меняется, а затем и вовсе исчезает по мере того, как она удаляется. И тут я замерла. Минуточку! Это еще что такое? На конверте он написал свой обратный адрес. Его адрес! То был какой-то городок в Мичигане. И адрес полный, с улицей и номером дома. Он указал на конверте адрес, Чарли! С новой целеустремленностью я вскочила с кровати и впервые за месяц причесалась, впервые за неделю почистила зубы, впервые за три дня переоделась в чистое и вышла из квартиры…
– …Интересный поворот событий!..
– То ли еще будет! В общем, я оделась и пошла на автостанцию, где купила первый попавшийся билет до Мичигана, а приехав туда, взяла такси на автостанции и поехала по адресу с конверта; и когда такси мое остановилось, я полностью заплатила шоферу и сказала, что ждать меня не нужно, и пошла по дорожке к парадной двери дома. Тогда уже наступила зима, а я недостаточно об этом думала, когда садилась в автобус, и теперь, стоя на открытом воздухе, никак не могла унять дрожь на ступеньках того дома и обхватила себя руками, пытаясь не упускать собственное тепло. Я позвонила в дверь, и звонок разнесся по всему дому; залаяла собака. Никто не вышел. Теперь уже холод перемалывал мне кости, а губы у меня дрожали. Я позвонила в дверь еще раз. И снова тявкнула собака, маленькая. Но опять никакого ответа. Что теперь делать? Если никто мне не откроет, куда податься? Мне даже не приходило в голову, что я вообще могу вернуться из Мичигана с пустым сердцем. И однако же вот я стою на невозможном морозе, на пороге дома, который вообще ко мне никакого отношения не имеет, если не считать письма, отправленного мальчиком, с которым я познакомилась на одном из своих занятий, письма от молодого человека, которого я знала меньше четырех месяцев. Куда я пойду, если мне никто не откроет? Что буду делать? Чарли, вот тут-то меня настигли все высоты моей иррациональности – или то были ограничения моей рациональности?! – на пустом пороге холодного мичиганского дня. С зимою у меня в костях. Через дверь на меня тявкала собачка. От окончательного и полного отчаянья меня отделяло лишь письмо со штемпелем. В тот миг я поистине опустилась в самую нижнюю точку своей жизни. И тут дверь открылась…
Гуэн давно уже перестала жать на тормоз, и теперь, когда ее история набрала темп от полнейшей любви к полнейшему холоду, она твердо давила на акселератор, а машинка ее выла, все больше и больше разгоняясь в нараставшей ночи. Впервые с тех пор, как она меня подобрала, я начал тревожиться, что ее рассказ приведет нас к какому-нибудь бедствию. Еще одному самоубийству. Или безжалостному разрыву. Или даже в какой-нибудь безводный канал вдоль шоссе, по которому мы ехали. Где-то между ледяной дверной ступенькой и жаркой засухой ночи вокруг нас, в преодолеваемом нами расстоянии было нечто очень вечное.
– …Дверь открылась, Чарли, и наружу шагнул смуглый мужчина в банном халате. «Да?» – спросил он с сильным акцентом. И когда я рассказала ему, кто я такая и кого разыскиваю, и когда показала ему письмо трясущейся от холода рукой, он пригласил меня в дом, где было тепло, влажно и пахло экзотической едой и неведомыми пряностями. Человек в дверях был отцом моего возлюбленного, и он позвал свою жену на их языке, и она приготовила нам троим чай. И пока мы ели печенье и пили чай у них за кухонным столом, родители моего возлюбленного объясняли мне, что их сына дома больше нет, что он не живет с ними с тех пор, как уехал учиться в начале того года в общинный колледж. И что время от времени он им звонит, но в последнее время от него что-то ни слуху ни духу; вероятно, он написал на конверте адрес дома своего детства по привычке. Или, может, из соображений пристойности. Но он не сообщал им о своих планах или где намерен быть, и они не очень знали, когда он вернется. Я поблагодарила их и извинилась за доставленные неудобства. Они дали мне кое-какую теплую одежду и немного денег на автобусный билет обратно до колледжа, и оттуда я вернулась через всю страну в свою одинокую квартирку-студию и к своей работе – учить логике подающих надежды студентов. Там я преподавала еще четыре года, после чего устроилась работать в Коровьем Мыке. Конечно, в этой истории есть несколько недостающих глав. Вроде дисциплинарных мер, которые мне пришлось пережить, чтобы вернуться на работу, и как я боролась за досрочное окончание найма и выиграла, зацепившись за формальность, но лишь после того, как меня заставили заново претерпеть этот унизительный эпизод в письменном виде. За полгода я смогла отплатить той паре за их доброту. И с того постыдного приключения страсти и иррациональности я была и остаюсь намеренно неприметным, последовательно рациональным и стоически логичным учителем логики, какого вам только захочется нанять. Чарли, с того дня я не оставляю ни единой пуговицы у себя на блузке незастегнутой.
– Ух, Гуэн. Так после того вы еще видели этого мальчика?
– Нет, не видела. И никогда не увижу. Даже если я снова встречусь с ним, на самом деле это будет уже не он. Того человека больше нет, совсем. Он умер, когда я получила от него письмо. И я никогда не перестану быть человеком из-за этого…
Теперь Гуэн уже выезжала с главной дороги на поворот. Когда она свернула, мой желудок вильнул и повернул вместе с машиной.
– Простите меня, Гуэн, – сказал я. – Я не осознавал, что вы сексуально разумное существо, подверженное человеческим уязвимостям. Наверное, теперь я это знаю.
– Все в порядке, – сказала она. – Все это история древнего мира. Иногда я ее рассказываю. Но не подумайте, что ее можно выносить за пределы этих уютных мягких сидений и слабого аромата хвои и корицы.
– Я понимаю, – сказал я.
– Хорошо, – сказала Гуэн. – А кроме того, мы приехали.
Подняв взгляд, я увидел крупную неоновую вывеску, гласившую: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРЕДМЕСТЬЕ КОРОВЬЕГО МЫКА», а ниже буквами гораздо мельче, но столь же неоновыми: «Где сходятся идеи!»
– Так это оно и есть?
– Да, оно и есть. Как мы любим ее называть, та часть города, что поярче…
– Мы?
– Да, мы.
* * *
И Гуэн оказалась права. В этой новой части города действительно было ярче. Со временем шикарный район Разъезда Коровий Мык, известный под названием Предместье, оседлал единственную узкую улочку с живописными деревянными фасадами лавок и чарующими вывесками ручной работы, провозглашающими «Массаж Карлы» и «Предместье небесных целительных солей». Солнце уже село, и ночь бурлила барами, ресторанами и театрами. Магазины здоровой пищи предлагали органические овощи в ящиках, выставленных наружу, а лавки торговали самодельными свечами, благовониями и пакетиками «магических солей» с ведическими рецептами долголетия. Написанные от руки штендеры трубили о ностальгических экскурсиях по заброшенным мясоперерабатывающим предприятиям и бойням, а женщины в соблазнительных сари завлекали прохожего на 45-минутные сессии тантрических «открытий». Гуэн пояснила, что органы местного управления закрывают глаза на то, что творится в Предместье. На выходных городок быстро становился рассадником суеты ради гостей из других мест, кто мешался с разнообразным сборищем целителей, хиппи, пророков и сутенеров – «чокнутых психов», о которых упоминал доктор Фелч, когда я только сюда приехал, и тех самых «мы», о которых иногда говорила Гуэн, описывая демографию региона. В дымных комнатах продавали предсказанья судеб гадатели таро. Процветали аборты в подсобках. Вместе с плаваньями с маской и трубкой и экспедициями в батискафе с экскурсоводом по реке Коровий Мык туристам впаривали прыжки на эластичных тросах и поездки на реактивных водных лыжах. Один салон предлагал шоу уродов. Другой обещал духовное просветление. Одна лавка за другой навязывала мгновенное исцеление и тайные эликсиры для недужных экспатриантов, а в многочисленных опийных притонах белые мужчины в дредах возлегали на подушках и курили новейшие гашишные смеси. Улица, оставаясь узкой, казалось, убегала в саму бесконечность и была гораздо длинней, чем даже забор ранчо «Коровий Мык», – и столь же беспредельной, как человеческая тяга к пороку и приключеньям, как его желание простых средств, как его неутолимый аппетит к блеску, новизне и результативности.
Гуэн медленно ехала по улице, покуда не достигла вывески «Студия Марши – кундалини-йога», и тут сбросила скорость в последний, выворачивающий желудок наизнанку раз и встала на первое же свободное парковочное место рядом с серебристым «саабом».
– Это студия Марши, – пояснила она. – А это «сааб» нашего преподавателя истории искусств. Мы чуть-чуть опоздали, но это ничего…
Меня еще подташнивало после нашей прерывистой поездки, и я вышел из машины и неловко заковылял по твердой почве, стараясь вернуть равновесие. Оттуда я двинулся за Гуэн ко входу в студию, где она уже открывала дверь. В проем уже потянуло ароматом марихуаны и благовоний, плававшим над смехом безымянных голосов. Гуэн поманила меня за собой. Затем, словно бы вспомнив что-то из своего далекого прошлого, она повернулась и направила брелок с ключами на незапертую машину. Когда она нажала на кнопку, я увидел, как фары машины вспыхнули и отозвался клаксон.
– Я раньше оставляла дверцу машины незапертой, – объяснила она с задумчивой улыбкой. – Но это было давно. А я теперь стала гораздо мудрей.
* * *
{…}
Как любая другая мышца, само сердце для того, чтобы стать сильней, требует нежных и частых надрывов. Только с такими постоянными надрывами и восстановлениями может оно стать крупнее и крепче, преисполниться большей готовности претерпевать превратности жестокостей судьбы. В особенности это правило важно для учителей общинного колледжа. Как ни в одном другом царстве, здесь учителю приходится иметь дело со множеством инструментов причинения сердечной боли: с неодобренной заявкой на грант, бесплодным заседанием комиссии, недооцененным заявлением о приеме в штат, отрицательным отзывом студента и постоянной угрозой академических обид. Все это может привести к сердечной боли. Поэтому полезно приучать сердце к таким неизбежным травмам.
Для подготовки сердца к травме учитель может делать несколько вещей. Творить чудеса для увеличения сердечной способности терпеть боль способны утренние чтения газет. Так же действенны дневные прогулки по тихому парку. И, конечно, прогулки вечерние, нежеланным одиночкой среди кипящей ночной жизни своего университетского городка способны медленно и не так травматично вселить новую веру в накапливающиеся жизненные реалии. Вид стольких радостных пар в наивных объятьях друг друга наверняка поможет вам припомнить душевные страдания ваших собственных юношеских увлечений, когда романтика еще воспринималась как данное при рождении право, а любовь можно было жать просто и без усилий, как рукколу с грядки. И, разумеется, существуют занятия на поздний вечер, способные натренировать сердце и приучить его к разочарованью: банальности телевидения, слюнявое утешенье романтических романов, песни, воспевающие истинную любовь среди безудержного уюта рифмованных куплетов и гармонических распевов на три голоса. Все это даст сердцу возможность стать податливей, надежней и открытей к испытаньям поисков любви в регионально аккредитованном общинном колледже.
Но подобно любой другой мышце, сердце плохо переносит сильную травму. Ибо такая травма может снизить сердечную способность функционировать так, как оно было задумано. В отличие от прочих мышц тела, разрыв сердца может оказаться так травматичен, что позволять это можно всего один раз. Например, съесть вкусный, но ядовитый гриб. Или подобно профессиональному самоубийству, что происходит, когда в процесс романа между коллегами позволяют вторгнуться чувствам. И потому, к сожалению, когда случается такой невосстановимый разрыв, сердце оказывается погублено совершенно, словно комиссия, утратившая своего председателя, уже никогда больше не будет способна служить своему хозяину.
{…}
Влага во всем
Mi eniros en ĉiu planedo, kaj por Mia energio
ili resti en orbito. Mi fariĝis la luno kaj per tio
provizi la suko de la vivo al ĉiuj legomoj.
Бхагават-гита[17]Когда мы с Гуэн вошли в темную студию, о нашем приходе возвестил маленький ветряной колокольчик. Он был нежный, воздушный и, казалось, намекал на звук, какой издает душа, томительно перетекая из одного духовного состояния в другое: из Мичигана во Флориду, быть может, – или из Айовы в Висконсин. Студия была тускло освещена – по всей комнате расставили свечи, – и, придя сюда снаружи, из неоновой суеты улицы, я ощутил роскошное погружение в сладкий теневой мир курящихся благовоний и тающего воска. На заднем плане легко играла экзотическая музыка. Воздух был теплым и сухим, и в мареве дыма я различал свечи, расставленные по всей комнате в форме лотосового цветка. На стенах висели красочные рисунки, изображавшие восточные пары в изысканных совокупленьях. На полу идеальным кольцом были расстелены бамбуковые циновки, чтобы множество представителей общинного колледжа Коровий Мык, каждый – сидя, скрестив ноги, безмятежно – могли образовать вечный круг жизни.
– Намасте! – отозвалась Марша на перезвон дверного колокольчика.
И Гуэн ответила:
– Намасте, Марша!
Студия представляла собой одну комнату с деревянным полом – бывшая танцевальная студия? – и толстыми шафранными занавесями, плотно сдвинутыми, чтобы не впускать сюда наружный мир: яркий свет полуденного солнца или любопытный взгляд непосвященного прохожего. Круг бамбуковых циновок украшался преподавательским составом, и в различных его местах на этих циновках я различил сидящих тех, кто предпочел присутствовать на этом конкретном сборище, а не на том, что имело место у реки: Нэн Столлингз с рукою на перевязи и Льюка Куиттлза, который оглаживал чашку вина рядом с составителем заявок на ассигнование колледжа; а также вездесущего преподавателя истории искусств, чей «сааб» стоял снаружи; и профессора экономики, чью статью, оправдывающую подушный налог, недавно приняли к экспертной оценке; и, разумеется, Шлокстинов, Херолда и Уайнону, первую формально признанную пару колледжа, – они были обряжены в одинаковые римские тоги. В дальнем углу сидел учитель химии в черном шелковом шарфе, а рядом с ним – учительница эсперанто, распустившая волосы, со значком, провозглашающим: «Mi amas Esperanton!»[18] По всему кругу рассредоточились четверо или пятеро преподавателей английского (заметно недоставало лишь Сэма Миддлтона) вместе с пристыженной лекторшей, запарковавшейся на инвалидном месте перед общим собранием, и чарующим преподавателем творческого письма, в чьи привычки входило тщательно пользоваться сексуальными услугами своих студенток. Общество было разнородным, если не сказать большего, и в маленькой комнате становилось все теплей от благовоний, товарищества и дыма, шедшего от марихуаны, которую щедро передавали по кругу, – короче, было ясно, что столько интеллектуального и духовного разнообразия редко собирается на таком небольшом участке времени и пространства, если собирается вообще.
– Эй, Чарли! – раздался знакомый голос. То была Этел Ньютаун, которая по одному выбирала со стола с едой овощи, но теперь кинулась приветствовать меня выразительным объятьем. – Я рада, что у вас получилось прийти, Чарли! Мы с Нэн как раз о вас говорили. Мы не думали, что вы придете. Но глядите-ка… вот вы!
– Ага, Гуэн была настолько любезна, что привезла меня. И я прикинул, что это станет хорошей возможностью немного ближе узнать моих коллег. Знаете, тех, с кем буду работать, чтобы спасти наш колледж от пропасти ведомственного краха.
– Пересмотром устаревшей декларации миссии?
– Точно.
– И возрождением рождественской вечеринки?
– Именно. Надеюсь, это водяное сборище в этом смысле окажется полезным. Хотя не очень понимаю, почему все называют его «водяным». После нашей долгой поездки через неописуемую засуху я тут не вижу никакой воды…
– Терпение, Чарли! Вода будет!
Этел от всего сердца рассмеялась и залпом выпила вино из чашки, а я при этом заметил у нее на подбородке порез от вчерашнего столкновения с теленком.
– Как ваше боевое ранение? – спросил я. – Выглядит гораздо лучше, чем вчера.
– О, пустяки. Всего три стежка. Очень небольшая цена за посев семян цивилизованного общества. Вы не согласны?
– Согласен. Абсолютно с вами согласен. – Я рассмеялся. – Но, Этел, где же Стэн? Я предполагал, он тоже здесь будет. Но я его не вижу…
– И не увидите. Это потому, что Стэнли предпочел быть в другом месте. Что меня совершенно устраивает. Он взрослый человек и как взрослый человек имеет полное право принимать собственные решения, досконально зная, каковы могут быть последствия. Он способен сделать собственный выбор. Так же, как и мы.
– Мы?
– Да, мы. Это я узнала сегодня от Гуэн на нашей первой наставнической встрече.
Тут Этел спросила меня, какого наставника назначили мне, и когда я ответил ей, что мне достался Алан Длинная Река, учитель речи, который не говорит, она рассмеялась и сказала, что все могло быть гораздо хуже: бедная Нэн получила в наставники Уилла Смиткоута, и он уже не явился на встречу с ней.
– Они должны были встретиться в кафетерии за его обычным столиком. Но когда она туда пришла, его нигде не оказалось. Она прождала час, но он так и не объявился.
– Какая жалость. Он кажется таким приятным малым. А у вас как? Как идет наставничество с Гуэн? Вы с нею хорошо друг другу подходите?
– Отлично идет! Сегодня она пригласила меня на обед, и мы обсуждали с ней логику вселенной и науку космических принципов. Затем разговаривали о том, как собрать мой пакет документов на штатную должность и лучше всего убеждать впечатлительных студентов, что журналистика столь же вневременна, как и все остальное на этом свете, – если не больше. Гуэн также выдвинула убедительный довод, что брак как средство подчинения не слишком отличается от плуга, отягощающего прилежного быка. Я, наверное, всегда это знала, просто никогда не думала в таких рискованных понятиях. Что и говорить, теперь я себя чувствую гораздо более готовой к моему первому семестру в Коровьем Мыке. И к тяготам моего путешествия к личному освобождению и предельному раскрепощению, что ждет нас вдалеке, словно маяк на горизонте.
– К смерти?
– К работе в штате!
– Успеха в том и другом.
– Спасибо. А вы, Чарли? Как продвигается ваше личное освобождение? Приблизились ли вы к тому, чтобы стать чем-то целиком? Или к отысканию влаги во всем?
– Не очень. Честно говоря, в данный момент хоть сколько-нибудь влаги я не вижу ни в чем. Но, видимо, ночь только началась…
– Это уж точно!
С другой стороны комнаты мне дружелюбно замахала сидевшая там Нэн. Она оживленно расплела ноги и подошла туда, где стояли мы с Этел, и – рука на перевязи – умудрилась тепло меня обнять другой рукой.
– Приятно вас здесь видеть, Чарли!
– Спасибо, Нэн. Как рука?
– Уже лучше. Плечо вот до сих пор болит. Но я хотя бы уже могу сгибать запястье. А вы? Есть успехи с расширением метафоры доктора Фелча?
– Пока нет. Но еще рано. Семестр даже еще не начался. У меня есть время до декабря. Да и ночь еще юна…
– Именно!
Обе рассмеялись.
– Знаете, – сказала Нэн, – мы с Этел только что спорили, появитесь ли вы здесь сегодня вообще. Этел утверждала, что нет. Я тоже утверждала, что нет, поэтому похоже, мы обе проспорили!
– Ага, – сказала Этел, – мы с Нэн пришли к единому мнению, что иногда кажется, словно вы считаете себя выше всего этого. Как будто вам совершенно безразличны коллегиальные взаимодействия с другими сотрудниками. Как будто мир, населенный другими людьми, вас отвлекает, словно он – что-то противное и его нужно презирать и избегать. И мы решили, что вы скорее предпочтете спокойное уединение собственной квартиры сегодняшнему чувственному сборищу.
– Я? Выше всего этого? Во-первых, у меня в квартире ненамного тише и спокойнее – рядом живет кафедра математики. А что касается того, что я выше всего окружающего, то с таким же успехом я б мог до сих пор лежать на окровавленном асфальте, поскольку, говоря метафорически, я с него на самом деле и не поднимался. И с учетом того, что я вообще могу никогда не подняться с этого асфальта, очевидно, что мне не по чину считать себя выше чего бы то ни было!
– Значит ли это, что вы здесь останетесь?
– В Коровьем Мыке?
– Нет, на сегодняшнем сборище?
– К сожалению, слишком уж надолго я задержаться не смогу, поскольку мне нужно будет уйти в половине восьмого.
– Почему так рано? Я думала, вы хотели поближе нас узнать?
– Это было б очень мило, но мне нужно быть в другом месте.
– Вы имеете в виду, что стремитесь побывать сегодня вечером в двух местах?
– Насколько это возможно.
– Вместо того, чтобы отправиться в какое-то одно?
– Верно.
– И того, чтобы насладиться каким-то одним местом целиком и до предела?
– Ну, да.
– Но вы пропустите лучшее!
– Ага, – добавила Этел. – Вот бы сюда нашего ведомственного научного сотрудника!..
Обе хихикнули, как школьницы.
Видя это, Марша Гринбом, ныне удивительно облаченная в просторный саронг, подошла к нам предложить кое-какой еды. Белый саронг ее был почти прозрачен и очень откровенен – и когда она текуче перемещалась по комнате, ткань легко скользила по ее телу так, что на долю воображения оставалось мало что.
– Угощайтесь! – произнесла она и подвела нас к столику, на котором была разложена фуршетная еда: рыба, вино, подрумяненное зерно и чашка «М-энд-М»-ов.
– Как здорово смотрится! – сказала Нэн.
– Ага, – согласился я. – Вот это зеленое выглядит интригующе. Что это?
– Это, Чарли, руккола. Я лично отбирала по листику.
Этел наложила мне блюдце рукколы, а Нэн посыпала его сверху «М-энд-М»-ами вперемешку с подрумяненным зерном. Марша вручила мне чашку.
– Выпейте вина… – сказала она. – Вы же пьете вино, правда?
Я утвердительно поднял чашку:
– Можно сказать и так!..
Немного погодя Нэн и Этел заняли свои места, а Марша отошла приветствовать других гостей в комнате. Стоя с вином и блюдцем, заваленным «М-энд-М»-ами и рукколой, я не мог не заметить, до чего неформально одеты все мои коллеги: теперь уже на каждом была просторная одежда; некоторые даже завернулись в такие же светлые саронги, как у Марши. Даже Гуэн после долгой поездки от зелени к суши переоделась в шорты и широкую футболку и теперь сидела с совершенно покойным видом на бамбуковой циновке, беседуя с профессором экономики, чей саронг был подвязан вокруг пояса. (Профессор был без рубашки, давно уже преклонных лет, обрюзгший и с невозможно волосатой спиной и грудью, которые он бесстыдно выставлял напоказ.) За несколько минут Марша завершила свой обход комнаты и когда снова оказалась подле меня, сказала:
– Итак, Чарли, это ваш первый тантрический опыт?
– Мое что?
– Тантра, Чарли. Станет ли это вашим первым соприкосновением с древними неотантрическими ритуалами, что стали так популярны по эту сторону от временной автобусной остановки? Нас всех удивило, что вы решили прийти. Мы думали, вы будете выше этого. Но мы рады, что вы с нами! Нет ничего лучше замечательной садханы, чтобы повысить свою осознанность перед тяготами долгого семестра. И как человек, разведенный не единожды, но дважды, вы, вне всяких сомнений, готовы испытать жизнеутверждающую чакра-пуджу?
– Честно говоря, Марша, я понятия не имею, о чем вы говорите. Черт, я даже не знал, что такое руккола. Я здесь лишь для того, чтобы пообщаться с коллегами. Чтобы узнать их на более сокровенном уровне, понимаете, чтобы лавировать между личностями, с которыми буду иметь дело, пока стану отыскивать влагу во всем.
– В таком случае, Чарли, прежде чем мы приступим, вам не помешает переодеться. Этот ваш вельвет очень стягивает и не позволит вашей энергии течь, куда ей надо. Пойдемте со мной…
Марша завела меня в маленькую раздевалку и протянула простыню из легкой цветастой ткани.
– Вот, – сказала она. – Это для вас, похоже, самый правильный цвет… – Саронг был весьма оранжев, и оттенки его варьировались от бенгальского тигра до солнца, восходящего на Востоке. – Оранжевый – цвет второй чакры.
– В этом я уверен, – сказал я.
– А вторая чакра – как раз та, с которой вам нужно больше всего поработать, – объяснила она.
– Вот как? – Не убежденный, я пялился на болтавшийся в руке саронг, который по-прежнему был очень оранжев. – Марша, а это действительно необходимо? Я не привык к такой откровенной одежде. И оранжевый никогда не был у меня среди предпочитаемых. Вот бежевый – напротив!..
– Послушайте, Чарли, ясно, что вы очень скованны. Вы – управленец от образования. И с этим ничего поделать нельзя. Но сегодня вечером вам нужно расслабиться, если вы хотите стать едины с вневременной вселенной… и со своими новыми коллегами…
– Но…
– …Вам нужно расслабиться, если вы хотите раствориться в мистических учениях тантры.
– Но я не уверен, что хочу.
– Не хотите?
– Я не утверждаю, что не хочу. Я просто говорю, что не уверен, что хочу.
Марша улыбнулась и возложила ладонь мне на грудь поверх сердца.
– Вот это да, Чарли, да сердце у вас скачет!
– Правда?
– Боже мой, да! Бешено и неусмиримо! И это вам не поможет! – Оттуда рука Марши скользнула мне по груди к животу, а там ее пальцы остановились чуть ниже моего пупка. – Вы весь в узлы завязаны! У вас энергия не способна течь. Слушайте, не беспокойтесь за сегодняшний вечер – все будет прекрасно. Тантра – это не то, что все о ней думают. Вся эта чепуха насчет повышенного сексуального экстаза и взрывных оргазмов… ну, это, конечно, правда. Но это лишь малая часть того, что есть тантра на самом деле. Это лишь часть того, что мы сегодня вечером будем переживать…
Тут Марша взяла меня за правую руку и возложила ее себе на грудь. Обеими своими руками она крепко придержала ее, чтоб я не сумел ее убрать. Затем посмотрела мне в глаза:
– Что вы чувствуете, Чарли?
Я взглянул на свою руку у нее на груди.
– Рукой?
– Да, Чарли. Что вы сейчас чувствуете? Хоть что-нибудь?
– Ну, вашу грудь. Но помимо нее – почти ничего.
– Ваша рука у меня на груди, это так. Но еще она – у меня на сердце. Вы его можете почувствовать?
– Нет, не могу.
– Вы не чувствуете, как трепещет мое сердце?
– Нет.
– Его древнюю дрожь?
– Нет.
– Вообще ничего?
– Нет. Извините.
– Сердце мое трепещет, Чарли. Но вы этого не чувствуете, потому что пока не готовы увидеть ночь, приходящую из дня. И еще потому, что я приучила свое тело контролировать его собственные содроганья. Плоть моя, видите ли, как камень. Сердце мое тихо. Моя душа в покое. Я позволила себе убаюкаться ритмами мира, как вода нежно омывает камни, что также очень успокаивает. Я в постоянном состоянии почти-блаженства. Вообще-то если б не чесотка, я бы уже переживала космический оргазм, происходящий из предельного единства со вселенной.
Марша отпустила мою руку. Затем вторично возложила свою мне на сердце.
– А вот ваше сердце, напротив… Ваше, Чарли, встало на дыбы. Ясно, что оно пострадало от жестокой травмы. И под всей рубцовой тканью, под заскорузлым осадком сердечной боли и разочарованья ваше раненое сердце взывает к освобожденью. Оно мучается от собственных страданий и ныне больше всего прочего нуждается в своем особом утешенье.
– Правда?
– Да. Ему требуется женское утешенье. И мы его утешим, Чарли. Сегодня вечером оно будет утешено. А теперь переоденьтесь, пожалуйста!..
Марша ушла, а я разделся до трусов, после чего покрылся невозможно оранжевым саронгом, обернув его вокруг талии и смастерив неуклюжий узел на бедре, – а меж тем недоумевал, как мне удалось пасть так низко и так быстро: от подающего надежды отличника в старших классах до перспективного управленца образованием – к тантрическому разведенцу, в одиночестве стоящему в темной раздевалке посреди крайне оранжевого саронга. Повесив одежду на плечики, я выбрался обратно в комнату, где налил себе еще чашку вина. Вино было хорошим и крепким – а это вообще вино? – и когда оно закончилось, я налил еще чашку и осушил ее с такой же быстротой. И проделав то же самое с третьей и четвертой чашками, я налил себе еще одну и по-новому оглядел комнату и коллег, меня окружавших. Теперь эти трепещущие души уже не представлялись мне привязанными к своим соответствующим кафедрам – скорее они были теплыми красками облекавших их аур. В темной комнате при свечах Нэн Столлингз стала сияющим розовым, а Этел Ньютаун превратилась в искрометный желтый, учительница эсперанто была лаймовым, а кафедра английской филологии – все четверо – оказались слегка подгоревшим оттенком сухой осенней листвы. Херолд и Уайнона соответственно были цианом и оливином, Льюк – розовато-лиловым, Гуэн – фуксиевым, а преподаватель творческого письма весь шел волнами янтарного, фиолетового и сиены. И пока вино текло через мой организм к поджидавшему его мочевому пузырю, а краски и звуки в комнате вихрились вокруг, словно настойчивые переливы ситарной музыки, и все это дерзким светом входило в обволакивающее тепло моего сознания, я поймал себя на том, что постепенно и уютно расслабляюсь в состоянии милостивого принятия. Зачарованно созерцал я движущееся искусство стен – восточные мужчины и женщины совокуплялись и наслаждались телами друг друга среди служанок, слонов и разливаемых по кубкам бутылей вина, каждый – акт творения и оплодотворения; и покуда вино, что я пил, текло безудержными водами по моим мочевым путям, я думал об этом самом расстоянии, что я преодолел: от жара горячего асфальта к холодной влаге вина. Все эти годы я, должно быть, знал, что оно все закончится где-нибудь вроде вот такого: перед столом с рукколой в студии, заполненной совокупляющимися прапредками и полуголым преподавательским составом общинного колледжа.
– Чарли!
Из грезы меня вырвал настойчивый голос. То была Марша, и она звала меня с циновок, на которых сидела:
– Чарли, мы начинаем! Подсаживайтесь ко мне! И вино свое можете прихватить!..
Послушно я сделал последний долгий глоток из чашки, после чего наполнил ее снова и нашел себе место на циновках между Маршей в легком саронге и Гуэн в шортиках и футболке. Обе улыбнулись мне, когда я втиснулся между ними, и, пока переводил взгляд с одной на другую – сначала в одну сторону, затем в противоположную, – Марша даже ободряюще погладила меня по колену.
– Вы отлично смотритесь в оранжевом! – прошептала она. И снова возложила руку мне на оголенное сердце. Только на сей раз оно было спокойно. Марша улыбнулась. – Так гораздо лучше! – сказала она. – Сердце у вас успокаивается. Вино вам помогло. Теперь вы расслаблены и готовы начать!
К этому времени уже все преподаватели и сотрудники в комнате облачились в просторную одежду – тоги, или саронги, или шорты, или мешковатые спортивные костюмы, – и когда все расселись по циновкам, когда всем удалось скрестить негнущиеся ноги друг на дружку так, чтобы подошвы смотрели вверх, и когда на заднем плане сделали потише водянистую музыку, Марша взяла свечу и подняла ее перед собой. Когда она заговорила, огонек свечи сиял у нее под подбородком, отбрасывая зловещие тени ей на лицо и затемняя красную точку у нее на лбу.
– Друзья мои, – сказала она. – Дорогие коллеги, братья и сестры, со-любовники вселенной. Сейчас мы вступим туда, откуда мы глубочайше произошли, откуда родом вся материя и вся энергия. Это фаза излучения в космическом круговороте, который в древней тантрической традиции именуется шришти, а в современной традиции общинного колледжа называется… новым семестром. Как всегда, это время великой надежды, возрождения и пробуждающегося сознания: мы оставляем позади тьму предшествовавших угасаний и вступаем в это очень раннее утро новых ду́хов и грез…
Справа Гуэн постукала меня по плечу, и когда я перевел на нее взгляд, она протянула мне окурок с марихуаной.
– Вы это курите, Чарли? – прошептала она и сунула его мне в руку.
Я взял:
– Можно сказать и так…
Только дернув, я почувствовал, как через легкие проходит тепло, и рассудок мой начал выдыхать. Я почтительно вернул окурок и посмотрел, как он опять идет по кругу: он профессора экономики к преподавателю творческого письма к поклоннице эсперанто – или, скорее, от пригашенного розового к спокойному лаймовому и дальше – через розовато-лиловый и фуксиевый, через жженый осенне-бурный опавшей листвы. Рассудок мой теперь уже утрачивал свою логическую сосредоточенность, а мочевой пузырь наполнился вином, и пока я с трудом примирял две эти действительности, мне пришло в голову, что следовало бы наведаться в туалет прежде, чем я сяду в круг, но теперь все это уже вода под мостом. И еще я оставил часы в кармане брюк в раздевалке. И что сегодня при нашем разговоре в кафетерии мне следовало сказать Бесси, что́ я на самом деле чувствую про любовь – что́ она такое, по моим убеждениям, и как я считаю весьма непостижимым, что такой человек, как она, может вообще быть нелюбимым. Но теперь слишком поздно: всему этому придется подождать; Марша в своем сказе уже двинулась далее:
– …И покуда мы вступаем в эту новую фазу космического круговорота, нам важно помнить тантрические принципы, смыкающие нас со вселенной. Это принципы любви, открытости, духовной проницательности и сексуальной пытливости. Принципы эти – не мужские. Лишь в женском идеале тантры можно примирить сердечные желанья. Лишь в тантре мы способны превзойти внутреннюю борьбу, что есть результат наших глубочайших желаний. Ибо в каждом из нас имеется противоборство между тем, что у нас есть, и тем, чего нет, и, если мы не дадим ему голоса, оно подорвет наше стремленье к величайшим уровням осознанности и глубочайшему духовному пониманию. Нет, именно по этой самой причине следует утолить внутреннее желанье! Его нужно праздновать и исполнять, чтобы разрешились напряжение и противоборство наших душ. Лишь так мы обретем просветленье и глубинный покой, к коему стремимся!..
В кругу моих коллег-преподавателей все слушали и кивали. Те, у кого были блокноты и карандаши, – записывали. Другие сложили на коленях руки и сидели с закрытыми глазами, дабы полнее впитать слова. Марша продолжала:
– …Итак, уж не секрет, что вселенная устроена циклично. Круговорот времен года, например, а также различные поры дня. Он есть и в вечном колесе жизни, что везет нас от смерти к рожденью, к жизни, к смерти и затем снова к рожденью. И он существует в творческих фазах излучения, воплощения и растворения. Так же, как растворение ночи подводит нас к излучению и воплощению раннего утра, так и растворение утра ведет к излучению светлейшего дня, его воплощению, а затем, в итоге, и к его растворению. Тем самым бессчетные круговороты вселенной вековечны и бесконечны, словно спиральные круговороты, исторгаемые изнутри наружу от центральной точки времени и пространства. И эта центральная точка, во всей своей огромности и вневременности… есть вы сами!
Свеча у Марши под подбородком призрачно затрепетала и заискрила вслед ее словам.
– …Итак, каждый из вас приходит в этот круг со своей собственной энергией кундалини. Это пульсирующий змей, свернутый в области ваших гениталий, который только и ждет, чтобы его направили через различные чакры вашего тела. Начиная пробуждать эти энергии, мы постепенно поймем, каковы эти различные чакры, как они работают и как можно стимулировать каждую из них до повышенных уровней возбуждения, дабы достичь самого землетрясного, самого взрывного, самого до невозможности дрожепробивающего и воплевызывающего академического семестра, какой нам доселе доводилось переживать…
Тут Марша остановилась, чтобы почесать бедро. Безотлагательно и настойчиво она вкапывалась пальцами в кожу, словно та была в огне, который можно погасить, лишь расчесывая. Когда все удалось, она прикрыла ладонью свечу, которую держала в руках, и поставила ее рядом на пол.
– …Извините. А теперь, прежде чем мы приступим, не забывайте, пожалуйста, что для практикующего тантру конфликт – это не плохо и не хорошо. У прочих философий мира могут быть большие разногласия относительно роли внутренних борений в нашей жизни. Некоторые прославляют конфликт; другие его демонизируют. Для тантрического ума, тем не менее, конфликт – вещь неизбежная, это трение двух палок, которыми добывается огонь. Либо трение между камнем и песком, наносимым ветром, что вылепливает вокруг нас твердую землю. Конфликт так же вневременен, как и все остальное. Однако внутренний конфликт – еще и антитеза единства. Ибо великая тайна вселенной происходит не из разделений, внутренне свойственных конфликту, а из единства, происходящего из их примиренья. И потому тантра учит нас превосходить противоположности, укрепляющие конфликт, будь они мужским и женским, излучением и растворением, желаньем и достиженьем, кульминацией и ослабленьем, работой по договору и в штате или даже выворачивающим желудок наизнанку напряженьем между торможеньем левой ногой и ускореньем правой. Под водительством просветленного духовного гуру все соперничающие друг с другом жизненные силы сойдутся воедино в одном мгновенье оргазмической ясности, когда вселенная целиком сосредоточивается на сомкнутой точке жизненной энергии и вырывается вперед, как великий взрыв семени, громогласное содроганье клиторального экстаза, который способен принести с собой лишь истинный союз с богом и вечной вселенной…
При этих словах поднялась одна рука. То был профессор экономики.
– Марша, – говорил он. – Кое-кто в этом круге много лет уже изучает тантру и уже много раз проходил этот круговорот ведения и неведения. Мы испытывали поток энергии, текший по каналам нашего сознания, и взрывные оргазмы, и экстатическое просветление в результате. Но я уверен, что сегодня здесь есть по крайней мере несколько новых преподавателей, которые, вероятно, даже не знают, что такое чакры. Быть может, вы могли бы немного объяснить, прежде чем мы двинемся дальше?
– Что ж, Макс, к этому я и подходила. Но поскольку вы этот вопрос подняли…
Марша пошарила где-то позади себя и достала лекционный блокнот с цветным изображением человеческого тела и разноцветными кружками, нарисованными на нем. При мерцании свечей трудно было разобрать цифры, поэтому, когда она говорила, все вытягивали шеи, чтобы получше разглядеть:
– Это основные чакры тела, – объясняла Марша. – Чакры – это центры сознания. Их часто нумеруют снизу вверх, и они соответствуют разным частям тела, разным цветам изменчивой радуги и разным небесным телам, которые ими управляют. Вам также интересно будет знать, что в смысле аккредитации они вообще-то соответствуют различным жизненным силам внутри общинного колледжа. Поэтому в тантрических понятиях четвертая чакра, обычно называемая сердечной, – зеленая и управляет нашими чувствами любви и сострадания. Над нею – пятая чакра, горловая, она голубая и связана с общением. А ниже – третья, чакра солнечного сплетения, желтая, связана с силой воли. Это чакры исторические, и функции их хорошо задокументированы; в развивающейся тантре общинного колледжа меж тем три эти энергетических центра соответствуют Консультированию, Информационной технологии и Исполнительному управлению соответственно…
(При упоминании слова «управление» я вспомнил о нашей договоренности с Бесси. Сколько вообще сейчас времени? В дыму комнаты минуты слипались воедино, как вода в нескончаемой реке времени. И она, как любая другая река, обречена была течь медленно и верно по мучительному своему руслу. Но без часов как узнать мне, когда правильно покинуть сей круг? Можно ли мне доверять в этом своей интуиции? Еще было по-прежнему рано; но так будет не всегда. Без часов я только и мог на этом рубеже, что простереться ниц пред силами вселенной и надеяться на их милость и наставленье. И, возможно, так мне бы удалось отыскать утеху сердца своего, какая пока меня бежала. И если все произойдет согласно божественной воле вселенной, не смогу ль я тогда вовремя выйти на оживленную улицу ровно в семь тридцать, чтобы встретиться с Бесси?)
Я вновь повернулся послушать Маршу, которая показывала пальцем на диаграмму:
– Это, – говорила она, – шестая чакра, где обитает интуиция; она еще называется «третьим глазом» и связана с нашим Ведомственным исследовательским бюро. А вот здесь у нас первая чакра, которая также называется корневой; она располагается в самом основании позвоночника и предоставляет приземленность и устойчивость, а ассоциируется она с Коммунальными услугами и обслуживающим персоналом…
Вот Марша поместила палец на второй кружок, в мякоти живота под пупком, где и я несколькими минутами раньше почувствовал мягкое касанье ее руки.
– А вот это, – сказала она, – вторая чакра. Именно из этой чакры происходят семена всего полового наслаждения и воспроизводства. Управляется она луной – самым женским из небесных тел. И цвет у нее – оранжевый, как у тигрицы на охоте или у низко висящей полной луны. Вторая чакра, братья и сестры мои, есть источник глубочайших наших желаний, исток всего творенья, лоно знанья, просветленья и духовной подключенности. Это, разумеется, вагинальное отверстие процесса познания, то место, где рождается идея и куда высаживается семя всего формального обучения. Конечно же, она связана с уроками в классе, где ученик и учитель объединяются, будто сперма с яйцеклеткой в вечной смычке осеменения знанием.
Марша перешла к следующей мысли, но видя, что марихуана уже обошла весь круг и теперь ей покурить предлагает Херолд Шлокстин, она умолкла и приняла подношение. Дернув, передала ее мне, и я дернул сам, после чего передал окурок Гуэн, которая, в свою очередь, передала его дальше, и так вот он продолжал свое путешествие по нерушимом круге жизни, пока снова не вернулся к Марше, после чего ко мне – и я сделал еще одну затяжку – и далее к Гуэн, и опять по кругу. Марша продолжала:
– …На чем я остановилась? Ах да, про сперму и яйцеклетку. Вот поэтому в понятиях общинного колледжа это выглядит так…
Тут Марша умолкла, чтобы поправить перед саронга, который угрожал того и гляди соскользнуть ниже ее сосков. После чего перекинула лист блокнота, на задней стороне которого обнаружилась следующая отпечатанная диаграмма:
– Итак, каждая из нижних шести чакр, – объяснила она, – служит подъему энергии из нижних областей вверх через грудину и сквозь сердце выше, мимо горла и третьего глаза, а в итоге она поступает в седьмую чакру на макушке, которая есть достижение духовной подключенности к миру, окончательного просветления, единства с богом и полное безусловное подтверждение нашей аккредитации на шесть лет уполномоченным органом аккредитования. Разумеется, достичь этой цели нелегко. Но именно эта тропа к окончательному просветлению есть конечная цель для каждого из нас как людей, стремящихся к высшим прозрениям, – и для всех нас как общинного колледжа, стремящегося к региональной аккредитации.
Марша умолкла.
– Есть ли уже вопросы?
– У меня один, Марша…
Руку поднял Льюк Куиттлз. Они с Этел сидели на одной циновке – казалось, гораздо ближе друг к другу, нежели все остальные в кругу.
– У меня вопрос про космический оргазм.
– Да, Льюк. И в чем именно?
– Ну, у нас с Этел просто завязалась побочная дискуссия, и мы, знаете, задались вопросом, так ли хороши космические оргазмы, как оргазмы земной разновидности. Мы о них много слышали, и нам с ней обоим просто как бы интересно, насколько велика вероятность того, что мы сможем такой испытать сегодня вечером…
– Если честно, Льюк, это маловероятно. Перво-наперво, космический оргазм не похож на сильный физический, какой вы с Этел можете пережить как мужчина и женщина. Да и не походит он на неброский оргазм, какой могут испытывать они со Стэном как муж и жена. На самом деле то, что мы называем космическим оргазмом, – вообще не оргазм, а скорее глубокое духовное единство с миром. Это отпадение всех земных ощущений, выход за пределы времени, отрешение от сознания собственной самости – иными словами, то самое, что влечет за собой несчастье и страданье для наших душ. Чтобы достигнуть таких мгновений, понадобится вечность. Поэтому, Льюк, нет – его вы сегодня вечером вряд ли почувствуете. Но мы можем хотя бы начать этот процесс, исследуя физический оргазм, кой есть первый, хоть и самый низменный шаг к более близким отношениям с богом.
– Меня устраивает, – сказал Льюк.
– Меня тоже, – сказала Этел.
Все преподаватели и сотрудники по кругу закивали, тем самым подтверждая общее согласие с этой мыслью.
Ответив на вопрос Льюка, Марша продолжала.
– Больше вопросов нет? – спросила она. – Ну, тогда, раз мы познакомили вас с ключевыми принципами тантрической философии, мы готовы начать стимуляцию различных наших чакр, чтобы высвободить кундалини из ее спящего состояния в наших гениталиях. Чтобы у нас начался этот процесс, давайте разобьемся на пары…
Марша обвела взглядом круг и, перемещаясь по часовой стрелке с того места, где сидела сама, постепенно спарила нас женско-мужскими дихотомиями, по двое за раз: Херолда – с Уинни; Льюка – с Этел; Нэн с кафедры политологии – с чарующим учителем творческого письма; волосатого профессора экономики – с пристыженной лекторшей; преподавателя химии – с составителем заявок на ассигнования колледжа; развивающий английский – с эсперанто; сочинение среднего уровня – с введением в евгенику; британскую литературу – с логикой. И когда она обошла таким манером весь круг и закончила спаривать Гуэн с поклонником Шекспира без рубашки, сидевшим с нею рядом, и когда стало ясно, что я остался один из всего круга, у кого нет партнера, Марша взглянула на меня и сказала:
– Ну, Чарли, похоже, вы у нас третий лишний. Сегодня для вас никаких оргазмов! Шучу… мы можете быть моим партнером. Вот, подсаживайтесь ко мне…
Марша жестом показала место перед собой, куда мне следовало сесть, и я его занял. Другие пары последовали нашему примеру – они усаживались по кругу друг перед другом, один человек лицом внутрь, другой наружу, – и я, окинув пары взглядом, увидел новые впечатляющие комбинации цветов, получавшихся при такой рассадке: розовато-лиловый мешался с фиолетовым; фуксиевый сливался с розовым; перемешивались различные оттенки зеленого; осенняя бурость сухой листвы гладко переходила в тусклую серость вечной зимы. А совсем рядом ведический белый Марши сошелся с моим собственным бенгальским оранжевым и образовал поразительную комбинацию рецессивного альбиносно-оранжевого оттенка – или же выбеленной полной луны. Марша продолжала:
– В тантрической традиции существует три способа контролировать энергию: дыхание, осанка и звук. Первый из трех требует дыхания, которое расшевеливает энергию и подготавливает ее к восхождению к высшим чакрам. Конечно же, каждый из вас дышать уже умеет; а если нет, вам бы не удалось пройти строгий процесс найма в общинный колледж Коровий Мык. Как большинство млекопитающих, вставших на путь к штатной должности, вы способны дышать. Но знаете ли вы, как дышать духовно? Дыхание, видите ли, стимулирует третью чакру, но только если дыхание это духовно целенаправленно…
И тут Марша продемонстрировала, как выглядит духовно целенаправленное дыхание, – вдыхая глубоко и медленно, а затем так же медленно выдыхая.
– Итак, вдыхая, мы должны представлять себе всю полноту всего нашего жизненного опыта, расположившуюся чуть ниже нашей ноздри. Каждый случай нашей жизни. Каждую утраченную любовь. Каждое нарушенное обещание. Каждый американский штат, что мы посетили. Каждый заусенец. Каждую радость и разочарование, сердечную боль и страх. Каждую плохую оценку, что мы получали – или ставили. Каждую хорошую оценку. Всех женщин, кого мы коснулись, пусть и всего на миг. Всех мужчин, кого мы ублажали. Дрожи, что мы ощущали. Простуды, которые подхватывали. Муки совести, боль и экстаз. Асфальт. Все это должно быть прямо перед вами. Представьте себе это все. Чтобы мы, когда вдохнем, впитали все эти переживания через левую ноздрю, провели их сквозь легкие и в самые глубины нашей души. Вот до чего глубоким должно быть наше дыханье. Чтобы каждый вдох стал подтвержденьем полноты всего нашего существования. Ибо каждый вдох содержит в едином миге своем вселенную целиком. И дыханье это мы задерживаем в нашей душе до счета «три», после чего выпускаем его, выгоняя через правую ноздрю. И этим вот мы совершаем акт растворения, готовясь к предстоящему излучению, что настанет со следующим нашим вдохом. И так продолжается и будет продолжаться вечно. Но не забывайте – вдох через левую ноздрю, выдох через правую. Непрерывный круговорот божественного дыхания. Вот так…
Марша предприняла череду невозможно глубоких вздохов, вдох-выдох, ровно так, как и объясняла. Еще раз. Затем еще. И еще один раз. После чего обвела нас взглядом:
– Теперь вы попробуйте…
Мы прилежно принялись вдыхать и выдыхать, по очереди. Медленно. И целенаправленно. Пока один партнер выдыхал, другой, сидя прямо напротив, вдыхал. А потом то же самое происходило в обратном порядке – так, что выдох каждого партнера становился вдохом другого, и наоборот. Было нелегко. При каждом вдохе я изо всех сил старался вообразить опыт своей жизни, что привел меня в этот тантрический круг: добрую учительницу с каштановыми волосами; мужчину с тростью; подругу по колледжу, чья девственность навсегда останется моей; вкус окровавленного асфальта; запах жженого воска. И, вдыхая в себя все это сквозь левую ноздрю, я столь же наглядно рисовал себе свое странное будущее прямо под собой. Ковбоя с арканом. И кафедру математики в женском платье. Телячьи тестикулы в пластиковом пакетике на застежке. И гибкий загривок Бесси с волосами, рассыпанными по плечам. Вздохи мои уже перестали быть краткими и неравномерными, а стали долгими и текучими, словно перистые облака над сухим пастбищем. И все же, как бы я ни старался, вздохи эти не делались бесконечными, как вселенная. Да и душа оставалась далеко не такой духовной, как могла бы.
Марша спокойно за всем этим наблюдала.
– У вас прекрасно получается, – поощряла нас она, после чего вдруг: – Льюк! Вы все перепутали. Вдох левой ноздрей, а выдох правой!..
– Ох, черт! – отвечал Льюк.
Несколько минут мы обменивались со своими партнерами дыханьем, а когда это было сделано – причем сделано к Маршиному удовлетворенью, – она повела нас дальше.
– Ладно, – сказала она. – Теперь, когда мы раскрыли проходы для потока энергии, можно заняться растяжкой…
Следующие несколько минут Марша показывала нам череду растяжек и поз, что вызывали в памяти поразительные бронзовые скульптуры фонтанов нашего колледжа: беременный журавль; дракон в полете; тело с телосом; восприимчивая телка. И когда мы выполнили их так, что ее все устроило, она поруководила нами в череде голосовых упражнений – мантр, распевов и священных слогов, произносимых как заклинания, – от которых вся комната задребезжала первобытными звуками. И когда всё это проделали, она еще раз обратилась к марихуане, которую ей опять передали, затем вручила мне (я сделал то же самое) и улыбнулась.
– Очень хорошо! – сказала она. – Теперь мы готовы вызвать кундалини оттуда, где она лежит свернувшимся змеем. Итак, чтобы кундалини потекла, давайте все отыщем место, где она покоится. Его можно найти в верхней части внутренней стороны бедра. Делаем мы это так… – И тут Марша поместила свою правую руку на внутреннюю поверхность моего бедра и легонько провела мне по коже ногтем. Во мне невольно взбух легкий зуд.
Марша занималась этим еще несколько секунд. А потом громко объявила:
– Я сейчас делаю вот что: я использую свои женские энергии, чтобы пробудить мужского змея Чарли. Зуд, который Чарли сейчас чувствует, есть самые начала подъема энергии кундалини у него во второй чакре. Это жизненная сила, что протекает в каждом из нас и вдохновляет нас к новым вершинам сознания и осознания. Вы чувствуете зуд, Чарли?
Я кивнул.
– Чувствуете, как изнутри в вас восстает змей?
– Довольно-таки.
– Он поднимается?
– Да, Марша.
– Прекрасно. Это самая первородная энергия из всех. Она спала все долгие летние каникулы, и теперь ей нужно проснуться перед тем, как мы начнем новый семестр. Давайте все теперь найдем это место…
По кругу пары протянули руки, чтобы пробудить друг в друге кундалини. Марша оставила свою ладонь у меня на внутреннем бедре. И я в ответ возложил руку ей на внутреннее бедро и сделал то же самое.
– Нет, не совсем так, – прошептала Марша и направила мою руку еще дальше. – Вот так… – И она возложила мою ладонь прямо себе на священный треугольник. Я попытался убрать руку. Но она придержала ее. – Чарли, расслабьтесь, – сказала она. – Пусть вас не пугает буквализм всего этого. Тут не вы как мужчина трогаете меня как женщину. Это ваша священная мужская энергия сливается с моей священной женской энергией, и посредством такого союза мы вдвоем становимся частью большей энергии вселенной. Дело здесь в том, что я достигаю космического оргазма, вы – оргазма физического, а наш колледж, несмотря на чесотку, – полного шестилетнего подтверждения нашей ведомственной аккредитации…
– На шесть лет? – спросил я. – Вы уверены, что это вообще в данный момент возможно?
– Более чем.
– Без визита комиссии посреди семестра?
– Да!
– Ну тогда ладно. – И я скользнул рукою еще дальше ей под саронг, к той внутренней части ее бедра, где уже начинала собираться влага.
* * *
Удовлетворившись энергией, пробужденной разными парами в группе, Марша сказала:
– Замечательно. Теперь каждый из вас должен чувствовать шевеленье кундалини. Через несколько минут мы расшевелим ее еще больше. А пока не забывайте, пожалуйста, что мы здесь ради достижения духовного блаженства, а не физического насыщения. Физический экстаз – лишь нижняя перекладина великой лестницы, что приведет нас к высшим уровням понимания и осознания. Ровно так же, как детство – необходимая веха на пути к взрослости, а смерть – веха на пути к рождению, так и физический оргазм есть первая и самая доступная веха на пути к духовному просветленью. И, как и нижнюю ступень спиральной лестницы к вечности, ее покорить наименее трудно. Однако она лишь только это и есть – нижайшая ступень. И покуда эта нижайшая ступень всегда будет ничем не более того, что она есть, первейшей и нижайшей, так же истинно и то, что вы не сможете взобраться выше, сперва не преодолев ее. И потому половой экстаз – как этот первый шаг: сам по себе он возводит вас ненамного выше чего угодно; однако без него вам нипочем не достичь великих высот, кои и есть наше предельное предназначение…
Пока Марша говорила, я ощущал, как во мне, словно костер в чреслах, восстает кундалини и мешается с водой, что бурлит у меня в мочевом пузыре. Кундалини подымалась через мои чакры, а вино осаждалось в глубины моей души. А где-то посередине договориться с тем и другим пыталась марихуана. Конечно же, какая-то кундалини происходила – сомнений в этом быть не могло. Но сидя с полным мочевым пузырем, затуманенным воображением и кожей, зудевшей от легких касаний Маршиных пальцев, я мог лишь спрашивать себя, какая из этих мощных жизненных сил – величайшая. Уход ли за моим космическим газоном? Или сила воли нашего исполнительного управления? Ну точно ж не ведомственное исследовательское бюро? Что все это может значить? И как без часов я вообще сумею узнать, сколько сейчас времени?
– Марша? – произнес я сквозь марево моих мыслей. – Эй, Марша?..
– Да, Чарли?
– Марша, руки у вас очень опытные. И они, вне всяких сомнений, сонастроены с энергиями вселенной. Я к такому отнюдь не равнодушен, что, я уверен, вы тоже прекрасно сознаете. Кундалини – штука поразительная, и на этом водяном сборище я научился ценить ее. Спасибо вам, Марша, за то, что научили меня такому. И прошу вас, передайте Гуэн, что я благодарен ей за то, что заглянула ко мне в кабинет и пригласила сюда. И за то, что привезла меня сюда в своей желтой двухместной машинке. Пожалуйста, передайте ей, что я не выше всего этого. Но, Марша, еще мне нужно спросить у вас нечто важное…
– Да, Чарли?
– Марша, это вопрос, на который только вы можете ответить.
– Да, Чарли, и каков же он?
– Марша, вы можете мне сказать, сколько времени?
– Времени, Чарли?
– Да, Марша. Вы можете сообщить мне, сколько сейчас времени? Потому что, по-моему, уже очень поздно, а знать это мне нужно настоятельно…
– Нет никакого времени, Чарли. Есть только вечность.
– Да, это я понимаю. Но все равно, не могли бы вы мне сказать, который час? Мне это как бы надо знать, пока не поздно. Я не хочу упустить машину.
– Нет времени. Нет ни будущего, ни прошлого. Есть лишь вечность вселенной и непосредственность настоящего физического мгновенья. Того, что делим сейчас мы с вами. Знайте, пожалуйста, Чарли, что ваш поиск влаги благороден и не будет вотще. Рука у вас тепла и маняща, и она подбирается к роднику моего творенья. В сравнении с космическим экстазом нашего неотвратимого союза, что ж еще вам может быть нужно? Иными словами, что вам за нужда в чем-то временном, вроде времени?
– Но, Марша, мы же сплошь окружены временем. И если не будем осторожны, оно нас минует. Как быстротекущая река. Потому-то нам и нужно ему внимать. То есть – мне нужно ему внимать. Иначе сказать, Марша, скажите мне, сколько времени? Прошу вас. Не будете ль вы так любезны сообщить, нужно ли мне покинуть этот круг уже сейчас, хотя для какого бы то ни было оргазма еще слишком рано и я к тому же еще не полностью подготовился к великолепью грядущего семестра. Марша, прошу вас, сколько времени?
Марша сняла руку с моего бедра.
– Если вы поистине так относитесь ко времени, Чарли, – если вы цените временное больше абсолютного, если вы более склонны платить дань тому, что приходит и уходит, а не тому, что остается, причем остается навсегда, – тогда, вероятно, вам лучше всего покинуть круг немедля. Потому что время и вечность – противоположности. Как любовь и результативность. Или как парадокс и он сам. Едва вы вступите в царство одного, к другому вернуться больше не сможете. Едва вы узрите вечность, Чарли, возврата уже не будет. Поэтому вам, вероятно, следует уйти сейчас, покуда вас не принудило переступить этот вечный порог целиком…
Я благодарно убрал руку с верха ее бедра.
– Спасибо, Марша, – сказал я.
– Намасте, – ответила она.
И вновь присвоив свою руку, я встал из совершенного круга жизни и стал пробираться к двери на оживленную улицу. Когда я покидал темную студию, за спиной у меня легко прозвучал нежный перезвон на двери, провозглашая мой преждевременный уход, а очутившись снова во временном мире ярких огней и холодного воздуха, я ощутил, как на плечи мне вновь навалилось огромное бремя, словно душа моя тяжко перешла от одного духовного состояния к другому: из Миннесоты в Орегон, быть может, или от сиены к оливину.
* * *
Снаружи глаза мне ошеломила яркость неона. Суматоха вдоль главной улицы Предместья гомонила и шумела, и когда я вывалился на скрипучий настил тротуара, меня смело толпой, продвигавшейся радостной бурливой массой. Весело мы перемещались по улице все дальше и дальше от двери, из которой я только что вышел, и покуда миновали мы разбухавшие скопища людей и неоновые фасады лавок, я ощущал себя так, словно охвачен экстазом, которого раньше не ведал. Мимо дымных салонов и полуодетых продавщиц, мимо одной вывески за другой, предлагавшей органически выращенные запретные плоды, я ковылял и запинался навстречу противной мне толпе – теряя из виду людей, что влекли меня дальше, – покуда не добрался до самого края вселенной: пустого переулка с пустой скамьей, на которой никто другой не сидел, и вот в этом пустом месте – пустейшем месте на свете – я и сел. Развалившись на скамье, я наблюдал, как мимо толчками неудержимого веселья проходят стаи людей. Теперь уже было очень холодно, и в ночном воздухе я вдруг почувствовал себя недоодетым – тепло студии неизбежно обратилось в холод открытого ночного воздуха. Однако ж в уединенье моего переулка и в одиноком молчанье моей скамьи толпы не обращали на меня внимания. Мир замедлился и пополз. И в тот миг мне показалось, что время действительно подошло к концу. Все краски мира смазались в одну. В идеальном единстве до меня доносились ароматы гашиша, шоколада и корицы. И, сидя там, я ощутил, как на меня наваливается глубокая усталость. Скопленье людей стало единым. Противоречивая какофония превратилась в одинокий звук. Минуты растаяли в едином микрокосме тишины. Свет исчез, и звук погас.
Блаженно я закрыл глаза.
* * *
{…}
Отношения между любовью и сексом у вас в общинном колледже так же важны, как и где угодно еще. И так же, как где угодно еще, они безвозрастны, как и отношения между конфликтом и примирением. Или сном и бодрствованием. Или дачей знания и поиском знания. Ибо редко случается так, чтобы противоположности эти сосуществовали в своих чистейших формах. Когда сильна одна, другая наверняка должна быть слаба. И когда эта другая начинает преобладать, такое происходит неизбежно за счет первой. Однако также существует тонкое равновесие, какого можно достичь, когда не преобладает ни одна, ни другая. Когда чистая любовь стала любовью практической, а необузданный секс – сексом обузданным, и вот при этих условиях совершенного равновесия две такие противоположности могут сойтись в трансцендентном балансе времени и пространства. Для огромного большинства штатного преподавательского состава общинного колледжа соперничающие приверженности любви и сексу несовместимы – как те, что пожарный испытывает к огню и воде. Но так быть должно не обязательно. Секс и любовь – не противоположности, какие должно избирать одну в ущерб другой, а скорее противоположные предельные точки движения маятника, достигаемые в свой размеренный черед, поначалу – категорически, затем со временем все менее так, покуда великий маятник желанья не упокоится ровно в срединной точке между ними двумя. Этот миг совершенного покоя называется многими именами во многих различных культурах: в индуизме это самадхи; в политике компромисс; для пьянчуги, вышвырнутого из бара, это бессознательность; для атеистов – смерть; а для преподавательского состава вашего местного общинного колледжа это пугающее, однако неизбежное нисхождение в образовательное управленчество.
Уравновешивать противоположные действительности – вот ключ к полной жизни и наслаждению плодотворной академической карьерой. Ибо место, где не может существовать ни то, ни другое, есть также место, где обе они могут сосуществовать вечно. Словно бюрократия, существующая ради сохранения самой себя и способная достигать долголетия через посредственность, так и состояние достижения ни любви, ни секса существует до скончания времени. Ведь именно стремление к такому индивидуально и до их логических и иррациональных завершений дает жизнь жизни и в конечном итоге подводит все к предельной точке амплитуды, что на кратчайший миг замирает над неизбежностью, ожидающей внизу…
{…}
* * *
Когда я открыл глаза, передо мной стояла Бесси.
– Чарли! – говорила она. – Что вы тут делаете? Я думала, мы встречаемся у Марши? Что и это, к дьяволу, на вас такое надето?!..
– Здрасьте, Бесси, – сказал я. – Я просто немного выпил, а еще чуточку марихуаны. И время как бы, знаете, остановилось. Оно просто эдак отвалилось на внушительный задник вечности.
Бесси сплюнула наземь рядом с собой.
– Ага, ну что ж – все это прекрасно. Но, к вашему сведению, под этим легким саронгом торчит ваш маятник. И времени сейчас ровно восемь двадцать две… и пятнадцать секунд, если вам интересно знать. А это значит, что я вас почти час ждала на обочине. Поэтому вставайте с этой чертовой скамейки и давайте уже двигаться.
Я встал и двинулся вслед за Бесси обратно к студии Марши, мимо тех же витрин и тех же оживленных толп, которые только что миновал. Те же радостные лица. Те же соблазнительные продавщицы. Шаг Бесси был спор, и покуда я за нею тащился обратно по настилу тротуара, мы виляли, входя во встречную толпу и выходя из нее, покуда Бесси наконец не остановилась. Вокруг нас шумела улица. Неон был ярок. Мы стояли перед студией Марши.
– Чарли, я подожду здесь, а вы сходите и заберете свою одежду. Я не могу везти вас на барбекю в таком виде…
Но тут я воспротивился.
– Бесси, – сказал я. – Если я опять туда зайду, я, может, никогда больше не вернусь. Видите ли, все они сейчас в разгаре вхождения на высший уровень сознания. А я ушел раньше. Я был единственным, кто не доверял вселенной целиком. После такого я не могу туда вернуться… Просто не могу!
– Ох, ладно! – сказала она и открыла дверь студии. Кости мои теперь уже совсем саднило от холода. Ночь была темна и преднамеренна. Несколько минут спустя Бесси снова вышла наружу и вручила мне ком одежды. – Судя по всему, это ваше?
– Откуда вы знаете?
– Бежевая. Погодите здесь. Схожу за грузовиком.
– Бесси…
– Да.
– Прежде чем вы уйдете за грузовиком, можете сказать мне одну вещь?
– Какую?
– Как там все было? Понимаете, в круге жизни, который я предпочел покинуть до срока?
Бесси покачала головой:
– Вряд ли вам хочется это узнать…
Она отошла, а я стоял и ждал ее в холодной ночи. И в холоде этой ночи чувствовал, как ко мне медленно возвращаются чувства. Очертания стали отчетливее. Цвета вокруг меня разделились. Лица людей вошли в фокус. Через несколько минут подъехала Бесси в старом грузовичке «форд» – в том, который она купила у сестры Мерны после того, как ее бывший муж Бак сообщил ей о продаже.
– Забирайтесь, Чарли, – сказала она. Я сел на переднее сиденье и закрыл за собой тяжелую дверцу. В кабине было тепло, пахло пеплом и старым автомобильным обогревателем. Бесси воткнула сцепление, грузовик дернулся и покатился. Несколько кварталов мы проехали молча, а когда добрались до единственного в городке светофора, она посмотрела на меня очень серьезно.
– Послушайте, Чарли, просто чтоб вы знали – и я хочу, чтобы до вас это дошло совершенно отчетливо: секса у нас с вами сегодня не будет. Поэтому, если вы думаете об этом, ну, теперь вы знаете, на каком мы свете…
На это мне ответить было нечего; поэтому я ничего и не ответил. Бесси продолжала:
– То есть я же вижу, что вы к такому определенно готовы и прочее…
– Что?
– Чарли, вы определенно к этому готовы.
– К чему готов?
– К сексу.
– Это так очевидно?
– Да, очевидно. Я женщина, Чарли. И я из Коровьего Мыка. Нам такое известно.
Пристыженный, я залепетал, чтобы как-то оправдаться:
– Дело не в этом. Просто я, ну, не очень часто курю марихуану, а вино было очень крепкое – это вообще вино было? – и я сейчас изо всех сил стараюсь понять, что вокруг меня происходит. И внутри меня. Знаете, видеть тьму и день. В тот миг, когда я просто хочу узнать своих коллег интересно и по-новому. Секса у меня на уме и близко не было. Поверьте мне, Бесси. В смысле, именно потому я и выбрал работать в общинном колледже!..
Свет переменился. Бесси кивнула и включила передачу грузовика.
Дорога уже была темна, и за окнами рассматривать было нечего. Подсвеченное очарованье Предместья уступило место отрезвляющей темноте, и лишь когда мы подъезжали к лагерной стоянке у реки, где в полном разгаре была вечеринка Расти, появился еще один уличный фонарь. Заезжая на парковку, Бесси показала на лагерь, тускло освещенный.
– Все у реки… – сказала она. – Можете переодеться вон там, за грузовиком Расти…
Я поблагодарил ее и в темноте, за старым грузовиком переоделся из саронга в свой бежевый вельвет.
– Готовы? – спросила Бесси, когда я вернулся со сложенной оранжевой тканью в руках.
– Да.
– Как голова? Ясная?
– По-моему, да. Хотя мне правда нужно больше спать…
– Тогда пойдемте. А то они, вероятно, уже спрашивают, что с нами случилось.
* * *
– Чарли! – крикнул Расти, завидев меня, после чего: – Эй, Бесс! Рад, что вы оба смогли выбраться! Вы не пара еще? Вот, держите пиво!..
Расти сунул руку в ящик льда, но тут же замер и посмотрел на Бесси.
– Он пиво-то пьет, а? – спросил он у нее.
– Можно сказать и так… – ответила она.
Мы взяли у Расти по пиву и сели на одно бревно из тех, что лежали кру́гом на лагерной стоянке. Посередине сложили костер, и в свечении на его периферии я различал силуэты преподавателей и сотрудников, которые подчеркнуто пришли на это сборище, а не на другое, что ныне достигало своей космической кульминации в студии Марши: доктора Фелча, Расти, Стэна Ньютауна (без Этел) и Тимми из будки охраны, и профессора делового общения, и отдела обслуживающего персонала в полном составе, и главбуха, и команду секретарш администрации, и всех до единого штатных преподавателей зоотехнии, а сбоку на едва освещенном участке речного песка в подкову играли два или три человека из бара.
– Эй, так это же?..
– …Мой брат, – сказала Бесси. – Да, это он. И мой бывший муж. Вы познакомились с ними в «Елисейских полях» по пути в город, а их имена так до сих пор и не озаботились выучить. Так вышло, что они были добрыми друзьями Мерны, и потому Расти их тоже пригласил.
– Забавно, до чего тут все так связано. Как все здесь связаны!
– Ага, но мой брат – механик, и он работает у бывшего мужа Мерны, который в комиссии по планированию и ныне женат на второй жене доктора Фелча, которая большая шишка на ранчо и потому смогла выделить пыльный загон для вашего недавнего упражнения по сплочению коллектива. А Бак, между прочим, – охотничий приятель Расти, и они вдвоем рыбачат на том участке реки, которым владеет семья Тимми, работающего в будке охраны, который лишил меня девственности, когда мне было пятнадцать лет. Тимми – племянник Мерны, и у него сейчас роман с одной из секретарш администрации, вон с той, что сидит сейчас с Раулем, положив руку ему на бедро, – а с последней женой Тимми мы учились в одном классе, она работает в кафетерии – ну та, знаете, с красивыми глазами.
– Что подавала рубленый бифштекс в сетке для волос?
– Нет. В сетке для волос и подает рубленый бифштекс. В общем, вы поняли. Она тоже должна была сегодня прийти сюда, но моя нянька заболела, поэтому она вызвалась присмотреть за моими детьми.
– Ух, это очень много информации, Бесси. Особенно про ваших детей…
– Расслабьтесь, Чарли, в ближайшее время вам об этом волноваться не придется. Я это к тому, что здесь все очень предсказуемо. И то, что оба из бара сейчас тут – мой брат и мой бывший муж, – ну, это вас уже не должно очень сильно удивлять.
– Нет, не удивляет. И, я полагаю, не должно. Но удивительно, что их только двое. Знаете, в баре же их было трое. А тут всего двое. Зубного врача вы не пригласили прийти?
– О, Мерну он знал очень хорошо, и его наверняка бы пригласили. Он был милый человек.
– Был?
– Скончался недавно.
– Что? Когда это произошло?
– Некоторое время назад скончался во сне.
– Некоторое время назад? Как такое возможно? То есть, я же… мы же… мы с вами только что за обедом о нем говорили сегодня!..
– Все приходит и уходит, Чарли.
– Да, но…
– Проходит время.
– Я знаю, но…
– Оно конечно.
– Еще б, но?..
– И такое вот всегда было недоступно нашему пониманию.
– Но!
– Пейте, Чарли.
И я выпил.
И, пока пил, я пристальнее разглядывал барбекю, что уже было в самом разгаре. Сидя вокруг костра, мои коллеги смеялись, шутили, тянули пиво над тарелками говядины и рубленых бифштексов с гриля и сосисками, которые жарили на палочках над открытым пламенем. Доктор Фелч заправлял грилем, поставленным недалеко от круга, и от запаха шкворчащих бифштексов во рту у меня повлажнело после такого количества рукколы и подрумяненного зерна – и после такого количества марихуаны. В холодном ночном воздухе носились и хохотали маленькие дети без курток, гонялись друг за дружкой без присмотра, а компания мальчишек постарше взобралась на деревья вдоль реки и швыряла палки в воду.
– Это дочь Расти, – пояснила Бесси, показывая на чрезмерно накрашенную девушку-подростка, сидевшую в углу круга со своим дружком. – Та, что разбила ему грузовик. – Я кивнул. – А вон то, – сказала она, – мальчишка, от которого она залетела. Но постарайтесь не касаться этой темы, потому что Расти с этим по-прежнему непросто. И для него тема эта – определенно больная.
По другую сторону костра играли на гитаре, и над общим гомоном слышался гортанный певческий голос: сквозь мерцающий свет костра и все еще не отступившее марево моего собственного рассудка я разбирал, что это в полукруге восторженного конторского персонала перебирает нейлоновые струны гитары Рауль.
Я восхищенно покачал головой:
– Вы гляньте на Рауля! – сказал я Бесси. – Поразительный человек. Чарующий. Элегантный. Логичный. Все у него совершенно выровнено: физически, интеллектуально, аккредитационно. Его присутствие внушительно. У него хорошая дикция. У него превосходный голос. Даже его навыки руководителя исключительны. Это ему удалось вчера провести нас через упражнение по сплочению коллектива. Если б не он, мы б, наверное, до сих пор сидели в том загоне, полемизировали о разумности бычьих и разрабатывали план по отделению маленького теленка от его яичек.
– Для большинства женщин это может оказаться решающим доводом. Но он не моего типа.
– Правда? Я бы решил, что он тип для любой женщины.
– Не для меня. Большинство женщин притягивает определенный тип мужчины. И Рауль несомненно попадает в эту категорию. Умный. Смазливый. Самоуверенный. Всегда находит нужные слова. Неизменно осознает ситуацию. Я уверена, он – того типа, что никогда не оставляет сексуальную партнершу неудовлетворенной. Большинство женщин ищет такого мужчину повсюду. А я вот – нет. Теперь уже. Мне нынче не хватит терпения на поиски совершенства. Мне другого сорта любовников подавай.
Я недоуменно посмотрел на Бесси.
– Если честно, я предпочитаю таких, как вы, Чарли…
– Я?
– Да, несовершенных. Тех, у кого зубы крупные и неловкие манеры. Такого человека, кто заикается, запинается и забывает тщательно следить за своей внешностью, а еще лучше – такого, кто про внешность вообще понимает недостаточно, чтобы помнить, что ему следует за нею следить. Такого, у кого штанины слишком короткие, рукава слишком длинные, а пальцы гуттаперчевые. Оставьте себе мужчину с рафинированными вкусами и кубиками на животе. А мне дайте пузатого олуха с сомнительным прошлым и чокнутыми мечтами. Дайте мне кривозубого. Горбатого. Преждевременного семяизверженца. Дайте мне мужчину, у которого в резюме орфографические ошибки. Увальня с бессвязной системой ценностей и двусмысленными нравственными установками. Высокооплачиваемого завкафедрой оставьте себе. А я возьму мелкую сошку, кто рискует общественным поношеньем с неполной занятостью, чтобы стремиться к реализации своих истинных страстей. – Бесси сделала долгий глоток из банки, после чего громко выдохнула. – Знаете, Чарли, забавно, до чего со временем у женщины меняются вкусы. Когда я была помоложе, я б с ума сходила по такому мужчине, как Рауль. Чистота его меня бы растопила. От его искренности у меня голова шла бы кругом. Но теперь мне хочется кого-то не настолько… выровненного. Кого-то неопределенного и несовершенного. Бесконечно человеческое существо. Личность с глубокими личными недостатками. Иными словами, Чарли, кого-то больше похожего на вас…
– Очень мило с вашей стороны так говорить, Бесси. Я это очень ценю.
– На здоровье. Но секса с вами у нас сегодня все равно не будет.
Мы выпили, и доктор Фелч подошел к нам с тарелкой бифштексов с гриля, за которым он следил. Куски были нарезаны ломтями и сочны, поджарены умело, и мы пальцами выбрали себе ломти. Доктор Фелч одобрительно улыбнулся:
– Ну и как вы тут ладите между собой? Никаких планов на секс, надеюсь?
– Ничего определенного, – ответил я. – По крайней мере, на сегодня.
– Это хорошо, – сказал доктор Фелч. – Не забывайте, Чарли, для вас в конце из этого ничего хорошего не выйдет!..
Бесси легонько пнула доктора Фелча в колено.
Тот рассмеялся и сел на бревно с нею рядом.
– Не против, если я сяду? – спросил он, уже сев.
– Пожалуйста-пожалуйста.
Доктор Фелч закурил сигарету и выкинул спичку себе за спину.
– Ну и как новый грузовик, Бесс? Слыхал, ты купила «форд» у сестры Мерны?
Бесси пожала плечами:
– Нормально. Только вот карбюратор забит да глушитель проржавел.
– На твое последнее замужество похоже!
Бесси рассмеялась и снова пихнула доктора Фелча, на сей раз – в плечо.
– Нет, мое последнее замужество нормальным уж точно не было!..
Тут беседа неизбежно скатилась на ведомственные темы: доктор Фелч упомянул какие-то отчеты, что Бесси нужно будет отпечатать до начала семестра; Бесси напомнила доктору Фелчу о каких-то грядущих важных встречах, куда ему не следует забыть прийти. Эти двое так и перебрасывались репликами, пока после небольшого затишья доктор Фелч не повернулся ко мне:
– Ну и как, Чарли, вас принял Коровий Мык? Не жалеете, что взялись за эту работу?
– Пока нет, мистер Фелч. Проработал я, конечно, пока всего три дня. А в Разъезде Коровий Мык побывал с субботы всего один раз. Кажется, уже целая вечность прошла после того, как я приехал на временную автобусную остановку. А столько всего за это время, кажется, изменилось. Но меня по-прежнему бодрит, что я здесь, и я жду не дождусь, когда семестр уже начнется по-настоящему. У меня такое чувство, что я понемногу стал соображать, как тут общаться с разными личностями. Это непросто. Но мне очень помогает Бесси.
– Я ж вам так и говорил. И я рад, что у вас все получается. Очень жаль только, что вы вдвоем чуть пораньше сюда приехать не смогли. Вы пропустили прекрасные поминки. Вам бы очень понравилось. Тут были все друзья Мерны, и мы по очереди делились любимыми историями о том, как проводили с нею время. О ее эскападах в юности. И ее свершеньях зрелости. Даже Рауль красноречиво выступил на тему того, что́ для него значит идти по ее стопам. Когда мы говорили о том, что произошло в прошлом году, о ее неожиданном уходе, вокруг костра не осталось ни одного сухого глаза. И было очень трогательно, когда мы развеяли ее пепел по реке. Очень жаль, что вы все пропустили.
– В этом лишь я виноват, – сказал я. – И мне от этого ужасно. Я выпил чересчур много вина на водяном сборище – это вообще вино было?! – и принял чересчур много марихуаны, и не осознавал, что часы у меня в брюках остались, а потом уже стало слишком поздно…
– У вас в брюках?
– Да. Они сдерживали мою кундалини, поэтому их пришлось снять. А в студию, конечно, я за ними вернуться не мог, поэтому Бесси пришлось их забирать. Это она меня нашла на скамейке на самом краю вселенной. Но я не отключался. Я просто спал. Видите ли, я просто очень устал с тех пор, как из Северной Каролины вернулась кафедра математики.
– Этого я и опасался…
– Но все в порядке. Бесси нашла меня на скамейке, и я переоделся обратно в свой бежевый вельвет. Громовый оргазм-то, уверен, я пропустил. Но я хотя бы тут.
– Похоже, вечер у вас был богат на события, Чарли. Но теперь вы среди друзей. Поэтому просто расслабьтесь и наслаждайтесь прекрасным свежим воздухом. И потрескивающим костром вон там. И, разумеется, потрясающей серебряной луной, что сияет нам сверху, словно материнская любовь детям… Вот, возьмите еще бифштекса!..
Мясо было нежным и слегка присоленным, от него по-прежнему шел пар после гриля. Я взял еще несколько кусков и поблагодарил его.
– И непременно попробуйте вот это…
Доктор Фелч показал на кусочек обугленного мяса у себя на тарелке. Я взял этот кусочек и положил себе в рот.
– Великолепно, – сказал я. – Такое влажное и сочное. Не похоже ни на какое мясо, что мне доводилось пробовать раньше. Что это?
– Это, – ответил доктор Фелч, – семена цивилизованного общества.
– Что-что?
– Со вчерашнего дня. Зачем, по-вашему, я прихватил в загон пластиковый пакетик на застежке?
Бесси хмыкнула.
– Добро пожаловать в Коровий Мык! – сказала она и сама взяла кусочек.
– Где сходятся цивилизации! – добавил доктор Фелч.
Они оба рассмеялись, и доктор Фелч закурил очередную сигарету – свою пятнадцатую. Бесси сходила еще за пивом, а когда вернулась, за нею тащился Расти Стоукс.
– Эгей вам! – сказал Расти. – У вас тут, похоже, своя вечеринка происходит. К вам можно?
И, не дожидаясь ответа, сел на бревно со мною рядом.
Костер к этому времени уже немного пригас, и холодный ветер казался еще холодней. Покуда мы вчетвером сидели на бревне – Расти, я, Бесси, доктор Фелч, – мимо нас потоком к открытому грилю текли коллеги или же возвращались от него; и вот так мне довелось познакомиться почти со всей кафедрой зоотехнии и доброй частью отдела обслуживающего персонала. Задержалось поздравить меня с наймом трио секретарш администрации и выразить соболезнования в связи с моими неудавшимися браками. Одна пожелала мне удачи в воскрешении рождественской вечеринки. Другая высказала комплимент об отсутствии растительности на лице. («Теперь вы гораздо больше похожи на координатора особых проектов!») А третья подсказала кое-что насчет метафорического значения теленка.
(– Теленок, – заявила она, – представляет поиск глубинного знания, которое пленено узилищем загона. – На что я ответил:
– Если так, что же тогда те сочные кусочки, которые я только что употребил в пищу? Что есть тогда семя, отсеченное до срока?
– Это, – убедительно заключила она, – суть отдельные перлы мудрости, составляющие наш более крупный запас знаний!) В какой-то миг с гитарой в руке подошел Рауль, и я сделал комплимент его пению. А когда к нам приблизился Стэн, я поздравил его с новообретенной независимостью от Этел.
– Видела б она меня сейчас! – расхорохорился он.
(«И видели б сейчас вы ее!» – подумал я.)
Со временем вечеринка, похоже, сгустилась вокруг Расти и доктора Фелча, и пока мы за пивом беседовали и пили за ломтями бифштексов, разговор постепенно вошел в уютную колею. На бревне рядом с нашим Рауль и Стэн вспоминали нашу вчерашнюю победу над теленком. А с концов нашего бревна Расти и доктор Фелч вспоминали свои вылазки на реку в старших классах, мы же с Бесси внимательно их слушали посередине. Приблизившись к протрезвлению у Бесси в грузовике за нашу с ней долгую поездку, теперь я ощущал, что пиво переливается во мне так же, как несколько часов назад вино. Выйдя из своей квартиры, я по-прежнему не нашел еще туалета; однако темные леса казались безнадежно далеки от лагерной стоянки, и стоило мне только направиться к их густой сени, как кто-нибудь из коллег вручал мне еще одно пиво.
– Эй, вы куда это, Чарли? Вот, возьмите-ка еще!.. – И я садился снова. И покуда пил пиво и ел говядину, ловил себя на том, что впитываю все это вместе: пищу, алкоголь, тепло костра и беседу, вихрившуюся вокруг меня. Мочевой пузырь мой медленно заполнялся с каждым потребленным пивом, живот наполнялся с каждым ломтем бифштекса, а сердце полнилось теплом костра и нежной и успокаивающей беседой, облекавшей меня. На бревне Бесси придвинулась, освобождая место для доктора Фелча, и теперь сидела так близко от меня, что всем своим бедром прижималась к моему. Время от времени она клонилась то в одну сторону, то в другую, и с каждым перемещением ее веса я ощущал, как ее мягкое плечо наваливается на мое – или отступает от него. И это меня тоже грело.
– Ну что, Расти, – наконец произнес кто-то после того, как обсуждение перешло со спорта на погоду, затем от легковых машин к грузовикам, а потом с международной политики на самые неотложные текущие дела Разъезда Коровий Мык: – Ну что, Расти, что вы думаете про нового коммуниста, которого мы наняли в прошлом году на кафедру философии?
– Мне он не нравится, – ответил Расти.
– Да ну? А тот гомосексуалист, что преподает изобразительное искусство?
– Мне он тоже не нравится.
– А сторонница контроля за оружием на предпринимательстве?
– И она.
– А недавно получивший повышение профессор астрономии из Бангладеш?
– Не смешно.
– А замужняя лекторша с двойной фамилией через дефис?
– Не-а.
– А вегетарианец? А индус? А негроид, только что зачисленный в штат? Как насчет активиста за права животных? Защитника окружающей среды? Поборницы трезвости? И что со сторонником правительственных субсидий? Антивоенным демонстрантом? Вигом?[19] Лектором по экономике, у которого топливосберегающая машина?
– Никто из них мне не нравится!
– Какая жалость! А как вы относитесь к новому предписанию окружного совета о знаках? Ну помните, по которому все знаки теперь должны быть подсвечены?
– Я против.
– А к открытию границ для беженцев? А к обложению пошлиной табака и виски? А к разделению молитвы и школы? А отвязке нашей валюты от золотого стандарта?
– Против.
– А к запрету любого курения в общественных местах?
– Не за.
– А к новым электрическим пишущим машинкам для отделения точных наук?
– Против.
– А к упору на использование данных в ведомственном планировании?
– Всеми кишками против.
– Вы, похоже, против много чего, Расти. Так а за что именно вы? Есть такое?
– Я за то, что уже есть. Если что-то уже существует, ей-богу, этому должна быть причина! Поэтому просто оставьте это в покое. Пусть будет, и хватит в это вмешиваться. На свете и без того, к черту, полно перемен, чтоб еще и стремиться создавать новые там, где им совсем не место.
– Но, Расти, – возразил Стэн. – Если доводить ваш подход до его мало-мальски логического заключения, не будет ли это означать конца всяким новшествам? Не будет ли это подразумевать, что мы просто должны принимать все как есть? А не стремиться вместо этого к прогрессу?
– Правильно, черт бы драл!
– Да ну нет, вы это не всерьез! Как ученый вы никак не можете действительно так считать! Только подумайте обо всех недостатках, что так и останутся неисправленными. То есть, если б мы просто били баклуши и принимали статус-кво – если у всех были бы ваши убеждения, – мы никогда не смогли бы восстать против величайших несправедливостей нашей нации. Мы бы никогда не отменили Сухой закон. Или не воспротивились против Закона о гербовом сборе[20]. Или не упразднили человеческое рабство!
– Если бы все верили, как я, – сказал Расти, – у нас бы и не возникло рабства! Или гербовых сборщиков… – Расти поднял свою пивную банку. – …И бог знает, но Сухой закон бы нам и не потребовался!..
Доктор Фелч рассмеялся.
– Вот в этом я его точно могу поддержать!
– И все же, – сказал Рауль, – по всему региону вы признаны как специалист по искусственному осеменению коров. А это неестественный процесс. Это человечья уловка. Разве здесь нет непоследовательности в вашем мировоззрении? Фатального противоречия? Разве это некоторым образом не парадокс?
– Не-а. Не парадокс. По крайней мере – не больше парадокс, чем что угодно другое парадоксальное на свете.
– Но ведь нет же! И доказательство – вокруг нас. Вообще-то – в этот самый миг оно у вас в левой руке! Поскольку, если совсем уж присмотреться, мистер Стоукс, не есть ли и само пиво – произведение человеческих рук? Без очень человеческой тяги к нововведениям не пришлось бы нам иначе пить сейчас простую воду?
– Без нововведений, – объяснил Расти, – мы бы все были свободными людьми, пьющими воду. Так и есть. Но учитывая, что мы превратились в таких рабов нововведений, с тем же успехом мы можем воспользоваться своим рабством на всю катушку и пить пиво!
Все засмеялись. Стэн смеялся тоже. Потом спросил:
– Так а сколько вообще коров вы осеменили?
– Что?
– Сколько коров вы осеменили, мистер Стоукс?
– Лично – нисколько. Это генетически невозможно.
– Да, но искусственно – сколько вы осеменили?
– Очень много, я и не упомню.
– И поначалу вы считали, что это трудно?
– Было противно, да.
– Но со временем стало легче, я предполагаю?
– Конечно. Как и все остальное на свете.
– Могу себе представить, что для осеменения коровы нужна твердая рука?
– Да, нужна.
– И стальная решимость.
– И это тоже.
– Что-нибудь еще?
– Ну, еще перчатка по плечо.
– Вы прожили хорошую жизнь, мистер Стоукс.
– Удача мне улыбалась.
Все мы закивали. Потом кто-то произнес:
– Раз уж вы коснулись темы осеменения, не могли бы вы ввести что-нибудь в нашу текущую дискуссию о любви?
– Вашу чего?
– Ну, дискуссию о любви. Не могли б вы нам сказать, что она такое, по вашему мнению? Этот предмет также требует твердой руки, а для нас в последнее время он стал особым яблоком раздора. Вот мы и пытаемся добиться каких-либо новых взглядов на эту очень старую тему. Мы стараемся повысить свою осознанность в этом вопросе прежде, чем начнется семестр. Так что вы можете нам сказать, мистер Стоукс?
Расти фыркнул.
– Ничего я про это не знаю, – сказал он. – Мое поле деятельности узко. Эмпиризм не очень пригоден для такой штуки, как любовь.
– Но, Расти, нам не терпится узнать что-нибудь от человека с вашим богатым опытом!
– Опытом!
– Да, доктор Стоукс. У вас, в конце концов, жена, три дочери и внучка на подходе. Поэтому мы надеемся, что именно вы и прольете немного света на этот вопрос. Поскольку ночь уже не так юна, как некогда. Луна дерзка, но тает. И время у нас, дабы достичь какого-то более глубокого понимания, похоже, истекает.
– Ага, ну, я честно не могу вам сказать, что такое любовь. И не могу сказать вам, что она не такое. Но чертовски точно я могу вам сообщить, что она вообще не!..
– Будьте любезны…
Расти хлебнул пива из банки. После чего сказал:
– Видите ли, у многих людей о любви имеются неверные представления. Они считают, что это некий романтический ужин на двоих в азиатском ресторанчике за углом. Или поездка на автобусе в один конец – в Мичиган, зимой. А любовь на самом деле – ничего подобного. Она не имеет ничего общего с бальными платьями и ужинами при свечах, с романтическими прогулками по пляжу. Это не розы и не открытки на Валентинов день. Это не леденцовые сердечки и не влажные поцелуи с вялыми языками теплой дождливой ночью. Это не минеты без взаимности и не полный рот влаги, и не ошибка последней минуты, что будет длиться всю оставшуюся жизнь. Это не звездная ночь в середине августа у реки. И уж точно, к черту, это не два разгоряченных пятнадцатилетки на переднем сиденье моего «шеви» прошлым июнем!
– Какая жалость – вся эта история про ваш грузовик, Расти!
– Я не из-за грузовика злюсь. А из принципа.
– Она симпатичная девчонка, Расти. Я уверен, младенец будет сногсшибательной красоткой.
Расти допил свое пиво и швырнул банку в костер.
– С такими генами, как у меня, пусть только попробует ей не стать!
Бесси ткнула меня под ребра, и я, переведя взгляд, увидел, что она жестом предлагает мне сойти с этой дорожки обсуждения. Что я и сделал. И, как всегда, мгновение изящно спас Рауль:
– Это такое фантастическое место, – сказал он, показывая на реку. – Темнота поразительна. Запахи первобытны. Звуки темных лесов так экзотичны. И я просто обожаю, как лунный свет нежно отражается на воде. Все это очень живописно. И вызывает в память Льобрегат в начале весны.
– Я рад, что вам нравится, – сказал Расти. – Это местечко моей семьи. Мы приходим сюда каждое лето.
– Очень славно, – добавил я. – А есть здесь поблизости туалет?
Расти рассмеялся.
– Еще бы. Какой уголок ночи предпочитаете?
Рассмеялись и все остальные.
– Это Разъезд Коровий Мык, Чарли. Располагайтесь как дома.
– В Мыке бывать – по-коровьи мычать!
И опять все засмеялись. Я тоже, но с бревна не сдвинулся.
– Это место действительно бередит столько воспоминаний, – сказала Бесси. – Я уже целую вечность этот участок реки не навещала. Мой отец, бывало, рыбачил недалеко отсюда. Он себе особое место облюбовал за излучиной, там он всегда свою норму выбирал. Он его звал своим Святилищем. Это было его тайное место.
– Твой отец чертовски хорошо удил! – сказал Расти. – Я ходил с ним рыбачить пару раз. Он что угодно мог поймать. Просто легендарный был дядька! Один из лучших удильщиков, кого я знал.
– Мне все так говорят. Я была маленькая, но помню, как он свой улов приносил домой и мы с мамой допоздна его чистили. Как же я это терпеть не могла! Он рыбу в ящиках со льдом морозил и на следующий день развозил по соседям.
– В старом своем «додже»!
– Точно. Без ветрового стекла.
– А задний борт опущен, и в решетке радиатора торчит американский флаг.
– И все пятнадцать звезд гордо трепещут! – рассмеялась Бесси. (С каждым воспоминаньем ее бедро, казалось, все ближе притискивается к моему; а когда она говорила, все тело ее двигалось в такт словам, и я ощущал теплоту ее бока – она это вообще замечала? – и мягкое нажатие ее плеча.) – Иногда на эти объезды соседей он и меня с собой брал. В каждом доме мы задерживались и заходили в гости к тем, кому он отдавал рыбу. Обычно на крыльце. Иногда в кухне. Всегда было такое чувство, будто время останавливается – уж так они подолгу нагоняли то, что произошло с последнего раза, когда они виделись. Все свежие охотничьи байки. И обсуждали каждую рыбу, что поймали. И разных знакомых людей. Они всегда старались вспомнить всех, кто переехал или скончался с последнего раза. Ох, и грузовики их. Господи, лишь бы опять не про грузовики! Их они обсуждали часами. А я все это время стояла и просто впитывала, по-детски скучала, и мне уже хотелось ехать к следующему дому, чтоб потом поскорей вернуться домой, и я не осознавала тогда, что позже в жизни буду тосковать по этим мгновеньям, которым сейчас желала скорее пройти. Взрослые всё говорили и говорили. Я слушала. А потом, перед тем, как нам уходить, хозяева обычно давали нам что-нибудь с собой. Говяжью вырезку. Соты с медом. Немного кожи для папиных седел. Вот так всякий раз – поедешь рыбу раздавать, и в магазин уже не надо!..
– В Коровьем Мыке так раньше и было. Но мы это где-то по пути растеряли. Еще одна жертва прогресса.
– И не говорите. У меня в семье это умерло с ним вместе. С тех пор я на рыбалку не ходила.
– Ты не одна такая. В те времена мы рыбачили. Но твой папа сейчас бы реки не узнал. Это уж не та река. И рыбалка сейчас уж не та. Во времена твоего папы весь мир был другой. Воды были чище. Течение быстрее. Рыба действительно выпрыгивала из воды. То были дни, когда еще работала железная дорога, прогресс еще считался прогрессивным, гидроэнергетика еще казалась волной будущего. А теперь все иначе. И над этой бедной рекой все эти годы надругаются…
– Кто? Прогресс? – спросил Рауль.
– Черт, ну а кто? – сказал Расти. – Эта река стала всеобщей шлюхой. Местной блядью. Умственно отсталой девчонкой в подсобке. Ей углубляли дно и направляли ее в другое русло. Отщипывали от ее потока. Выше по течению добавляли химикаты. А теперь ищут чего-то – чего угодно, – чтобы справиться с водорослями, которыми сами же ее и заразили. В нее сливали нефть-сырец и выхаркивали свои отходы. И вываливали горы всякой дряни с судов, отправленных чистить ее от более мелкой дряни. За все свои годы у реки я находил шины на мелководьях. Старые телевизоры. По ней плавали туши бизонов. Ремни от пылесосов. Однажды ловил форель, а поймал целый пылесос. В Коровьем Мыке нет ни единой семьи, что не натыкалась бы на выброшенные на берег шприцы, героиновые иглы и опийные трубки. И это лишь часть того, что они проделывали с этой рекой.
– Они?
– Да, они.
– И кто же это?
– Они – это люди с идеями. Новые люди с новыми идеями. Иностранные люди с иностранными идеями – некоторые живут сразу за углом; другие приезжают аж из самой Калифорнии. Вы трое только не обижайтесь… – Тут Расти обвел рукой, показывая на меня, Рауля и Стэна. – Но все эти люди из других мест со своими представлениями о нескончаемом движении – все эти целители, хиппи, пророки и инженеры – они приезжают в Коровий Мык со своими идеями и планами. И, пока тут, они творят свои делишки и устраивают свои вечеринки и свои оргии, а потом выбрасывают использованные резинки в нашу реку. Им даже не приходит в голову, что те выносит всем нам. Или что наши дети будут в этом купаться.
– Извините, Расти, – сказали мы.
– Пока вам не за что извиняться. Вы в Коровьем Мыке еще новенькие – и, может, ваши идеи как раз и пригодятся…
– Надеемся на это!
– …Но я в этом сомневаюсь.
Стэн, Рауль и я покаянно переглянулись.
Расти продолжал:
– Но худшее, что они сделали, – они построили плотину. Как только плотину достроили и они затопили старое индейское селение, река сама не своя.
– Плотину? – переспросил Рауль.
– Индейское селение? – переспросил Стэн.
Расти покачал головой.
– Плотина – хорошо известная часть нашей истории. А вот затопление селения – один из грязных секретиков Коровьего Мыка. У меня в музее есть несколько газетных вырезок об этом. И есть изображения – до и после. Селение вовсе не нужно было эдак вот затапливать. Но так бывает, когда гонишься за прогрессом. Когда стремишься к непрерывному улучшению. Когда поклоняешься результативности. Река текла себе, как текла тысячи лет. И это было хорошо. Но для них – хорошо недостаточно. Нужно было сделать лучше. Продуктивнее. Чтоб текла быстрей. И по ней можно было путешествовать в такие места, куда ей течь не полагалось. Туда, куда иначе бы она и не потекла.
– Это вроде того, как мы втроем тут оказались? Как наши соответственные странствования привели нас в Коровий Мык – такое место, куда мы бы иначе не приехали!
– Именно. Видите ли, река – она реакционна: она противится прогрессу; она предпочитает существующее положение. Но люди – рабы новшества. Особенно для американцев оно – хозяин жестокий. И потому явились люди с идеями и перегнули реку через бочонок. Нашлепали ей по заднице и заставили уступить. Они ее перегородили и перенаправили, и, если при этом пришлось бы затопить старое индейское селение, что ж, так тому и быть.
Тут Бесси поерзала на бревне, и бок ее легонько потерся о мой. Бедро у нее было мягкое и теплое. Опустив взгляд, я заметил, что на ней мини-юбка, не закрывавшая даже колен. Ее белая блузка была просторна. Ее полные груди касались моего предплечья, когда она поворачивалась ко мне, чтобы получше разглядеть произносимые слова.
– Индейское селение, – продолжал Расти, – представляло собой всего-навсего деревушку из старых хижин, коптильни и огородов, где люди выращивали себе у реки урожай. Место это располагалось прямо на реке, чтобы вода попадала на поля и пополняла колодцы. Во всей котловине долины Дьява, наверно, не было места плодороднее этого.
– Разумно, – сказал Стэн. – Они тут жили первыми. За ними и выбор.
– Видимо, да, – согласился Расти.
– Они же знали, что делали, когда выбирали это место!
– Вот это уж точно.
Доктор Фелч кивнул:
– Всем вам, наверное, будет интересно узнать, что в этом селении жил один из наших преподавателей. Алан Длинная Река обитал там со своей семьей, когда был маленьким. Его даже назвали в честь реки.
– Длинная Река? – переспросил Стэн. – Вы имеете в виду преподавателя речи, который не говорит?
– Вот именно, – сказал доктор Фелч. – Наставник Чарли.
– Ага, – подтвердил Расти. – Длинная Река родился в деревушке и жил там до переселения. Тогда еще он был разговорчив и рассказал мне всю эту печальную историю о том, как в селение однажды явилось правительство и выпнуло оттуда всех.
– Случилось это более сорока лет тому назад… – прибавил доктор Фелч.
– Сорок два, если точнее. Шериф собрал всех в центре селения и сказал: «Всем вам придется уехать, потому что через год земля у вас под ногами будет вся под водой». Люди Длинной Реки покачали головами и ответили: «Это невозможно. Река никогда не разливалась до этого места. Чего ради воде сейчас здесь собираться?» А шериф показал на самое высокое дерево в селении – американскую сосну – и сказал: «Вы видите вон то дерево? Меньше чем через год воды здесь, где мы все стоим сейчас, будет столько, что она покроет его самые высокие ветки!» Но люди все равно не могли в это поверить. «Такое невозможно, – сказали они. – Вода не может собраться так внезапно! Мы останемся здесь, сколько будет расти трава и течь вода». И они отказались уезжать. Через месяц правительство нагрянуло с бульдозерами и шерифами – и с правом на принудительное отчуждение частной собственности – и выгнало их. Длинная Река только учился говорить, когда все произошло. Но он это помнит отчетливо – и рассказал мне, много лет спустя.
– Мой дядя был одним из шерифов, – сказал доктор Фелч. – Для него это было самым трудным заданием, что ему вообще приходилось выполнять.
– Но он это сделал!
– Он это сделал.
– Какая трагедия! – сказал Стэн. – И бессмыслица. То есть – снести так целое селение! Под воду! Куда же они поехали? Куда люди делись, когда затопили деревушку?
– Рассеялись. Некоторые переехали в городок. Другие отправились в большой город. Семья Длинной Реки осталась, но они были исключением.
– И все это – ради плотины? Это же так неправильно. Почему этого никто не остановил?
– Тогда еще это не было приоритетом. И в то время казалось хорошей мыслью.
– Но теперь это же трагедия!
Расти покачал головой.
– Нет, это не трагедия. По крайней мере – теперь уже не она. Трагедией это было тогда. А теперь это просто история. Возьмите любую современную трагедию, добавьте к ней сорок два года – и что получится? Получится… история.
– История?! – раздался из-за наших спин громкий голос. Мы разом повернулись и увидели, что к нам со складным садовым стулом под мышкой подходит Уилл Смиткоут. – Я верно расслышал, что вы меня по имени назвали?!
Все рассмеялись.
– Подсаживайся, Уилл. – Доктор Фелч жестом пригласил его поставить стул у наших бревен. – Я вижу, ты подготовился!..
– Как всегда! И приехал бы гораздо раньше, если б не застрял по дороге за этим маршем смерти…
Доктор Фелч застонал.
Уилл брякнул складной алюминиевый стул рядом с нашим бревном и сам на него рухнул. В одной руке он держал свою «манерку», а из нагрудного кармана у него торчала незажженная сигара.
– Ты чего к нам так подкрадываешься? – спросил Расти.
– Мне в лесочке нужно было одно дельце обстряпать.
– Подробности нам не нужны, профессор.
– Ага, – сказала Бесси. – Их можете оставить при себе!
– Ну еще бы. Знаете, жена моя перед тем, как умерла, говорила мне, бывало: Уильям, если бы мне кто-нибудь давал мне дайм за каждый раз, что ты отливаешь… мне бы все равно лучше из-за этого не было. У жены моей всегда было ядовитое чувство юмора, такое вот!
Мы рассмеялись.
– Так что я пропустил? Что это за разговоры тут об истории? – Уилл обмяк на стуле, стряхивал с костюма какую-то пыль и поправлял на себе галстук-бабочку. – И какую помощь я могу оказать моим коллегам?
– Ох, да никакую, Уилл. Мы просто рассказывали тут нашим новым преподавателям о плотине и о том, как затопили индейское селение. Расти вот только что отметил, что весь этот травматичный эпизод ушел в историю.
– Именно, – подтвердил Расти. – И теперь он просто-напросто принят как неизбежная реликвия прогресса и эволюции. Как вымирание странствующего голубя. Или возникновение или исчезновение той или иной мировой цивилизации вместе с ее языком, ее культурой и институциями, что ей дороги.
– Конечно же, плотина была скверным замыслом, – сказал Уилл. – Как и большинство всего остального. Но и она не стала беспрецедентна. Вода заставляет человека творить странные вещи, знаете.
Мы все серьезно кивнули.
– Именно поэтому она – одна из трех изменчивых вещей, что заставляют мужчин терять рассудок…
Уилл умолк для пущего театрального эффекта:
– А две остальные – это, конечно, женщины и слова.
Уилл вытащил из кармана пиджака сигару и покрутил ее в пальцах.
– А главная разница между всем этим в том, что женщины приходят и уходят, а вот слова живут вечно. Что же касается воды… с этим мы так или иначе, но пока до конца не разобрались…
Мы кивнули.
– …С историей же штука вот в чем, – продолжал Уилл. – Она вполне тесно связана с женщинами, но гораздо теснее – со словами. Однако если вглядеться пристальнее, вы увидите, что история больше похожа на воду. Течет, куда хочет. Движется в своем темпе и своем времени. Мы можем за нею наблюдать и помнить ее. Можем пытаться ее квантифицировать и объяснять. А иногда нам даже может повезти, и мы сумеем предсказать ее будущий курс. Но такое достижение мимолетно. Воду удержать получится не больше, чем контролировать историю. Девяносто девять процентов всей воды на свете пить нельзя. Но вот то, что мы зовем историей, – это оставшийся один процент. Вот он, крохотный кусочек, который мы способны переварить. Остальное же просто поднимается обратно в облака, словно лужица с горячего асфальта.
– Асфальта?
– Да, асфальта.
Рауль покачал головой:
– Для преподавателя истории, мистер Смиткоут, у вас определенно циничный взгляд на историю!
– Ага, ну, так же и жена моя считала. Говорила, у сапожника дети ходят без сапог. У фермера семья голодает. А жена историка остается без наследника. Ни сыновей. Ни дочек. Никакого прочного наследия. Мы это, конечно, не сами выбрали. У нас в свое время бывал поразительный секс – вы уж мне поверьте, жена моя куролесить могла, как шлюха площадная! – но вот за это она меня так никогда и не простила!..
Отмахнувшись от этого отступления в бесплодные воззрения Уилла на историю, Расти продолжал:
– В общем, исконное население, похоже, посмеялось последним. Длинная Река рассказывал мне, что, когда они покидали селение, старики собрались и наложили на всю эту область проклятье. «Вы с нами так поступили из-за воды. Ну так пускай вода теперь и станет вашей судьбой». Объявили они это сразу перед тем, как двинулись бульдозеры. А потом ушли. И это было последнее, что они произнесли на своем родном языке. И последнее, что они вообще сказали как народ.
– А потом что было?
– Остальное уже история. На следующий год ввели в действие плотину. Селение затопило. И вода с тех самых пор уже не была прежней. Плотина должна была питать водой всю эту округу – от Разъезда Коровий Мык по всей шири котловины долины Дьява. Но дожди прекратились, и теперь воды едва хватает на сам городок. Каналы пересохли. Черт, да в верховьях реки теперь меньше воды стало, чем было до строительства плотины. Тогда можно было прыгнуть с утеса, который называют Большой Скалой, и не бояться, что шею себе сломаешь. А теперь вода там такая низкая, что психом будешь, если вздумаешь попробовать. Да и в старый грузовик попасть можно, какой там илом занесло!
– Или на крышу брошенного дома, – сказал доктор Фелч.
– Или в списанный паровоз, – сказала Бесси.
– Или в остатки затонувшего рабовладельческого судна XVIII века, – сказал Уилл.
– Уилл?
– Не буквально, разумеется…
(Тут Уилл закурил сигару и откинулся на спинку своего алюминиевого стула. Встряв в общую беседу, теперь, казалось, он был совершенно не против, что она обтекает его стороной.)
– Но зачем же нужна была тогда эта плотина? – спросил Рауль. – От нее, похоже, всем сплошные неприятности.
– Тогда – нужна была, – ответил Расти. – Ведь региону требовалась энергия подешевле – для работы ранчо. И больше энергии для новых поселений, что росли в Предместье. Ну, чтобы вместить будущий наплыв хиппи, целителей, пророков и проституток. То были времена, когда паровая энергия резко пошла на спад, а гидроэнергетика казалась волной будущего. И, разумеется, региону требовалось больше воды. Откуда, по-вашему, в колледже столько зелени? А вода для газонов откуда? Фонтаны? Бык, кроющий телку? Откуда, по-вашему, кампус берет всю эту свою жизненную силу?
Мы сообщнически закивали.
– Очень не хотелось бы говорить так… но чем был бы наш идиллический кампус без этой плотины?
Вопрос был, конечно, риторический, поэтому Расти не стал дожидаться ответа; просто сунул руку в ящик со льдом и вытащил еще один «Фальстаф».
– Стэн? Еще не желаете?
– Мне пока хватит, спасибо.
– Рауль?
– Я к нему даже не прикасаюсь.
– Ох, чуть не забыл – вы ж у нас из Калифорнии. Вы, Чарли?
– Конечно. Выпью еще одно.
И Расти передал мне следующее пиво.
* * *
Игривые звуки, доносившиеся от реки, уже смолкли, а вместо них громче стал треск костра. Несколько человек из тех, кто явился раньше, уже ушли. Почти все секретарши разбрелись по домам. Не осталось и большинства обслуживающего персонала, и кафедры зоотехнии. Дочь Расти уехала со своим дружком на его грузовичке. И почти все дети – те, что играли у реки и гонялись без присмотра друг за дружкой, – тоже ушли. Нас осталось немного – Уилл, Рауль, Расти, Стэн и доктор Фелч, – и мы устроились вокруг теплого огня, каждый – затерявшись в неотвратимой тьме этой безоблачной ночи. В мерцании костра мы с Бесси сидели на бревне близко друг к другу; время от времени она позволяла своей руке на миг опуститься мне на бедро – случайно? – и всякий раз я ощущал, как во мне начинает взбухать кундалини.
– Так, а кто-нибудь знает, отчего Длинная Река не разговаривает? – спросил Стэн, когда по кругу раздали по последнему пиву. – Как-то странно, что человек просто берет и перестает говорить. Особенно – профессиональный учитель речи.
Расти и доктор Фелч обменялись взглядами.
– Это долгая история, – сказал Расти.
– Это уж точно, – согласился доктор Фелч.
Я рассмеялся:
– Они тут все обычно такие!..
– И печальная, – добавил доктор Фелч.
– Очень грустная, – подтвердил Расти.
– Как обычно, – сказала Бесси, легонько сжав мне колено.
– Так что на самом деле произошло? – стоял на своем Стэн.
Обоим мужчинам, казалось, историю эту рассказывать не очень хотелось. Но когда они увидели, что гриль уже остыл, а бифштексы почти все съели, что Рауль на время отложил гитару, и когда они осознали, что подобная история может считаться значимым опытом профессионального развития для тех из нас, кто в общинном колледже Коровий Мык новички, а его боренья за аккредитацию нам в новинку, они принялись рассказывать, что знали. За следующие полчаса мы узнали всю печальную историю того, как Алан Длинная Река, мой преподаватель-наставник, стал учителем ораторского искусства, который не разговаривает.
* * *
– Вначале, – начал доктор Фелч, – Длинная Река был лучшим работником из всех нанятых нами в Коровьем Мыке. После средней школы он уехал на север в колледж, который и закончил со всеми нужными для этой должности степенями. Одним махом мы могли нанять себе квалифицированного преподавателя из местных, мало того – представителя коренного населения Америки, ни много ни мало, который знал наших студентов на глубинном уровне и мог поддерживать с ними глубокую связь. Помимо этого, что-то жизнеутверждающее было в местном мальчишке, происходившем от племенных корней, который вырос, получил высшее образование, а потом применил его к обучению наших студентов – других таких же, как он сам, – тому, чтобы выражать свои мысли на прекрасном недвусмысленном английском языке. Сам Длинная Река оратором был уравновешенным. Говорил он редко, но, когда открывал рот, его слушали. Слова он подбирал тщательно, строго по делу, и его речи действительно хотелось внимать. А разве не это требуется от учителя ораторского искусства? От любого преподавателя? Черт, да этого мы хотим от любого образованного человека! И потому мы его наняли, и всего за несколько месяцев он начал оказывать воздействие на колледж. Он перекроил все курсы риторики и сделал их значимыми для своих студентов. Он принес новые методологии и свежие перспективы. Он модернизировал учебники и ввел в свою педагогику массу новаторских замыслов…
При слове «новаторский» мы все посмотрели на Расти. Но тот лишь пожал плечами и отхлебнул пива. Доктор Фелч продолжал:
– …Несмотря на честолюбивые новации, Длинная Река был скромен и хорошо срабатывался с сотрудниками – и пяти лет не прошло, как его зачислили в штат. Казалось, перед ним все пути открыты. Он был популярен у своих студентов. Его уважали коллеги. Он был идеальным примером того, как выходец из Коровьего Мыка может вернуться в Коровий Мык и преуспеть. Преуспел бы он где угодно, однако предпочел вернуться и снискать успех здесь. В общем и целом профессор Длинная Река был едва ль не лучшим работником, какого мы только могли вообразить…
– Звучит зловеще, – сказал я.
– …Верно. И вот где-то в то же время он повстречался с одной старухой из своего селения – того старого места у реки, что уже много лет как было под водой. Старуха жила в местном доме призрения и скоро должна была умереть. Он услышал от одного знакомого, что родственники старухи уехали после переселения, а она покидать Коровий Мык вместе с ними отказалась. С неохотой они бросили ее здесь вместе с другой родней, которая вся поумирала, один за другим, старуха осталась в одиночестве, и вот теперь, когда она умирала сама, он навестил ее в больнице, пока родня ее добиралась туда через всю страну. Сделал он это потому, что для его народа большое бесчестье – позволять другому человеку страдать в одиночестве. Старуха к тому времени была уже нехороша, и когда он оказался у нее в больнице, она бредила, потея, трясясь и произнося таинственные слова. Длинная Река слова эти узнал – этот язык он слышал в селении в детстве, и хотя самих слов понять не мог, они его глубоко тронули. Сколько таких же, как она, еще бродит где-то по белу свету? Забыты в домах престарелых? Гниют на задних верандах? Разбросано по стране, как капли по водосливу? Эта женщина уже не понимала, что Длинная Река с нею в палате – той же ночью она и скончалась, – и ему это переживание перевернуло всю душу. Не столько сама смерть той старухи, которую он никогда не знал, сколько то, что в кончине ее он ощущал окончательное рассеяние своего народа и их языка. В той больничной палате он поклялся совершить нечто замечательное: найти стариков своего селения и собрать их мудрость в единый том народных поучений. И вот следующие несколько лет он всего себя посвятил этой задаче, и она стала целью его жизни…
Доктор Фелч умолк, чтобы затянуться сигаретой. Расти воспользовался паузой в рассказе и подхватил повествование там, где доктор Фелч прервался:
– Как Билл и сказал, Длинная Река действительно взялся за дело всерьез. В то время он всегда приходил в музей, где я служил добровольно, и читал старые газеты, разыскивая фамилии семей, что некогда жили в старом селении, где теперь плотина. Он был дьявольски упорен и по архивным записям, по беседам с местными старожилами нашел восемь стариков из селения, которые так и не уехали из округи. То были старейшины, говорившие на местном языке в детстве, – и, как знать, могли говорить на нем до сих пор, последние, кто еще способен был передать этот язык потомкам. Каждый из этих старейшин уже был очень стар, и когда он стал ездить к ним, выяснилось, насколько громадную задачу он перед собой на самом деле поставил. Из восьми стариков, кого он выследил, одна старуха отказалась с ним разговаривать вообще: упрямая и до сих пор обиженная, она предпочла унести язык с собой в могилу, а не передавать ему. Другой, покладистее, умер за пару недель до того, как Длинная Река смог с ним встретиться. Осталось шестеро, а из этих шестерых одна уже страдала от необратимой потери памяти и не помнила имен собственных детей – что уж там говорить о словах языка, на котором она не разговаривала с детства. Это значило, что из первых стариков осталось лишь пятеро, и эти пять – четыре женщины и один мужчина – были единственными оставшимися в живых носителями языка, а это табачно-тонкая грань между жизнью языка и его кончиной. Времени тратить было нельзя. И потому Длинная Река удвоил усилия. Он тут же подал заявление на срочный творческий отпуск, получил его и отправился в полевую экспедицию проводить исследования с пятью старейшинами, что еще несли в себе увядающие семена языка его народа…
Расти умолк и отпил пива. Доктор Фелч продолжал:
– …К тому, что Расти только что рассказал, мне следует добавить, что в кампусе несколько испугались, когда Длинная Река получил разрешение на срочный творческий отпуск. Для штатных преподавателей характерно одно: они обитают в изменчивом мире относительной ценности. А от этого могут стать мелочными и близорукими. Срочный творческий отпуск Длинной Реки не входил в стандартную практику, и кое-какие перышки определенно встопорщились. Почему я разрешил ему уехать на год раньше, хотя остальные всегда ждут своей очереди полный срок? Справедливо ли это? Объективно ли? Не служит ли такое доказательством, что этим я проявляю кумовство? Ну, возможно! Но черт бы его драл, для меня безотлагательность этого проекта доказать он сумел. Нет никакой гарантии, что по истечении года эти люди еще будут живы. А этот год можно использовать для того, чтобы как можно больше всего задокументировать, пока не поздно. Поэтому я принял трудное решение, творческий отпуск был предоставлен, и Длинная Река отправился к своим пятерым старикам…
Доктор Фелч замял окурок и продолжал:
– Сказать, что этот год изменил его жизнь, – ничего не сказать. Все свои часы бодрствования Длинная Река проводил со стариками, ездил с одного края котловины долины Дьява на другой и постепенно узнал от этих стариков безмолвные слова языка, на котором разговаривал его народ. Изо дня в день он тщательнейшим образом записывал их речевые модели, их древнее просторечье, старые слова, которыми они называли здешние ветра и дожди, – названия этих мест, которых больше не было, ветров, которые больше не дули, дождей, что больше не шли, – те слова, что возникли из земли этого места, слова, которых не могло быть ни в одном другом языке; тщательно записывал он игру слов, тонкости юмора, двусмысленности и аллюзии, рекурсивные определения. Со временем он сумел каталогизировать весь язык до той степени, что его стало можно передавать в письменном виде – пусть и только в нем. И хотя в некотором смысле это было победой, радость такого переживания была горька: за этот год еще двое стариков – с кем он проводил столько времени – скончалось, унеся с собой великое множество и слов, и фраз, и уникальных взглядов на мир. Время уходило слишком быстро. Теперь стариков оставалось лишь трое. Они болели. Скоро их не станет. И вот тогда ему явилось откровение…
Доктор Фелч умолк. Вместо него заговорил Расти:
– И откровением этим было…
– Погоди, Расти! – сказал доктор Фелч. – Дай мне дорассказать эту часть!..
– Извини, Билл…
Доктор Фелч продолжал:
– Откровением, – объяснил он, – было то, что язык не может и дальше оставаться языком, если на нем не говорит молодежь. Все его усилия последний год прилагались лишь к тому, чтобы задокументировать существование старого языка. Записать его, чтобы его можно было видеть и изучать, чтобы его уважали будущие поколения. Цель эта теперь была достигнута, язык обрел некоторую весомость, его можно было поместить в музей, чтобы там им любовались – вместе с другими первобытными изделиями человеческой эволюции: костяными орудиями, наконечниками стрел и черепками глиняной посуды – ступенями эволюционной иерархии, что были необходимы лишь для того, чтобы привести нас к вершине современных орудий труда, совершенного оружия, небьющихся тарелок и стандартного американского английского. Но без носителей его – без детских голосов – язык все равно утрачен. Недостаточно было просто задокументировать существование языка для потомства: его следовало поддерживать. И потому Длинной Реке пришло в голову, что его миссия – не просто сохранить язык в письменной форме, но создать население говорящих на этом языке. Но для этого языку следовало учить. Только через преподавание язык можно возродить и сохранить, а тем самым – поддержать его жизнь. Языку следовало учить молодежь!..
Доктор Фелч умолк.
– Ладно, Расти. Теперь давай ты…
И Расти заговорил:
– Это случилось в то время, когда я только стал председателем Совета колледжа. Я был тогда еще молод и зелен, и однажды Длинная Река обратился ко мне с предложением преподавать в колледже старый язык. Произошло это вскоре после вклада Димуиддла, поэтому можно было с восторгом тратить новые деньги. Языки у нас в те поры преподавались стандартные – такие можно найти в аэропорту или на любой международной конференции, – однако семейство Димуиддлов, сколь эксцентрично бы ни было, желало оказать иное воздействие: они хотели поддержать какой-то иной язык. «Идеально!» – сказал Длинная Река. И я с ним согласился. Мы встретились у меня в кабинете, и я обрисовал шаги, которые нам следовало предпринять, – шагов этих было много, и даже тогда не существовало никаких гарантий, что они окажутся успешны. Я честно не считал, что Длинной Реке это по плечу, но он пошел на все и составил черновик заявки для рассмотрения советом. По его видению, колледж мог послужить общине – создать в кампусе такое место, где мог преподаваться этот язык. Это в итоге могло бы привести к учреждению официальной программы преподавания – быть может, к сертификату, а то и к степени. И вот так наш колледж поддержал бы этот язык и помог бы сохранению коренной культуры. Прекрасная то была идея, и мы ее большинством голосов поддержали. Но…
– Но?! – сказали мы все.
Доктор Фелч продолжал:
– Но, – сказал он, – мир не всегда так прост, как наши планы на него. Иногда наши прекрасные идеи чересчур прекрасны. Как обычно, существуют определенные процедуры, требования и формальности, через которые должна пройти заявка. И потому Длинная Река взялся за трудоемкий процесс проталкивания своей заявки. Потребовалось технико-экономическое обоснование, и за него он заплатил из своего кармана. Следовало заполнять бессчетные бланки в трех экземплярах. Нужно было консультироваться с Димуиддлами. И не предвиделось конца сомненьям, скептикам и вопросам. Сколько студентов будет охватывать программа? Сколько она будет стоить для одного студента? Почему мы должны поддерживать именно этот язык, а не какой-нибудь пофункциональнее? Представители других кафедр желали знать, как это повлияет на их собственные занятия. Бухгалтерия сомневалась, что зачисление в программу сможет увеличиваться с каждым годом на какой-то фиксированный процент. И, разумеется, наш научно-исследовательский отдел требовал, чтобы Длинная Река предоставил точную оценку количества студентов, которые на самом деле будут ходить на занятия, их демографический состав и вероятность того, что с этим новым знанием, ими полученным, они смогут стать богобоязненными, платящими налоги гражданами Соединенных Штатов Америки. Один за другим он предоставлял ответы на все эти вопросы. В смысле – на самом деле рвал гузку. С утра до поздней ночи просиживал он у себя в кабинете, разрабатывая свой план в мельчайших деталях. Еще чуть-чуть – и ему все удастся! Требовалось лишь, чтобы его заявку утвердил Совет колледжа! Вот оно, бери! Вот-вот – и на этом языке заговорят, он уже ощущал вкус слов у себя на устах…
Расти умолк, наслаждаясь этим вкусом, после чего продолжил:
– …И вот настал день, когда колледжу предстояло рассмотреть его заявку. Помню, случилось это под конец семестра, и совет был утомлен. Мы только что обсудили несколько трудных вопросов – среди прочего бюджет нового плавательного бассейна, – и когда Длинная Река начал свою презентацию, просто… я не знаю, просто трудно сказать, что произошло. Даже теперь я не понимаю, с чего оно пошло не так. Потому что началось-то все так обещающе: «Дорогие коллеги, – начал Длинная Река. – Сегодня я пришел к вам потому, что вам дана возможность сделать доброе дело. Нам как людям очень редко выпадает такое совершить. И у вас сейчас такая возможность есть». Все, разумеется, встряхнулись. Интрига в комнате стала ощутима. Не забывайте, Длинная Река преподавал ораторское искусство. И потому в риторических подходах и стратегиях поднаторел. Их он применил все! И пока он говорил, мы впитывали каждое его слово. «Больше тысячи лет мой народ жил на этих землях, что сейчас перед вами. Они охотились на бизонов. Они ловили рыбу в водах, что сейчас называются рекой Коровий Мык. Они добывали пропитание у этой земли и мирно сосуществовали с окружающим миром. Этот кампус выстроен на костях моих предков. За годы с моим народом случилось много плохого. Их выселили и расчленили. У нас отобрали наши традиции. У нас отобрали язык. И мы его постепенно утратили. Никто из нас не может теперь сделать ничего, чтобы язык этот восстановился до того, каким он был раньше. Но кое-что предпринять все-таки можно, чтобы он вновь занял собственное место в мире. Чтобы сумел расположиться на своем клочке под солнцем, где все языки не так давно отыскивали тепло». И тут он с риторическим блеском извлек магнитофон и нажал клавишу воспроизведения. В комнате заговорил старческий голос: то была женщина, и была она очень стара, голос ее ломался от старости, и мы вскоре поняли, что произносит она слова древнего языка. Женщина говорила без усилий. Не переводя дух. Запись звучала несколько минут, а потом Длинная Река остановил ее. «То, что вы только что услышали, – легенда нашего народа, рассказанная женщиной, жившей в селении, где я родился. Селения этого больше нет. Сама женщина скончалась месяц назад. Легенда, которую она рассказывает, передавалась у нее в семье из уст в уста много поколений. До встречи с этой старухой я ее ни разу не слышал. Это легенда о реке, в которой истощается вода, легенда, которая была бы утрачена для мира, если бы я в прошлом году не успел ее записать. Вот до чего сейчас хрупок наш язык. Вот до чего незначительно наше место в мире. Легенда эта, как и все легенды, поучительна. И, подобно другим мировоззрениям, она заслуживает того, чтобы существовать, поскольку передает нам уникальные прозрения об этом мире. Река, в которой закончилась вода, – это история, которую следует знать нам всем. И потому в знак признательности великого бремени нашей общей истории я переведу ее вам на язык, на котором говорите вы». И тут Длинная Река изложил легенду, которую некогда рассказывал его народ о реке, в которой закончилась вода…
* * *
В старину, когда на этой земле даже не было еще человека, с вершины небес до самого дна моря текла река. То была широкая река, и в реке этой были все стихии мира, которым было суждено сойтись воедино и создать тот мир, что есть сейчас. Грязь была в этой реке, и был в ней песок. Там были воздух, и ветер, и солнце. Были пламя и аромат. В ней были рыба, камни и травы. И, конечно же, в реке той была вода – столько воды, что все воды мира происходили из этой самой реки и прокладывали свои пути к разным местам по всему миру многими реками поменьше и ручьями. Река текла с небес к морю, и в реке той было все, что когда-либо было. И все, что когда-либо будет. Все звезды происходили из той реки. И все растения и животные происходили из той реки. И из той же реки со временем, в теплой грязи родился первый человек. Из семени молчанья произошло тело человека, и человек этот вырос и стал сильным, и породил других сильных людей, покуда со временем вся земля не населилась этим новым дерзким животным, которое впоследствии назовут человеком.
Странный этот вид обладал многими качествами, какие хорошо подготовили его к жизни в этом мире вместе с другими растениями и животными. Ибо человек этот был медленней самых быстрых животных. И слабее сильнейших. Он не умел летать. Он не умел плавать. Он не умел рыть норы. Он не мог лазать. Он был слишком велик, чтобы оставаться незаметным, однако слишком мелок, чтобы устрашать. Он быстро уставал, а еще быстрее заболевал. Порода эта была слаба, хрупка и совершенно ничем не примечательна. Именно это и делало ее представителей хорошими гражданами планеты и верными потомками реки.
Но еще имелось в этом новом животном и такое, что было не хорошо для реки. А именно – человеку всегда очень хотелось пить. Жажда была во всем, что бы человек ни делал. Она была его сутью. Больше голода. Больше желанья. Жажда к влаге и сделала его человеком. Именно утоленье этой жажды позволило ему распространиться по всей земле и отыскать других, подобных ему. Ибо когда человек пил, он становился силен и мужествен, и это давало ему силу покорять новые земли, осваивать новые территории и вводить множество новшеств, что не давали ему сдаться другим животным земли, что были сильнее и быстрее его.
День, когда человек принялся пить из реки, и стал тем днем, когда сама река начала умирать. Ибо человек не мог остановиться. С самого раннего утра пил он – и не прекращал до самой поздней ночи, когда, напившись досыта, человек наконец засыпал. Наутро, когда вставало солнце, человек вновь приходил пить из реки. Река теперь была очень длинной, и в ней было много воды. И все это время река давала что могла, лишь бы человек процветал. Холодную, чистую, прозрачную воду, которую человек брал без промедленья. И без раскаянья. И без благодарности.
И если б река могла говорить, она сказала бы человеку: «Человек, не пей всю воду, что есть во мне. Ибо вода эта предназначается всем животным, и ее должно хватить навсегда. Не забирай себе всю мою воду, что во мне сейчас течет, ибо она всегда будет здесь для тебя течь. Бери лишь столько, сколько тебе нужно. А остальное пусть останется другим. Ибо у всего, что ты делаешь, есть свои последствия. И у жажды твоей они будут. И у твоего питья. И у воды, что раньше текла свободно, а теперь запружена плотиной в том месте, из которого торчит самая большая твоя слабость».
Но река говорить не умела. И человек бы все равно ее не послушался. Потому он все пил и пил. И пия вот так, становился все больше. А становясь больше – тяжелел и замедлялся, и стал до того тяжел и медлен, что едва мог пошевельнуться. Но все равно продолжал пить из реки с еще большею жаждой. С жаждой тысячи поколений. Так, словно вода в реке была нескончаемым потоком влаги, растянувшимся от самого начала времен и текущим до края безграничной вселенной.
И вот настал такой день, когда человек пришел к реке и обнаружил, что в ней нет воды. Он выпил всю. Человек теперь был крупней самого крупного озера – большим, как целый океан. Ибо в мочевом пузыре своем он теперь хранил воду всех вещей. А без воды, что возвращалась на небеса испарением, не могло быть и воды, что возвращалась на землю дождем. И без вечного круговорота воды не могло больше быть жизни и животных, и ничего на земле больше быть не могло.
У реки закончилась вода. И со временем река, в которой закончилась вода, стала местом последнего упокоения человека, не знавшего пределов своей жажды. Или последствий своего питья. Неприметно улегся человек в пустое речное русло и принял форму того узкого места, куда лег.
И лежа так вот в русле, он впервые навострил уши. И в беспамятстве своем услышал птиц, плакавших без воды, и животных вокруг, что давились от пыли. Впервые услышал он слова, что ему пыталась сказать река. И лежа там, он заплакал. Ибо смерть реки была также смертью и человека. Из того места, откуда торчат величайшие слабости, человек начал выпускать воду по земле и по стремнинам каналов, и вода потекла огромными потоками оттуда, где лежал он, во множество озер, рек и притоков, что составляют все воды земные. И хотя воды эти со временем и начали питать рыбу, они уже не были прежними. Ибо теперь в них содержалась желтушная сущность смерти. И смерть эта была повсеместна. Ибо смерть одного человека означает смерть всех людей. Точно так же, как смерть одной реки означает смерть всех рек. Как смерть одной идеи означает неизбежную смерть каждой идеи, что только есть и когда-нибудь еще будет.
* * *
– Рассказав эту историю, Длинная Река оглядел членов совета и произнес: «Такова история, которую раньше рассказывал мой народ о реке, в которой закончилась вода».
Расти замолчал.
– Помню, какие лица были у всех, когда Длинная Река договорил. Всякий смотрел на него так, словно в нем самый последний язык глаголал наречием мертвых. Но Длинная Река не стал тратить времени попусту. Он тут же пустился подробно излагать свое предложение: Коровий Мык наймет оставшихся в живых носителей, чтобы в кампусе они командой преподавали старый язык. Занятия будут проводиться по вечерам, чтобы привлекать студентов постарше. Поначалу зачисление будет незначительным, но с каждым годом станет увеличиваться на десять процентов. Непосредственным результатом наших занятий со временем станет увеличение количества носителей языка – от всего четверых на сегодняшний день до более чем двадцати всего за несколько лет… до сотен молодых людей, которые будут говорить на этом языке всего за жизнь одного поколения. Это предложение поддержит миссию колледжа, упрочивая собой американский образ жизни, – поскольку что может быть более «американским», чем язык, на котором здесь говорили до появления всех прочих? Что может быть глубже «проверено временем», нежели культура, исповедовавшаяся с самых ранних начал времен? Презентация Длинной Реки была мастерски составлена так, что отвечала логосу, этосу и кредосу. Ну и, разумеется, пафосу. «Не забывайте, – сказал он, – того, что нам сообщила река. Смерть одного есть смерть всех. Пожалуйста, не дайте моему языку умереть. Не позволяйте ему умереть одному и без должного ухода». Когда формальная презентация завершилась – а закончил говорить он ровно на отметке в тридцать минут, в точности столько, сколько ему и выделили, – я выдвинул предложение одобрить его заявку, затем поддержать это предложение, после чего объявил обсуждение открытым. Преподаватели тут же начали высказываться в пользу его заявки. Некоторые хвалили его за столь трогательную презентацию. Несколько человек вспомнили своих предков и множество языков, что они утратили на своем мучительном пути в Коровий Мык. Другие превозносили его сознательность. Похоже, дело было в шляпе. Распределились голоса. Я уже намеревался поставить вопрос на голосование и тут заметил, как поднялась одна рука. День уже клонился к вечеру, у нас в повестке это был последний вопрос, поэтому я надеялся, что все завершится быстро. Но «Регламент» Роберта[21] – это святое. Поэтому я перевел взгляд на личность, поднявшую преступную руку, посмотрел этой личности прямо в глаза и вежливо осведомился: «Да, Мерна?» – сказал я…
– Мерна! – воскликнули все мы и переглянулись. – Та, чей пепел мы сегодня развеяли?
– Да. Тогда она уже долго преподавала у нас математику. Впоследствии займет должность аналитика данных. Но когда происходило все это, она была еще простой учительницей математики. Всю жизнь прожила в Коровьем Мыке и была такой местной, что клейма ставить негде. Но еще и очень логичной. И гордилась тем, что она – человек цифр. Последовательностью своей. Объективностью. «С виду все это очень хорошо, – сказала она. – Но у меня только один вопрос. Сможете ли вы предоставить нам какие-нибудь доказательства того, что вы только что изложили? Быть может, какие-то объективные данные? Или математическое подтверждение? Или какие-то статистические анализы? Какие-то арифметические расчеты? Какие-то холодные жесткие цифры? Некоторое недвусмысленное обоснование. Какие-нибудь рассуждения, основанные на данных? Некоторые численные вычисления. Какие-нибудь графики? Какие-нибудь схемы? Диаграмму Венна, быть может? Поверьте, Алан, мне очень понравилась ваша история о реке. И я сочувствую вашему народу. Я и сама когда-то хотела заняться гуманитарными дисциплинами. Но в итоге цифры должны сходиться. Иначе все это будет тщетно. Видите ли, в пределе судьбу нашего мира под конец определяют цифры, и они же на коротком пробеге решат, выдержит ли критику ваше предложение…»
Вся аудитория была потрясена. «Мерна, – сказал Длинная Река. – Я могу предоставить вам любые цифры, каких вы только пожелаете. Но прошу вас – примите это предложение. Цифры подтянутся во вторую очередь». Но Мерна стояла на своем. «Нет, – сказала она. – Цифры должны быть в первую очередь. Правосудие без цифр – каким бы правым ни казалось оно, сколь бы весомым ни выглядело – на самом деле вообще не правосудие». По комнате пробежал ропот, и после некоторого обсуждения предложение было отклонено. То было последнее заседание совета в году, но Длинной Реке предоставили время заново подать свое предложение на следующем заседании в сентябре. Я завершил нашу встречу этим предложением, по-прежнему подвисшим в воздухе. Не думаю, что кто-либо из нас считал тогда, что его план в конечном счете не одобрят. Не думаю, что даже Мерна считала, будто его не примут. Я на самом деле убежден, что ей просто хотелось удостовериться, что все цифры там на месте. Что все точки над ё расставлены, все запятые над й начерчены перед тем, как мы это примем окончательно. Но, к сожалению, обернулось оно не так.
– Что же произошло?
– Дальше произошло вот что, – сказал Расти. – За лето группа новых преподавателей прослышала, что колледж, кажется, стремится к учреждению новой языковой программы, а предложение Длинной Реки положили под сукно, поэтому они разработали альтернативное предложение, которое можно было выдвинуть на рассмотрение совета. Димуиддлы могли профинансировать лишь одну языковую программу, а не две. И потому следующей осенью совет заслушал другое предложение – высокопрофессиональное, с разноцветными графиками и цифрами и статистикой, и несколько членов совета помоложе влюбились в это предложение, а не в то, что было раньше. Графики были нагляднее. Все цифры сходились. Вот перед ними был язык будущего, а не уступка прошлому. Когда настала пора голосовать, ясно было, что предложение Длинной Реки – уже не то, которое поддержат. Ну и, конечно же, так и произошло.
– Что произошло?
– Совет прокатил это предложение в пользу другого. Новые преподаватели победили, и два года спустя колледж при поддержке субсидий Димуиддлов под международные фанфары учредил новую программу по изучению эсперанто. Трое стариков, с которыми работал Длинная Река, уже скончались. Через несколько лет вышла книга Длинной Реки, но читать ее было уже некому. Язык после того внесли в список тех, каким в ближайшее время грозит вымирание. Длинная Река был раздавлен этим и так нас никогда и не простил. После заседания совета я отвел его в сторону. Я был одним из тех немногих – сдержанным меньшинством, – кто был за него и поддерживал его предложение. «Послушайте, Алан, – сказал я. – Мы добьемся этого в другой раз. На следующий год мы вернемся. Не все еще кончено…» Но он даже не стал на меня смотреть. И отказался мне отвечать. «Мы добудем цифирь получше, – сулил я. – Больше цифр! Мы раздобудем столько данных, что верность этого решения будет неопровержима! Мы нарисуем разноцветные графики! У нас все сойдется. Мы…» Но ответа мне уже не было. Он просто отошел прочь. Со мной он с тех пор не разговаривал. Вообще-то с того дня, с того заседания совета Длинная Река не сказал ни единого слова – никому в колледже. Даже своим студентам.
– А с кем-то за пределами колледжа он разговаривает?
– Насколько нам известно, нет. Хотя возможно. Мы считаем, что так он делает заявление: поскольку его язык был заглушен навсегда, он отказывается пользоваться нашим.
– Навсегда?
– Этого мы не знаем. Похоже на то.
– Ну, тогда все как-то сходится, – сказали мы.
– А как же Мерна? Она жалела о том, что произошло? Не было ли ей скверно от того, что она забаллотировала то предложение?
– Может, и было. Я с нею никогда об этом не беседовал. Но на следующий год она приняла должность аналитика данных, поэтому чересчур скверно ей наверняка не было. И в должности этой она проработала до прошлой весны, когда ей пришлось уйти. Но это уже совершенно другая история…
Теперь было очень поздно, и костер погас совсем. И в почти полной тьме, среди запахов погасшего костра, они рассказали эту другую историю о печальном происшествии с Мерной Ли, после которого дети вынуждены были забрать ее в большой город.
* * *
Вслед за длинной историей Длинной Реки, преподавателя ораторского искусства, который не говорит, – и после того, как они вспомнили всю повесть о взлете и падении Мерны, – общая беседа приобрела темные тона. Расти и доктор Фелч толковали о своих друзьях по старшим классам, которые уехали или умерли. Стэн рассказал о цивилизации, стертой с лица земли наводнениями и голодом. Рауль спел балладу о двух влюбленных, навсегда разлученных превратностями времени и пространства.
– Слушайте, – сказал Расти, – вы на меня тоску наводите. Это же поминки, а не похороны! Устал я рассуждать о капризах воды. Давайте поговорим о том, что нам подвластно.
И они заговорили о своих грузовиках. И своих комиссиях. И заявках, которые подготовили. Или отклонили. И о подспудном противоречии, связанном с распасовщиком в команде местной средней школы.
И все это время бедро Бесси ни на миг не покидало своего насиженного гнездышка подле моего бедра.
– Я сейчас вернусь… – наконец произнес я, когда беседа потекла дальше. Решительно я стал подниматься с места.
– Не дурите! – сказал Расти и снова потянул меня вниз. После чего, отечески похлопав меня по плечу, протянул мне еще пиво.
– Но я!..
– Пейте, Чарли!
И я вновь устроился на бревне.
Со временем разговор перетек на другое. Доктор Фелч и Расти уже смеялись насчет определенных коллег по колледжу, проявлявших неожиданные таланты. Говорили об учителе творческого письма, который мог лизнуть заднюю часть своего уха. О профессоре садоводства и огородничества с удивительным даром к чревовещанию. О штатном преподавателе автодела, который некогда спас внештатного гуманитария из горящего, заполненного дымом зала заседаний.
– А ты когда-нибудь видел, как Глэдис танцует чарльстон?
– Конечно! А ты слышал, как Белинда пародирует хилого южного прохвоста[22], когда его обмазывают дегтем и вываливают в перьях?
– Много раз! Это почти так же убедительно, как Декстер, который показывает пятнадцатимесячную телку, которую впервые покрывают!..
С каждым новым пивом я все больше ценил внушительность этого нового мира, в который ныне вступал. Преподаватели с их многочисленными скрытыми талантами и чаяньями. Кампус с его рощами магнолий и платанов. Сама котловина долины Дьява с ее суровой засухой, исчезающими племенами и бездной вод, запруженной неправедно и искусственно так, что безнадежней некуда. Нет ничего естественней теченья воды с места повыше в место пониже, постепенно понимал я, и не давать такому случиться – не позволять высвобождаться такому количеству влаги – требует громадных усилий, это фактор человеческой судьбы, что в сей поздний час становился для меня все отчетливей – после стольких пив. И потому я встал снова.
– Бесси! – сказал я. – Мне действительно очень нужно ненадолго отправиться в леса. Подождите меня, пожалуйста, здесь, вот на этом самом бревне, где мы с вами сидели. Сегодня вечером мне в удовольствие было делить с вами это крошечное пространство, сидеть так близко от вас. У меня чувство, что я узнал вас гораздо лучше, чем несколько часов назад. Я наслаждался плотным прилеганьем вашего бедра к моему и время от времени – случайными скользящими касаньями вашего тела. Моя кундалини восстает, будьте покойны. Поэтому прошу вас, подождите меня, и я сейчас же вернусь. Честное слово. Мне лишь нужно побыть несколько минут в почти полной темноте…
Я повернул к лесам.
– Чарли! – окликнул меня голос. Я проигнорировал его, но он настаивал: – Чарли!
Когда я обернулся, ко мне направлялся Стэн Ньютаун.
– Чарли! – сказал он. – Можно вас на одно слово?
– Конечно, Стэн. Но не могло бы это минуту подождать? Я как раз направлялся вон к тем темным лесам…
– Чарли, это важно.
– Но…
– Послушайте, Чарли, я говорю вам это, поскольку знаю, что могу вам доверять. Я вам поверяюсь потому, что знаю – вы не принадлежите целиком ни к какой группе. Вы никому не преданы. У вас нет друзей. Нет предубеждений. Вы вообще ни с кем не связаны, и поэтому я знаю, что вам можно доверять…
– Это прекрасно. Но не могли б вы подождать всего несколько минут…
– Дело в Этел, Чарли.
– Этел?
– Да, я за нее волнуюсь. Она уже не та женщина, на которой я когда-то женился, Чарли. Она уже не та, с кем я, бывало, приближался к оргазму. Она уже даже не та, кто всего несколько недель назад осмелилась поехать со мной в Коровий Мык. Она – как бы мне лучше выразиться? – другая. С тех самых пор, как мы кастрировали того теленка, она уже не та, что была раньше.
– Но это ж было всего вчера.
– Верно. И вот с тех пор все не то.
– Люди меняются, Стэн. Все меняется. Приходит и уходит. И никому это не известно лучше… ну, того самого теленка…
– Да, но она не просто другая. Она настолько другая, что я ее как бы даже узнать больше не могу. Чарли, скажите мне правду. Есть ли такое, что мне следует знать?
– Об Этел?
– Да. Есть ли такое, что вы видите, а я нет? Такое, о чем, по-вашему, я должен быть осведомлен?
При этом я подумал о тонкой бамбуковой циновке, на которой Этел и Льюк размышляли об относительных достоинствах космического оргазма. Наверняка же они где-то по пути остановились? Наверняка же вспомнили, что к просветленью ведет много ступеней, а нижайшая из них – не более чем такова, нижайшая?
– Разумеется, нет, Стэн.
– Правда?
– Конечно. Этел – та же самая женщина, на ком вы женились. Та же, с кем вы осмелились поехать в Разъезд Коровий Мык. Она все так же мечтает работать модельером. По-прежнему чувствует, кто конец любви так же важен, как и ее начало. Она по-прежнему очень замужем. И все так же журналистична, как всегда. Поэтому хватит тут теорий заговоров, ага?
– Вероятно, вы правы.
– Разумеется, я прав. Жизнь коротка. Поэтому наслаждайтесь в ней, чем можете. Вы попробовали эти шикарные кусочки мяса, что предлагал доктор Фелч? Они восхитительны. И пока заняты ими, выпейте еще пива!..
И с этими словами я подвел его к ле́днику Расти, откуда вытащил ради него еще один «Фальстафф».
– Спасибо, Чарли, – сказал Стэн.
– Да ну что вы. А теперь давайте-ка я вернусь в леса!..
Но едва я повернулся к ним, как раздался еще один голос:
– Чарли, мальчик мой!
То был Расти.
– Чарли!
– Да, мистер Стоукс.
– Спасибо, что сегодня пришли.
– Я б ни за что не пропустил…
– Чарли, я слышал, вы сегодня вечером какое-то время беседовали с Гуэн Дюпюи. И, уверен, ей было что вам сказать. Пусть, конечно, высказывает свое мнение, на здоровье. Но и мы можем.
– Мы?
– Да, мы. Позвольте мне теперь рассказать вам подлинную историю того невероятного плавательного бассейна, что мы построили!..
И он рассказал. В мельчайших подробностях поведал он мне противоположную историю полос и звезд: хронику торможенья и ускоренья Гуэн, только наоборот. И когда закончил, я поблагодарил его за информацию и сказал:
– Мистер Стоукс, спасибо, что всем этим со мной поделились. Это определенно добавляет к моему пониманию различных проблем в кампусе, и я становлюсь от этого лучше. А теперь, вы меня извините, я направлялся вон к тем лесам…
– Конечно-конечно, Чарли. Приятно было с вами сегодня побеседовать. Я рад, что вы смогли выбраться к нам на сборище. И надеюсь, что в лесах вы получите полное удовольствие. Понедельник уже совсем скоро, и семестр у нас будет очень длинный. Поэтому просто дайте мне знать, если вам по ходу потребуется какая-то помощь.
– Так и сделаю, мистер Стоукс. Я определенно так и поступлю…
Я уже повернулся уйти и даже сделал два шага во тьму, но тут столкнулся с фигурой, которая наверняка не заметила меня, возвращаясь к костру.
– Чарли? – раздался голос.
– Рауль?
– Чарли, что это вы делаете тут на самом крае тьмы?
– Вероятно, то же, что и вы, Рауль! Вернее сказать – то, что вы только что делали!..
– О, сомневаюсь. Я всего-навсего рассчитывал вероятность того, насколько два человека с разных концов света – скажем, из Барселоны и того неназванного местоположения, откуда приехали вы, – могут рассчитывать на встречу в таком месте, как Коровий Мык, в некой точке на их соответственных жизненных путях. Знаете, как вероятность того, что две стрелы действительно столкнутся в полете самыми кончиками. Шансы здесь поистине феноменальны, Чарли!
– Я в этом уверен.
– Вот, давайте я покажу вам, насколько это маловероятно. Видите, я нарисовал вот на этой салфетке очень грубую схему…
И тут Рауль извлек салфетку, вымазанную соусом барбекю. Под пятном на ней была следующая диаграмма:
– Понимаете, Чарли? Вероятности такой почти нет. Однако такое происходит почти каждый день. Это один из величайших парадоксов жизни. Практически все происходящее в жизни человека математически невероятно. Вернее сказать, все, что в ней происходит, практически невозможно!.. Вероятность здесь меньше вероятности самого чудесного чуда. Однако это не удивительно, потому что шансы на любое происходящее в ней микроскопически малы. Сама жизнь есть чудо – с самого ее начала до самого конца! И вот именно так мы с вами могли бы встретиться на узком сиденье школьного автобуса, несмотря на невозможную невероятность этого события!
Рауль протянул мне салфетку.
– Вот. Можете оставить себе…
Я сложил ее и сунул в карман.
– Рауль, вы поразительны. Что бы там ни говорила Бесси. Нам с вами надо будет собраться после начала семестра – ну, знаете, на трезвую голову – и поговорить об этом еще. И давайте точно следующим летом поедем в Техас, ладно?
– Конечно!
– Честно?
– Еще бы.
– Здорово.
– Но простите, что прервал вас, Чарли… куда это вы направлялись?
– Даже не знаю. Кажется, я держал курс вон туда, к лесам. Поэтому я вполне уверен, что именно туда я и направлялся. Но если честно, Рауль, даже не могу вспомнить, почему я туда шел. Или зачем. Вероятно – посмотреть, нельзя ли чего-то увидеть по ту сторону вон тех деревьев. А может – поискать какие-нибудь сломанные наконечники стрел, которые могли оставить перемещенные народы, что некогда тут жили. Или, опять же, возможно, я просто пытался наконец что-то сделать – что угодно! – целиком. Так или иначе, я больше не вижу особой нужды в том, чтобы идти к тем лесам. Уж точно без ясного ощущения цели. Без всеобъемлющей миссии наверняка не стоит. И особенно когда я оглядываюсь и смотрю в противоположную сторону, за тлеющие угли нашего костра, и вижу, что меня у реки ждет такая красивая женщина. Бесси – это что-то, а? И вы правы, Рауль. Вероятность того, что я встречу кого-нибудь такого, должна быть поистине поразительна. Насколько возможно двум нелюбимым людям сойтись вместе посреди ночи вроде сегодняшней… посреди засухи веков… в таком месте, как Разъезд Коровий Мык. Каковы шансы того, что два человека могут встретиться и обрести любовь под такой вот луной? Елки-палки, Рауль, да это наверняка должно быть совершенно за пределами царства математического расчета. От одной мысли об этом я начинаю ценить то, что оставил позади. Поэтому давайте-ка направлюсь я обратно к тому, от чего отказался. Позвольте мне вернуться к темному месту у реки, чтобы мы вдвоем – она и я – могли положить конец этому одинокому предприятию, нашей собственной нелюбимости… чтобы мы с ней могли преодолеть ее раз и навсегда…
И с этими словами я направился обратно к лагерной стоянке искать Бесси.
* * *
– Итак, Бесси, – сказал я, обнаружив ее у реки. Вечеринка давно уже распалась на индивидуальные беседы, мы с нею сами по себе уселись на песке речного берега. Детей уже не было. Река текла мягко. Перед нами движущуюся воду освещала луна. – Бесси, мне вправду очень жаль, что я вынудил вас опоздать на поминки по Мерне. Мне от этого ужасно.
– Все в порядке.
– И еще мне жаль, что я вчера поставил вас в неловкое положение, попросив изложить, что вы думаете о любви, – ну, помните, чем бы она могла для вас стать. Простите, что я спросил это у вас за ручной пишущей машинкой. Но мне правда было интересно.
– Это было заметно.
– И мне по-прежнему интересно.
– Это заметно.
– Правда?
– Да, Чарли, ведь я женщина. И как женщина очень хорошо замечаю, что любопытство ваше возбуждено. И что возбуждено оно было с самой нашей первой встречи в конторе. Женщина такое знает. Это уроки, которые нам преподает Коровий Мык.
– Может ли оно быть взаимно?
– Может.
– Так значит ли это, что вы хотите услышать и мои собственные мысли о любви?
– Вы имеете в виду, что́ вы думаете о любви, какая она?
– Да. Вернее – о том, не какая она?
– Вот тут я не знаю. С одной стороны, мне интересно в той мере, в какой мне может быть интересно в сложившихся обстоятельствах.
– Обстоятельствах?
– Да, в обстоятельствах, что сложились для нас сегодня вечером. А они таковы, что у вас магистерская степень по управлению образованием, а я выше средней школы так никуда и не пошла. Ваша карьера вымощена штатными должностями, а моя – гравием и секретарством. Вы родом из мира безграничных озер и океанов, а я – с иссохшей глубины суши Разъезда Коровий Мык. И, разумеется, отнюдь не способствует, что у меня двое маленьких детей – мальчики! – а у вас ничего подобного нет. Видите ли, Чарли, такие люди, как вы, были у меня в жизни столько, сколько я себя помню, и они всегда приходили и уходили. Все до единого. Есть ли какой-то шанс на то, что вы будете отличаться от прочих? Быть может. Но он очень невелик. Вообще-то я вполне уверена, что вы окажетесь точно таким же. Уйдете, как все прочие. И потому это ничего хорошего нам не предвещает с одной стороны…
– А с другой стороны?
– Ну, с другой стороны…
Тут Бесси умолкла.
– Откройте мне эту банку, будьте добры?..
Я выломал ушко и снова протянул ей банку. На заднем плане было слышно, как Рауль поет по-испански, а ему слышимо льстит одинокая восторженная секретарша. Свет от костра совсем съежился. Вдали чирикали сверчки.
Бесси сделала долгий глоток из банки.
– Эта луна сегодня несколько поражает, нет?
– Это уж точно.
– И звезды ярки.
– Верно.
– Небо очень ясно, и я уже замерзаю, Чарли. Видите ли, я забыла взять свитер. Блузка у меня слишком легка для такой погоды, и холодный ночной воздух вынуждает меня дрожать. Вам видно, как я дрожу, Чарли?
– Да, Бесси, мне это видно.
– Видите, как от холодного воздуха натягивается моя кожа? Как зудят у меня поры?
– Немного, да.
– Знаете, что это означает, Чарли?
– Думаю, да.
– Что это значит, Чарли?
– Это значит, что вам нужно укрыться. Подождите секундочку, и я сейчас же вернусь…
Возвратившись от грузовичка Бесси, я распахнул оранжевый саронг и накинул его ей на плечи.
– Вот, – сказал я. – Должно помочь. Извините за цвет. И за рыцарство…
Мы с Бесси молча сидели и пили, а когда она допила эту свою последнюю банку пива и когда смяла ее пяткой и отбросила ногой на несколько футов от нас – вернулась к своему потоку мыслей:
– С другой стороны, Чарли, что мне делать? То есть человек же не перестает быть женщиной просто потому, что у нее двое детей, верно?
– Мне о том неведомо…
– Следует ли ей перестать быть женщиной лишь оттого, что она уже столько раз ею была?
– Не могу вообразить…
– Так вот, отнюдь, Чарли. И ей не следует. Вы уж мне в этом поверьте. И потому, отвечая на ваш вопрос… да. Иными словами, мне интересны ваши мысли о любви, но лишь до той степени, до какой вам по-прежнему может быть интересно узнать мои.
– В этом я не менее заинтересован, – сказал я.
– Правда?
– Да.
– И даже теперь?
– Да.
– Приятно это слышать, – сказала она. – Тогда мне тоже.
Бесси протянула мне руку, и я ее взял. Она была изящна и очень легка, а кожа – холодна. Бесси по-прежнему дрожала под саронгом.
– Поздно, – сказала она.
– И очень холодно, – сказал я.
– Пойдемте, – предложила она.
– Если настаиваете, – согласился я.
Ее холодная рука по-прежнему в моей, мы вдвоем пробрались по опустевшей лагерной стоянке, мимо погашенного костра обратно на гравийную парковку, где под мигающим уличным фонарем ее грузовик остался один.
* * *
{…}
Великие любовники всего мира отличаются от прочих тем, что у них есть способность видеть эротизм во всем, что они делают. В беседе за ужином. В случайной встрече. В обмене взглядами украдкой. В случайном касании бедром бедра на тесном сиденье. Каждое такое происшествие есть не просто повседневное проявление существованья, а скорее акт самого по себе желанья – первый шаг к прекрасному деянью любви. Великий любовник признает, что сама жизнь есть прелюдия, каковая приближает нас к предельному оргазму вечности. И потому каждодневные изобилья жизни приобретают свою чувственную весомость, лишь когда мы признаем в них то, что они на самом деле есть. И когда сие освоено, можно выучить и больший урок: урок нахождения эротической сути в банальнейших из всех деяний. Нежданное касанье продавщицы, опускающей сдачу в вашу раскрытую ладонь. Приобретенье сырого мяса у мясника в бакалейном магазине. Обмен стеклянными бутылками с молочником. Взгляд украдкой на оголившуюся кожу, замеченный тем, кто ее оголил. Такие мгновенья иногда вознаграждаются сексом, но для великого любовника они сами себе награда. И потому смех близкого друга есть не менее функция прелюдии, нежели пресовокупленье двух жаждущих тел. Ибо ровно так же, как любовь есть вода жизни, так и жизнь есть вода любви. Не высказанная мысль. Проговоренное слово. Воображенное высказыванье. Игра-крестословица. Как жить так, чтобы эти знакомые пустяки обрели тот жгучий элемент эротизма, что присущ всему? Откройте эту тайну – и вы тоже вступите в ряды великих любовников!
Для преподавателей общинного колледжа это правда вдвойне. Ибо в царстве высшего образования эротизм присутствует – и присутствовал всегда – во всем. Применимо это и к заседанию комиссии, где голоса сочатся чувственностью. Применимо и к брифингу по аккредитации с хорошей явкой. И к фокус-группе по обсуждению образовательной политики. Эротизм заложен в прихотливых фантазиях о начальнице по другую сторону стола – ее начальственные слова так же бесплодны и холодны, как жарки и предметны ваши мысли о ней. И, разумеется, эротизм – сам акт обучения. Может ли что-либо сравниться с возбужденьем первого дня занятий в вашем первом классе, с первым касанием возлюбленного, первым взглядом, брошенным на наготу нового партнера? Не секрет, что эротизм предпочитает все первое. Однако следует ли и опытному профессору меньше трепетать от возбуждений жизни, нежели новичку, переживающему их впервые? Есть ли что-то эротичнее безудержных посулов юношеской безнравственности и нетронутой плоти? Да! И это – сдержанные посулы зрелой плоти и воспоминаний о юности! Те, кто выучил эти уроки, стали великими любовниками мира; они суть великие мировые преподаватели и величайшие испытатели жизни. А это все проникновенно и чревато, и это есть урок, выучить который нелегко. Поскольку прискорбнейшая ошибка, какую мы можем совершить, – считать нашу жизнь всего лишь самим половым актом, а не дрожащим предвкушеньем, что сообщает акту любви его величайшее значение.
{…}
* * *
Вернувшись в грузовик, Бесси завела двигатель и включила обогреватель на полную мощность. Поначалу воздух дунул холодом, затем стал жарче, и пока мы ехали по пустому шоссе, ветровое стекло изнутри запотело. Ночь снаружи, сразу за лучами фар грузовика, была черна и бесконечна. Словно глубочайшие глубины воды. Или вид нескончаемой вселенной.
– Мне нужно сделать одну остановку, – сказала она. – Займет всего минуту.
Бесси съехала с главной дороги, свернула влево, потом вправо и затем заехала на гравийную дорогу, ведшую к грунтовке, что, в свою очередь, вывела на подъездную дорожку, где на блоках стоял старый грузовик. В грязи валялись два перевернутых детских велосипеда.
– Я сразу же вернусь, – сказала она.
В ветровое стекло я наблюдал, как Бесси открыла сетчатую дверь дома, тихонько, после чего вошла внутрь. В одной комнате мелькнул тусклый свет, и с одного края ее до другого прошел силуэт.
Сидя в мертвой тишине, я слышал, как у меня в мочевом пузыре шипит и булькает влага. Ясно, что я пренебрег вспомнить что-то весьма элементарное с тех самых пор, как приехал в студию Марши в Предместье. А теперь было уже слишком поздно. Та конкретная река, как и многие другие, обогнала меня. И если я чему-то и учился – у того времени, какое пробыл в Коровьем Мыке, у множества поездок между сушью и зеленью и снова обратно, – то лишь тому, что вода течет, куда хочет течь; сколько ни строй плотину, какую дамбу ни измысливай, вода будет течь в своем собственном темпе и когда захочет, покуда не достигнет своего предназначенья. Подержись лишь чуточку еще, сказал я себе. Уже очень поздно, а эта долгая ночь почти закончилась.
В доме свет погас снова, и несколько мгновений спустя Бесси вновь вышла наружу и забралась в кабину грузовика.
– Все хорошо, – сказала она, мягко прикрывая дверцу. – Они спят.
– Рад это слышать, – сказал я.
Бесси сдала задним ходом с подъездной дорожки и снова выехала на грунтовку. Проехала по ней несколько сот ярдов, затем свернула на гравийную дорогу, ведшую обратно на шоссе. Но тут, не успели мы выбраться в спокойствие гладкого асфальта, она свернула на росчисть и остановилась, а в лучах фар перед нами плыла пыль. Оставив мотор работать вхолостую, она посмотрела на меня.
– Чарли, – сказала она.
– Да?
– Я восприимчива, Чарли.
– Правда?
– Да.
– Я тоже.
– Хорошо. Но сегодня ночью сексом с вами я заниматься не могу. Надеюсь, вы меня поймете.
– Я понимаю.
– Правда?
– Да.
– Хорошо.
Бесси выключила двигатель, затем вновь включила зажигание, чтобы заиграло радио. Возясь с настройками, она стала нащупывать станцию. Раздался скрежет, а потом голос и опять скрежет. На АМ-станции теперь тихо играла кантри-песенка. За окном небо было ясным, а луна поражала. Над ночным покоем вдалеке слышался восторженный стрекот сверчков. Бесси повернулась ко мне. Сквозь ветровое стекло на ее белую блузку рябью теней падал лунный свет, отчего казалось – пусть только в мареве моего собственного ума, – что всю эту сцену выписали четким черным и белым. Чистым черным. Чистым белым. Ничего, кроме неразбавленного контраста чистого света и его отсутствия.
– Это красивая луна, – сказал я.
– И небо чистое, – сказала Бесси.
– Сверчки стрекочут, – сказал я.
– Восторженно, – сказала она.
– Мне расстегнуть пуговицы на вашей блузке?
– Если не возражаете…
– Они ужасно далеки.
– Это не есть невозможное расстояние.
– Не есть. Однако может им быть.
– Чарли?
– Видите ли, несколько часов назад я бы согласился с вами, Бесси. Даже несколько минут назад. Но с тех пор многое изменилось. Произошло много пива. И много вина. Чересчур много марихуаны. И все это лишь добавляет к невыразимой перемене. Жизнь, видите ли, не единственное, что неуловимо…
Бесси извернулась ко мне поближе:
– Делайте, что можете…
– Я стараюсь как могу при сложившихся обстоятельствах. Поверьте, я пытаюсь. Но обстоятельства поистине обескураживают. Рукава моей рубашки с воротничком слишком длинны. А этот рычаг переключения передач, что располагается на полпути между нами, представляется гораздо ближе к вам, чем ко мне. Но я пытаюсь, Бесси. Я честно пытаюсь…
– Вы почти достигли цели, Чарли. Не сдавайтесь.
– Но, Бесси, я… Боюсь, я не могу этого сделать. Просто расстояние слишком велико. И чересчур наполнено смыслом. Слишком уж благоухает метафорой. Если блузка ваша – граница, отделяющая мир познаваемый от мира непознаваемого, и если пуговицы на ней – наши тщетные попытки оставить по себе хоть какое-то наследие, тогда это расстоянье меж нами – эта непреодолимая пропасть между вашими сосками и моими дрожащими руками – наверняка это есть влага, что пропитывает собою самую жизнь. Уж точно не может быть тоньше метафоры для жизненной любви к непознаваемому?
– Моя влага не метафорична.
– Я это ощущаю.
– Она благоуханна. И жизнеутверждающа.
– Но сейчас она не в силах мне помочь, ибо расстояние это слишком вечно. Метафора слишком тяжела. Мне жаль, Бесси. Мне правда жаль…
Разгромленный, я отвел назад руку и обмяк на сиденье. Уныло повесил я голову. Даже луна во всей ее женской славе не могла мне теперь помочь.
– Мне жаль, Бесси, – сказал я. – Мне правда жаль. Но это расстояние чересчур велико.
* * *
Но тут твердо заговорила Бесси:
– Нет, Чарли. Не так закончится эта ночь. Если б кончики моих сосков были непознаваемы, то их было б невозможно и познать. В таком случае расстояние между вашим любопытством и их непознаваемостью – дистанция между моими сосками и тем бугорком на ваших вельветовых брюках – было б непреодолимо, как пространство, отделяющее время от вневременности. Или вражду от примирения. Оно было так же велико, как расстояние от одного края вселенной до другого. И да, оно было б недосягаемо. Но со мной явно не тот случай. И явно не тот случай у нас сейчас. И потому делается это так…
Опытными пальцами Бесси расстегнула верхнюю пуговицу своей блузки. С моего наблюдательного пункта на другом краю сиденья в кабине грузовика я следил за тем, как пуговица эта упруго высвободилась, и там, где раньше была белизна блузки, возник треугольник бледной кожи. Зачарованный, я смотрел, как пальцы ее переместились ниже, к следующей пуговице, затем к следующей, треугольник кожи рос с каждой освобожденной пуговицей, покуда оба фланга ее легкой белой блузки вольно не повисли перед ее обнажившейся грудью, словно две отдельные шторы, только что раздвинутые, дабы явить свет утра. В ошарашенности моей тьмы было ясно, что ныне я стал свидетелем самого излученья дня.
– Если луна – женщина, – сказала она, заводя руки назад к застежке ее бюстгальтера, – то наверняка она властвует над приливами ваших глубочайших желаний.
Расстегнувши застежку, она вытянула бюстгальтер через рукав и поместила его на сиденье меж нами.
– И если приливы эти – вода, то уж точно не может быть лучшего выражения желанья, нежели река, что соединяет влагу сверху со влагой внизу…
Теперь уж блузка стала бюстгальтером, а бюстгальтер стал кожей. И когда она подалась вперед над рычагом переключенья передач, я почувствовал тепло ее щеки на своих вельветовых брюках, пальцы ее прочертили следы по моему бедру, пока не достигли моей второй чакры, и в поразительном лунном свете я ощутил, как разум мой поддается ритмам этой ночи. Кундалини текла вверх, словно змей, восстающий ото сна. Словно вскипал зуд тысяч волн вина. Тепло сиянья свечи. Ароматы хвои и благовоний. Подползанье бенгальского тигра по снегу мичиганской зимы. В уме у меня краски, звуки и запахи вихрились все вместе, словно смерчик пыли, собирающийся перед дождем. И покуда кундалини восставала сквозь чакры моего тела, я чуял, как сердце мое вопит, требуя освобождения, а единство мое со вселенной трепещет космически. Подступающий нахлыв бесконечной воды. Неотвратимое приближенье нового семестра. Экстаз затопляющего прилива. Если и существовала когда-либо причина возрадоваться, то наверняка она имела место в это вот самое мгновенье. Это уж точно миг, когда сердце мое отыщет упокоенье, а логика моего логического ума наконец сойдется воедино с влагой моего человеческого тела, дабы стать чем-то – чем угодно! – целиком.
– Нет, – произнес я, перекрывая волны, что вздымались во мне, и звуки, поступавшие снизу, – любовь – не то, чего следует бояться. И она не есть то, к чему следует подступать с трепетом. Ибо сколь маловероятно бы это ни могло казаться, она никогда не сумеет стать столь же невероятной, сколь нечто совершенно невозможное. И потому любовь не есть трепетное приближенье полуночи. Или рождественская вечеринка в марте. Или маятник, что никогда не останавливается. Это не сельский колледж, не способный достичь непрерывного улучшенья ввиду действительностей математической вероятности. Это не река, что прекращает бежать. Или воды, что не могут найти свой дом. Это не плотина, где крохотные ручейки стекают с верха ее подобно тысяче маленьких…
– Чарли!
Голос Бесси был поразителен средь безмолвного ликованья моей грезы. И потому я продолжал:
– …где ручейки стекают подобно тысяче…
– Чарли! Вы что, писаете мне в рот?!
И это меня поразило.
– Что? – сказал я.
– Вы меня слышали. Вы писаете мне в рот?!
– Полагаю, что нет, вряд ли.
– Чарли, сукин вы сын! Вы только что написали мне в рот!
– Мне трудно в это поверить, Бесси, честное слово.
– Боже мой!..
Бесси распахнула тяжелую дверцу и сплюнула на землю снаружи. Теперь она плевалась и вытирала рот тыльной стороной руки.
– Бесси, – сказал я. – Понимаю вашу озабоченность. Но это на меня совершенно не похоже. Вообще-то подобное моей натуре совершенно не свойственно. Я образовательный управленец, как вам известно. И потому глубоко убежден, что здесь имеет место некое недопонимание…
Бесси захлопнула дверцу.
– Уму непостижимо, вы только что нассали мне в рот, к черту! Это впервые!..
– Бесси, в этом я слышу всю вашу неуверенность и принимаю ее. Но полагаю крайне маловероятным, что подобное могло только что произойти. Вода, видите ли, всегда стремится к своему собственному уровню. А здесь, на этом переднем сиденье, совершенно ясно не тот случай – рот ваш отнюдь не ниже моих вельветовых брюк. Поэтому я бы попросил позволенья не согласиться с вашей интерпретацией событий…
По автомобильному АМ-радио одна песня отмерла, началась другая. В тусклом свете Бесси теперь одевалась на другом краю сиденья, одну за другой застегивая пуговицы – посулы грядущего дня теперь излучались вовнутрь, словно рассвет навыворот. Затем она в последний раз вытерла рот уголком блузы и завела мотор.
– В общем, вы поняли, – сказала она.
У преподавательского жилого корпуса Бесси поставила машину перед моим входом, но дверцу не открыла и мотор глушить не стала. Фары она тоже не пригасила. Через разделявшее нас расстояние мы взирали на молчание друг друга. Наконец заговорил я.
– Благодарю вас, Бесси, – сказал я – и сказал это потому, что в столбняке своем ничего большего измыслить не мог. – Спасибо вам за этот вечер. И за то, что перенесли меня с одного края вселенной на другой. Хоть я и не сумел переступить порог и того, и другого целиком, путешествие того стоило. Я б не смог посетить их оба без вас…
Бесси кивнула и, не сказав больше ни единого слова, уехала в ночь. И засим та ночь нескончаемых открытий подошла к своему логическому завершенью.
Обещание рассвета
Где сходятся вчера и завтра.
Вот только на самом деле – нет. Когда я вновь оказался у себя в квартире, с противоположной стороны стены по-прежнему поступали звуки – безжалостными волнами топочущей музыки, бьющихся тарелок и воплей математического экстаза. Голова моя уже болела от возлияний этой ночи, и я ждал, когда звуки эти стихнут. А когда они не стихли, я включил свет у себя в комнате, заварил себе кофейник кофе на плитке и выпил его у кухонного столика. По-прежнему не будучи способен спать под весь этот шум, я взял со стола неоконченную книгу и продолжал читать ровно с того места, на котором прервался: под ритм топота и визга из-за стены я все глубже вчитывался в «Справочник для кого угодно: любовь и общинный колледж». И когда минули два часа, я надел новую пару вельветовых брюк, рубашку с жестким воротничком и коричневый кожаный ремень и отправился на работу. Устало прошел я мимо трех лагун к своему корпусу, где люди, стригшие траву перед входом, улыбнулись при моем приближенье; мимо Бесси, сухо и профессионально приветствовавшей меня из-за своего рабочего стола так, словно день этот был просто еще одним излученьем; и в поджидавший меня кабинет, где качавшийся маятник моей предшественницы по-прежнему пребывал в совершенном движенье между перемежающимися крайними точками страсти и бесконечности.
Часть 2 Воплощение
День
Просвещайте людей вообще, и тирания и угнетение тела и ума исчезнут, как злые духи на заре дня.
Томас Джефферсон[23]Вот так и начался семестр. Следующий понедельник настал ярко и рано – к будке охраны явились студенты с мешками для книжек, книжными закладками и списками книг – некоторые принесли даже сами книги, – рьяные и готовые к тяготам и триумфам аккредитованного обучения. По главному променаду на занятия ехали молодые люди на велосипедах. Студентки в мини-юбках собирались группами по три-четыре. Буквоносцы из школьной баскетбольной команды плелись по променаду, словно светлоокрашенные жирафы по Сахелю[24]. У фонтанов одну за другой подбрасывали в воздух подковы начинающие жонглеры и тут же их ловили – а на главной лужайке на травке нежились, ничего не подозревая, гуманитарии, жизнеутверждающе ходили колесом спортивные заводилы, а трио гитаристов под платаном пело песни протеста. После летней летаргии весь кампус исполнился новой энергией, бурлил живостью и слепил взор даже больше, чем всего неделю назад: зеленой травой, блистательными цветами и чистой проточной водой. Изгородями сирени и чередующимися рядами олив и тамаринда. Исправно чирикали и порхали птички. На берегах лагун прохлаждались пеликаны. Солнце бросало лучи на зелень. Утки крякали. Даже бык в центре крупнейшей лагуны пулял водой так высоко над чреслами своей телки, что странствующую изморось чувствуешь кожей, где бы ни стоял в кампусе, – словно сама вирильность воды была как-то связана с возрождающейся жизненной силой, ныне присутствующей. Будто родник после проливного дождя, студенты общинного колледжа Коровий Мык забурлили пузырями из-под земли и заняли свое законное место в мире; свежие и отдохнувшие, они были теперь готовы продолжать образовательное странствие через время и пространство, от невежества к осознанности, от изумленья – к осведомленности, от пыльной жары по другую сторону будки охраны – аж до контролируемого уюта формального обучения в классе по эту.
И в конце такого долгого сухого лета обрели они кампус в идеальной гармонии с тем, что его окружает. Зеленые лужайки красиво подстрижены. Цветут олеандры. Азалии подровнены. Тротуары фланируют в совершенно равном удалении от общественных наук с одной стороны до естественных – с другой. Как раз к первому дню занятий успешно обновили библиотеку, равно как и переосмысленный Студенческий союз Димуиддла с его модернистским зеленовато-голубым ковром и 22-дюймовым цветным телевизионным приемником. Книжный магазин бурлил. Кафетерий гомонил. После суеты починок в последнюю минуту грифельные доски в классах темнели и сияли, как влажный камень; полы натерты до лоска; парты стояли глянцево, чисто и ровно идеальными рядами, как штаты на американском флаге. Перед административным корпусом, где реяла сама Доблесть Прошлого[25], теперь гордым величьем своим трепетал на ветру триколор – и тридцать четыре его звезды сверкали, словно жемчужинки просвещенья на фоне неба. По всему кампусу ясно было, что началось новое начало – эпоха безграничных возможностей и ничем не стесненной метафоры, освобожденной от тирании пыли и засухи.
И когда студенты пристегнули на замки свои велосипеды и зашли в аэрокондиционированные корпуса, и когда добрались они до классных своих комнат, что станут их водопоями на весь оставшийся семестр, их приветствовало вдохновляющее зрелище: в голове классов деловито готовились те самые преподаватели, кто вскоре олицетворит для них само обучение в общинном колледже Коровий Мык. Стоя перед грифельными досками, эти штатные профессионалы несли на себе осведомленные улыбки, отглаженные брюки со стрелками и розовые блузки, самую малость расстегнутые на самом верху; счастливо лучились они за своими столами, сердца полны усердия, умы переполнены специализированным знаньем, кое необходимо передать. Распечатывались планы уроков. Скреплялись программы. Перчатки по плечо заказывались ящиками. Даже палочки мела, торчавшие из своих картонных коробочек, были так же длинны и белы, как и положено, словно отдельные сигнальные башни на холме. Журналы посещаемости были свежи и экзотичны, каждое незнакомое имя все еще бурлило надеждой, потенциями и равенством нереализованной возможности, что так присущи всем новым началам. Вообще-то не было ничего такого в этом дне, что не предполагало бы – нет, не настаивало! – что это не станет и впрямь величайшим, ошеломительнейшим, аппетитнейшим и воплевызывающим академическим семестром в изобильной и до сей поры аккредитованной истории общинного колледжа Коровий Мык.
Из окна моего кабинета я не мог не отметить преобразованья, имевшего место внизу.
– Так воодушевляет! – сказал я Бесси.
– Да, – ответила она, не отрывая взгляда от пишущей машинки. – Видимо, да.
– После невозможно долгой ночи мы наконец стали свидетелями воплощения дня!
– Конечно, Чарли. Послушайте, у меня много работы…
Позже тем же утром в коридоре у наших кабинетов я встретил Рауля – и вновь не сумел сдержать воодушевления.
– Только посмотрите, Рауль! – восторгался я. – Начался новый семестр. Он у нас со всех сторон!
– Начался, – отвечал он. – Со всех. Как вечное колесо жизни. Или как суматоха вокруг Топикской конституции[26].
– Истекающий кровью Канзас?[27]
– Да, и подъем народного суверенитета[28].
– Вот именно! Тротуары полны. Автостоянка полна. Батюшки-светы, даже велосипедные стойки забиты под завязку!
– Ага, а также все столы в кафетерии. Если хотите сесть, лучше пойти обедать пораньше!
Я так и сделал.
– Поверите ли? – обратился я к Уиллу Смиткоуту, сев за столик со своим подносом. Уилл читал газету на обычном месте в углу обеденного зала, с манеркой бурбона и зажженной сигарой. В битком набитом кафетерии он один занимал целый свободный столик и, казалось, был счастлив, что я составил ему компанию. – Мистер Смиткоут, вы только поглядите, до чего все это невероятно! Столько иссушенья и предвкушенья – и вот долгожданный семестр наконец с нами!
Уилл опустил газету.
– Из штанов только не выпрыгивайте, Чарли. Просвещение – марафон, а не спринт. Странствие, а не точка назначения.
Он был прав. И потому я осклабился от собственной несдержанности и хлебнул чаю.
– Как жена моя втолковывала, – продолжал он. – Она мне, бывало, говорила: Уильям, притормозить бы тебе. Женское тело – бокал прекрасного вина, а не кружка воды, какую выхлестываешь, запивая лекарство от сердца. У жены моей влагалище было из сливочного масла, знаете…
Я кивнул. (Уилл Смиткоут не должен был стать моим преподавателем-наставником: вообще говоря, его сперва назначили Нэн Столлингз. Но после того, как на прошлой неделе он не явился к ней на встречу три отдельных раза подряд, Нэн попросила меня поменяться наставниками; и я, едва пережив болезненно безмолвный обед с Аланом Длинной Рекой, преподавателем ораторского искусства, который уже не разговаривает, с благодарностью согласился.
– Вы спятили? – сказала Бесси, узнав об этом. – Вам же хуже будет от такого обмена, точно вам говорю! – Но я лишь улыбнулся и отговорился доводом рассудка:
– Не так уж он и плох, должно быть, правда же?)
– Итак, мистер Смиткоут, – сказал я, – что вы думаете о возобновлении студентов в этом кафетерии? – Я откусил хлеба и рассеянно жевал этот кусок. – В смысле, вы посмотрите на эти свежие лица в начале их академического странствия! Сияющие улыбки. Нервное предвкушенье. Неограниченный оптимизм!
– Угнетает, а?
– Угнетает?
– Так это все грустно, что угнетает.
– Я не понимаю. Почему оптимизм должен угнетать? С чего бы сияющим улыбкам нашего студенчества быть грустными?
– Эти несчастные студенты искренне верят, что они вневременны и вечны. В юношеском своем задоре они по-прежнему убеждены, будто восседают в центре вселенной. Весь мир у них в руках. К ним ластится будущее. Каждый из них верит в святость своей особой судьбы. У них пока еще есть мечты. Они по-прежнему строят планы – стать летчиками и танцорами, медсестрами и юристами, романистами и врачами, аптекарями и профессорами, а также…
– Совершенно так! В этом и красота аккредитованного общинного колледжа!..
– Вот только ничем этим они не станут.
– Не станут?
– Конечно, нет. Не будут они летчиками – ровно так же, как мы с вами никогда не будем водить самолет: в итоге они уж скорее станут какими-нибудь механиками. И медсестрами они не будут – они станут секретаршами. Они не будут врачами – они будут санитарами. Они не станут писателями – они станут учителями. Или журналистами. Они превратятся не в хозяев своей судьбы, а в рабов чужих нововведений. Существует отдаленная возможность того, что они будут счастливы в браке, но гораздо вероятнее, что они разведутся по два-три раза. И как сильно б ни старались они, уж точно им не стать штатной профессурой в каком-нибудь плющестенном колледже.
– Нет?
– Не-а. На это шанс нулевой. В лучшем случае станут образовательными управленцами…
Я рассмеялся.
– Но, мистер Смиткоут, – сказал я. – Кто-то же должен становиться летчиками этого мира. И медсестрами. И писателями. Кто-то же должен быть первым в очереди, когда раздают штатные должности. Почему бы там не оказаться нашим студентам? С чего б не коровьемыковцам покорять мир с хлыстом в одной руке и складным алюминиевым пляжным стулом в другой?
Уилл покачал головой.
– Чарли, вам известно, что лишь пятьдесят процентов наших студентов переходят на второй курс?
– Так много?
– Да. А из них всего пятьдесят процентов продолжают учиться и получают степень.
– Так мало?
– Да. А из тех, что выпускаются – понимаете, из пятидесяти процентов от пятидесяти процентов, – лишь пятьдесят процентов смогут найти себе работу в желаемых областях.
– Та-ак…
– А из тех, кто находит работу по специальности, лишь пятьдесят процентов могут рассчитывать на то, что их хоть как-то наймут здесь, в Коровьем Мыке…
– Я замечаю тенденцию?..
– Верно. Мерна собрала эти данные за несколько месяцев до того, как с катушек слетела. Поэтому если вы вбуритесь еще глубже, цифры сообщат, что из тех, кто не отсеивается за первый год обучения в колледже, потом доходит до выпуска и отыскивает себе работу по специальности – и после этого способен найти работу в Коровьем Мыке, – из всех этих лишь пятьдесят процентов вообще зарабатывает столько на своей работе, чтобы сводить концы с концами. Из этой группы пятьдесят процентов истово платит налоги. Пятьдесят процентов налогоплательщиков действительно голосует в национальных выборах. А из тех, кто голосует, лишь пятьдесят процентов по-прежнему хотя бы раз в месяц ходит в церковь.
– Ну, это как раз не удивительно!
– Еще бы. Но дальше все еще унылее. Видите ли, только пятьдесят процентов тех, кто регулярно ходит в церковь, вообще пытается прочесть хоть один роман до тридцати лет; лишь пятьдесят процентов тех, кто потрудился прочесть роман, озаботилось прочесть хоть сколько-нибудь стоящий роман; лишь пятьдесят процентов этих дерзких читателей действительно дочитывают заслуженный роман, чье чтение они предприняли; и только пятидесяти процентам тех, кто прочитывает такой роман от начала и до конца, поистине нравится книга, на дочитывание которой они только что потратили свое драгоценное время. И потому, когда мы доходим до этого рубежа в данных, цифры становятся настолько малы – больше нуля, я бы вообразил, но едва-едва, – что продолжать уже не имеет никакого смысла. Поверьте, Чарли, религия в Америке обречена. Как и значимая литература. В конце концов, каковы шансы у великого романа в таком месте, как Коровий Мык, где вероятность обнаружения образованного, хорошо получающего, богобоязненного, платящего налоги благодарного читателя имеющей смысл литературы настолько мала, что стремится к нулю? Когда так мало студентов проходит сквозь эту трубу гражданских добродетелей, удивительно ли, что аккредиторы ставят под сомнение нашу способность выполнить нашу же ведомственную миссию? И стоит ли удивляться, с учетом скверных перспектив наших студентов, что от столь немногих из них можно ожидать, что они когда-либо в своей жизни сумеют достичь предельных высот космического оргазма?
Уилл покачал головой собственной линии рассуждений:
– Тут хочешь не хочешь, а задашься вопросом, какого черта мы все здесь делаем, нет?
– Похоже на то, – признал я. – Но как же насчет кафедры английской филологии? Разве не представляют они нашу последнюю и величайшую надежду?
– Английская кафедра? У кого найдется время на космическое просветление, когда все дни уходят на просвещение других! Чарли, за тридцать лет я ни разу не видел столько зелени и пышности у нас в кампусе, как сейчас. С этими ухоженными газонами. И рододендронами. И пеликанами, что прохлаждаются на песочке. Мы как будто избрали накопить себе всю эту влагу и растительность исключительно ради них самих…
Уилл опять покачал головой и сделал долгий глоток бурбона.
Несколько минут спустя к нашему столику подошла секретарша администрации с бумагой в руке.
– Здрасьте, мистер Смиткоут, – сказала она. После чего: – Эй, Чарли. Вы не против подписать эту петицию?
– По какому поводу? – спросил я.
– Это петиция против этих вот новых электрических пишущих машинок. Мы хотим себе оставить ручные. Подпишете?
– Конечно, – сказал я и подписал петицию.
Женщина сказала мне спасибо.
– О, и поздравляю! – добавила она. – О вас с Бесси говорят по всему машбюро.
– Правда?
– Да, говорят. Вы вдвоем довольно неожиданная пара. И с вашей стороны было очень мило накрыть ее дрожащие плечи своим саронгом…
Когда женщина перешла к следующему столику, Уилл глубоко вздохнул.
– Прогресс, – пробурчал он. – С ним, наверно, ничего уже не поделаешь. Электрические машинки. Мимеографы. Черт, да я помню, как моя жена купила себе первый пылесос. Пару недель она оставалась единственной во всем квартале, у кого имелся такой новомодный шмат современности. Она хвалилась им перед другими домохозяйками, словно Хатшепсут[29]. Но блеск быстро стерся. Порвался ремень, и его пришлось выбросить. Не успел я оглянуться, как эта чертова штукенция стала символом мужского подавления. Вот и где тот пылесос сейчас, я вас спрашиваю?
– В мусорке истории.
– Верно.
– На свалке технологии.
– Тоже верно.
– Погребен где-то в мелком иле реки Коровий Мык.
– Именно. И на поверхность больше никогда не вылезет. Так зачем же он вообще был нужен? Почему мы так проворно бросились ускорять кончину истории ради блеска и удобства пылесоса, который затем пришел и ушел? Где-то в этом должен содержаться поучительный урок для человечества!..
Я рассмеялся. Мы еще немного поели, а Уилл продвинулся вдоль по сигаре, и еще через несколько минут к нам подошла другая женщина с бумагой в руке. Она представилась как новая секретарша кафедры экономики.
– Вы бы не хотели подписать петицию? – спросила нас она.
– Я не подписываю петиций, – объяснил Уилл. – Я не верю в перемену к лучшему.
– Я бы мог подписать вашу петицию, – сказал я. – По какому она поводу?
– Она призывает к увеличению числа электрических пишущих машинок в кампусе. Мы устали от ручных.
– Мы?
– Да. Мы.
– И вы за это выступаете в понятиях экономики?
– Конечно. Те старые пишущие машинки – не-американские. Они неудобны и неэффективны. Так вы подпишете?
– Конечно, – ответил я и подписал петицию.
Рауль расхохотался, когда я ему об этом рассказал.
– Так вы подписали обе петиции? – сказал он. – Хоть они и противоречат друг другу? Хоть они и служат противоположным идеалам? – Мы с ним шли по эспланаде на семинар по профессиональному развитию этой недели – «Приспособление методов обучения к нуждам разнообразных стилей обучаемости у разных студентов».
– Да. Я подписал обе.
– И чего вы этим достигли? В смысле, вы же лишь противоречите сам себе. Вы нейтрализовали собственные действия. Вы сделали один шаг по числовой оси лишь затем, чтобы сделать по ней же шаг назад. Иными словами, вы вернулись к нулю. Ваши цели, каковы бы ни были они, конфликтуют друг с другом, а не упорядоченны. Обоснование ваше нелогично и озадачивает. Ох, Чарли, выручайте же меня!..
– Ну, Рауль, с моей стороны было бы грубо отказать в первой просьбе. И еще грубее было бы отказать во второй. Поэтому я выполнил обе. Теперь с моей помощью у каждой петиции есть возможность добиться того же успеха, что и у ее противоположности. И тем самым я к тому же расположил к себе обеих секретарш администрации. Видите, мое уравнение полностью сошлось!
– Вы им теперь можете быть дороги, да. Но продлится это лишь до тех пор, покуда каждая не узнает, что вы подписали и другую петицию. Как только они выяснят, что вы не отдались им целиком, вас будут не любить, а скорее… симпатизировать вам.
– Бывает и похуже!
– Еще бы. Но такова ли ваша конечная цель в жизни? В этом ли ваша причина быть на этой земле? Чтоб вам симпатизировали? Вы разве вообще не хотите, чтобы вас любили?
– Было б мило, да.
Рауль покачал головой.
– Тогда вам лучше выбрать такое, чему отдаться. Начать выбирать что-то одно, а не то и другое сразу. Поверьте: именно этого хотят женщины. Они желают себе такого возлюбленного, который был бы недвусмысленным. Человека, в точности знающего, кто он такой, – причем чтобы ему с этим было удобно. Они хотят упорядоченности. И целенаправленности. Вы больше не можете просто приехать из некой неназванной местности, Чарли. Если вы собираетесь быть из Барселоны, то, ей-богу, вам лучше быть из Барселоны целиком!
– Даже если вы не из Барселоны?
– Абсолютно! Иначе вы на самом деле вечно будете ниоткуда вообще. Аура у вас будет пепельного цвета. Ваше резюме ничем не будет отличаться. И вас никогда не будут любить по правде; вас лишь будут уважать… или терпеть. Или, боже упаси… вам будут симпатизировать!..
Бесси плеснула жидкого мыла на тарелку, которую мыла, и принялась тереть ее губкой.
– Ага, ну, я думаю, мы продвинулись дальше симпатии, – сказала она. – Вообще-то, мы ушли за симпатию давным-давно. Можешь Раулю так от меня и передать.
– Как – так?
– Можешь ему передать, что я сказала, что я в тебя влюблена.
– А ты так сказала?
– Да.
– Когда?
– Только что.
– Правда?
– Ну да. А что, нет?
Я покраснел.
– Вышло довольно легко!
– Совершенно. То есть это же честно, с учетом того, что последнюю неделю мы каждую ночь занимаемся сексом. Мне кажется, теперь я имею полное право объявить, что я в тебя влюблена. Вероятно, это меньшее, на что я способна. И определенно меньшее, что я могу сказать.
– Но возможно ли это вообще? – спросил я. – Само собой, последнюю неделю с чем-то мы состоим в интимной связи – и я далек от того, чтоб быть за это неблагодарным. Но мы же знаем друг друга меньше месяца. Лишь незадолго до этого я прибыл на временную автобусную остановку на окраине городка. И всего несколько коротких недель прошло с тех пор, как ты стала приходить после работы ко мне в квартиру.
– Конечно, возможно. С чего бы любви быть невозможной? Этот маятник же до сих пор качается взад-вперед у тебя в кабинете, так?
– Качается…
– И по-прежнему все так же пощелкивает, верно?
– Да!
– Ну и вот. А кроме того, какое ко всему этому отношение имеет время? У меня до сих пор была тысяча любовей. И вся эта тысяча была напрасна. Но я никогда не сдавалась. И никогда не сдамся. Поэтому нет – мне не стыдно теперь тебе это говорить. Мне не претит сказать, что я в тебя влюблена.
– Но звучит очень неубедительно, когда ты это произносишь! Когда ты говоришь это столь явно. Столь прямо. Просто как-то разочаровывает…
– Чарли, я говорила это тысячу раз тысяче других мужчин, и скажу сейчас тебе: я в тебя влюблена. Я влюблена… я влюблена в тебя!..
– Ладно!..
– Я влюблена в тебя, Чарли!
– Хватит! Ладно, я понял!..
Бесси рассмеялась.
– Не забывай, я женщина. А мы, женщины, у жизни в Коровьем Мыке учимся по крайней мере этому – как быть влюбленными.
Я пожал плечами.
– Понятно. И ты можешь свободно выражать свою точку зрения, конечно, – это краеугольный камень нашей великой страны. Только тут не так. То есть для меня – я не могу… знаешь, для мужчины любовь не есть нечто такое, что…
– Ох, прекрати этот лепет, Чарли. Я не рассчитываю с тобой на взаимность. Я же понимаю – я из Коровьего Мыка, не забыл? – и о словах мне кое-что известно. Поэтому просто прекрати и все. Я бы предпочла, чтоб ты вообще ничего не говорил, чем изрекал какую-нибудь бесполезную хрень, которой на самом деле не имеешь в виду.
– Хрень?
– Да, хрень.
– И что потом? – спросил доктор Фелч.
– А потом она домыла посуду как ни в чем не бывало!
– Вот вам вся Бесси! – Доктор Фелч держал свои заметки к рождественской вечеринке и смеялся. Затем перегнулся и исторг в плевательницу струю гаультерового табака. – Она канарский дог, Чарли. Я вас предупреждал; она крута, как свинец. Сами убедитесь…
– Вы меня пугаете, доктор Фелч.
– Просто не придавайте ничему чересчур большого значения и не забывайте, что́ я вам все это время говорил. С нею все обычно заканчивается не очень хорошо.
– А поконкретнее вы не можете?
– Могу, конечно. Если действительно желаете знать…
– Вероятно, в какой-то момент следует. И в какой-то момент я наверняка узнаю. Поэтому с таким же успехом могу это услышать от вас и сейчас, пока неудобно сижу на жестком пластиковом стуле у вас в кабинете.
Доктор Фелч пустил еще одну струю в плевательницу.
– Тогда ладно…
И тут он объяснил мне, как все отношения Бесси с мужчинами зарождались столь многообещающе, но завершались неизменно бесславно. Начав еще с Тимми из будки охраны, доктор Фелч рассказал мне о внеплановой беременности моей новой возлюбленной, о ее выкидыше, о ночи, проведенной ею в окружной тюрьме за террористические угрозы, о ее словесных оскорблениях, ее завуалированных обвинениях, неприкрытых инсинуациях, невыполненных угрозах, выполненных угрозах, об избиении ею романтической соперницы, о бывшем муже, которого она подтолкнула к крепкому алкоголю, ветровом стекле, которое она пробила кирпичом, бывшем ее дружке (и отце ее младшего ребенка), на чьем бедре она тавром оставила шрам, о психологической войне, вражде, о том, как она проехала своим грузовиком Баку по ноге, покуда он пытался через окно выхватить ключ зажигания из замка во время ссоры, о запахе горелых волос, о мясе у нее под ногтями, о шинах, визжащих по асфальту…
– По асфальту?
– Да, по асфальту.
– Вот теперь вы меня и правда пугаете!..
– Чарли, я предупреждал вас с нею не связываться.
– Предупреждали. Но я вам не поверил. Между нами все произошло так быстро. Все казалось таким органичным и неизбежным. Словно вода, что ищет сообразный для себя уровень. В сравнении невозможно, чтобы все остальное это было правдой…
– Поверьте, это правда.
– Я верю вам. Однако мне хотелось бы услышать и другое мнение, если вы не против…
Я отпил чаю.
– Так вы можете предоставить мне другое мнение? – спросил я.
– Еще бы, – кивнул Уилл. – Все это правда. Полегчало? – Уилл держал сигару в пальцах и, говоря, сделал величественную затяжку, после чего выдохнул дым огромной тучей, что медленно поднялась у него над головой и затмила собою табличку «НЕ КУРИТЬ», висевшую прямо над ним, – табличку, вывешенную там специально для него, – на стене кафетерия. После чего он покачал головой и сказал: – Но во всем этом затерялся худший инцидент. Видите ли, он не преминул забыть упомянуть, что́ она сделала со своим третьим мужем, – тем, знаете, о ком она бы предпочла не говорить…
– Что же случилось с ним?
– Она пыталась его эмаскулировать.
– Что?!
– Пока спал. Перед самым рассветом. И ей, к черту, это почти удалось.
– Не может быть! Она ж у меня в квартире была только вчера вечером. Приготовила рагу, потом вымыла всю посуду. Сказала, что любит меня. В голове не укладывается, мистер Смиткоут, вот не укладывается, и все!
– Она не вполне сказала, что любит вас. Она сказала, что в вас влюблена. А это значимая разница, между прочим.
– Это уж точно. Но все равно не могу поверить, что это правда. Все равно не могу во все это поверить…
– Они правы, Чарли, – сказал Расти, тыча пальцем в копию протокола ареста, которую нашел у себя в музейных архивах. – Боюсь, все это правда по всем статьям. – (После стольких приглашений я наконец поймал Расти на предложении посетить музей и, безразлично осмотрев разнообразные постоянные экспонаты – старые снимки ранчо «Коровий Мык», антикварное тавро, чучело голштинки во всей ее таксидермической безмятежности, – набрался мужества спросить о предполагаемом инциденте с Бесси.) – За тот случай ей присудили кое-какие общественные работы. Ее дядя был судьей, иначе все могло обойтись гораздо хуже. Но да, она после той злополучной эмаскуляции на весь городок прославилась.
– Странно, что доктор Фелч не упомянул этого инцидента вместе со всеми прочими. Ведь можно решить, что он как раз и будет где-то в начале списка. Если не возглавлять его!
– Вероятно, ему до сих пор слишком мучительно о нем вспоминать. И поэтому он предпочитает о нем не говорить. А также именно поэтому ему не хочется вообще вспоминать свою четвертую жену.
– Я не понял? Какое отношение его бывшая жена ко всему этому имеет?
– Вы не знали?
– Чего не знал?
– Что они были женаты?
– Кто?
– Билл и Бесси. Он был ее третьим мужем, а она – его четвертой женой. Никому из них не нравится об этом говорить. Вообще-то они были счастливо женаты несколько лет, покуда она не узнала, что у него роман с женщиной, которой едва исполнилось тридцать. До того рубежа их брак бодрил. Но все рано или поздно заканчивается. И их супружество завершилось почти что эмаскуляцией. Я думал, вы знали…
– Нет, не знал.
– Ну, теперь знаете.
– Знаю.
– И теперь в курсе.
– Обостренно…
– Так теперь вы мне верите, Чарли?
– Кажется, у меня нет выбора!
Доктор Фелч улыбнулся.
– В смысле, она замечательна – не поймите меня неверно. Чудесная личность. И преданная мать. Мы с нею с тех пор помирились и ладим сейчас превосходно. Я о лучшей секретарше и мечтать бы не мог. И что бы там ни утверждало обвинение, не думаю, что она действительно намеревалась меня в ту ночь эмаскулировать – я бы предпочел считать, что это скорее был символический жест в общем великом промысле. Но это я так говорю. Вам же, вероятно, лучше бы подготовить на всякий случай План Б…
Доктор Фелч отхаркнул еще одну струю табака.
– …и как можно скорее.
Услышав это, я перекатился на бок.
– Так и что ты об этом думаешь? – произнес я, ставя вопрос непосредственно перед Бесси сразу после того, как мы впервые позанимались любовью. Мы лежали средь простыней, еще влажных от наших усилий. – Каков, по-твоему, должен быть мой План Б?
– Ты уже думаешь о Плане Б?
– Не активно. Но, знаешь, как вариант на всякий случай. Конечно, сейчас, с одной стороны, все, похоже, достаточно неплохо. Но вот с другой стороны, нипочем же скажешь, как оно все обернется…
– Нет никакого Плана Б, Чарли. Вернее сказать – есть. Но тебе тогда придется уехать из Коровьего Мыка навсегда. Так что давай об этом не будем. Давай наслаждаться Планом А, покуда еще можем…
И с тем она поцеловала место ниже моей второй чакры, где кундалини уже начала сдавать.
* * *
Шли недели, и я постепенно вошел в колею нового семестра, а со временем начал обретать и суточный биоритм: утра проводил в кабинете за чтением аккредитационных документов, посещал занятия, где вел наблюдения, и разрабатывал с доктором Фелчем стратегии того, как действительно обеспечить в этом году проведение рождественской вечеринки. Обеды обычно заставали меня в кафетерии с Уиллом Смиткоутом, который всегда сидел за тем же свободным столиком под табличкой «НЕ КУРИТЬ» с сигарой в руке: своим положением моего преподавательского наставника в этом академическом году он, похоже, упивался. После обеда я шел к себе в кабинет на очередные заседания комиссий и прочие мероприятия колледжа. А уже оттуда направлялся домой проводить долгие вечера наедине с телевизором и недочитанными книгами: на вершине стопки лежал «Справочник для кого угодно: любовь и общинный колледж», – а также громкими звуками, доносившимися из-за стены, отделявшей меня от неугомонной кафедры математики.
– По-моему, вы говорили, что они стихнут? – спросил я Гуэн, когда пришло и прошло несколько недель, а заметного снижения уровня веселья за стеной что-то не наблюдалось. Топот был все так же громок. Вопли и визги – так же экстатичны; или мучительны. Встретились с нею мы под конец дня, Гуэн только что посетила семинар по профессиональному развитию под названием «Миссия выполнима: сокращение разрыва в успеваемости для студентов, не умеющих читать, писать или считать», и мы с нею в ногу направлялись к кафетерию.
– Ну, они же довольно молоды. И по-прежнему чрезвычайно игривы, – сказала она. – Но мы все закрываем на это глаза, поскольку они хорошо делают свое дело.
– В смысле, у них все хорошо обстоит с математикой?
– Нет, они хорошо учат математике. И студенты их обожают. Они критически относятся к нашей ведомственной миссии.
– Вы имеете в виду, очевидно, студентов?
– Нет, учителей математики. Нельзя истово платить налоги, не зная математики. А научиться математике нельзя без учителей. Такова проза жизни. Поэтому вам просто нужно запастись терпением. Дайте ситуации еще немного времени.
– Мне бы очень хотелось. Но у меня такое чувство, что с тех пор, как сюда приехал, я толком и не спал. Иногда на заседаниях у меня просто глаза слипаются. Начинает страдать моя рабочая производительность. Я как будто утрачиваю контроль над тем, что меня окружает. Все разгоняется, а моему восприятию за этим уже не угнаться. Как будто у меня в сознании брешь. Все просто перетекает одно в другое.
– Я вас услышал, – сказал Рауль. – Семестр определенно набирает обороты. Время движется все быстрей и быстрей. Так вот и течет семестр. Так течет сама жизнь. Но не позволяйте ей себя окончательно захлестнуть. Не давайте ей себя огорошить.
– Я изо всех сил стараюсь не поддаваться. И не терять при этом бдительности. Но мне действительно нужно немного поспать!
– На сон времени будет довольно, когда закончится семестр. После того как пересмотрят декларацию миссии и нашим аккредиторам подадут самостоятельный отчет перед их следующим визитом весной. После того, как настанет и пройдет одиннадцатое декабря и триумфально проведут рождественскую вечеринку. Просто выдержите этот семестр изо всех сил, Чарли. И знайте, что сон, как это с ним обычно бывает, в конце одержит верх.
– Я пытаюсь, Рауль. Поверьте, пытаюсь! Но я так устал, что даже не могу сосредоточиться на том, чтобы стать чем-то целиком, – не говоря уже о том, что я должен делать как координатор особых проектов. Наблюдения на занятиях. Фокус-группы. Семинары по профессиональному развитию. Столько всего нужно обдумать, что я начинаю упускать из виду свою конечную цель – не говоря уж о задачах с измеримой производительностью…
Рауль рассмеялся.
– Вам нужно разместить их в легко понимаемом визуальном представлении. Смотрите, блок-схему можно сделать такую…
Он перевернул листовку опроса, который производил, и на обороте нарисовал следующее:
– Спасибо, Рауль, – сказал я.
– На здоровье, – ответил он. – Кстати, можете оставить ее себе…
Пару раз в неделю – пока с мальчиками дома сидела ее мать – Бесси приходила ко мне ужинать, грузовик свой оставляла у меня прямо под окном и шла вверх по лестнице, где затем стучалась ко мне во входную дверь сбитыми костяшками пальцев. Я впускал ее, и мы ужинали у меня за кухонным столом, после чего переходили к другому. Затем она отправлялась домой. Так мы познали друг друга как мужчина и женщина – как не потерявшие надежду разведенцы, – и так вот она и я перешагнули тот мистический порог, отделяющий то, что воображается, от того, что просто известно.
(– Ладно, – сказал она мне через несколько минут после того, как впервые шагнула ко мне в квартиру. – Вот теперь у нас с вами секс будет…)
Ужины с Бесси всегда проходили по плану. К пяти пятнадцати она появлялась у меня в квартире. К шести ужин был на столе. Ровно в семь она звонила домой проверить детей. К семи тридцати она домывала посуду и к девяти или девяти пятнадцати – самое позднее девяти тридцати – она уже собиралась и направлялась домой. Так продолжалось от недели к неделе, и с истощеньем семестра стало ясно, что мы с ней очень быстро перешли от взаимно восприимчивых просто к влюбленным. За ужином мы беседовали о знакомых с работы. Моя посуду, она делилась со мной плюсами и минусами секретарского рабства. Позднее, средь влажности наших простыней, мы вдвоем говорили о грезах, что у нее по-прежнему каким-то чудом еще сохранились, а я еще не отбросил; ее – уйти от грунтовки; моих – стать чем-то – чем угодно – целиком. Со временем она начала держать у меня в квартире личные вещи: смену одежды у меня в шкафу, майку дополнительной длины для сна у меня в ящике, таинственные туалетные принадлежности в аптечке у меня в ванной; и пока мы оседали в эту привычную рутину, я постепенно начал видеть – поначалу нечасто, но затем все с большей настоятельностью – слабые проблески темной стороны ее личности.
– Ты уверена, что следует вот так оставлять машину прямо у меня под окном? – спросил я у нее однажды вечером за ужином. – Не примутся ли люди делать выводы о нас? Не пойдут ли разговоры?
– К чему об этом вообще думать? Или ты боишься того, что они могут сказать?
– Не в этом дело. Просто…
Бесси выжидающе смотрела на меня.
– …Просто как это будет выглядеть со стороны? Мы с тобой работаем вместе. И у тебя маленькие дети. Не говоря уже про всех бывших возлюбленных, кого я вижу по всему кампусу ежедневно. Что они могут подумать?
– Во-первых, не приплетай сюда моих детей. Во-вторых, это Коровий Мык. Мы колледж сельской общины посреди глухомани. В разгар засухи веков. Люди не станут допускать о наших отношениях ничего такого, чего они и без того не допускают. И уж поверь мне, разговоры идут еще какие.
– Уже?
– Ну еще бы. Девчонки в машбюро знают о тебе и обо мне больше, чем ты и я сами о себе знаем. Всему кампусу известно о том вечере, что мы вместе провели у реки. И как мы задержались на песчаном берегу, когда все уже разошлись. И как мы держались за руки на обратном пути к моему грузовику. И как потом мы поехали к росчисти у шоссе. Все это – и не только это – они знают.
– И о сверчках знают?
– Конечно.
– И про лунный свет, лившийся через твое ветровое стекло?
– Наверняка.
– И о рычаге переключения передач между нами на переднем сиденье?
– Абсолютно.
– И о вечном расстоянии, разделявшем легкий бугор у меня на вельветовых брюках…
(Бесси воздела брови.)
– …и твои нежные слова поощренья?
– В этом никаких сомнений!
– А как насчет… ну, знаешь… струек?..
– Надеюсь, что нет, – сказала она. – Хотя и это бы меня не удивило. Если в Коровьем Мыке что и есть, то интуиция.
– Не думай, пожалуйста, что я стыжусь нас с тобой, Бесси, или что я глубоко осведомлен о том, знаешь, что ты была разведена три отдельных раза. Дело вовсе не в этом. Скорее, ну, в том, что у нас такой маленький кампус. И мне бы не хотелось, чтобы наши отношения стали кормом для сладострастного интереса мелкого колледжа.
Бесси рассмеялась.
– Насчет этого ты не беспокойся. На каждые формально признанные отношения в Коровьем Мыке приходятся сотни таких, что обитают в тенях. Если, по-твоему, то, чем мы занимаемся, достойно сладострастного интереса, знал бы ты, чем занимаются другие!..
И тут она поведала мне о множестве половых идиосинкразий кампуса и романов региональной известности. Как преподавателя мировых религий застали за половым актом с молодым преподавателем этики на складе. И про двух семейных преподавателей предпринимательства, которые много лет поддерживали внебрачную связь. Зашла речь и о штатном преподавателе химии, которому неоднократно объявляли выговор за то, что на лабораторных занятиях он непристойно обнажался перед студентками медсестринского дела. И о преподавательнице истории искусств, в чьем «саабе» страсти разыгрывались похлеще, чем на Маленькой Круглой Высоте[30]. Фигурировал макроэкономист с волосатой спиной. И Марша Гринбом – эта была просто ненасытна. И два гомосексуалиста на кафедре искусств. И садовод-огородник из Западной Вирджинии, переодевающийся в женское. И хозяин борделя, уроженец Невады, ставший составителем заявок на субсидии. И большевик, склонный к свободной любви. И Тимми из будки охраны. И охранник с «полароидом». В их число даже не входили преподаватель творческого письма с его студентками; Шлокстины, чей брак был открыт так же, как поле кукурузы в Небраске; и пост-тантрические Льюк Куиттлз и Этел Ньютаун, которые съехались вместе и погрузились в беспорядочный роман вопреки скорбным возраженьям бессчастного супруга Этел Стэна. («В сравнении с преподавательским составом вашего местного общинного колледжа, – недавно прочел я, – внештатные жители Содома и Гоморры были вялы и благопристойны!») И все вот это вот даже не принимало во внимание кафедру математики, чьи печально известные математические оргии по другую сторону стены моей квартиры уже достигали пронзительной резкости.
– Когда же все это закончится?! – ловил я себя на отчаянном взывании ко всем, кто был готов меня слушать. – Семестр уже месяц как в разгаре, шум не стихает никогда, и мне позарез нужно поспать! Когда это закончится?!
– Сразу перед промежуточными контрольными, – предсказал Рауль.
– В свое время, – сказала Гуэн.
– Когда сама история устареет, – заметил Уилл.
– Понятно. Ну, если это займет так долго, что же мне пока делать?
– Подходите философски, – сказала Гуэн.
– Вы должны выступить против них на своих условиях, – сказал Расти.
– Составьте письменный план, – сказал Рауль. – А затем выполняйте.
– Но как можно относиться философски без сна? И как идти на конфронтацию, когда мне конфликты никогда хорошо не удавались? Разумеется, мне бы хотелось составить какой-нибудь план, но разве у нас и без того не избыток несостоятельных планов по улучшению нашего колледжа на грани краха?
Уилл рассмеялся.
– Вообще-то вы ничего не сможете с этим сделать, – объяснил он. – Поверьте тут вашему наставнику, Чарли: с математикой не поспоришь. Исторически у этой дисциплины всегда был особый повод для гордости – она холодна, последовательна и непреклонна перед капризами человеческих эмоций. Как, бывало, говорила моя жена долгими зимними ночами. Она говорила: Уильям, если ты сию же секунду не вытащишь пальцы из моей щели, тебе придется платить адскую цену. Такая она была в последние годы…
– Мистер Смиткоут?
– А потом просто смеялась и откидывала простыни…
– Уилл?
– И брала мою ладонь и клала ее себе на голый живот…
– Уилл!
– И придерживала ее там…
– А потом?
– Ну а потом, – заключил Расти, – Билл оставил Бесси и ушел к своей последней тридцатилетке – текущей, – и с тех пор они с ней вместе. Для Бесси это стало последним опустошительным предательством. Для Билла – чем-то вроде победы над жизнью. Но поглядим еще, сколько это продлится…
– А сколько это продлится? – спросил я.
Доктор Фелч пожал плечами.
– Очень непросто сказать, – ответил он. – Вероятно, покуда они не выведут всю эту юношескую прыть из своих организмов. Пока не улягутся математические гормоны. Говорят, Архимед наслаждался услугами начинающих геометров, даже когда ему было сильно за семьдесят. Поэтому, вероятно, вам предстоят еще несколько лет по крайней мере бьющегося стекла…
– Но я же не могу так долго ждать, покуда утихнет их математическая любовь. Мне сейчас спать нужно. От этого зависит судьба колледжа!
– Вы там держитесь, Чарли…
И потому я всеми силами старался не замечать гвалт из-за стены и сосредоточиваться на том, что Бесси мне рассказывала за рагу с потрохами, которое приготовила на ужин.
– С учетом всего, что творится в кампусе, – говорила она, – я б не стала волноваться из-за того, что кто-то говорит о нас. В сравнении с блеском преподавательских романов мы с тобой примерно так же замечательны, как пара женатых библиотекарей, обсуждающая на скамье в парке литературные рецензии.
Я кивнул и откусил от ее потроха.
– Это, наверное, успокаивает. Но, Бесси, что обо всем этом думают твои дети? Понимаешь, о тебе и обо мне? Не задаются ли они вопросом, где ты пропадаешь каждый второй вечер?
– Чего ради им чем-то задаваться?
– Не знаю. Мне просто кажется, что им наверняка было б любопытно, где их мать. И с кем. Разве нет?
– Нет, не было б. И не должно. Пока, во всяком случае. Всякому любопытству – свои время и место. И конфликту свои время и место. Но давай не опережать события, ладно? Теперь ни для того, ни для другого не лучшее время.
И Бесси сменила тему.
– Как рагу? – спросила она.
– Очень вкусно, – сказал я. – Вообще-то восхитительно.
– Я рада, что тебе нравится. Мне такое отец, бывало, готовил, когда я была маленькой. Когда он еще был жив…
Бесси притихла.
А я кивнул и проглотил еще кусочек.
* * *
– Но что же они о нас говорят? – спросил я Этел на огневом рубеже тира однажды днем. Мы с нею уже взяли оружие, но еще не надели наушники и защитные очки.
– Что кто говорит? – ответила Этел.
– Ну, люди, понимаете. В кампусе. Профессура. Наши коллеги. Вам ли не знать, Этел, поскольку вы как журналист должны быть к такому чутки.
– Конечно же, много чего говорится. И да, кое-что – про вас с Бесси. А кроме того, много толкуют и про нас с Льюком.
– Могу вообразить. Вроде чего?
– Ну, говорят, что мы с ним бесстыжие, безмозглые и бездушные. Говорят, что я гублю своего мужа Стэна и как супруга, и как мужчину, и что страсти наши приведут нас к преждевременному краху. Говорят, что еда и журналистика вызывают литературное несварение.
– Понятно.
– Намекают даже, что, если мы не будем вести себя осмотрительней, наши отношения могут поставить под угрозу наши соответственные заявки на зачисление в штат.
– Ай. Какая жалость. Могу лишь себе представить, что они говорят о нас с Бесси. Стоит ли спрашивать?
– Спросить-то можете. Но вы уверены, что хотите знать? Потому что там не все приятно.
– Да, уверен.
– Хорошо, – сказала она. И затем: – Подержите-ка мой пистолет, будьте добры…
И тут Этел изложила самую часто повторяемую версию моих взаимоотношений с Бесси. Как мы с ней, по общему мнению, вступили в отношения на берегах реки Коровий Мык. И как, отряхнув песок, мы вдвоем проделали весь путь обратно к ее грузовику, чтобы согреться. И как оттуда мы поехали к полю, где на нас, словно любовь матери к двум ее сыновьям, сочился лунный свет. И как, до предела воспользовавшись пьяным забытьем Бесси, я накрыл ее саронгом, оппортунистически стащенным из студии Марши Гринбом.
– Оранжевым, – уточнила Этел. – Хотя в других пересказах ваш саронг скорее тускло-пурпурного оттенка.
– Есть и другие?
– Да.
– И много?
– Немало.
– Например?
– Ну, к примеру, также намекают, что по возвращении в вашу одинокую квартиру после визита на край вселенной, где обитают дети Бесси, вы наконец стали переживать опасности ночи и дня.
– Точно, – сказал Рауль. – И что расстояние в ту ночь между вашими дрожащими руками и восприимчивыми сосками Бесси оказалось гораздо больше дистанции, что способна покорить стрела в полете.
– И, – сказала Гуэн, – что маятник у вас в кабинете есть метафорическая попытка примирить чередующиеся в вас крайние точки любви и ее противоположности. Логики и интуиции. Памяти и воображения. Плана А и Плана Б.
Доктор Фелч все это выслушал и, сплюнув еще разок в плевательницу, согласился с тем, что уже высказано, затем добавил:
– Они даже подозревают, что вы с нею полным ходом движетесь к чему-то зловещему, Чарли. Словно гребец в каяке против течения на скалистых водопадах. Или как наш сельский колледж, которые сносит прямиком в грядущую ярость наших ведомственных аккредиторов.
– Они всё это говорят?
– Да, говорят. Ну и еще, конечно, эти струйки…
– Струйки!
– Да, о том, как вы обрели облегчение средь влаги оральных заверений Бесси.
– Ну да. И как вы вдвоем с тех пор так сплелись, что нынче даже потроха едите вместе!
– И еще что рычаг переключения передач между вами с ней всегда будет немного ближе к другим людям, чем к вам, Чарли. И что так будет ввиду вашего нежелания вверяться чему-то целиком.
– Всё это говорили?
– О да. И даже больше. Гораздо больше!..
В ответ на все это я мог лишь изумленно слушать.
– Так это правда? – спросила Этел.
Я решительно покачал головой. Но затем, по кратком размышлении, столь же решительно кивнул.
– Где-то половина всего этого – правда, – сказал я. – Может, две трети, если учитывать ту часть, которая про маятник. Но, Этел, меня не столько заботит здесь истина, сколько восприятие. То есть как все это рассматривается? Как толкуются отношения Бесси и меня?
– Между Бесси и мной, Чарли…
– Верно. Извините. Так что же говорят об отношениях между Бесси и мной? Как они воспринимаются нашими коллегами в кампусе?
Этел замерла, обдумывая мой вопрос. Затем сказала:
– Вполне всесторонне. Хоть и относительно неплохо, если вдуматься. Конечно, кое-какие опасения на определенных кафедрах имеются…
И тут Этел рассказала мне, как секретарши администрации полностью нас благословили, зато отдел обслуживающего персонала не одобрил. Для преподавателей математики в двух нелюбимых людях, обретших любовь, имелась определенная красота – как есть что-то трансцендентное в двух отрицательных числах, что неким манером сходятся воедино и получается положительное произведение. Для молодого преподавателя этики – той, кого обнаружили в кладовой загнутой над пыльной коробкой новогодних украшений, – мои отношения с Бесси были профессионально никак не желательны и вообще-то компрометировали способность обеих вовлеченных сторон привносить что-либо значимое в ведомственную миссию колледжа. Для гомосексуалистов с кафедры искусств мы были буржуа; по мнению отдела финансового содействия, мы были безобидны, хоть и неблагоразумны; а вот кафедра зоотехнии активно обсуждала наш соответствующий возраст, возможность родового акта на такой поздней стадии жизни, а также не возникнет ли в какой-то момент нужда в искусственном оплодотворении. Библиотекари морщились от самого понятия. Работники кафетерия ликовали. А кафедра английской филологии – ни один из них еще не получил ни единого ответа от надежного литературного агента – попросту вообще игнорировала наш флирт.
– Как будто мы даже недостойны высокой литературы, – пожал плечами я.
– Это ничего, – сказала Бесси. – Я все равно уже много лет хорошую книжку не читала. Черт, да я вообще никакую книжку уже много лет не читала…
Я протянул ей «Прелестных котиков мира».
– Попробуй эту, – сказал я. – И сообщи, понравится или нет. Потому что уж ты мне поверь – там, откуда эта книжка, еще много такого же…
– Спасибо, – сказала Бесси. После чего: – Но тебе все это разве не безразлично?
– Что ты не читаешь книги? Ну как бы нет. То есть чтение же, знаешь, как бы считается важной вехой в истории человеческого просвещения…
– Нет, не это. Болтовня. Межкафедральный треп. Разговоры в машбюро. Сплетни за обедом. Тебе действительно есть дело до того, что они всё это о тебе говорят? О тебе и обо мне? Что они это говорят о нас?
– Конечно, есть.
– Почему?
– Потому что это опошляет нашу историю. Она не открывается навстречу более широкой констекстуализации, а низводится до одного приземленного нарратива. Это как объяснять сложное математическое представление, чтобы оно стало простым или легче доступным. Или как обзорный курс, предоставляющий разбавленные понятия сложных явлений, чтобы скучающие студенты могли результативно получить оценки и двигаться дальше.
– И это плохо? – возразил Рауль. Он стоял у питьевого фонтанчика возле моего кабинета, держа стаканчик из вощеной бумаги; он только что нагнулся попить, и крохотные бусины воды еще цеплялись за кайму его бородки. – В конечном счете, Чарли, в простоте – великая красота. Красота – в сложности, которую сделали доступной. И в представлениях, переданных результативнее. В этом залегает сама суть обучения, на мой взгляд, и в частности – преподавания в общинном колледже. Такова высшая цель самих математических изысканий.
– Но, Рауль, – сказал я, – так ли высока на самом деле эта цель? Не кажется ли вам, что еще более великая красота – в том, что слишком сложно понять? Слишком двусмысленно преподавать?
– Чарли?
– Не кажется ли вам, что идея, прославленная за бесконечное число неподтверждаемых толкований, интригует гораздо сильнее, чем та, у какой единственный исход, который можно вновь и вновь воспроизводить? Что капризное животное, бурлящее жизнью, прекраснее его соответствия, с которого содрали шкуру, выдубили ее и умело набальзамировали? И, таким образом, не согласились бы вы, что царство математики есть всего-навсего мавзолей некогда живых идей? Как музей Коровьего Мыка с его бесцветными фотографиями и законсервированной голштинкой. И если математика есть этот самый музей с его статическими экспозициями мертвых артефактов – пыльными полками, заполненными скелетами решенных загадок, – должно быть и нечто ему противоположное? Ибо у всего есть своя противоположность. А если так, чем такая противоположность может быть? Может ли она быть философией? Или музыкой? Или живописью? Или это должно быть нечто еще более величественное – поэзия, например? Потому что разве поэзия не бурлит жизнью, словно живой зоопарк непослушных позвоночных: все брыкаются и плещутся в лужах несовершенных экскрементов? Да, поэзия есть зоопарк, Рауль! Поэзия – зоопарк вопящих зверей. А математика – тихий и солидный музей, где для потомства хранятся трупы животных!..
– Что, говоря метафорически, тогда сделает поэта?..
– …Бессчастным служителем зоопарка!
– А математика?
– Умелым охотником…
– А учителя математики?
– Таксидермистом!
Рауль рассмеялся.
– А аналитика данных, Чарли? В вашей метафоре ведомственный научный работник – это?..
– Верный лабораторный техник таксидермиста!
На этом Рауль улыбаться перестал.
– Ну, вы, разумеется, вольны верить во что хотите, – пробурчал он. – Это тоже краеугольный камень нашей великой нации. Но в данном случае я бы сказал, что вы перегибаете палку. Вероятно, для всех заинтересованных сторон было б лучше, чтоб вы придерживались управления образованием!
Я рассмеялся и отпил еще чаю.
За окном кафетерия солнце садилось под иным углом, нежели вчера. Я принялся было поднимать еще один вопрос для общего обсуждения, но поймал себя на том, что осекся на середине мысли. Меня вдруг поразило неожиданное: А как у меня со временем? Сейчас позднее утро? Или ранний день? Уже начало осени? Или по-прежнему конец лета? Может ли случиться так, что, пока я тут сидел, времена года сдвинулись от растворения поздней осени к излучению ранней зимы? От воплощения семестра к его быстро приближающемуся растворению? Непреклонно дни приходили и уходили, и недели переносили меня с одного заседания прямиком на другое: вдоль по эспланаде и мимо книжного магазина, от моего кабинета в кафетерий, от целительного утешения плевательницы доктора Фелча в хладные пределы моей квартиры, соседствующей с преподавателями математики. С первого дня занятий начиная, я посещал одно заседание, призванное очертить грядущую рождественскую вечеринку, за другим; я руководил утомительными совещаниями по планированию пересмотра декларации миссии колледжа; проводил бесчисленные наблюдения на занятиях и писал несчетные отчеты, работал в комиссиях по найму, где мы перебирали безупречные резюме и уважительно кивали в ответ на отполированные телефонные отклики соискателей-лауреатов премий. Я помогал организовать факультатив для уволенных работников ранчо и вызвался помочь небольшой группе студентов основать в кампусе клуб под названием «Будущие управленцы образованием в Америке». Вместе с Раулем посещал семинары повышения квалификации по стилям обучаемости студентов и осуществлению искусственного дыхания, поддержанию сексуально допустимых отношений с сотрудниками и как собрать крепкое личное дело для подачи заявления о зачислении в штат, пониманию особых нужд особых категорий населения и признанию альтернатив вздутым мошонкам, стратегиям действенного сотрудничества с невозможными коллегами и где прятаться при резне в кампусе, как снизить тревожность на рабочем месте с применением лучших практик йоги и экономическим и педагогическим преимуществам надувания коров[31] и как инвестировать в процентный пенсионный план, подходах ко взаимодействию со студентами неопределенного культурного происхождения и, наконец, на прошлой неделе, – семинар наиважнейшей серьезности о том, как на ранних стадиях опознавать в коллегах женского пола первые признаки того, что они балансируют на самой кромке саморазрушения. (Менее чем за семестр мне удалось во всем этом развить собственные профессиональные способности!) И в отчаянной попытке примирить наш расколотый преподавательский состав – разработать такой план, который свел бы поближе разнообразные фракции кампуса как раз к рождественской вечеринке одиннадцатого декабря, – я организовал череду ответственных фокус-групп, которые надлежало проводить весь семестр.
– Фокус-группы? – поинтересовался Рауль. – А это у вас как идет?
– Не очень. Я не могу даже залучить никого в одну комнату! В смысле, вы считали, что кастрировать теленка – непростая задача?! Думали, его вовлеченность трудно заполучить? Для меня то же самое – пытаться организовать наш преподавательский состав. Это как кошек в загон собирать. Я пробовал все. И не уверен, что еще я могу сделать на этом рубеже.
– Вам нужно разработать опрос. Разослать его всем преподавателям и сотрудникам. Спросить их мнения, что сделает фокус-группу поистине выдающейся. Побудить их к откровенности и сказать им, что вы примете все их рекомендации близко к сердцу. Затем воспользуйтесь их соучастием в опросе и создайте группу поддержки самой фокус-группы. Помните: никакое образовательное предприятие не полно без опроса. Боже, Чарли, это же азы управления образованием!
– Но вы считаете, они откликнутся на такой опрос?
– Конечно! В преподавательском составе здорово то, что у них есть мнение по любому вопросу. Хотя бы за это вам никогда не придется волноваться! Просто нужно дать им возможность выговориться.
Я так и сделал.
И до сего момента все это казалось достаточно осмысленным. Но теперь, оторвавшись от развивающейся дискуссии, я осознал, что на самом деле время пролетает мимо быстрее, чем я способен это постичь. Недели семестра приходят и уходят, и вот я снова в кафетерии с Уиллом Смиткоутом. Вот я средь влажных простыней сплелся с Бесси, в руке у меня по-прежнему пистолет Этел, в ушах пощелкивает маятник, а легкие мне заполняет запах гаультерового табака. Вот я создаю опросы, провожу их, затем суммирую итоги на раздельных каталожных карточках. Вот я терпеливо стою в книжном магазине колледжа или в очереди к буфету в кафетерии, или с Расти в музее Коровьего Мыка среди пыльных экспонатов – старых газет, бубенцов для скота, бесцветных фотографий индейского селения с его некогда кипучим народом, чья цивилизация ныне ушла под воду, – а время со все большей настойчивостью продолжает течь мимо меня. Дни, часы, недели обгоняют меня, как прибывающие воды, что собираются на сухой почве жизненного пути. И несмотря на мое формальное образование, несмотря на магистерскую степень по управлению образованием с упором на общинные колледжи на грани краха – и несмотря на новые кожаные туфли, которые я только что купил по новейшему каталогу «Сирза-Роубака», – только это я и мог, чтоб не отставать от Гуэн в долгих прогулках по эспланаде до кафетерия; от суровых нежностей Бесси в постели; от неотступной навязчивости аккредитационного органа и его планов навестить Коровий Мык в середине марта; и от Уилла и его саморазрушительного потребления сигар и бурбона за пустым столиком кафетерия под табличкой «НЕ КУРИТЬ».
– Сколько времени? – спросил я.
– Времени, Чарли?
– Да. Кто-нибудь может мне сказать время?
– Вы имеете в виду год? Или месяц? Или вы о дне недели?
– Нет, я о конкретном часе и конкретной минуте этого очень конкретного дня. Вы можете мне сообщить прямо сейчас точное время?
Уилл сверился с карманными золотыми часами.
Рауль глянул на цифровой калькулятор у себя на запястье.
Расти бросил взгляд на клепсидру у входа в музей.
А Бесси, подоткнув простыню под мышки, просто осоловело перекатилась и посмотрела на будильник, стоявший на тумбочке рядом с моей кроватью.
– Сколько времени? – взмолился я пред ними всеми.
– Почти два, Чарли, – ответили они.
– Два?
– Да.
– Два часа?!
– Да, два.
Я отпрянул.
– Черт побери! – пробормотал я. – Невероятно, что уже два часа! Мне же еще наблюдения занятий проводить – последние в этом семестре, – а я уже, похоже, опоздал на оба!..
И, не допив чай, я соскочил с кровати, накинул на себя рубашку, натянул вельветовые штаны и выбежал из кафетерия на длинную эспланаду в класс, глядящий окнами на самый крупный фонтан, где проводилось занятие по ораторскому искусству.
* * *
{…}
Для великого любовника времени не существует. Ибо что есть время, если ты влюблен? В объятьях возлюбленных время замирает. Вернее сказать – течет иначе: словно потоки, обегающие погруженный в воду валун; либо как неровный ток академического семестра – поначалу мягко, затем все с большей и большей настоятельностью – беспощадно вниз по течению, к утесу экзаменационной недели, к неотвратимому крещендо сотрясающего оргазма. Надежно связанное в объятиях возлюбленного, время – всего лишь докука, считаться с коей нужно лишь абстрактно: будто рядовой врачебный осмотр прямой кишки, откладываемый до тех пор, когда становится слишком поздно, либо настойчивый стук студента, не внемлющего часам приема, столь явно вывешенным на двери. Поймете поток воды, текущий с того места, что выше, в то, что ниже, – и вы поймете поток времени от прошлого к будущему, траекторию истории от надежды к устареванию, великое движение влаги от невежества к безразличию, а затем, в итоге, к поджидающей дельте любви. Как тело напрягается перед оргазмом, так и прохожденье времени содрогается и высвобождается, расширяясь и сокращаясь, словно импульсивные любовные мышцы человеческого тела. Управлять этими мышцами – непреходящее достижение всех великих любовников: точно так же человек всегда грезил о покоренье сотрясающих судорог времени.
Царства, на которые человеку удалось распространить свое влияние, варьируются от сущностно необходимых до произвольных; нет, похоже, такого природного процесса, что устоял бы против вмешательств человеческого каприза. Поскольку цель – удобство, честолюбивый разум человека сглаживал тяготы жизни и делал бытие более неизбежным. Человек приручил покорных бычьих и развел рукколу на огородных грядках. Вода, что раньше собиралась на больших расстояниях, теперь протекает по причудливой инфраструктуре всего в нескольких шагах от его жажды, как будто целью была сама вода, а не судьбоносный акт ее обретения.
Природе известно равновесие, а вот человеку, к вящей его досаде, – нет. Даже когда жизнь трудна, жестока и непостижима, у мира природы всегда отыщется способ все привести в согласие. Будут происходить потопы, пожары и засухи, но природа всегда позаботится, чтобы они не длились вечно. Лишь человек стремится к совершенству в абсолюте; и только он способен создавать горести, которые не уходят, последствия, от которых нет средства естественного происхождения. Здесь ненасытная тяга к ускорению вневременных траекторий его мира заводит его все дальше и дальше прочь. Погоня за пустыми удобствами подбивает его судить задним числом самую пищу, что он ест, воздух, которым он дышит, воду, что он пьет. Его безрассудное стремленье к результативности подвело его к запруживанью свободно текущих вод и изменению речных троп навсегда. Он рассек связи народов и их исторических родин и поспособствовал смерти некоторых языков, чтобы другие понимались лучше бóльшим количеством людей – пусть на них и не говорили бы с любовью. Во имя более результативной коммуникации он зачастую ускорял кончину языка. И во имя создания лучших условий жизни он, сам того не ведая, подверг опасности свойство, какое некогда имелось у жизни для собственного воспроизводства.
Но есть и такое, чем человек не способен управлять – самим потоком времени. Ибо время течет по собственному произволу. И как бы вы ни старались, вам не по силам ускорить ритмы природы. Восход солнца виден тогда, когда солнце восходит, а море и дальше будет склонно к приливам и отливам по своему собственному расписанию; существуют законы вечного дня, и есть законы несякнущей влаги – и они выстоят дольше самых стойких из нас. Ибо законы любви наверняка долговечнее законов человека. Как небесные времена вытерпят земной семестр. И река переживет плотину. И сон, как с ним это обычно бывает, в конечном итоге победит все остальное.
{…}
* * *
Когда я добрался до класса, в котором шло занятие по творческому письму, семинар был уже в полном разгаре. Восемь студентов сидели вокруг длинного стола заседаний, а хорошенькая юная авторесса читала вслух всей группе свой рассказ – не отрывая взгляда от напечатанной на машинке рукописи, едва повышая голос, чтобы перекрыть гул кондиционера воздуха, – и остальные семеро студентов сидели с раскрытыми собственными экземплярами перед собой, внимательно слушая. Видя, как я вхожу в класс, преподаватель творческого письма жестом показал на длинный стол для заседаний, и я поспешил занять последнее остававшееся место на противоположном конце, лицом к нему.
– Это Чарли, – сказал преподаватель, показывая через стол. – Ну, помните, я рассказывал вам о нем на прошлой неделе – он много всего разного, но ничто не целиком. Он здесь, чтобы пронаблюдать мой чарующий стиль преподавания. Поэтому сегодня Чарли будет присутствовать у нас на семинаре. Пожалуйста, не бойтесь его и не робейте от того, что он слушает обсуждение ваших рассказов, – вообще-то он просто-напросто образованческий управленец, а потому никак не связан с творческим процессом. Можете относиться к нему, как к любому навязчивому бюрократу и представителю ведомственной иерархии и угнетения. Или просто делайте то же, что намерен делать и я: не обращайте на него внимания, как будто его здесь нет совсем… – Учитель передал мне экземпляр рукописи, чтобы я тоже мог следить за обсуждением. Затем повернулся к хорошенькой девушке, которая читала рукопись, когда я вошел: – Извините, Мод. Продолжайте, пожалуйста…
Девушка снова уперлась взглядом в рукопись и продолжала читать.
Семинар проводился в небольшом классе с одной грифельной доской, которая после половины семестра использования уже вся покрылась мелом и посерела. Кусочки мела, что были некогда маяками на холме, теперь превратились в простые огрызки размером с едва мерцающую свечку. От кондиционирования воздуха все в классе казалось сухим, холодным и хрупким, словно озноб, в который ввергает бессодержательная проза.
Пока Мод читала свой рассказ, я обратил особое внимание на ее однокашников за столом. Несмотря на то что все они хотели стать писателями, никого, казалось, сам читаемый рассказ толком не интересовал; они то и дело задремывали, зевали или хихикали от неожиданного речевого оборота, что вдруг возникал в декламации Мод: «Пот на брови Элисон, – читала Мод, – был сух и солон, как слеза очень печального полицейского». И затем: «Услышав это, Тиффэни щелкнула жевательной резинкой и объявила: «Ага, ну а мой двоюродный однажды ходил на свидания с мулаткой!» Сам преподаватель был худ, с курчавыми волосами и самоуверенным видом – в точности такая личность, какой восхищаются впечатлительные натуры. Голос его звучал уверенно и динамично, как будто сам он уж точно написал целую полку романов-бестселлеров – или хотя бы одну значительную работу, но, тем не менее, ни того, ни другого в данном случае не произошло. Однако что-то в его манерах вынуждало за ним наблюдать – и я теперь понимал, что именно эта черта помогла ему стать столь популярной и завораживающей персоной для его студентов.
Мод читала быстро и целеустремленно, а когда дошла до конца рассказа, учитель несколько долгих мгновений помолчал, словно бы отдавая должное тому, что было произнесено только что. Затем оторвал взгляд от рукописи.
– Так, – сказал он. И потом еще раз: – Так. Большое спасибо. Большое вам спасибо, Мод, за то, что прочли нам свой рассказ. Всегда полезно слышать, как творческое произведение читает сам автор. Я думаю, оральное переживание, так сказать, сообщает читателям рассказа гораздо большую глубину проникновения в намерения этого произведения. У меня теперь такое чувство, что я познакомился с вашим рассказом гораздо более интимно. У меня чувство, что и вас я знаю гораздо интимнее. Поэтому – спасибо.
Мод робко улыбнулась.
Учитель подмигнул ей в ответ, затем продолжил:
– Итак, теперь, когда мы услышали этот рассказ из уст его юного автора, давайте приступим к обсуждению – с того, что скажем ей, что́ нам в рассказе понравилось, а? Что, по вашему мнению, в рассказе Мод удалось? Каковы его сильные стороны? Что делает этот рассказ значимым вкладом в огромный корпус существующей литературы?
Тишина в классе была пронизывающей и неудобной. Никто не осмеливался на ответ. Учитель ждал. Но никто все равно не заговорил.
– Ну что же вы, а! – сказал учитель. – Давайте пощедрей. Не забывайте, довольно скоро мы будем обсуждать ваши рассказы!..
Повисло еще одно длительное – и еще более неловкое – молчание, поскольку ни один одноклассник не осмеливался начать обсуждение. Наконец заговорил молодой человек в очках-пенсне и черной водолазке.
– Ну, – произнес он, поправляя на носу очки, – мне показалось, что название – просто фантастика.
Вокруг стола пробежал ропот согласия. Мод вспыхнула.
– В твоем названии поистине запечатлена сама суть рассказа, и оно подготовило сцену к тому, что последует. Умница, Мод.
– Да, – сказал вдруг осмелевший студент, сидевший напротив. – А мне очень понравилось, как ты использовала творческую нумерацию страниц, чтобы выгодно представить свой рассказ. Поля увеличенной ширины и пробелы вокруг твоего текста действительно подчеркивают прозу и дают ей засиять.
– Верно! – сказала девушка, сидевшая рядом с Мод: казалось, она из того же взвода чирлидеров. – И как ты воспользовалась ультрареалистичным диалогом – это просто, типа, супервпечатляет. Я в смысле, типа, я чуть ли не слышала, как эти голоса со мной разговаривают. Это было, как, типа, я, ну, знаешь, сама там с двумя главными героями в этой, как ее, прачечной-автомате…
– Я тоже! – добавил другой студент. – И твое описание влажной одежды, болтающейся в сушилке, производит просто неизгладимое впечатление. У меня от него точно осталось ощущение, как сушилка на самом деле крутится и крутится и крутится и крутится и крутится и крутится и крутится и крутится и крутится и крутится…
– Ага! – согласился еще один студент, довольно категорически: – И крутится!
В ответ на все это чарующий преподаватель кивал, выражая одобрение. Затем произнес:
– Ладно. Итак, я думаю, все мы можем согласиться, что в рассказе Мод многое нам нравится. Но что с персонажами? Сочли ли вы их убедительными? Способны ли вы с ними отождествляться? Понравились ли вам главные герои? Округло ли они очерчены и многомерны ли они? Отзывались ли они в вас чувствами? Не подмечали ли вы в их решениях частички самих себя? Не прозревали ли собственное будущее в их бореньях? Не вспыхивала ли у вас от них искра смутных воспоминаний о предыдущих прожитых жизнях?
– О, да! – ответили студенты.
– Правда?
– Да. И весьма.
Учитель подождал разъяснений. Но тех не последовало. За окном класса было слышно, как прохлаждаются далекие пеликаны. Солнце по-прежнему сияло над зеленью. Крякала утка. Наконец учитель нарушил молчанье:
– Великолепно. Я рад, что мы пришли к общему мнению. – Он заглянул в свои конспекты. – Итак, мы обсудили многие сильные стороны этого рассказа, теперь давайте поговорим о том немногом, над чем, возможно, Мод захочется подумать еще при работе над последующими версиями. Это, как мы склонны их теперь называть, те возможности, что предоставляет рассказ. И особая просьба отметить, что я не называю эти «возможности» слабостями. Поскольку, разумеется, мы вовсе не имеем в виду сказать, что все, написанное тут Мод, слабо, – иными словами, что оно не хуже и не лучше чего угодно, когда-либо сочиненного каким угодно творческим существом. Делясь своими мыслями с Мод, следовательно, мы просто еще раз подтверждаем, что у нас имеются собственные мнения о ее произведении и что для Мод как писателя услышать эти мнения может оказаться полезно для совершенствования ее работы. Но она, само собой, вне сомнений располагает полным неотторжимым правом принять эти мнения близко к сердцу – или не обратить на них внимания, как сочтет нужным. В итоге результат, как ни верти, окажется примерно одинаковым. Верно?
Студенты кивнули.
– Здорово. Так что вы скажете? Какие замечания вам бы хотелось высказать о возможностях, представленных рассказом Мод? Как можно его улучшить ради грядущих поколений?
– Ну, в общем! – раздался голос – довольно внезапно и немедленно. Удивленные студенты заозирались и увидели, что на вопрос отвечает сама Мод. – Должна признаться, писала я это вчера поздно вечером, и на редактуру времени у меня почти не было. Оттого и некоторые опечатки. И я, конечно, считаю, что совершенно точно могла бы лучше разработать сцену складывания носков…
– Мод!
Учитель укоризненно воздел палец.
– Мод! – упрекнул он. – Вы нарушаете краеугольное правило литературного семинарства! Вы сами не должны говорить, когда говорят о вас! Помните, ваше произведение должно стоять на своих ногах. Вас не будет с читателем в постели, когда он возьмется за ваше произведение, – ну или крайне маловероятно, что вы окажетесь в постели с этим читателем. Поэтому какие бы грандиозные намерения вы ни вкладывали в этот рассказ, они должны быть очевидны из самого текста. У вас был шанс выбрать те слова, с какими ваш читатель ляжет в постель. Поэтому теперь вы должны сидеть тихо и безымянно, туго сжав под столом коленки, вот как сейчас, либо слегка их разведя, как они были несколько мгновений назад, и принимать вербальное разоблачение, каковое наверняка воспоследует. И, разумеется, принимать это разоблачение вы должны молча и алчно, как и подобает зрелой женщине, каковая вы, судя по всему, вот уже некоторое время и есть…
Мод извинилась и вновь уткнулась взглядом в свою рукопись, словно виновная в совершении смертного греха – первейшего греха литературного семинарства.
Тут дискуссия сдвинулась с мертвой точки.
– Что касается меня, – сказал один одноклассник Мод, – я просто на самом деле почувствовал как бы, что отношения между рассказчицей и бездомным человеком в прачечной-автомате неубедительны. Мне показалось, что диалог вымучен, а сцена секса определенно оставила меня несколько неудовлетворенным – я бы хотел, чтобы у автора диапазон интимных переживаний, откуда можно черпать, был пошире и несколько более возвышен, нежели нижняя койка мужского общежития, где мне довелось с нею встретиться вчера вечером.
Студенты за столом согласно закивали.
– В смысле, мне бы хотелось, чтобы сцена между двумя главными героями проявляла немного больше – ох, как бы тут получше выразиться? – романтики, наверное, можно ее назвать.
– Ладно. Вы романтик. Принято к сведению. Кто-нибудь еще?
Молодой человек в пенсне поднял со всей серьезностью руку.
– Я просто хочу сказать, что мне рассказ очень понравился. На самом деле я считаю, что это просто фантастика. Отличное литературное произведение. Жанровое мастерство. Если существует такой жанр, как «художественная литература прачечной-автомата» – а я теперь убежден, что он должен существовать! – эта работа уж точно способна повести его в новых направлениях. Однако, с другой стороны, если бы мне пришлось придираться, выискивать в тексте то, что в нем можно улучшить, я бы сказал, что многие уроки, выученные нами в этом классе за последние месяцы, здесь применимы. Многое, чему вы научили нас в своем неподражаемом и поистине завораживающем стиле, – полезные рекомендации, рекомендательные формулировки и нормативные условности, опрятные трюизмы – все это по большинству вполне применимо к этому рассказу, который Мод написала вчера поздно вечером после краткого пребывания в мужском общежитии и на чтение которого только что потратила последние двадцать семь минут нашей жизни.
– Не могли бы вы поконкретнее? – подтолкнул его учитель.
– Ну, если конкретнее, то двадцать семь с половиной минут. Почти двадцать восемь…
– Нет, я имел в виду возможности. Не могли бы вы изложить поконкретнее, какие возможности предлагает этот рассказ?
Молодой человек в пенсне откашлялся. Затем сказал:
– Разумеется. Я в смысле – давайте начнем с персонажей. Они преимущественно одномерны и плоски. Даже карикатурны. У них нет честолюбивых устремлений, а их мотивы трудно проследить или как-то сочувствовать им. Стилистически персонажи ее не говорят собственными уникальными голосами, а выражаются чем-то вроде общего голоса, который не столько их собственный… сколько Мод – и от этого их почти невозможно отличить друг от друга. По всему тексту абзацы у нее длинны и трудны для понимания. Сюжетные линии коротки и рваны. Обещания даются, но не выполняются. Изобилует сумбур. Это все не вполне действенно, поскольку, как вы нам столько раз подчеркивали за последние несколько месяцев, писатель не должен сбивать с толку своего читателя. Ему следует предпринимать соответствующие шаги для того, чтобы помочь читателю неподготовленному, – так пастушья собака загоняет бычьих в заданную точку прибытия. Сюжет, следовательно, должен быть прямолинеен и обоснован. Мотивы персонажей – логичны и разумны. Необязательные слова следует выполоть так, чтобы текст читался, как жилистый и мускулистый кусок результативной прозы с весьма незначительными мраморными прожилками жира. Я помню, как вы однажды говорили нам, что если предложение содержит десять слов, но его можно составить из девяти… то вместо этого надо взять восемь. Вы нам говорили, что не следует употреблять непрошеную пунктуацию, вроде восклицательных знаков, которая отвлекает от текста, – что сам диалог должен быть настолько выразителен, чтобы в нем содержались собственные восклицания. Воистину так! А заодно вы предоставили нам столько ясных и убедительных правил производства хороших литературных произведений, что почти непостижимо, чтобы мы могли когда-либо извергнуть из себя нечто худшего качества. Вы говорили нам, что современная художественная литература должна быть реалистичной и недосказанной – не броской, – и что письмо наше не должно привлекать к себе недолжного внимания. Вы напоминали нам, что диалог должен быть правдоподобен. Что нам следует постоянно спрашивать себя: «А так ли действительно говорят люди?» И что по этой причине мы должны ограничивать произносимые высказывания наших персонажей к гортанным изречениям и односложным восклицаниям не по годам развитых третьеклассников. Вы говорили нам, что в современной художественной литературе нет места философии – что наши идеи и личные повестки дня нужно отсекать, как мошонку у трехмесячного теленка. И, разумеется, вы часто требовали, что нам всегда следует – как же вы там выражались? – ох, постойте, дайте я сверюсь со своими конспектами – ах да, вы говорите, что нам следует… показывать, а не рассказывать. Это, утверждаете вы, потому, что нагое тело, скорее показанное, всегда будет более чувственным и возбуждающим, нежели то же самое тело, описанное вашим соседом по мужскому общежитию после вечеринки. Вы напоминали нам вековой совет: если в начале рассказа вводится ружье, к концу ему абсолютно следует выстрелить; а иначе ружья там быть вообще не должно. Но самое важное, и это я запомню навсегда, дорогой учитель, – и за это я всегда буду вам благодарен: за весь этот долгий семестр вы неоднократно подчеркивали значение конфликта в нашей жизни. В сердцевине любого рассказа, учили вы нас, должен быть ясно очерченный конфликт. Или, цитируя вас непосредственно: «Конфликт есть влага, несущая жизнь жаждущей, иссохшей почве самого неплодородного воображения!» …Это прекрасно, ей-богу, просто прекрасно!..
Преподаватель слушал изложение своих представлений завороженно. Молодой человек умолк, чтобы подоткнуть очки, соскользнувшие у него вдоль переносицы. После чего продолжил:
– Так что видите, профессор, все эти соображения можно отыскать в рассказе Мод. И потому, боюсь, возможности для нее как автора тут поистине велики…
Отсюда обсуждение двинулось вокруг стола, и каждый студент высказывал конкретные советы, как Мод сделать свой рассказ более вневременным и убедительным. Как ей следует больше показывать и меньше рассказывать. Как она бы могла исправить кое-что в небрежной орфографии, отчего чтение стало бы не таким ухабистым. Как шерстяной носок, представленный в начале рассказа, попросту должен быть больше использован к тому времени, как рассказ завершится. Как именно следует нагляднее обрисовать сцены. Как у ее персонажей во время секса должно гораздо больше всего от него зависеть. И, конечно же, как ей бы, вероятно, не помешало убавить противоречивую тенденциозность изложения в пользу межвидового скрещивания и в то же время усилить истинный конфликт рассказа.
– А каков же этот конфликт? – подсказал учитель.
– Для меня, – отозвался один студент, листая свой экземпляр, – основной конфликт – между девушкой и негроидом. Могут ли они обрести истинное счастье в этой прачечной-автомате, несмотря на вихрящиеся в их обществе предубеждения.
– В то время как для меня, – ответил другой, – он в том, успеет ли одежда полностью просушиться прежде, чем истечет цикл монетоприемника.
– Это история искупления, – предположил третий.
– Исследование наших глубочайших страхов, – сказал четвертый.
– Литературный разъезд, где прошлое встречается с настоящим.
– Человек против машины.
– Надежда вопреки всему.
– Вечность, противопоставленная временности.
– Я думаю, конфликт начинается на странице восемь, когда она столь соблазнительно задирает юбку над пупком, – наконец заключил молодой человек, сидевший справа от меня, – и завершается на странице тринадцать, когда она опускает ту же юбку обратно.
– Становится ли у нас тут теплее? – спросил учитель.
– Да! – ответила Мод. – Вы ткнули пальцами в самую точку!
– Здорово, – сказал преподаватель. – Стало быть, похоже, все вы получаете пятерки за проницательные наблюдения и анализ.
Вокруг стола последовал раунд поздравительных рукопожатий и похлопываний по спинам. Преподаватель дождался, когда он утихнет. Затем продолжил:
– А теперь ко всему, что вы только что сказали, мне бы хотелось добавить, что Мод с этим рассказом проделала просто фантастическую работу. На самом деле, я истинно верю, что его чуть еще отполировать – с особым упором на сцену секса в прачечной-автомате между бездомным негроидом и прелестной студенткой в розовом костюме чирлидера, – и этот рассказ можно будет считать чем-то весьма близким к достойному публикации.
Студенты за столом ахнули.
– К публикации?! – переспросила Мод.
– Да, к публикации. Что есть, разумеется, высочайшая похвала, какой можно оделить произведение семинарской художественной литературы. Ваш рассказ еще не достиг пока цели, Мод. Но он очень от нее близок. Вы, на самом деле, очень близки. Всего в нескольких кратких вздохах, вообще-то. В нескольких хорошо соразмеренных движениях в нужном направлении. Вы на самой грани чего-то такого, от чего пробивает дрожь. Но нам лишь следует поработать над этой одной сценой. Поэтому зайдите ко мне, пожалуйста, после занятий, и мы с вами это обсудим подробнее…
На сем Бесси швырнула на стол вилку.
– Вот сволочь!
Бифштексовая котлета у нее на тарелке была суха и не доедена.
– Этому сукину сыну лучше ее не трогать! Это моя племянница, Чарли. И если он к ней даже близко подойдет, я его яйца на тарелочку выложу!
– Мод – твоя племянница?
– Дочка моего брата. Я с нею нянчилась с тех пор, как она еще в пеленках была. Смотрела, как она растет каждое лето, когда вся семья собиралась у реки. Она мне как родная плоть и кровь. Я возила ее в детский садик в первый день. Я учила ее плавать. Я была с нею, когда у нее случились первые месячные. Черт, да кто, по-твоему, купил ей самую первую упаковку резинок в ее жизни?! И теперь этот честолюбивый начинающий писатель – да что он вообще написал? – этот парень теперь хочет, чтобы она что-то там полировала? Да только через мой труп! Должно быть, он думает, что мы ему по праву рождения принадлежим. Что просто потому, что мы из Коровьего Мыка, Мод станет еще одной подпоркой у него в витрине с трофеями. Он, вероятно, уверен, что это честная мена: ее священный треугольник на его профессорское обаянье. Словно дешевого поклонения студентов ему недостаточно!..
У Бесси ушло несколько минут на то, чтобы успокоиться. И когда это наконец удалось, я открыл ей еще одну банку пива, дав слово, что при оценке занятия учту ее озабоченность.
– Что хорошего это даст?
– Может, и ничего. Но хотя бы позволит администрации понять, что существует реальная озабоченность тем, что чарующий преподаватель творческого письма – которому, по случаю, скоро подавать документы на зачисление в штат, – использует свою властную позицию для неуместного поощрения нереалистичных литературных амбиций и непрошеных представлений о собственной значимости у своих студентов. И что делает он это не столько во имя поддержки нашей ведомственной миссии, сколько ради оглаживания собственного раздутого и пульсирующего ощущенья личного права.
– Можешь делать что хочешь. Пиши свой отчетик. Подписывай его. Подавай его туда, куда такое подается. Все это прекрасно и здорово. А мы имеем свои способы разбираться с такими людьми…
– Мы?
– Да, мы.
И, ничего больше не объясняя, Бесси вонзила вилку в бифштекс у себя на тарелке и одним-единственным взмахом ножа отрезала кусок, который поместился бы ей в рот.
* * *
В следующий понедельник преподаватель творческого письма протопал вверх по лестнице административного корпуса, мимо стола Бесси, где она печатала с деловым видом, и, даже учтиво не постучав, ворвался ко мне в кабинет.
– Это ваше? – сказал он и швырнул мне на стол пластиковый пакетик на застежке. В пакетике содержалась жуткая пакость – мешанина волос, крови и мяса – и воняла она тухло и гнилостно.
– Я не понимаю, о чем вы…
– Вы мне это хватит. Это оказалось у меня в почтовом ящике. Кто-то ее там оставил на все выходные…
– Я честно не знаю, о чем вы говорите!..
Преподаватель творческого письма зыркнул на меня таким взглядом, какой выдавал злобные намерения. Огорченно скрючив лицо, он прорычал сквозь зубы:
– Я не виноват, что вы разведены. И не виноват в том, что я – чарующий учитель творческого письма, а вы приняли решение удовольствоваться жизнью образованческого управленца. Очевидно, будь я на вашем месте, я б точно так же завидовал моему таланту, как вы. Но это не оправдывает.
– Чего не оправдывает?
– Сами, к черту, знаете, чего.
– Нет, не знаю!
– Не лезьте ко мне, уродец.
Преподаватель нацелился к выходу. Но затем вдруг опять развернулся, посмотрел на меня за столом и, прострив долгий палец в мою сторону, произнес вот что:
– Не выебывайтесь со мной, приятель, – я из Колорадо!
После чего отвернулся и вышел.
Несколько секунд я наблюдал, как его тень удаляется по коридору. Затем взял застегнутый пакетик со вздутой мошонкой, запечатал его там, где он подтекал, и швырнул его в урну снаружи у дверей моего кабинета.
– Рауль, – сказал я на следующее утро у питьевого фонтанчика. – По-моему, мне требуется помощь.
– С фокус-группой? В смысле, вы по-прежнему пытаетесь собрать всех в одной комнате?
– Нет, мне кажется, этого я наконец добился – заседание назначено на завтра. И спасибо за совет насчет опросов – это действительно помогло! Но нет, на самом деле я хотел просить у вас совета насчет Бесси. Видите ли, она начала проявлять склонность к насилию, и это начинает меня тревожить. Помните, я рассказывал вам о ее прошлом? Так вот, похоже, оно приносит плоды…
Тут я рассказал Раулю об инциденте с учителем творческого письма. И о разногласиях, что начались у нас с Бесси у меня в квартире. И как я однажды застал ее с очень наточенным ножом у меня на кухне – она проверяла пальцем его остроту после особенно вздорной ссоры.
– Вы с ней по-прежнему ссоритесь? О чем на этот раз?
– Она выяснила, что я подписал петицию за введение электрических пишущих машинок. Наверное, почувствовала, что ее предали. Рауль, мне кажется, все это закончится плохо.
Рауль прикусил губу, как бы размышляя над особо каверзной задачей упреждающего анализа. Затем покачал головой.
– Попробуйте об этом не думать, Чарли, – сказал он. – В конечном счете вероятность встречи двух людей и того, что они отыщут друг друга в этом мире, в принципе настолько незначительна, что не стоит слишком уж бояться, если встреча их завершится бесславно. Распад есть начало и конец всего. Какую бы дорогу вы ни выбрали, она в итоге все равно приведет к асфальту.
– К асфальту?
– Да, к асфальту. Поэтому просто наслаждайтесь чем можете в этом своем опыте, а все прочее оставьте на потом. И кроме того, мне только что сказали, что рождественская вечеринка – под серьезным сомнением: и Гуэн, и Расти ее бойкотируют, поэтому вот на что должны быть направлены все ваши энергии.
– Где вы это услышали?
– В машбюро. А если это поступает от секретарш, копирующих документы, ясно же, что наверняка это правда. А если это правда, то у вас есть гораздо более серьезные поводы для беспокойства, нежели действительно ли Бесси думала о вас, когда возила пальцем по тому очень наточенному ножу…
– Вероятно, вы правы, – сказал я. – Спасибо, Рауль.
– Не за что.
И он ушел со своим стаканчиком из вощеной бумаги.
Поглядев на часы над кулером, я увидел, что уже начало третьего. Мне вдруг пришло в голову, что я снова потерял счет времени. Я опаздывал на следующее наблюдение занятия. Опять. Сколько же раз мне совершать одну и ту же ошибку? Сколько раз оказываться в этом нескончаемом колесе времени?
И с этим я собрал свои заметки и поспешил вниз по лестнице и на эспланаду.
* * *
– Так вот, – говорил Расти, когда я чуть позже тем же днем вошел в кабинет зоотехнии, – это серьезно неверное представление. На самом деле у коровы нет четырех желудков – желудок у нее скорее один, но с четырьмя отделами… – Увидев меня, Расти умолк и прервался, а я извинился за опоздание и быстро нашел себе место в глубине лекционного зала; студенты впереди оглядывали меня, пока я шел к нему, без всякого интереса, а затем возвращались к своим конспектам. – Вот именно, – продолжил Расти, когда я уселся. – В желудке жвачного четыре отдела, позволяющие бычьему преобразовывать добытый корм в полезную энергию. Эти четыре отдела, грубо говоря, соответствуют стадиям материального и интеллектуального пищеварения, и сегодня мы о них узнаем. Записывайте тщательно, поскольку – отвечая на ваш вопрос еще до того, как он задан… да, это будет в контрольной!..
Тут Расти прилепил к грифельной доске в голове зала ламинированный плакат:
– И вот, если посмотрите на эту схему, увидите, что первый отдел желудка жвачных – рубец…
(Инстинктивно я тоже начал записывать. Даже написал «рубец» у себя в блокноте, но потом перечеркнул и написал поверх вместе с датой, временем, номером курса и «Стоукс: лекция о системе пищеварения жвачных».)
Расти продолжал:
– Рубец – первый и самый крупный отдел коровьего желудка, куда поступает грубая пища. Когда корова жует траву или сено, она отправляет материал по пищеводу к рубцу практически нетронутым. Поначалу жевания происходит не очень много. И потому проглоченный корм начинает здесь перевариваться в процессе бактериальной ферментации, который начинает расщеплять пищу. На этой стадии пищевое сырье – еще в сравнительно крупных кусках и не готово к полному поглощению организмом бычьего. В практическом смысле эта фаза пищеварительного процесса аналогична самым первым размышлениям о новаторской идее. Точно так же, как неразборчивое человеческое животное пасется в громадной прерии идей, простая корова, щиплющая травку, проглатывает в равных количествах и сочные травы, и жесткую волокнистую солому. Она также порой может проглотить и другие, менее полезные предметы, вроде гвоздей, проволоки, или даже случайные металлические детали сельскохозяйственного оборудования, или же иные новшества, изготовленные человеком и проникнутые высокой концентрацией изобретательности. И вот так после минимального жевания полезный материал проходит ниже, к дальнейшему пищеварению. Именно в рубце пищевое сырье впервые расщепляется и без особого дополнительного впитывания перемещается к следующей ступени процесса – пищеварению, которое происходит в сетке…
Расти шлепнул измерительной линейкой по схеме, на которой была нарисована сетка.
– …Итак, сетку еще иногда называют шляпкой или сотами, и ее функция – принять то, что передается в нее из рубца и расщепить еще сильнее. Здесь формируется жвачка, также называемая пищевым комком. Здесь частично переваренная пища спрессовывается в небольшие частицы и через рубец отправляется обратно в рот. Это позволяет корове жевать и пережевывать ту пищу, которую она потребила. Как проверочная комиссия, рассматривающая предложенное нововведение, которая отправляет предложение обратно соискателю для дальнейшей доработки, сетка дает возможность бычьему еще раз обработать жвачку и еще сильнее ее расщепить. Дважды пережеванный материал после этого может размалываться еще мельче и отправляться обратно в сетку для дальнейшего рассмотрения, и этот процесс жевания и пережевывания может повторяться множество раз, снова и снова: взад и вперед между ртом и желудком, соискатель и проверщик, идеалист и прагматик. Сетка также – то место, где часто отлавливаются инородные предметы, проглоченные коровой; там они и остаются на весь остаток коровьей жизни…
Расти умолк.
– Кому-нибудь из вас нравятся потроха? – спросил он.
Почти все студенты подняли руки.
– Вот это вы и едите! Мы называем это потроха, а на самом деле это следует называть рагу из сетки…
Студенты засмеялись.
– …Сокращения рубца и сетки проталкивают более мелкие частицы пищи в следующую камеру желудка, которая называется книжкой…
Расти показал линейкой на книжку у себя на схеме.
– Книжка, – пояснил он, – это следующий отдел. Еще его иногда называют «библией», и он функционирует как фильтр перед последней камерой. Он состоит из множества лиственных складок и напоминает книгу…
Тут поднялась рука.
– Да? – произнес Расти.
– Доктор Стоукс? – интересовался студент. – Вы сказали, что книжка напоминает книгу и что ее называют «библией»?
– Верно.
– Это совпадение?
– Разумеется, нет. В природе не бывает простых совпадений. Фактически книжка называется книжкой потому, что ее устройство похоже на страницы книги. Обласканный критикой томик поэзии, быть может. Или действительно Священную Книгу. Вообразите, как листаете страницы в поисках некой цитаты из Луки. Или отчаянно стараетесь найти американского поэта в полной антологии мировой литературы. Вот это и происходит регулярно в коровьем желудке. Складки образованы так, что более мелкие частицы проходят дальше, а все, что слишком крупно, оправляется обратно в сетку, чтобы процесс повторился снова…
– Снова?
– Да, снова. Вас, похоже, это удивляет? Полагаю, вы думали, будто окажется легко добиться одобрения какого-либо нововведения общинным колледжем? Что любая новая мысль достойна сама по себе? Ну, это явно не так. И потому, если материал не готов для пищеварения, он вновь получит от ворот поворот. Но если пища достаточно расщепилась, то она может перейти в следующий, последний отдел, называемый сычугом. Это последняя камера желудка, она еще называется «истинным желудком», поскольку функционирует образом, сходным с желудками других млекопитающих, включая сюда и человеческие. Кислота и желудочные ферменты расщепляют пищу еще полнее и отправляют ее дальше, в тонкую кишку.
– А потом?
– Ну а потом из сычуга она поступает в тонкую кишку, а уже оттуда в виде питательных веществ идет в кровоток или выводится в виде мочи или фекалий. Весь процесс занимает довольно длительное время, однако он так же беспощаден, как торжествующая поступь прогресса. Но учтите, что из первоначально потребленной пищи лишь небольшая в процентном отношении доля для коровы благоприятна. Остальное задерживается в книжке либо исторгается в виде мочи или коровьих пирожков, оставляемых бычьим, которые наша кафедра зоотехнии предоставляет каждый март кафедре математики.
– Так вы считаете, это плохо? – уточнил студент-скептик. Мальчик этот сидел в первом ряду и бодро все записывал.
– Нет, само по себе это не плохо. Поскольку если бы преподаватели математики не швырялись этими коровьими пирожками, им бы пришлось искать себе для поклонения какие-нибудь другие пироги…
– Нет, я не об этом, доктор Стоукс. Я имею в виду то, что вы сказали ранее. О потреблении идей. Вы утверждаете, что корове не следует есть свежую траву лишь потому, что лишь малая доля того, что она ест, на самом деле преобразуется в полезные питательные вещества, которые поглощаются кровотоком? Вы намекаете, что более зеленые пастбища не значимы для развития человечества? Что история цивилизации не есть история исхода и открытия? А если так, то утверждаете ли вы, что у штатного преподавательского состава нет обязанности выдвигать новаторские идеи лишь из-за того, что они применимы в общинном колледже?
– Конечно же, нет, – сказал Расти. – Это совершенно не то, что я говорил. Корове нужно питаться. И питаться она будет. Человеческому разуму нужны нововведения. И он будет нововводить. Это такой же факт жизни, как потребность математиков швыряться пирожками четырнадцатого марта. Это понятно. Но никогда не забывайте, что наша работа как образованных граждан мира – и это станет вашей обязанностью как образованных в колледже студентов зоотехнии – обеспечить, чтобы при сем благородном деянье пастьбы корове пришлось бы проглатывать как можно меньше гвоздей. И чтобы при сем благородном деянье поклонения математике – чтобы в беспорядочном акте швырянья пирожками – невинным зевакам не доставалось больше дерьма, нежели уместно.
– А уместно – это сколько?
– Это, – сказал Расти, – вопрос, который лучше оставить на долю нашего ведомственного научного работника…
Юноша покачал головой и что-то пометил у себя в тетрадке.
Расти положил линейку на стол перед собой.
– И вот так, – заключил он, – работает коровий желудок. Подведем итог… сегодня вы узнали, как пища, которую ест корова, путешествует от колоды в углу загона ко рту коровы, через пищевод в сеткорубец – затем много раз взад и вперед – и наконец через книжку и сычуг в тонкую кишку, толстую кишку и выводится наружу через прямую кишку…
– Прямую кишку!
В зале возник подростковый смешок.
– А потом?
– А потом валяется на земле в виде коровьих пирожков, которые собираются и швыряются преподавательским составом кафедры математики каждое четырнадцатое мая…
– А потом?
– А потом как минимум одно упоминание об этом роде деятельности включается в их личное дело, подаваемое для зачисления в штат. Преподавателям предоставляются штатные должности, чтобы они могли продолжать преподавание своего любимого предмета подающим надежды студентам. Студенты затем используют преподанное им знание для успешного завершения занятий по математике, получения степеней, выпуска из высшего учебного заведения и перехода в окружающий мир, чтобы стать богобоязненными, налогоплатящими гражданами, зачастую – в других штатах союза, располагающихся очень, очень далеко от Разъезда Коровий Мык. Таким манером наш городок теряет свою душу – утрачивая свою молодежь, – и так вот диаспора обучения поддерживается тысячелетиями. А подумать только – все начинается с четырех вневременных камер простого коровьего желудка!..
– А потом, доктор Стоукс?!
– А потом?
– Да, что потом?..
– Ну, а потом она взяла мою ладонь и положила себе на живот – туда, где шрам…
– Шрам?
– Операция проходила трудно, Чарли. После этого она уже никогда не была прежней…
Я кивнул.
Тем вечером я спросил у Бесси, что все это значит.
– Ты имеешь в виду прохождение питательных веществ от рубца к сычугу? Или ты о роли желудка жвачных в ненасытном круговороте человеческих нововведений?
– Ни о том, ни о другом. Я имел в виду жену Уилла. Он о ней все время говорит. Давно ли она скончалась?
– Примерно тогда же, когда я заняла свою нынешнюю должность. Стало быть, около двух лет назад.
– Он, похоже, по ней очень скучает.
– Скучает.
Я взял в рот еще один кусок рагу.
– Печально, – сказал я.
– Так всегда, – согласилась она. – Но это еще и неизбежно. Они были женаты тридцать восемь лет, знаешь.
Я снова кивнул.
– Ты кого-нибудь так любила? – спросил я.
– Никогда.
– А как считаешь – сможешь когда-нибудь?
– Сомневаюсь. – Бесси замерла, рассматривая мой вопрос поглубже. Затем сказала: – Вообще-то нет. Не настолько…
– Ты хотя бы честна, – заключил я. – По крайней мере, свои пределы знаешь.
И без аппетита я положил в рот последний кусок потроха, вытер рот салфеткой и вернулся к себе в кабинет писать оценку занятия по ораторскому искусству, которое только что пронаблюдал.
* * *
Когда я на следующий день вернулся в кафетерий, Уилл Смиткоут по-прежнему сидел за своим столиком, словно никуда и не уходил. У него над головой все так же висело облако дыма, частично затмевая табличку «НЕ КУРИТЬ».
– Здрасьте, мистер Смиткоут. Вы здесь со вчерашнего дня?
– Можно сказать и так. Хотя более верная оценка скорее такова: я здесь последние тридцать лет.
Уилл выдул еще одну тучку дыма, занявшую место предыдущей.
– Тридцать лет – долгий срок, – сказал я.
– Так и есть. Однако тридцать лет или пять – и то, и другое меньше тридцати восьми.
Я кивнул.
– А вы, Чарли? Как ваши наблюдения в классах? Вы кажетесь даже еще более усталым, чем вчера за обедом.
– Это потому, что я устал. Я не сплю с тех пор, как начался семестр. И с каждым проходящим днем устаю все больше и больше.
– Это видно…
– Теряю способность сосредоточиться.
– Это я слышал.
– Наблюдение на занятии по творческому письму прошло достаточно неплохо. Интересно было видеть и занятие по ораторскому искусству. А Расти, как обычно, весь горел своими теориями жвачности. Но вчера мне выпал особенно скверный вечер.
– Хуже обычного?
– О да. Вчера вечером преподаватели математики просто превзошли самих себя. Должно быть, у них случился какой-то математический праздник. Знаете, один из тех дней календаря, что соответствуют священному числу. Должно быть, произошло что-то исключительное, потому что они вышибли все пробки.
И тут я рассказал Уиллу о том, как преподаватели математики не давали мне спать всю ночь щелчками хлыстов, напругой кроватных пружин и, похоже, ревом живого кугуара.
– Они как будто никогда не прекратят! – воскликнул я.
– Это не удивительно, – сказал Уилл. – Среди крупных кошачьих математика – самая упорная. Никогда не дождешься, покуда она насытится. Или покуда у нее проснется совесть. Совести у нее нету.
– Быть может. Но вчера ночью я решил, что с меня хватит. Впервые с тех пор, как я поселился в той квартире, я решил что-то с этим сделать.
– Вот молодец, Чарли!
– Ага. Только все вышло совсем не так, как я рассчитывал. Видите ли, началось оно, как бывает обычно… после того, как Бесси покинула мою квартиру, я, приняв уже привычный одинокий душ, читал в постели, когда поднялся шум. Поначалу тихо, затем все громче и громче. И на сей раз не обычный глухой постоянный рокот, а такой шум, при котором беспомощно ждешь следующего треска, рева или карканья. Следующего возмущенья натужных кроватных пружин. Следующего кошачьего вопля. В темноте своей квартиры я ждал, когда звук стихнет до нормального уровня. Ждал целую главу книги. Но он в конце концов стал таким невыносимым, что заснуть я не мог даже с берушами. А когда взглянул на часы – был уже третий час ночи – и шум до сих пор не смолк – казалось, он, наоборот, усиливается, – я решил к ним сходить.
– Вы сходили к учителям математики?
– Да.
– То есть предпочли конфликт примирению?
– Да.
– Наконец-то?
– Да.
– И проделали это целиком?
– Ну как бы…
Надев бежевые брюки и рубашку с воротничком, я вышел в коридор. Музыка грохотала. В коридоре было холодно, а пол под босыми ногами ощущался ледником. Изнутри соседской квартиры поверх топочущей музыки, бьющихся тарелок и чего-то похожего на ничем не сдерживаемый вой львицы, защищающей свой молодняк, доносились звуки визгливого хохота. Я вдохнул поглубже и постучал в дверь. Когда не ответили, я постучал еще, на сей раз настойчивей, снова и снова забарабанил в дверь: опять, опять и опять, покуда костяшки у меня не покрылись синяками, а кожа не покраснела. Покуда у меня не прервалось дыханье, а лицо не залилось краской. Наконец дверной замок щелкнул. Повернулась ручка. Дверь слегка приотворилась. Показался тонкий осколок женского лица – быть может, четверть его. Сквозь узкую щель двери она смотрела на меня, а я на нее. Щель была шириной с корешок современного романа: выглядывал один глаз. Я приготовился к противостоянию, но не успел никто из нас вымолвить и слова, женщину откуда-то из-за двери окликнул незримый голос.
– Кто там? – спросил мужчина.
– Это наш координатор особых проектов…
– Чего ему?
Женщина присмотрелась ко мне.
– Не знаю. Но выглядит обезумевшим!..
– Уже поздно… скажи ему, чтобы зашел завтра в приличное время!..
Женщина с подозрением осмотрела меня:
– Вам чем-то помочь? – спросила она.
– Я Чарли, – выдохнул я. – Живу по соседству.
– Я знаю. Мы видели, как вы входите и выходите. Вы новый координатор особых проектов.
– Да.
– Тот, что с трудом пытается организовать рождественскую вечеринку.
– Да.
– И ему не удается сомкнуть наш расколотый преподавательский состав.
– Верно.
– Вы много всякого, но ничего не целиком.
– Точно.
– И у вас тайком роман с секретаршей, которая водит грузовик.
– Я… ну… полагаю, можно сказать и так, да…
– Надеюсь, вы не по поводу опроса, потому что я его уже сдала.
– А?
– Мой опрос по фокус-группе. Я сдала его секретарше отделения несколько дней назад.
– А, да, спасибо. Но я тут не поэтому. Я тут потому…
Женщина по-прежнему разглядывала меня через щель в двери.
– Послушайте, не могли бы вы чуть приоткрыть дверь… с вами трудно так разговаривать…
Женщина помедлила, после чего приоткрыла дверь пошире. Теперь мне стало видно вдвое больше ее лица – целую половину – через эту щель.
– Лучше? – спросила она.
– На сто процентов, – сказал я. После чего: – Слушайте, математика мне нравится, как что угодно другое. Но дело в том, что… – (После стольких предвкушений – сколько месяцев я воображал и планировал этот миг конфликта? – и вот я заикаюсь и запинаюсь на собственных словах!) – …Дело просто в том, знаете, что у нас уже больше половины семестра позади, и время, похоже, непреклонно подталкивает меня к трагическому разрешенью…
– Время?
– Да, время.
– Вы стучитесь ко мне в дверь в два часа ночи поговорить о времени?
– Извините. Какой-либо иной час был бы для вас удобнее?
Женщина помолчала, обдумывая мои слова. Затем внезапно распахнула дверь. Дверь открылась широко, и на краткую секунду мне предстало царство, какое прежде я лишь воображал, о котором слышал и по которому чах из-за стены. Глядя поверх ее плеч, я увидел позлащенные чертоги курящихся паром ванн и мраморных дорожек, и бассейн, у которого полуобнаженные женщины в тогах болтали виноградными гроздьями над раскрытым ртом учителя алгебры мужского пола. Рядом с благоухающими цветами и бурлящим водопадом возлежали слоны и львы, а по всей комнате порхал тукан. Подле крупного золотого трона у ног статуи Евклида из известкового туфа лежала сиамская кошка. Женщина вышла в открывшийся дверной проем, затем потянула за собой дверь.
– Эй, ты куда это?! – окликнул ее изнутри голос преподавателя матанализа.
– В коридор, – сказала она. – Поговорить с нашим координатором особых проектов.
– Это еще зачем?
– Все в порядке, – ответила она. – Он выглядит безобидным. Но если не вернусь через пять минут, вызывай охрану кампуса…
Женщина сделала шаг на нашу общую территорию и плотно закрыла за собой дверь. На ней была белая футболка и розовые носки; темно-рыжие волосы были забраны в хвост на затылке. Ясно было, что от этой холодной октябрьской ночи ее отделяет лишь эта футболка, вероятно, только что наброшенная, – и когда она выходила в коридор, я заметил, как верхушки ее сосков топорщатся под легкой трикотажной материей.
– Да? – сказала она. – Сейчас два часа ночи. Когда вы постучали, мы как раз занимались кое-чем трансцендентным. Надеюсь, у вас ко мне действительно важное дело…
– Таково оно и есть, – сказал я. – Это очень важно. Видите ли, судьба нашего учебного заведения – у меня в руках. Но я не сплю с самого начала семестра. И руки у меня уже начинают дрожать. Я изо всех сил пытался поспать хоть как-то, но ваш экстаз уж очень настойчив. Время пролетает слишком быстро. Поверьте, сам я обычно не большой сторонник конфликта, но я наконец решил, что больше так не могу, что я должен что-то сделать…
– Конфликта, вы сказали?
– Да, конфликта.
– И что у вас за разногласия с конфликтом?
– Да ничего особенного вообще-то. Я с глубочайшим восхищением отношусь к тем, кому он удается. У меня же он никогда не был сильной стороной.
– Жалость какая. Конфликт – важная составляющая жизни.
– В этом я уверен.
– Конфликт – фундамент, на котором зиждется вся наша нация.
– Возможно, только…
– Конфликт – вот что сообщает миру суть. Это катализатор изменений и нововведений. Это стимулятор прогресса. Все интеллектуальные открытия делаются на перекрестке конфликтующих убеждений и способов бытия.
– Допустим. Но примирение тоже может быть своевременным.
– Ни в малейшей степени. Примирение – для гуманистов. В конце всегда выигрывает конфликт. Или вы склонны со мной не согласиться?
– Не обязательно. Я здесь вообще-то не для того, чтобы с кем-то не соглашаться. Я сейчас просто ужасно устал, потому что уже третий час ночи, а мне не выпало ни единой убедительной ночи сна с самого начала семестра. Пробовал дремать в кабинете. В библиотеке. Даже под платаном. Но тщетно. Маятник, семинарские группы, песни протеста – все они меня будят. Поэтому как вы считаете – не могли б вы, пожалуйста, сделать музыку потише? И немного пригасить визг? И умерить пронзительные вопли экстаза?
– Нет, конечно.
– Прошу вас?
– Нет.
– Разве не найдем мы способа, ну… прийти к какому-нибудь компромиссу?
– Например?
– Может, вы бы могли проявить чуткость в определенные периоды ночного времени, оставаясь безразличными к нуждам окружающих в остальное? Или, возможно, ограничить свои математические сатурналии лишь несколькими ночами в неделю? Вероятно, вы бы могли отыскать тот уровень экстаза, что попадает в какой-то промежуток между совершенным шумом и совершенным звуком? Такое, с чем и вы, и я могли бы сосуществовать и подо что я б мог, знаете, заснуть?
– Абсолютно нет.
– Но почему?
– Потому что конфликт и примирение несовместимы. Вернее, они могут быть совместимы, но лишь до той степени, до которой примиренчество неизменно прогибается под капризы конфликтности.
– Вы утверждаете, что они не могут сосуществовать бок о бок?
– Верно.
– Даже разделенные тонкой стенкой?
– Точно.
– Ну, если дело обстоит так, может, вы все же допустите какие-то иные точки зрения на проблему времени?
– Маловероятно.
– Пространства?
– Не-а.
– Не согласились бы вы тогда застелить полы коврами, чтобы приглушить дребезг падающих тарелок?
– Вряд ли.
– Или, возможно, смогли бы допустить, что на этом свете существует такое, чего нельзя понять математически? Такое, что невозможно разложить по категориям, объяснить и повторить? Истины, противящиеся измеримым данным? Быть может, вы сумеете впустить себе в сердце толику сомненья? Возможность несовершенства? Допустимость парадокса. Не хотелось ли вам чуточку усомниться хоть в чем-нибудь из вышеперечисленного? А? Как по-вашему, вы бы смогли это? Самую капельку? А?..
– Э-э, нет. И прошу вас, перестаньте пялиться на мои соски. Мне от этого неловко…
– Извините…
– Мне что, в вашем присутствии надевать громоздкий свитер?
– Никакой необходимости!..
– Знаете, для таких мужчин, как вы, существует повышение квалификации…
– Слушайте, это вышло ненамеренно! Просто, ну, как же мне вообще тогда пережить этот семестр?! Мы уже перевалили за полусеместровые контрольные, а я по-прежнему с трудом разлепляю глаза на нескончаемых заседаниях комиссий. Я по-прежнему с трудом стараюсь не заснуть на отупляющих черновиках нашего самостоятельного отчета!
– Вот сейчас ваши глаза еще как разлеплены, мистер!..
– И мне жаль это слышать. И я беру это обратно. Никакой нужды в свитерах нет, уверяю вас. Или адвокатах. Мои глаза сейчас смотрятся столь безумно распахнутыми потому, что это противостояние с вами я предвкушал уже некоторое время. И только что десять минут я беспрерывно барабанил вам в дверь. Но теперь, когда этот миг настал, – ну, оказалось, это не вполне то, чего я ожидал. Соски у вас чарующи и нежданны. Так же, как и гладкие бедра, выступающие у вас из-под футболки. Но это долгий семестр. И судьба нашего учебного заведения…
– Послушайте, – перебила меня молодая женщина, – если хотите пойти на мировую, вам придется начать с того, что вы признаете – конфликт неизбежен. Вы можете хотя бы согласиться со мной в этом?
– Конечно.
– Безоговорочно?
– Ладно.
– И вы способны признать, что история благоволит тем, кто предпочитает конфликт?
– Да.
– Хорошо. Так в чем проблема?
– Проблема? Ну, проблема в том, что…
Тут я умолк.
Доктор Фелч уже отхаркнул в плевательницу и теперь сурово на меня смотрел.
– Чертова проблема, Чарли, в том, что у нас меньше трех недель до конца семестра, а самостоятельный отчет еще не завершен. Рождественская вечеринка висит на волоске. Ходят слухи, что Гуэн и Расти грозят сразу же бойкотировать это мероприятие. А две группы преподавателей вцепились друг другу в глотки и до сих пор не отпускают. Вы ничего не сделали, чтобы свести все эти разрозненные элементы воедино. Мне казалось, вы собирались организовать фокус-группу или что-то? Я думал, вы намерены провести опрос?
– Собирался. И намерен. Честно говоря, я пока еще не закончил с фокус-группами – последняя и самая важная из них состоится завтра. Но опросы я провел.
– Ну хоть что-то. И что они вам сообщили?
– К сожалению, немного. Половина респондентов ощущала, что фокус-группа, которую они посетили, была полезна и продуктивна, а другая считала ее пустой тратой времени.
– Вы проводили опрос по оценке итогов фокус-группы?
– Ну да. А кроме того, я провел фокус-группу по направлениям развития опроса. Рауль в этом был очень тверд – в области образования ничего не следует предпринимать без предварительного проведения фокус-группы или какого-либо опроса. Ну, чтобы получить качественные данные для подтверждения того, что имеет значение. В идеале лучше проводить и то, и другое. Именно этим я и занимаюсь. Я полон решимости делать и то, и другое!
– Ну, с каждым днем становится все яснее, что все ваше собирательство качественных данных ни на шаг не приблизило нас к воскрешению нашей рождественской вечеринки. Или к смыканию культурного раскола в кампусе. Не говоря уже о самостоятельном отчете, который должен быть сдан послезавтра, а он еще и близко не завершен. До сих пор вы довольно много разговаривали, Чарли. Но теперь нам требуется какое-то движение вперед. Время тикает так же громко и неумолимо, как маятник у вас в кабинете. Вообще-то, тикает оно еще громче! Вам нужно сделать так, чтобы все получилось. И я устал слушать ваши оправдания, что вы-де спать не можете. Наполеон страдал от бессонницы во все ключевые моменты своей жизни, однако ему как-то удалось покорить значительный кусок Европы. Разбирайтесь, Чарли. И побыстрее. От вас зависит судьба нашего учебного заведения.
– Ай! – сказала Бесси.
– Ай – это уж точно, – сказал я. – Этел даже предположила, что это может скомпрометировать ее и Льюка соответствующие заявки на зачисление в штат!
– А потом что она сказала? – не унималась Бесси. – Что она сказала после этого?
– Кто? Этел?
– Нет, математичка в коридоре. Я допускаю, на тебя повлияло то, что ты увидел ее в одной только футболке и носках?
– Это было удивительно, да.
– И то, что ты увидел, тебе понравилось?
– Было уже очень поздно. Я в том коридоре замерзал. И у нас было всего пять минут, а потом ее коллеги вызвали бы охрану кампуса. Но да.
– И на что они были похожи?
– Ее коллеги?
– Нет, Чарли, ее соски. Ну, в сравнении с моими?
– Ну, самих по себе их я не видел. Но то, что сумел разглядеть, было определенно жестким и бескомпромиссным…
– В отличие от моих, хочешь сказать?
– Да. У нее они были математические. Твои гибче и больше прощают…
Я потянулся к ней, чтобы подтвердить сказанное, но Бесси шлепнула меня по руке.
– Вырвался вперед – притормаживай!..
Я рассмеялся.
– А потом она что сказала? – спросил Уилл. – Что она сказала после этого?
– В смысле – Бесси? После того, как шлепнула меня по руке?
– Да к черту Бесси! Что сказала о конфликте сексапильная математичка в белой футболке? Вы ее перебили!
– А, ну да. Ну, она сказала – и я тут, очевидно, излагаю своими словами, – по сути она сказала, что в вековечной борьбе между конфликтом и примирением конфликт выигрывает всегда. История вознаграждает конфликтность за счет примиренчества. Агрессию, а не уступку. Тихий голос всегда заглушается тем, что звучит настоятельней. У кротких нет шансов против сильных. Так же, как сами гуманитарные дисциплины беззащитны перед непрерывным натиском науки, техники и математики. Она много чего еще сказала – как ни удивительно, мы в итоге проговорили в коридоре довольно долго, покуда наконец не вышел преподаватель матанализа и не увел ее, – но в итоге она вновь зашла к себе в квартиру и захлопнула за собой дверь.
– Безо всяких уступок по уровню шума?
– Без. На самом деле музыка стала даже громче.
– Стало быть, ваш заход на конфликт оказался бесплоден?
– Да. Как и моя попытка примирения.
– И потому вчера ночью вы совсем не спали?
– Точно.
– И потому сегодня у вас такой усталый вид?
– Да.
– Ну, она, конечно, права. История и впрямь вознаграждает конфронтацию. А гуманитарные дисциплины действительно обречены. Но история к тому же имеет склонность и наказывать конфронтацию. Примирение не может существовать без конфликта. Но и конфликт не может существовать без примирения. Значит, можно надеяться, что это вас как-то утешает…
– Да уж наверное, – сказал я и вернул Этел пистолет.
– Вы с этим полегче!.. – сказала она, аккуратно забирая у меня оружие и направляя ствол к земле. Перед нами за перегородкой из толстого стекла по своим мишеням стреляла пара учителей зоотехнии. Этел взяла пистолет и положила его на лавку между нами.
– Как у них со стрельбой? – спросил я.
– Эти двое довольно результативны! – заметила она. Этел меня предупреждала, что выросла среди оружия, и ей с пистолетами было сподручно: девочкой она даже завоевала несколько призов по стрельбе. – Что сделало меня стрелком – лауреатом премий. А вы, Чарли?
– Ничего подобного. Вообще-то это все мне в новинку. Премии. Оружие. Конфликт. Рагу с потрохами. Все это для меня так же ново и иностранно, как занятие по эсперанто, что я наблюдал сегодня утром.
– Только не забывайте относиться к своему оружию так, точно оно всегда заряжено. Потому что, вероятно, так оно и есть. И когда меньше всего этого ждете!..
Слова ее прозвучали зловеще. Я бережно положил пистолет на лавку рядом с ее оружием. Этел извлекла защитные очки и водворила их себе на голову. Потом взяла беруши на шнурке и повесила себе на шею.
– Стрельба – как журналистика, – произнесла она, когда мы сели посмотреть, как два учителя по очереди стреляют по своим мишеням: сначала один, затем другая. – Иными словами, там все можно делать правильно… и неправильно. Если у вас все выходит правильно, это может оказаться самым воодушевляющим чувством в жизни. Но чуть что-то пойдет не так, результаты могут оказаться катастрофическими.
– Вроде аккредитации!
– Именно. Вы посмотрите, как женщина слева держит револьвер. Обратите внимание: рука у нее прямая и напряжена. Так у нее мало что получится. Она слишком уж старается, у нее чересчур напряглось все тело. Завтра она это ощутит не на шутку…
Я понаблюдал, как женщина стреляет по мишени, – револьвер с каждым выстрелом дергало отдачей.
– …А теперь посмотрите на мужчину справа… вон того, с кремневым… он все делает правильно. Колени у него чуть согнуты, локти слегка напряжены, вес тела он перенес чуть вперед. Вот он стреляет. Отдача. Перезаряжает. И вновь готов к стрельбе.
Покуда мы с Этел наблюдали, как два преподавателя стреляют по своим соответствующим мишеням по другую сторону стеклянной перегородки – у женщины это была фигура нападающего получателя социального пособия; у мужчины – силуэт ничего не подозревающего бизона, – Этел рассказала мне о множестве боев, что ей приходится выдерживать у себя на занятиях по журналистике: как ни печально, переход от практикующего журналиста к учителю журналистики давался ей нелегко, и она с этой переменой до сих пор мучительно справлялась.
– Учить журналистике по сравнению с практикой журналистики, – вздыхала она, – это как описывать секс в сравнении с самим сексом.
Я рассмеялся.
Уши у меня уже привыкли к приглушенным звукам огня из стрелкового оружия, доносившимся из-за стеклянной перегородки. Этел по-прежнему была на взводе от своего семестра преподавания, и ей, казалось, особенно хочется открыть стрельбу. Но дожидаясь, пока два стрелка завершат свой сеанс – бизон в особенности выглядел драным и обреченным, – она повернулась ко мне:
– Так к вопросу о компенсаторном сексе – как движется самостоятельный отчет колледжа?
– Вы спрашиваете меня о самостоятельном отчете… здесь? Покуда вокруг пули свистят?
– Конечно. Наш колледж – как вон тот бизон, Чарли. Если этот самостоятельный отчет завернут, судьбы наши повиснут на тех же лохмотьях, что и та мишень. Наше экономическое будущее окажется ничем не лучше, нежели у этого изрешеченного пулями получателя социального пособия. Все местное сообщество может потерять свое единственное высшее учебное заведение, свое единственное окно в окружающий мир, свой последний шанс на внедрение поистине глобального подхода к сексу от первого лица. Никто не сомневается, что вы в кампусе единственный, в чьих руках все надежды нашего колледжа – всего нашего сообщества, вообще говоря. Так как же с вами обходится этот процесс?
– Честно говоря, он ко мне недобр. Черновик нужно сдать завтра, а я до сих пор еще не получил все отчеты от разных кафедр. Расти по-прежнему нужно мне сдать свою порцию, куда включить точное количество коров, оплодотворенных после сдачи предыдущего отчета, равно как и процентаж тех, что действительно отелились. Мне, кроме того, нужны свежие цифры от бухгалтерии по эксплуатационным расходам плавательного бассейна, показателям его посещаемости преподавателями и студентами и воздействия, которое плавание оказывает на способность наших студентов стать богобоязненными, налогоплатящими гражданами Соединенных Штатов Америки. И еще, разумеется, та часть, что я пытаюсь выжать из Сэма Миддлтона – который учитель английского и матерый любитель средневековой поэзии. Гоняюсь за ним с начала семестра. Но все, что бы он мне ни сдавал, написано в стихах.
– Вы имеете в виду поэзию?
– Да. Я уже с ума схожу. Он должен написать раздел о приверженности колледжа оценке эффективности своих собственных механизмов оценки. Раздел этот вовсе не трудный, Этел, вот правда же. Рауль даже разработал великолепную структурную схему по планированию и оценке, которая помогла бы ему визуализировать оценочный цикл…
Я вытащил блок-схему Рауля из кармана и развернул так, чтобы Этел увидела.
– Это вам Рауль разработал?
– Да, он обожает блок-схемы.
– И графики.
– И диаграммы…
– И цифры…
– И фокус-группы!..
– И опросы!
– Да, опросы он любит больше самой жизни.
– Точно. Но как же преподавание?
– А?
– Как во все это встраивается собственно преподавание?
– Это на другой диаграмме…
Этел кивнула.
– Ну, в общем, – продолжал я, – благодаря Раулю у меня появилась эта удобная структурная схема, и я даже выкроил время лично доставить ее Сэму Миддлтону в кабинет. А что, по-вашему, он отправил мне в ответ?
– Еще одну отписку в стихах?
– Именно! Утреннюю песнь. С аллюзиями на средневековые практики оценки. Вот… у меня она тоже в кармане есть…
Я вытащил бумажку и положил ее сверху диаграммы Рауля:
Над котлом клокочущей никты Отблеск зловещий лежит, Озаряя кошмарным светом все то, Что оцениванью подлежит.Читая это, Этел присвистнула:
– Ух, это сурово. То есть было бы несколько забавно, если б от этого не зависела сама судьба нашего колледжа. Что он, по-вашему, силится этим сказать? Должно быть, он пытается сделать какое-то идеологическое заявление, нет?
– Явно. И это-то ничего. Но ведомственная аккредитация – не повод для выражения собственных ценностей. Здесь не место интеллектуальной целостности или стойким личным убеждениям. Это не публичный форум, на котором можно выкладывать свои истинные верования. Это не площадка, подходящая для идеалистических представлений о благопристойности или даже для прагматических понятий о справедливости. И, пожалуйста, не надо использовать аккредитационный процесс как агору, на которой можно встать и заорать во всю глотку: «Смотри, мир! Я вольнодумец с чувством собственного достоинства, у которого отточена нравственная восприимчивость!» Аккредиторы желают знать одно – как мы сами оцениваем свои оценки, верно? …а потому просто отвечайте на чертов заданный вопрос!
– Что ж, удачи вам в этом!..
Два преподавателя зоотехнии уже покончили со стрельбой. Они разрядили оружие и теперь собирали вещи в отдельные спортивные сумки.
– Похоже, наша очередь! – сказала Этел и нацепила наушники.
* * *
В самом начале четвертого того же дня я ворвался в кабинет Сэма Миддлтона.
– Слушайте, – сказал я. – Самостоятельный отчет нужно было сдать вчера, и, если б не вы, чертов документ был бы составлен вовремя. Я с вами туда-сюда ношусь с самого начала семестра… и после всего, что вы со мной сделали, у вас хватает наглости сдавать мне вот это?!.
Я швырнул палимпсест на стол Сэма Миддлтона.
– Не понравилось? – спросил он.
– Он в стихах!
– Не любите поэзию, как я понимаю?
– Нет, не люблю. Особенно когда речь идет об аккредитации и судьбе нашего колледжа. Послушайте, время и место есть всему. А время и место для поэзии, как ни жаль мне это говорить, закончилось лет сорок назад. Я уверен, что для вас это не новость. Так, может быть, давайте вы действительно сдадите такой отчет, в котором избавите наших аккредиторов от всей этой лирики? Давайте вы уже наконец начнете выполнять свое основное предназначение штатного преподавателя английского в колледже – делать работу, за которую мы вам платим! – и напишете этот проклятый раздел, в котором изложите весь процесс того, как наш колледж себя оценивает?! Уж дайте мне для разнообразия какой-нибудь бессодержательной, блядь, прозы!
Сэм Миддлтон посмотрел на меня с пытливостью поэта.
– Чарли! Да вы в своем ли уме? Уму непостижимо, что вы со мной так разговариваете!
– В своем ли я уме?!
– Да, не лишились ли вы рассудка? Судя по виду, вы совершенно не владеете собой, честно. У вас остекленели глаза, и вы обильно потеете… и когда вы в последний раз стриглись?
Я замер. У него в кабинете пространственный обогреватель тихонько дул теплым воздухом из-под стола. Фонтаны на зиму отключили. Утки больше не крякали.
Я потряс головой.
– Простите, Сэм, – сказал я и потер глаза, по всем ощутимым признакам – сухие и красные. – Просто у нас уже начались две последние недели, семестр почти завершился, а рождественская вечеринка висит на тончайшем волоске. Надо мной, как пелена нисходящего тумана, висит этот самостоятельный отчет. Мне нужно его закончить. Надо, чтобы все было готово до моей сегодняшней встречи с доктором Фелчем, где я должен представить ему свои рекомендации к проведению рождественской вечеринки. Видите ли, до нас донеслись смутные слухи, что и Гуэн, и Расти планируют ее бойкотировать – а если они уйдут, то и всех остальных с собой прихватят. Будет обречена сама предпосылка рождественской вечеринки как события объединяющего. Я стараюсь это отвратить. Но вокруг меня все рушится. Поэтому не могли бы вы мне в этом посодействовать? Просто дайте мне что-нибудь пригодное к делу, а?
Сэм несколько секунд помолчал. Затем сказал:
– Смотрите, Чарли. – Тут он взялся за палимпсест, который я швырнул ему на стол, и перевернул его. – Я не намерен поступаться своими принципами ради наших аккредиторов. И я не намерен извиняться за то, что не сдаю своих эстетических позиций. Извините.
Я застонал от отчаяния.
– Но свою лепту я внесу. Устроит ли вас белый стих?
Я покачал головой от его упрямства. Но затем сказал:
– В данный момент, Сэм, да. То есть это же лучше, чем ничего, наверное. Только, пожалуйста, прошу вас… вы можете разбить текст на абзацы?
Сэм согласился. Я его поблагодарил.
– Можете отдать мне черновик в кафетерии, когда закончите, – сказал я. – Я там все равно теперь почти все время провожу. А если не застанете меня, просто отдайте его Уиллу Смиткоуту. Он всегда сидит за столиком в углу. И он-то уж мне точно передаст.
Сэм кивнул.
Я еще раз сказал ему спасибо и ушел.
* * *
{…}
Когда симпатичной киске хочется спариваться, она начнет процесс с того, что даст понять ближайшим потенциальным ухажерам о своих намерениях. Это может случиться неприкрыто – испусканием пронзительного вопля, наводящего на мысли о гортанных криках преподавателей математики в течке, – либо тонко и неощутимо, вроде игривого перекатывания или потирания, указывающего на ее готовность. Ощущая ее расположение, кот-самец принимается описывать вокруг нее круги. Настоятельно ищет он в ней предвестия сладкого согласья. Вербального знака. Легкого потирания о его бок. Соблазнительного подергивания ее кошачьей женственности. Несколько напряженных мгновений могут занять шипенье и ворчанье, от которых самец достаточно осмелеет. Но когда грянет вожделенный миг, удар свой он нанесет с силою самой жизни: самец моментально запрыгнет на спину кошки, укусит ее в шею и покроет ее с непреклонностью одержимого ухажера. Наблюдать такие сцены не весьма приятно, да и звуки эти непривлекательны. Само деянье быстро завершится, и обе стороны будут вольны разойтись своими путями. После первого оплодотворения самка может увеличить шансы на зачатие повтореньем этого ритуала со множеством других ухажеров…
{…}
* * *
– Сам не знаю, что это со мной, – сказал я Раулю, когда нам с ним случилось встретиться в мужской уборной дальше по коридору от моего кабинета. Мы с ним стояли за своими соответственными писсуарами на должном и профессиональном расстоянии друг от друга и, сдавая свои личные дела, боком беседовали через незанятый писсуар между нами. – Просто не понимаю, Рауль, меня как будто начали раздражать все гуманоиды… не говоря уже о гуманитариях. На прошлой неделе я наорал на Сэма Миддлтона у него в кабинете. Несколько дней назад рявкнул на Тимми из будки охраны, когда возвращался из музея. А вчера вечером мы с Бесси очень серьезно повздорили в постели – и главным образом по моей вине. Ладно, целиком по моей вине.
– По вашей вине?
– Да.
– Целиком?
– Да, целиком. Но не в хорошем смысле. У меня кожа как будто истончается со временем все больше и больше – и рано или поздно просто растянется так, что лопнет. Как будто швы моей души с каждым днем натягиваются все туже, и не успею я сообразить, как они растянутся до того, что все это просто разорвется, и вся кровь выльется.
– У вас в душе кровь?
– Так сказать.
– Это же как-то отвратительно, Чарли.
– Понимаете, о чем я? Даже метафоры у меня теперь отчаянные и сумбурные!..
– Это я в состоянии оценить. На самом же деле вы не очень справляетесь с трудностями Коровьего Мыка. Недосып тоже не способствует, но дело не только в этом. Видите ли, вы сейчас в том возрасте, когда все бремя вашей жизни приближается к критической массе. Ваш собственный капитал как человека непосредственно связан с документом – самостоятельным отчетом колледжа. Ваш успех как мыслящего существа в целом зависит от вашей способности устроить рождественскую вечеринку. А после пары безуспешных браков – будемте честны, оба они развалились в первую очередь по вашей вине, – вы ищете чего-то – чего угодно, – в чем сумеете добиться успеха целиком. Все это очень понятно. Но держать столько всего внутри – это очень много.
– Возможно, вы правы, Рауль. Может, все это на меня давит. Наверное, мне пока что не очень удалось достигнуть никакой своей цели.
– Как координатору особых проектов?
– И как ему тоже. Но нет, я говорю в общем. В жизни…
– Вы имеете в виду отыскание влаги во всем? И любовь к нелюбимому?
– Верно. И переживание как дня, так и ночи. У меня такое жалкое чувство, что по всем статьям ничего мне не удается.
Рауль дернул за ручку над писсуаром и подошел к раковине. В нее потекла вода, а он плеснул на руки жидкого мыла и принялся их тщательно мыть – аккуратно намыливая каждый пенный палец.
– Вам явно нужно немного поспать, – говорил он, склоняясь высоким торсом над раковиной. – Сомнений в этом нет. Глядите, я вот что могу предложить. Не хотите ли пожить у меня в квартире на выходных? Оба дня я буду у подруги – она квартирует не в кампусе, – поэтому вы можете побыть там, если хотите.
Я подошел к нему и встал перед туалетными зеркалами. Теперь Рауль причесывался влажной расческой. Пробор у него был идеальный – как проходы в зале заседаний конгресса; волосы черные, словно край вселенной. Я вымыл руки и вытер их длинным полотенцем, болтавшимся под дозатором у двери.
– Ценю ваше предложение, – сказал я. – Но я думаю, мне просто нужно немного поспать самостоятельно. Наверное, я просто вернусь сейчас к себе в кабинет, закрою дверь – и поглядим, удастся ли мне хоть как-то вздремнуть под щелкающее присутствие маятника. Мне кажется, я могу себе это позволить, раз я сегодня утром сдал самостоятельный отчет.
– Миддлтон сдался?
– Да, сдался. Неделей позже, но наконец он подал мне свою часть без бросающейся в глаза схемы рифмовки. И потому я думаю, что запереться в кабинете может оказаться простым способом наконец немного поспать.
– Удачи вам в этом… – сказал Рауль. – Я знаю, что ваш маятник – неотступное напоминание о соперничающих друг с другом приоритетах. Если ничего не выйдет, просто сообщите мне, пока я сегодня здесь, и я отдам вам ключ. Как я и сказал, моя квартира в вашем распоряжении, если хотите…
Я вновь его поблагодарил. Он вышел, и я двинулся за ним следом из уборной, направился обратно к себе в кабинет, запер дверь, выключил свет и растянулся на застеленном ковром полу. В темноте у себя над головой я слышал тихий гул батареи отопления и тиканье маятника – такое же громкое и постоянное, как и в тот день, когда я впервые привел его в действие. Гул, тиканье и темнота оказали свое волшебное действие. Глаза мои тяжко закрылись. Мысли отступили. Все растворилось в тишине. Через несколько минут я спал.
* * *
Да вот только нет – не спал.
За стеной моей квартиры грохот и треск математических изысканий стал лишь громче – таким громким и таким упорным, что ему как-то удалось меня разбудить, не успел я толком заснуть.
Ну сколько же еще это может продолжаться?! Как далеко в будущее продлится еще этот звук? Мне теперь уже отчаянно требовалось закрыть глаза на непрерывную цепь событий, на эту безжалостную развертку линейной истории, эту преамбулу к нескончаемому растворению. Но сон вновь отыскать не удалось. Вместо этого я схватил книгу с верхушки стопки у кровати. Как верный друг, она лежала спокойно, внимательно, готовая выручить меня. И вновь я принялся читать.
Фокус-группа
В целях направления развития нашей ведомственной декларации миссии был проведен ряд фокус-групп, призванных выяснить мнения преподавателей и сотрудников колледжа. Результаты этих заседаний приводятся ниже в Приложениях Г–Ы.
Из самостоятельного аккредитационного отчета общинного колледжа Коровий Мык– Чарли! – кричал голос из-за моей двери. – Чарли, ты там?!
Обалдело приподнял я голову от ковра у себя в кабинете. В темноте меня окружал настойчивый грохот – он отскакивал от себя, как выстрелы в замкнутом пространстве.
– Ты там, Чарли?!
Я уставился во тьму на поступавший ко мне звук. Тут ли я? Ну конечно, я тут! Где ж еще мне быть?!..
– Чарли! – орала Бесси. – Что ты там делаешь? Открой дверь сейчас же!..
Я с трудом встал с ковра на полу и проковылял в темноте открыть дверь кабинета: внутрь тотчас хлынул ошеломляющий свет.
– Чарли?! Что ты тут делаешь?
Я сощурился против света.
– Просто немного подремал, – ответил я. – Ну, знаешь, раз я не могу спать дома. А чего ты спрашиваешь? И сколько сейчас вообще времени?
– Почти два. Рауль мне сказал, что ты можешь быть тут. Ты же не забыл про фокус-группу, правда?
– Какую еще фокус-группу? Конечно же, я не забыл про фокус-группу. Почему ты считаешь, будто я мог забыть про фокус-группу? Я подготовленный профессионал с магистерской степенью в управлении образованием, включая особый упор на общинные колледжи на грани краха. Я много времени потратил на получение этой степени, а ведь такие внушительные отличия не присуждают за то, что забываешь про фокус-группы. Поэтому нет, я не забыл про фокус-группу. Дело тут просто в том, что… знаешь, не могла б ты мне еще разок напомнить, про какую именно фокус-группу я так старательно пытаюсь не забыть?..
– Про какую фокус-группу?! Боже мой, Чарли, ты меня спрашиваешь, какую фокус-группу?
– Да, на какую фокус-группу ты ссылаешься?
– Ту самую фокус-группу, Чарли! Ту, которую ты столько месяцев собирал. Ту, что потребовала бесконечных стратегических заседаний и бессчетных махинаций, только бы собрать всех в одной комнате. Давай уже, начало через пять минут. Все готово, а участники дожидаются твоего руководства и содействия. И между двумя сторонами стола уже нарастает некоторое напряжение. Давай, пошли!
Я вдруг осознал, что фокус-группа, о которой говорила Бесси, – и впрямь та, которую я пытался организовать не один месяц. Мать всех фокус-групп, как назвал ее Рауль. Фокус-группа, которая покончит со всеми фокус-группами! После многих месяцев кропотливого планирования все было готово: отведена комната; разработаны демографические опросники; заранее тщательно определена рассадка участников. Чтобы помочь мне с этим заседанием, Бесси согласилась закрыть глаза на нашу самую свежую размолвку у меня в квартире и выступить моим помощником модератора. После стольких месяцев фокус-группа наконец была готова иметь место. Доктор Фелч напряженно ожидал результатов. От них зависела судьба нашего колледжа.
– Точно! – сказал я, а ум мой при этом скакал вперед. – Дай-ка мне быстренько собраться с мыслями, и встретимся на месте!..
Бесси ушла, а я схватил блокнот и ручку. В туалете поплескал на лицо водой. Уставившись в зеркало, я с подозрением смотрел на неряшливого образованческого управленца с длинными волосами, клочковатой бородкой и неровными усами. Глаза управленца были налиты кровью, а в провалах над скулами у него таились глубокие черные ямы возраста. В отчаянии я еще плеснул водой себе в лицо, следующей пригоршней воды прополоскал рот и выплюнул. Застегнув рубашку и заправив ее в штаны, я глубоко вздохнул. Быстро вышел в коридор и направился к комнате, где должно было состояться заседание.
* * *
– Ошибка думать, что просто фокус-группа, – говорил мне Рауль раньше, когда я среди семестра попросил у него совета касательно грядущего заседания. Мы сидели в аэрокондиционированном классе и ждали семинара по повышению квалификации в области того, что можно и чего нельзя в действенных половых отношениях с сотрудниками; хотя нас с Раулем обоих тема интересовала в равной степени, пришли мы туда за совершенно разным: я – в основном за тем, что нельзя, а вот Рауль – исключительно за тем, что можно. – Нет, вам не следует считать свое заседание всего лишь просто фокус-группой, – объяснил он. – Чтобы преуспеть как руководителю фокус-группы, вам нужно относиться к этому мероприятию как к чему-то большему. Гораздо большему. Вообще-то вам надо рассматривать это как возможность заглянуть в самую душу человечества. У каждого человека имеются личные и интеллектуальные устремленья, что очень глубоко укоренены в застенках раздираемого противоречиями темперамента. В окружающий мир каждый из нас проецирует некую личность – приятную и вполне прямолинейную, как поверхностный глянец на слишком уж вылизанном резюме; а вот глубоко внутри у нас к своему выражению стремится подлинный человек. Как еще объясните вы, что бухгалтеры совершают затяжные прыжки с парашютом? Библиотекари ездят на мотоциклах? Соискатели штатных должностей лазят по горам, а штатные сотрудники – по пещерам? Преподаватели бизнеса свои летние отпуска тратят на сплавы по речным порогам, ныряние с аквалангами и сочинение стихов о корриде? Все они тянутся к выражению своего более глубинного человеческого «я», что подавлялось и затенялось их надежно профессиональной сущностью. Они стремятся заявить о своем потаенном истинном «я» и тем самым пробить отполированную проецируемую персону, что возникает в их должностном личном деле. Расхождения между двумя этими конкурирующими «я», можно сказать, есть корень самых глубоких тревог образованного человека. И лишь великий модератор способен это понять и применить на пользу дела. Лишь вдохновенный руководитель фокус-группы, видите ли, окажется в силах вскрыть этот резервуар невысказанной человечности, чтобы выдавить ее оттуда, словно чернослив из кулька, и придать ей выражение.
– Чудесно это, наверное. Но как же добиться этого на практике?
Рауль примолк. Затем рассмеялся:
– Чарли! С таким же успехом вы могли бы меня спрашивать о тайне земного бытия! Если б я это знал, друг мой, я бы стал величайшим ведомственным научным работником в истории человечества. Я мог бы стать еще результативнее с дамами! К несчастью, простых секретов не бывает. Модерация фокус-группы требует многих-многих лет опыта. Для нее нужны прилежная посещаемость и региональные конференции. Непрестанная преданность повышению квалификации. Требуется глубокая духовная связь с высшими силами, которой нельзя научить или научиться. Требуются вдохновение, интуиция и божественное наставленье. Боюсь, тут нет коротких путей.
– Вообще никаких?
– Не-а. Но существуют кое-какие основные правила, с которыми вы должны быть знакомы. Вот, начнем, к примеру, с этого руководства…
Рауль протянул мне экземпляр «Справочника для кого угодно по проведению фокус-групп».
– Вот с этого следует начать, хорошее подспорье…
Я взял книгу, которая была очень глянцевой, на обложке – активная фокус-группа на заседании: один участник, похоже, обосновывал свое мнение, а почтительные слушатели сгрудились за столом вокруг него. Книгу профессионально отредактировали и результативно написали, из нее я узнал, что хорошая фокус-группа должна вытягивать из участников мнения и точки зрения, которые иначе никак не выразятся, – что хорошо проводимое заседание подобно симфонии, состоящей из множества разнообразных частей, сведенных вместе так, чтобы создалось гармоничное целое. И что модератор – это дирижер, направляющий музыкантов через сложные части к звучному завершению; и, хотя сам дирижер не играет ни на каком музыкальном инструменте, за настрой производимой музыки отвечает в конечном счете он.
Далее в книге давались советы, как отбирать участников группы, составлять расписание самого заседания и как успешно модерировать обсуждение. В одной главе даже классифицировались разные типы личностей, с которыми мне предстояло бы встретиться: известный солист, который будет скорее самым говорливым участником обсуждения, но если не держать его в узде, может и подмять всю дискуссию под себя; ведущий гобой, на кого можно полагаться в смысле приземленных высказываний простого трудяги (именно ведущий гобой предоставит мне многие самые ценные выводы); флейтист-пикколо, чьи беззаботные трели своим добродушием и юмором служат знаками препинания в общей дискуссии (этот участник хорош в поддержании здоровой групповой динамики); и исполнитель на треугольнике, тихий слушатель в задних рядах, кто может молча просидеть все заседание, но его внезапные реплики также могут быть идеально уместны и глубоко трогательны. Каждый такой тип можно отыскать в любой фокус-группе ровно так же, как услышать в любом профессиональном оркестре (и точно так же их можно видеть в великой симфонии жизни). Временами этим состязающимся друг с другом исполнителям может хотеться заглушить друг друга, однако все они жизненно важны и необходимы для обеспечения крепкой и всесторонней дискуссии, полнокровного оркестрового исполнения и разностороннего и конструктивно демократического общества.
Ключ к проведению хорошего заседания, утверждалось в книге далее, – никогда не выпускать из рук вожжи. Слушать дерзко. Направлять обсуждение уверенно. Показывать участникам группы, что дирижер здесь – вы. Пусть ни на миг не теряют из вида вашу палочку. Никогда не проявлять слабость. Ежемгновенно держать обсуждение в такте и темпе желанных вам тем.
Когда я изложил Раулю то, что прочел, он рассмеялся.
– Все это так, – сказал он. – Но в должно проведенной фокус-группе еще присутствует и некая доля чувственности.
– От вас, Рауль, такое слышать нисколько мне не удивительно!
– Хорошо проведенная фокус группа, видите ли, – как романтический ужин с прекрасной женщиной. Беседа должна быть настолько откровенна, настолько глубока и так проницательна, чтобы подводить обоих чуть ли не к физическому оргазму.
– Лишь подводить?
– Действительный оргазм наступить не может, покуда не сдан письменный отчет. Однако сам ужин должен подвести обе стороны стола к самому возвышенному оргазмическому разрешенью, до которого останется всего лишь одно дыханье.
– На такую высокую планку остается только надеяться.
– Однако это отнюдь не невозможно.
– Приложу все силы, – заверил его я.
И собрав все, какие у меня остались, в единый миг неимоверно исторгаемой уверенности я ворвался в зал совещаний, где должно было состояться заседание фокус-группы.
* * *
– Привет всем! – сказал я, войдя в комнату. – Спасибо вам, что пришли! Полагаю, вы все уже немного перекусили?.. Батюшки, Шёрли, руккола, что вы пробуете, выглядит баснословно!..
Участники уже расселись по назначенным им местам вокруг стола для переговоров и, когда я заговорил, оторвались от своих бумажных тарелок.
– Ух ты, уже почти два часа! Уж точно время бежит иначе, если месяцами не спишь, а? Дайте мне, пожалуйста, несколько минут на подготовку, и после этого мы начнем…
Усевшись во главе прямоугольного переговорного стола, я наклонился к Бесси, сидевшей со мною рядом, – она должна была стенографировать наше заседание.
– Ты готова? – прошептал я.
– Да.
– Все бланки раздала?
– Да.
– А карандаши второго номера?
– Конечно!
– Когда все закончится, пойдем ко мне в кабинет на быстрое подведение итогов, ладно?
– Ну да.
– Тогда ладно, давай начинать!..
И тут я откашлялся, сделал долгий глоток воды из своего полистирольного стаканчика и начал введение в фокус-группу, которая призвана была ни больше ни меньше, а определить судьбу нашего сельского учебного заведения, будущее наших стараний по строительству нации и мое личное наследие в общинном колледже Коровий Мык.
* * *
– Перво-наперво, – сказал я. – Хочу поблагодарить всех вас, что вы уделили сегодня время и собрались здесь в составе фокус-группы. Я осознаю, насколько большая это жертва – отдать такому занятию всю вторую половину дня. Кроме того, я понимаю, что вы бы могли заниматься чем-то другим, гораздо более значимым, и потому просто хочу, чтобы вы знали, насколько мы ценим ваше участие, вашу преданность, ваше терпение, вашу откровенность, вашу терпимость, вашего первенца мужского пола, ваше любимое легкое, ваше потраченное время, ваше мужество и ваш личный и профессиональный опыт, накопленный за много лет, которые вы провели на этой земле. Имейте, пожалуйста, в виду, что все ваши ответы останутся анонимны. Бесси будет фиксировать их в своих заметках, и их включат в отчет, тщательно написанный от руки мною лично и переданный далее для дальнейшего рассмотрения. Есть ли у вас какие-то вопросы прежде, чем мы начнем?
– Да, – ответил один новенький. – Сколько времени все это займет?
– Около четырех часов, – ответил я. – Или столько, сколько потребуется.
– Смотря что быстрее?
– Э-э, нет. Смотря что дольше.
– Мы как-то надеялись, что уложимся немного быстрее, чем так, – произнес один местный за столом, – потому что нам нужно домой к семьям, ужинать почти исключительно мясом.
– Точно, – сказали новенькие. – А мы планировали фривольное светское мероприятие с обнаженкой на людях и органически выращенными овощами!
– Ну, если все пойдет по плану, и вы, и вы отсюда выйдете и глазом не успеете моргнуть. Ну что, приступим, а?
Две группы кивнули.
– Здорово. Итак, прежде чем мы перейдем к нашим вопросам, позвольте обрисовать вам некоторые основные правила нашей сегодняшней встречи. Эти основные правила помогут обеспечить нам продуктивную и вдохновляющую дискуссию – и то, что результаты ее можно будет использовать для помощи нашему общинному колледжу на грани краха в признании и преодолении некоторых проблем, вставших ныне перед ним, а в особенности – тех, что неуклонно подталкивают его все ближе к пропасти ведомственного провала. Все вы уже должны были заполнить бланки согласия и отказа от претензий. Полагаю, всем удалось это сделать безо всяких трудностей?
Участники кивнули.
– И вы хорошенько удостоверились, что заполнены обе стороны?
Все опять кивнули.
– Великолепно! Спасибо за то, что вы – настоящие профессионалы. И благодарю вас, Бесси, за снабжение этими бланками в мое отсутствие – особенно при условии, что я никак не смог бы свершить подобное деянье, лежа навзничь в полубессознательном состоянии на грубом ворсистом ковре у себя в кабинете!
Бесси пожала плечами.
Я продолжал:
– Вдобавок к вышеупомянутому бланку согласия вы должны были заполнить «Демографический опросник», вложенный в ваши комплекты. Все успели это сделать?.. – И тут я поднял всеобъемлющий опросный лист, который Рауль разработал специально для этой фокус-группы. – Так всем ли вам удалось это сделать?
Все пробормотали утвердительно.
– С обеих сторон?
Все кивнули.
– Идеально. С заполненными обоими этими документами, думается мне, мы готовы целенаправленно перейти к следующей части нашего обсуждения, а именно…
Я остановился. Рука у меня от писания отчета уже болела. Поглядывая в записи Бесси, я удостоверялся, что все излагаю верно: часть о бланках с согласием, демографический опросник, тот раздел, в котором я проинформировал обе группы о том, что все будет сохранено в конфиденциальности. Затем я перестал трясти пальцами, которые уже сводило от такого объема писанины. Оторвав взгляд от испещренной страницы, я заметил, что в дверь сунул голову доктор Фелч – проверить, как у меня движется дело.
– Как с отчетом? – спросил он. – Почти закончили?
– Как раз сейчас над ним тружусь, – ответил я. – Должен быть готов уже совсем скоро.
– Здорово, – сказал он. – Не забудьте дать мне знать, когда закончите. Хочу проверить результаты, как только они будут. Поскольку, как вам наверняка хорошо известно, от этого зависит судьба нашего заведения.
– Да, я в курсе.
Вновь я размял руку, разгибая и сжимая пальцы, чтобы успокоить мышцы.
Затем схватил карандаш и принялся вновь.
– Как вы уже хорошо знаете, – продолжал я, – наш колледж раздирает глубокое культурное противостояние между соперничающими фракциями кампуса. Противостояние это вызвало серьезный раскол, не оставшийся незамеченным нашей администрацией, нашим преподавательским составом, нашими спонсорами, нашим обслуживающим персоналом, нашими студентами, нашими пеликанами, мухами, что роятся над мусорными баками за кафетерием, нашими почасовиками и – что хуже всего – нашими ведомственными аккредиторами. Каждого из вас сегодня сюда пригласили потому, что вы так или иначе связаны с одной из двух соперничающих фракций кампуса. И потому ваше мнение ценно – чтобы мы поняли причины этого раскола, корень конфликта вообще, равно как и перспективы улаживания подобных неурядиц как раз к визиту нашей аккредитационной комиссии в середине марта. Пока вопросы есть?
– Нет, – ответили местные.
– Да, – сказал один новенький. – У вас есть еще руккола?
– Конечно, угощайтесь, пожалуйста, всем, что найдете вон в той вазе.
Марша Гринбом тут же встала из-за стола и направилась к подносам с закусками.
– Спасибо, – сказала она.
– Не за что. И угощайтесь также вяленой говядиной, пожалуйста. Еще вопросы?
– Да, у меня есть один… – Тут я поднял голову и увидел, что незнакомый голос принадлежал единственному штатному негроиду колледжа. Раньше я никогда не слышал, чтобы он разговаривал. Человек этот выглядел озадаченным и озабоченным. Чеша в затылке, он сказал: – У меня в самом деле назрел вопрос про все это.
– Так?
– Я понимаю, что вам важно замерить два соперничающих умонастроения в кампусе. И что это предоставит вам диапазон разнообразных данных для включения в отчет, который вы приметесь составлять от руки, как только завершится наше заседание и вы с Бесси закончите подведение итогов. Это прекрасно. Но можете ли вы мне объяснить, зачем я здесь? Лично я не принадлежу ни к той, ни к другой фракции кампуса и до сего момента не включался почти ни во что. Я редко говорю. Я вынужден сидеть сам по себе на общекампусных мероприятиях, где мне выделяют едва ли три пятых очень узкого сиденья – а иногда и вовсе никакого стула. Теперь же ни с того ни с сего меня приглашают на заседание этой наиважнейшей фокус-группы.
– Все верно.
– В этом нет никакого смысла. Почему меня включили сейчас?
– Это хороший вопрос. И показательный.
– Тем самым мне бы хотелось знать…
– На личном уровне мне искренне жаль, что вы до сего момента были вынуждены чувствовать себя исключенным. Уверен, что со стороны американских историков это простой недосмотр. Но также я убежден, что со временем ситуация постепенно улучшится. Что же касается сегодняшнего заседания, то, честно говоря, вас сюда пригласили в самый последний момент, чтобы обеспечить этой фокусной группе необходимое демографическое представительство.
– А представлять что?
– Медленный сдвиг в этническом составе Коровьего Мыка.
– А он сдвигается?
– О да. Мельчайшими приращениями. Но увереннейше. На самом деле, мне только что сказали, что продмагом рядом с временной автобусной остановкой теперь владеют азиатские иммигранты.
– Вы по-прежнему зовете их азиатами?
– Конечно. Хоть и это обозначение уже натянуто…
– Так я, стало быть, тут символически?
– Такое слово я бы использовать не стал…
– Нет, в самом деле вы утверждаете, что я здесь только для того, чтобы добавить немного разнообразия к вашему отчету, верно? Какой-то достоверности к дискуссии, которой иначе ее будет недоставать? Меня пригласили придать немного краски вашей беседе? Лишний оттеночек вашему трепу? Внести немного души, чтобы монолог стал задушевней?
– И опять, я бы выражать это так не стал. Но да, если настаиваете…
– Что ж, отлично. Меня устраивает. Мы к такому привыкли.
– Мы?
– Да, мы. Символизм, наверное, – неизбежное зло. В той же мере, в какой интеграция – бремя, гораздо лучше такое неизбежное зло, нежели его альтернатива. Но давайте все же будем по этому поводу честны с самого начала, а?
– Конечно, – сказал я. – Я такое переживу, если и вы сможете. И спасибо за разъяснение. – После чего я сказал: – Еще кого-нибудь что-нибудь беспокоит?
Я окинул комнату взглядом, но ни одна рука больше не поднялась.
– Ничего? Здорово. В общем, как я уже сказал, вы всемером тут для того, чтобы поделиться своими мнениями в среде безопасности и взаимного уважения. Но для того, чтобы четче разграничить различия в нашем кампусе и предоставить крепкий физический барьер на тот случай, если у нас вдруг произойдет вспышка насилия, те трое из вас, кто представляет в кампусе местную фракцию, размещены по одну сторону этого тяжелого стола для переговоров, а те трое, кто представляет более новую фракцию – отныне давайте уважительно обозначать вас как неофитов, – рассажены на противоположной стороне. Меж тем непосредственно напротив нас с Бесси на дальнем конце этого прямоугольного стола – в одиночестве, поскольку он не принадлежит ни к одной фракции, – сидит единственный штатный негроид нашего колледжа, который, есть надежда, будет представлять в нашем обсуждении голос разума и объективности. Имейте, пожалуйста, в виду, что мы ограничим охват нашего опрашивания лишь несколькими более узкими проблемами, имеющими экзистенциальное значение для нашего колледжа. Я предложу вам серию конкретных вопросов и попрошу обсудить их группой. Будьте, пожалуйста, честны в своих ответах, поскольку для вас это станет последней возможностью выразить тайные стремленья своей души перед тем, как декларация нашей миссии подвергнется пересмотру, а в середине марта прибудут аккредиторы. (Не забудьте: смерть и региональная аккредитация не дожидаются никого!) Все это время я стану выступать дирижером этого великого оркестра, умело направляя обсуждение от одной его музыкальной части к следующей, но не внося в общее благозвучие собственного вклада, – хотя, может статься, и буду время от времени предлагать глубокомысленные дополнительные уточнения. Есть какие-либо дальнейшие вопросы о том, чем мы сегодня займемся?
– Нет, – сказали местные.
– Пока нет, – сказали неофиты. – Но если что-то возникнет, мы вам сообщим.
– Фантастика. Итак, давайте перейдем к нашему первому пункту, что скажете?..
– Давайте! – согласились они.
Тут я сверился со своими заметками. После чего сказал:
– Итак, первое ваше задание – просто разминочное упражнение, чтобы мы все оказались в потоке дискуссии. Оно предназначено для того, чтобы создать у вас семерых благожелательность и ощущение непринужденности. Упражнение это не должно вызывать никаких противоречий и не связано никакими условиями – и выглядит оно так…
Услышав, что пришел ее черед, Бесси приблизилась к треножнику, поддерживавшему лекционный блокнот, и перекинула назад один большой лист, чтобы всем стал виден первый вопрос:
РАЗОГРЕВ: Если б вам выпало посетить единственное место на свете, куда б вы отправились? Поясните.
Я показал на блокнот.
– Как видите, наша первая тема безобидна: вас просят лишь выбрать точку назначения в мире, которую вам бы хотелось посетить больше всего. Любую местность. Это может быть среда, где вы уже бывали. Или некое место, о котором слышали что-то прекрасное. Быть может – Триумфальная арка в Париже? Египетские пирамиды в вечерних сумерках? Висячие сады Вавилона, судя по всему, в это время года особенно красивы. Короче говоря, для вашего ответа весь белый свет, на самом деле, – ваш котик. Поэтому ни в чем себе не отказывайте. Так, осталось ли еще что-то непонятное, что следовало бы прояснить до того, как мы начнем?
– Нет.
– Ничего?
– Нет.
– Кто хочет первым? Кому мы доверим растопить лед, накопившийся в этой комнате? Тот лед, что надвигался, как ледники в эпоху плейстоцена, что оседал на красивый, однако иссушенный кампус нашего любимого общинного колледжа Коровий Мык?
– Я первый… – сказал давний преподаватель оружейного дела и приспешник Расти Стоукса. Человек этот сидел с той стороны стола, где расположились местные, и в отсутствие самого Расти взял на себя музыкальный инструмент, на котором обычно играл бы Расти: словно заявленный в афише солист, он уже примерялся к вакантной роли первой скрипки. – Я могу ответить на этот вопрос, – сказал он. – Поскольку я – в некотором роде известный путешественник по миру, ибо за свою жизнь посетил все штаты, присутствующие на американском флаге. И испытав все сорок штатов собственными глазами, я думаю, у меня теперь имеется неплохая система координат, чтобы судить о живописной красоте самых экзотических мест на свете. И вот с этим громадным опытом могу вам сказать, что если на свете и есть какое-то место, достойное моего визита, – иными словами, если б я мог выбирать из самых прекрасных пунктов назначения на этой обширной и красивой земле, – мне бы пришлось, вне всяких сомнений, выбрать Северную Дакоту. И не один раз, учтите, а последовательно и от раза к разу. Если б я мог, видите ли, я бы посещал этот достославнейший штат вновь и вновь.
– Вы бы снова и снова посещали Северную Дакоту?
– Да, Северную Дакоту, и только Северную Дакоту. Побывав там несколько отдельных раз, могу сказать вам, что нет другого такого же пристанища сопоставимой красоты. Потому что Северная Дакота наверняка располагается среди самых зрелищных мест на лице земли. Есть спорное мнение, что это роскошнейшее, лучшее, возвышеннейшее туристическое направление, какое лишь и можно созерцать. Бесспорно же, что это величественнейший штат нашей молодой и нахраписто расширяющейся страны.
Мужчина примолк, чтобы серьезность его слов лучше дошла. Затем продолжал:
– Среди своей ровни Северная Дакота – практически оазис красоты и великолепья. Это сама Америка в миниатюре. Проезжая по ее обширной системе шоссейных дорог, вы можете восхищаться величием ее распахнутых настежь пространств и продуваемых ветрами полей. Грубой простотой американской внутренней души, испускаемой наружу, словно лучи надежды, ласкающие мир. Чистым блеском ее легендарной глухомани. Северная Дакота: в ней волен каждый дол от гор до бурных волн, – тебе я шлю поклон![32]
Мужчина продолжал в таком же духе еще некоторое время, пока голос с другой стороны стола вдруг его не перебил. То была преподавательница эсперанто, и она казалась отнюдь не чуть-чуть возбуждена.
– О, я вас умоляю! – сказала она. – Вы утверждаете, что действительно съездили во все сорок штатов союза?
– Да. Я был в них всех до единого.
– И посетив все сорок один штат нашего огромного континентального наследия, вы честно верите, что величественнейший из всех – Северная Дакота?
– Конечно.
– Ну, тогда ясно, что вы ничего не понимаете в красоте. Потому что любой кретин способен увидеть, что самым поразительным образчиком земной красоты – самым элегантным и живописным местом на свете – будет вовсе не какая-то там Северная Дакота… – Тут женщина издала ухмыльчивый и презрительный звук. – …Несмотря на ваши утверждения о широте ваших путешествий, пределы знатока географического величия у вас крайне ограничены. Поскольку все согласятся, что самое красивое место на земле – вовсе не Северная Дакота. Au contraire, mia amiko![33] На самом деле, это Южная Дакота!
От такого мужчина ощетинился.
– Что это за белиберда?! – прошипел он. – По-французски, что ли?..
Не смутившись, женщина продолжила:
– Южная Дакота, само собой разумеется, – это родина Пустошей и нестареющего алтаря Рашмора, Черных холмов и прерий, фермерских угодий и солнечного света. Да здравствует Южная Дакота! Штат, который мы любим больше всего! По сравнению с Южной Дакотой, дружочек мой, говорящий только по-английски, боюсь, ваша любимая Северная – всего-навсего огромная беззубая выгребная яма!
– Слышь, пизда ты ебаная!..
– Fiaĉulo![34]
– Сучья блядь!
– Ŝovinisto![35]
– Эй! – прервал их я. – Эй, оба! А ну сядьте! Успокойтесь, пожалуйста!
Эти двое встали из-за стола и яростно зыркали друг на друга через разделявшее их пространство. Я продолжал:
– Прошу вас занять свои места! Обоих!
Они уселись – медленно и неохотно.
– Так-то лучше! Что ж, понятно – оба вы со страстью относитесь к этой проблеме, и это нормально. Но давайте же не будем тут увлекаться. В том смысле, что, мне кажется, мы все можем согласиться с тем, что и Северная, и Южная Дакота – по-своему вполне прекрасные и достойные похвал места. В Северной Дакоте сладкие ветра и зеленые поля, в Южной – здоровье, богатство и красота. Очевидно, что и те и другие качества действительно очень редки. Не могли бы мы все прийти тут к согласию? Ради нашей сегодняшней дискуссии давайте просто смиримся и полюбим обе стороны Седьмой стандартной параллели?[36]
Оба преподавателя неохотно проворчали, что согласны.
– Более того, – сказал я, – если не ошибаюсь, два эти достославных штата некогда были единой территорией. Но однажды между ними случился некий конфликт – не всегда ли так бывает?! – и они как-то разделились…
– Жуткая историческая несправедливость, – вставил преподаватель оружейного дела.
– Мир после этого уже никогда не был прежним, – пожаловалась эсперантистка.
– …Как бы там ни было, мне бы хотелось предложить вам перешагнуть через это историческое и, да, трагическое следствие разделенности. Кварцитовая граница, ныне их разделяющая, реальна, истинна и ощутима. Но она также и произвольна – вообще-то это просто череда столбов вдоль автотрассы, о которые чешется скот, – как любая другая граница, измышленная человеком, дабы разделять что-то одно от чего-то другого. И потому мне бы хотелось предложить вам отдать должное соответственно красоте как Северной, так и Южной Дакоты. И, отдав тем самым им должное, двинуться дальше в нашем обсуждении!..
Пока я рвано излагал итоги моего разогревающего вопроса, Уилл Смиткоут хохотал от всей души. Он откусил кончик сигары и под эгидой таблички «НЕ КУРИТЬ» готовился поджечь ее. День уже клонился к вечеру, и, поскольку семестр уже подходил к концу, студентов в кафетерии находилось совсем чуть. В дальнем углу к экзаменам в конце семестра готовилась кучка будущих медсестер. Разбросанные по всему остальному кафетерию, прочие студенты просто беседовали, или смеялись, или праздно рассиживали с друзьями, чьи стрелы еще не долетели до цели.
– Что ж, – произнес Уилл, – судя по всему, вам удалось попасть тем двум преподавателям, сидевшим по разные стороны стола, в нерв.
– И не говорите! Ух, кто б мог предсказать, что они отнесутся к разогревающему вопросу с такой страстью?!
– Очевидно, у этих двоих есть кое-какая история.
– Правда?
– Ну да, – сказала Бесси. – Ходил слух, что несколько лет назад у них случился короткий роман.
– И с тех пор они заседают в разных комиссиях, которые отменяют решения друг друга, – сказал доктор Фелч.
– Учительница эсперанто вообще-то сука со всех сторон, – заявил Расти.
– А этого наглого препода оружейного дела много десятков лет назад следовало перемолоть в костную муку, – добавила Гуэн.
Уилл со всем этим согласился. Потом закурил сигару и сказал:
– Конечно, нам-то все это кажется каким-то тривиальным. Так обычно и бывает с противостояниями и приверженностями других людей. Но для них самих это может быть до чертиков важно!
– Сам в этом убеждаюсь!
– Ну, то есть о чем тут шум, верно? Южная Дакота. Северная Дакота. Бычий Гон[37]. Кашмир[38]. Иерусалим. Тридцать восьмая параллель[39]. Зонкьо[40]. Я стригу ногти на ногах за обеденным столом.
– Ногти?
– Ух как моя жена терпеть этого не могла! Но знаете, что? В конце концов все это как-то улаживается. Люди приходят и уходят. Страсти приходят и уходят. Приходят и уходят конфликты. Самое главное, Чарли, – не принимать все это слишком близко к сердцу. А кроме того, с чего им вообще об этом спорить? Все же и так знают, что Северная Дакота – самый красивый штат…
А у меня в квартире Бесси обмотала простыней нагие бедра и откинулась на подушку, которую оперла на изголовье моей кровати. Безмятежно и бесстыдно сидела она так и курила сигарету, а обвислые груди ее тяжелыми плодами лежали на складках ее живота.
– Твоя ошибка была в том, что ты затеял дискуссию с прихлебателем Расти, – сказала она и стряхнула пепел с сигареты в старую пивную банку у меня на тумбочке. – То есть чего ради ты начал оркестровую часть со скрипача, заявленного в афише? Почему не подвел к его выступлению постепенно? Чего б не позволить инструментам поддержки поблистать на вступительной сонате?
Стоял субботний день, и сынишки Бесси навещали на выходных своих соответствующих отцов. Мы вдвоем решили воспользоваться представившимся случаем и устроить себе продолжительное уединение – заперлись у меня в квартире, запасшись лишь едой на выходные, пивом на неделю и подавленным желаньем, которого бы хватило на семестр. Условились, что эти два дня станут для нас ключевыми – вместе-или-врозь, как это описывали теперь секретарши из машбюро; сделай-или-сдохни, как выражалась обслуга кампуса, – словно исполненные надежд разведенцы: мелочные споры должны прекратиться, постановили мы оба, и, быть может, пара дней, проведенные вместе, в судорогах безудержной страсти и откровенном обсуждении нашей будущей совместной жизни, поможет нам сгладить некоторые разногласия. Побег этот планировался не одну неделю; однако стоило наконец выходным настать, как выяснилось, что отчет о фокус-группе к моей встрече с доктором Фелчем утром в понедельник еще не дописан. И вот так, между сексом, я сидел за своим рабочим столом в одних трусах и писал от руки отчет, а Бесси растянулась у меня кровати, голая под простынями, рассеянно поглядывала в цветной телевизор и вела меня через все превратности собственных заметок.
– Нужно было начать с библиотекаря, – ворчала на меня она. – Или хотя бы с учителя по этике. Обе они были б не так занозисты.
– Ну, ага, век живи, век учись, – сказал я. – Очевидно же, что у меня это первая фокус-группа высокой важности, и я был весьма наивен. Я робел. У меня еще были идеалы насчет двух враждующих фракций кампуса. Как они действуют. Как противостоят друг другу. Как они уступают, маневрируют и тайно сговариваются. Раньше я думал: просто собери обе группы в одной комнате, пусть поговорят о своих разногласиях, им больше ничего и не нужно. Ага, как бы не так! Теперь моя собственная безыскусность видится мне довольно потешной!
Под тонкой простыней колени Бесси были широко разведены. И она, куря, рассеянно сводила и разводила их, а над цветущей долиной между ними вздымался и опадал шатер.
– Так ты считаешь учительницу этики хорошенькой? – спросила она, выдувая полный рот дыма.
Удивившись, я оторвался от отчета. Бесси широко раскинула колени, и простыня между ними туго натянулась.
– Ты о девушке из фокус-группы? Той, кому перепало от преподавателя мировых религий в кладовой?
– Ну. Она юна и кипуча. Мне понятно, как она может нравиться мужчинам…
– Она привлекательна, да.
– Очень привлекательна?
– Да. Я бы так сказал. Но и близко не так привлекательна, как математичка в футболке!
Бесси при этом резко схлопнула колени. После чего сказала:
– А как насчет новой секретарши на факультете экономики? Той, чью петицию ты подписал?
– Она привлекательна.
– А почасовичка по бизнесу?
– Да.
– А профессор социологии?
– Да.
– А что Марша? – спросила она. – Как по-твоему, в Марше Гринбом присутствует определенный дух сексуальности? Ты считаешь ее неотразимой в эзотерическом, однако заметно безмясом смысле?
– Отчетливо нет! – сказал я. – Хотя, если вдуматься, нет такого, чего не могли бы уладить немного крепкого вина и полупрозрачный саронг!..
– Но, как я себе представляю, чесотка все-таки как-то отвращает, нет?
– Можно и так сказать. Но больше того – ее отказ признать временность времени… – Все в большем раздражении я перевел взгляд на чистый лист на столе передо мной. – Послушай, Бесси, это наше нынешнее обсуждение уместно и все такое. Но мне действительно очень нужно вернуться к отчету! Эту штуку надо сдать утром в понедельник, а уже день субботы!
– Еще и двух часов нет, Чарли. У тебя по-прежнему в запасе бо́льшая часть сегодня и все завтра. Нам не слишком много таких шансов еще выпадет, знаешь ли. После этих выходных весьма маловероятно, что нам удастся провести вместе столько времени без перерывов. Так чего ж не наслаждаться моментом? Почему нам еще чуточку сильней не постараться и не получить удовольствие от Плана А, покуда можем?
Медленно Бесси развела под простыней колени.
– Я б не против, Бесс. Но сегодня утром я уже насладился далеко не одним моментом с тобой. И теперь мне действительно нужно заняться отчетом. От него зависит судьба нашего колледжа, понимаешь?..
Бесси хмыкнула и резко свела ноги вместе, шатер совершенно опал у нее между колен; после чего она перевернулась на бок и пустым взглядом уставилась в викторину по телевизору. Из-за своего рабочего стола я видел пухлый контур ее обнажившейся спины – позвоночник изгибался от ее загривка и пропадал под простыней вокруг ее бедер.
– Ну дай же мне хотя бы эту часть дописать, – взмолился я, – и я буду с тобой всего через минуту…
Бесси фыркнула телевизору, не оглянувшись на меня.
– Это займет всего лишь еще несколько минут, – пообещал я.
И с тем бросился прямо в дискуссию.
– Ладно, – сказал я. – Спасибо вам за ответы – все они были должным образом занесены в протокол. Интересно отметить, что ровно трое из вас, представься вам возможность посетить любое место на планете, выбрали бы Северную Дакоту, – зато остальные трое по другую сторону стола при наличии того же самого шанса отправились бы в совершенно другую сторону. Иными словами, каждый из вас поехал бы аж в Южную Дакоту…
У себя в отчете я начертил нижеследующую таблицу:
Затем я продолжил:
– …Итак, раз мы растопили лед этим первым вопросом, давайте же продолжим наше неуклонное продвиженье вперед в обсуждении – зададимся следующим вопросом, который нам нужно рассмотреть…
Бесси перевернула большой лист лекционного блокнота, явив следующую страницу:
ВОПРОС: Обсудите, пожалуйста, текущий культурный раскол в кампусе. Что можно сделать для улучшения климата в Коровьем Мыке до визита аккредитационной комиссии в марте?
– Вот этот вопрос поистине важен. Как вам известно, в следующем семестре приезжают наши аккредиторы, и они будут наблюдать устройство нашего кампуса. Мы утверждали, что обстановка у нас в Коровьем Мыке… какое слово мы употребили, Бесси?..
– Буколическая.
– Точно. Буколическая. Мы утверждали, что наш кампус буколичен; однако все мы знаем, что это далеко от истины. В действительности в кампусе присутствуют глубокие культурные противоречия, ставящие под угрозу идиллическую безмятежность нашего сельского колледжа. Распущены целые постоянные комитеты. Собраны целые бригады юристов. Во внесудебном порядке улаживаются тяжбы. Несколько подававших надежды членов преподавательского коллектива умыли руки и покинули Коровий Мык совсем. С начала этого семестра в почтовых ящиках преподавательского состава оставлено свыше ста сорока вздутых мошонок – словно обыкновеннейшие извещения о возможностях повышения квалификации. Все это очень расстраивает и контрпродуктивно – не говоря уже о том, что несколько сбивает с толку самих телят. И уж точно все это целиком отнюдь не есть благоприятное положение дел для такого учебного заведения, как наше, что отчаянно стремится к переподтверждению своей аккредитации. Короче говоря, эту проблему нам нужно решить. И быстро. Поэтому на ваше рассмотрение выдвигается следующий вопрос: что можно сделать для того, чтобы оздоровить культурную пропасть в кампусе?
Я медленно оглядел стол, стараясь встретиться с кем-нибудь глазами. Но никто мне этого одолжения не сделал.
– Ну же, ничего страшного, – попробовал улестить их я. – Не забывайте: все, что вы сегодня скажете, останется конфиденциальным.
Никто по-прежнему не открывал рта.
– Прошу вас? – упрашивал я.
Ничего.
– Вы не хотите говорить даже ради нашего кампуса?
Опять ни звука.
– Ради нашей общины?
Ничего.
– Ради студентов? Эй, все, что мы делаем, – в конечном итоге ради успеваемости наших студентов, верно же!
Снова никакого ответа.
– Что ж, возможно, у вас пока и нет никаких решений. Быть может, все это на данной стадии невыполнимо. Но неужели мы не можем хотя бы поговорить о самой проблеме? По меньшей мере обсудить – открыто и откровенно – истоки нашего великого культурного раскола? Хотя бы назвать проблему по имени, если не причину ее?
И вновь ничего.
– Умоляю?! – взмолился я.
Однако опять никакого ответа.
В безмолвной комнате по-прежнему раздавалось лишь гудение кондиционера. В этом гуле молчания я беспомощно ждал ответа, который не желал поступать.
Наконец бессловесную тишину прервал Уилл Смиткоут.
– А надо было вам сделать вот как, – произнес он, не вынимая изо рта сигару. – Попросить начать обсуждения человека за дальним концом стола. Тут-то мяч бы и запрыгал!
– Негроида?
– Абсолютно! Нужно было попросить его поделиться своим опытом жизни в Коровьем Мыке. Он не связан ни с одной группой. Но, несмотря на свою замкнутость, располагает богатейшим опытом и собственным взглядом на вещи, которым мог бы поделиться. Ему есть что убедительного рассказать, между прочим, лишь бы кто-нибудь озаботился послушать. Если б вы просто дали ему возможность высказаться.
И потому, отчаянно стараясь завязать дискуссию, а также все больше выматываясь от недосыпа, именно так я и поступил.
– Как насчет вас, профессор? – спросил я и указал дрожащей дирижерской палочкой на человека за дальним концом стола прямо напротив себя. – Вы не хотели бы стать первым, кто ответит на вопрос, который я только что поставил?
– Я?
– Да. Не согласитесь ли вы пролить немного света на нынешний культурный климат в кампусе? Рассказать, каково в нем вам? И как вам удается прокладывать курс в прискорбном состоянии дел среди нашего расколотого преподавательского состава?
Человек посмотрел вдоль длинного стола на нас с Бесси. С опаской перевел взгляд налево от себя – на местных, занимавших свою сторону стола, затем – направо, туда, где сидели неофиты.
– Вам бы хотелось, чтобы я поделился своим опытом жизни в Коровьем Мыке?
– Если можно.
– Вы имеете в виду – как единственного штатного негроида колледжа?
– Да. Потому что, как мне говорили, вашу точку зрения стоит выслушать. И у вас совершенно точно имеется уникальная система координат – вы, как и сейчас, располагаетесь между двумя группами слева и справа от себя. Так, может, вы сумеете помочь нам начать эту трудную дискуссию? Прошу вас?
– Тут все непросто. Но ладно. Это попробовать я могу. То есть я, разумеется, ценю предоставленную мне возможность самовыразиться – по прошествии такого длительного времени. Не каждый день мне позволяют выйти на такую трибуну. Поэтому, наверное, мне следует сказать несколько слов на эту тему…
Человек умолк, собираясь с мыслями. После чего принялся отвечать на мой вопрос о своем опыте жизни в Коровьем Мыке и о том, как нам можно улучшить культурный климат в нашем общинном колледже на грани краха.
* * *
– Видите ли, – произнес он, – в Коровий Мык я приехал не вполне по собственной воле: на самом деле обстоятельства сговорились привести меня сюда. Я имею в виду, что каковы шансы такого человека, как я, с таким образованием, как у меня, попасть так далеко от родного дома в такую глушь, как Разъезд Коровий Мык? Из всех мест на всем белом свете, где я бы мог оказаться? Из всех туристических направлений в мире? Коровий Мык! Шутите вы, что ли?! Нет, сам себе я бы его определенно не выбрал. По всей правде, мое путешествие сюда было произвольно и опасно – от моей родины в штате Вашингтон через все реки и долины нашей огромной страны к пересохшей бесплодности Разъезда Коровий Мык. Поездка была тряской, поверьте мне, сперва – в глубине крытого фургона, затем в скученности товарного вагона и, наконец, в смердящем автобусе, что доставил меня через пустые поля мимо разлагающихся туш бизонов, мимо заброшенных городков-призраков вдоль горнодобывающих разломов старых прерий. По пути я видел, как пятилетняя девочка миновала одну среднюю школу за другой, видел окторона[41] в наручниках, женщину с зонтиком, что под дождем брела домой с работы. Нет, ничего в моем странствии от места моего происхожденья до святых земель Коровьего Мыка – от устной истории и рассказов рабов до моей магистерской диссертации по афроамериканским исследованиям – не далось легко. Но я стал одним из немногих, кто выжил, чтобы обо всем рассказать, – из пятидесяти процентов от пятидесяти процентов, как могли бы назвать меня вы; вернее все ж – один процент от одного процента! – и в конце столь долгого и опасного путешествия по нашей коварной системе общественного образования – и после получения докторской степени в аккредитованном исследовательском институте – я прибыл на временную автобусную остановку на краю городка.
– Как и все остальные мы, что прибыли на ту же самую автобусную остановку!
– Именно. Вот только могу поспорить, что у меня спина после путешествия болела сильнее.
(При этом несколько человек за столом – впервые, – похоже, почти незаметно кивнули, с ним соглашаясь.)
– Позвольте угадать, – сказал я. – Прибыв на временную автобусную остановку, вы сидели и ждали своего медленного транспорта в кампус? Вам велели, как некогда говорили и всем нам, ждать на остановке, покуда вас кто-нибудь не подберет? И после необременительного ожидания подле старых железнодорожных путей, разбитой телефонной будки и афишки грядущего концерта рэгтайма на своем грузовичке подъехал доктор Фелч и забрал вас?
– Нет, не забрал.
– Не забрал?
– Нет. Но это ничего. Я к такому привык. Мы к этому привыкли. В тот день меня не забрал никто. И вот так из самого заднего ряда в автобусе я выбрался в палящий зной начала августа, а там уже покинул удобство временной автобусной остановки и прошел мимо продмага, где еще играла гармоника, по шоссе и через городок Разъезд Коровий Мык, мимо холмистых полей хлопка и табака, мимо ранчо «Коровий Мык» в самом своем расцвете, мимо коров, лошадей и намалеванных лозунгов, мимо музея и тюрьмы, и почтового отделения с приспущенным флагом – всеми тринадцатью полосами и двадцатью восемью звездами, – что безжизненно висел в мертвом воздухе, словно труп, привязанный к дереву, и наконец я перебрался через очередной безводный канал, перешагнул железнодорожные рельсы по грунтовой дороге, что привела меня к главному въезду в колледж. Было пыльно, жарко, и когда я наконец достиг этого мига во времени и пространстве, мне хотелось пить, я устал и ослабел. Я был изможден. И так вот, сражаясь с собственными трудностями, я подступил к самому краю кампуса. И что, по-вашему, увидел я, приближаясь к воротам, что ввели бы меня в сам кампус? Что именно, как вы считаете, увидел я первым, прокладывая себе путь ко входу в этот новый мир, что станет моим будущим на много последующих поколений?
– Вы увидели знак, приветствующий вас в общинном колледже Коровий Мык! Деревянный транспарант, напоминающий нам, что наш сельский колледж – место… Где Сходятся Умы!
– Полагаю, знак этот я действительно мог заметить где-то по пути. Но нет – говоря правду, первым, что встретилось мне при входе в колледж, была тяжелая деревянная рука, преграждавшая мне этот вход. А затем с рукою рядом – Тимми. Он вышел из будки, чтобы отогнать меня.
– Тимми вас отогнал?
– Да. Тогда еще я не знал, как его зовут. И он уж точно не знал моего имени. Поэтому я улыбнулся ему и сказал: «Здрасьте, сэр». А он просто вскинул руку и спросил: «Чего-то надо?» Я сконфуженно сообщил ему, что прибыл преподавать в колледже, что меня наняли, в глаза не видя, по итогам единственного телефонного собеседования, что резюме у меня безупречно и что я, вообще-то, новый преподаватель афроамериканских исследований и соискатель штатной должности, и вот он я, собираюсь войти в кампус точно так же, как мои штатные собратья вступали в общественный дискурс столько лет до меня. «Что-то не похож ты на соискателя штатной должности…» – сказал он мне. (Далеко не впервые приходилось мне сталкиваться с таким вот.) Но я лишь проглотил оскорбление. И когда показал ему программу своего курса и удостоверение личности с недавней фотографией, он убедился в чистоте моих намерений и поднял деревянную руку, чтобы меня впустить…
– Так вы, стало быть, вошли в общинный колледж Коровий Мык пешком?
– Верно. И, проделывая путь по длинной эспланаде, ведущей к жилому комплексу преподавателей, миновал полицейский эскорт, сдерживавший глумившиеся толпы. По одну сторону эспланады расположился ряд национальных гвардейцев с примкнутыми штыками и дубинками, а по другую – строй федеральных войск и демонстранты, размахивавшие плакатами и транспарантами и скандировавшие лозунги, направленные в мой адрес. Тогда, видите ли, была другая эпоха, и тогда все по-прежнему наивно верили, что раздельное может и впрямь быть равным. Эта полномасштабная война была уместным ответом на большинство вопросов. Тогда еще мир был чист и невинен, и по-прежнему казалось, будто пылесосы действительно означают прогресс, что просвещенное своекорыстие может быть просвещенным, а ядерная энергия поистине станет волной будущего. И, однако же, вот – как все эти студенты, так и преподаватели протестуют против войны, что еще продолжается, осыпают бранью ядерную электростанцию, возведение которой предлагается у реки Коровий Мык, где раньше было индейское селение…
Человек умолк.
– Извините… – смущенно произнес он. – Я перетянул дискуссию на себя?
– О нет, – ответил я. – Это было бы до крайности парадоксально. Продолжайте, пожалуйста. Я ценю, что вы спасли мою фокус-группу. А кроме того, сейчас только самое начало третьего. И, как я сказал раньше, мы пробудем здесь столько, сколько для этого потребуется…
Человек оглядел своих коллег за столом – те лишь смиренно пожали плечами – и затем продолжил:
– Ну да. В общем, колледж в те дни был совершенно другим местом. Тогда еще, следует помнить, здесь не было столько проектов Димуиддлов. Кампус был еще мал и экономически замкнут. Не было плавательного бассейна. Не было пеликанов. Война, как все надеялись, все это изменит. И предполагаемый ядерный реактор принесет больше энергии в кампус, чем мы бы иначе надеялись когда-либо обуздать. Невзирая на риски – да и что в этом могло быть рискованного вообще-то? – ядерная энергия, постепенно понимали мы, поистине была волной будущего. Она дешева. Безопасна. И, разумеется, в высшей степени результативна! Однако с одной стороны эспланады стояли те, кто за войну и ядерную электростанцию, а вот на другой стороне расположились те, кто против. Как ваша сегодняшняя рассадка, Чарли, два противоположных умозрения стояли по разные стороны узкой дорожки: местные с одной стороны, а неофиты с другой. И я такой шел посередине с чемоданом в одной руке и стопкой учебников, крепко прижатых к груди.
– И как вам удалось? Как вы встроились в две фракции по разные стороны эспланады?
– Я вообще не встроился! Будучи неофитом среди неофитов, я лишь прошел сквозь строй к своей квартире, где распаковал пожитки и приготовил конспекты к занятиям на будущей неделе. В тот первый свой день в квартире, в корпусе для преподавателей, я смотрел в окно на кампус и видел толпы демонстрантов, маршировавших в разные стороны: одна группа мирно тянулась по тротуарам в безмолвном протесте; другие шагали громко и зловеще. Одна устроила сидячую забастовку с музыкой и чтением стихов; другие жгли машины и били окна административного корпуса. Одна группа выступала за права штатов и ядерное распространение, а также новейшую войну на изнурение противника; другая озлобленно агитировала против того же самого. Той ночью во всем этом хаосе я почти не спал: грохот стрельбы и сирены, едкий запах дыма от горящих покрышек, цокот сапог по брусчатке, когда полиция кампуса охотилась на отбившихся, а затем, несколько минут спустя, – вопли демонстрантов, которых волокли из одной части кампуса в другую. Несколько ночей прошли беспокойно, если не сказать большего. Отвечая на ваш вопрос: вот это и стало здесь моим первым опытом. Что там говорить, мое знакомство с этим странным учебным заведением – общинным колледжем Коровий Мык – произошло в конфликте и противостоянии. Резкая вонь революции и реакции. Запекшаяся кровь того, самого древнего поля битвы, на котором традиция сталкивается с новаторством. Где покорность встречается с упорством. Все это и стало тогда моей историей Коровьего Мыка. И это же – история Коровьего Мыка теперь…
У штатного профессора, казалось, перехватило в горле, пока он говорил, и я с состраданием посмотрел на него, чтобы поощрить его слова.
– Но все это было в начале, когда вы сюда только прибыли, – сказал я. – Разве для вас с тех пор ничего не изменилось?
– Вообще-то нет.
– Даже после предоставления вольной?
– Да, и после предоставления вольной.
– Даже после того, как вас зачислили в штат?
– Даже в штате…
И тут человек затосковал.
– …Но знаете, от чего на самом деле больно?
Мы покачали головами.
– На самом деле больно то, что всю свою жизнь я посвятил преподаванию. Я отказался от собственных грез, чтоб можно было жить опосредованно, в грезах моих студентов. Я отсек все корни, что могли бы соединять меня с моей собственной родиной, лишь ради того, чтоб стать работником образования тут, в общинном колледже Коровий Мык. И пойдя на все эти жертвы – после стольких усилий и пота многих лет, – знаете, как меня называют в кампусе? Знаете, как мои коллеги – мои собственные коллеги! – называют меня?
– Нет…
– Для них я не преданный академик. Не ученый. Не мужчина. И даже не просто человек. Знаете, как все они меня зовут?
– Я мог бы высказать догадку…
– Для моей ровни я всего-навсего… штатный негроид!
Стол облетел коллективный «ах».
Человек покачал головой:
– Вы знаете, как от этого больно? Знаете, каково мне такое слышать? Быть известным как вот это – и ничего больше этого? Быть нишей в чьем-то сегменте рынка? Запоздалой мыслью в чужом демографическом обосновании? Символическим банджо посреди великой симфонии жизни?
Тут во мне шевельнулась совесть.
– Выступая от имени всей группы, – сказал я, – мне бы хотелось извиниться за это перед вами. Теперь мне понятно, насколько мы, возможно, заскорузли в собственных привычках. Вы примете от нас всех наше коллективное извинение?
– Да, – ответил человек. – Если оно искренно.
Я оглядел комнату.
– Мы искренни, шарага? – спросил я.
Группа кивнула.
– Так вы примете наше коллективное извинение?
– Да.
– Превосходно, – сказал я. – Мне стало легче.
Я двинулся было дальше, но тут впервые подняла руку преподавательница социологии.
– Так, профессор, – спросила она, – а как бы вам тогда хотелось называться? Если б у вас был выбор? Если б вы могли избрать собственный мандат, отличавший бы вас от остальных нас, здесь сидящих за этим вот столом, как бы вы предпочли именоваться?
Преподаватель затих, словно бы впервые над этим задумавшись.
– Ясно, что слово «негроид» следует отправить на покой. Польза от него давно уже пришла и прошла – словно старые колечки от пивных банок, которые мы некогда отрывали и выбрасывали. Или как само поколение постарше – с его манерой говорить и взглядом на мир, его субкультурой воспоминания, его древними речевыми оборотами и увядающими институциями, что ему по-прежнему дороги.
– И как же тогда?
– Кто его знает.
– Должно же быть что-то…
– Наверняка.
– Не могли бы мы тогда звать вас цветным?
– …цветным?
– Да, профессор. Как книжку с графическими рисунками, любовно раскрашенную малышом в нашем центре раннего детства. Будет ли уместно определять вас отныне и впредь как цветного?
– К такому нужно будет привыкнуть…
– Постарайтесь, пожалуйста.
– Приложу все силы, – сказал он.
– Здорово, – сказал я.
Я поблагодарил человека, и мы двинулись дальше.
* * *
Слушая, как цветной человек рассказывает о сложных задачах, встававших перед ним, пока он искал свое место в глубоких разногласиях Коровьего Мыка, я заметил, что несколько других участников, похоже, согласно кивают. И, ощутив возможность укрепить мужественное вступление этого человека, я посмотрел на других участников за столом, после чего обратился к одному из них конкретно:
– А у вас был сходный с этим опыт разделенности в Коровьем Мыке? – Я показал на человека, сидевшего с неофитской стороны стола. – Я спрашиваю потому, что вы, кажется, согласно кивали, покуда цветной мужчина делился с нами своей историей…
– Да, – ответил недавно нанятый профессор евгеники. – На самом деле, у меня действительно имелся очень похожий опыт. Если не считать того, что я чистокровный европеоид, что, разумеется, не так уж и незначимо. Очевидно, что это важное отличие – особенно здесь, в Коровьем Мыке. Но значит ли это, что я не могу разделять общие переживания с цветной личностью? Следует ли этому означать, что мы не способны питать те же надежды и тяготы? Те же несбывшиеся мечты? Нет! Лишь из-за того, что я трудоспособный хорошо образованный верхне-среднеклассовый праворукий гетеросексуальный протестант-европеоид мужского пола с явными перспективами на зачисление в штат, это вовсе не значит, что я не способен переживать то же мирское бремя и личные муки, как кто угодно другой.
– Не значит?
– Нет, конечно. И я переживал. Я в такой же степени жертва нашей бурной истории, как и все остальные. Хотя для меня все эти битвы происходили на ведомственном уровне.
Коллеги этого человека вокруг стола прислушивались к его словам с новой терпимостью. Он продолжал:
– Видите ли, меня наняли для того, чтобы я в кампусе разработал и расширил программу евгеники, внедрил элементы этой перспективной научной теории по всему спектру академических дисциплин. Работал в сотрудничестве со своими коллегами ради долгосрочного совершенствования наших студентов. Это, конечно, благородная цель, однако мне оказывается чертовски сложно обрести сцепление. К прискорбию, за исключением зоотехнических наук и нескольких прогрессивно мыслящих личностей на отделении автомобилистики, я столкнулся практически с полным нежеланием со стороны преподавательского состава включать евгенику в свою образовательную программу.
– И отчего так происходит, по-вашему? – спросил я.
– Не знаю. Они, похоже, в нее просто не врубаются. С виду кажется, будто они просто-напросто желают возложить прогресс культуры жертвой на алтарь укоренившейся традиции!..
– Мне знакомо это чувство! – сказала учительница эсперанто. – Поверьте, я совершенно отчетливо понимаю, о чем вы!
– Правда?
– Абсолютно. Потому что у меня ровно та же самая проблема! Хотя, конечно же, моя академическая дисциплина не так научна, как ваша, и склоняется скорее к гуманитарным наукам. Если вода – язык жизни, чем она, вне всяких сомнений, и является, я бы утверждала, что приобретенные языки ровно в той же мере – ее пастеризованное молоко. Только вообразите, как здорово было бы всем в Коровьем Мыке пить молоко! Говорить одной речью! Иметь универсальный язык, что сумел бы лакать ту влагу, какая присуща нашей общей душе. Особенно учитывая, что английский, похоже, в этом отношении нам не очень помогает. Поэтому пора попробовать нечто более действенное, верно? Отчего ж не второй язык, по поводу которого мы все можем прийти к согласию? Почему не язык, предоставляющий себя как раз для действенного общения? Вот моя жизненная миссия! К сожалению, обструкция моих коллег оказалась совершенно неоправданной…
И тут, довольно пространно, женщина заговорила о проблемах, с какими столкнулась, пытаясь внедрить в кампусе свои занятия по эсперанто. Глотая слезы, она повествовала о том, как преодолевала сопротивление при каждом шаге на этом пути: реакционная комиссия по утверждению программы; расколотая администрация; безразличные студенты; факультет естественных наук, который не понимал важности дисциплин помягче; одноязычное отделение английского, оказавшееся безжалостным собственником своей территории и подрывавшее все ее инициативы, – они, похоже, ощущали, что универсально употребляемый язык как-то угрожает фактической гегемонии английского в этой роли, – а потому, стало быть, и их собственным претензиям на ранее переданный им по договору интеллектуальный надел.
– Они как будто не понимают важности того, что я пытаюсь сделать! – всхлипывала она. – Как будто не способны оценить то, чему я посвятила всю свою жизнь!..
Тут гомосексуалист с кафедры искусств сочувственно положил руку на плечо женщины.
– Это ничего, – произнес он. – Не одной вам больно!..
И тут этот человек заговорил о своих бореньях гомосексуалиста в Разъезде Коровий Мык. Как к нему и его собрату-художнику пристали однажды вечером после джазового концерта у «Елисейских полей». И как их некогда тайные отношения стали явными, когда уборщица не вовремя пошла искать свою швабру в подсобку. И как все труднее сейчас отыскивать даже самое основное финансирование для художественного образования. Как само преподавание искусства постепенно вымывается из средних школ в пользу более функционально прагматических предметов. И как, невзирая на все это, он и его возлюбленный по-прежнему мечтают о дне, когда смогут обвенчаться в церкви.
– Мы лучше будем католиками, – пояснил он.
Я кивнул.
Бесси корябала у себя в блокноте.
Казалось, что река потекла вспять – все участники один за другим принялись делиться своими тяготами. Учительница музыки тихонько заговорила об атональности своей жизни в Разъезде Коровий Мык. Преподаватель мировых религий жаловался на политеизм политики кампуса. Анархист с кафедры философии негодовал на Димуиддлов с их бессовестной жаждой наживы и своекорыстной коммерциализацией честного насилия. Профессор экономики – тот, чья недавно опубликованная статья, предупреждающая об опасности прогрессивного подоходного налога, осталась по большей части незамеченной, – говорил о ловушках завышения оценок и том, как это подрывает трудовую этику студентов. Чарующий преподаватель творческого письма меж тем критиковал инцестуальное книгоиздание, размножающее генетически монозиготную литературу. Учительница этики скорбела о ползучей эрозии личных пространств. Трансвестит-огородник с большим чувством повествовал о сложностях отыскания женских платьев его размера в магазинах Разъезда Коровий Мык. А преподаватель философии – он к сему моменту получил в свой почтовый ящик рекордное количество вздутых мошонок – стенал о близорукости последнего решения Верховного суда. Все это время Алан Длинная Река, ветеран-профессор ораторского искусства, сидел тихо и горделиво рядом с преподавателем оружейного дела с его писклявой скрипкой, и концертный треугольник болтался у него на запястье.
Наконец крупный ледник начал таять, поток холодной воды полился из душ всех участников и растекся по плиткам пола зала заседаний, куда некогда они отложили до поры свои музыкальные инструменты. Преподаватель кулинарии. Историчка искусств. Заместитель заведующего учебной частью. Лектор по развивающему английскому. Координатор английского как второго языка. Подкатав штанины и обнявшись со своими инструментами, как музыканты на тонущем роскошном лайнере, все семеро стоически артикулировали глубокие расколы в кампусе, от которых жизнь в целом – и жизнь профессионального работника образования в общинном колледже Коровий Мык в частности – так трудна. Так непригодна для обитания. Так иссушена.
– Здорово, – сказал я. – Наконец все начинает проясняться!
Всю комнату оглашали сдерживаемые рыданья. Начался катарсис. Увертюрная соната завершилась.
– Так что мы со всем этим будем делать? – спросил теперь я, раз участники завели дискуссию о нашем культурном провале в кампусе. – Вы говорили о проблемах. Расколах. Разделении. Какофонии. Дисфункциональных комитетах. Атональности. Вздутых мошонках. Решениях Верховного суда. Вы излагали все это весьма красноречиво. И вот теперь, когда все это ясно, перед нами стоит подлинная задача – как нам начать это менять? И по силам ли нам?
Оглядев стол, я дал им это осознать.
– Каков же ответ на наш великий культурный раскол? – повторил я. – Или же – существует ли он?
* * *
– Чудесный вопрос! – сказал Рауль. – Именно на него от нас хотят ответа наши аккредиторы! И вообще не беспокойтесь, что для раскрутки дискуссии потребовался некоторый дискомфорт. Этого следовало ожидать. Не забывайте, в лучшем случае в той комнате собрались совершенно посторонние друг другу люди. В худшем они – смертельные враги. От кондиционера зябко. Стол для переговоров прямоуголен, у него острые края. Атмосфера с контролируемой температурой искусственна и вымученна. И, разумеется, вы не спали много месяцев, и этот безумный взгляд ваших глаз отнюдь не поощряет грядущего обсуждения. Очень естественно, что участники могут сомневаться.
– Спасибо, Рауль. Утешительно это слышать.
– Поверьте мне на слово, Чарли. Вам все удалось наилучшим образом – в сложившихся обстоятельствах. Дальше волноваться остается лишь за местных. С самого введения, с которым выступил приспешник Расти, они ведут себя относительно тихо. Похоже, мрачно размышляют. Это-то и беспокоит. Помните, доктор Фелч не советовал вам принимать их как должное. Они привыкли к тому, что их не замечают. Поэтому вам лучше за ними вернуться. Иначе вы не доберетесь до корня конфликта. Ваше обсуждение затронет лишь одну сторону эспланады. И вот это будет поистине жаль. Особенно раз вы так старались собрать их всех в одной комнате!
– Вы правы, – согласился я. – Но как же мне это сделать?
Как вдруг я почувствовал у себя на животе холодную руку. Бесси подкралась ко мне сзади и обхватила меня в тугом объятье. Не оборачиваясь на стуле, я ощутил запах ее шампуня после душа и почувствовал, как кожа ее грудей прижимается ко мне, ее подбородок – у меня на плече, а ее распущенные волосы свисают мне на грудь. Она целовала меня в затылок и терлась своей щекой о мою.
– Готов прерваться? – промурлыкала она и скользнула руками мне в трусы.
– Пока нет! – ответил я. – Я еще пишу!..
Бесси прижалась ко мне плотнее.
– Ты сказал, что будешь готов, несколько минут назад… несколько минут назад. А уже прошло гораздо больше. Дело уже сильно к трем. Прервись, а?!
Я легонько поцеловал ее в щеку.
– Пока не могу. Очень бы хотелось, но просто не могу. Мне нужно вставить в отчет точку зрения местных. Надо это записать, покуда я не принял их как должное, беззаботно двинувшись дальше.
Бесси провела рукой по внутренней стороне моего бедра.
– Жизнь коротка… – произнесла она.
– Стоп! – возмутился я.
Но она не остановилась. По-прежнему потираясь о меня сзади, она зашептала мне на ухо:
– Самое время, Чарли.
– Время для чего?
– Я им обоим сказала…
– Что сказала?
– О тебе.
– Кому?
– Моим мальчикам. Я рассказала им о тебе и обо мне. О нас. О тебе. Я им сказала, что ты, может, зайдешь в гости. И они теперь этого ждут…
– Здорово, – ответил я.
– Я им много чего о тебе рассказала.
– Отлично.
– Время приспело, Чарли. Они готовы познакомиться с человеком, в которого я безнадежно влюблена.
– Годится. Хотя не прямо сразу…
– Не на этих выходных, конечно. Может, зайдешь к нам как-нибудь на следующей неделе?
– Может, и получится. Хотя, если подумать, у меня и на следующей неделе много дел.
– Или через одну?
– Мы это точно сделаем. Но вот прямо сейчас я не могу об этом думать. Сейчас мне хочется только закончить эту часть своего отчета, пока я ничего не забыл. Всего несколько минут. Вот дай мне дописать, и я буду так же восприимчив, как и ты!..
Бесси убрала руку у меня из трусов и снова бросилась на кровать, и пружины застонали, а ноги ее при падении подскочили и широко развелись.
– Ты со своим чертовым отчетом! – пробормотала Бесси. Она не обеспокоилась прикрыться, и, когда разлеглась на кровати, поза ее становилась все непристойнее с каждым копившимся мигом. – Ну его уже к черту, этот отчет! Люди живут, пока ты пишешь этот свой дурацкий отчет. Только подумай, сколько поразительного происходит в ощутимом мире, а ты застрял за этим столом! Сколько всего приятного случается с другими людьми, пока ты тут сидишь с этой своей ручкой и бумажками!..
– Я уверен, что они великолепно развлекаются. Вот и молодцы. Но судьба нашего колледжа зависит от того, что я в итоге напишу в этом отчете. Поэтому он как бы важен…
– Плевать. Вы, образованческие управленцы, все одинаковы.
– Говори что угодно, – парировал я. – Но от таких, как мы, зависят сами ваши работы. Ваши судьбы – в руках тех людей, кто пишет за вас отчеты. Само будущее нашего мира зависит от его администраторов образования!
Бесси закатила глаза.
Я рассмеялся и начал было отворачиваться от нее. Но затем, окинув взглядом ее распростертую наготу, погрозил ей пальцем:
– …И прикройся, будь добра! Не могу я работать, если ты тут так раскинулась, вся голая!..
Большим и указательным пальцами Бесси схватилась за самый кончик простыни и натянула ровно настолько, чтобы прикрыть себе лишь пупок.
– Лучше? – спросила она.
– Бесконечно. Та часть твоей наготы меня на самом деле очень отвлекала. Ну а теперь позволь мне вернуться к работе!..
Рауль рассмеялся и сверился со временем на своих наручных часах с калькулятором: оставалось еще несколько минут до того, как нам предстояло вновь зайти внутрь.
– Наверное, и впрямь многое можно сказать об избегании отношений с сотрудниками! – признал он. Мы с Раулем вышли на пятиминутный перерыв в семинаре по повышению квалификации на этой неделе и теперь вдвоем вместе со всей остальной группой толкались у дверей зала. Первую половину семинара ведущая потратила на то, что недопустимо в романах между коллегами: ревность, сплетни, неспособность отделить личное время от рабочего, когда все сливается воедино, как у рояля с заевшей педалью; и, разумеется, на то, как, едва в отношениях все пойдет чудовищно наперекосяк, вся эта неразбериха имеет склонность переливаться в рабочее пространство, словно неочищенные стоки в реку – или в плавательный бассейн, или в концертный зал, где исполняют вашу симфонию. Слушая это все, Рауль, казалось, задумывался глубже и глубже: – От такого как бы поневоле усомнишься, стоит ли заводить шашни с коллегой, а?
– Видимо, усомнишься. Только теперь об этом думать как-то поздновато. А кроме того, какие у нас варианты, Рауль? Вряд ли мы бы стали ходить по местным барам в поисках женщин. Вряд ли сушь и отдаленность окружающего региона поощряют бурный расцвет светской жизни для администраторов в сфере образования и ведомственных научных работников. И вряд ли я мог бы просто сказать ей: эй, Бесс, знаешь, мне кажется, мы совершили ошибку… Я думаю, ни у тебя, ни у меня с этим вот всем ничего не получается…
– Это правда. Но должен же быть какой-то компромисс. Должен найтись способ примирить одно и другое. Наверняка же есть такое, что мы бы могли…
Вдруг в комнате грохнул выстрел. От этого звука я инстинктивно пригнулся.
А когда поднял голову, в ушах у меня по-прежнему звенело.
– Что это за чертовщина?! – воскликнул я.
– Это, – гордо сказала Этел, – карабин «ругер-канюк» под карабинный патрон.
Я растер себе мочки ушей.
– Он всегда такой громкий?
– Почти. – Этел оглаживала блестящий револьвер обеими руками. – Ладно вам, Чарли, не расслабляйтесь. Не делайте вид, будто не знали, что вас ожидает. В последнее время вы как-то рассеянны. Но тут такому не место. Вам нужно не терять сосредоточенности на том, что делаете. Это стрелковый полигон, а не библиотека. Пули, которыми мы стреляем, – настоящие, а не как у вас в отчете. Последствия этой реальности могут оказаться поистине трагичными. И, бога ради, юноша, наденьте наушники!
Так и не стряхнув потрясения, я заткнул себе уши затычками, потом сверху для верности натянул еще и наушники с двойной прокладкой. После чего схватил свой пистолет с лавки, на которой он лежал, и, встав в ту стойку, что она мне показала, направил ствол в цель. Огневые дорожки были длинные, и на дальнем конце своей я едва мог различить далекую мишень, для меня выбранную: силуэт аккредитора, держащего планшет с рецензией, которую приезжая комиссия дала нашему свежему самостоятельному отчету. Мишень располагалась не так далеко, чтоб я не мог вообразить себе его язвительный комментарий, произносимый надменным тоном, с его скупыми формулировками и общей тенденцией называть «мошонки» латинским термином во множественном числе. В бреду моем неподвижный силуэт, казалось, надвигался, наступал на меня, проникновенно и коварно мне угрожая. Потуже сжав рукоять пистолета, я взвел курок и вперился в приближавшийся издалека призрак региональной аккредитации. В несшуюся ко мне тень бездетной несуразности и пожизненного скучного профессионализма. Накопления резюме. Необсуждаемого новаторства и результативности ради самой результативности. Мира, в котором на самом деле верховодит конфликт, а пылесосы по-прежнему означают прогресс, где удобства таксидермии на самом деле ценятся больше необоримых воплей коровы-мамы, разлученной с ее трехмесячным теленком. В измождении и смятенье своем я на все это посмотрел и ничего не увидел. Вернее сказать – поискал хоть что-нибудь и увидел все.
Медленно я стал давить на спуск.
* * *
Бесси только что встала перекинуть на треножнике большой бумажный лист, но я жестом попросил ее остановиться.
– Секундочку, Бесс…
Бесси с удивлением воззрилась на меня.
– Прошу прощения, – обратился я к группе. – Но прежде чем мы двинемся дальше, мне бы хотелось задать вопрос преподавателю оружейного дела, здесь присутствующему. До сих пор мы много чего слышали от неофитов за этим столом, а вот с другой стороны – почти ни звука. Так не могли бы вы, как человек местный, мне сказать, каков ваш опыт? В дополнение к тому, что мы уже слышали от людей, собравшихся сюда из бессчетных других мест на этом свете, отличных от Разъезда Коровий Мык. Они были откровенны и готовы делиться, как обычно. Но каков ваш взгляд на эту тему?
– Вы меня просите поговорить о культурном расколе между местными и неофитами? – ответил преподаватель оружейного дела.
– Да, – сказал я. – Какой опыт вы получили за свою карьеру в Коровьем Мыке? Как человек, родившийся и выросший в этом регионе, как вы рассматриваете этот междоусобный конфликт, парализовавший наш кампус?
Преподаватель посмотрел на своих коллег, сидевших с ближайшей к нему стороны стола, затем – на неофитов, сидевших напротив. После чего покачал головой.
– Мне об этом нечего сказать.
– Но как же такое возможно? Я вам предлагаю возможность озвучить точку зрения вашей стороны стола…
– Без комментариев.
– Никаких?
– Нет.
– Вообще ничего?
– Не-а.
– Но почему? – спросил я у Расти в музее. – Почему никто из местных не желает высказывать мнение в формальной обстановке? Я постоянно слышу, как они его выражают, когда никто не записывает. Ух, да еще и как они его выражают! За соседними столиками в кафетерии. Или среди секретарш в машбюро. Я же знаю, что оно у них есть. Так почему же они так упорствуют и не желают излагать свою сторону в безопасной среде с контролируемой температурой, где происходит заседание нашей фокус-группы?
Расти разбирал какие-то старые фотоснимки, которые ему завезла и оставила одна семья, покидавшая Коровий Мык навсегда. Семье хотелось, чтобы наследие их осталось в надежных руках, поэтому они всё подарили музею; говоря со мной, Расти с тоской разглядывал эти фотографии, одну за другой перебирая их, и его, казалось, больше интересовали мягкие оттенки сепии, чем исход моей фокус-группы.
– Они вам не доверяют, Чарли.
– Не доверяют мне?
Расти положил стопку снимков на стеклянную витрину: сверху оказался зернистый профиль сурового мужчины верхом, а на коленях у него болталась свитая в кольца веревка. Расти стер пыль с этого отпечатка. После чего сказал:
– Вам нельзя полностью доверять, Чарли. Ну да, ваши прародители первоначально были отсюда родом. Но они же уехали, правда? И да, вы пришли к нам на барбекю и ели мясо, что мы вам предложили. Да и пива нашего вы довольно выпили. Слушали наши истории о былых днях. Вы, похоже, разделили с нами тот миг. Все это так. Однако среди местных вы известны как единственный опоздавший. Вы один пропустили наше бравшее за душу поминовение Мерны.
– Вяжется, – сказал я.
– Что с чем?
– Гуэн мне как-то сказала то же самое о неофитах. Объяснила мне, что среди присутствовавших на водяном сборище я известен лишь как тот, кто явился лишь затем, чтоб уйти пораньше. Что меня знают как того, кто убрался до срока, так и не испытав никакого оргазма. Иными словами, мой план вышел мне боком. Я возник слишком поздно для того, чтобы встать на одну сторону культурной пропасти, но удалился слишком рано с другой, чтобы остаться и на ней. Я пытался быть в обоих местах, а на самом деле, видимо, не пошел ни в одно. Мне тут не выиграть.
– Именно. Планы – штука полезная. Но иногда полезно быть чем-то целиком. Искренне. Делать то, что правильно, – а не то, что просто имеет смысл. Полностью посвящать себя одному за счет другого. Предпочитать либо ручную пишущую машинку, либо электрическую – а не обе одновременно. Строить мост – это здорово, но еще здорово и стоять на твердой почве либо по одну сторону от него, либо по другую. Вот какая задача вам предстоит, Чарли. И я вам не завидую. Хотя могу сказать, что вы все равно лучший кандидат на то, чтобы проводить эту фокус-группу повышенной важности. Потому что вы хоть и явились на реку позже, чем следовало бы, вы все же пришли к нам на барбекю.
– Точно, – сказала Гуэн. – И хоть вы ушли из студии йоги раньше, чем это принято в обществе, – и без штанов, если я правильно помню, – вы все же изначально уделили время, чтобы явиться к нам на водяное сборище.
– Но это все равно не объясняет, почему местные не желают делиться своей частью всей истории…
– Так мы уже! – сказал Расти. – Она в наших традициях. Она у нас в склонностях. Она в словах, что мы выбираем, и в голосе, которым мы их произносим. Однако никто не уделяет времени, чтобы нас услышать. А меж тем знаете ли вы, сколько раз нас опрашивали? Сколько чертовых фокус-групп нам пришлось высидеть? Вам известно, сколько раз образованные люди пытались придумать, как нас лучше понять? Как будто мы – экспонаты в зоопарке? Чарли, у вас есть хоть какое-то представление о том, как часто они пытались набить из нас чучела и выставить на погляд? Но почему оно непременно должно быть так? Почему они не могут просто выслушать произносимые нами слова, пока мы еще тут и можем их произносить?..
– Ну, могу себе представить, что это трудно, знаете. С другой стороны стола вы, местные, просто выглядите закосневшими. Вы против прогресса. Реакционеры. Кажется, будто вы не хотите перемен просто потому, что это не вашего сорта перемены.
– Послушайте-ка, – сказал Расти, – когда все эти новые люди только начали стекаться в Коровий Мык, мы из кожи вон лезли, чтоб быть гостеприимными. Мы приглашали их к себе домой и предлагали им все, что у нас было. Давали им мясо. Брали их смотреть футбол в местную среднюю школу вечером в пятницу. Звали их принять Иисуса Христа как своего Окончательного Искупителя. Короче говоря, относились к ним так, как нам бы самим хотелось, чтобы относились к нам. И знаете, как они на все это реагировали? Знаете, что они с нами сделали в ответ?
– Нет…
– В ответ они все плюнули нам в лицо! Потроха?! Да ну их к черту, ваши потроха! Скот? К черту ваш скот! Грузовики? К черту ваши проклятые грузовики – вам всем следует ездить на машинах с экономичным потреблением топлива. И зачем вам барбекю, если можно делать фондю? К чему охотиться на местную дичь, если можно смотреть на далеких знаменитостей по телевизору? Зачем быть набожными, когда можно духовными? Вот честно, этим людям было наплевать, вообще существуем ли мы или нет. Им небезразличны только их собственные вечеринки, их оргазмы и их руккола. Мы им только досаждаем. Мешаем. Некое неудобство, о каком нужно вспоминать время от времени, по необходимости. Чарли, для этих людей мы всего-навсего создаем атмосферу…
Впервые с тех пор, как мы встретились, Гуэн замерла в своей энергичной проходке по тропе к кафетерию. Мы уже прошли больше половины кампуса и стояли у прачечной-автомата для преподавателей. С самого начала нашей прогулочной дискуссии я старался не отставать от ее целеустремленного шага, отчего эта ее внезапная остановка оказалась еще более поразительной. Гуэн, казалось, в ярости от только что услышанного.
– Так он утверждает, что они были гостеприимны? Что нас принимали с распростертыми объятиями? Вы смеетесь надо мной, что ли? Футбол? Мясо? Грузовики? Все это здорово и прекрасно. А спросите у него о последнем заседании рождественской комиссии, на котором я была. Спросите у него об этой встрече, Чарли!..
– Какой встрече?
– О последнем разе, когда мы с ним вместе заседали в рождественской комиссии.
– Вы с ним вместе были в рождественской комиссии? Одновременно?!
– Конечно, – ответил Расти. Теперь он отошел от своих архивов и стоял у чучела телки, поглаживая его по холке, словно она живая. – Боже мой, она до сих пор на это злится?
– Судя по всему, – сказал я. – Она мне предложила у вас об этом спросить.
– Уверен, ей бы это очень понравилось. Но ей нужно это преодолеть. Пора двигаться дальше.
– Дальше от чего?
– От того, что произошло.
– А что произошло?
– Ничего не произошло.
– Ничего?! – сказала Гуэн.
– Да, – подтвердил Расти. – Ничего не произошло.
– Херня какая! – сказала Гуэн.
– Да в ней самой херни полно! – сказал Расти.
Я замер. Наконец-то показалось, что я докопался до самой сердцевины чего-то важного. И потому я посмотрел на них обоих.
– Ну, так можете ли вы мне тогда рассказать всю историю? – спросил я. – Можете изложить, как именно ничего не произошло? Поведать в подробностях, как ничего не произошло и как это ничего вдруг превратилось во что-то?..
Оба они посмотрели на меня с сомнением: Расти стоял рядом со своей телкой, мы с Гуэн – посреди длинной эспланады, ведшей к кафетерию, и студенты потоком огибали нас, шагая на занятия.
– Можете вы мне рассказать, что на самом деле случилось на том роковом заседании рождественской комиссии? – повторил я. – Поскольку либо что-то произошло, либо нет. И это могло быть существенно важным. Поэтому так или иначе, но мне бы интересно было это услышать.
– Долгая это история… – предупредили они.
– Как водится…
– …И очень некрасивая, – сказали они.
– Так часто и бывает!
– Нелегко рассказывать ни о чем.
– Вполне допускаю. Но такая попытка несомненно благородна…
Два соперника помолчали, как будто сейчас оба направятся соответствующими академическими дорожками. Но потом оба остановились. А затем, словно у них где-то внутри заклокотала человечность, каждый начал рассказывать о заседании рождественской комиссии, на котором оба они присутствовали.
– Как оно бывает в истории, – сказали они, – все свелось к меню. Тут-то все и пошло не так…
– Судьба нашего учебного заведения, всего нашего сообщества пошла не так из-за меню?
– Да, в тот день мы обсуждали меню. Меню к рождественской вечеринке…
* * *
И тут они мне рассказали, как их обоих приписали к подкомиссии по питанию и напиткам, и они встретились в том же конференц-зале, где ныне удерживала равновесие и моя фокус-группа. В массе подробностей описали они, как расселись по разные стороны прямоугольного стола для переговоров и как, заняв свои места, приступили к делу – подытоживать списки еды и выпивки, которые предстояло подавать на рождественской вечеринке того года.
– День клонился к вечеру, – сказала Гуэн.
– А семестр – к концу, – сказал Расти. – Было начало третьего, а в три мне предстояло принимать экзамен.
– Было уже поздно, поэтому я предложила поделиться своими мыслями первой. «Мне начать? – спросила я. – Или лучше вам?» Тогда еще все диктовалось учтивостью.
– Конечно же, я выскажусь первым, – сказал Расти. – Потому что я здесь дольше вас. Иначе сказать, мои профессиональные и личные свойства известны, моя лепта в колледж и наше сообщество задокументирована. Моя семья живет здесь много поколений. Мои предки похоронены в пыльных полях кладбища «Коровий Мык» – в отличие от ваших, погребенных бог знает где. Вообще-то я могу отвести вас к могилам моих дедов за несколько минут, вы же предпочли оставить свои на их собственный произвол, разбросанные по стране, как развеянную ветром мякину. И по этой самой причине крайне уместно, чтобы я высказал свои замыслы первым. Конечно же, не думаю, чтобы ей это хоть в малейшей мере понравилось…
– Конечно, мне это ни в малейшей мере не понравилось! Да и с чего бы? С какой это стати его мысли заслуживают большего предпочтения, чем мои? Ну да, предки мои – не из Коровьего Мыка. Конечно, мои дед и бабка похоронены в разных местах очень, очень далеко отсюда. Но ведь и не сказать, что моя жизнь началась, лишь когда я прибыла на временную автобусную остановку! Однако именно так меня вынудили себя почувствовать. Все это было очень оскорбительно. Но времена тогда еще были таковы, что мы не очень-то над таким вот задумывались. Тогда мы еще бегали босиком и беременными в кухнях академического дискурса.
– Мы?
– Да, мы. И потому я ему сказала, что он может высказываться вперед меня. «Будьте любезны…» – сказала я и позволила ему выступить первым.
– Позволила мне? Да кто она такая, чтобы позволять мне выступить! Я выступал первым, потому что таков естественный порядок вещей со времен первого праха. И порядок этот – превыше каких бы то ни было капризов, какие бы у нее ни возникли. А потому я взглянул на нее и сказал: «Перво-наперво, я полагаю, что нам не следует заново изобретать никаких колес. Если колесо достаточно круглое и способно катиться, так и поезжайте на нем всенепременно. Если река течет – плывите по ней. У себя в блокноте я тут набросал меню, которым мы пользуемся уже много лет. Оно почти исключительно состоит из мясных блюд, и на протяжении многих веков служило нам верой и правдой. Стало быть, я предложил бы начать с него – и кончить им же». И протянул ей свой блокнот.
– С мясом?
– Да.
– Исключительно?
– И полностью.
– Я взяла у него блокнот и, само собой, в нем перечислялись все мыслимые блюда из говядины. Из всех частей коровы. Всеми способами приготовленные. Говяжьи тефтели и рубленые бифштексы, мясной рулет и телятина, отварная солонина и стейк, говядина вяленая и тушенная в горшке. И я взглянула на этот список с уважением, а затем сказала: «Ну, мясо – это все прекрасно и прочее. Но вокруг нас существует мир пошире этого, и в этом широком мире также представлены овощи всех мыслимых разновидностей. Есть морковь и сельдерей, спаржа и брюссельская капуста, соя и брюква, свекла и брокколи, цветная капуста и шпинат, фасоль и кукуруза, а также…»
– Кукуруза – это хорошо!
– …также руккола…
Тут он умолк.
– Руккола? Что это за чертовня такая, руккола?
– Чарли, он даже не знал, что такое руккола! И потому я ему объяснила, а он сказал…
– За каким чертом нам нужна руккола на рождественской вечеринке?
– «Из-за того, что она собой представляет», – сказала ему я.
– И что же, будьте любезны, она собой представляет?
– Она представляет собой будущее человечества. Неизбежное поступательное движение от плотоядных начал к высшему плану травоядной трансценденции. Такова непреклонная эволюция наших стремлений от первобытных позывов к более благородному и самоознающему желанию чего-то более тонкого.
– Это горшок дерьма.
– Нет, это не горшок дерьма. Это наша общая судьба.
– Нет, милочка, отнюдь. Овощи суть овощи, и ничего больше. А мясо, дорогая моя, есть мясо. И ваше желание перейти от одного к другому больше говорит о ваших собственных эгоистичных целях поддержать инновации ради них самих. Жить дольше ради жизни дольше. Достичь непрерывного усовершенствования за счет смиренной благодарности за то, что и так уже есть.
– Так что вы, стало быть, выдвигаете? Вы предлагаете мир, которым правит исключительно мясо? А не тот, что признает всю сложность своего вегетативного многообразия?
– И с каким выбором мы тогда остаемся? В диетической цепи человеческой эволюции вы все – руккола, а мы – вырезка. Однако в цепи этой – конечное количество звеньев, способных прокормить бесконечное количество ртов. И потому, прежде чем мы слишком забежим вперед себя, давайте убедимся, что на нашей рождественской вечеринке мы не забудем прославить не подвластные времени достоинства говядины и стейка, рубленого бифштекса и мясного рулета, телятины, говядины вяленой и тушенной в горшке…
– И кекс с цукатами!
– Кекс с цукатами? – переспросил я.
– Да, – сказала Бесси. – Ты такой ел?
– Конечно.
– И тебе нравится?
– В этом я не очень уверен, – ответил я. – Ты имеешь в виду метафорически или буквально?
– Буквально. Чего ради кому-то печь метафорический кекс с цукатами? Нет, Чарли, я говорю о буквальном кексе с цукатами… тебе он нравится?
– Годится. Не самый у меня любимый. Но ничего так. А что?
– Моя мама хотела испечь. Ну, знаешь, к твоему приходу. Отпраздновать такой случай.
– Прекрасно. Кекс с цукатами – отлично. И я просто уверен, что сочту кекс с цукатами твоей мамы вполне прекрасным, когда настанет тот день и я приду познакомиться с твоими детьми. Но во сколько мне там нужно быть? На какое время ты это планируешь?
– Я тебе уже не раз напоминала…
– Да, но не могла бы ты мне еще раз сказать, чтоб я не забыл? Я, кажется, много чего в последнее время забываю…
– В два часа.
– Ах да, в два. Конечно же, в два. В два часа когда-нибудь, точно…
Бесси рассмеялась и щелкнула моей резинкой трусов.
– Хватит отчетописательства! – сказала она и откинулась на кровати, потянув меня при этом за собой. Такая позиция для меня не стала беспрецедентной, и со своего наблюдательного пункта я вновь обозрел воды, перемещавшиеся подо мной. Поток влаги из одного места в другое. Постепенное запруживание и внезапное высвобождение мокроты, текущую и текшую всегда. Воду, что пребудет дольше самых крепких и сдерживающих плотин.
Когда утоление жажды у нас обоих завершилось, мы лежали под одеялами, пока она наконец не заснула на другой подушке. Уже забрезжило утро, и до понедельника оставалось совсем немного времени, поэтому я украдкой отполз к своему рабочему столу – продолжать отчет. Взяв карандаш, я взялся писать о двухчасовом обсуждении декларации ведомственной миссии колледжа; и о том, что участникам нравилось в нынешней нашей декларации, а что, по их мнению, следовало бы изменить. Заточив карандаш до еще более тонкого острия, я подробно описывал, как две стороны в конце концов сумели прийти к согласию относительно новой формулировки – если не ради гармонии или коллегиальности, то уж, по меньшей мере, чтоб создать видимость в самостоятельном отчете. В постраничном примечании я с некоторым оптимизмом отметил, что Расти и Гуэн некогда сидели вместе за тем же столом, где ныне проводилась моя фокус-группа, что некогда они были способны оставаться в одной комнате одновременно; однако с равным же сожалением я признавал, что расхождения меж ними теперь, казалось, проникли в колледже во все – включая и мою фокус-группу. Когда все это было сделано, я снова растопырил пальцы сведенной от усталости руки и под ночную тьму, по-прежнему расстилавшуюся у меня за окном, стал писать о последнем вопросе, который все еще нужно было задать, прежде чем счесть фокус-группу завершенной. Усталый, неистовый, в глазах у меня темнело от прилагаемых усилий, я придвинул абажур лампы совсем близко к бумаге и писал, писал, писал…
* * *
А когда оторвался от своего отчета, доктор Фелч снова сунул голову ко мне в дверь.
– Готово уже? – спросил он. – Вы должны были сдать мне отчет на той неделе. А уже эта неделя, и отчета я еще не видел.
– Боюсь, я его пока не закончил.
– Конец хотя бы близок?
– Э-э, не вполне. Мне бы еще чуточку времени…
– Я вам и так уже дал две отсрочки. Сколько вам теперь еще надо?
– Может, неделю. Или больше.
– Сроку вам до понедельника.
– Но это же так быстро! Сегодня уже пятница. Вторая половина дня, и до понедельника меньше трех суток. Завтра начинаются выходные. Видите ли, сэр, у нас с Бесси были планы провести следующие несколько дней, запершись у меня в квартире и запасшись едой на выходные, пивом на неделю и на целый семестр…
– Чарли! Времени вам даю до понедельника. И на этом всё. Черт возьми, от этого зависит судьба нашего колледжа.
В кафетерии Уилл, как мог, попробовал меня приободрить.
– Вы, Чарли, не переживайте так, мальчик мой. Не все годятся в образованческие управленцы.
– Большое спасибо.
Уилл еще раз затянулся сигарой. И сказал:
– Это как моя жена говаривала в начале. Скажет, бывало: «Смиткоут, ты об этом не переживай. Есть и другие способы. Не всем академикам суждено стать великими любовниками. Или наоборот. На белом свете всякие нужны. Поэтому просто выбери что-то одно и стань в этом великим!..»
– Это вам она так говорила?
– Да. Она мне много чего говорила. Но не переживайте: со временем все придет… как что угодно. Видите ли, Чарли, вы слишком близко к сердцу этому своему все подпускаете. Не воспринимайте себя так уж всерьез. Отчет, что вы пишете, – тот, что якобы определит судьбу всего нашего учебного заведения, – ну, может, он и определит. Однако шесть с половиной лет спустя кому будет на него не наплевать? Никому не будет дела, написали вы его или нет. Почему? Да потому что значение он имеет лишь в отрицательном смысле. Если вы его запорете и мы потеряем аккредитацию – все встанут на дыбы. Если же вы просто сделаете свою работу хорошо, никому не будет до этого дела! Таков подлинный героизм образованческого управленца. И таков героизм управленцев в сфере образования вообще. Как столь многое на свете, Чарли, оно просто приходит и уходит, тихо и неприметно, и по этой самой причине – героически.
Я кивнул.
– А кроме того, – сказала Нэн, – все утверждают, что вашей рождественской вечеринке грозит серьезная опасность. Что Расти и Гуэн на нее придут. Может, вам имеет смысл посвятить немного времени этому, пока не слишком поздно. Пока одиннадцатое декабря не пришло и не прошло без нашей кульминации семестра, уже второй год подряд. Вам же хочется упомянуть это в своем резюме, правда?
– Она дело говорит, – сказал Рауль. – И не воспринимайте это как-то не так, но последний черновик, что вы мне дали на вычитку… тот черновик вашего отчета? Боже правый, какая же там неразбериха. Я едва сквозь него продрался!
– Все настолько плохо?
– Да его прочесть невозможно!
Слова стрелами прилетали с тысячи разных сторон. Потом, задержав меня в машбюро, одна секретарша администрации добавила еще один снаряд к залпу продольного огня.
– Не хотелось бы распинать вас, когда вас и так топчут, – сказала она, – но елки-палки, Чарли, вы давно в зеркало на себя в последний раз смотрели? Страшно видеть, во что вы превратились!..
Слушая все это, я, не торопясь, размышлял над их словами. Конечно, каждый из них был прав. По-своему, каждый из них всегда был прав. Но теперь-то что? Сейчас, когда я проехал половину огромной страны в поисках наследия, какое можно оставить по себе, – какие сейчас у меня варианты? По шкале от единицы до десяти – десять тут бронзовая статуя, а единица кочующий клок тумана – мой долговечный вклад в мир уж точно не превышал уверенные три с половиной – ну, четыре, быть может, если мой самостоятельный отчет окажется успешен, но все равно еще один гипсовый монумент современной посредственности.
– Так что же мне делать? – спросил я. – Я согласен со всем, что вы только что сказали. Все это крайне осмысленно. Но что мне с этим делать?
– Вам нужно это все отпустить, – сказал Уилл. – Не принимайте ничего близко к сердцу.
– Если хотите подчистить этот отчет, – подсказал Рауль, – для организации содержания вам нужно воспользоваться планом. Распланируйте все тщательно. Составьте блок-схемы. Примените процесс воображения, и ваши идеи обретут бо́льшую структуру, чтобы написанное вами текло логичнее.
– Научитесь делегировать.
– Воздерживайтесь от точек с запятыми.
– Устройте фокус-группу.
– Пользуйтесь блокнотом-планировщиком.
– Принесите им игрушек, которые нравятся мальчикам их возраста. А их мамочке – гвозди́ки.
– Применяйте бритву с двумя лезвиями.
– Не смотрите свысока на цветного человека.
– И не забудьте спросить участников об их мнении о рождественской вечеринке. Поскольку их вовлеченность – самое главное.
Я кивнул.
– Но больше всего остального вам нужно немного поспать. Когда вы в последний раз высыпались, Чарли?
– Много месяцев уже нет.
– Так поспите.
– Если б это было так легко.
– Это легко. Спите!
– Но как? Ведь кафедра математики отнюдь не ведет себя тише. И они отнюдь не утрачивают своей страсти к математике…
– Вот, возьмите-ка вот это…
– Пилюли?
– Да. Принимайте два раза в день после еды.
– Но я даже не ем два раза в день! Хорошо если я хоть раз поем!
– Тогда принимайте на голодный желудок. Но берите.
– И они помогут мне спать?
– Да, помогут, – ответила Гуэн.
Расти покачал головой.
– Ничего они не помогут, – возразил он.
– Пилюли Гуэн не помогут?
– Нет, конечно. Это пустая трата времени, потому что вам не спать нужно, а бодрствовать. Что толку во сне, если вам нужно не спать, чтобы дописать свой отчет?
– Разумно.
– Еще бы. Вот, попробуйте вместо них эти пилюли…
– Спасибо, – сказал я.
– На здоровье! – ответили они.
Я протянул руку, и эти двое поместили мне в ладонь соответствующие пилюли.
– Но эти таблетки, что вы мне дали, по-вашему, помогут? – спросил у них я. – Как вы считаете, они помогут мне не уснуть? Как по-вашему, они помогут мне уснуть? Вы можете пообещать, что они мне помогут уснуть и не уснуть соответственно? Или, по крайней мере, сделать это параллельно?
– Конечно, помогут! – сказали они.
И вот так я взял обе пилюли и проглотил их, запив пригоршней воды из раковины в туалете.
– Прекрасно, – сказала секретарша. – Есть надежда, что пилюли помогут. Теперь что касается вашей гигиены – ну, в этом вопросе, быть может, вам стоит начать с того, чтобы прилично побриться и подстричься. И, может, надо попробовать хотя бы изредка стирать эти ваши вельветовые штаны. Вы же, в конце концов, администратор в области образования, а не какой-нибудь почасовик…
– Точно!
И потому я вернулся в уборную дальше по коридору, где еще раз умылся. И поправил на себе воротник. И заткнул в брюки парадную рубашку. А у себя в кабинете схватил ножницы и, зажав между колен небольшую пластиковую урну, склонился над ней и принялся окорачивать бородку. Волосы падали в урну, а я, пока щелкал ножницами, видел, как они собираются на дне в маленькие кочки. Фоном в тихой комнате продолжал тикать маятник. А еще глубже этого фоном раздавался слабый и неумолчный стук в дверь.
* * *
{…}
Когда стучится Любовь, всегда нужно проворно ответить. Ибо Любовь редко стучится вторично так же настойчиво.
{…}
* * *
– Чарли! – сказала Бесси, входя ко мне в кабинет без стука. – Что ты тут делаешь? Мы все ждем тебя в конференц-зале. Обеим сторонам стола уже неймется. Ты же сам сказал, что перерыв – десять минут. А уже прошло тридцать пять. Участники потребили всю рукколу и почти всю вяленую говядину, там уже становится некрасиво. Они вылизывают миску! Почему ты здесь?
– Я только, знаешь, мысли собрать пытаюсь. Все происходит так быстро, а у меня такое чувство, что я лечу по произвольно раскручивающейся спирали. Не могу угнаться. Меня накрывает. Такое чувство, будто я всех подвожу. И потому я просто зашел сюда, чтобы на несколько минут закрыть дверь и попытаться взять себя в руки. Чтобы попробовать во всем этом как-то разобраться.
– Это прекрасно. Но тебе нужно вернуться к фокус-группе…
– Да знаю я, вот правда. Это мне известно очень хорошо. Я сейчас приду…
– Они уже устали ждать…
Бесси показала жестом в сторону конференц-зала, после чего неожиданно распустила узел на талии, и ее полотенце соскользнуло на пол.
– И я тоже устала ждать! – сказала она.
– Но…
– Сейчас или никогда…
– Но мы же уже!..
– Сердце мое не раскрывается больше этого. Тело мое не оголяется…
– Сейчас приду, – сказал я. – Только дай мне закончить эту часть…
Я взглянул на лежавший передо мной отчет.
– …Ты принимаешь меня как должное, Чарли.
И потому я снова поднял голову:
– Нет, не принимаю. Мне лишь нужно перебраться через несколько последних вопросов…
Бесси покачала головой. Дотянувшись у меня из-за плеча, она схватила книгу у меня со стола.
– Ты еще ее не дочитал?
– Эй, а ну отдай-ка!..
– Почему? О чем ты читаешь сейчас?
– Ни о чем. Отдай!..
Бесси раскрыла книгу там, откуда торчала закладка, и прочла название главы, на которой я как раз остановился:
– «Глава тридцать пятая… – прочла она демонстративно и с выражением, словно стояла на сцене. По-прежнему голая и бесстыжая, она продолжала так же театрально: – …Распознаем, когда семестр действительно завершен… и как закончить его с изяществом…»
На слове «изящество» она крутнулась неуклюжим пируэтом.
– Отдай сейчас же!
Но она не отдала. Держа книгу перед собой на вытянутой руке, она принялась читать:
* * *
{…}
Как и всё в природе, чувства полового влечения, которые член преподавательского состава может испытывать к другим представителям своей профессии, склонны со временем утихать. Это так же естественно, как печальный конец любого некогда радостного и многообещающего предприятия. Ровно так же, как постепенно завершаются семестры нашей юности – этапами, что наступают и исчезают незамеченными, – так и наше романтическое расположение может увядать со сменой времен года. Начало этого путешествия наверняка будет отмечено чистой надеждой и оптимизмом новизны: неприкрытая нервозность, когда впервые входишь в новый класс; приподнятость первой пробной дискуссии в этническом ресторане. Вскоре же – и неощутимо – наступает неотвратимое успокоение: гаснет возбуждение, пропускаются занятия, не приходится на встречи, забываются дни рождения и прочие события. По мере того как корни пускают привычка и самодовольство, неизбежно допускаются кое-какие вольности. И пока эти семестры проходят, юношеские грезы о величии угасают в разочаровании реальностью. Разоблачаются мифы первого свидания. Вскрывается ложь. Безвольно принятые решения. Обрезки ногтей с ног. Вздутое резюме. Все это как-то склонно сливаться воедино в конце семестра нашей жизни, словно перед студентом на грани провала вдруг предстает налетающий на него призрак экзаменационной недели.
Какого студента ни возьмите, решение покинуть занятия дается ему нелегко. Непросто и штатному члену преподавательского состава выйти из отношений, что некогда обещали так много. Однако преждевременное извлечение из них – явно более безопасный вариант. Извлекитесь слишком поздно – и могут возникнуть серьезные последствия. Извлекитесь слишком рано – и можете отказать себе в наградах за свои начальные усилия. Как и во множестве всего в жизни, следовательно, здесь тоже все сводится к верному расчету времени. И потому решение это и впрямь непросто. Свежеошеломленная, стремящаяся к получению степени студентка может остаться и слепо продолжать свои целенаправленные движения, что привели ее к этой точке во времени и пространстве, а вот преподавателю, отказавшемуся от любых претензий на любовь, останется лишь унять свои авансы, покуда последствия его усилий не зайдут попустительски слишком далеко. Но когда именно? Вот вопрос, ставивший в тупик величайших в мире любовников и породивший основную массу человечества. Ибо ни «почему», ни «как» так не конфузят великого любовника, как вечный вопрос: когда?
{…}
* * *
– Что означает эта белиберда, Чарли?
– Ничего она не означает…
– Вот как?
– Да.
– Ну а должна?
– Нет, не должна.
– И все-таки во всем этом должно же быть какое-то большее значение, – сказала она. Скользнув руками мне в трусы поглубже, она повторила: – Тут должно быть что-то сверх этого!
– Извини меня, Бесс! – сказал я и, схватив ее запястье, вынул ее руку у себя из трусов. – Все это вообще – неправильно. Не так я все это планировал. Эти выходные. Семестр. Все вот это вот.
Бесси хмыкнула. Затем внезапным движением скинула с себя полотенце, и оно упало на пол у ее лодыжек. Теперь она стала гораздо явленней, чем прежде. Груди ее полны и округлы. Мокрые волосы распущены по плечам.
– Люби меня, – сказала Бесси. – Пока воды мои еще текут.
Я попробовал было что-то сказать. Но не успел – перебил женский голос.
– Нет! – возразила Бесси. – Тебе нужно вернуться в конференц-зал! Они тебя ждут!
И вот так, стараясь ни в чем не запутаться, я переступил упавшие трусы и направился обратно по коридору к конференц-залу по-прежнему с ножницами в руке.
* * *
– О боже мой! – взвизгнула преподавательница этики, когда я вошел в конференц-зал. – Что стало с вашей бородой? Вы ее что, ножом для стейков подравнивали?
– Или эмаскулятором, – добавила инструктор медсестринского дела. – Постойте, давайте я вам принесу салфетку остановить кровь из этих порезов!..
– На это нет времени! – возразил я. – Мы почти что завершили наше заседание, дамы и господа, и осталось нам совсем немного! – Взметнув палочку к лекционному блокноту, я призвал симфонию обратно к заседанию. – Давайте перейдем к следующему великому вопросу, что скажете? Эй, Бесси!..
Бесси перевернула большой лист и явила следующую страницу:
ВОПРОС: Опишите, пожалуйста, свою идеальную рождественскую вечеринку.
– Ну что же, – сказал я. – Как видите, следующий вопрос касается очень важной проблемы нашего кампуса. Многие годы общинный колледж Коровий Мык проводил рождественскую вечеринку, и она была событием объединяющим… – Шикарным жестом я взмахнул палочкой, чтобы показать, что теперь наше заседание вступило в бодрую фазу.
– Господи Иисусе, поосторожней вы с этими ножницами!.. – взвизгнул кто-то и пригнулся.
Я продолжал:
– …Наша рождественская вечеринка исторически служила событием объединяющим, но в последнее время она целиком стала чем-то совсем другим. В последнее время, видите ли, ее изъяли из контекста и использовали как орудие в битве двух соперничающих фракций нашего кампуса. Ее кооптировали. Ее нагнули и оскорбили действием, как студентку, учащуюся по студенческой визе творческому письму здесь, в тысяче миль от своей родины. И потому нам бы хотелось спасти ее – сохранить ее достоинство, пока не стало слишком поздно. Но для этого придется начать с самого начала.
– С какого начала?
– С самого.
– Вы имеете в виду первоначальное начало? Еще до того, как она уехала из своей страны к сияющим посулам Разъезда Коровий Мык?
– Да, с того самого начала. Поэтому забудьте, пожалуйста, все, что вы прежде знали о Рождестве. Прошу вас отбросить все свои прежние предубеждения или предвзятости в том, какой должна быть рождественская вечеринка. Как она должна выглядеть. Что возможно или невозможно. Давайте постепенно начнем медленное искупление нашего кампуса с самого начала, а? Давайте возьмемся за реставрацию нашей рождественской вечеринки с нуля, ответив на этот простой вопрос в его самой широкой и открытой форме…
Участники вперили в меня пустые взгляды.
– …Да! – сказал я. – Именно это давайте и сделаем. Давайте отбросим все остальное и просто ответим на вопрос, который Бесси вам только что явила, перекинув большой лист бумаги. Бесси, вы не могли прочесть нам его еще раз, пожалуйста?..
– Они и сами читать могут, Чарли…
– Да, это мне известно. Они работники образования. Но не могли бы вы просто повторить его громко, для пущей выразительности?..
Бесси закатила глаза. Затем откашлялась и произнесла:
– Опишите… свою идеальную… рождественскую вечеринку…
Я помедлил.
– Так. Значит, теперь вы все его услышали множество раз. Пожалуйста, опишите свою идеальную рождественскую вечеринку. Невъебенно прямолинейно, как считаете? Так хотел бы кто-нибудь начать это обсуждение?
Я снова умолк. Уже приготовился умолять какого-нибудь добровольца. Но на сей раз ответ поступил незамедлительно.
– Для меня, – сказала преподавательница этики, – идеальная рождественская вечеринка была бы скорее – ох, как же это называется? – инклюзивной. Да, она была бы инклюзивной. А это означает, что данному мероприятию придется зайти дальше традиционного, стать чем-то таким, чем оно никогда не было, тем, что доставит удовольствие всем. С некоторым применением творческого воображения и толики прилежания оно может стать радушным и гостеприимным, и неважно, откуда человек происходит – из самого ли Разъезда Коровий Мык… или из более обширной котловины долины Дьява… или Айдахо… или даже какого-нибудь экзотического и неописуемого места вроде Калифорнии! Прекрасная рождественская вечеринка, видите ли, будет дружелюбна и всеобъемлюща – две метафорические руки широко раскроют объятья, приветствуя у нас в кафетерии усталые и сбившиеся в кучку массы. Она будет праздновать наше единство. Наше единенье. Она отметет различия, что разделяют нас как людей, в то же время эти различия воспоет. Она присмотрится к нашему разнообразию и разнице, к поразительной разнородности мира во всей его сложности, однако делать это будет смыкающе и гармонично. Иудей. Гой. Мусульманин. Сикх. Богатый и бедный. Черный и белый. Атеист или богобоязненный. Агностики. Все они должны почувствовать, что им рады, и посетить нашу рождественскую вечеринку в общинном колледже Коровий Мык, потому что они наверняка почувствуют, что она – их часть. Что эта рождественская вечеринка – их рождественская вечеринка. Что она принадлежит им всем. Ибо таков подлинный дух Рождества, верно же?
– Не знаю, – сказал я. – Я просто внештатный модератор. Но спасибо за ваши соображения. Вы дали нам много пищи для ума. – Обернувшись к Бесси, я спросил: – Вы все это записали?
– Конечно, – ответила она.
Потом заговорила историчка искусств.
– Для меня, – сказала она, – вечеринка эта будет не простой вечеринкой. На таких мы бывали без счета, верно? Приходишь. Садишься. Поешь рождественские гимны в разных тональностях одновременно. Пьешь яичный коктейль. Обмениваешься подарками. Целуешь опьяненных сотрудников под омелой. Принимаешь участие в литании тщательно аранжированного веселья во имя Рождества. Потом возвращаешься домой. А итог? Его нету! И потому все это становится растраченной впустую возможностью. Нет, наша вечеринка должна стать чем-то гораздо большим, нежели просто еще одна вечеринка. Она должна быть празднованьем жизни. В ней следует показать множество славных достоинств нашей школы и ее преподавательского состава. В идеале она должна быть витриной достижений нашего колледжа. Его свершений. Его кафедр. От общественных наук до всамделишных. От гуманитарных предметов до ремесел. На ней должны быть представлены все наши индивидуальные таланты. Таким образом она станет подлинной церемонией в память о нашей человечности. Она заново укрепит наш статус живых, дышащих, чувствующих существ. Она сведет всех нас вместе как стражей вселенной. Она сообщит миру, что мы не просто работники образования в маленьком сельском общинном колледже. Мы граждане мира! Мы, к черту, – люди! Мы народ! Тот самый народ!!!
На это я кивнул:
– Полагаю, это можно устроить. Еще что-нибудь?
– Да, – сказала учительница музыки. – Идеальная рождественская вечеринка вовлечет в себя не только преподавателей и сотрудников колледжа, но и всех, кто составляет богатую ткань нашего учебного заведения. Она будет открыта для студентов – кто суть сама сердцевина нашей миссии, в конце концов. И она представит их таланты. Идеальное празднование охватит весь кампус, всех – от заведующего учебной частью до обслуги на территории. От президента колледжа до его работников отдела финансовой помощи. От женщины в сетке для волос до охранника с камерой «Полароид». Свободу и справедливость всем. И я имею в виду всех.
– Даже почасовиков?
– Ну, так далеко я бы не заходила…
С той стороны стола, где сидели местные, готовился выступить преподаватель оружейного дела. Вклинившись в первую же паузу, он произнес:
– Так! – При внушительном звуке собственного голоса преподаватель оружейного дела со значением оглядел стол. После чего развил мысль: – Так! Все это прекрасно и хорошо. Хорошо и прекрасно разнообразие. Хороша и прекрасна любовь. Черт, да сам Иисус Христос был вполне дьявольски хорош и прекрасен. Но нам не следует терять из виду одно. Пытаясь разнообразить наше рождественское переживание, мы не должны отбрасывать и суть того, что делает уникальным Коровий Мык. Нам следует обеспечить, чтобы рождественская вечеринка отражала уникальную местную культуру нашего региона. Нам нужно организовать нашу вечеринку таким образом, чтобы подвигнуть всех и каждого из участников «любить и уважать культуру Коровьего Мыка»…
Я перевел взгляд на Бесси, которая исправно все это записывала.
– Ваши идеи отмечены. И оценены. Хотелось бы вам добавить что-то еще? Не осталось ли такого, что мы могли пропустить, а вы бы желали видеть на нашей рождественской вечеринке?
– Да, – сказала они.
– Есть такое?
– Да, – снова сказали они.
– Что? – спросил я. – То есть, что именно? Видите ли, день уже клонится к вечеру, а наше заседание близится к завершению. Теперь пора оголить ваши души. Помните, это для вас последняя возможность. Отсюда Бесси и я отправимся ко мне в кабинет на краткое, но памятное подведение итогов. А оттуда я незамедлительно приступлю к написанию отчета, который будет включен в виде приложений в самостоятельный отчет, и им мы воспользуемся как руководством при планировании рождественской вечеринки. Так что конкретно вы хотели бы видеть включенным в эти планы? Что вы можете предложить для того, чтобы наша рождественская вечеринка стала самой памятной и успешной – самой смыкающей – из всех?
И так, задыхаясь и перебивая, они принялись высказывать свои предложения. Следующие несколько часов я отмечал их очень конкретные предложения по пересмотру нашей рождественской вечеринки к вящему улучшению общинного колледжа Коровий Мык и долгосрочному успеху наших студентов:
– Я думаю, надо подавать еще больше пива!
– И вина!
– И определенно – крепких напитков!
– Сделать так, чтоб было больше овощей.
– Но меньше рукколы!
– Предлагайте говядину.
– Но без мяса!
– Устроить сельские танцы.
– И массаж.
– И йогу.
– Не забудьте про пение гимнов!
– Мир и гармония.
– Омела.
– Инновация.
– Традиция.
– Этническое разнообразие.
– Оргазм.
– Кастрация.
– Рыбная ловля.
– Флаги мира.
– Курение.
– Нежный анальный секс.
– Ручное огнестрельное оружие.
– Кекс с цукатами.
– Парад грузовиков!
– Давайте в этом году сделаем «одежда по желанию»!
– Эсперанто.
– Англиканство.
– Любовь!
– Любовь?
– Да, любовь!
* * *
И так вот вышло, что я из них выдавил их потаенные желанья, как чернослив из кулька. И вот так я узнал, чего наши преподаватели и сотрудники по-настоящему хотели от своего идеального рождественского опыта. Как и все прочие, они желали от этого всекампусного события того же ощутимого исхода, что и от самой своей жизни: и развлечься, и просветиться; и подчиниться, и уважиться; воспитаться, однако почитаться; быть невинными и лелеять надежды, а при этом все же остаться бесконечно умудренными тем, как устроен мир. Иными словами, они ничего подобного не хотели. Ни любви, ни ненависти. Ни пива, ни вина. Ни яичного коктейля, ни его противоположности.
– Мяса, – понуждали они.
– Но не мяса.
– Рукколы, – настаивали они.
– Но не рукколы.
– Веселья.
– Но со значением.
– Дорог получше.
– Но налогов пониже.
– Традиции.
– Но инновации.
– Чтоб вдохновляло.
– Но реалистично!
– Смешного.
– Но не фривольного.
– Романтичного.
– Но искреннего.
– Разумного.
– Но без надменности и дидактики.
Я тщательно слушал. Бесси тщательно записывала. И впитывая все это, я кивал в ответ на каждый несовместимый комментарий, что направит мое воображение касательно рождественской вечеринки. И когда они закончили отвечать и когда мы закруглили нашу фокус-группу, я собрал их оценки мероприятия и, глядя от своего дирижерского пюпитра, решительно возложил свою дирижерскую палочку на стол переговоров перед собой.
– Большое вам спасибо, – сказал я. – Все, что вы только что проговорили, должным образом занесено в протокол. Оно будет расшифровано и скреплено – и совершенно точно включено в наши планы грядущей рождественской вечеринки.
– Всё?
– Без исключения. – Я подождал, пока мои слова отзовутся в них на более глубинном уровне. Ясно было, что много лет, проведенных моими коллегами в Коровьем Мыке, научили их не верить подобным обещаниям. Но сейчас, пока я оглядывал комнату, мне казалось, что я вижу, как подспудные взгляды засухи и отчаяния медленно превращаются во взгляды цветущего оптимизма. В них начинал пробиваться отблеск этого человечнейшего из желаний – верить во что-то невероятное. Я мысленно отметил эту перемену. После чего сказал:
– Итак, завершив этот изощренный процесс завоевания вашего соучастия, можем ли мы рассчитывать на то, что увидим вас на рождественской вечеринке одиннадцатого декабря? Ваше присутствие сущностно важно для успеха нашего мероприятия. И жизненно значимо для моих собственных попыток оставить по себе хоть какое-то наследие… – Участникам уже не терпелось покинуть конференц-зал, и им, казалось, неймется. (Многие опаздывали к своим планам на вечер; некоторые ворчали на длительность заседания: «Четыре часа, как с куста!» – пробормотал один.) – …Если мне как-то удастся встроить все ваши предложения в нашу грядущую рождественскую вечеринку – если я сумею свести воедино все эти разнородные элементы, – не будете ли вы так любезны почтить нас своим присутствием?
Я рассчитывал на звучное и благодарное согласие; вместо него же получил вот это:
– Быть может, – ответили они все. – Хотя еще слишком рано что-то говорить. Приверженность, знаете, еще слишком тонка и поверхностна. Поэтому мы вам сообщим дополнительно…
– Мы? – снова спросил я.
И вновь они ответили:
– Да, Чарли. Мы.
И так вот я повернулся к Расти. А затем к Гуэн. И, поблагодарив их за соответственные пилюли, я поставили перед обоими тот же вопрос, что задавал своей фокус-группе.
– А вы двое посетите нашу рождественскую вечеринку? – спросил я. – Потому что если придет каждый из вас, то прочие ваши коллеги – с обеих сторон широкого стола переговоров – наверняка последуют. Вы держите сейчас в своих руках мою судьбу, мое наследие. В ваших руках судьба нашего колледжа в целом. И его наследие. Сплетенное наследие в руках у вас двоих, словно плеть виргинского ломоноса, с такой любовью обвивающая вишневое деревцо. Так вы придете?
Вновь ответ их был двусмыслен:
– Все зависит, – сказали они.
– От чего?
– От довольно многого.
– Как например?
– От меню, в частности. Я приду, если в нем не будет овощей.
– А я загляну, если не будет мяса.
– Вообще никакого?
– Верно.
– И для вас обоих это не обсуждается?
– Нет.
– Значит, никто из вас не придет?
– Похоже на то.
– И в этом отношении вы полностью и тотально друг с другом согласны?
– Да.
Когда я сообщил это известие доктору Фелчу, он, казалось, воспринял его как нечто само собой разумеющееся, хоть и с некоторой печалью и смирением. Мы сидели в пустом кафетерии, где в конце той недели должна была проводиться рождественская вечеринка. Уже стояло начало декабря, однако ни единого огонька еще не повесили. Не поставили никакой елки. Не разместили никакую мишуру. Прикурив от спички сигарету – свою шестнадцатую, – доктор Фелч закинул ноги в сапогах на столик кафетерия и пространно и значительно затянулся никотином.
– Вероятно, мне следовало понимать, что этим все и закончится, – сказал он. – Дымом. Бесславьем. Мне нужно было осознавать, что это окажется чересчур. Что я у вас прошу слишком многого, учитывая состояние нашего расколотого преподавательского состава.
– Это еще не конец, мистер Фелч. Мы все еще можем это провернуть!..
– Как же это может быть не конец? Сегодня десятое декабря, ради всего святого. Вечеринка должна была состояться завтра. А ничего еще не готово. Никто не придет. Уж это-то ясно. Так как же это может быть не конец?
– У меня есть план. То есть не в данный момент, сейчас у меня его нет. Но у меня будет план. Я придумаю такой план, чтобы у нас все получилось.
– И когда я смогу услышать этот ваш план?
– Сколько сейчас времени?
Доктор Фелч глянул на часы.
– Сейчас два часа, Чарли.
– Два часа?
– Да, два часа. Давайте встретимся на грунтовке между двумя старыми грузовиками на блоках. Мы будем тебя там ждать…
– Мы?
– Да, мы вчетвером будем ждать тебя в конце моей грунтовки в два часа.
– Ну да, – сказал я и подтянул трусы. – Два часа. Я точно там буду. – Затем посмотрел на доктора Фелча и сказал: – Утром в понедельник я представлю вам свой план. Я вам его предложу сразу же после того, как сдам свой отчет по фокус-группе, который должен подготовить к этому времени. Бесси будет недовольна. Но в эти выходные мне придется уделить больше времени работе. И я вам их представлю оба – утром в понедельник.
– Утром в понедельник, говорите?
– Да, утром в понедельник.
– Так мы с тобой, значит, увидимся в два часа? – уточнила она в последний раз.
– Конечно, – ответил я. – В два часа. Я жду не дождусь кекса с цукатами!
Робко я принял еще одну горсть пилюль, которые мне дали, – в равном количестве таблеток Расти и Гуэн – и запил их стаканом воды. Сверившись с часами, я заковылял из своего кабинета к кафетерию.
План
С глубоким прискорбием мы должны уведомить вас, что наша ежегодная рождественская вечеринка откладывается до дальнейшего уведомления. Будущие планы этого мероприятия ожидают рассмотрения и будут объявлены дополнительно.
Из меморандума доктора Фелча всем преподавателям и сотрудникам– Так что именно у вас за план? – спросил Рауль однажды днем под конец семестра. – Раз уже принято решение об отмене рождественской вечеринки? – Мы с ним стояли у дверей лекции по повышению квалификации, посвященной тому, как увеличить нашу личную и профессиональную способность выполнять обязательства.
– Вечеринку не отменили, Рауль. Отмена означала бы поражение. Ее просто отложили. До дальнейшего уведомления…
– Ладно. Так каков же ваш план, раз ежегодную рождественскую вечеринку отложили до дальнейшего уведомления? И уже второй год подряд, мог бы добавить я?
– План мой прост… – Тут я извлек из кармана рубашки два пузырька. – Сначала я приму еще несколько этих пилюль, которые мне дали Гуэн и Расти…
– Гуэн и Расти дали вам пилюль?
– Да. Одну – чтоб уснуть. А другую – чтобы не засыпать.
– И помогают?
– Нет, не помогают. Пока, во всяком случае. Или, как минимум, не вполне. Пока такое ощущение, что каждая помогает и не помогает одновременно. Быть может, потому, что я еще не принимал их в достаточном количестве. Быть может, потому, что я еще не предался им целиком, – трудно сказать. Поэтому, чтобы наверняка, я приму обе. И в очень больших количествах. Чтобы увеличить их действенность, я приму вдвое больше, чем предписано, и принимать их буду втрое чаще. Запивать их я буду водой из крана. Затем я проведу все выходные, дописывая свой отчет по фокус-группе. А когда это будет сделано, оставшееся на выходных время я потрачу на разработку всеобъемлющего предложения по рождественской вечеринке.
– А как же Бесси? Я думал, вы с нею на эти выходные что-то планировали? Уже несколько месяцев собирались что-то сделать? Нечто с применением еды на несколько дней, пива на неделю и желания, копившегося весь семестр? Мне казалось, это у вас некая попытка спасти ваши отношения на последнем издыхании?
– Так и было. Но теперь мне нужно пересмотреть свои приоритеты. В последнее время я был профессионально недобросовестен. До определенной степени небрежен. На грани, боюсь, непрофессионализма. Я позволил себе отвлечься на второстепенное. Но это надо исправить. Отныне мне нужно будет оставаться в высшей степени сосредоточенным. И начинается это с того, что я выправлю порядок своих приоритетов.
– За счет Бесси…
– На это и так можно взглянуть. Но, с другой стороны, я слишком много времени и без того проводил у себя в квартире с ней, а времени своему рабочему столу и планам рождественской вечеринки почти не уделял. Поэтому так я смогу искупить свою вину. Все опять вернуть в равновесие.
– Справедливо. Но как вы намерены представить все это визуально?
– А?
– Раз вы теперь решили заново выстроить свои приоритеты, как вы планируете вывести эти перемены, чтобы они стимулировали визуально? На самом деле вам совершенно необходимо все отразить на бумаге, чтобы у вас появилось нечто ощутимое, чему можно будет предаться целиком. Вот, попробуйте-ка…
Рауль вытащил ручку и принялся рисовать. Через несколько минут он протянул мне следующую блок-схему, призванную проиллюстрировать мои изменчивые приоритеты:
– Это очень полезно, – признал я. – Можно я себе оставлю?
– Пока что. Но через некоторое время она мне понадобится…
Я сложил листок и сунул его в карман к остальным.
– Так вот я о чем… Эти выходные с Бесси я потрачу не только на то, чтобы написать отчет по фокус-группе, но и на то, чтобы создать план рождественской вечеринки. А план ее будет включать в себя вклад каждого преподавателя, кто посетил мою фокус-группу повышенной значимости. Мой план отдаст должное любому конструктивному замечанию, что было предложено, равно как и почтит полезные комментарии, что не были столь конструктивны. Он вберет в себя все предложения. Любой каприз. Каждую случайную мысль, что могла прийти на ум дипломированному человеку. Всякую склонность. Всякое копимое томленье. Всякую причуду. Всякое ведомственное вожделенье. Всякую тягу. Всякое интеллектуальное стремленье. Всякий порыв фантазии. Всякий мучительный позыв. План мой, Рауль, охватит всякое желание академической либо же личной природы вне зависимости от присущей ему измеримости или достоинства…
– И даже парад грузовиков?
– Да.
– И крепкие напитки?
– Да.
– А как же флаги с разных частей света?
– Да.
– И нежный анальный секс?
– Конечно.
– Вы приглашаете почасовиков?
– Даже такое отдаленно рассматривается. Видите ли, все это, разумеется, нужно будет включить в план. И в понедельник я встречусь с доктором Фелчем у него в кабинете, чтобы представить ему свое предложение по проведению нового вида рождественской вечеринки, в которую войдут все эти разнородные элементы.
– Так ваш план вечеринки, похоже, состоит в том, чтобы… составить план?
– Да. Я администратор в области образования. Этим я и занимаюсь: планирую. И пишу отчеты. А в те редкие мгновенья, когда не занимаюсь ни тем, ни другим, – иначе сказать, где-то в самой середке всего этого, между планировкой и отчетностью, если обстоятельствам случится это позволить, – я трачу крошечный ломтик своего времени (не толще дайма «Меркурий» вообще-то[42]) на действительную работу, иначе сказать – на внедрение планов, что сам измыслил, о которых я когда-нибудь напишу срочный отчет, усевшись в тихой комнатке.
– Понимаю. Ну, важнее всего, что у вас наконец есть план.
– Есть. План у меня есть. Или, если конкретнее, у меня есть план составить план. Но довольно обо мне. Как насчет вас, Рауль? Сейчас праздничный сезон, быстро приближается Рождество. Как у ревностного католика и некогда жителя Барселоны в предыдущем своем воплощении – каковы у вас планы на каникулы?
– Я наконец-то еду в Техас! – Рауль при этом рассмеялся и потряс мне руку, после чего направился в свой зимний отпуск. – В эту твердыню Католицизма Одинокой Звезды, – сказал он. Затем, глянув через плечо, добавил: – Меня не будет здесь месяц, а вернусь я уже после того, как начнется семестр. Поэтому пожелайте мне удачи!..
Я так и сделал.
* * *
Одиннадцатое декабря прошло тихо. Уже второй год подряд праздники вздымались и опадали без святочного сиянья всекампусной рождественской вечеринки. Десятого декабря по почтовым ящикам преподавательского состава и сотрудников разложили листовку, объявляющую, что вечеринка откладывается. Одиннадцатого декабря ящики пива, перемещенные в кафетерий ради такого случая, вынесли обратно. А двенадцатого декабря, ровно по графику, закончился и сам семестр. Бесцеремонно. Резко. За считаные часы кампус опустел, словно не выдержала стена плотины. Истощенные студенты текли мимо Тимми в будке охраны, сжимая свои мешки для книжек, книжные закладки и списки книг, – никто из них уже не удосуживался нести сами книги, – а за ними тянулись их преподаватели, выходившие через ворота в собственный полугодовой исход от процветания к засухе. Контора закрылась. В библиотеке все стихло. Даже Студенческий союз Димуиддла с его истертым зеленовато-голубым ковром и мигающим 22-дюймовым цветным телевизионным приемником закрыл на каникулы свои двери. Впервые с тех пор, как над этим долгим семестром взошло солнце, не жонглировали никакие жонглеры. Никакие чирлидеры не ходили колесом. Никаких велосипедистов. Никто из студентов не пел песни протеста под платаном. Автомобильные стоянки опустели. Велосипеды остались без присмотра. Даже вневременные звуки производимой писанины – грохот скрепкосшивателей, щелканье пишущих машинок, гром резиновых штампов – быстро стихли и забылись: работники администрации ушли в отгулы между семестрами.
Дни уже становились короче и темней – покуда солнечный свет еще мог становиться короче и темнее. Весь кампус продувался холодным унылым ветром. Листва лиственных деревьев побурела и поредела, а вскоре и вовсе пропала.
Меж тем по всему городку Разъезд Коровий Мык наступало Рождество. Фонарные столбы обертывали сияющими гирляндами. Позванивали бубенцы. АМ-радио играло рождественскую музыку. На городской площади между мэрией и окружной тюрьмой воздвигли великолепную ель, уже с ангелом, примостившимся на самой верхушке. Даже разношерстные заведения Предместья заразились временем года: лавки взялись торговать ароматизированными свечами зеленых и красных расцветок, опийные притоны развесили в витринах рождественские огоньки, а разнообразные массажные салоны предлагали пробные сеансы на праздничные темы в комплекте с молодыми женщинами, переодетыми помощниками Санты. И вот во всем этом маятник у меня в кабинете продолжать тикать, металлические сферы раскачивались взад и вперед, словно непрестанная качка колеблющихся приоритетов.
У себя же в квартире я мог отрываться от своего отчета лишь при резких звуках из-за стены: топота, музыки, бьющихся тарелок, натужных кроватных пружин и рева, судя по всему, домашней кошки, которую постепенно удушали. Все это не прекращалось, хотя на покой ушла даже суматоха аккредитованного обучения и начались рождественские каникулы. Это было знакомо и ожидаемо. Однако среди спокойствия опустевшего кампуса звуки из-за стены, казалось, стали еще громче и еще настойчивей. Как будто они никогда не стихнут. Как будто сама математика не отступит. Теперь чудилось, что невероятная свистопляска юношеских страстей будет длиться все дальше и дальше – неугомонное излученье, расширившееся до бесконечности настолько, что может и никогда не осознать начал ползучего растворения или даже окончательных пределов собственного воплощения. В гаснущем свете семестра казалось, что звук юношеского экстаза и впрямь будет все длиться и длиться – вечно.
Но такого, разумеется, быть не может.
Так же внезапно, как все началось, звук из соседней квартиры неожиданно стих. И двадцати четырех часов не прошло после окончания семестра, а рефрены математического первооткрывательства растворились без остатка. Вопли прекратились. Музыка затихла. Не трубили никакие животные. Не ревели львы. Никаких кошачьих концертов. Даже домашних кошек. Все было тихо. Ни дуновенья шума не исторгалось больше из-за стены. Наконец-то настало чистое молчанье, и в крайнем изумлении своем я осознал, что тишина меня окутала впервые после начальных дней семестра, когда невинность ничего не подозревающего сна так жестоко прервалась гомонливым возвращеньем моих соседей из Северной Каролины. Теперь я мог возрадоваться. И отдохнуть. Исключительно один мог я отпраздновать тишину и покой одновременно. Мир, что проклюнулся из распри. Надежду, возникшую из отчаяния. Тишину из звука. Запоздало я мог насладиться примиреньем, что исходит из конфликта, сном, который наверняка должен наступить в конце протяженного бодрствования. Да, то были напряженные несколько месяцев; но они же оказались и до странности благодарными и стоили этого ожиданья, поскольку теперь наконец-то, столько времени спустя, я смогу их все заспать.
* * *
Однако теперь я не мог.
Не привыкши к пустоте покоя, я ловил себя на том, что бодрствую еще отчетливей, чем прежде, мое предвкушенье возбуждено, все чувства мои свежи и настороженны. Новая тишь, как выясняется, может оказаться еще подозрительней, чем знакомый шум. И потому я сидел на краешке кровати, не в силах сосредоточить ни одну мысль, ожидая, когда посреди незнакомого молчания случится следующий звук. Дожидаясь взрыва, что никогда не прогремит. Торжествующей эякуляции млекопитающего, что никогда не отзовется эхом. И чем дольше не звучали эти звуки, тем сильнее я их ожидал. Чем тише было их отсутствие, тем громче становилось их присутствие в моем же уме. Один посреди идеальной тишины – после стольких звуков и гомона – я понял, что подмечаю великий парадокс беспокойного сна: чем больше он тебе нужен, тем реже он приходит.
Я не мог спать!
Обессиленный и вымотанный, я мерял шагами тихую квартиру. После чего принял еще две пилюли и запил их тепловатой водой из крана. Руки мои дрожали еще сильней от этого нового недосыпа, и ими я схватил книгу, лежавшую у меня на прикроватной тумбочке.
* * *
– Ты издеваешься, что ли? – сказала Бесси. – Столько времени прошло, и теперь только ты мне излагаешь этот свой план? Теперь ты мне говоришь, что планируешь составить черновик предложения по составлению плана? Я два дня ждала, пока ты закончишь этот чертов отчет по фокус-группе! И теперь, когда он готов, ты мне сообщаешь, что весь остаток наших коротких выходных собираешься разрабатывать замысел рождественской вечеринки? Ты издеваешься?
– Прости, Бесс… – Я вновь потянулся к ней, но она еще раз шлепнула меня по руке. – Послушай, мне очень жаль, но я вынужден. Я уже не так молод, как раньше. А от этого зависит мое наследие. Мне нужно сделать так, чтобы эта рождественская вечеринка произошла. Это важно…
– Это не важно…
– Нет, важно…
– Это же просто вечеринка!
– Нет, не просто. Это гораздо больше. Это собрание чувств. Это метафора самой жизни. Это символ моей краткой жизни на этой земле. Вечеринка эта – возможность внести значимую лепту в бытие человечества. И потому она попросту стала представлять мои надежды, грезы и чаянья. Она будет моим заявленьем миру. Моим посланием потомству. Моим наследием. Вот поэтому она так важна.
– Важнее наших выходных?
– Да.
– Важнее нас?
– Ну, да.
– Меня?
– Да.
– Будь добр объяснить?
– Не принимай это на свой счет, Бесс, но есть сотни людей, чья судьба зависит от этой вечеринки. Преподавательский состав. Сотрудники. Студенты. Аккредиторы. Черви за кафетерием. Черт, да есть даже люди, которые еще не родились, но они пожнут плоды моих усилий, а их детей однажды будут вскармливать нектаром аккредитованного обучения. Ты не согласна, что лишь в чисто количественном смысле все они, взятые в целом, гораздо важнее одной-единственной личности? Не согласна ли ты признать, все это целокупно гораздо значимей отдельно взятой тебя?..
– Количественно?
– Да. В числовом выражении не согласишься ль ты, что…
– Нет. Вообще-то не соглашусь. Потому что я тебе не ведомственный, блядь, научный работник. И я не желаю служить целым числом на твоей – или чьей угодно – числовой оси действительных или воображаемых чисел.
– Бесс!..
– Или ты как думал?
– Бесс?
– Ты бы предпочел, чтоб я для тебя осталась всего-навсего еще одним фрагментом сравнительных данных?
– Бесси!
– Статистическим примечанием? Графиком с поддающимся проверке доказательством? Просто пунктом – четвертым или пятым в длинном списке, быть может, – в нумерованном реестре твоих приоритетов?
– Конечно же, нет!..
Бесси уже одевалась.
– Ага, знаешь – делай, что хочешь, Чарли. Наслаждайся своим отчетом. Наслаждайся своим планом. Увидимся, когда ты перестанешь быть образованческим управленцем и будешь готов стать настоящим человеком…
Бесси ушла, хлопнув за собою дверью. И вновь остался я наедине со своей настольной лампой и отчетом. И вновь остался я с незавершенным планом. И вот так, в новом одиночестве опадающего дня сел я и продолжил писать.
* * *
Доктор Фелч чистил плевательницу, когда утром в понедельник я вошел к нему в кабинет.
– Секундочку, – промолвил он. Тщательно наклонил он урну и вывалил содержимое в пластиковую корзину для бумаг. Стояла уже поздняя осень, жидкости текли медленно, и это заняло у него какое-то время. Я терпеливо ждал. Наконец доктор Фелч поднял голову и воззрился на меня:
– Ну и как прошли ваши выходные? – Говоря, он пристально смотрел на меня, не разгибаясь от перевернутой плевательницы. – Я слышал, у вас с Бесс случилось нечто вроде «сделай-или-сдохни»…
– Нормально прошли, – ответил я. – Ничего так себе.
– Без приключений?
– Несколько было, да. Я совершенно испортил наши совместные выходные. И руку у меня по-прежнему сводит – от попыток зафиксировать столько разных идей в рукописном виде. Глаза еще слезятся от тусклого освещения. А может, и от пилюль – трудно сказать. Как бы то ни было, я сделал, что смог.
– Богоугодное это дело, Чарли. И имейте, пожалуйста, в виду, что мир его ценит. – Доктор Фелч стукнул плевательницей о внутреннюю поверхность мусорной корзины. Вывалился крупный ком содержимого. Потом доктор Фелч сказал: – Отчет готов?
– Конечно…
Я двинул итоги фокус-группы по его столу.
– Хорошо. А ваш план на рождественскую вечеринку?
– Тоже готов.
– Ну тогда… – сказал доктор Фелч. – Давайте послушаем, с чем вы пришли!..
Доктор Фелч поставил опустошенную плевательницу на пол рядом со своим столом. Изготовлена она была из латуни и сверкала в слабых лучах солнца, лившихся в окно. Я проследил за лоскутом света, отброшенным на стену, – он там поблескивал: отражение в форме лунного полумесяца. Затем откашлялся и принялся излагать свой план по возрожденью нашей падшей рождественской вечеринки и попутно – по спасению нашего общинного колледжа на грани краха, колледжа перед пропастью ведомственной гибели.
* * *
– Для начала, – сказал я, – мне потребуются от колледжа крепкие финансовые гарантии. Это будет не тривиальная сумма, доктор Фелч, поэтому я надеюсь, что вам удастся растрясти пожертвование Димуиддлов. На кону стоит наша аккредитация. От этого зависит сама судьба нашего учебного заведения. Мы в осаде. Враг атакует нас мощной артиллерией. Это кровавая тотальная битва за само наше выживание. Димуиддлы должны понимать такую метафору, нет?
– Сколько вам нужно?
Когда я сообщил ему сумму, доктор Фелч присвистнул:
– Аж столько?
– Да. Наличными.
– Это определенно не тривиальная сумма!
– Нет. Но поверьте мне, эти деньги будут потрачены с толком.
– Не могу обещать, что Димуиддлы на такое пойдут. Да и не скажешь, что у нас такие деньги просто где-то завалялись. Да еще и наличными, не иначе. Как бы то ни было, я погляжу, что тут можно сделать…
– Здорово. Теперь что касается самого плана…
Доктор Фелч заправил под губу щепоть табаку, и впервые с тех пор, как я прибыл на временную автобусную остановку, мне показалось, что я целиком завладел его вниманием, – он не был полузанят какой-либо параллельной деятельностью. Голос у меня оставался спокоен. Держался я ровно. Измождение мое как-то сгустилось в целенаправленность. И пока я сидел у него в кабинете, а ноздри мне заполнял запах гаультерового табака, я напористо продвигался вперед, к своей риторической точке предназначенья:
– …Перво-наперво, нам требуется пересмотреть временну́ю канву нашего мероприятия. Очевидно, что мы упустили возможность устроить вечеринку одиннадцатого декабря, в традиционный праздничный сезон. Семестр заканчивается на следующий день после этого. Все разъезжаются на каникулы. Поэтому нам нужно отложить рождественскую вечеринку на другую дату.
– Не отменять ее?
– Нет. Отложить. До середины марта.
– Марта?!
– Да. Позвольте объяснить…
Доктор Фелч по-прежнему взирал на меня скептически. Я развил мысль:
– Видите ли, сэр, наши аккредиторы должны прибыть в кампус в середине марта, во время традиционного аккредитационного сезона. А это значит, что мы можем назначить рождественскую вечеринку на время их визита. Это послужит трем целям: во-первых, подействует как непосредственное свидетельство того, что мы выполнили свой план и провели рождественскую вечеринку – аккредиторы могут удостовериться в этом собственными глазами, – а это мы уже упомянули в своем самостоятельном отчете как пример того, как мы воспитываем единство цели посредством мероприятий, направленных на укрепление нравственных установок. Во-вторых, вечеринка может стать неким символом всего жизнеутверждающего на свете: прихода вечной весны, обещанья вновь пробуждающейся жизни, рождения и воскрешения господа нашего и спасителя Иисуса Христа, а самое важное – возобновления региональной аккредитации для нашего колледжа. Иными словами, мы можем почтить все эти достославные воплощенья одним-единственным махом! Третье – и, быть может, самое важное с точки зрения ведомственной жизнеспособности – то, что проведение этой вечеринки во время мартовского визита наших аккредиторов поднимет ставки и самой вечеринки: преподавательский состав скорее будет склонен ее посетить, если им будет известно, что от этого неким образом зависят их средства к существованию.
При этой мысли доктор Фелч улыбнулся.
– …Видите, – продолжал я, – …если судьба нашего преподавательского состава зависит от судьбы нашего колледжа… а судьба нашего колледжа зависит от его аккредитации… а нашу аккредитацию можно сделать зависимой от рождественской вечеринки, что ж, тогда совершенно разумно будет рассудить, что судьба отдельных членов преподавательского состава зависит от их коллективного присутствия на нашей рождественской вечеринке! Все это крайне логично. Смотрите, я даже создал визуальное представление, в разработке которого мне помог Рауль…
И тут я развернул бумажку и разместил ее так, чтобы доктору Фелчу было видно:
Доктор Фелч одобрительно кивнул:
– Хммм… интересная идея. Рождественская вечеринка в марте. С аккредиторами…
– Да. И яичным коктейлем. В смысле, а почему бы и нет? Почему подобные мероприятия всегда проводятся в декабре? Почему не можем мы выйти за рамки – хотя бы изредка? Давайте не будем бояться чуточки нововведений. Давайте не пугаться перемен. А кроме того, нам же нечего терять от таких попыток, верно?
– Ладно, что еще вы предлагаете?
– Хорошо. Тогда назначаем нашу вечеринку на середину марта, когда в кампусе будут аккредиторы. Но она станет не одним двухчасовым событием, как это бывало в прошлом, а на сей раз займет несколько дней. На самом деле у нас будет вся неделя рождественских мероприятий, чествующих визит аккредиторов. Рождественская неделя. Она станет согласованной чередой событий, которые мы замысловато спланируем и кропотливо приведем в исполнение. И, разумеется, окрестим все это каким-нибудь звонким именем, что-нибудь вроде «Международный фестиваль терпимости и доброжелательности Коровьего Мыка»… или «Празднество и экстраваганца полугодовой рождественской недели»… или еще какой-нибудь чарующей чепухой. (Извините, мистер Фелч, выходные у меня прошли весьма хаотично, и такие детали я пока не вполне продумал…) Так или иначе, празднование всю неделю в марте даст нам больше времени произвести впечатление на наших аккредиторов, сплотить наш преподавательский состав и постепенно подвести к кульминации – самой рождественской вечеринке в пятницу, двадцатого марта…
Я рассчитывал на воодушевляющее выражение поощрения от доктора Фелча. Он же не сказал ничего. Казалось, он глубоко задумался. Затем жестом показал мне, чтобы я продолжал, что я и сделал:
– Конечно, мы с вами оба знаем, что определенные преподаватели общинного колледжа имеют склонность к безразличью. Они гордятся тем, что заботятся лишь о себе – что делают все по-своему – что применяют навыки критического мышления, невзирая на очевидные последствия для внутрипреподавательской гармонии. И потому этих личностей нам предстоит завлечь к действию, применяя более тонкие приемы, нежели только альтруизм или профессиональные обязанности.
– Хорошо, что вы это понимаете.
– Понимаю. И потому я все предприму для того, чтобы воззвать к ним на многих уровнях. Я обращусь к их своекорыстию. Я адресуюсь их нескончаемой нужде в личном и интеллектуальном воздаянии. Их постоянной тяге к почитанию. Их врожденному томленью по обожанию, необходимости в почтительном внимании и внимательной почтительности, человеческой хрупкости, что влечет их во главу класса, заполненного впечатлительными учениками. Их нужда в восхищенной аудитории, видите ли, станет нашей благодатью, поскольку ее можно приручить и применить для нашей вечеринки!
– А это значит – что?
– Это значит, что мы устроим конкурс талантов!
– На рождественской вечеринке?
– Да! А после этого наградим наш преподавательский состав призами.
– За что?
– Ну, к примеру, за то, что кто-то – Самый Улучшенный Учитель. Или Просветитель Сей Минуты. Или, может, даже выдавать Студенческую Награду за чарующее преподавание. Короче говоря, мы почтим их лестью и признанием…
Доктор Фелч покачал головой. Я продолжал:
– …Но самое главное – мы будем слушать. Будем почтительно слушать то, что они сказали. И склоняться перед их здравомыслием. Иными словами, я подчеркнуто включу все до единого замечания, сделанные ими на заседании фокус-группы, где они были. Каждый каприз, какой они выразили. Каждую причуду. Каждое накопившееся желанье и томленье подавленной души. Каждое предложение. Каждое опасение. Если вы одобрите мой план, доктор Фелч, это станет рождественской вечеринкой людей, устроенной людьми для людей. Той вечеринкой, что подчеркивает стремление к счастью во всех его контрастирующих обличьях. Она станет плавильным тиглем грубого индивидуализма и вдохновенного эгалитаризма, а также просвещенного своекорыстия – все смешается в ней воедино, как ингредиенты в щедром рагу…
Я умолк, смакуя это сравнение. После чего продолжил:
– Поверьте, доктор Фелч, я искренне намерен обеспечить стопроцентную явку на эту рождественскую вечеринку. Все до единого преподаватели и сотрудники нашего колледжа должны прийти в этот кафетерий двадцатого марта к нам на рождественскую вечеринку.
– Вы грезите, Чарли. Это небольшое помещение. И у нас сроду на рождественскую вечеринку не было стопроцентной явки. Сроду. Даже когда в кампусе дела обстояли хорошо. Даже когда демографические данные у нас были однородны. Даже когда мы наняли выступать под новогодней елкой всемирно известного гипнотизера.
– Может, оно и так. Но в этом году мы ее добьемся! Даже если это последнее, что я сделаю как живой, дышащий, уважающий себя администратор в области образования – я сведу воедино обе стороны вашего расколотого преподавательского состава и сотрудников в кафетерии, где они все посетят эту богом забытую рождественскую вечеринку…
– Сведете?
– Да, сведу.
* * *
И вот так следующие несколько часов я делился планами завлечь всех наших преподавателей и сотрудников на рождественскую вечеринку. Сбивчиво и задышливо я подробно обрисовывал, как воспользуюсь призраком провальной аккредитации, чтобы убедить сознательных; обещанием штатной должности, чтобы привлечь карьеристов; и изобретательной наградной церемонией, чтобы заманить резюмецентричных. Я объяснял, как буду подчеркивать ценность самого Рождества, чтобы понравиться набожным, а перспективы единства и сплоченности – чтобы увлечь духовных. Чтобы приманить местных, я стану держаться культуры и традиции, а вот неофитам – предлагать череду нововведений столь широкоохватных, сколь и произвольных. Одну за другой излагал я доктору Фелчу свои идеи, как привлечь коллег к вечеринке. Атеистов. Антиобщественных. Агностиков. Я бы как-то заманил в кафетерий и иудеев, и гоев. Вегетарианцев и антивегетарианцев. Друга и недруга. Конкретиста и универсала. Суннита и шиита. Поэта. Эмпирика. Агорафоба. Мечтателя. Историометра. Сэма Миддлтона. Все они придут на нашу рождественскую вечеринку в марте, где их ожидает поистине вдохновляющее, подлинно сенсационное, в высшей степени дрожепробивающее и землетрясное рождественски-святочное переживание, каковое раз и навсегда продемонстрирует поразительную…
– Вы закончили?
– А?
– Вы закончили, Чарли?
В грезе своей я утратил счет времени. Свой мысленный поток я направил не туда. Тыльной стороной руки я смахнул слюни, скопившиеся в уголках моего рта.
– Да, – ответил я. – Закончил.
Доктор Фелч протянул мне носовой платок.
– Я ценю ваш энтузиазм, Чарли. И восхищен вашей дерзновенностью. Но позвольте мне задать вам вопрос, который вскроет самую суть этого дела…
– Так точно, сэр!
– …Вам, конечно, по силам собрать всех этих людей. Похоже, для этого у вас есть план. А планы, само собой, в нашей профессии существенны. Но что делать с Расти? И что – с Гуэн? Если вы не заставите их прийти, их приспешники уж точно не явятся. Но те двое круты в той же мере, что и штатны, и привлечь их к вашим празднествам будет нелегко. Черт, да Расти – мой старый друг, и даже я не могу убедить его примириться с неизбежным. Гуэн примерно так же надконфессиональна, какими они и бывают – и еще более этого настроена против Расти, – и по-своему так же закоснела. Вероятность того, что эти двое вместе окажутся в таком маленьком сегменте времени и пространства ради события такого масштаба, ради чего-то столь разделяющего – столь решающего, – не слишком велика. Так каков ваш план этого добиться? Что у вас за план относительно них, Чарли?
На это я сказал:
– Доктор Фелч, я так и думал, что вы у меня это спросите. Поэтому отвечу вам как смогу честно. Иначе говоря… если быть до конца откровенным, для них у меня плана нет. По крайней мере – пока.
– Нет плана?!
– Нет.
– И вы считаете себя образованческим управленцем?
– Ну, плана у меня нет. Но у меня есть план по формулировке плана.
– План на план?
– Да!
И тут я признал, что у меня не было плана заставить Расти и Гуэн прийти на рождественскую вечеринку. Но где-то между вегетарианством и антивегетарианством наверняка же должно оказаться меню, которое понравится обоим.
– Нет, сэр, пока что у меня нет плана, – завершил я. – Зато есть все намерения поработать с этими двумя противоположными антитезами и заставить обоих прийти.
– Как?
– Вот так… – И, пробежав по эспланаде, я окликнул сзади Гуэн.
– Постойте! – заорал я. – Эй, Гуэн, подождите секундочку!..
Гуэн остановилась и удивленно оглянулась на меня.
– Гуэн, одну минутку, пожалуйста. Могу ли я присоединиться к вам в вашей непреклонной прогулке по этой очень длинной эспланаде?
– Вы это уже сделали, кажется. Только не отставайте, потому что я уже опаздываю…
Я согласился и в ногу с ней примкнул к перемещению. Затем повернулся к Расти, который теперь стоял рядом с клепсидрой, установленной около его музея, и собирал вещи перед уходом домой.
– Можете подбросить меня до кампуса? – спросил у него я.
– Вы еще не купили себе грузовик? – ответил он. – Или хотя бы легковушку?
– Нет, – сказал я. – Это слишком политизированное решение. Так можете вы меня меж тем подбросить до кампуса?
– Ладно, только не рассчитывайте, что я поеду очень быстро…
– Нет, конечно же – нет!…
Расти распахнул дверцу грузовика, и я забрался в кабину.
Наконец-то я сидел в новом «додже» Расти. И шел по эспланаде с Гуэн. Вот я махал дирижерской палочкой над растворением, оставленным в кильватере моей фокус-группы повышенной значимости. И вновь я держал пистолет и целился из него в очертанья набегавших на меня издали событий.
– Вы вообще когда-нибудь собираетесь на спуск жать? – спросила Этел. – Или так и намерены стоять и вот так вот целиться вдаль?
Вопрос был резонный. В ответ на него я снова прицелился тщательней в свою далекую мишень и вновь принялся медленно давить на холодный металл спускового крючка.
* * *
Со временем рождественские каникулы начались по-настоящему, и я, разрабатывая план на рождественскую вечеринку в марте, собрался со всеми силами. Когда же они меня оставляли, я принимал пилюли. А когда не действовали пилюли, принимал еще больше пилюль. Когда же и они истощились, я прибился к Марше Гринбом, и она свозила меня в Предместье, где я купил еще несколько пузырьков у длинноволосого человека под великолепной ветвью остролиста. Краски смешивалась. Мешались дни. Мешались события. Одно слово за другим сливались вместе, и все равно на самом заднем фоне всего этого слышалось пощелкивание моего маятника, тишь моей квартиры, а где-то вдалеке – очень легкий стук ко мне в дверь.
В одиночестве своей квартиры я лежал с книгой, которую впервые взял в руки много месяцев назад. «Когда стучится Любовь, – сообщала мне она, – всегда нужно проворно ответить». Всю ночь я очертя голову пробирался сквозь налетавшие на меня страницы, покуда уже ранним утром не дочитал главы о разочаровании и крушении иллюзий. Затем – об отрицании и заблуждении. Позднее той же ночью, после еще одного дня, проведенного в конторе, я закончил главы о разводе и смерти соответственно. И затем, в конце концов, я перевернул страницу и обнаружил, что страниц для обнаружения больше нет: я прочел книжку от корки до корки. Внезапно она закончилась. После долгого семестра интенсивного чтения я наконец завершил «Справочник для кого угодно: любовь и общинный колледж». Удовлетворенный, я положил книгу рядом со своей кроватью.
– Поздравляю, Чарли! – сказал Уилл, когда я рассказал ему о своем достижении. Случилось это через несколько дней после Нового года, и кампус все еще был городом-призраком. Вообще-то лишь мы с Уиллом остались в нем на каникулы: каждое утро я приходил на работу трудиться над своими планами рождественской вечеринки; а он – сидеть с газетой, манеркой бурбона и сигарой. День клонился к вечеру, и его «олдзмобил-звездное-пламя» стоял снаружи, во всю длину, поперек трех отдельных стояночных мест; Уилл впустил меня в кафетерий ключом, который сунул себе в карман пиджака много лет назад. – Ключ этот мне иметь даже не полагается, – пояснил он. – Но уборщица – моя бывшая студентка, и она мне сделала копию. Некогда она мечтала стать профессиональным историком. Но у нее не вышло. Поэтому теперь при виде меня она отворачивается…
Щелкнув выключателем кафетерия, Уилл подошел к своему обычному месту за столиком под табличкой «НЕ КУРИТЬ» и, вынув манерку бурбона и новую сигару, грузно уселся на стул.
– Поздравляю, что дочитали, – сказал он. Слова его мямлились, глаза были налиты кровью и усталы. В тусклом свете пустого кафетерия он, казалось, старел с каждым проходящим днем, как будто набрал год жизни за последние три недели, или же пять – с начала семестра. Он как будто старел экспоненциально у меня прямо на глазах. – В наши дни закончить любую книжку – немалое достижение.
– Спасибо, – сказал я.
– На самом деле, это у нас, кажется, знаменательный случай, за который нам стоит выпить. Вы открыты к бурбону, не так ли?
Я рассмеялся.
– Можно и так сказать…
Уилл передал мне манерку, и я сделал маленький глоток.
– И все? – возмутился он. – Не оскорбляйте меня!
И потому я сделал еще один глоток.
Уилл рассмеялся.
– Вот это больше похоже на правду! Хлебните-ка еще!..
Я хлебнул в третий раз.
– Так, и что теперь? – спросил он, забрав у меня манерку. – Что осталось делать мистеру Чарли, раз уж он наконец дочитал книжку?
– Не знаю. Я столько времени на нее потратил, что меня почти с души воротит с ней расставаться. Будто друг у меня умер. Тайный друг. А ты никогда не сомневался, что он будет рядом. А теперь его нет.
– Как я вас понимаю, Чарли.
Уилл помрачнел. Потом сказал:
– Чарли, верьте тому, что я вам скажу: почти все оно приходит и уходит. Люди. Годы. Страницы книги. Сама жизнь. А в конечном счете вам остается лишь то немногое, что действительно остается – и притом навсегда. Слова. Вода. Литература и любовь. Вот единственные наши наследия. Остальное же, хоть и может красиво выглядеть у вас в резюме, – не более чем полированная херня.
– Херня?
– Да, херня.
Уилл смотрел на меня все тем же печальным пьяным взглядом.
– В конце имеет значение только вот такое, – сказал он, – потому что лишь такие вещи остаются навсегда…
Я кивнул, и мы выпили.
Когда позднее в тот же вечер я вернулся к себе в квартиру, в здании было темно и тихо: мои собратья-преподаватели давно покинули кампус и отправились к своим домам и семьям, а я остался один. Парковка опустела. Коридоры затихли. После нескольких дней такого спокойствия я начал замечать, до чего безмолвно стало все, и безмолвие это начало действовать мне на нервы. Тишина и темнота просвещали больше, чем на это был способен какой бы то ни было свет движенья. Как все безмятежно. Как мирно! Впервые с тех пор, как я приехал в Коровий Мык, рассудок мой стал расслабляться. Меня наконец отыскал сон.
Вот только…
Едва мои веки начали смыкаться, до меня донесся почти неощутимый шум. За гуденьем обогревательной батареи. Над шумом ветра, шелестящего у меня за окном. Под всем этим раздавался тишайший стук ко мне в дверь. Такой тихий, что мог оказаться и вовсе не стуком. Надо ли мне вообще озаботиться и проверить? Или дождаться, когда прекратится? Кто это может быть в такой медлительный час, в такой поздний день, средь покоя наших каникул? Средь затишья перед бурей? Кто вообще может стучаться ко мне в дверь в эту нежную пору очень долгой ночи?
Осторожно я встал с постели и добрался до двери, из-за которой по-прежнему слышался неуверенный стук. Отстегнув цепочку, я открыл дверь.
Во тьме коридора не было видно ничего – лишь чернота плохо освещенной пустоты да ее тени. Но затем в слабом свете, пролившемся из моей квартиры, я увидел, что к стене прислонилась какая-то женщина. Она обхватила себя руками и всхлипывала. Грудь ее вздымалась. То была математичка.
– Можно войти? – спросила она.
Я помедлил, не выпуская из руки край двери.
– Конечно, – ответил я и открыл ей. – Заходите, пожалуйста…
Женщина вошла в квартиру. Волосы у нее были взъерошены. Одежда в беспорядке. Она выглядела усталой и загнанной, как будто уже какое-то время не спала. Без макияжа она не смотрелась и близко так блистательно, какой казалась издали – какой она всегда смотрелась, входя к себе в квартиру и выходя из нее.
– Само собой, будьте добры – войдите, – сказал я. – Я не ждал гостей…
Женщина села на край моей тахты.
– Простите, что беспокою вас, – сказала она. – Просто дело такое. Ну, мне нужно было с кем-нибудь побыть. С кем угодно. А вы единственный, кого я знаю, кто живет по такому же графику, что и мы…
Она посмотрела на меня снизу вверх.
– Вы один, кто не спит так же поздно, как и я…
– Конечно, – сказал я. – Понимаю. Мы сейчас между семестрами, и в здании больше никого нет. Я тут один. Хотите чаю?
Женщина сказала спасибо. Я поставил на плитку чайник.
– Можно мне к вам в душ? – спросила она.
– Ко мне в душ?
– Да. В моем полно воспоминаний.
– Конечно. Запросто. Душ вон там. Рядом с чуланом.
– А как иначе. Ваша квартира – такая же, как моя, только строго наоборот.
– А, ну да… другая сторона стены…
– У вас нет одежды, в которую можно переодеться?
– Нет, нету. Только… ой, погодите, есть! Вот, можете взять вот это!..
Я вручил ей спальную одежду, которую Бесси хранила у меня в квартире.
Математичка взяла широченную футболку и подержала перед собой на вытянутой руке.
– А поменьше у вас ничего нет?
– Извините, женская одежда у меня только такая. Правда, имеются еще свитера с ромбиками, если хотите…
Женщина взяла одежду Бесси с собой в ванную, и пока там шумел душ, я приготовил чашки для чая и поставил их на стол. Когда она вышла, на ней была длинная футболка, но шорты и хлопковые трусики, что я ей дал, она держала в руке. Волосы у женщины были влажны, а макияж смылся под душем. Глаза у нее еще были зримо красными от слез.
– Вот… – сказала она и протянула мне шорты и трусики. – Так и не смогла себя заставить их надеть…
Я зашел к себе в спальню и засунул эту одежду обратно в комод, где ее держала Бесси. А когда вернулся, женщина уже сидела за кухонным столиком.
– Спасибо, – сказала она, когда я поставил перед ней чашку горячего чая, от которой шел пар. Сидела она, скрестив ноги и заткнув полу футболки себе между бедер.
– Не за что, – ответил я. И потом: – Не хотелось бы лезть не в свое дело. И вы не обязаны мне, конечно, отвечать. Но не спросить я не могу… у вас все в порядке?
Женщина покачала головой.
– Я не хочу об этом говорить.
– Само собой, – сказал я. – Меня вполне устраивает.
– Просто, ну, он получил докторскую степень. А у меня только магистерская…
– Не понимаю.
– Да, с чего бы вам понимать. Вы же администратор.
– Не желаете ли объяснить?
– Все сложно.
– Я готов выслушать.
– Я правда не хочу об этом говорить…
– Ага, – сказал я. – Очень вас понимаю.
– Спасибо, – сказала она. – Ценю ваше понимание…
Женщина отпила чаю. Затем без предупреждения и с избыточными подробностями рассказала мне то, о чем не хотела говорить. О своей ссоре с преподавателем матанализа. О том, как они только покончили с самым поразительным сексом, но затем, лежа в объятиях друг друга, доплыли до темы распределения задач на грядущий семестр. Кому достанутся занятия рано поутру. А кому – такой график, чтобы выходные подлиннее. А кому – занятия у старших курсов, к которым все стремились. И эта вот дискуссия вылилась в серьезные разногласия.
– Почему мне всегда выпадают утренние занятия? – всхлипывала она. – Почему я не могу время от времени преподавать матанализ?
И тут она заговорила о развитии их ссоры и о том, как для того, чтобы оправдать собственное преподавание высшего, он мимоходом намекнул, что его собственный уровень знаний для этого подходит больше, чем ее. Что его методы обучения для студентов высших курсов и программы высшего уровня уместнее. Что его стиль преподавания для выражения невыразимого гораздо современнее.
– Он обфыркал мою педагогику! – всхлипнула она.
Я сочувственно кивнул. Не зная, что делать, я придвинул стул поближе и обхватил рукой ее вздымавшиеся плечи.
– Все хорошо, – сказал я, стараясь ее утешить. – Среди лекторов есть и другие преподаватели математики…
Но она была безутешна.
Той ночью женщина спала у меня на тахте под одеялом, которым я ее укрыл, и всю ту декабрьскую ночь мне оставалось лишь беспокойно лежать у себя в постели и не спать. И когда наутро я ушел в контору, она по-прежнему спала у меня под одеялом. В окно кафетерия я увидел, что за своим столиком уже сидит Уилл. Я постучал в стекло. Уилл оторвался от газеты и подошел, чтобы меня впустить.
– У меня на тахте спит математичка, – сказал я, заняв свое привычное место напротив за столиком в углу. Хотя день уже был в разгаре – почти обед, – никаких работников в кафетерии не было. На каникулах еда не подавалась. Зал был заброшен, все стулья сложены на столы, и мы с ним вдвоем просто сидели за столиком друг напротив друга, как старые любовники, а не в обществе кого-нибудь другого, кто мог бы оказаться на нашем месте.
– Математичка спит у вас на тахте?
– Да.
– Та хорошенькая, из вашего коридора?
– Да?
– В футболке?
– Да.
– Вы тот еще кобель, Чарли!..
– Нет-нет-нет. Все не так. Она зашла прошлой ночью. Поссорилась с учителем матанализа. Она была безутешна. Я как мог ее утешил. А потом она заснула. Когда я уходил, она еще спала.
– И что же вы теперь планируете делать? Каков ваш план, раз у вас на тахте спит молодая математичка?
– Не знаю. Это как-то неожиданно. Есть соображения?
Уилл подумал не дольше мгновенья. Затем сказал:
– Сойдитесь с этой телкой!
– Что, простите?..
– Если стучится случай, Чарли, мальчик мой, надо открыть ему заднюю дверь! Иначе вы никогда не узнаете, о чем могли бы впоследствии сожалеть. Как моя жена говаривала – она так говорила: Смиткоут, сукин ты сын, лучшее, что было, к чертовой матери, у нас в браке, – та девчонка из супермаркета…
– Мистер Смиткоут?
– Вот-вот, Чарли. Та девчонка из супермаркета спасла наш брак! И это – из уст женщины, с которой я провел тридцать восемь лет моногамии.
Вокруг нас кафетерий был безмолвен и уныл. Уилл по-прежнему нянькал манерку и сигару. За окном его сине-зеленый «олдзмобил» все так же стоял на парковке боком, перекрывая три соседних стояночных места, включая и парковку для инвалидов. Я рассчитывал, что Уилл как-то пояснит заявление своей жены о спасении. Но он не стал. Лишь сделал долгий глоток из манерки и еще одну затяжку сигарой. Наконец заговорил я.
– Мистер Смиткоут, – сказал я. – Можно задать вам вопрос?
Уилл вытер рот рукавом.
– Об истории?
– В каком-то смысле.
– Ну, у меня каникулы. Встретимся после, когда у меня конспекты с собой будут…
Я рассмеялся и покачал головой.
– Не волнуйтесь – я не о том. Вообще-то мой вопрос отчасти касается истории, но главным образом он и не об истории. Видите ли, мне просто стало интересно, не могли бы вы рассказать мне кое-что о своей жене. Вы о ней упоминаете жуть как часто, мистер Смиткоут, но лишь время от времени – и клочками да кусочками. Если по правде, вы мне о ней никогда уж очень-то и не рассказывали. А мне стало любопытно, знаете, захотелось услышать побольше. И вот я хотел спросить, не могли б вы рассказать мне еще о своей жене и какой она была, пока не скончалась?
Уилл хорошенько отпил из манерки. Затем сказал:
– Хммм. Моя жена. Да нечего вообще-то тут рассказывать. То есть что можно сказать о человеке, с которым провел тридцать восемь лет своей жизни? Вот вы бы что сказали, Чарли?
– Даже вообразить не могу…
– Так давайте я вам скажу… немного чего можно. Тридцать восемь лет – это чертова прорва времени. Тут не поспоришь. Но что-то бежит слов. Так давайте и пытаться не станем, ладно? Нет, давайте уж я вам лучше кое-что другое расскажу. Давайте я вам расскажу о том, что можно выразить словами. Давайте я вам расскажу про ту девчонку из супермаркета!..
И тут Уилл в красочных подробностях рассказал мне о женщине из супермаркета, которая где-то в середке брака пленила его воображение. Как они вдвоем невинно повстречались у продуктовой тележки и как у них развились отношения, которые продлились несколько лет. И когда его жена об этом как-то впоследствии узнала – он сам нашел случай ей об этом сказать, – между ними все изменилось.
– То было как день и ночь, – сказал он. – А миг покаянья стал сумерками.
В пышных подробностях Уилл рассказал мне о том, чем занимались они с девушкой из супермаркета все годы, что были вместе. И как день, когда он наконец решился эти отношения прервать, стал самым трудным в его жизни.
– Ну или, по крайней мере, вторым самым трудным, – сказал он. – Да, вероятно, это был второй самый трудный день в моей жизни. Но он до сих пор не превзойден.
Внимательно слушал я повесть о разделенной любви и восстановленном браке. Со временем голос его стих, и Уилл еще хлебнул из манерки. Ясно было, что он достиг конца своих воспоминаний.
– Так, а могу я, значит, задать вам еще один вопрос, мистер Смиткоут?
– Если надо…
– Почему вы все время здесь? В этом кафетерии? За этим столиком? Вы, похоже, постоянно сидите на одном и том же месте. Почти все свое время проводите тут под табличкой «НЕ КУРИТЬ». Но почему? Вам разве никогда не хочется пойти домой?
Уилл чуть хохотнул. Но не по-доброму. Среди слышимого смеха бывает хороший смех – и другой разновидности, так вот, хохотнул сейчас Уилл смехом другой разновидности.
– А что такое дом, Чарли? Вы задали простой вопрос. Но чтобы вести разумную дискуссию, нам нужно быть точными в определениях, верно? Нужно убедиться, что мы тут говорим об одном и том же…
– О доме?
– Да. Вы можете мне сказать, что такое дом?
– Дом – это… дом – это где вы живете.
– И?
– И спите. Это где вы живете и спите.
– Хорошо. И?..
– Ну, и книжки читаете. Дом – это место, где можно жить, спать и читать публицистику, когда окружающий шум так громок, что о сне не может быть и речи.
– И, значит, ваш дом – это ваша квартира в корпусе для расселения преподавателей?
– Теперь – да.
– Это ваш дом?
– Да.
– Потому что вы там живете?
– Да.
– Нет, Чарли. Это не дом. Дом – это нечто большее. Гораздо большее. Ну да, вы, конечно, сейчас живете в Разъезде Коровий Мык. Но Разъезд Коровий Мык вам не дом. Марша Гринбом живет в этом своем чулане-студии с тех пор, как переехала в Коровий Мык, но чулан этот ей не дом. Я проживаю в двухэтажном доме, где раньше обитали мы с женой. Только это было много лет назад, а все имеет склонность меняться. Тут, в темном кафетерии, видите ли, я потому, что у меня больше нет дома, куда можно было бы пойти.
– Вы бездомны?
– Нет, я не бездомен – я же в штате, ради всего святого. Но дома у меня нет. Уже нет. И уже два года как нету. – За окнами кафетерия к концу клонился самый короткий из дней. Начиналась самая длинная ночь. Уилл допил манерку до конца. – Черт бы драл, – сказал он. И затем: – Все просто обожают супермаркет, нет? Супермаркеты огромны. И внушительны. Они прекрасны, изобильны и бывают полезны, когда вам нужен какой-нибудь особый предмет, экзотический, который трудно найти. Но супермаркет – это не дом.
Мне показалось, будто я понимаю, о чем он. Или хотя бы что он пытается сказать. И потому я сменил тему еще один последний раз.
– Мистер Смиткоут, – сказал я. – А вы можете рассказать мне кое-что об истории? Я знаю, у вас отпуск и все такое… но вы готовы поведать мне, как устроена сама история? Мне это частенько бывало интересно. И вы, похоже, как раз тот человек, кто способен мне это разъяснить. Сидя тут, в этом пустынном кафетерии. За окнами гаснет дневной свет. Академический год достиг своей переломной точки. Семестр – окончания своего воплощенья… или, если угодно, начала своего растворения. Мистер Смиткоут, расскажите мне, пожалуйста, об… истории?
Уилл не стал отвечать сразу же. С нескрываемым скептицизмом рассматривал он меня через стол. И слышно было, как под тихий гул кафетерия рядом со льдогенератором фоном мелют жернова времени. То был миг, который я буду помнить долго. Всем существом своим я ждал его ответа.
* * *
В тот день я вернулся домой и застал математичку за моим кухонным столом – она сидела и читала первые главы «Справочника для кого угодно: любовь и общинный колледж».
– Надеюсь, это ничего, что я еще здесь, – сказала она, откладывая книгу в сторону. – У меня просто нынче в квартире так одиноко. Надеюсь, вы не возражаете, что я позволила себе вольность остаться?
– Конечно, – сказал я. – Оставаться – это хорошо. А вольность всегда предпочтительней своей альтернативы…
– Я старалась быть полезной. Пока вас не было, я прибралась у вас в спальне.
– Правда?
– И погладила вам рубашки.
– Спасибо!
– И переставила женские туалетные принадлежности в вашей ванной.
– Что?
– Они стояли не по порядку. Надеюсь, это ничего?
– Не по порядку?..
– А если нет, просто верните их на прежние места…
Женщина поднялась от стола.
– Чаю? – спросила она.
– Буду признателен… – ответил я, после чего: – Спасибо…
Женщина налила чаю, который уже вскипятила, затем поставила чашку передо мной на стол.
– Как прошел день?
– Прекрасно. Я же администратор в области образования. Все мои дни проходят прекрасно.
Женщина кивнула, словно раздумывала над неким экзотическим и далеким понятием. Потом звякнула, опуская свою чашку на блюдце.
– Должна вам признаться, – сказала она. – И это касается вас. Видите ли, я была не права, думая то, что думала. Я очень ошибалась в вас.
– Неужели?
– Да. Я всегда видела в вас только образованческого управленца. А допускала я это лишь из-за того, что вы были… ну, понимаете – что в вас больше ничего не было. А теперь вижу, что оттенков в этом больше…
– Правда?
– Да. Жизнь сложнее, чем кажется. Теперь я вижу, что вы можете быть гораздо большим. Что управлению образованием не обязательно быть точной противоположностью просвещения в классе. Что эти две ипостаси могут сойтись воедино вполне прекрасно – как пересечение двух множеств. Что примирение может так же возбуждать, как и боренье…
Женщина легонько провела тылом пальцев мне по щеке.
– А вот если вы еще и сбреете эту свою бороду, то вообще станете чем-то другим.
– Да ну?
– Попробуем?
Женщина завела меня в ванную, я вытащил бритвенные принадлежности и повозился с ними, а пока намыливал себе лицо и правил бритву на кожаном ремешке, она сидела на унитазе с закрытой крышкой и наблюдала за моим отражением в зеркале.
– У вас еще осталось под правой скулой… – говорила она.
И я нащупывал пальцами это место и сбривал, что находил.
– Обожаю смотреть, как мужчина бреется, – замечала она.
И я удовлетворял ее склонность, как мог.
Закончив, я повернулся к ней. Она встала с крышки унитаза.
– Прекрасно! – сказала она. После чего: – Нам надо заниматься этим чаще!
Медленно провела она рукой по моей свежевыбритой коже. Рука у нее была прохладна и мягка; она была очень юной и очень гладкой.
– Можно спросить? – сказала она.
– Конечно, – ответил я.
– Вам нравится математика?
Я откашлялся.
– Не знаю, – сказал я. – Она, э-э, необходима…
– Да, но вам она нравится?
– Полагаю, можно сказать, что и нравится. То есть, да, нравится. Мне нравится математика.
– Мне другое говорили.
– Вот как?
– Да. Я слышала, что математика вам не нравится. И это очень жаль.
– Не уверен, кто вам такое мог сказать, но это было бы не вполне правдой. Еще совсем недавно, в начальной школе вообще-то, математика была одним из моих самых любимых предметов. Математика, обществоведение, чтение – мне они все нравились…
– А теперь?
– Ну, сейчас я предпочитаю общественные науки. Хотя и математика обладает определенной таксидермической привлекательностью…
– Так вы к ней открыты?
– Да.
– Это хорошо. Потому что я обожаю математику…
Тут женщина вытянула перед моей парадной рубашки у меня из брюк.
– Математика эрогенна… – промурлыкала она. – Математика – это сам экстаз…
– Да… – сказал я. – Я начинаю видеть это отчетливее…
– Математика – испытующая головка в нашем поиске внутреннего знания. Она – пульсирующий клитор интеллекта…
Теперь она расстегивала на мне ремень.
– Без математики не будет ни любви, ни логики. Не будет предварительных ласк. Никакого процесса численного измерения трепетного подступа к оргазму.
– Да… – сказал я.
– Вы согласны?
– Да.
– Правда согласны?
– Да!
Оттуда она повела меня в спальню.
– Я застелила вам постель, – сказала она и показала на аккуратно сложенные покрывала. – Она ждет вас с самого утра.
– Я вижу.
– Я жду вас с самого утра.
– Да ну!
– Надеюсь, вы не против…
– Вовсе нет.
– Учтите, пожалуйста, что я это делала уже много раз.
– Очевидно.
– Таков мой талант.
– Заметно.
– Вы способны его оценить?
– Несомненно. Все так туго и твердо…
– Отец у меня был солдатом. У него дайм от поверхности отскакивал.
– Это произвело бы впечатление.
– Хотите посмотреть?
– Конечно.
– Видите?
– Да.
– Произвело?
– Весьма.
– На меня тоже.
– Правда?
– Да.
– Я рад.
– Это хорошо.
– Я сейчас ощущаю ваш треугольник?
– Среди прочего.
– Нужно всегда быть открытым новым ощущениям.
– Да.
– Включая математику.
– Да!
– Думаю, что уже вижу, как начинаю любить математику.
– Никогда, знаете, не поздно.
– Может, у меня запоздалый расцвет?
– Некоторые цветы растут дольше других.
– Без вас я так бы не смог.
– Давайте не будем забегать вперед.
– Я постараюсь.
– Старайтесь сильней.
– Стараюсь.
– Нет, не так. Вот так!..
– Вот так?
– Да.
– По-моему, понял…
– Ваше уравнение по-прежнему очень линейно.
– Спасибо!
– Пожалуйста. Но давайте попробуем что-нибудь повышенной сложности, а?
– Повышенной?
– Да, не стоит успокаиваться на знакомом. Вы когда-нибудь переживали производную?
– Что?
– Или красоту интеграла?
– В последнее время – нет.
– Позвольте мне вам ее открыть…
– Ладно…
– Я вам ее открою медленно и откровенно…
– Да…
– Чтоб вы ее увидели…
– Да…
– …во всем ее великолепии…
– Мне кажется, я ее вижу…
– Прекрасна ли она?
– Да!
– Вам она способствует?
– Способствует. Но вот это моему уравнению раньше никогда делать не доводилось…
– Никогда?
– Ну, давно, во всяком случае.
– Как давно?
– Не помню. С первого курса колледжа, наверное.
– Ну а теперь может!
– Поразительно…
– Не останавливайтесь.
– Ладно.
– Конец уж виден.
– Ладно.
– Мы близки.
– Хорошо.
– А вы?
– Несколько.
– Давайте насладимся вместе.
– Я попробую.
– Могу помедленней, если хотите.
– Нет, не надо.
– Вы уверены?
– Да.
– Но что это?
– Что что?
– Этот звук.
– Какой звук?
– Этот звук, доносящийся от вашей тумбочки. Рядом с будильником. Что это?
В тиши моей квартиры громко и неуместно звонил телефон.
– Телефон.
– Не отвечайте!
– Конечно.
– Он прекратит.
– Я знаю.
– Мы уже рядом…
– Точно.
Через несколько минут очень громкий телефон смолк, но тут же зазвонил опять так же громко.
– Опять телефон…
– Пусть звонит.
– Сколько времени?
– Почти два.
– Два?
– Да, два.
– Два часа?
– Да, сейчас два часа!
– Точно или примерно?
– Примерно. Сейчас примерно два часа!
– Это будет ночи или дня?
– Боже мой, Чарли, неужели это и так важно? Сейчас?!
– Извините, но я администратор в области образования. Такие вещи для меня важны.
– Сейчас?!
– Нет, наверное – нет…
– Так пускай этот проклятый телефон себе звонит!
И я предоставил ему звонить.
Потом она сказала:
– Как видите, мы уже перешли на повышенный уровень.
А я сказал:
– Да, я заметил.
– Вы чувствуете перемену в скорости?
– А я это чувствую?
– Для таких вещей существуют слова.
– Мне все равно нравится.
– Вас удивляет?
– Удивляет.
– Вас ошарашивает?
– Немножко. Все это для меня так ново.
– Думаю, вы начинаете осваиваться.
– Я определенно стараюсь.
– И это меня возбуждает…
– Я рад.
– Как профессионала…
– Очень рад.
– …И как женщину.
– Одновременно?
– Да. Но в особенности как профессионала…
Телефон зазвонил опять. И точно так же громко. Но на сей раз мне пришлось остановиться.
– Это может оказаться важным, – сказал я.
– Не сейчас! – прорычала она. – Мы близки!
И так я оставил его звонить. И звонить. И звонить. И звонить. И звонить. И звонить. И звонить. И когда он зазвонил снова, я даже послушать не обеспокоился. Мне было что посмотреть. И было что послушать. Зрелища и запахи были непосредственны. В воздухе витала математика. И мы были очень близки.
– Я очень близка, – сказала она.
И она и впрямь была близка – вот только, ну, не была. Телефон зазвонил еще раз, и еще раз мы выждали. И все ждали. И ждали. И вновь он умолк. Только теперь в нетерпении она дотянулась через всю кровать и выколупнула трубку из рычага.
– Я близка, – сказала она раздраженно. И затем в порядке объяснения: – Очень-очень близка.
– Очень близка? – спросил я.
– Очень-очень-очень близка!..
– Ладно, – сказал я наконец. И за чаем спросил: – Так вот какой может быть математика? Для вас она всегда такова?
– Всякий раз, – ответила она, а потом: – Хотя после матанализа становится еще лучше!..
* * *
И вот так я начал проводить свои каникулы, мерцая между качкими приоритетами математики и истории: днем с Уиллом в кафетерии; а по вечерам – с математичкой у меня в квартире. То, что обещало стать холодным и одиноким временем, вдруг превратилось в жаркое приключение. И, как она и сулила, я постепенно полюбил ощущение математики. По многу часов кряду. Через все итерации дня и ночи и во всех мыслимых положениях. Переворачивались столы. Скрипели кроватные пружины. По раскрытым лицам учебников, чьи глянцевые страницы липли к нашим потным спинам. На кухонном столе. У стены. Оседлав раковину. Все глубже и глубже в холодные зимние ночи мы вдвоем исследовали дисциплины друг друга так, что со временем они слились воедино в великом интегральном исчислении любви, в вековечном свете литературы, в старейшем и величайшем из всех верований, что известно под именем истории.
– Истории?
– Да, истории.
При этом взгляд Уилла сосредоточился целиком и полностью на мне. Ясно было, что бурбон исполнил свой долг, и Уилл больше не делает вид, что ему сопротивляется. Но так неожиданно услышав это слово, он навострил уши.
– Так вы про историю хотите узнать, Чарли?
– Да.
– Хоть сейчас и январь?
– Да, – сказал я. – Время позднее, мистер Смиткоут. Зимние каникулы почти закончились, и скоро начнут возвращаться студенты. Преподавательский состав вновь вернется от засухи к зелени. За нашим окном уже становится очень поздно. Самая долгая ночь миновала, и теперь мы направляемся к равноденствию. Так не могли бы вы мне, пожалуйста, рассказать то, что вы знаете о смысле истории?
Уилл оторвал взгляд от манерки и сказал:
– Я, конечно, знаю много чего. Вообще-то я знаю даже слишком много. Потому что это мой источник существования и моя судьба. Я – продукт истории в той же мере, в какой и фактор. Я – ее дитя, и она моя. Как мне, бывало, напоминала моя жена, она так говорила: Смиткоут, нам не выпала карта иметь детей – к сожалению, потомство такого сорта не заложено в твоем божественном плане, – но это ничего, у тебя могут быть иные дети. И потому мои потомки – студенты, и я буду жить в них. Мои дети – мои учения. Мое наследие – мои слова. Даже те выброшенные окурки сигар – мое верное потомство. Каждое мое действие – акт деторождения. Каждое последствие – дитя. У меня сто миллионов детей где-то в этом мире, однако нет ни одного, кто отвез бы меня к врачу на прием, который я пропустил в прошлом месяце. Но повествование становится запутаннее, Чарли. Те истории, что мы, бывало, рассказывали, – ну, рассказывать их нам уж недолго осталось. Так давайте не будем задерживаться на прошлом. Нет, давайте не станем говорить о том, что приходит и уходит. Как школяр истории, я бы предпочел говорить о будущем.
– О будущем?
– Ну да. Будущее, видите ли, есть всего лишь прошлое под личиной. Скорее обещание, нежели его предпосылка. Это прекрасный план, противопоставленный уродству его исполнения. Совершенство против реальности. Идея, превосходящая ее компрометацию. Это шепот. Греза. Исполненное желанье. Это кафетерий в конце длинной эспланады. Дельта, где сливаются все реки. Вечное предчувствие экстаза, а не сам мимолетный оргазм. Будущее – вот наша история. Точно так же, как ваша квартира есть идеальное отражение квартиры математички, только совсем наоборот, так и будущее есть лишь история нашей истории, но в виде ее незримой противоположности: звуков из-за стены. Что бы мы о нем ни думали, друг мой, будущее – меньше следствие нашего прошлого, нежели прошлое – следствие нашего будущего. Так давайте же поговорим об этом, а?..
– Пожалуйста-пожалуйста… – сказал я.
И вот так, сквозь бурбон и через стол, поверх газеты и под вздымавшийся дым своей сигары, Уилл Смиткоут рассказал мне о будущем.
– Будущее – не то, чем, по вашему мнению, оно будет. И никогда оно не таково. Это нетронутый теленок, что прячется посреди пыльного загона. Притопленный валун в великой реке времени. Это неожиданное трение асфальта о человеческую кожу. Будущее настает неуклоннее «олдзмобила», несущегося по трассе. Произвольней семи миллиардов стрел, выпущенных сквозь время и пространство. Оно проворней налетающего на вас получателя социального пособия, решительней спускового крючка, нажатого нечаянно. Будущее – все это, и однако же поистине оно не настает никогда. Оно всегда где-то в отдалении, на шаг опережает вас, сколь быстра бы ни была у вас походка, словно честолюбивая коллега на эспланаде. В некоторых культурах у вас за левым плечом постоянно витает дух – и отскакивает, стоит вам повернуться на него посмотреть. Его могут там обнаружить другие, но для вас его там никогда нет. Сколько б усилий вы ни тратили, вам никогда не преодолеть будущего. Как бы ни старались…
Уилл умолк, и мне показалось, что он может перестать. Чтоб поощрить его, я сказал:
– Но мистер Смиткоут! Что же вы видите в нашем будущем? Сегодня воскресенье, и преподавательский состав вернется в кампус уже завтра с самого утра. Начнут заполняться стоянки машин. Снова загомонят в библиотеке. Все это знакомо и предсказуемо. Все это известно. Но что же еще видите вы для нас? Помимо еще одного семестра аккредитованного обучения? Помимо оглушительного успеха нашей грядущей рождественской вечеринки? Помимо всего этого – что еще вы можете рассказать нам о будущем, до которого мы никак не дотянемся, хоть оно и ждет нас так близко?
При этом Уилл в последний раз затянулся сигарой. И хотя я этого тогда не знал, слова его останутся со мной до моего собственного окончательного растворения. Выдыхая дым в вечность, он произнес:
– Наше будущее, Чарли, ярко лишь как лампочка накаливания, что освещает этот тусклый кафетерий. И как эта лампочка, будущее наше будет проживаться в мире тупой результативности. В будущем валютой жизни станет эффективность. Это она займет место нашей человечности. Ибо тогда настанет день, когда двигаться мы будем быстрее, вырастем выше, жить станем дольше и знать больше – и без особых раздумий мы постепенно начнем считать все это достижениями. Мы сумеем покорить далекие представления, даже не понимая внутренних бурлений наших собственных сердец. Мы взберемся на горы, которых раньше не могли достичь, и разработаем технологии, которых никогда не могли вообразить. Мы начнем поклоняться нашим нововведеньям, как божествам. Инновация станет нашей верой. А результативность будет нашим богом. Прогресс – нашей молитвой. Но у слов наших молитв больше не будет звука. Нашу человечность обменяют на трофеи новизны. И души наши возложат на алтарь непрерывного улучшения. В будущем, Чарли, мы все будем регионально аккредитованы…
Слышно было, как в подсобке завелся льдогенератор. Уилл перевел взгляд на звук, потом снова посмотрел на меня:
– Но это не меняет коренных истин мира. Не меняет природы наших душ. Потому что по-прежнему есть и несказанно высокое. И оно сопротивляется наскокам человека. Время – единственный хозяин, которого я когда-либо признаю. И вода – единственное, что заставит меня верить. Вода – мой проводник. А слова – мое спасение. И Господь во всей милости Его и справедливости станет нашим окончательным Аккредитором и будет ждать нас у врат…
* * *
– Ты ничего не забыл, Чарли?
– Что, прости?
– Ты меня слышал, Чарли. Ты ничего не забыл?
Бесси стояла в дверях моего кабинета. На вид – недовольная. Но и сердитой она не выглядела. За те месяцы, что мы провели с нею вместе, я часто видел ее в гневе. Я видел ее свирепой. В моем присутствии она обижалась и огорчалась. И я бывал свидетелем ее шума и ее ярости, все ее недостатки, предвзятости и ранимость вскипали и переливались через край. Я видел, как она в ответ хлещет наотмашь. И ежился от ее припадков раздражительности. Я видел все это – и не только это. Но такой я не видел ее никогда. В отличие от тех остальных разов, теперь она была попросту спокойна, смирна, далека. Что-то было очень не так. И хотя я знать не мог, в чем тут дело, было ясно, что изменилось что-то важное. И оно невосстановимо. И отнюдь не к лучшему.
– Не забыл ли я чего-то? – ответил я. – Да нет вроде. А почему ты спрашиваешь?
Бесси холодно глянула на меня.
– Забыл. Забыл-забыл.
– Что забыл?
Бесси покачала головой.
– Невероятно, что ты забыл…
– Да что забыл?!
– Ничего, – сказала она. – Давай просто покончим с этим подведением итогов…
– Ну да, – сказал я. – Так на чем мы остановились?
– На чем мы остановились?
– Вот именно, на чем?
– Мы у тебя в кабинете, Чарли. Ты только что провел свою фокус-группу повышенной значимости, и мы стоим у тебя в кабинете. Если внимательно прислушаться, ты еще сумеешь уловить пощелкивание маятника на фоне. У тебя на столе стопка пыльных бумаг. В данный момент ты сидишь за этим столом и держишь в руках два пузырька с пилюлями. Я стою в дверях. Вот на чем мы остановились, Чарли…
– Я не это имел в виду. Я хотел уточнить, Бесси, на чем мы остановились исторически? Потому что хорошее подведение итогов должно дать быстрый обзор того, что произошло только что. Оно должно предоставить результативную историю того, что недавно имело место, его итогов и его смысла. Результативное подведение итогов должно предложить планы на следующие шаги. От него верные слушатели устремляются к выходу с концерта с песней любви в сердцах. Вот что должно делать хорошее подведение итогов, Бесси. Я это точно знаю, потому что некогда прочел в книге, которую дал мне Рауль…
Бесси взирала на меня с холодом во взгляде. Голос ее звучал спокойно. Ее манера сменилась на свою противоположность. Руки она засунула поглубже в карманы дождевика. Глядя на меня, она сказала:
– Ну так давай я тебе с этим помогу. Хочешь поговорить об истории? Позволь мне оказать тебе такую честь. Видишь ли, твоя история начинается несколько месяцев назад, с твоим прибытием на временную автобусную остановку и твоим визитом в бар, где с тобой познакомились мои друзья. Они мне все о тебе рассказали, Чарли. И предупредили меня, чтобы я держалась от тебя подальше. Он не отсюда, сказали они, и не похоже, чтоб хотел стать отсюда. Он держится замкнуто и отчужденно, словно для Коровьего Мыка слишком хорош. Как будто выше всего этого…
– Бесси, о чем ты говоришь? Я никогда не заявлял, что выше чего бы то ни было. Ты к чему со всем этим клонишь?
– Ты хотел песню любви, а?
– Да…
– И попросил меня после всего задержаться, а?
– Да…
– Ты хотел закончить все подведением итогов, а? Ну так давай их и подведем…
– Но…
– Ага. Значит, вот как началась твоя история, Чарли. На временной автобусной остановке. В конце августа. И не думай, пожалуйста, будто все, что могло здесь происходить до твоего приезда, имеет какое-то значение. Потому что его оно не имеет. Для нас, во всяком случае. Твоя история начинается в тот миг, когда ты прибыл в Разъезд Коровий Мык, – когда сделал шаг со ступеньки того автобуса – и ни мгновеньем раньше…
– Бесси?
– Вот каково начало твоей истории. Ну а наша начинается через несколько дней. Видишь ли, наша история начинается с твоего беспрестанного стука в дверь кабинета моего бывшего мужа в самом начале девятого, после чего ты уселся на жесткий пластиковый стул у него в приемной. Пока ждал, ты листал журналы, делая вид, что не замечаешь меня. Однако из-за своей пишущей машинки я видела, что ты следишь за каждым моим движением. Смотришь в глубокий клиновидный вырез моей блузки. Наблюдаешь, как трепещут мои ресницы. Озираешь фигурные контуры моих плеч. Глядишь, как мне на лицо падают мои завитые локоны. Твои глаза были голодны, Чарли. Взгляд – исподтишка. Ты держался, как разведенец на охоте. Оттуда я повела тебя на общее собрание, где познакомила с таинствами жизни в Коровьем Мыке. С личностями. С групповщиной. Я помогла тебе увидеть все таким, каково оно есть, отличить ночь от дня. Мы немного поговорили, и ты дал мне понять, что тебя честно интересует любовь к нелюбимому. Ты пригласил меня на обед. Хоть я и довольствовалась своей ручной печатной машинкой, ты стоял на своем. Я уступила. Держа поднос с обедом, я открыла тебе, какой для меня могла бы стать любовь. Ты мне рассказал, как кастрировал теленка. На меня произвело впечатление. Мы условились встретиться у студии Марши, и я постаралась приехать туда вовремя. Но тебя там не оказалось. Я бродила взад-вперед по тротуару и наконец тебя нашла – полуголого на краю вселенной. Мы поехали на вечеринку у реки. Мы пили пиво. Луна сияла на нас сверху, словно единственная материнская любовь. Я направила тебя к росчисти. Ты написал мне в рот. Я пригласила тебя познакомиться с детьми. Ты все наши совместные выходные потратил на то, чтобы составить отчет по фокус-группе и разработать план по разработке плана на рождественскую вечеринку. Ты перестал бриться. Ты перестал мыться. У тебя мятая одежда. У тебя отросла борода. Ты пристрастился к пилюлям: одну глотаешь за другой, хотя ни те, ни другие не помогают тебе не засыпать… хотя ни те, ни другие не помогают тебе уснуть. Мы разговаривали. Мы еблись. Я мыла тебе посуду. Пришли и прошли два часа пополудни. Мы ждали. Потом ждали еще. А теперь мы в этом вот кабинете, где тикает маятник, а лицо у тебя свежевыбрито. Вот честно, твоя история не очень интересна, Чарли. Хотя лицо у тебя, должна признать, и впрямь смотрится очень мило. Вообще-то глаже и сияющее я его никогда и не видела…
Тут Бесси умолкла. Она вдруг перегнулась через стол к моему маятнику. Металлическая сфера с другого конца качнулась вниз с окончательным звучным щелчком. И после этого сферы затихли. Маятник упокоился у нее под пальцами. Звук пропал навсегда.
– Вот примерно тут мы и остановились, Чарли, – сказала она. – Или же, если использовать твою терминологию, на этом остановились ты и я. Но я тебе только что пересказала не только нашу историю – это еще и наше будущее. Ундуляция подходит к концу. Наше воплощенье истекает. Если бы все случилось немного иначе, как видишь, любовь могла бы стать воскресным выходом на речку, просто вчетвером. Но без толку теперь о таком говорить. И потому, что касается «следующих шагов», – ну, я не верю, что они уже будут необходимы…
Бесси собралась уходить, но потом остановилась и снова развернулась ко мне.
– О, и да… – сказала она. – Еще кое-что. Моя мать хотела, чтобы я тебе передала вот это. Взяла с меня слово, что передам. Поэтому – вот, на…
Бесси сунула руку в карман и вытащила что-то маленькое, темное и тяжелое. Швырнув завернутый кусок кекса с цукатами мне на стол, она повернулась и вышла вон.
Последние приготовления
Гуманитарные науки – телка, математика – бык.
Лозунг над факультетом естественных наукС меньшей помпой, чем его предшественник, в середине января начался весенний семестр, и, не успел никто даже содрогнуться, как он вошел в академический раж. Вернулись велосипеды. Забурлило в библиотеке. Флаг перед административным корпусом трепетал на холодном зимнем ветру – все его тринадцать полос и сорок четыре звезды. Вновь длинную эспланаду заполонили студенты на пути от одной дисциплины к другой. А по всему кампусу общинного колледжа Коровий Мык стало можно снова отыскать утешение в успокаивающих звуках производимой писанины. Самостоятельный отчет уже стал переплетенным и сданным воспоминаньем. Отчет по фокус-группе, как и предсказывал Рауль, был подан с содрогающимся выдохом экстаза. Мой план рождественской вечеринки быстро переместился от непорочного зачатия к несовершенному внедрению: теперь уже осталось лишь довести до совершенства бесконечное количество деталей. Сидя у себя за столом, я и работал кропотливо над доведением этих деталей до совершенства. Заказаны ли коробки бурбона? Уплатили ли торговцам? Отрепетировали ли студенческие вожаки сценарии, что им раздали? Каждый такой вопрос требовал с моей стороны череды действий; каждое действие вызывало череду новых самостоятельных вопросов; а каждый такой вопрос, в свою очередь, вел к другим вопросам и действиям без счета, на которые тоже требовалось отвечать и соответственно действовать.
Когда я наконец оторвался от всего этого, у меня в дверях стоял Рауль.
– Чарли! – сказал он.
– Рауль! Вы вернулись!
– Это самоочевидно. Вы по мне скучали?
– Конечно. Вы замечательно выглядите. Как прошел ваш отпуск? Как Техас?
– Чудесно. Это совершенно потрясающее место. Вдохновляющее и безукоризненное. Напоминает Готический квартал в конце лета[43]. Вот, я вам привез…
Рауль протянул мне пару сапог из змеиной кожи.
– Это мне? – сказал я и взял сапоги.
– Надеюсь, подойдут.
– Я в этом уверен. А эти кожаные наштанники тоже мне?
Он кивнул и улыбнулся. Я пожал ему руку. Мы обнялись.
– Я так рад, что вы вернулись! – сказал я. – Простите, что не подумал вам что-нибудь раздобыть на Рождество. Для меня тут в кампусе время оказалось неожиданно насыщенным! Я был страшно занят. То есть, как будто весь мир совсем переменился. Может даже возникнуть ощущение, что вы вернулись вообще в совершенно другой мир, Рауль.
– Да всего месяц же прошел…
– Ага, но после вашего отъезда столько всего произошло! Вы поразитесь, когда услышите. Столько всего, на самом деле, что я даже не знаю, с чего начать…
– Эй, эй, притормозите-ка! Я только заглянул поздороваться. И сапоги с себя скинуть. И наштанники.
– Точно! Мне просто нужно вам столько всего рассказать, Рауль. Столько всего интересного возымело место. Но все происходит так быстро, что я даже не знаю, с чего начать…
– Может, начать с начала?..
– Точно! Начало. Хорошая мысль. Садитесь-ка вот на этот стул, Рауль, и позвольте мне рассказать вам с самого начала обо всем, что произошло после вашего отъезда. Видите ли, как только вы уехали в Техас, я первым делом выхватил у себя из кармана два пузырька и принял по пилюле из каждого…
– Вы до сих пор потребляете пилюли, что Расти и Гуэн дали вам в прошлом семестре?
– Да!
– Они начали действовать?
– Да!
– Правда?
– Да!
– Хотите сказать, они вам на самом деле помогают?
– Да!
– Которая? Пилюля, чтоб заснуть? Или та, чтоб не засыпать?
– Обе! Они обе помогают, как и предписано. Вот эта пилюля помогает мне вообще не засыпать… а вон та не дает никогда по-настоящему проснуться. И вот так, благодаря этим двум поразительным пилюлям, я сумел оставаться в постоянном состоянии псевдосна и полубодрствования. Что хотите говорите о современных изобретениях, Рауль, – сокрушайтесь об опасностях распутной технологии, если надо, – но две эти пилюли – это совсем другое дело! Легко глотаются. Недороги. В высшей степени более съедобны, нежели их альтернативы. А взятые вместе они поддержали мою решимость и помогли мне продраться через все каникулы по пути к прибытию наших ведомственных аккредиторов и кульминации нашего празднования рождественской недели в кафетерии!..
– Стало быть, жизнь хороша?
– Жизнь замечательна!
– Ну тогда расскажите мне, что еще произошло после того, как вы приняли эти таблетки…
– Жуть сколько всего, Рауль! Столько, что просто невероятно! Понимаете, я завершил заседание своей фокус-группы и написал отчет, а Бесси сунула руку мне в трусы, и доктор Фелч вычистил пепельницу. Затем мы с Бесси провели краткое подведение итогов, и она мне дала кусок кекса с цукатами, который ее мать приготовила мне, а после этого я вернулся домой к себе в одинокую квартиру, но она была не настолько одинока, как я считал, и потому я приготовил чай и выбрил себе лицо, и принялся за усиленное исследование интегрального исчисления. Довольно удивительно, Рауль, но после вашего отъезда я действительно полюбил математику! И само по себе это немалое чудо: куда там, теперь я люблю ее больше, чем в начальной школе, – а это что-то да значит, потому что в начальной школе у меня была прелестная учительница, носившая цветастые платья, открывавшие всем вид на свои колени! У нее была привычка сидеть за столом, закинув ногу на ногу так откровенно – вот эдак, – и нам всем удавалось мимолетно подглядеть полоску кожи у нее вверху бедра. Только это было давно. А теперь женщины так редко носят цветастые платья. Но… о чем я говорил?
– О своей новообретенной любви к математике.
– А, верно. Значит, э-э, да, я изучал матанализ у себя в квартире, еженощно, – растянувшись на полу, на столе, у стены, – и это переживание раскрыло мне глаза, Рауль. Опыт этот был поистине поучителен. Но занимался я не только этим. Ежедневно я проводил свои дни с Уиллом Смиткоутом в кафетерии, слушая его воспоминания о будущем. Он довольно-таки скептически настроен касательно того, достигнем мы его или нет. Но мне кажется, мы уже почти там… я правда так думаю. Сдается, оно почти уже с нами…
– Что именно?
– Будущее! Временами оно может казаться безнадежно далеким, но я думаю, мы почти прибыли. Оно будет здесь в любой миг. Только послушайте… может, вам слышен его приход?..
Рауль прислушался.
– Я ничего не слышу…
– Тут нужно терпение.
– Я ведомственный научный работник, Чарли. Терпение не входит в число моих добродетелей.
– Точно. А теперь слышите?
Рауль поднес к уху ладонь чашкой и несколько мгновений там ее подержал. Ничего не услышав, он сказал:
– Нет. Не слышу. Боюсь, будущего нигде не слышно. – И затем, словно бы заметив предельную тишину: – Эй, а что случилось с вашим маятником?
– С моим чем?
– С вашим маятником… он не раскачивается…
– А, это. Бесси остановила его рукой. Но это ничего, я не воспринял это на свой счет. Время, как я узнал, – то немногое, что остается, причем остается навсегда. Как вода. И любовь. И наша всеобщая нежность к бессмысленной новизне…
– Судя по всему, каникулы у вас были полны событий, Чарли. Кажется, что время в паузе было для вас поистине плодотворным.
– Именно! А лучше всего то, что я наконец начал приспосабливаться ко всевозрастающей скорости изменяющихся фактов. Вначале это меня так ошеломляло. Но я как-то во всем этом выжил. Попал в колею. Все происходит так же быстро и неумолимо, как всегда. Но, думаю, я наконец выучился в этом лавировать!..
– Благодаря тем пилюлям…
– Точно!
Тут я воспользовался носовым платком доктора Фелча и снова стер слюни у себя со рта. Затем продолжил:
– …Знаете, с вашего отъезда, Рауль, я достиг нескольких профессиональных вех. Перво-наперво, мне удалось закончить книгу, что я начал так давно, – можете поздравить меня: я дочитал «Справочник для кого угодно: любовь и общинный колледж».
– Поздравляю.
– Спасибо. И научился целиться из пистолета. Мне Этел показывала. Я стал вполне себе знатоком.
– А стрелять из него вы тоже научились?
– Пока нет. Пока что мне не удалось предаться этому занятию целиком. Но я уверен, что настанет день, когда я буду готов нажать на спуск…
– Остается надеяться.
– И еще, Рауль, вы заметили? Я побрился! И причесал волосы!
– Это я вижу. Хорошо постарались. А кроме того, я вижу, что воротничок у вас накрахмален, а вельветовые брюки выглажены.
– Это мне сделала математичка!
– Как заботливо с ее стороны. И это все?
– О нет! И близко не все. На самом деле она совершила далеко не только это. У нее множество талантов!..
С экстатическими интонациями я перечислил все до единого, что математичка сделала для меня за предшествовавшие недели. Список был довольно обширен, и на перечисление ушло несколько минут. Рауль терпеливо ждал, когда я закончу. Затем сказал:
– Я не это имел в виду, Чарли. Я просто хотел узнать… случилось ли что-то еще, пока меня не было?
– О, верно. Еще как случилось, Рауль! Например, вскоре после того, как вы уехали в Техас, я получил вздутую мошонку к себе в преподавательский почтовый ящик. Казалось, это невероятно. Невозможно. Даже неоправданно. Но доктор Фелч объяснил, что в Коровьем Мыке и это засчитывается как профессиональная веха. Что это важный обряд посвящения. И что администратор, так и не заслуживший ни единой вздутой мошонки за всю свою жизнь администратора в области образования, есть администратор, который ничего на самом деле не администрировал. Потому что такая личность никогда не осмеливалась ни на что поистине значительное на этом свете.
– Я вот не получал ни единой…
– Ой, ну да. Но не переживайте – уверен, когда-нибудь получите. То есть не хочу похваляться, но я уже получил себе третью…
– Третью?
– Да. Первая появилась сразу после того, как Бесси остановила мне маятник. Вторая пришла, когда я объявил, что рождественская вечеринка перенесена на март и ее перекрестят в другое имя. А третью я получил после того, как мне пришлось внести решающий голос в пользу пересмотра декларации миссии нашего колледжа. Короче говоря, для меня это было историческое время…
– Рад это слышать.
– Но это еще не все, Рауль. Я уверен, вам интересно будет выслушать обо всех странных и занимательных вещах, что произошли у нас в колледже, покуда он движется к возобновлению своего статуса как аккредитованного высшего учебного заведения. К примеру, вы знали, что на флаг перед административным корпусом добавили еще одну звезду?
– Уже? Сколько же их теперь?
– Сорок пять!
– Аж столько?
– Да. Колледж начал смотреть на мир вокруг. Он превратился прямо-таки в улей деятельности после вашего отъезда. Вообще-то за той границей, где раньше был пустырь, сейчас построили новую пасеку. И только что добавили новое крыло к Центру Димуиддла – это началась новая эпоха реконструкции. Перемостили автостоянку, а классы сделали безопаснее для образования, установив в них новейший огнеупорный асбест. В плавательном бассейне новая система фильтрации. В классах теперь стоят белые доски, на которых пишут маркерами на водной основе, которые легко стирать… так что мел больше не нужен! Все теперь новее и смелей, а также изрядно усложнилось и стало интереснее. Пока вас не было, мы пересмотрели нашу декларацию миссии и отменили Сухой закон, а в лагунах расплодились карпы и закрякали утки, луна перед нами прогнулась, а преподаватель творческого письма победоносно вошел в штат – невзирая на мой осторожный отчет, – этичка сделала аборт, а Этел наложила судебный запрет на Льюка после того, как он вынудил ее сыграть роль покорной студентки, которая здесь по студенческой визе, при экстремальной половой игре. Меж тем вам интересно будет узнать также, что колледж нанял трех монголоидов и одного цветного…
– Вы имеете в виду – негра?
– …Точно. Негра и трех монголоидов…
– Вы имеете в виду – азиатов?
– …Верно. Трех азиатов и негра…
– Вы имеете в виду черного?
– …Именно. Черного и трех азиатов…
– Вы имеете в виду косоглазых?
– …Ну да. Трех косоглазых и одного черномазого…
– Вы хотите сказать, что столько времени прошло и они наняли наконец афроамериканца?
– …Э-э, да. Я разве не так сказал? После вашего отъезда в Техас наш колледж успешно нанял на работу трех азиамериканцев, еврея, католика, двух левшей-гомосексуалистов, вига, женщину с серьезной аллергией на пшеницу и многообещающую цветную личность, у которой степень по электротехнике. Вы их всех наверняка увидите в кампусе. А, и еще мы сейчас хотим нанять нового преподавателя политологии…
– А как же Нэн?
– Она ушла.
– После первого же семестра! Как такое может быть?
– Никто не знает. Ее студенты явились в первый день занятий, а ее нет. Так и не вернулась с каникул, наверное. Говорят, нашла другую преподавательскую должность в городском колледже где-то на восточном побережье. Всю осень втайне подавалась. Доктор Фелч теперь изо всех сил пытается нанять почасовика ей на замену. А для того, чтобы заполнить ее вакансию на срок подольше, мы нанимаем соискателя – лауреата премий из центрального Вайоминга…
– В Вайоминге дают премии?
– О да. Они нынче повсюду.
– Так мы нанимаем аж из такого далека?
– Ничего не поделать. У соискателя из Коровьего Мыка в резюме описка. А соискатель из Калифорнии, после того как ему предложили работу, в глаза его не видя, отказался от должности, даже не приехав.
– Понятно. Так что еще нового? Помимо всех этих реорганизаций?
– Много чего, Рауль. Жуть сколько!..
И тут я рассказал ему о своих усилиях совместить наши празднества рождественской недели с пятидневным визитом наших аккредиторов. Как я добился в этом подлинного прогресса. Как, невзирая на препятствия – а их было множество, – мне удалось поднять на святочные мероприятия весь кампус. Повестка недели сверстана. Напечатаны приглашения. Кампус стриг газоны и надраивался, готовясь к визиту комиссии. Преподаватели согласились индивидуально сопровождать везде аккредиторов – такова была моя программа «Усынови аккредитора», – а некоторые даже взялись провести открытые уроки. При аккредиторах по всему кампусу пройдут особые мероприятия и события, на праздник также приглашаются студенты. Отдельные преподаватели и сотрудники станут блистать талантами. Во время самой вечеринки, как обычно, из кранов будет разливаться пиво; однако в этом году подавать также будут вино и смешивать коктейли, а также в наличии будут «маргариты», бурбон, скотч и произвольное количество прочих крепких напитков и ликеров. Будут марихуана и англиканство, а также тазик, полный разноцветных барбитуратов, – и, разумеется, пение гимнов, гашиш и частые возможности заняться нежным анальным сексом. В понедельник пройдет парад винтажных грузовиков. Во вторник – демонстрация йоги. В среду родео. В четверг концерт ситарной музыки и надувание коров. А в пятницу, двадцатого марта, после череды захватывающих мероприятий, связанных с аккредитацией, которые пройдут раньше в тот же день – точное время и место их проведения будет восторженно объявлено, – мы распахнем двери кафетерия для само́й долгожданной рождественской вечеринки, или, как я предлагаю ее называть, «Весеннего маскарада и аккредитационных празднеств рождественского единства общинного колледжа Коровий Мык». Все согласились с тем, что это станет величественнейшим празднованием Рождества на все времена. Это станет замечательнейшим визитом комиссии по аккредитации в истории нашего колледжа. Вокруг этого события постепенно нарастает возбуждение. На сей раз я сделал все для того, чтобы приехавшую комиссию встретили на временной автобусной остановке и перевезли в кампус достойно. По их прибытии им будут вручены сувениры, их засыплют благоприятными впечатлениями и оделят данными. Их будут поить, кормить и водить по всему кампусу смотреть парадные проекты. Во время визита к ним будут относиться, как к королевским особам. А сразу после рождественской вечеринки, зардевшись от целого дня потребления яичного коктейля и повсеместных усовершенствований, они проведут свои заключительные опросы, после чего направятся обратно к временной автобусной остановке. Во всем этом допустимо очень немного возможностей для погрешности, поэтому каждая индивидуальная деталь должна быть изощренно и тщательно предопределена. Я вообще не спал после каникул – ввиду того, что все дни проводил за нескончаемым планированием, а ночи – за нескончаемыми открытиями, совершаемыми у меня в квартире с математичкой. Но все получалось. Хоть я вымотан, мое наследие обретало очертания. Наконец-то я отыскал собственный ритм координатора особых проектов в общинном колледже Коровий Мык. Все это произошло в первые короткие недели сразу же после того, как Рауль отправился в свой техасский отпуск.
– Так ваш план, похоже, значит, слипается?
– Да, слипается. Наконец-то!
– Рад это слышать. Вы прилежно поработали. Вы заслуживаете славы.
– Благодарю вас, Рауль!
– Но, Чарли?
– Да.
– Когда вы с ней в последний раз говорили?
– С математичкой? Я разговаривал с ней только этим утром! Сразу перед тем, как идти на работу! Она расправляла покрывала на моей постели…
– К черту эту вашу математичку. Я спрашиваю о Бесси. Когда вы в последний раз говорили с Бесси?
– Бесси?
– Да, вы же ее помните, верно?
– Конечно. Но на самом деле я с ней толком не разговаривал после того, как она остановила качанье моих металлических сфер. Со времени нашего катастрофического подведения итогов у меня в кабинете.
– Так вы, значит, не обсуждали с ней План Б?
– Нет, не обсуждали. У меня не было возможности. И теперь мы с ней не разговариваем.
– Мне жаль это слышать. Я знаю, как сильно вам хотелось любить нелюбимое. И в вашем возрасте другого случая вам может и не представиться. Любви не всегда приходит в голову постучаться дважды – особенно в дверь пыльной квартиры на втором этаже в преподавательском корпусе. Жаль, что у вас с ней ничего не получилось.
– Да пустяки. С тех пор я время от времени об этом думаю. И мне удавалось утешиться мыслью о том, что нам просто не было суждено. Что какие-то вещи в нашем мире просто не суждены. Вроде будущего. И открытия того, что есть на самом деле любовь. Но это ничего. Я администратор в области образования – вот выбор, который я сделал сам. А кроме того, не то чтоб меня по вечерам не ждала юная математичка! И не то чтоб с Бесси такого раньше никогда не случалось – знаете же, тысячу других раз с тысячей других мужчин…
Рауль неодобрительно покачал головой.
– Она человек, Чарли, а не почасовик. Она заслуживает большего – ее нельзя просто выбросить после того, как она перестала быть вам нужной. От вас она заслуживает гораздо большего. Не забывайте, это она спасла вас на краю вселенной. И пригласила вас к себе в дом на кекс с цукатами. Она позвала вас познакомиться с ее детьми. На это ей решиться было непросто. Вам нужно с ней поговорить. Это будет правильно.
Я задумался над его словами. Как обычно, он был прав.
– Вы совершенно верно все говорите, конечно. Но как? Она даже не отрывает взгляд от своей электрической пишущей машинки, когда я прохожу мимо.
– Ее чего?
– Вы не слышали? Все ручные пишущие машинки заменили на их электрическую разновидность. С возвратом каретки и коррекционной лентой. Что и говорить, у секретарш настал трудный переходный период. Даже новенькая на факультете экономики крайне разочарована…
– Мы не о других секретаршах сейчас говорим, Чарли. Мы говорим о Бесси.
– Точно. Бесси. Мы с ней не разговариваем после того, как она отдала мне кекс с цукатами. А когда я прохожу мимо ее стола, она даже не отрывается от того, что печатает. Я несколько раз пытался, но меня там как будто вообще нет. Поэтому я не знаю, как мне подойти к разговору с ней…
– Может, отыщете возможность на рождественской вечеринке? Мероприятие будет проводиться в кафетерии, верно?
– Верно.
– И она придет на него, верно?
– Верно.
– Значит, вы с ней оба окажетесь вместе в одной комнате, верно?
– Верно.
– Иначе говоря, в одном сегменте времени и пространства?
– Да.
– И там будет присутствовать алкоголь в больших количествах, верно?
– Верно.
– И марихуана?
– Да.
– И барбитураты?
– Целыми тазиками.
– И мясо?
– Кучами до потолка!
– И овощи?
– Всех мыслимых цветов и видов!
– Ну и вот, пожалуйста. Вот ваш шанс! Поймайте ее в очереди за едой – тогда и поговорите!
Я кивнул.
Рауль пожал плечами.
– Так или иначе, Чарли, я подумаю, чем тут еще можно помочь.
– Спасибо, Рауль.
– Зачем еще нужны друзья? Но эй, а помимо этого – как вообще продвигается ваша подготовка?..
Пока мы с Раулем обсуждали мои планы вечеринки, я заметил, что погода снаружи опять меняется. Солнце начало садиться под другим углом: теперь он был не таким косым. Снова зачирикали птицы. Утки закрякали громче прежнего. Холодный воздух конца февраля превратился в холодный воздух начала марта. Скоро опять включат фонтаны. На подходе явно была весна. И глазом моргнуть не успеем, а уже приедут аккредиторы.
– И еще, Рауль… – сказал я. – Вы слышали, что произошло с Уиллом?
– Нет, что?
– У него случился какой-то удар. Это произошло за день до того, как наш преподавательский состав вернулся в кампус. Прямо там, в кафетерии, под табличкой «НЕ КУРИТЬ». Я с ним в тот самый вечер разговаривал. Мы говорили об истории. И будущем. И супермаркетах. Когда я уходил, он был в норме – может, только слова немного мямлил, но не больше обычного. Возможно, у него уже произошла какая-то закупорка, но я не заметил. После моего ухода он, должно быть, потерял сознание. Наутро его нашла в луже слюней одна его бывшая студентка. Некогда ей хотелось стать историком, но она вместо этого промокнула влагу и вызвала неотложку. Он пролежал так всю ночь.
– Какой ужас! Все серьезно?
– Не знаю. Его отвезли в местную клинику, проверить. На следующий день он опять сидел за своим столиком в кафетерии. Говорит, врач ему сказал, что отныне – не курить и не пить, возрастает опасность рецидива и в следующий раз все может быть гораздо хуже. Но ему, конечно, ничьи советы не нужны. По-прежнему сидит за столиком, каждый день, с газетой, бурбоном и сигарами…
– Очень похоже на Уилла… – Рауль покачал головой. – А что с Расти и Гуэн? Они подписались под вашу вечеринку?
– Не вполне. Но почти. Почти подписались. После несусветных уговоров они так приблизились к посещению вечеринки, что я уже чую вкус мяса и овощей у них на губах, со всем почтением. Но в двери кафетерия они пока не вошли. Вообще-то мне еще надо немного их поубеждать напоследок. Поэтому если вы меня простите…
И тут я остановился. Внезапно – даже для самого себя – я схватил Гуэн за руку и развернул ее лицом к себе. В последние минуты перед занятиями эспланада была переполнена людьми и оживлена, студенты текли мимо нас потоками в обе стороны с одного занятия на другое. Судя по реакции Гуэн, она не привыкла к тому, что коллеги-мужчины хватают ее за руку и эдак вот разворачивают.
– Чарли, вы только что?..
Я отпустил ее руку.
– Простите, Гуэн, но мне правда нужно было привлечь ваше внимание. Пока не поздно…
– Да как вы смеете!
Я отряхнул ее руку там, где от моих пальцев на ее коже остались красноватые вмятины.
– Извините. Дело просто в том, что рождественская вечеринка…
– Не смейте меня так больше хватать! Я не ваша юная рабыня! Да и не наложница я вам. Я не прирученное копытное. Мне все равно, кто вы такой. Или кем себя считаете. И мне безразлично, что судьба нашего колледжа – в ваших руках. Только попробуйте еще так нас схватить!..
– Нас?
– Да, нас!
– Простите меня, Гуэн. Мне правда очень жаль. Просто все происходит так быстро, и надвигается рождественская вечеринка, а вы ходите очень прытко, и я изо всех сил стараюсь не отставать, а слухи оголтело носятся по машбюро, и мне правда очень нужно, чтобы вы вдвоем пришли на грядущую рождественскую вечеринку…
Расти шутливо глянул на меня.
– Слухи?
– Да, что никто из вас двоих не придет.
– И вы им верите?
– Да.
– И потому хотите, чтоб мы оба пришли?
– Да.
– И под нами обоими вы имеете в виду меня и Гуэн?
– Именно это я и имею в виду. Вы оба вместе!..
Мы с Расти сидели у него в «додже», и, хоть и медленно продвигались обратно в кампус, ясно было, что мое время с ним истекало. Если я не смогу убедить его прийти на рождественскую вечеринку до того, как мы минуем Тимми в будке охраны, все останется на волю судьбы: участие Расти, какие бы то ни было шансы на единство преподавательского состава, наша вечеринка, аккредитация колледжа, собственно мое личное наследие тут, в Коровьем Мыке.
– Моя позиция ясна как день, – сказал Расти. – Я не пойду на эту вечеринку, если меню ее не будет состоять из мяса без овощей.
Гуэн покачала головой в полном согласии.
– А я пойду лишь в том случае, – сказала она, – если будет представлен широкий ассортимент овощей… и никакого мяса.
– Договорились! – сказал я.
– А? – сказали они.
– Мы с вами договорились! Вы выиграли. Я согласен. Сдаюсь. Уступаю. Все будет так, как вы сказали. Я сделаю все в точности как вы этого хотите.
– Имеете в виду, что там будет мясо без овощей?
– И овощи без мяса?
– Да!
– Ночь будет без дня? И день без ночи?
– Да! Именно это там и будет. И то и другое без того и другого. Только, пожалуйста, приходите, ладно? Дайте мне, пожалуйста, слово, что вам от всей души захочется прийти в кафетерий на рождественскую вечеринку двадцатого марта!..
Не отвечая мне, Расти перевалился через железнодорожные пути и повернул свой «додж» к знаку, приветствовавшему нас в общинном колледже Коровий Мык.
– Видите эту вывеску? – сказал он.
– Конечно, – ответил я.
– Ну так вот, не так давно еще было время, когда на ней говорилось нечто совсем другое. Еще до того, как сюда понаехали все эти новые люди со своими светлыми идеями, мы были всего-навсего простым профессионально-техническим училищем. Тогда и сам знак был проще. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОБЩИННЫЙ КОЛЛЕДЖ КОРОВИЙ МЫК», гласил, бывало, наш знак, сработанный вручную, а ниже, буквами гораздо меньше: «Где сходятся концы с концами…»
Я кивнул.
– Наверно, все и впрямь меняется, – сказал я.
Расти обреченно пожал плечами.
– Так вы придете? – спросил я.
– Видимо, да, – сказал он. – Наверное, отчего бы мне и не прийти.
– Точно?
– Да.
Я поблагодарил его и протянул руку; он крепко ее пожал. Затем я повернулся к Гуэн:
– А вы? – спросил я.
– Наверное, – сказала она.
– Придете?
– Да.
– И вы не будете любезны провести открытый урок для наших аккредиторов?
– По логике?
– И ее противоположности.
– Полагаю, Стоукс устроит свою обычную демонстрацию искусственного осеменения?
– Да. Я даже заказал перчатки по плечо…
– Тогда, наверное, мне следует на должном уровне устроить свою безупречную презентацию по логике. Знаете, ради симметрии…
Договорившись об этом, мы вдвоем продолжали нашу энергичную прогулку по эспланаде. По обе стороны тротуара деревья только-только оживали. На берегах лагун прохлаждались пеликаны. Ярко сияло солнце. Холодный воздух начала марта уступил место более теплому воздуху середины марта. Крякали утки.
– У нас правда очень красивый кампус, – заметил я.
– Да, он таков, – сказала она. – Прелестный.
– Жаль будет, если наш колледж закроют, правда, Гуэн?
– Жаль.
– Как по-вашему, есть шанс, что это произойдет?
– Возможно.
– Но это же непредставимо, нет?
– Непредставимо. Однако множество всего хорошего встречало и более бесславный конец. И все хорошее в какой-то миг должно подойти к концу. К сожалению, не приходится выбирать, как все заканчивается. Вы же не можете выбрать собственное растворение, Чарли. И не можете выбрать, славно оно будет или нет.
Гуэн была права.
Не сказав больше ни слова, мы вдвоем направились вдоль последнего отрезка эспланады к кафетерию впереди.
* * *
– Так мы готовы? – спросил доктор Фелч. Он харкал в плевательницу и украдкой одновременно курил сигарету – свою семнадцатую, – и выглядел при этом как-то нервно.
– Убежден, что да, сэр.
– Аккредиторы прибудут через несколько минут.
– Не беспокойтесь. Моя бригада по приему уже встречает их на временной автобусной остановке.
– А с их размещением улажено?
– Абсолютно. Жить они будут в преподавательском корпусе с видом на фонтаны.
– В квартирах прибрано?
– Да.
– Вся еда для вечеринки заказана?
– Да.
– И напитки завезены?
– Да. Бурбон и водка ящиками.
– И за все уплачено?
– Да. Из пачки двадцаток, которую вы мне дали.
– А газоны пострижены?
– Конечно.
– Полы навощены? Изгороди подровнены? Пеликаны накормлены?
– Да, доктор Фелч, все это мы сделали! И запланировали включение фонтанов – впервые с конца осени. Мы украсили весь кампус рождественскими регалиями. Платан обернут мишурой. Эспланада уставлена искусственными снеговиками. На фасад административного корпуса повешен огромный лавровый венок – рядом с флагштоком, где под тринадцатью полосами и сорока шестью звездами развернут рождественский вертеп. Вчера прибыла партия перчаток по плечо. И оттерли все туалеты. Убрали весь недавно установленный асбест. В каждой комнате есть мусорные урны. Доктор Фелч, последний месяц я не спал почти ни единой ночи – все это улаживал. Было нелегко. Но в огромной мере благодаря вот этим поразительным пилюлям… – я вынул пузырьки из кармана, – все идет по плану. Моя прилежная работа воздает мне. Мой недосып приносит свои плоды. Мое глотание пилюль пожинает заслуженные награды. Все идет как по маслу, доктор Фелч. Так что не беспокойтесь!
– Но как же Расти и Гуэн? Они подписались под вечеринку?
– Да.
– На сей раз вы уверены?
– Конечно.
– Не следует ли еще разок проверить на всякий случай?
– Не повредит…
И так я перевел взгляд на дальний край сиденья в «додже» Расти.
– Вы уверены, что подписались, мистер Стоукс? – спросил я.
– Да, – сказал он.
– А вы, Гуэн? Вы тоже подписались?
– Да. Я подписалась. Но я еще и проголодалась…
– Здорово, мы почти у цели…
И когда мы достигли конца эспланады, я бросил взгляд на «олдзмобил-звездное-пламя» Уилла, по-прежнему запаркованный наискось рядом с кафетерием. И тут же открыл перед Гуэн стеклянную дверь.
– Прошу вас… – сказал я.
– Сначала вы… – уперлась она.
– Нет вы… – предложил я.
– Нет, Чарли, вы! Те другие дни давно миновали!
– А, ну да, – сказал я и закинул за плечо свою спортивную сумку. – Чуть не забыл.
Усталые и голодные после тягот нашей долгой прогулки сквозь время и пространство, мы вдвоем вошли в кафетерий, где уже происходила рождественская вечеринка.
Аккредитационная неделя
И пускай бурлит веселье,
Фа-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!
К тому времени, как я вошел в кафетерий двадцатого марта, мероприятия рождественской недели по преимуществу уже хладнокровно состоялись. В воскресенье аккредиторы прибыли на временную автобусную остановку, где их приветствовал комитет по приему, состоявший из преподавателей и сотрудников множества академических кафедр и дисциплин колледжа. Кроме того, их встречал Джаз-оркестр Коровьего Мыка, три влиятельных предпринимателя общины, команда чирлидеров из местной средней школы, ее распасовщик первой линии, мэр Разъезда Коровий Мык – который по случаю преподавал у нас сварку на полставки – и двенадцать нервных, но рьяных представителей студенческого самоуправления. Оттуда аккредиторов погрузили в специально накрытые фургоны, пристегнутые к лошадям, которые и покатили их от автобусной остановки, по шоссе, через городок Разъезд Коровий Мык, мимо пасущихся коров, безводных канав и ржавого сельскохозяйственного оборудования к кампусу общинного колледжа Коровий Мык. Каждому аккредитору был приписан студенческий вожак, а каждому студенческому вожаку выдан сценарий для чтения, и пока фургоны миновали различные вехи по пути – почтовое отделение, тюрьму, здание мэрии из красного кирпича, – то и дело съезжая с шоссе, чтобы пропустить нагонявшие их машины, руководители групп декламировали сценарий, столь тщательно подготовленный заранее:
– Если посмотрите налево от нашей «конестоги»[44], – читали они, – вы еще можете увидеть длинный забор и ветшающие остатки некогда великого ранчо «Коровий Мык». Прежде ранчо было известно всему миру, и старожилы этого района по-прежнему заявляют, что на пике своей славы оно кормило половину страны. Это местная достопримечательность и признак смутных времен. Много лет ранчо боролось за выживание в море перемен, но, к сожалению, с тех пор оно навсегда закрылось…
– Закрылось? – недоверчиво спрашивали аккредиторы.
– Да, – отвечали вожаки студенчества. – Предсказуемо и окончательно.
Городок известили о приезде аккредиторов за несколько недель до визита, и потому по всему маршруту те местные жители, кто поддерживал заявку колледжа на аккредитацию, – многие либо учились в колледже сами во времена получше, либо их дети или другие родственники в настоящее время все еще надеялись получить в нем аккредитованные степени, – приветствовали процессию кличами и транспарантами, а также буйным маханьем и аплодисментами. Словно зеваки вдоль трассы марафона, горожане бежали трусцой рядом с фургонами с чашками воды, которые аккредиторы принимали у них, высунувшись, жадно выпивали, взяв в одну руку, а затем швыряли обратно на асфальт, откуда их подберут позже. Когда три крытых фургона достигли кампуса, Тимми вышел их встретить в костюме в узкую полоску, оставшемся после трех его последних свадеб, в цилиндре и с галстуком «в огурцах» в тон.
– Добро пожаловать в Коровий Мык! – сказал он и поклонился, и цилиндр при этом свалился у него с головы. Аккредиторы добродушно рассмеялись от такого зрелища, и конные фургоны проехали мимо будки охраны на территорию кампуса.
Выглянув в окно своего кабинета, я отметил цокот конских копыт и стал наблюдать, как процессия продвигалась по главной дороге мимо трех лагун с бронзовой скульптурой и дремлющими фонтанами, мимо центральной аллеи, платана и студентов, жонглировавших на травке своими сокращающимися карьерными перспективами.
Прибыв к преподавательскому корпусу, каждый член аккредитационной комиссии получил карту кампуса, карандаш номер два с вырезанным на нем ведомственным девизом Коровьего Мыка и биоразлагаемый кулек приветственных сувениров, приготовленный нашими исполнительными секретаршами: фарфоровая статуэтка коровы, пакетик вяленой говядины, две сферы из нержавеющей стали, символизирующие посеянные семена европейской цивилизации, и экземпляр Бхагават-гиты, любовно переведенный несколько лет назад нашей же преподавательницей эсперанто. По прибытии аккредиторы выглядели усталыми. Мы договорились встретиться с ними наутро в кафетерии, где прозвучит их приветственная речь преподавателям и сотрудникам.
У себя же в кабинете я разместил нечто вроде командного пункта – именно отсюда принимал я отчеты и корректировки от студенческих вожаков, Тимми из будки охраны, преподавателей зоотехнии, которым было поручено запрягать лошадей, и секретарш администрации, стратегически рассредоточившихся по всему кампусу, словно тысяча маленьких огоньков. Заходя ко мне в кабинет, каждый получал дуплексную рацию и наставленье немедленно уведомлять меня, если чему-то случится случиться.
– От следующих пяти дней зависит судьба нашего колледжа, – напоминал им я, и мы жали друг другу руки, словно авиаторы перед вылетом на важное задание. Тимми эта задача, похоже, особенно вдохновила; целое поколение пришло и ушло с тех пор, как он в последний раз фигурировал в роли распасовщика первой линии в команде местной средней школы, и теперь его инстинкты соперничества бурлили через край.
– Давайте покажем этим ебалам самую суть Коровьего Мыка! – воскликнул он, и я содрогнулся от такой мысли.
На следующее утро, в понедельник, вся комиссия аккредиторов собралась в кафетерии – познакомиться с сообществом нашего кампуса за соком с пончиками и несколько скомканным общением. Когда с этим покончили, началась официальная часть утреннего заседания. В передней части кафетерия установили стол с одним микрофоном, который можно было передавать взад и вперед, и члены комиссии, сидя за длинным столом, как апостолы на Тайной вечере, впервые обратились ко всему кампусу.
– Эта штука работает? – произнес доктор Фелч в микрофон вместо представления.
– Да, – вздохнули мы. – Работает.
Представившись таким образом аккредиторам, доктор Фелч приветствовал комиссию краткой речью об образовательном мастерстве и коллегиальности, а затем протянул микрофон председателю комиссии, и та приняла его твердой рукой. Женщине этой было далеко за пятьдесят, одета в деловой костюм из шотландки и пару очков, висевших на шнурке у нее на шее. Говоря, она следовала привычке либо размещать эти очки на кончике носа, либо снова их снимать, чтобы подчеркивать какие-то особо важные мысли. Вела она себя с достоинством и уравновешенно. Прическа ее была седовата. Манеры – сдержанны и благородны. Если можно верить наружности – а разве так бывает не всегда? – то лишь ей и можно было стать председателем этой приехавшей комиссии.
– Благодарю вас за столь пышный прием, – начала эта женщина, говоря в микрофон уверенно и элегантно, словно занималась ровно этим уже множество раз, а система звукоусиления была естественным продолжением ее собственного голоса – логическим удлинителем ее души. – От имени комиссии хочу поблагодарить вас за то, что вы нас принимаете эту неделю. Уверена, что выражу мнение всех остальных членов, сказав, что ваши студенты поистине благословлены тем, что могут стремиться к своим образовательным целям в таком потрясающе красивом кампусе, как этот…
Присутствовавшие преподаватели и сотрудники – выделившие время на то, чтобы сюда прийти, – зааплодировали сказанному.
– Вообще-то жаль, что мой собственный кампус не так привлекателен, – добавила она. – Это помогло бы увеличить коэффициент сохранения клиентов…
При упоминании коэффициента сохранения по всему кафетерию затрепетала жилка нервного смеха.
– Но если совсем искренне, я здесь сегодня утром для того, чтобы сказать вам спасибо за то, что принимаете нас, и объяснить, чего можно ожидать на этой неделе, пока мы в гостях у вас в кампусе. Но прежде, чем мы к этому перейдем, мне кажется, будет предусмотрительно всем нам сначала индивидуально представиться, чтобы вы поняли, что́ мы собою представляем как люди. Как все вы отметите, мы – группа разношерстная, и я уверена, вам приятно будет знать, что мы – не угнетатели и не тираны. Мы не эдакие аморфные инопланетные пришельцы, нагрянувшие к вам в кампус, чтобы нанести вам некий серьезный ведомственный ущерб. Мы не фашисты и не коммунисты. Ни неолибералы, ни строгие толкователи. У нас нет политической повестки дня. Мы лишь профессиональные работники образования, которые предпочли быть здесь в качестве добровольных участников аккредитационного процесса. Вообще-то по шкале от единицы до десяти, где десять – это мать-львица, защищающая свое потомство, а единица – монахиня перед вечерней, мы располагаемся, вероятно, где-то в точке двух с половиной. – Тут женщина вновь надвинула на нос очки. – Как председатель комиссии, стало быть, я полагаю, что начать знакомство мне нужно с себя…
Женщина кашлянула, как это делают люди перед тем, как обратятся к публике с некими возвышенными идеями. Затем она сказала:
– Как уже упоминал доктор Фелч, я – председатель этой комиссии. Кроме того, я работник образования – лауреат премий и президент общинного колледжа, расположенного в живописном городке прекрасного штата Юта. Вас может удивить, что моя школа – маленький колледж, очень похожий на ваш, и как его президент я очень хорошо знаю, каково, вероятно, вам испытывать на себе процесс аккредитации. Как он может устрашать. До чего много ресурсов на него тратится. Что́ это за эмаскуляция. Уверена, бывают времена, когда вам бы хотелось, чтобы весь этот процесс как-то рассосался навсегда. Чтоб вы просто могли убежать и спрятаться от него. Чтоб можно было просто сосредоточиться на работе, выполнять которую вас наняли, а не тратить за часом невосстановимый час на это тягостное и утомительное бремя, навязанное вам, и нести его неохотно и с плохо скрываемой злобой в сердце. Но, будучи профессиональными работниками образования, вы знаете, что это не выход. И потому я хвалю вас за все ваши усилия. И за решимость. И за преданность своему учебному заведению. Также я радуюсь вашим изяществу и достоинству, какие вы привнесли в свою роль тихо страдающих профессионалов. У меня в колледже мы сами недавно проходили это испытание – и получили весьма обескураживающий результат. Потому, пройдя через этот процесс – при котором в нас тыкала, нас пинала и унижала иными способами заезжая комиссия наших коллег-единомышленников, – я рада возможности посетить ваш кампус в том же самом качестве, чтобы пронаблюдать за процессом с другой стороны трибуны, если угодно, чтоб иметь возможность навязать вашему колледжу те же произвольные и удушающие требования, те же внешние оценочные суждения, те же самые убожество середины карьеры и ведомственный экзистенциальный страх, что были навязаны нам…
Женщина умолкла. По всему кафетерию воцарилось ощущение отчетливого дискомфорта. После чего женщина сказала:
– Это была попытка пошутить, публика. Меня не обидит, если вы посмеетесь…
В кафетерии поднялся робкий смех – и так же робко сразу стих.
– …Но я шучу. Говоря же по правде, я твердо верю в процесс аккредитации как средство самоосознания и непрерывного улучшения. У меня это уже четвертая комиссия – и вторая, где я председатель, – и я вне себя от счастья быть здесь. Перед этой поездкой в Коровий Мык я даже ни разу не была в вашем великом штате, да и не приехала бы в него, если бы не роковой каприз судьбы. Более того, меня в прошлом году первоначально отрядили нанести визит в процветающий общинный колледж в Оклахоме, но комиссия в итоге решила вместо этого отправить меня в Коровий Мык: замысел там был в том, что мои профессиональные знания и физическая снисходительность могут сослужить службу получше у вас в колледже, где все выглядит несколько подозрительней. И потому я счастлива, что мне выпала возможность навестить всех вас в вашем ошеломляюще прекрасном кампусе, и довольна, что моя вылазка из засухи к зелени происходит именно сейчас, иными словами – позже, нежели раньше…
После кратких, но несколько более вдохновенных аплодисментов женщина воздела руку:
– …Разумеется, это вовсе не значит, что вам не предстоит кое-какая серьезная работа. Последние несколько месяцев мы читали ваш самостоятельный отчет и делали тщательные пометки. Мы писали комментарии на полях. Мы подчеркивали цифры, противоречившие, казалось бы, друг другу. Один из членов нашей комиссии, по случаю – поэт-лауреат премий и всеми уважаемый почетный профессор, – пристрастился заносить на схему ямбы в некоторых пассажах, касающихся планов по оцениванию вашего колледжа…
При этом по кафетерию разнесся вздох. Но женщина, похоже, не заметила:
– …Что и говорить, процесс аккредитации в последнее время был недобр к вашему колледжу. И потому есть много недостатков, на которые вам следовало бы обратить внимание. Мы проверим, обратили ли вы его. Мы будем сверять то, что вы написали в своем самостоятельном отчете, с тем, что действительно происходит у вас в кампусе на наших глазах. Осуществили ли вы честолюбивые планы, об осуществлении которых говорили? Сдержали ли свое слово? Действительно ли ваш кампус настолько буколичен, как вы это утверждаете? Единым ли фронтом выступает ваш преподавательский состав за миссию вашего колледжа? Предоставляется ли равный доступ к имеющимся в наличии ресурсам вегетарианцам и не вегетарианцам? Короче говоря, мы станем присматриваться, взаправду ли вы поддерживаете те высокие планки образовательной ответственности, в поддержании которых клянетесь в ведомственном девизе, что вырезан на этих карандашах номер два… – Тут женщина умолкла, чтобы снять с носа очки. – О, и у меня к тому же любящий супруг и чудесные дети, в настоящее время обучающиеся в престижных четырехлетних колледжах различных городских центров, разбросанных по всей стране. – Смущенно женщина обратилась к другой женщине, сидевшей с нею рядом. – Но довольно обо мне, – сказала она. – Давайте представим вам остальную комиссию!..
Тут женщина передала микрофон далее, чтобы каждый член комиссии – все одиннадцать – могли представиться. Там была библиотекарь из ПТУ в Джеймстауне. И ведомственный научный работник из Уолла-Уоллы. И координатор по наставничеству из Альбукерке. Два члена комиссии были администраторами верхнего эшелона. Трое – штатными преподавателями. Один носил на глазу повязку. Другой, похоже, пришепетывал. Один смутно напоминал европейца. У одной лодыжку оплетала татуировка. Большинство были демонстративными агностиками. Меньшинство близилось к пенсионному возрасту. Каждый был специалистом в своей области знаний. Все были лауреатами премий. И все до единого были тщательно и компетентно преданы делу ведомственного усовершенствования. По очереди они излагали свои имена, титулы, связи с тем или иным кампусом и в чем состоит лично их склонность к процессу аккредитации. Последней приняла микрофон миниатюрная женщина, чей тоненький голосок, казалось, был как-то неспособен пройти по шнуру и выйти из динамиков, расставленных по всему залу лицом к публике.
– Меня зовут Сэлли, – сказала она, хотя даже первокурсник мог произнести свое имя с большей убежденностью. – Я из Калифорнии… – Сбоку стола доктор Фелч широко улыбнулся и показал два больших пальца. – Я очень рада быть здесь, хоть я тут и самая младшая в комиссии, а опыта у меня меньше всех. Мне нравится читать и кататься на лошади. У меня дома живут две кошки, а на лодыжке у меня татуировка. Как молодая, незамужняя, карьерно-ориентированная профессионалка, я в восторге от возможности больше узнать о вашем кампусе, особенно в том, что здесь касается тантрической йоги, искусственного осеменения и финансовой отчетности…
Когда все члены комиссии представились, микрофон вернули председателю комиссии, и та изящно его приняла:
– Итак, как вы все видите, ваш колледж – в опытных и заботливых руках!
Тут председатель комиссии снова разместила очки на кончике носа.
– Теперь – о том, что касается логистики нашего визита…
Пока женщина говорила, я окинул долгим взглядом кафетерий, который, невзирая на важность случая, был полон едва ли наполовину. Произведет ли такая явка впечатление на аккредиторов? Или они скорее станут рассматривать помещение как полупустое? И как будет выглядеть тот же самый кафетерий, как только в его двери загонят на рождественскую вечеринку всю местную профессуру – все ее сто процентов? Куда девать столы с едой? Чашу с пуншем? Дискотечный зеркальный шар? Хватит ли места для конкурса талантов? Для новогодней елки? Для ее украшений? Достанет ли наличествующего стенового пространства для размещения различных флагов мира? Вместится ли вся эта инклюзивность в такой ограниченный сегмент времени и пространства? И почему Расти и Гуэн пялятся друг на друга через всю полупустую комнату с такой очевидной и неприкрытой ненавистью? Сдержат ли они данные соответственно слова прийти на вечеринку несмотря на то, что на нее явится и другой? И где в данный момент Уилл Смиткоут? Удивительно, но за обычным столиком под табличкой «НЕ КУРИТЬ» его не было. Но почему? Кто-то отговорил его от посещения этой возможности познакомиться с нашими аккредиторами? Если так, то что за беда? Что мог он сказать такого о нашем будущем, о нашей истории, что могло бы поставить под угрозу аккредитацию нашего колледжа? И каково в конечном итоге – когда кровь высохла, обломки осели, а пластиковый пакетик на застежке выполоскан для повторного употребления – метафорическое значение теленка, которого мы кастрировали посреди пыльного загона? Что конкретно за семена посеяли мы? Что за кровь пролили? Пилюли, что я принимал одну за другой? И как мне найти их еще, когда каждая разновидность их истощилась, а их соответствующие пузырьки опустели? Вот что за жгучие вопросы занимали меня, пока я сидел в кафетерии и слушал, как председатель комиссии объясняет логистику их аккредитационного визита.
– …Итак… – говорила она, – в конце нашего пребывания на этой неделе мы поделимся с вами нашими первичными заключениями перед отъездом в пятницу. Однако следует, прошу вас, понимать, что рекомендации наши не окончательны и все, что мы сможем написать, в целом потребует проверки аккредитационным органом. Меж тем мы пока с нетерпением ожидаем возможности увидеть, как происходит обучение у вас в колледже, и познакомиться со всеми вами поближе: посетить ваши классные комнаты и побеседовать с вашими студентами, навестить ваши общественные мероприятия, – все это способ формально оценить результативность вашего учебного заведения. Мы ценим время, что вы потратили на организацию особой недели мероприятий в кампусе на время нашего визита, и хотели бы выразить признательность вам, доктор Фелч, за все, что вы сделали для обустройства нашего жилья. Мне известно, что в прошлый визит комиссии возникли некоторые непростительные сложности с логистикой, но теперь все просто фантастически…
Доктор Фелч принял похвалы, скромно отмахнувшись, затем быстро показал на меня.
– Чарли? – произнес он. – Встаньте, Чарли, чтоб мы смогли отдать должное вашим усилиям…
Я встал.
– Это Чарли, – сказал доктор Фелч. – Наш координатор особых проектов. Личность, несущая наибольшую ответственность за все, что вы испытаете на этой неделе…
Меня приветствовали сдержанные аплодисменты. Выхватив из кармана рубашки носовой платок, я стер еще один потек слюны у себя со рта. После чего снова сел.
– …Соратники по образованию из Коровьего Мыка… – продолжала женщина. – Примите, пожалуйста, к сведению, что мы прочли декларацию вашей миссии и сочли ее убедительной. Мы видим, что вы продвигаетесь гигантскими шагами к исправлению своих недостатков, и мы знаем, что к своим обязанностям профессиональных работников образования вы относитесь всерьез. Особенно нравится нам, что темой нынешней недели вы избрали местную – ту, что прославляет уникальную культуру региона Коровий Мык. Поездка до кампуса оказалась довольно неожиданной и, я должна сказать, вполне приятной. Также мы понимаем, что в пятницу, двадцатого, состоится кульминационное событие, и мы с нетерпением ждем и его тоже. Наконец хочу сказать только, что вам не следует позволять тому, что мы решаем судьбу вашего колледжа – быть может, судьбу всего вашего сообщества, – влиять на то, как вы воспринимаете наш визит. Хотя вы нас будете видеть в кампусе следующие пять дней, большая просьба – относитесь к нам так же, как к любым другим гостям вашего кампуса. Ведите себя естественно. Будьте искренни. Воспримите то время, что мы здесь проведем, как любую другую неделю легендарной истории общинного колледжа Коровий Мык.
Женщина примолкла. Затем сказала:
– А… чуть не забыла… – При этом она сняла с носа очки и с важностью оглядела аудиторию. – Веселого Рождества!
Все рассмеялись.
После нескольких финальных вопросов из публики аккредиторы собрали свои вещи и направились начинать аккредитацию.
* * *
Это было в понедельник утром. В понедельник днем на большой парковке рядом с планетарием провели парад винтажных грузовиков. Во вторник Марша Гринбом устроила демонстрацию йоги, на которой аккредиторов учили дышать друг другу в ноздри и изгибать спины на манер скептических кошачьих. Аккредитационные собеседования с глазу на глаз начались позже тем же утром, и я из своего кабинета принимал корректировки по тем, что уже состоялись. Вести сочились через дуплексную рацию, и становилось очевидным, что аккредиторы тщательно прочли наш самостоятельный отчет и при замахе не сдерживались. Одна женщина пытала нашего сотрудника бухгалтерии насчет чрезмерной стоимости хлорки, применявшейся в плавательном бассейне; другая желала знать, почему у ног ковбоя с арканом плавает так много дохлых карпов; третья спрашивала, почему, если у преподавательского состава и сотрудников после строительства стрелкового тира и закрытого полигона действительно повысился уровень удовлетворенности, мы недавно потеряли еще одного работника – лауреата премий, нашего только что нанятого преподавателя политологии, всего лишь после одного бесплодного семестра; а еще был седеющий джентльмен, который, пролистав лекцию о нравственном релятивизме, возложил тяжелую длань на плечо нашей этички и отеческим тоном заверил ее, что конец света отнюдь не настанет, даже если Коровий Мык потеряет аккредитацию, – что профессионал с ее регалиями может рассчитывать на то, что ему найдется место в любом общинном колледже страны. Сэм Миддлтон меж тем познакомился с почетным профессором, и эти двое направились к нему в кабинет на собственное собеседование, где на особом заседании за закрытыми дверями два поэта – один штатный и лауреат премий, другой праведный и непримиримый – обсудят разнообразные и студентоориентированные способы, какими наш колледж оценивает собственные процессы оценивания.
– Вы не станете возражать, если я поприсутствую на этом обсуждении? – осведомился я у почетного профессора, надеясь смягчить любые возможные стычки между ним и Миддлтоном.
– Стану, – ответил он весьма холодно. – Это тема для него и меня. Без обид, друг мой, но сие будет изысканье творческих умов. Молчанье против звука. Ритм против рифмы. Мужчина с мужчиной. Если у меня возникнут какие-либо вопросы об управлении образованием, я дам вам знать… – Профессор закатал рукава и устремился в кабинет Сэма Миддлтона.
Наутро в среду устроили родео – под несмолкаемые охи и ахи, а позже в тот же день аккредиторы пригласили кампус на срединедельный форум, на котором комиссия отбивалась от вопросов из публики на темы, относящиеся к ведомственной экспертной оценке. Один за другим члены комиссии высказывали свои взгляды на сам процесс, на упадок интеллектуальной цельности и критического мышления, на последнее решение Верховного суда касательно высшего образования, принятое пятью голосами против четырех, и на ослабление роли гуманитарных наук – и классики в частности – в международных делах. Когда это состоялось, один студент-старшекурсник, шестой год доучивавшийся, чтобы получить двухлетнюю степень, попросил аккредиторов прояснить их личные позиции относительно любви.
– Позиции? – отреагировала председатель комиссии, внезапно вся смешавшись.
– Да, позиции. Какова позиция вашего тела относительно любви? Иными словами, не могли бы вы, пожалуйста, сообщить нам – согласно тем меркам, с которыми вы подходите к нам на этой неделе, – что на самом деле такое любовь?
На что председатель комиссии ответила:
– Сам по себе такой вопрос коварен. Мы суть единый аккредитационный орган, который, как вам известно, состоит из многих индивидов. И потому, разумеется, вне нашей компетенции сообщать вашему кампусу каким бы то ни было определенным способом, что такое любовь. Однако совершенно в наших силах сказать вам, какой ей нужно быть. Иначе говоря – какой ей нужно быть, если вы желаете, чтобы ваш колледж добился возобновления региональной аккредитации…
Передавая микрофон с одной стороны президиума на другую, аккредиторы делились своими разнообразными мнениями о любви, и от них мы узнали, что любви нужно быть как прозрачной, так и доступной; что ей нужно подстроиться под всеохватный смысл существования колледжа; что ей нужно быть основанной на данных и непрерывно усовершенствующейся; и что проверку временем она выдержит, только если станет измеряемой, воспроизводимой, масштабируемой и непротиворечиво объективной.
– Значит, вдохновляющей она быть не должна? – спросила Гуэн.
– Нет, – ответили они. – Ей нужно быть непосредственно наблюдаемой.
– И, видимо, она, стало быть, не из тех вещей, что подлежат личному толкованию? – спросил Расти.
– Совершенно нет! – стояли на своем они. – Истинной любви нужно быть недвусмысленной!
В среду вечером кампус удостоился церемониального открытия тематических фонтанов: накопившаяся вода брызнула в небо под звуки симфонической музыки и треск особого фейерверка. После рядом с аппалузой устроили пикник под открытым небом: участок осветили софитами, а студенты кулинарной программы лавировали с подносами закусок и коктейлей. Позже тем же вечером, долгое время спустя после того, как закончилось это великолепное представление и суаре разошелся, я заметил в отдалении две тени – они держались за руки у той лагуны, где бык по-прежнему покрывал свою телку. В игре тьмы и лунного света два эти рукодержца выглядели крошечными фигурками посреди величественного фонтана.
– Кто это там? – спросил я секретаршу администрации, задержавшуюся мне помочь.
– Даже не уверена, – ответила она.
– Мужчина и женщина? Или двое мужчин?
– Не знаю, – сказала секретарша. – Определить нынче все трудней и трудней. Но похоже, что по крайней мере один из них – аккредитор!..
Той ночью я вернулся домой, рассчитывая, что квартира моя будет теплой и хорошо освещенной. После долгих аккредитационных мероприятий я наслаждался странным и внезапным воодушевлением, возникшим из моего новообретенного ощущения всемогущества. Возбужденье творческого решения задач; распаленье после достойного прохождения испытания; засвидетельствовав, как муза управления образованием лежит, раздетая, во всем своем блеске славы; экзальтация, возникающая от стоянья на самом краю пропасти личного и ведомственного бедствия, – заглядываешь за край, а потом в самый последний миг отпрядываешь, – все это вызвало ускоренье моего кровотока еще большее, нежели тому способствовало множество принимаемых мною пилюль. Адреналин двигался по всему моему телу, словно скорая помощь само́й мужской силы. Теперь больше обычного ловил я себя на том, что рассчитываю на чашку горячего чая и урок-другой (а то и три, если позволят внутренние резервы организма!) по промежуточному матанализу.
Но на сей раз в моей квартире было совершенно темно. И тихо. Я щелкнул выключателем и подал голос на всю квартиру. Но в ней было все так же пусто. Где-то фоном капало из текущего крана. «Справочник для кого угодно: любовь и общинный колледж» покинуто валялся на кухонном столе. Ничто не шелохнулось.
И вот тут-то я начал замечать звуки, доносившиеся с другой стороны квартиры. Сперва легкий топот. Затем слабый скрип кроватных пружин. То были вневременные ритмы любви. Музыка безудержной страсти. Из-за стены до меня доносилось знакомое мурлыканье кошки, которую нежно гладят. Сердце мое упало. Я вскипятил чайник. Подождал. Пытался перечесть любимую главу «Любви и общинного колледжа» – о дефлорации, – но не смог сосредоточиться на словах.
Когда же бедлам наконец утих, я вышел в холодный коридор и, встав перед соседней дверью, принялся тихонько стучать. Несколько мгновений спустя дверь снова слегка отворилась. Выглянул единственный глаз.
– Это вы? – спросила математичка.
– Вы там? – ответил я. – Где у вас воспоминанья?
– Само собой, я здесь. Это же моя квартира. Где ж еще мне быть?
– Ну, я думал, вы будете меня ждать у меня в кухне. Просто допустил, что вы будете сидеть за моим кухонным столом в футболке и носках, с чашкой чаю, как вы это делали обычно каждый вечер с тех пор, как мы…
– Все кончено, Чарли.
– Что?
– Извините, но это попросту не выйдет.
– Нет?
– В этом нет будущего. Я учитель математики. Вы – администратор в области образования. Мы говорим на разных языках. Мой – лингва-франка ученого просвещения. Ваш – специализированный жаргон тупой полезности.
– Да, но разве нельзя их как-то примирить между собой? Разве меж ними нет какого-нибудь равновесия? Некоего сорта… компромисса?
– Нет. Просто ничего не получится.
– Но почему же? До сего момента все, казалось, получалось отлично! То есть – не хотелось бы хвалиться, – но только вчера ночью все получилось аж три раза!
– Вы застали меня в минуту слабости. Но теперь мне лучше.
– Но я…
– Пока, Чарли…
Женщина слегка приоткрыла дверь шире, чтобы в щель протянуть мне руку. Я взялся за ее мягкие пальцы в последнем немощном рукопожатии.
Так же внезапно, как некогда появилась, женщина закрыла дверь квартиры и вернулась внутрь, в таинственное царство математики и поджидающие раскрытые объятья преподавателя матанализа.
* * *
Это случилось вечером в среду. К утру четверга плетенье моего тщательного плана начало обтрепываться по краям. Первый звонок поступил от Тимми из будки охраны – он поставил меня в известность, что рука деревянного шлагбаума застряла и не открывается, и от ворот до самых железнодорожных путей уже выстроилась длинная вереница машин – включая нескольких аккредиторов, которые уезжали из кампуса завтракать. К тому времени, как я отрядил туда бригаду моторизованных тележек перевезти аккредиторов на их различные встречи – обильно извиняясь за доставленное неудобство, – меня уже вызывали в административный корпус, где в непокорной группе почасовиков вспыхнули волнения из-за вопроса о налогообложении без представительства. Группа требовала минимальной заработной платы, восьмичасового рабочего дня и расширенного доступа ко включению в литературный канон. Кроме того, они хотели более безопасных условий для работы, биметаллизма[45] и всеобщего избирательного права. Их крест – из золота, утверждали они, и они устали его нести: если на их требования не обратят внимания, они готовы подкрепить их вредоносной остановкой работы.
– Мы не могли бы разобраться со всем этим на следующей неделе? – умолял их я. – То есть после отъезда аккредиторов! – Почасовики были недовольны, но в итоге уступили, и я, добившись их неохотного согласия, направился в химическую лабораторию заменять разбившуюся мензурку; затем на занятие по ораторскому искусству, где лишившийся дара речи аккредитор пытался разобраться в лаконическом подходе Длинной Реки к преподаванию; затем в музыкальный класс – вернуть дирижерскую палочку, которую занимал там в предыдущем семестре. Оттуда я поспешил обратно на семинар по творческому письму – объяснять разгневанной аккредиторше, отчего только что вошедший в штат – и внезапно не такой чарующий – преподаватель творческого письма пренебрег приходом на это занятие. Десять студентов сидели за столом для переговоров с податливыми своими умами и ковкими рукописями, а вот наставника, способного пастырски провести их по горам и долам, не было. Аккредиторша выразила потрясенность таким недостатком профессионализма и пожелала узнать, как подобное вообще возможно в аккредитованном высшем учебном заведении. Оплакивая утраченную возможность, женщина далее подвергла сомнению целесообразность обучения таким вещам, как творческое письмо вообще.
– Не мне об этом судить, – сказал я. – Но могу сказать, что наш учитель творческого письма за все время, проведенное здесь, был достаточно поучителен, чтобы добиться как введения в штат, так и похвал. Он завоевал по меньшей мере одну награду за свое преподавание – и еще несколько за свое неопубликованное творческое письмо. Он был поистине чарующ до сего момента и всеми силами доказывал, что для нашего колледжа он – настоящее приобретение.
– Ага, ну конечно – гораздо легче служить сияющим маяком недолго, – сказала женщина, – чем огоньком потусклее, но горячим для потомства. Так или иначе, все это крайне разочаровывает. Я только что потеряла грядущие сорок пять минут своей в высшей степени регламентированной жизни. И вот что мне теперь делать с этим временем?
– Взамен действительного наблюдения занятия в классе, – предположил я, – вы могли бы опросить студентов, сидящих вокруг этого стола для переговоров.
Женщина глядела на меня скептически.
– Я вполне уверен, – продолжал я, – что у наших студентов не будет иных отзывов о своих занятиях по творческому письму в Коровьем Мыке, кроме восторженных. И еще я уверен, что они будут счастливы рассказать вам обо всем поразительном, чему научились от своего чарующего, пусть и необъяснимо отсутствующего преподавателя творческого письма. Также я уверен, что студенты, собравшиеся за этим столом, будут единодушны в своих оценках изумительной возможности для личностного роста и интеллектуальных достижений, что была им предоставлена в результате их образовательного опыта в нашем регионально аккредитованном учебном заведении. Разве не так, дети?..
На это удивленные студенты консенсуально кивнули.
Женщина согласилась на мое предложение, и я быстро оставил ее наедине со студентами, выйдя из класса и закрыв за собою дверь.
* * *
Но загвоздки на этом не кончились. Всего за несколько минут я получил известия о небольшом костре в кухне кафетерия; недовольный студент опротестовал поставленную ему оценку, напылив из баллончика гадкую надпись на стену административного корпуса («Общинный колледж Коровий Мык… Где Сходятся ФАШИСТЫ!»); на ничего не подозревающего аккредитора напал пеликан, и птицу пришлось забить на месте; бывшая сотрудница Коровьего Мыка объявилась со своим адвокатом в приемной у доктора Фелча вручить ему ультиматум по судебному иску, который намеревалась подать. К середине утра ум мне уже растаскивало в тысячу соперничавших сторон одновременно, и, реагируя на каждую эту зарождающуюся траекторию, я уже далеко не раз совершил путешествие по эспланаде туда и сюда.
– А куда вы сейчас направляетесь? – спрашивал меня, бывало, прохожий.
– В корпус зоотехнии, – отвечал я, – доставить партию перчаток по плечо.
В самом начале одиннадцатого того утра, как раз когда я шел к себе в кабинет немного передохнуть от всего этого, по дуплексной рации, гнездившейся в жилете моей ветровки, я получил тревожный вызов.
– У нас серьезная ситуация в кафетерии, Чарли, – произнес голос, а затем зловеще: – Прием!
Достигши конца эспланады, я увидел толпу, собравшуюся вокруг неотложки с работавшими мигалками. Суетливый рой медицинского персонала грузил в нее сзади носилки. В толпе стояла учительница эсперанто, и когда я спросил у нее, что происходит, она показала на раскрытые задние дверцы неотложки, куда как раз помещали носилки.
– Уилл Смиткоут, – сказала она. – Похоже, у него еще один приступ. Его везут в город, в больницу.
– Так далеко?
– У них нет выбора. Поблизости нет ни единого места, где есть современное медицинское оборудование.
Проведя несколько минут на тротуаре, неотложка захлопнула дверцы и устремилась прочь.
– Ужас какой, – сказал я Раулю, позже тем же утром заглянув к нему в кабинет. – У Уилла нет детей. И жены нет, поскольку та умерла. Всю свою жизнь он истратил на разбрасывание семян знания, чтобы оно распространялось по всему миру – и плодилось далеко в будущем, – однако сейчас нет никого, кто бы о нем позаботился, в этом очень действительном настоящем, в пору его величайшей нужды. Он будет в больнице совсем один, Рауль.
– Такова жизнь, Чарли. Таков выбор, который делаем мы сами. Таков выбор, который сделал он.
– Но я ощущаю тут свою частичную ответственность. Быть может, мне следовало заметить, как нечетка была его речь в тот раз в кафетерии. Или, возможно, я мог бы старательнее отговаривать его от пристрастия к сигарам и бурбону. Наверное, сделай я что-нибудь иначе – что-нибудь целиком, – я б не позволил такому случиться! Может, если б не я, он бы сейчас не оказался в этой неотложке!
– Может. Но в данный миг это не имеет значения. Что можно сделать здесь и сейчас? Вот каким вопросом следует нам задаваться.
– Вы, конечно, правы. Мне следует взвешивать конструктивные решения. Я должен действовать на опережение. Что-нибудь приходит в голову?
Рауль на миг задумался. Затем сказал:
– Может, навестить его в больнице?
Такая мысль мне на ум не приходила.
– Не знаю, – ответил я. – Я даже не знаю, в какой город его увезли. Но предпосылка для путешествия мне нравится. Это лучше, чем сидеть тут и ждать следующего звонка от начальника обслуживающего персонала. И гораздо лучше, нежели беспомощно ожидать медленно набирающей обороты подготовки к рождественской вечеринке. Вы поедете со мной?
Рауль рассмеялся.
– Конечно, – сказал он, а потом, словно это была простая запоздалая мысль: – Подругу я могу с собой взять?
Я покачал головой.
– Вы о чем-нибудь другом вообще думаете?
Рауль как-то потупился.
– В моменты наедине с собой я также фантазирую о синусоидах…
Я закатил глаза. Вернувшись к себе в кабинет, я позвонил в больницу все выяснить, и когда необходимые подробности оказались в моем распоряжении, снова заглянул в кабинет к Раулю – изложить ему свой план.
– Ваш план? – переспросил он.
– Да. Мой план навестить Уилла в городской больнице.
– Ладно…
– Значит, встречаемся в кафетерии сегодня вечером в одиннадцать, – сказал я. – До города, в котором больница, ехать шесть часов, поэтому доберемся мы в точности к приемным часам. Машину для нашей поездки я достану. Ехать будем под покровом ночи, а вернемся завтра к полудню – как раз успеваем помочь в подготовке к рождественской вечеринке. Это станет незабываемым переживанием. О, и отвечая на ваш вопрос, Рауль: да, взять с собой подругу вы можете…
Мы пожали друг другу руки и условились встретиться в кафетерии тем же вечером в одиннадцать: я, Рауль и его новейшая подруга.
* * *
К разгару утра – в четверг перед нашей рождественской вечеринкой – визит аккредитационной комиссии уже явно вышел из стадии излучения и продвигался к апогею собственного воплощения. Преподавательский состав принимал у себя в классах заезжих членов комиссии. Мероприятия программы «Усынови аккредитора» проводились истово и мстительно – или, как выразился атеист с кафедры философии, с истовой мстительностью. Секретарши отправляли регулярные донесения по дуплексной рации. Студенческие вожаки деловито и рьяно вносили свою лепту. Всего за несколько часов несвоевременную надпись на стене закрасили. Починили сломавшиеся туалеты. Утки закрякали вновь. Невзирая на ранее возникшие загвоздки, все бремя истории, похоже, целеустремленно перемещалось к кульминации – рождественской вечеринке назавтра.
К трем часам все собеседования аккредиторов уже были проведены, а посещения занятий состоялись. В шесть студентами кулинарии был подан ужин. К восьми свернулся «Танцефон Преподавателей-Студентов-Аккредиторов», а в четверть девятого свет в кафетерии опять зажгли – и к мобилизации приступила установочная бригада для мероприятий следующего дня: с лестницами и табуретами, с рулонами монтажной ленты бригада деловито развешивала украшения перед рождественской вечеринкой.
К половине одиннадцатого огоньки и мишуру по большей части разметали; в центре кафетерия подвесили дискотечный зеркальный шар; длинными рядами расставили столы и стулья. И к без четверти одиннадцать кафетерий вновь опустел, и там опять стало темно и тихо. За несколько минут до одиннадцати я стоял у входа и ждал Рауля, прибывшего, как всегда, пунктуально и, как и было обещано, со своей «подругой» в поводу.
– Полагаю, вы знакомы друг с другом? – Рауль подмигнул и показал на нас обоих.
– Привет, Бесс, – сказал я.
– Иди на хуй, Чарли.
– Бесс, послушай…
– Заткнись, и всё, Чарли. Я здесь лишь потому, что меня попросил поехать Рауль. И я по правде хочу повидать Уилла в час его нужды. А не для того, чтобы вести какие-то глубокие дискуссии с тобой.
Бесси отвернулась и отошла. Когда она уже не могла слышать, о чем мы говорим, Рауль сконфуженно посмотрел на меня.
– Надеюсь, я тут не переборщил… Я просто хотел вас выручить. Думал, вам не помешает возможность все с нею обговорить. Что это может быть ваш последний шанс – ну, знаете, перед рождественской вечеринкой. Вероятно, следовало вас предупредить. Чарли. Но я подумал, что вы все отмените, если узнаете, что с нами едет она…
– Ну да, – сказал я. – Все нормально. Таков выбор, сделанный нами. Таков выбор, сделанный мной. Наверно, остается лишь поглядеть, как все сложится…
И вот так ровно в одиннадцать пятнадцать, вообще не сомкнув глаз больше семидесяти двух часов, не выспавшись ни разу за семь месяцев с лишним, я закрыл за собою дверь кафетерия. Оттуда мы втроем во тьме дошагали до стоянки за кафетерием, где я распахнул тяжелую дверцу Уиллова «олдзмобила-звездного-пламени», сел за руль, вытащил ключ из темного места под сиденьем, где Уилл его всегда оставлял, и завел машину с громким ревом восьмицилиндрового двигателя, направил неуклюжего этого левиафана по главной дороге колледжа, мимо Тимми в будке охраны, через железнодорожные пути и на шоссе, шедшее вдоль края Разъезда Коровий Мык. «Олдзмобил» был велик и могуч, и когда мы выехали на трассу – втроем мы плотно разместились на переднем сиденье (Рауль с пассажирской стороны, а Бесси между нами обоими, устроившись лодыжками по обе стороны горба в полу), – я вдавил тяжелую педаль газа, постепенно набирая движущую силу, покуда педаль плотно не вдавилась в пол, а дородный автомобиль опрометью не полетел в ночь: мимо тюрьмы и почты, мимо ломбарда, где продавались музыкальные инструменты и любимые семейные реликвии, мимо сумрачных останков ранчо «Коровий Мык», в общем направлении далекого города, куда отвезли Уилла Смиткоута. Когда мы достигли знака, объявляющего съезд к Предместью, я впервые притормозил, затем свернул на него.
– Почему ты сворачиваешь? – возразила Бесси.
– Заправиться надо…
Продмаг, у которого я остановился, был единственным в Предместье, и пока Рауль покупал внутри мятные леденцы, я накачал топлива, а Бесси стояла в добрых десяти шагах от машины, одна нога – на поребрике, в одной руке незажженная сигарета, а в другой – одноразовая зажигалка. Она не обращала внимания на мое присутствие. Не разговаривала. Даже не смотрела в мою сторону. Издали доносился стрекот сверчков. Пары от бензина премиум-класса одуряли. Однако несмотря на поздний час, сама луна была бездетна.
– Послушай, Бесс… – сказал я, когда насос щелкнул, наконец выключившись; я опустил рычаг и возложил рукоять обратно в гнездо. – Я могу сказать тебе только, что…
Бесси подняла к моему лицу ладонь.
– Не сто́ит, Чарли.
И после чего ее опустила.
– Бесс, прости меня, пожалуйста, за то, что все так получилось. Просто…
– Заткнись, Чарли. Оно того не стоит. Жизнь коротка. И я двинулась дальше.
– Правда?
– Если тебе угодно знать, я снова влюблена.
– Так быстро?
– Да. Времени заняло больше обычного, но я недавно снова сошлась с одним старым другом. Он мой поклонник еще со школы – бывало, писал мне любовные письма цветными карандашами, а теперь работает в телефонной компании. Он будет номером тысяча вторым, если кто-то считает.
– То есть тебя наш разрыв не опустошил? Ты не полностью раздавлена?
– Конечно, нет. С чего бы? У меня в жизни была тысяча одна любовь. И все они окончились бесчестьем – все тысяча и одна. Со мной всегда так было. Так оно и сейчас. Но что же мне делать? Перестать позволять себе быть ранимой? Разубедить себя и не влюбляться? Наплевать на высшее в жизни – на тот, другой вид счастья – лишь потому, что я знаю: у меня такое не выходит? И не выйдет никогда?
– Да все выйдет, Бесс. Настанет день, когда все у тебя получится…
– Нет, Чарли, не получится. И мне это известно так же, как и тебе. Я, в конце концов, из Разъезда Коровий Мык – а если происхождение из Коровьего Мыка тебя чему-то и учит, то лишь принимать все, что есть, а не то, что так легко могло было б быть. И что на самом деле одно не так уж сильно отличается от другого. Так или иначе, все это уже утекло. А кроме того… он детей любит.
– Кто?
– Моя новая любовь. У него с детишками все здорово. Трое своих.
– Так, значит, у нас с тобой миру мир?
– Так я б не сказала. У меня благодаря тебе в морозилке до сих пор лежит этот ебаный недоеденный кекс с цукатами. Но да, пока что у нас всё ничего. Как бы там ни было – довольно неплохо, чтоб сидеть вместе на переднем сиденье этого «олдзмобила-звездного-пламени» 1966 года производства. Сгодится, чтобы пробраться по кишкам нескончаемой тьмы к городу, чтобы навестить там Уилла.
Я с облегчением выдохнул.
– Спасибо, Бесс, – сказал я.
– Не стоит, Чарли, – ответила она.
В этот миг с кульком закусок вышел Рауль. Как обычно – сознательнейше вовремя.
– Мы готовы ехать?
– Думаю, да, – сказал я. – Мне нужна лишь еще одна последняя остановка, прежде чем мы выедем на трассу и углубимся в эту невозможно темную ночь…
Рауль предложил мне леденец, и я его принял. Он оказался гаультеровый. С ревом я завел двигатель «звездного пламени».
* * *
На углу Предместья, где все еще висел увядший остролист, я обнаружил искомую персону. Человек был все в том же пальто с воротником, какое носил всегда. Стоял он над тем же битым чемоданом, над которым всегда стоял. И в свете фонарного столба выражение его лица казалось таким же тупым, что и обычно. Только на этот раз возникла загвоздка.
– У меня только один пузырек, – сказал он. – А другой кончился…
– Но мне они нужны в равных количествах!
– У меня тут только один.
– Но…
– Надо или нет?
– Конечно, надо. Но мне и другой нужен.
– Ну а другого у меня нет. У меня только этот.
– Один без другого?
– Да. Надо?
– Нет! – сказал я и в негодовании устремился прочь. Вернувшись в машину, я захлопнул за собой тяжелую дверцу и несколько мгновений посидел, разочарованно стискивая руль. Затем смиренно вылез опять. Человек стоял там же, где я его оставил.
– Вы уверены, что у вас нет обоих? – спросил я. – Где-нибудь в вашем громадном чемодане наверняка же затерялся и другой пузырек?
– Нет, у меня только этот. Надо или нет?
Под мигающим фонарным столбом я задумался над этой новой дилеммой. С одной стороны, две пилюли творили свои чудеса в тандеме; это хорошо известно. Также недвусмысленно было и то, что, принимая их одну за другой, я всегда потреблял их в равной мере: одну таблетку, скажем, из пузырька с черной этикеткой, а затем, вслед за пригоршней воды из крана, другую из пузырька с белой. И хотя начал их принимать я в миг предельной тьмы и нерешительности, последствия с тех пор были словно день и ночь. При помощи противоположно окрашенных пузырьков мне удалось избежать как ярко выраженного сна, так и ярко выраженного бодрствования. В этом состоянии обостренной неуверенности я сумел завершить самостоятельный отчет – и дописать его в такой прозе, что была почти исключительно бессодержательна. Под воздействием противоположных фармацевтических императивов за одни-единственные судорожные выходные мне удалось от руки составить отчет по фокус-группе и сдать его на следующий день с оргазмическим содроганьем. Я сбрил себе бороду и не спал почти до утра, дочитывая «Справочник для кого угодно: любовь и общинный колледж». С тех пор как стал принимать одну за другой две эти пилюли, я растопил ледник и покорил континент, а кроме того, успешно продирижировал симфонией во множестве трогательных частей; я проюлил по бурным порогам лишения сна и пронадзирал за прибытием наших аккредиторов в крытых фургонах. Я забрел далеко за пределы области моей компетенции – в позлащенное царство на другой стороне железнодорожных путей, где невзирая на свой недосып – или из-за него? – полюбил математику так, как ранее не считал даже физически возможным; наконец-то признав силу производного, невероятную элегантность интеграла, за много ночей и много месяцев я выучил математический анализ – на стопках бессчетных учебников и растянувшись на холодном кухонном столе, и прижатым к потной…
– Слышь, так надо пузырек или нет? – прервал мои мысли человек.
– Простите?
– Пилюли. Хватай лучше сразу, если надо. Это последний. И ты не один в этом городе, кто работает в управлении образованием.
– Ладно, – сказал я. – Беру. Покупаю, к черту, все, что есть. Иначе сказать, я заберу этот последний пузырек пилюль, которые либо абсолютно не дадут мне уснуть, либо абсолютно меня усыпят. Возьму один пузырек, и только один, и возьму его без его совершенного дополнения. Без его диаметральной противоположности…
Я уплатил человеку из пачки двадцаток доктора Фелча, сел обратно в машину и оттуда вывел «звездное пламя» на открытую трассу, ведущую к городу.
– У него был только один пузырек, – пробормотал я Раулю и Бесси, когда мы вышли на полную скорость.
– Который? – спросили они. – Тот, чтоб спать… или тот, чтоб не спать?
Что для моих пассажиров, разумеется, было вопросом резонным: всего нам по-прежнему оставалось больше трехсот миль открытой дороги впереди – асфальт тянулся так далеко за пределы, куда добивали лучи фар, что тянулся он, казалось, в бесконечность. А дальше видна была лишь ночь.
– В этом я не очень уверен, – ответил я. – Мне не пришло в голову спросить. Мне известно лишь, что у человека был только один без другого. И теперь у меня единственный пузырек пилюль без его противоположности. Я положил его к себе в карман. И употреблю исключительно его содержимое во всей его полноте. Нравится вам это или нет, но я буду предан этому единственному пузырьку абсолютно. Наконец-то, как видите, я окажусь предан чему-то целиком, а это, весьма вероятно, означает, что вскорости и стану чем-то целиком. Что, как уже должно быть хорошо известно, есть нечто беспрецедентное…
Передо мной во тьму тянулось асфальтированное шоссе. Мы втроем крепились, а «олдзмобил» уносил нас все дальше и дальше от засухи Разъезда Коровий Мык и все глубже и глубже в глубочайшие пределы нескончаемой ночи. Где-то впереди уже ощущался слабый запах влаги.
– Жмите на спуск, Чарли, – по-прежнему слышал я голос Этел, умолявшей меня, и слова ее звучали не громче шепота.
И я нажал. Закрыл глаза и нажал на спуск.
Часть 3 Растворение
Ночь
День чище ночи.
Ночь пуще дня.
Я твердо давил на газ, и шестичасовая поездка до города заняла у нас чуть больше трех с половиной. По пустой трассе гнали мы сломя голову, пролетая мимо пустых полей и спящего скота, а время от времени – мимо съездов с трассы, уходивших на другой отрезок неразмеченного шоссе. За городком сама ночь была абсолютной тьмой, и, если б не лучи фар и разделительная полоса, проходившая под колесами «звездного пламени», нам бы совсем не на что было смотреть. Средь тьмы за окном и пустоты, окружавшей нас, единственным доказательством того, что мы движемся вперед, – единственным знаком того, что наша машина действительно едет от одной точки во времени до другой, что и мы сами перемещаемся, – был старый одометр, медленно вращавшийся на приборной доске «олздмобила» под грецкий орех.
– Мы жмем восемьдесят восемь, – сказал Рауль. – Что несколько быстровато, знаете ли…
И я кивнул.
Взамен разговорам Бесси взялась управлять АМ-радиоприемником, и некоторое время мы просто сидели в бессловесной машине, слушая далекие потуги классического кантри, одна за другой песни доносились через эфир, каждая рассказывала о жизни – иной, дерзкой, однако едва осуществимой. То были не просто песни о любви, сбывшейся или утраченной; это были песни о великой разнице между пребыванием и уходом.
– Эту я уже целую вечность не слышала… – говорила Бесси и закрывала глаза, чтобы лучше слушать.
И я кивал.
Через полчаса после выезда из Разъезда Коровий Мык последняя АМ-радиостанция растворилась в статике, Бесси нагнулась и выключила приемник. Воздух ночи незамедлительно стал присутствовать больше, сама же ночь оставалась совершенно тиха, если не считать рычания двигателя. Центральная полоса на дороге теперь пролетала под колесами нашей машины так быстро, что наступала и отступала единой непрерывной линией. От запаха винила и старой сигары из пепельницы Уилла в машине было тепло, и мы, несясь вперед опрометью, беседовали о том, что привело нас всех на сиденье седана – этой самой почтенной из всех великих машин, – к этому частному мигу во времени и пространстве. Впереди у нас был город, а позади – городок. А еще дальше сзади – несказанные стрелы, некогда выпущенные с устрашающего расстояния: изгибы и случайности, кои так или иначе подвели каждого из нас к здешнему итогу, к теплому салону «звездного пламени» Уилла 66-го года производства, и мы катим сейчас по пустой автотрассе ко внешним пределам тьмы. В нашем зеркальце заднего вида виднелись принятые пилюли и отчеты, что мы написали, и фантазии, какие мы некогда себе воображали. Были за нами еще и нарушенные пакты, и погребенные языки, многообещающее пограничье, неисследованные реки с их безжалостными плотинами, в которых ныне можно быть уверенными: они не дадут воде течь. Все это как-то оставалось в ярко освещенном прошлом, а вот впереди, вдалеке за запотевшим ветровым стеклом, где конец шоссе встречается с началом чистой тьмы, были надежды, за которыми мы гнались, – и еще не развеявшиеся мечты. Незавершенный отчет. Новаторское предложение. Несостоятельный план, который некогда нужно будет писать в темном свете одинокой настольной лампы. В слабом освещении салона «звездного пламени» – средь мягкого мерцанья приборной доски и известково-пыльной теплоты обогревателя – все это было видно ясно. И потому беседовали мы об этом от всей души. Растраченные любови. Разлученные грезы. Решения Верховного суда. Сотериологические дебаты[46]. Покоренная граница. Излюбленные супермаркеты. Святой покровитель потерявшихся путешественников. Наши смутные будущности и еще менее четкие истории. Затерявшись в промежутке между тьмой, остававшейся позади, и тьмой, что еще лежала впереди, мы говорили о том единственном, что могли теперь видеть. О ночи. О ее темноте. О далеко идущей пустоте вечности.
– Вы когда-нибудь видели такую темную ночь? – спросил Рауль.
Я прищурился в ночь за лучами фар. Но тьма перед нами была поистине темна.
– Нет, – сказал я. – Даже близко такой не видел.
– Я вот тоже. Мы как будто едем сквозь ту незримую часть вселенной, куда не может проникнуть свет.
– Именно. За все свои годы я, по-моему, темнее ночи не видал.
– Ну а я видала… – Бесси открыла глаза и смотрела не мигая вперед, в налетавшую ночь. – То было, когда мы с папой в последний раз ходили рыбачить. Тогда я еще была нетронута, а луны не было.
– Ты некогда была нетронута?
– Да. И луна не выходила. Ночь была такой же темной, как вот эта. Тучи густые перед дождем. В непроглядной черноте даже свою руку не разглядеть, если к самому лицу поднесешь. Звуки такие насыщенные. Повсюду запахи. Ночь была настолько наэлектризована, что прям костями ощущаешь. То был единственный раз, когда я чувствовала ночь. Папа тогда у меня болел. Болел так, как мне было не понять. Потом мы разожгли костер и уселись рядом. Я была очень маленькая, но до сих пор помню темноту той ночи. Запахи. Крепость звука. Пульсации. Я вся дрожала под одеялом и всхлипывала. Тогда в последний раз я видела реку из-за плеч моего отца.
Машина теперь мчалась на скорости за девяносто, и я твердо жал на педаль. Покуда мы заговаривали минуты – мили, – сама машина, казалось, замерла во времени, словно «олдзмобил» был совершенно неподвижен, смертельно покоен. Вопреки одометру могло быть так, что машина оставалась на одном месте – а сам мир со всем своим изощренным безумием непреклонно несся мимо.
– Когда я был ребенком, я боялся такой вот темноты, – сказал Рауль после того, как миновало самое последнее молчание. – Мать, бывало, заходила выключить свет у меня в комнате – перед тем, как уложить меня спать. В неосвещенной комнате она ложилась ко мне на старый матрас и рассказывала истории, которые ей рассказывала в свой черед ее мать, когда была молода. Хорошая история, говорила она, может происходить во тьме собственного воображения. Только представь, Раулито, что в мире совсем нет света. Снаружи этой комнаты нет ничего, только вековечная тьма и чернота непроницаемой ночи. Слова могут быть светом, при котором видишь, что происходит в темноте твоего собственного ума. Закрывай глазки, Раулито, и давай я расскажу тебе еще одну историю. Закрывай глазки, Раулито, и представь, что эта ночь будет длиться вечно…
Пока машина мчалась сквозь даль времени и пространства, мы втроем разговаривали о том, как ночь обычно превращается в день. Как эти двое становятся друг другом. И как, вопреки упорству наших усилий, эти противоположности всегда будут пребывать в боренье и никогда не сумеют примириться. Таковы были уроки, что выучили мы, каждый по отдельности, в пути. И выглядывая наружу сквозь холодное стекло «звездного пламени», в порожнюю темноту всеобъемлющей ночи, мы беседовали о том, что видели. О запахах, что испытали. О людях, которых любили. О чудесах, что наблюдали. О томленьях. О влаге. О мимолетном касанье бедра бедром на тесном автомобильном сиденье. Отсюда последовавшее молчанье длилось дольше прочих – заполняя всю машину и забирая нас троих в самое сердце нашего путешествия, очертя голову мимо пустых полей и меняющихся декораций, которых мы пока не могли разглядеть: столбов оград, фермерских домов, неподсвеченных знаков и транспарантов, какие могли бы подсказать нам, что мы приближаемся к городу. В окруженье этой тишины ни Рауль, ни Бесси не чувствовали потребности говорить. Вокруг нас мир повсюду был очень темен. Я туго сжимал рулевое колесо и гнал машину все дальше в ночь.
* * *
Сельская местность снаружи сквозила неувиденной, а настроение в машине постепенно подбиралось от одной крайности тьмы к другой. В нескольких милях дальше по дороге Бесси набрела на шкале на другую АМ-радиостанцию, и мы слушали музыку, покуда та длилась. Когда же мы перегнали последнюю кантри-песню, она вновь выключила радио, и мы втроем принялись распевать под гул двигателя рождественские гимны: сначала мрачные и задумчивые, а затем и бодренькие. Голос у Рауля был силен и чист. У Бесси – ангеличен. Мой шел из того места, которое я не навещал уже много лет. Хоть пенье наше и было приблизительным, еще оно было очень искренним, гимны рвались из нас, как фейерверки в холодную мартовскую ночь, – и когда с этим покончили, мы обратили нашу дискуссию на более непосредственное в жизни: меловые очертанья дыма, воды и истории. Под нами пролетали мили, а мы говорили о пустоте этого пустого шоссе, о неотложке, что умчалась к городу с нашим павшим другом внутри, и о том, как мы поклялись следовать за нею до самых дальних пределов земли. И, конечно же, говорили мы о скорбной доле самого́ нашего друга, об Уилле Смиткоуте, чья собственная бесшабашная погоня за бурбоном и сигарами привела его в столь одинокое место в неведомой больничной палате где-то в необозримом будущем.
– Неправильно это, – сказала Бесси, когда через несколько минут на наше ветровое стекло начал опускаться легкий ручеек. – Человек этот может раздражать, как сам черт. Он потаскан и несозвучен. Его конспекты лекций – анахронизм. Язык у него остер, а воспоминания неточны. Но он заслуживает чего-то получше, чем такое вот. Гнить где-то в больнице, забытым всем миром. Без жены и без детей.
– И без речи… – добавил Рауль.
– И без дома, – сказал я.
Все мы согласно побурчали.
– И впрямь грустно, – наконец сказал Рауль. – Но для него это не конец. Поверьте, друзья мои, такие парни, как Уилл Смиткоут, никогда не умирают. Они лишь курят и пьют, и учат студентов, покуда им не остается ничего такого, ради чего стоит жить…
Еще несколько минут мы ехали в тишине. Должно быть, промелькнуло добрых двадцать миль бессловесности, и никто из нас не чувствовал нужды заговорить. Само молчанье было естественным и принималось хорошо.
Где-то на середине нашего путешествия мы наткнулись на внезапный клок дождя, вода топотала по ветровому стеклу, затем извивалась вверх по нему прозрачными червячками. Сопротивляясь этой новой влаге, я включил дворники и еще настойчивее сосредоточился на дороге, что тянулась перед нами. Дождь продолжал идти, и вскоре капли уже отскакивали от дороги так тяжко, что разделительная полоса исчезла совсем, а видно стало лишь неистовые взрывы воды об асфальт.
– Ух ты, – произнес Рауль. – Когда же кто-либо из нас в последний раз видел дождь? Спорить готов, котловина долины Дьява не наблюдала ничего подобного уже много лет!
– Это ненадолго, – сказала Бесси. – Пройдет.
– Дождь? А это вы откуда знаете?
– Таков факт жизни. Все приходящее неожиданно рано или поздно уходит столь же неожиданно…
Слова Бесси звучали зловеще. Однако, чем дальше мы ехали, тем сильней лил дождь. Впереди капли вспарывали сиянье фар, словно трассирующие пули. По временам дворники не успевали, и видимым оставался лишь мазок влаги на ветровом стекле да смутный очерк асфальта под фарами. Не смущаясь, я целил «звездным пламенем» в серую пустоту за ветровым стеклом, где, как можно было надеяться, окажется полуосвещенный асфальт.
– Вам не кажется, что вы едете слишком быстро? – спросил Рауль. – Особенно по такой погоде?
– Да, я действительно думаю, что еду немного быстро. Конечно же, я еду быстро. В этом и смысл, Рауль! Я гоню на предельных скоростях, потому что хочу добраться до города как можно результативнее. Если мы приедем в больницу пораньше, у нас будет время навестить Уилла и все равно успеть к завтрашним аккредитационным мероприятиям. А если мы успеем вовремя вернуться, мне, возможно, хватит времени немного поспать перед рождественской вечеринкой…
– Вечеринка начинается в шесть, верно?
– Да. А это означает, что мы можем навестить Уилла с утра и все равно успеть вернуться в Коровий Мык к двум на несколько часов сна перед тем, как направиться в кафетерий на вечеринку. Именно потому я и еду так быстро. От этого зависит судьба нашего учебного заведения. От этого зависит само мое наследие.
– Это достойная цель, – сказал Рауль, – хотя на самом деле она, скорее, задача. Но вы б не могли все равно чуточку сбросить скорость? Прошу вас!
Я слегка убрал ногу с педали газа. Игла немного отступила, затем твердо упокоилась на семидесяти пяти.
– Спасибо, – сказал Рауль. – Так для моих нервов гораздо лучше…
Далее я ехал через еще более плотный дождь, а Рауль и Бесси соответственно молчали среди хлещущих капель. Наконец Рауль показал сквозь ветровое стекло.
– Эй, Бесси, вы только гляньте!..
Бесси соблаговолила, но ничего не увидела.
– На что? – спросила она. – Я вижу один дождь.
– Именно. Влага до сих пор поступает!
– И?
– Ну, она противоречит вашей мысли, что все приходящее так же должно уйти. Дождь по-прежнему идет, как все остальное в этом мире, что остается и пребывает вечно. Как вода. И тьма. И основные законы математики.
– Нет, Рауль, в этом мире нет ничего такого, что остается навсегда. Ни солнце. Ни луна. Ни возлюбленный. Ни родитель. Все со временем подходит к концу. День и ночь. Люди, которых мы любим. Капризы человека. Плотины. Множество наций мира. Все они в какой-то момент должны подойти к концу.
– Но не наша же нация! – сказал Рауль, подаваясь вперед, чтобы еще сильней подчеркнуть свою мысль. – Наша останется и пребудет всегда!
– И ваши доказательства этому каковы?
– Доказательства вокруг вас. Только посмотрите. Что вы видите?
– Дождь.
– И?
– Нескончаемую темноту.
– Верно, вы это видите, потому что сейчас ночь. Но днем вы бы увидели пурпурные горы. И деревья в плодах. Флаг с тринадцатью полосами и сорока семью звездами. Мильные столбы. Дихотомии. Серебристого гольца. Особые мнения. Они все равно существуют – все они. Существование – лучший довод самого себя. Наша страна существует потому, что она продолжала существовать во множестве таинственных раздоров коллективной памяти. А это значит, что она и дальше существовать будет вечно!..
– Как ныне идущий дождь?
– Точно!
– Этот дождь, – примирительно сказал я, – вне всяких сомнений идет. И наша великая страна, конечно, существует наверняка. Такое неопровержимо. Но что касается других предположений, каковые выразили вы оба, что ж, я полагаю, нам просто придется пожить и увидеть, верно?
Бесси пожала плечами и самую малость скользнула поближе ко мне. Рауль не сказал ничего.
Перед нами дождь шел с прежней силой. Среди тьмы бесконечной ночи казалось, что падать он будет вечно.
* * *
Под рокот машины сквозь темноту мы втроем заговаривали остававшееся расстояние. Между окраиной Коровьего Мыка и обещаньем города впереди мы отыскивали слова для выражения великих вопросов дня, а потом, когда они полностью себя исчерпывали, – еще более великих вопросов этой ночи. И чем дальше мы отъезжали от Разъезда Коровий Мык, фокус нашей дискуссии сдвигался вместе с нами: от особенностей визита аккредитационной комиссии и грядущей рождественской вечеринки – к дождю, что ныне тяжко падал нам на ветровое стекло. От засухи к темноте. От дневного света к растворению. Без промедленья говорили мы о времени и влаге, о тьме и о любви – и о том, как такие вещи сходятся вместе и производят весь смысл в нашем мире: то, что остается и пребывает вечно.
– Тьма, добавленная ко времени, – провозгласил Рауль, – производит вечность. Точно так же, как влага средь темноты внушает надежду.
– Любовь, возведенная в степень времени, равняется тьме в квадрате, – прибавила Бесси. – Покуда среднее любви и влаги больше их эквивалента для тьмы и времени.
На все это я кивал.
– С каждым из вас я согласен в принципе, – сказал я. – Хотя в моем случае все несколько не так математично – скорее уж парадоксально, если угодно. Без времени нельзя переживать любовь. Без любви нельзя достичь влаги. Без влаги нельзя полюбить тьму. А без тьмы – без чистой ночи, что следует за еще более чистым днем, – нельзя познать время. Таков нерушимый цикл воплощенья. Мы же, кажется, утратили нашу с ним связь. Похоже, мы где-то по пути потеряли азимут…
– Как мы втроем сегодня ночью…
– В этой машине…
– Окруженные тьмой…
– Мчась по пустому шоссе к городу, которого, быть может, и не существует…
– К больнице в нашем собственном воображении…
– В штате, чье название ни разу не приводится…
– Нет! – возмутился я. – Все это совсем неправда! Ничего мы не потерялись! Мы лишь медленно, но бесспорно путешествуем к точке назначения, которая нам неизвестна!
– Это одно и то же, Чарли. Да и как бы там ни было, уже слишком поздно. Тучи темны. Небо черно. Дождь еще льет. Но мы вас, кажется, перебили. Вы же говорили что-то о человечестве, сбившемся с пути?..
– Точно. В общем, как я говорил… все это требует всего другого. Но мы от таких вещей отошли.
– Мы?
– Да, мы. Однако не все так потеряно, как кажется. Все не потеряно, потому что по-прежнему возможно свести все это воедино. Видите ли, чтобы получить одно, вам нужно иметь все остальное. Ибо без одного у вас не получится иметь вообще ничего. И потому, быть может, это и есть великий математический анализ жизни? Возможно, именно это откровение бежало нас в нашем неумолимом стремленье сеять семена будущих цивилизаций?
Машина неслась вперед. Когда мы перевалили в нашей поездке за три четверти пути, времени было чуть за половину второго ночи и мы уже истощили все дорожные разговоры и рождественские гимны, и каждый из нас начал замечать в других красноречивые свидетельства усталости.
– Как у вас там, Чарли? – спросил Рауль. Он подался вперед, чтобы из-за Бесси пристально посмотреть на меня. – Дайте мне знать, если захотите, чтобы я немного порулил.
– У меня прекрасно, Рауль.
– Вы не выглядите прекрасно. Смотритесь вы усталым…
– Это потому, что я устал. Я устал, потому что не сплю. Я не спал семь месяцев, помните?
– Но сейчас вы на вид действительно уставший. Больше обычного. По шкале от единицы до десяти… где десять – хорошо отдохнувший студент в первый день занятий, а единица – безжизненный пеликан после того, как его забил на месте аккредитор… вы, Чарли, выглядите едва-едва на полтора.
– Так плохо?
– Если не хуже. Глаза у вас налиты кровью. Руки дрожат. Колени стукаются о нижнюю часть рулевой колонки. Вы не забыли принять пилюлю из пузырька, который только что купили?
– Принял.
– Это была пилюля, чтоб не спать?
– Полагаю, да. Хотя сказать становится все труднее. Я вроде бы пока что владею своими чувствами. Ощущаю себя бдительным и внимательным. Все, что я вижу, исключительно ясно и последовательно. Дорога. Дождь. Тьма впереди. Пока что ни от чего меня не пробирает дрожь. Ничто не подвигает меня к отчаянью. Но мы еще не доехали до пункта нашего назначения, правда? Поэтому, сдается мне, так или иначе, но скоро мы все узнаем. Например, когда доедем до города. Либо, напротив, если я засну за рулем…
– Не смешно, Чарли.
– Ага, – подтвердила Бесси. – Я не желаю встречаться с создателем в «олдзмобиле»!..
Засим все втроем мы умолкли. Путешествие продолжалось. Дорога не сбивалась с курса. Теперь мы говорили о времени и пространстве, о вечности и времени. Потом о вечности. Потом о пространстве. Мы говорили о тьме и свете, а также о других взаимоисключающих вещах, пока Рауль, чтобы осветить тьму, не решил полностью сменить тон нашей дискуссии.
– Эй! – сказал он, как будто с ним только что случилось богоявление. – Я знаю, о чем мы можем поговорить. Можно поговорить о любви! Знаете, что она такое…
– Опять?!
– Не беспокойтесь… много времени это не займет. Мы почти подъезжаем к городу. Вообще-то, мне кажется, я уже различаю знак вдалеке…
Несколько секунд спустя мимо пролетел знак: до города оставалось меньше сотни миль.
– Но, Рауль, – сказал я, – много чего может произойти за сотню миль.
– Естественно, – ответил он. – Именно потому нам и стоит поговорить о любви, пока не поздно!..
И потому следующие пятьдесят миль мы говорили об универсальных частностях любви, о вечных потребностях романтики, о самых распространенных идиосинкразиях секса. Вглядываясь в дождь в поисках первых признаков близящегося города – тусклого свечения в небе, что вскоре затмит собою звезды, – я слушал, как Рауль и Бесси развлекают друг друга наглядным обсуждением мужского и женского оргазмов. Под звуки дождя и ритм дворников слова меня одолевали; как само желанье, беседа началась медленно, с каждым высказыванием набирая темп, покуда не расцвела разгоряченным взаимодействием, длившимся несколько тревожных минут, – несколько миль качкого напряжения и высвобождения: Бесси со внутренним авторитетом выступала на эту тему, а Раулю удавалось стоять на своем в равносильном слиянии разделенного опыта. Когда неуклюжие начала превратились в оживленное взаимодействие, а взаимодействие обрело свою запыхавшуюся кульминацию, Рауль подвел итог переживанию, свидетелями которому стали все.
– Все, что вы только что сказали, хорошо и прекрасно, – объяснил он Бесси. – Но в конечном итоге ваш оргазм гораздо более закруглен, чем наш.
– Чем чей?
– Чем наш. Мой и Чарли. Иными словами, нет никаких сомнений в том, что ваш оргазм более изощрен, чем когда-либо может стать наш.
– И вы говорите это мне?
– Да. Если б вам пришлось наносить на схему мужской оргазм, он выглядел бы всего-навсего как прямая, восходящая к зениту. Простая геометрическая линия, идущая от предварительных ласк через совокупление и далее, к звучному семяизвержению. Он прямолинеен и предсказуем, с равным подъемом и пробегом… – Указательным пальцем Рауль при этом рисовал в воздухе восходящую диагональ. – Меж тем как женский оргазм гораздо сложнее. Если представлять его визуально, похож он будет примерно вот на что…
Плотно прижав палец к запотевшему ветровому стеклу, Рауль начертал на нем несколько концентрических кругов, представляющих собой испускаемые волны женского наслаждения:
Нарисовав самый маленький круг, какой только мог, крохотную окружность едва ли шире горошины, он постучал по стеклу пальцем.
– Вот! – сказал он. – Таков женский оргазм во всем его великолепии!
– Больше похоже на старый древесный пень, – сказала Бесси.
– Или мишень, которую вешают на тренировках по стрельбе, – добавил я.
– Или небесное тело, растерявшее с орбит почти все свои луны.
– Луны?
– Да, те самые женские из всех спутников.
– Ага, ну так это не луны. Это испускаемые волны женского наслаждения. Тю!..
Мы с Бесси искоса переглянулись. Затем я спросил:
– Но почему лишь три кружка, Рауль? Почему у вас всего три концентрических кольца окружают центр размером с горошину? Почему вокруг этого небесного тела всего три луны?
Рауль, очевидно, подготовился именно к такому вопросу.
– Все просто, – ответил он. – У всех нас есть работы, правда? И обязательства, которые надо выполнять. И отчеты, которые надо писать. И совещания спозаранку в понедельник, куда нужно ходить. Дело, разумеется, не в том, что вы и я не способны на большее. А кроме того, на этом ветровом стекле места не очень много…
Я кивнул в полном с ним согласии.
Но Бесси при этом, похоже, придралась к диаграмме, нарисованной Раулем.
– Вот слова истинного мужчины! – проворчала она. – Все это могло быть правдой в какую-нибудь былую эпоху, Рауль. Когда жизнь была геометрична, по земле еще бродил Сивилон[47], а Барселона была центром романтического мира. Но этого больше нет… – Концентрические круги Рауля медленно сдавались целительному теплу в машине – от обогревателя, от наших выдохов, от возраставшего пыла самой дискуссии, – и Бесси самым кончиком указательного пальца нарисовала собственное изображение. – На самом деле, – сказала она, водя пальцем по конденсату на ветровом стекле, – мой оргазм больше похож вот на это…
– Это же домик! – смутившись, произнес Рауль.
– Это оргазм.
– Где тут оргазм?
– Вон там, – сказала Бесси, – в домике. Где-то глубоко внутри. И проявит он себя тем, кто знает, как просить. Он вам откроется и даст войти. Но сперва нужно тихонько постучать в дверь…
Рауль занес кулак, словно собирался постучаться к оргазму Бесси, но затем передумал.
– Точно, – сказал он и умолк.
При этом мимо пролетел еще один дорожный знак, объявлявший, что до города осталось тридцать семь миль. Через несколько минут в другую сторону проехала машина – первое встречное движение с тех пор, как мы выехали из Разъезда Коровий Мык.
– Интересно, эта машина едет в Коровий Мык? – спросил Рауль, тем самым открывая соблазнительную возможность симметрии.
– Сомневаюсь, – сказала Бесси, тут же эту Раулеву возможность захлопнув. – Там, откуда мы приехали, до ужаса темно. Даже луны не видно. И давайте будем честны, между здесь и там на дороге попросту слишком много перекрестков.
* * *
И ровно вот так встречное движение стало попадаться нам все с большей частотой. Сначала по машине каждые десять минут, затем каждые пять, – покуда всего за несколько минут на нас из города не начал надвигаться сплошной поток фар. Вскоре и сама дорога удвоилась шириной, а затем удвоилась еще раз – две полосы стали четырьмя, потом восемью, – с хорошо подсвеченными знаками, которые теперь было видно вдоль дороги, а также с указателями направлений, пролетавшими над головой. В одном месте нас слева обогнал «форд» последней модели и с ревом умчался в сторону города.
– Почти приехали, – сказал Рауль. – Еще миль двенадцать.
Теперь щиты и указатели на трассе попадались все чаще. Автомобили мчали уже в обе стороны: одна импортная машина за другой налетали на нас из города, один отечественный грузовик за другим громыхали попутно нам. Чем дальше ехали мы, тем новее становились машины – и чем новее машины, тем ярче галогеновые фонари. Со временем мы начали различать впереди огни метрополии, и общее сиянье разгоралось все сильней, чем ближе мы подъезжали.
– Город! – сказала Бесси.
Рауль, теперь чрезвычайно настойчивый в своей роли назначенного штурмана, развернул на коленях карту и тщательно ее изучал, освещая фонариком.
– Еще пять миль, – сказал он. – Съезд на 94-А…
Я сбросил скорость: всего лишь на пятидесяти пяти милях в час приближение к городу, казалось, застопорилось совсем. Тусклое сияние за нашей приборной доской смягчилось и стало более присутствующим одновременно. Огни окружающей местности стали отчетливей.
– Это даже не очень крупный город, – сказала Бесси, когда сияние это приблизилось. – Но посмотрите, как тут все ярко…
– Определенно отличается от Коровьего Мыка, как небо от земли! – добавил я.
– Гораздо, гораздо ярче…
– И быстрее.
– Бесконечно результативней.
– И организованней.
– И динамичней.
– И интересней!
– Но как тут вообще можно жить? – спросила Бесси.
– Сам не понимаю, – сказал Рауль.
– Уж что-что, – высказал предположение я, – а городской народ стоек. Они как-то умудряются…
– Но грустно же, – сказала Бесси. – Тупое освещение служит им светом звезд. Все это просто очень печально.
– Ага, и с таким же успехом к этому уже можно привыкать. Когда-нибудь мы все станем жить в таких городах. Нравится нам оно или нет…
– Это какое-то проклятие?
– Следующий съезд… – сказал Рауль.
– Нет, это не проклятие, – ответил я. – Это неотвратимая реальность. Это будущее, что грядет так же быстро, как…
– Наш съезд!
Я вильнул машиной вправо.
– Ох ты ж, Чарли! – крикнул Рауль. – Следите за дорогой! Черт бы вас драл, ваша нежность ко вневременному нас всех погубит!..
Съезд вел к пандусу, который отклонялся вправо, а потом выпрямлялся. Я твердо дал по тормозам впервые после выезда из Коровьего Мыка, и наша машина быстро сбросила скорость, направляясь к светофору, чей огонь был чисто красным; у него я остановился совсем, и «звездное пламя» урчало под нами вхолостую. Справа располагалась автозаправка, а впереди – бессчетные стоянки грузовиков и рестораны быстрого питания. Все было открыто и хорошо освещено неоновыми вывесками и энергичными надписями, а также прочими городскими заклинаньями.
– Что теперь? – спросила Бесси.
– Не знаю, – ответил я. – Сколько времени?
– Самое начало третьего.
– Всего два?
– Два всегда, Чарли.
– Ну да. Сейчас два. Поэтому мы, наверное, хорошо со временем управились, а? Гораздо лучше, чем я думал сначала. Видите? Наш одометр, в конце концов, был нам верен! Задним числом думая, ехать, наверное, я б мог и помедленней. Но все это тоже уже утекло. Потому что вот они мы, у этого светофора в два часа ночи. И раз уж мы теперь здесь… что будем делать?
– Мне нужно пописать, – сказала Бесси.
– Мне тоже, – сказал Рауль.
– И нам нужно заправиться, – добавил я.
Огонь светофора сменился на зеленый, и я поехал вперед, к заправке. У насоса я наполнил «звездное пламя» премиум-классом, а в немытом туалете вытряс из пузырька, что купил, две пилюли и запил водой из крана. Когда мы все вернулись в машину, Бесси смахнула с юбки мохнатую соринку и спросила еще раз:
– Так что будем делать, Чарли?
– Не знаю. Давайте-ка съездим в центр города – ну, знаете, то место в городском пейзаже, где происходит ночная жизнь?
– В такой час?
– Да. Мы же, в конце концов, в городе. Так чего ж не навестить то место в нашем не столь уж далеком будущем, где жизнь поистине жива!..
Обсудив логистику, мы втроем снова сели в «звездное пламя», и Рауль опять развернул карту. Я завел двигатель. Бесси нашла ЧМ-станцию, затем быстро выключила радио.
– Ненавижу ЧМ-музыку! – сказала она так, будто это жанр.
Рауль постукал по какому-то месту на карте.
– Чарли, поезжайте прямо под съезд с трассы и на следующем светофоре сворачивайте влево…
Повинуясь инструкциям Рауля, я направил «звездное пламя» обратно к съезду с трассы и мимо ресторанов быстрого питания – все они по-прежнему открыты, – а затем в ту часть города, где ночная жизнь шла полным ходом. Хотя дорога еще была мокра, дождь уже превратился в легкую морось, и, двигаясь по блистающему городу, мы видели ночные столовки, блюзовые бары и толпы на тротуарах, все так же бурливших людьми. В самом сердце города бродили стада молодых гуляк, там были ночные заведения и стрип-клубы, запаркованные вторым рядом машины и попрошайки, растянувшиеся на тротуарах под пластиковыми покровами. Под легким дождиком танцевали уличные артисты, а под маркизами играли музыканты. Там были выкрашенный в серебрин мим, и танцевальная труппа в женских платьях, и акробаты в трико, и люди-змеи, изгибавшиеся назад, и клоун на ходулях, и гомосексуальные культуристы, игравшие своей коллективной мускулатурой, и высокая, едва одетая женщина на высоких каблуках – все они торговали полутора незабываемыми часами урбанизации. Машины с плеском проезжали по воде, уже кружившей по улице водоворотами, ревела черная музыка, из автомобильных окон торчали торсы без рубашек. Каждый звук тут был громок. Каждый огонь велик и всепоглощающ: желтые, красные, розовые, пурпурные и зеленые. Столько звука. Столько красок. Полицейская сирена. Клаксон. Быстрая автоматная очередь вдалеке, а вслед за ней – взрыв хохота из бара поблизости. Сигнализация из автомобиля, оставленного без присмотра. Мегафон. Громкий визг подростковой радости. Сальса-оркестр. Два студента колледжа без рубашек, лица раскрашены по-гречески. Бочка, полная огня. На капоте машины свернулся мокрый котик. Медленно ехали мы мимо всего этого.
– Тут и впрямь много афроамериканцев, – заметила Бесси.
– Вы имеете в виду американцев африканского происхождения… – подсказал Рауль.
– Как бы вы их сейчас ни называли, они тут повсюду…
– А посмотрите, сколько красивых женщин! – добавил Рауль. – Такого в Коровьем Мыке видишь не много!..
Проезжая по улицам, каждый из нас впитывал поразительные образы – величайшее подношенье города: молодых женщин в невозможно коротких юбках, праздничные бары, неоновые вывески, неслыханные манеры, беспечный хохот, индивидуированные личности, вялые браки, религиозные откровения и переоценки, виды, звуки, запахи не убираемого мусора и абортов в подсобках, и открытых сточных канав, и горящих лифчиков, и нескованной свободы, присыпанной кокаиновой пыльцой и порохом и замешанной в плавильный тигель студенистого тавота.
– А вы, Чарли? Что вас поражает в этом городе, по которому мы едем в два часа ночи? Что в этом кипучем городском пейзаже производит на вас самое большое впечатление?
Над этим мне пришлось на несколько мгновений задуматься. Затем мне взбрело в голову:
– Огни, – сказал я.
– И…
– И шум.
– И?..
– И нервическое движенье.
– Все это прекрасно, разве нет?
– О да, абсолютно. Все это, несомненно, прекрасно по-своему. Такие вещи утоляют человечью нужду в новых щекочущих ощущеньях. Дают надежду на воскрешение. Позволяют людям забывать, откуда они явились… и не замечать, куда направляются. Все это очень понятно и объяснимо. Но прожив в Коровьем Мыке семь месяцев, я теперь смотрю на все немного иначе. Города я видел и раньше. И в них всех наблюдал ту же самую быстроту. Однако теперь я вижу ее очень по-другому. Теперь я способен смотреть на кипучую ночную жизнь и видеть за ней то, что она есть на самом деле.
– И что она есть?
– Бренность.
– Постойте, Чарли. Вы хотите сказать, что в суматохе вихрящихся тел и хохота, мигающих огней и звука… среди всей этой проживаемой жизни вы видите только это?
– Да.
– И больше ничего?
– Нет. Еще я вижу пустоту.
– Жизни?
– Житья.
– А есть разница?
– О да… еще какая…
– Что-нибудь еще? Помимо бренности и пустоты, есть ли там что-либо еще, в чем вы начали отыскивать утешенье, пока ехали по этому городу?
– Да. Бессодержательность. И бессмысленность. Отчуждение. Молчание. Одиночество. Тщетность. Карьеризм. Все это вижу я, проезжая сквозь суматоху города. Пробираясь по такому количеству асфальта, я начал видеть много, много всего. И увидев столько всего, я теперь вижу все это намного четче. Тьму. Влагу. Растворенье. Я вижу все это таким, каково оно есть и чем тщится быть. Но главным образом я вижу блистающую бренность всего этого…
* * *
Дождь пришел и ушел, и когда мы въехали на стоянку больницы, уже настало раннее утро, по-прежнему темно, и мостовая была влажна, должно быть, от той же самой бури, что мы встретили по пути. Фонари на стоянке были редки и скудны, беседа наша скисла, и в холодной темноте раннего утра мы втроем ждали, когда над горизонтом подымется истинный свет. Я завел «звездное пламя» ради обогревателя и радио с АМ-музыкой. Затем опять заглушил. Пока мы сидели в тишине, колено к колену на переднем сиденье, ветровое стекло затуманилось и дождь вновь застучал по жесткой металлической крыше машины.
– Что теперь? – спросила Бесси.
– Теперь будем сидеть тут и ждать зари. Больница открывается для визитов в пять тридцать. А сейчас вообще сколько времени?
– Два.
– Постойте… что?
– Два часа ночи.
– Но я думал!.. То есть всего ж!..
– Сейчас два, Чарли. Так что мы теперь будем делать? Раз сейчас всего два часа ночи и нам предстоит ждать еще больше трех часов, что будем делать?
– Именно это и делать. Ждать.
– Зари?
– Да. И ее принадлежностей. Во тьме этой машины. Во тьме за нашим ветровым стеклом. В бренности всего этого. Будем ждать в этой машине, когда наконец настанет заря. Потому что она точно настанет.
– Может, пока суд да дело, немного поспим?
– Хорошая мысль. Бесс, можешь расположиться сзади. А вы, Рауль, не стесняйтесь и растянитесь по всей длине этого длинного сиденья спереди.
– А как же вы, Чарли? Вам разве не хочется немного поспать?
– Конечно, очень бы хотелось. Но не могу. Как ни странно, я уже совсем не устал. Вообще-то мне кажется, я уже за гранью сна.
– Невозможно быть за гранью сна. Это физически невозможно. Сон приходит всегда.
– Быть может. Но не ко мне. По крайней мере – пока.
– Как знаете…
Бесси перебралась на сиденье сзади. Рауль вытянул длинные ноги по виниловому переднему сиденью, головой устроившись у руля. Я вытащил из зажигания ключ и сунул его себе в карман. Меряя шагами темноту снаружи, я то и дело заглядывал в ветровое стекло. Рауль раскинулся на переднем сиденье. Бесси свернулась на заднем.
Через несколько минут они уже спали.
* * *
Следующие три с половиной часа я стоял у машины, засунув руки в карманы, и ходил от одного поребрика до другого. То и дело возвращался дождь, и я забивался под крону самого большого вяза на парковке. Затем дождь прекращался, и я снова выходил на свет асфальтовой площадки. Время миновало медленно. В три часа меня, сгорбившегося во тьме под деревом, увидела группа медсестер, шедших к своим машинам, и заспешила прочь. В четыре я стер воду с капота «звездного пламени», лег на него и уставился в ночь. Небо было черно и неумолимо. Глядя прямо вверх, я не видел ничего, кроме тьмы, тучи закрывали луну и звезды. То была самая темная ночь из всех мне доселе ведомых.
И самая долгая из всех мною виденных.
* * *
Со временем горизонт начал светлеть, и в тусклом свете я тихонько постучал в ветровое стекло «звездного пламени». Внутри медленно зашевелились два тела, потом задвигались, затем сели, щурясь на меня сквозь стекло.
– Уже полшестого, – сказал я. – Пора заходить.
Двое вышли из машины, и мы вместе двинулись в больницу, где нас направили на четвертый этаж. Там больничную комнату ожидания жестко освещал белый свет, который после нашего длинного путешествия из тьмы еще сильнее резал нам глаза. Когда мы сказали нянечке, что мы здесь навестить Уильяма Смиткоута, профессора из Разъезда Коровий Мык, которого в этот же день привезли на неотложке, женщина сверилась с какой-то писаниной, после чего показала дальше по коридору.
– По одному посетителю за раз, пожалуйста, – сказала она.
И Бесси, и Рауль глянули на меня, и потому я двинулся по длинному белому коридору к палате, где обнаружил Уилла в постели – он спал, а к его руке была приклеена трубка. В искусственном свете кожа старого историка выглядела грубой и бледной, сквозь ее поверхность только начали пробиваться седые щетинки. Волосы у него вымокли от пота, и их откинули на одну сторону, а сам он лежал, извернувшись шеей на подушке.
Я окинул взглядом палату, которая была аскетична и функциональна. В углу закреплен телевизор. Столик и стул с фальшивым цветком в вазочке. В шкафу висела старая одежда, что была на Уилле, когда его сюда перевезли: твидовый пиджак и серые штаны, красный галстук-бабочка. Ботинки его аккуратно стояли на полу шкафа. На полку поместили его федору.
– Что там происходит? – спросили Рауль и Бесси, когда я вернулся в комнату ожидания сообщить им последние известия.
– Он еще спит.
– Так что мы теперь будем делать?
– Ну, теперь остается только ждать…
Бесси схватила кроссворд. Я сел на холодный виниловый стул. Рауль листал женский журнал.
– Он, вероятно, будет спать еще сколько-то, – сказала нянечка после того, как прошел час. – Вы бы сходили позавтракали, а вернетесь еще через часок.
И вот так за кофе и пончиками в больничном кафетерии мы втроем сидели и беседовали ни о чем. Вокруг нас приходили и уходили работники больницы. По полу протолкали пустое кресло-каталку. За пустым столиком сидела и читала Библию какая-то старуха. Я наконец заметил часы на стене.
– Почти семь, – сказал я. – Заря снова пришла. Солнце уже определенно встало. Если присмотреться, вы увидите, как вон в то окно струится свет. А Уилл еще спит. Не уверен, что еще нам остается на этом рубеже, кроме как ждать.
– Ненавижу больницы, – сказала Бесси.
– А кому они нравятся?
– Врачам!
– Вполне уверен, даже им они не нравятся.
– Вероятно, вы правы, – сказал Рауль. – Полагаю, у академии нет монополии на тихо страдающий профессионализм…
Каждый из нас съел свой завтрак без аппетита, беседа текла устало и уныло. Быть может, в глубине наших душ мы рассчитывали, что Уилл окажется так же энергичен, каким был до своего отъезда: что он встретит нас в больнице с сигарой в руке, учтиво сняв федору, и расскажет какую-нибудь далеко идущую историю о своем матримониальном геройстве. А вместо этого мы нашли тут старика – едва дышащего и одинокого в стерильной больничной палате. Принять такое было трудно, и каждый из нас, казалось, силился справиться с этим по-своему.
– Он у всех был шилом в заднице, – сказала Бесси.
– Я читал, что нынче курение наносит вред здоровью, – сказал Рауль. – Что там о бурбоне говорить…
Я выслушал эти заявления, затем внес собственную лепту в попытки справиться с печалью, что проговаривались вслух.
– Нелегко, – сказал я, – примирить истории человека с его будущим.
В больничном кафетерии время текло еще медленней. Мы ели. Мы говорили. Мы вяло помешивали кофе. В дальнее боковое окно сияло солнце. Наконец на лице Рауля вспыхнула улыбка. В сложившихся обстоятельствах она казалась резкой и неуместной.
– Поглядите-ка туда! – сказал он. Рауль жестом показывал мне за спину, на стену напротив себя. Я оглянулся через плечо, но ничего не увидел. Снова обернувшись к нему, я сказал:
– Стена.
– Нет, не сама стена… Смотрите пристальней!..
Еще раз обернулся я и посмотрел. И теперь только заметил, на что Рауль все это время показывал: вверху, где-то на уровне трех четвертей стены, белым трафаретом по черному изображался контур сигареты, дымящейся одной извилистой линией. Сигарета была перечеркнута красным, а под нею значились слова: «НЕ КУРИТЬ».
– Думаю, Уилл бы оценил столик, который мы выбрали!..
Я рассмеялся Раулеву наблюдению и отпил еще кофе.
– Давайте выпьем за Уилла, – сказал я и чокнулся своей кофейной чашкой с ними. – За настоящее шило в заднице!
– За историю! – сказали они и сделали то же самое.
* * *
В восемь утра мы втроем вернулись в комнату ожидания у палаты Уилла, где нянечка сказала нам, что наш друг еще спит. В девять мы поймали себя на том, что снова сидим на холодных стульях. В десять я заглянул внутрь – Уилл еще спал. В одиннадцать врачи его разбудили, чтобы взять какие-то анализы, но он тут же уснул опять. К двенадцати мы еще так и не увидели его бодрствующим.
– Поздновато, – сказала Бесси. – Может, обратно поедем?
– В Коровий Мык?
– Да. Возможно, и опоздаем к дневным мероприятиям в кампусе, но если выедем сейчас, еще можем успеть к самой вечеринке…
– Хотя едва-едва… – добавил Рауль.
– Если выедем сейчас, еще можем занять места получше на наградной церемонии…
– И на конкурсе костюмов…
– И под множеством флагов мира!
Но тут я возразил:
– Давайте подождем еще немного. Еще, скажем, часик. Мы можем себе это позволить. «Олдзмобил» заправлен премиумным бензином, поэтому останавливаться по пути не придется. По дороге назад в Коровий Мык не поедем никакими объездами. И не станем заезжать на перекус, как бы ни проголодались, потому что на рождественской вечеринке, когда мы туда доберемся, будет много еды…
– Но, Чарли, на весах же судьба нашего колледжа. Вы уверены, что мы можем ждать? В конечном счете на кону – и ваше наследие…
– Да, уверен. Давайте подождем еще немного…
И так вот мы сидели в комнате ожидания и ждали. Но хотя раньше время, казалось, просто тянулось, теперь каждая минута, похоже, налегала на нас всею своей тяжестью. Каждый тик часов – каждый мах маятника вниз – служил тому, чтобы тянуть нас к нашим профессиональным обязанностям, тащить в сторону Коровьего Мыка с его наиважнейшей рождественской вечеринкой.
– Уже почти час, – сказал Рауль. – Чарли, нам не пора ли уже выезжать?
– Давайте подождем еще несколько минут, – сказал я. – Мы приехали в такую даль. Нельзя же так просто взять и уехать, а? Так и не повидав Уилла?
– Но ваши планы, Чарли? Вы столько времени потратили на их разработку!
– К черту мои планы.
– Как вы можете говорить такое? А ваши усилия! А ваше планирование!
– Есть вещи и поважнее.
– Например?
– Ну, например, Уилл Смиткоут. Мой преподавательский наставник. Человек, который лежит теперь на пороге, отделяющем наши соответственные истории от нашего общего настоящего. Или наше общее настоящее от наших одиноких и изолированных будущностей. Давайте просто наберемся терпения и подождем еще немного.
В самом начале второго подошла нянечка и сообщила, что Уилл проснулся и ждет нас. Когда я зашел в палату, Уилл бережно приподнял голову.
– Чарли… – сказал он.
– Мистер Смиткоут!
Я потянулся взять его за руку, но в его пожатии не чувствовалось силы.
– Как у вас дела, мистер Смиткоут? Мы с Раулем и Бесси приехали вас повидать. Только вы спали. И мы просто сидели снаружи и ждали. Ждали мы довольно долго. Но теперь все мы тут. И очень рады вас видеть. Как вы себя чувствуете?
Уилл посмотрел на меня снизу вверх.
– Дерьмово я себя чувствую, Чарли. Мне тут не нравится.
– Это, конечно же, нормально. Тут больница. А больницы никому не нравятся. Даже самим врачам…
– Здесь моя жена умерла.
– В этой больнице?
– Они отвезли ее сюда, пока я был на работе. На занятиях. Читал лекцию о «Надежде» и «Желанье»[48]. Ее привезли сюда в среду, и ее не стало, не успел я даже полпути пройти через Атлантику.
– Простите, мистер Смиткоут…
– Я даже не успел с ней попрощаться.
– Мне так жаль…
– Чарли, тут не живут…
– Понимаю.
– Тут слишком ярко и слишком холодно, и я не хочу здесь быть…
– Я вас очень понимаю.
– Я хочу домой…
– Домой?
Уилл смотрел на меня снизу, и глаза его были усталы, больны и серы.
– Спросите у них, Чарли, нельзя ли мне домой…
– Я?
– Да. Спросите у них, пожалуйста. Меня слишком накачали лекарствами. Они посадили меня на все эти пилюли. От них я сонный и невнятный. Они не поймут. А вы поговорите с ними…
– Но…
– Вы из всех нас самый трезвый. Вы администратор образования, Чарли. У вас талант убеждать. Вы умеете словами. Дайте им понять, что мне нужно домой. Скажите, что это важно. Что от этого зависит нечто очень существенное. Что это вопрос жизни и смерти. Скажите, что на кону стоит ваше наследие…
– Но, мистер Смиткоут, вам нужно полежать в больнице. Здесь есть люди, которые о вас позаботятся. Они в таких вещах специалисты. У них в распоряжении новейшее медицинское оборудование. Они знают, что делают, и могут…
– Прошу вас, Чарли.
– Но мы же не можем просто увезти вас в Коровий Мык, мистер Смиткоут. Вам нужно остаться здесь…
– Чарли, я вас прошу!..
Когда я передал Раулю и Бесси, что сказал Уилл, они покачали головами:
– Да он же болен! Как он может вернуться в Коровий Мык?
– Не знаю. Но добивались и более странного. И ради него мы должны попробовать, разве нет? Я-то уж точно должен…
Новая нянечка на медсестринском посту была профессиональна, если и не вполне сердечна.
– Простите за беспокойство, – сказал ей я. – Но дело в том, что наш друг очень хочет вернуться с нами в Разъезд Коровий Мык. Ему очень хочется оказаться дома на праздники…
– Праздники?
– Да. Видите ли, сегодня вечером мы празднуем Рождество, и на вечеринке будет весь кампус. Все подписались туда прийти, чтобы оказаться вместе в ограниченном сегменте времени и пространства. Я обещал доктору Фелчу это сделать. Мы дали слово нашим аккредиторам. А теперь уже начало второго, и мы немного запаздываем. Вечеринка начинается в шесть, а нас еще ждет шестичасовая поездка в Коровий Мык – и это значит, что выезжать нам нужно сейчас, чтобы успеть туда вовремя.
– Вы это о чем вообще?
– Я у вас спрашиваю, нельзя ли нам забрать нашего друга с собой в Разъезд Коровий Мык в его голубом «олдзмобиле-звездном-пламени» 1966 года выпуска. Это просторная машина с удобным задним сиденьем в салоне типа седан. Впереди у нее достаточно места для нас троих, поэтому профессор может расположиться на заднем сиденье один. Винил вполне удобен, и я поведу машину медленней, чем ехал сюда. Обратно мы отправимся с комфортом и в безопасности и успеем вовремя к началу рождественской вечеринки. Можем, правда, немного запоздать, но все равно должны успеть к началу официальной программы. На данном рубеже мы, вероятно, пропустим конкурс костюмов и, возможно, первую часть церемонии награждения – но если мы выедем в ближайшие десять минут или около того, то запросто еще можем успеть на основной доклад и флаги мира, а также к вылавливанию яблок ртом из лохани с водой и к тазику барбитуратов, к макательной бочке и открытию «мокрого бара»[49] и еще к интимным сеансам исследований, включая парную релаксацию и нежный анальный…
– Слушайте, – сказала нянечка. – Ваш друг – под наблюдением. Он не выдержит долгой транспортировки. И его еще не выписали из этой больницы. Выйдет он отсюда еще не скоро. Уж явно не сегодня. Поэтому вам придется составить другие планы. Получше.
– Но он же всего-навсего хочет домой! Многого ли я прошу? То есть разве не этого хотел бы любой человек в его состоянии? Не этого ли заслуживаем мы все? Места, где жить? Где спать? И читать? Спокойного места, где предаваться теплым воспоминаниям? Места под солнцем, которое отличается от всех остальных холодных мест на свете, которые не дом? Неужели так трудно понять, откуда человек? И куда хочет попасть? Неужто трудно отыскать в себе сочувствие к человеку, который сейчас здесь, без жены и против своей воли – и очень, очень далеко от своего дома?!
– Не повышайте на меня, пожалуйста, голос.
– Простите!..
– Вашему другу требуется серьезное медицинское обслуживание. В нашей больнице он находится под пристальным наблюдением. Он не поедет домой, пока этого не одобрит его лечащий врач. А врач не одобрит такого еще какое-то время…
Упав духом, я пошел прочь от медсестринского поста. Впервые со своего приезда в Коровий Мык я чувствовал, что хочу чего-то недвусмысленно. Теперь, после стольких дней и ночей, стольких бесформенных переживаний я хотел этого больше чего бы то ни было. Я хотел того, чего хотел Уилл, а Уилл хотел поехать домой. Все было вот так самоочевидно. Отнюдь не наглое требование. И не подрывное. Но оно было явно недопустимо. Он не мог уехать из больницы сейчас, и этого не изменят никакие уговоры. Однако, стоя посреди санированной больницы, куда привезли умереть его жену, я поклялся себе, что всенепременно достигну ради него этой цели. Так или иначе, но я привезу его домой.
И я пошел обратно.
* * *
– Послушайте, – сказал я. – Я целиком и полностью понимаю ситуацию. И мне жаль, что я ранее повысил на вас голос. Я уже некоторое время не сплю – вообще-то несколько месяцев – и немножко взвинчен. В этом виноват я, и только я. Но, быть может, мы бы могли попробовать еще кое-что напоследок… Как знать, не достигнем ли мы некоего компромисса?
– Компромисса?
– Да, быть может, где-то в конфликтах нашего дня мы с вами могли бы отыскать примирение, которое окажется действенным для нас обоих?
С бесстрастием во взоре женщина внимала моей мольбе. Как полагается истинному неравнодушному профессионалу, она выслушала мой план. И когда он был изложен, она высморкалась в салфетку и сказала:
– И все, что ли? Таков ваш новый план по доставке вашего друга домой?
– Да. Это мой пересмотренный план.
– Не покидая больницы?
– Да.
Женщина сложила салфетку и бросила ее в металлическую урну за своим медсестринским постом.
– Я посмотрю, что здесь можно сделать. Но имейте, пожалуйста, в виду, что как профессионал я давала клятву Гиппократа…
Женщина пояснила, что ей потребуется проконсультироваться с лечащим врачом, и ушла. Двадцать минут спустя она вернулась и проинформировала меня, что мой план одобрен, и еще через несколько минут явится санитар, чтобы помочь приготовить Уилла к путешествию, а нам будет позволено доставить нашего друга в затребованное им место.
Нам разрешат отвезти его домой.
* * *
И вот так, немного позднее половины второго в палату Уилла вкатили кресло-каталку, и санитар помог устроить его на сиденье. К этому времени старейший штатный преподаватель был переоблачен в свой учительский костюм – твидовый пиджак, коричневые штаны и красный галстук-бабочку, – а на коленях держал свою верную федору. Оттуда санитар выкатил его из палаты, вдоль по длинному коридору, мимо медсестринского поста, в лифт и на четыре этажа вниз, в больничный вестибюль, где сквозь стеклянные двери главного входа ему мельком удалось увидеть вдали голубое «звездное пламя», безмятежно ждавшее на стоянке.
– Прекрасная машина, – сказал Уилл.
– Это уж точно, – согласился с ним я.
– Таких машин больше не делают, Чарли.
– Еще бы, мистер Смиткоут. И надеюсь, вы не против, что мы ее позаимствовали, чтобы приехать сюда?
– Нет, конечно. Вы сделали то, что были вынуждены. Только постарайтесь, чтобы она обратно добралась в целости и сохранности…
Мы втроем постояли несколько душещипательных мгновений, любуясь машиной через стеклянные двери. Затем, развернув кресло в противоположную сторону, санитар покатил Уилла прочь от входа в вестибюль, вдоль по коридору мимо рентген-кабинета, вдоль отпечатков детских рук, мимо родильного отделения и прямиком в кафетерий, где посреди суеты уже пребывала обеденная толпа.
– Они там… – сказал я, и санитар направился в ту сторону – и подкатил каталку прямо к столику, за которым со своими обеденными подносами под табличкой «НЕ КУРИТЬ» ждали Бесси и Рауль.
– Профессор Смиткоут! – произнес Рауль.
– Здрасьте, Уильям, – сказала Бесси. После чего, поведя рукой и показывая на столик с ровно стоящими подносами, продолжила: – Добро пожаловать домой…
– Лучше не выйдет, – прибавил я. – Смотрите, тут даже табличка «НЕ КУРИТЬ» есть!..
Уилл слабо улыбнулся, узнав ее. Затем повернулся сказать спасибо санитару, который довез его аж досюда, из его холодной палаты до столика в кафетерии.
– Очень ценю, – сказал он этому человеку. – И, пожалуйста, имейте в виду, что мне очень стыдно за то, что произошло с вашим народом. Бог свидетель, и мои руки в этом не очень чисты…
Санитар как-то смешался, но все равно улыбнулся. Затем он ушел.
* * *
За обедом мы вчетвером разговаривали о более простых событиях этого дня. О нехватке соли в рубленом бифштексе. О гранулах сахара-сырца, никак не желавших растворяться в высоком стакане чая со льдом, сколь истово его ни помешивай. Время от времени Рауль поглядывал на часы и затем украдкой – на меня. И всякий раз я притворялся, что не замечаю. Наконец Рауль предумышленно откашлялся и произнес:
– Чарли… Уже сильно за два. Почти половина третьего. Нам не пора назад?
И я ответил ему так же предумышленно.
– Да, – сказал я. – Конечно, нам пора назад. Это было бы правильно. Но лучше все же подождем еще несколько минут…
И так вот мы поговорили еще. О том, что у нас общего. И о том, что у нас никогда не сможет стать общим. Мы беседовали о понятиях, что были до боли очевидны, и о тех, что были безнадежно невыразимы. Мы всё говорили и говорили. И чем больше говорили мы, тем позже становилось. А чем позже становилось, тем больше, казалось, нервничал Рауль.
– Чарли! – наконец сказал он. – Уже очень поздно! Нам нужно выдвигаться обратно в Коровий Мык! Уезжать мы должны сейчас же!
И я ответил:
– Да, Рауль. В этом я с вами отнюдь не расхожусь во мнениях. Разумеется, мы должны двигаться обратно в Коровий Мык. Мы очень далеки сейчас от того, где нам полагается быть. И потому нам совершенно разумно было бы стремиться обратно к иссушенному уюту Разъезда Коровий Мык. Сделать так было бы ясно и просто. И поступить так было бы правильно. Черт, да это, вероятно, было бы оправданно. В нескольких сотнях миль отсюда – рождественская вечеринка, за которую я целиком и полностью отвечаю. Я управленец в области образования и как таковой планировал эту рождественскую вечеринку очень долгое время. То был водораздел в моей жизни. Это важное событие в истории Разъезда Коровий Мык, если не всего человечества, и именно оно будет определять саму ценность моего собственного долгого путешествия от зелени к засухе и обратно. Планирование это оказалось нелегким и, фактически, стоило мне сотен часов бодрствования и гораздо большего количества часов, истраченных на бесплодное полубодрствование, а они могли бы лучше употребиться для сна. Теперь на кону стоит моя профессиональная репутация. Мое личное наследие в опасности. Из-за этой вечеринки я поднял много шума – и разжег не одну надежду. И, разумеется, будущее нашего колледжа – да и всего сообщества собственно Коровьего Мыка – зависит от успешного исхода нашего святочного мероприятия. Поэтому, Рауль, да, вы, как обычно, правы. На самом деле, вы вообще-то даже очень правы: нам следует выезжать поскорее…
При этом Рауль, похоже, с облегчением выдохнул.
– Но…
– Чарли?!
– …Но! – продолжал я. – …Прежде, чем мы это совершим, сначала мне нужно сделать одну вещь. Видите ли, мы проехали много миль, чтобы оказаться тут, в этом кафетерии, под зловещей табличкой «НЕ КУРИТЬ». Мы ни перед чем не остановились, только чтобы сидеть с Уиллом Смиткоутом в этом стерильном, однако безопасном месте, что лишь слегка напоминает наш собственный кафетерий. Оно лишь слегка напоминает то место, которое Уилл звал домом последние семь лет. И потому есть одно последнее, что мне хотелось бы спросить у Уилла, прежде чем отправимся назад в Коровий Мык. Обратно к будке охраны. К зелени. К пеликанам. К региональной аккредитации. К Рождеству. Есть один вопрос без ответа, который я не могу пропустить, не рискуя показаться недобросовестным, если у меня есть возможность его задать, – иными словами, пока еще возможно задавать такие вопросы моему уважаемому преподавательскому наставнику в столь поворотное время моей жизни. В этот зыбкий период, пока сам Уильям Смиткоут еще по-прежнему пребывает в этом мире. Пока я пребываю в этом мире. Пока мы вдвоем – по-прежнему в этом обширном и одиноком мире. Пока мы вчетвером – Бесси, Рауль, я, мистер Смиткоут – еще сидим за этим столом. Видите ли, все мы – тут, в этом передвижном кафетерии, вместе в ограниченном сегменте времени и пространства. Но нельзя принимать как данность то, что так будет всегда. Потому что так будет не всегда. Все меняется. Приходят и уходят мгновенья. Вещи тоже приходят и уходят. Люди, места, идеи. Нации мира. Мимолетная буря. Жесточайшая засуха. Все это приходит и уходит. И потому есть один последний вопрос, который я вынужден задать сейчас, когда солнце уже начало закатываться за вон ту стойку с салатами…
– Черт бы драл, мальчик, давайте уже к сути!
– Да-да, мистер Смиткоут… К этому самому я уже и подступаю…
– Так подступайте быстрее… пока я не загнулся над этой куриной котлеткой!
– Разумеется, – сказал я. – Эта куриная котлета не навсегда останется так же горяча, как в данный конкретный момент времени. Это просто печальная правда жизни. И потому мой вопрос вам, мистер Смиткоут, – тот, что я задавал вам множество раз, но вы никогда не предоставляли мне на него прямого ответа. Вы так толком и не ответили на мой вопрос, и потому мне бы хотелось задать вам его в самый последний раз. В последний раз я хотел бы попросить вас рассказать мне хоть немножко об истории. А конкретнее – о всемирной истории. То есть от самого ее начала до ее окончательного завершенья. Это вопрос, над которым я долго раздумывал. И потому теперь, когда мы сидим в этом людном кафетерии под этой табличкой «НЕ КУРИТЬ» и пока ждем одновременного прихода вечной весны, воскрешенья нашего вечного Господа и Спасителя, а идеалистичнее всего – возобновления нашей региональной аккредитации, – покуда мы ждем слиянья всего этого, не могли б вы, пожалуйста, мистер Смиткоут, рассказать нам об истории нашего мира?
* * *
– Чарли! – перебил меня Рауль. – Для всего этого уже слишком поздно! Нам нужно выезжать сейчас же, чтоб остался хоть какой-то шанс успеть на вечеринку!..
Но тут я спокойно поднял руку:
– Немного терпения, Рауль! В этом мире есть такое, что бесконечно важнее аккредитации. Такое, что перевешивает включение в штат. И потому сейчас мне бы хотелось попросить Уилла рассказать нам об истории мира. От начала и до кульминации. От зари человечества до вон той женщины, что покупает «Фритос»…
Впервые с тех пор, как я возник у него в палате, Уилл широко улыбнулся.
– Вот так номер, Чарли! – Уилл немного мямлил слова и говорил чуть медленней обычного – говорить ему явно было трудно, – однако я наконец увидел в его лице тот же посверк неугомонного непочтения, который всегда ценил в наших с ним дискуссиях в кафетерии. – Вы хотите, чтоб я с вами поговорил об истории, мальчик мой?
– Да, не будете ли вы добры рассказать мне – то есть нам – об истории мира?
– С самого начала?
– Да. И вплоть до его окончательного разрешенья. Разрешением, само собой, будет вот это самое место в пространстве и времени, где все мы сидим в этом кафетерии. Я вполне уверен, это не данность – что мы в итоге будем делить на всех этот миг прямо сейчас, прямо здесь. Я уверен, что по дороге нам попадалось много конкурирующих возможностей. Много стрел. Много дорожных развилок. Принято много решений. Мириады изгибов у опасной реки времени. А потому не поможете ли вы нам понять, как вообще произошло то, что всех нас привело сюда. Иными словами – не могли б вы нам рассказать, пожалуйста, нерассказанную историю истории мира?
* * *
– Да ни в жисть! – сказал Уилл. – Меня только что удар хватил, черт б вас задрал! И я так удолбан медикаментами, что не смогу вам даже сказать, день сейчас или ночь!
– Сейчас день!
– Вот видите! А кроме того, история нашего мира слишком уж хорошо запечатлена. Исследователи описали ее с начала времен – или же, по крайней мере, с тех пор, как эти исследователи вошли в штат. Поэтому нет, я не расскажу вам об истории мира. Лучше я расскажу вам такую историю, которую только я и могу вам рассказать. Устраивайтесь поудобнее на своих соответствующих стульях и позвольте мне рассказать вам историю той истории, что у вас общая на всех. Это история, достойная величайших книг по истории, однако маловероятно, чтобы ее когда-либо рассказали. Да, друзья мои, кто приехал сюда аж из Разъезда Коровий Мык лишь ради того, чтобы навестить меня во время величайшей моей нужды. То была долгая поездка, в этом я уверен. Поэтому разрешите мне сделать так, чтобы вам не пришлось о ней жалеть. Дорогие мои друзья и уважаемые коллеги – Бесси, Рауль, Чарли, – позвольте мне изложить вам малоизвестную историю, которую иначе вам не расскажут: долгую и легендарную историю общинного колледжа Коровий Мык!..
* * *
– …Но сперва дайте мне салфетку, будьте добры?
Рауль протянул Уиллу бумажную салфетку – стереть струйку слюны, повисшую у него на нижней губе.
– Будет непросто. Рассудок у меня немного онемел от всего, что случилось прежде. Закупорка сосудов. Долгая поездка в неотложке. Медикаментозное лечение. Нелегко мне будет все это вам рассказывать связно. Но я готов погибнуть в этой попытке!..
Уилл скомкал салфетку и подоткнул ее под край своей десертной тарелки. И с тем принялся рассказывать нам свою историю. Полуденное солнце продолжало спуск за стойку с салатами, а Уилл Смиткоут принялся излагать нам длинную и запутанную историю общинного колледжа Коровий Мык.
– История общинного колледжа Коровий Мык, – пояснил он, – начинается десять тысяч лет назад с двух фертильных коров: одна была рыжей с рогами, а другая – безрогой и черной…
– Со скота?
– Да. Наша история начинается с этих двух коров…
* * *
– Во время оно жил да был один человек, у которого было две коровы: одна рыжая с рогами, а другая безрогая и черная…
Тут Уилл умолк.
– Ха! – рассмеялся он. – Во время оно! Всегда мечтал начать такими словами исторический трактат. И вот наконец начал!..
– И каково оно вам?
– Да отлично!
Уилл удовлетворенно кивнул. Затем сказал:
– О чем это я?
– Вы были дома. Сейчас день. Десять тысяч лет назад жил да был один человек с двумя коровами…
– А, ну да. Человек с двумя коровами…
Уилл гортанно прочистил гортань. После чего продолжил:
– Во время оно, видите ли, жил да был один человек с двумя коровами: одна рыжая и с рогами, а другая комолая и черная…
* * *
– Случилось это в ранние дни мира, когда учитывали даже и окрас. Когда земля была широка, а животные равнин перемещались, как им вздумается. Тогда еще существовали такие твари, что ныне для нас непостижимы. Там были медведи с широкими плечами и жирафы с короткими шеями. Существовали буйволы размером с «олдзмобилы» и птицы выше среднего администратора в области образования. То были дни, когда человек был человеком, а животные – самими собой. И посреди всего этого жил честолюбивый аграрий, ставшим первым одомашнивателем скота…
…Ну а прежде, чем я продолжу, мы должны остановиться и немного порассуждать об этом достижении. Видите ли, в те дни отнюдь не было данностью, что бычьи – наши домашние животные. В те дни предшественник покорного бычьего был в несколько раз больше своих нынешних размеров. Здоровенный, что трубящий слон. Энергичный, что средний учитель математики. Коровы в те времена были дики и своенравны и одомашниваться отнюдь не намеревались. И вот в таком контексте тот один человек заметил, как на склоне холма пасутся две коровы: одна рыжая с рогами, а другая черная и комолая…
…И вот человек увидел тех двух коров и однажды загнал их в загон, который сам же и придумал. Обе они были дики и непредсказуемы. Но запертые в человеческий загон, они отнеслись к своим судьбам совершенно по-разному. Первая корова – черная – выбрала примирение. Она была умеренна и сговорчива. Не выходила за ограды, которые возвел человек, не чинила никаких хлопот. За много лет черная корова обильно размножилась и стала той черной коровой, которую вы видите сегодня. Теми черными коровами, мимо кого вы проезжали в своем путешествии к ныне не работающей ферме «Коровий Мык» и чьего маленького черного теленка кастрировали простым карманным ножом…
…Ну а рыжая корова, напротив, ну – это совершенно другая история. Рыжая, видите ли, предпочла конфликт. При каждом удобном случае она таранила рогами изгородь пастуха. Разбивала ворота, которые возвели, чтоб ее удерживать. Она прыгала и билась, и терлась о барьеры, предназначенные для ее сдерживания. Когда приходил человек, она бросалась на него. А когда приближалась черная корова, она бодалась и кидалась. Насаживала на рога. Потрошила. И однажды, когда человек смотрел в другую сторону, рыжая корова пробила изгородь и убежала обратно на склон холма, с которого и пришла…
* * *
– …Фермера это обескуражило. Ибо там, где у него некогда было две коровы, теперь осталась только одна. Но чтоб ни в чем себе не отказывать, он тут же начал разводить черную корову саму по себе. Со временем черная корова наплодила себе подобных – тоже черных коров, как мужского, так и женского пола, и те со временем тоже расплодились. За все это время черные коровы утратили воспоминания о том, что некогда у них были рога, или о склоне холма на свободе, и за все это время они обзавелись толстыми ногами и мясистыми боками, которые и стали отличительной чертой породы. Пастух, глядя на это, был доволен. Таков, понимал он, и есть прогресс…
…За много веков честолюбивый пастух обнаружил без счета других результативных черт, что позволили ему улучшить породу. Он скрещивал покорнейших бычков с покорнейшими телками, и происходило покорное потомство. Он скрещивал самых мясистых быков с самыми мясистыми коровами, и получались мясистые телята. Со временем он стал скрещивать ради веса, размера и норова. Он скрещивал ради количества молока и ради качества мяса. Он скрещивал ради плодовитости, подвижности и кротости. Он скрещивал ради увеличения мраморизации и уменьшения выкидышей. Постепенно он так усовершенствовал породу, что она давала больше молока и производила больше мяса, была терпимее, любящее и здоровее. И это он тоже понимал как прогресс…
…А рыжая корова взирала на все это со склона холма. Время шло, и она видела, как черная порода становилась крупней и мясистей, а также многочисленней. Рыжая корова, собирая еду на склоне холма, жила несовершенно. Условия у нее были не так определенны, а меж тем она видела, что черная корова легко получает еду в колодах и лоханях. Из поколения в поколение рыжая корова росла лишь помаленьку, зато черная со временем сильно прибавляла. И размерами, и числом. И расположеньем своего хозяина. И все эти годы рыжая корова продолжала пастись на редких естественных травах на склоне холма, глядевшего на все это…
…Однажды пастух собрал всех своих лучших черных коров – самых больших и самых темных – и загнал их в большое судно, которое перевезло их через широкое море посреди зимы. Океан был неспокоен, и коровы на борту лежали лежмя, плескались в экскрементах и рвоте долгого океанского перехода. Несколько месяцев коровы ехали в темных трюмах судна, прикованные к палубе, без движения, покинутые своими богами и оставленные на волю рока. Нелегким было это путешествие, но наконец они пристали к новой земле, где спустились на берег – ноги их до того отощали и ослабли, что они едва могли сойти по трапу на ту грубую землю, что станет им домом. Но вот предстали они пред своим новым хозяином, и этот новый хозяин проверил им языки и потыкал в бока, а когда это было сделано, он отвел их на новое место за много миль оттуда, где они могли пастись, на пастбище с зелеными травами и вольно текущими реками. В сельскую местность такую зеленую, что даже в стихах с трудом удавалось ее описать. Так, друзья мои, и началось ранчо «Коровий Мык»…
…Хотя, если сказать вам правду, ранчо в те дни было не очень ранчо. На самом деле оно представляло собой всего-навсего пастбище с несколькими коровниками, а коров загоняли на крупные участки территории, где они могли бродить. Стада паслись свободно, а потом, когда наставало время отбраковки, их собирали и загоняли в расколы для скота, по которым они сами результативно шагали колонной к участкам скотобоен. И это, как видите, было гораздо результативней того, как оно было раньше…
…Отсюда уже все записано в книжках по истории. Вокруг выпасов, по которым бродил скот, образовалось ранчо. Вокруг ранчо образовался городок. А общинный колледж – наш любимый общинный колледж Коровий Мык – образовался для того, чтобы служить городку, который таким образом создался. Время шло, колледж рос – и построили кампус, и возвели плавательный бассейн. И все это стало общинным колледжем Коровий Мык, который мы знаем и любим. Вообще-то, будь у нас традиционный исторический трактат, на этом бы все дело и кончилось. Если б то была история, которую можно найти в школьных учебниках, то история нашего колледжа закончилась бы на черной корове, счастливо пасущейся на пастбищах ранчо «Коровий Мык». Но по ходу повествования я забыл одну важную вещь. Есть одно упущение…
* * *
– И что же это, мистер Смиткоут?
Бесси, Рауль и я подались вперед над столом кафетерия – услышать остаток истории.
– Что было упущено, мистер Смиткоут? – спросили мы. – Что это за упущение в вашем изложении истории мира?
Уилл важно посмотрел на нас.
– Все просто, – ответил он. – Рыжая корова.
– Рыжая корова?
– Да. Пока черная корова приобретала желаемые характеристики, что сделали бы ее идеальным мясом для мясоедов и идеальным молоком для млекопьющих, рыжая корова по-прежнему стояла на склоне холма, наблюдая траекторию нашего мира.
– Правда?
– Да. И стоя на том склоне холма, рыжая корова видела, как во времени и пространстве разворачиваются исторические события. Корова эта, с ее неукрощенными рогами, свидетельствовала появлению плуга и тому, как его применяли для подчинения некогда гордых буйволов своего времени. Наблюдала за изобретением печатного пресса и за тем, как он позволил лучше координировать скотобойни, содержавшиеся многие столетия. Развитие кораблестроения дало возможность перевозить через океан больше коров в их собственных экскрементах. Технологии земледелия позволяли сильнее расширять районы, которые мог бы вспахивать фермер. Все это было прогрессом для фермера, пусть и не для коровы…
…И еще с такого наблюдательного пункта эта непокорная корова наблюдала за войнами, которые вели самыми современными техническими средствами. И была свидетелем того, как побеждали и вызывали болезни. Она видела, как покоряют океаны и укрощают небеса. Запруживают реки и перекапывают равнины. Нужно было строить железные дороги и возводить фабрики. Все это наблюдала непритязательная корова. И все это было прогрессом…
…И вот так случилось, что простая корова видела прогресс мира от самых ранних начал человечества до расплодившихся технологических чудес. Нововведения. Результативности. Непрерывные улучшения и подвиги изобретательности, от которых отбраковка ее потомства становилась еще неизбежней. От колыбели людской цивилизации до освящения величайших памятников человека – корова присутствовала при этом всем. И все это, казалось, было прогрессом…
* * *
– А потом, мистер Смиткоут? Что корова увидела потом?
* * *
– …А потом корова увидела изобретение современного оружия. Ядерную реакцию. Химическую войну. Она свидетельствовала падающим бомбам и массовому уничтожению. Геноциду. Экологическому опустошенью. Загрязненным рекам и политизированным небесам. Строительству плотин. Засухам. Гибели более ранних народов от рук тех, кто явился после. Все это видела она, а соломины болтались у нее изо рта. Все это она видела со своего скромного наблюдательного пункта на вершине холма…
* * *
– А потом, мистер Смиткоут? Потом-то что было?
– Ну, а потом корова вновь принималась щипать траву.
– И все?
– Конечно. Это же просто корова, ну?
– Ну, да. Но должно же быть что-то еще! Так что же было потом?
– Ну, потом я обмяк на стол в кафетерии, где меня на следующее утро обнаружила моя бывшая студентка…
– И вот это и есть конец истории?
– Для нее – да.
– И это был конец мира?
– Не вполне. Оттуда меня в неотложке доставили через время и пространство в эту одинокую больничную палату в городе. Меня привезли сюда и дали лекарств, от которых мне пришлось спать до той минуты, когда я открыл глаза и увидел Чарли. Видите ли, с начала времени все, что когда-либо происходило, есть единая непрерывная цепочка прогресса – ничем не нарушаемая череда вдохновений и открытий, что ведет от пустых полей наших начал к достижениям современной жизни. От тьмы первой ночи к поездке вас троих на автомобиле, которую вы только что пережили. От яблока к стебельку сельдерея. От первого зерна, когда-либо посеянного, до вилки с «джелл-о», которое Чарли сейчас намерен отправить себе в рот…
Смущенно я положил желе обратно на тарелку.
– …Вот видите, – сказал Уилл, – все до единого события в истории человечества – каждое техническое изобретение, каждый отпрыск прогресса – сговорились свести нас четверых в этом кафетерии. Кульминация истории – в нас четверых здесь и сегодня. Здесь и сейчас – вершина истории; вот в этой людной больничной столовой, где мы втроем сидим за этим столом: Бесси потягивает чай, Рауль рисует каракули на салфетке, а Чарли кладет в рот кусочек желе. Мы – в этом здесь и сейчас – суть окончательная кульминация множества чудес истории…
– Мы?
– Да, вы.
– А вон та женщина, что выбрасывает свой пустой кулек из-под «Фритос»?
– И она тоже.
Бесси отхлебнула еще чаю.
Рауль смял салфетку и бросил ее к себе на поднос.
– Мир, – сказал Уилл, – заканчивается в этот исключительный миг во времени и пространстве. Заканчивается он на нас четверых. Ибо мы и есть наивысшая точка истории, кульминация человеческого повествования, окончательное следствие всего…
В кафетерии солнце уже спустилось далеко за стойку с салатами.
Я поместил вилку с желе себе в рот и проглотил его.
* * *
После обеда санитар – на сей раз белый – вернулся отвезти Уилла обратно в палату. Перед уходом Уилла Бесси крепко его обняла. Рауль потрепал его по плечу и сказал:
– Держитесь, профессор. Увидимся опять в Коровьем Мыке, когда поправитесь.
Затем настал черед моим словам.
– Ладно, мистер Смиткоут, – сказал я. – Скоро увидимся. Несомненно, когда-нибудь в ближайшем будущем…
– Будущем? – сказал Уилл.
– Да, в будущем.
Даже тогда я понимал, что говорить ему это, вероятно, неправильно. Но больше ничего придумать не мог.
Уилл хмыкнул. Я пожал ему руку – она была очень мягка, почти безжизненна – и направился обратно к машине, где внутри меня уже ждали Рауль и Бесси.
* * *
– Сколько времени? – спросил я у Рауля.
– Хорошо за два, Чарли. Фактически, почти три. Вечеринка начинается через три часа. До Коровьего Мыка ехать шесть часов. Ну и что мы будем делать?
– Все просто, – ответил я. – Поедем очень быстро…
Оттуда я помчал по улицам города, обгоняя таксомоторы и фургоны доставки, к выезду на шоссе, на саму трассу, дальше мимо городских спальных районов, мимо пригородов. Как и ожидалось, дневное движение было промежуточной алгеброй, и пока мы ехали, Рауль с нещадной результативностью информировал меня о нашей временно́й задаче.
– Уже четыре часа, – говорил он. – А мы еще и на тридцать минут от города не удалились… – После чего: – Чарли, мы очень опоздаем. Сейчас ровно половина пятого, а мы еще и половины пути не проехали! – Быстрой чередой последовали пять часов… пять тридцать… пять сорок пять… пять пятьдесят пять. Ровно в шесть Рауль оторвался от карты и мрачно объявил:
– Шесть. Вечеринка официально начинается…
Бесси присвистнула от изумленья.
Я кивнул. Уже было хорошо за шесть, а мы и полпути не проехали, возвращаясь из нашего шестичасового путешествия от зелени к засухе и затем обратно сквозь ворота к зелени. Город остался далеко позади, однако Коровий Мык в равной же мере оставался далеко впереди.
– Вечеринка уже началась, – сказал Рауль. – А ехать нам туда еще не один час…
– Все будет нормально, – сказал я. – Мероприятие идет своим чередом, и идти ему просто придется без нас. Я оставил доктору Фелчу подробные заметки. Все получится.
– Как вы можете быть таким спокойным?
– Потому что я тщательно все спланировал. Я администратор в области образования и, планируя рождественскую вечеринку, которая только что началась, приложил все свои силы и все учел.
– Будем надеяться, что вы правы.
– Конечно же, прав. В данный момент, пока мы говорим, – несколько минут седьмого. Это значит, что кафетерий уже украшен ровно так, как я это планировал.
– А это как?
– Кропотливо. И празднично.
– Да, но как именно?
– Ну, к примеру, на одной стене целиком будет полномасштабная модель американского флага – все тринадцать полос и сорок семь звезд. Флаг такой крупный, что занимает всю стену от одного угла до другого. Он огромен. И внушителен. А напротив него, на другой стене – диаметральная противоположность этому флагу: сотни флагов поменьше, представляющих меньшие нации мира. На этой стене свое место под солнцем находят различные проявления национальности: от Афганистана до Югославии, от Албании до Японии. Зимбабве. Советский Союз. Танганьика. Все страны до единой, ныне существующие на лице земли, получили по собственному флагу, и флаги эти в идеальном созвучье столпились вместе, занимая всю ширь целой стены нашего кафетерия…
– А Заир?
– Есть.
– И Сербия?
– Рядом с Хорватией.
– А Индия?
– Слева от Пакистана.
– Босния и Герцеговина?
– Обе там.
– Эритрея?
– Да.
– Кыргызстан?
– Да.
– Палау?
– Да.
– Тайвань?
– После напряженных переговоров – да.
– Тибет?
– Да!
– Мальдивы?
– Пока – да.
– Все они на стене?
– Да! Как видите, наша рождественская вечеринка будет инклюзивным мероприятием, представляющим все организованные сообщества мира. Все различные нации, образующие наш богатый геополитический гобелен. Правительства. Расы. Этнические принадлежности. Религии. К нынешнему моменту в углу уже установлено гигантское вечнозеленое, и на этом дереве будут висеть рождественские украшения, присланные детьми со всего мира. Там будут драгоценные фигурки, вручную сделанные маленькими арапчатами в Палестине, старушками из Баварии и сиротами из сожженных деревень Вьетнама. Там будут крохотные декоративные кресла-качалки, сахарные тросточки и стеклянные шары со снегом и льдом. Украшения всех возможных вероисповеданий повиснут на ветвях вечнозеленого: мирный Будда; портрет Иисуса Христа на кресте; ухмыляющийся Мохаммед, с энтузиазмом засвечивающий большой палец; Чиннамаста, отрубившая себе голову и предлагающая ее человечеству[50]. Все дерево будет увешано гирляндами и мишурой с ангелами, тренькающими на арфах. А на вершине будет крупная звезда Давида, сияющая сверху на все это…
Пока я описывал украшения для рождественской вечеринки – ледяную скульптуру северного оленя, деревеньку из имбирных пряников с миниатюрным поездом, который через нее ездит, стол с играми, где присутствуют «Монополия» и маджонг, – друзья мои слушали, устроившись на сиденье поудобнее. Вместо настоящей вечеринки, понял я, словам моим придется служить для них опосредованным празднеством: в тепле нашего «звездного пламени» им придется довольствоваться плодами моего воспаленного воображения. И потому я описывал рождественскую вечеринку как можно точнее. Звонко интонируя, срывал пред ними покровы с празднования, что радостно ныне развертывалось, так, чтобы друзья мои пережили его во всем его буйном веселье.
– Меж тем, – говорил я, – перед той стеной, что рядом с американским флагом, стоит очень длинный стол, накрытый праздничной красной скатертью и зелеными салфетками. Скатерть свисает со стола, и края у нее нарезные. Салфетки – с оборками. На столе этом – крупная хрустальная чаша для пунша, которую наполнили яблочным сидром, корицей и мускатным орехом; рядом с сидром – кувшин яичного ликера; рядом с яичным ликером – ирисовый какао; а рядом с какао – еще две чаши праздничного пунша, один креплен ромом и колой, а другой – «прозаком» и талидомидом. И, разумеется, устроен мокрый бар…
– Мокрый бар?
– Да. Как можно праздновать Рождество без него?!
– И впрямь трудно вообразить. Не могли бы вы нам его, пожалуйста, описать?
В тиши машины мои друзья прикрыли глаза, чтобы лучше представить себе эту сцену.
– Само собой, – сказал я. – Видите ли, в предыдущей жизни Льюк Куиттлз был подающим надежды барменом и потому согласился заправлять мокрым баром. Вот прямо сейчас, покуда мы разговариваем, – в этот самый миг, когда втроем медленно катимся по этому сухому и пыльному шоссе, – Льюк стоит за стойкой в красном колпачке Санты и эльфовской жилетке, сияя, как гордый родитель. Перед ним бочонок пива, бутылки вина и фляги бурбона и рома. Там можно заказать ликеры и смешанные напитки. Будут классические коктейли, вроде пинья-колад, «маргарит», дайкири и «отверток», – но и оригинальные составы тоже, с такими экзотическими именами, как «Пылающий оргазм», «Коровий копченый глаз» и «Одичавшая математичка». Если душу трудолюбивого преподавателя общинного колледжа Коровий Мык после целой недели аккредитационной деятельности и согреет какой-то напиток, то не сомневайтесь – его вам там подадут!..
– Ну, похоже, напитки вы обеспечили. А как с рассадкой? Как вам удалось вместить столько народу в такой ограниченный сегмент времени и пространства? Кафетерий у нас не очень велик. Вообще-то он как раз довольно мал. А преподавательский состав наш расколот. Как же вы намерены это уладить?
– Все просто! Видите ли, к сему моменту все уже зашли в помещение и каждый присутствующий получил папку с персонализированной повесткой. Все распределены по небольшим группам и вынуждены сидеть с этими группами за столиками, которые тесно расставили по маленькому кафетерию. Поступив так, мы можем не давать переполненному помещению сильно поляризоваться, а нашим преподавателям и сотрудникам тем самым придется коллегиально взаимодействовать с теми коллегами, кому они бы иначе не сказали бы и сколько времени. Тем самым мы навязываем штатных преподавателей обслуживающему персоналу, а советников – дворникам. Работники бухгалтерии тоже были распределены по разным столикам, где они теперь общаются с академическими консультантами, которым приходится делать то же самое. Секретарш мы приписали к преподавательскому составу, а преподавателей – к штату поддержки. Мы даже спарим внештатных лекторов с их штатными коллегами. После тщательного планирования в каждой группе будет фигурировать представитель каждой демографической характеристики, какими мы благословлены у нас в школе. Что важно – их поделили по региональным границам так, что за каждым столиком сидеть будет по одному человеку с Севера, Юга, Востока, Запада, Северо-Востока, Юго-Запада, Северо-Запада, Юго-Востока, Старого Запада, Нового Юга, Дальнего Севера, Среднего Запада и Калифорнии. И, разумеется, за каждым столом будет присутствовать по крайней мере по одному символическому сотруднику, родившемуся и выросшему в Разъезде Коровий Мык.
– Интересно. Так вы их всех смешали согласно географии?
– Точно. Но это не все. Также мы удостоверились в том, что сведем их вместе политически, экономически и этнически. В каждой группе будет по крайней мере один «чистый» капиталист и один социалист с левым уклоном. Один центрист и один анархист. Один штатный преподаватель и один внештатный. Один белый, один азиат. Объединитель и фракционер. Католик и протестант. Сикх и индуист. Иудей и джихадист. Социолог и настоящий ученый. Вегетарианец и антивегетарианец. Интроверт и экстраверт. Изоляционист и экспансионист. Любимый и нелюбимый. Метафизик и эмпирик. Здесь мы отыщем способ свести воедино различные дихотомии мира, как истинные, так и истинноватые, – все мириады конфликтов человечества – в тугую, однако почтительную однородность. Тем самым кафетерий будет идеально уравновешен. Группы будут демографически разнообразны, однако сомкнуты общей миссией. И во имя аккредитации они воссядут друг с другом в культурной, экономической, политической, профессиональной и ведомственной гармонии за своими соответствующими столами.
– Наблюдать это должно быть интересно. Ну а потом что? Как вы намерены развлекать все эти разнообразные группы?
– И это тоже тщательно спланировано! Как только все зайдут в кафетерий, их встретят сладкие напевы джазового коллектива и камерного оркестра Коровьего Мыка, играющих знакомые рождественские песни. Мы попросили клуб эсперанто спеть праздничные гимны, а значит, я уверен, они уже запели. Вообще-то, если прислушаетесь, возможно, вам уже сейчас удастся их расслышать… медоточивые голоса… ликующая веселость. «Ĝi estas la senozo por esti gaja… – наверняка выводят они для восторженной публики в переполненном кафетерии: – …Фа-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля…»
– …ля!
– Точно. А когда допоют, к микрофону выйдет доктор Фелч и скажет…
– …Эта штука работает?!
– Именно! И затем произнесет несколько вступительных слов – нечто о том, как всем нам в общинном колледже Коровий Мык нужно работать дружно, единым коллективом, связным целым, чтобы пережить эту хуйню с аккредитацией, и все наши усилия – ради блага наших студентов. Разумеется, аккредиторы еще будут там, поэтому выразит он это не совсем такими словами – а когда закончит, он представит самих аккредиторов, которые объявят свои заключения после недели напряженной инспекции, коей только что насладились у нас в кампусе. Могу вообразить, что им захочется подсластить пилюлю, начав с положительных моментов…
– А положительные моменты – наш прекрасный кампус с его величественными фонтанами и тщательно подстриженной травой!
– И пеликанами!
– И не забывайте о множестве проектов по строительству и реконструкции, что мы ведем!
– И крякающих утках!
– …Именно. И после того, как отзвучат все эти похвалы, они сделают паузу. И вот тут посерьезнеют. Настроение в кафетерии изменится. Тут все станет напряженнее – аккредиторы перейдут к оглашению заключений своего визита. К недостаткам, ими обнаруженным. К серьезным ведомственным недочетам. К нестыковкам. К тревожным тенденциям…
– К ямбам!
– Верно. И после этого поблагодарят нас за то, что принимали их на этой неделе, и встанут со своих стульев.
– А потом?
– Ну, а потом аккредиторы быстро выйдут всей группой, чтобы успеть к автобусу, который будет их ждать, чтоб стремительно умчать из Разъезда Коровий Мык и доставить в их соответствующие общины. Выйдут они группой, и вот, когда за ними захлопнется дверь, когда с решительным щелчком задвинется защелка, все глубоко вздохнут с облегчением.
– И теперь?
– Ну, и вот теперь официальная часть празднества начнется, как всегда, с благословения. Атеисты повернутся к нему спиной, агностики пожмут плечами, а иудеи ощутят легкое возмущение в кишках. Но когда это закончится, молчаливое большинство оторвется от своей молитвы и промолвит: «Аминь!» – и тут же откроется мокрый бар, и официальная часть нашей рождественской программы сможет уже наконец начаться с церемонии вручения наград…
– Наград?
– Да. Как вам известно, общество наше обожает награды. Наград больше, чем звезд в ночном небе, они бессчетней тараканов за льдогенератором у нас в кафетерии. Награды – соломинка, коей мешаются коктейли академии. Это длинная игла, проникающая сквозь шейку восприимчивой телки и вкалываемая ей в матку, чтобы могла зачаться новая жизнь. Без наград, осмелюсь сказать, мало что будет отличать ценность наших академических вкладов от ценности тех, что делаются червями на задворках нашего кафетерия.
– Черви оказывают бесценную услугу человечеству!
– Да и академики! И потому для их признания мы проведем всеобъемлющую церемонию награждения.
– Червей?
– Академиков! Сомневаюсь, что червям такое требуется…
– А потом?
– Ну, а потом те, кто ценит награды, узнают о новых похвалах и будут оправданно впечатлены!
– Да нет, не то. Мы имели в виду, что произойдет после церемонии награждения? – Рауль глянул на часы. – Уже поздно. Солнце начинает садиться. Наши коллеги – лауреаты премий сидят в кафетерии прямо сейчас. Поэтому по окончании этого – что происходит сейчас?
– После церемонии награждения – конкурс костюмов.
– Вот это весело вроде. А вы переодеваетесь, Чарли?
– Конечно. У меня наряд в спортивной сумке, лежащей в багажнике нашей машины.
– И костюм у вас?
– Шерифа!
– Шерифа?!
– Да, из Нью-Мексико!
– А потом? После конкурса костюмов – что будет дальше?
– Дальше наступает обмен подарками.
– Тайный Санта?
– Да. А потом вылавливание яблок и раскраска лиц. Омела и макательная бочка. Набивание чулок. Катание на пони. Пиньяты. Поцелуйный киоск. Швырянье пирожками. Безмолвный аукцион и благотворительная лотерея. Караоке на праздничную тему. Массажные столы. Фотобудка. Музыкальные стулья под патриотические напевы нашего национального гимна…
– А потом?
– Ну, к сему моменту вечеринка уже будет в самом разгаре, когда большинство участников уже поглотит свои дозы алкогольных напитков и многократно их превысит. Они уже пообщались с коллегами и позанимались нечеткой диалектикой. Наговорили комплиментов костюмам друг друга. Вне всяких сомнений, угостились из крупного тазика с барбитуратами, поэтому теперь мышцы у них расслаблены, умы туманны, охрана дремлет. Несмотря на сильное желание обратного, наши преподаватели и сотрудники будут ловить себя на том, что беседуют со своими ярыми недругами. Буддист и гой. Историк и математик. Мечтатель и эмпирик. Либерал и консерватор. Поэт и профессор. Мусульманину, индуисту и англиканину не останется ничего другого – только в любовном восхищении пялиться на разнообразные украшения, свисающие со всеохватной новогодней елки. Обнимутся универсалист со специалистом. Предприниматель и метафизик пожмут друг другу руки во взаимном уважении. Даже секретарши конкурирующих факультетов ради святочной гармонии отставят личную и профессиональную вражду. Совсем немного погодя весь кафетерий возьмется за руки, встанет в круг и запоет «Тихую ночь». Уже, как видите, все вполне мило сплетется вместе. Различие. Единство. Обещание завоеванного фронтира. Пока мы втроем сидим тут в «олздмобиле», эта моя мечта осуществляется вполне безупречно…
Мои друзья снова кивнули.
– Меж тем, – продолжал я, – весь вечер будут довольно активно посещаться и кулуары. На самом деле, эти помещения будут так же многообразны, как и само состояние человечества. В одной комнате может быть устроен почетный показ художников кампуса и их работ, а в другой – выставка зоотехнии. В одной комнате состоится практическая демонстрация искусственного осеменения, оборудованная телкой в течке и перчатками по плечо. В другой – лекция по эсперанто. В третьей – глубокомысленная дискуссия по силлогистическим софизмам. В четвертой комнате – небольшом конференц-зале со скверным освещением – видный литературный агент проведет семинар для нашей кафедры английского языка по тонкостям писания запросов. Кроме того, состоятся семинары по минимизации налога на имущество. И слайд-показ о трансконтинентальной железной дороге. За пределами кафетерия десять комнат будут выделены на утоление накопившегося желанья – тихие помещения, снабженные свечами, шампанским и атласными подушками, где парочки могут уединяться с празднества для исследования своих глубинных фантазий и желаний. По очевидным причинам весь вечер эти десять комнат будут посещаться активно. И, разумеется, одна из них будет комнатой 2С[51]…
– Комнатой 2С?
– Да, видите ли, в наши дни имеется множество опасений и циркулирует немало искаженной информации. И я признаю, что у самого тут рыльце в пушку. Но где окажется наше общество без интеллектуальной пытливости? Где окажемся мы без мужества, что вдохновляет бестрепетного исследователя погружаться в темнейшие пределы наслаждения и боли? Отбрасывать любые страхи и проверять бесстрашную гипотезу? И потому в комнате 2С будут свечи и шампанское, погруженное в ведерки со льдом. Там будут картины, изображающие фрукты и венецианских гондольеров. Греческих богинь и отдыхающих нимф. Совокупляющихся античных предков и слонов, приносящих виноград. Но самое главное – там будут также лоханки смазок и разноцветных анальных бус…
– Ох ты!
– Ну да. А меж тем официальная программа будет осуществляться согласно плану. Алан Длинная Река согласился выступить с главным докладом. Клуб эсперанто споет второе отделение рождественских гимнов. Драмкружок разыграет вертеп – вместе с настоящим живым каганером[52]. Все это было скрупулезно распланировано и наверняка произойдет без сучка и задоринки на долгожданной рождественской вечеринке, что ныне имеет место у нас в кафетерии. Все это происходит в данный момент, покуда мы с вами беседуем, и продлиться должно еще несколько часов – ну или пока наш «олдзмобил» не подъедет к кафетерию.
Рауль уважительно кивнул.
– Похоже, вы внесли свою лепту с должным прилежанием, Чарли. Судя по вашим словам, они там сейчас чудесно проводят время. Не хочу этим намекнуть, что я нет – прошу не понимать меня превратно. Мне, как и кому угодно, очень нравится интерьер этого «звездного пламени». Эта виниловая обивка. Этот горб на полу между лодыжками Бесси. Солнце, льющееся через ветровое стекло. Все это вполне сопоставимо с откровением. Но теперь я лишь надеюсь, что мы успеем добраться до кафетерия вовремя, чтобы застать хотя бы часть этой вечеринки…
– Застанем! – сказал я. – Вам нужно лишь уверовать!..
Рауль кивнул.
Я ехал дальше.
– Но, Чарли, – промолвила Бесси. – Ты не упомянул одного… Одну важную вещь ты забыл упомянуть в своем видении рождественской вечеринки…
– Это какую же?
– В своем изложении ты не упомянул питание. Что ты намерен подавать гостям? Поскольку уже довольно поздно, наверняка же очередь за едой уже стоит! Так чем ты будешь их угощать? Иными словами… что будут есть твои коллеги на рождественской вечеринке, на планирование которой ты потратил столько времени и творческой энергии?
– Ах да, питание! – сказал я. – Резонный вопрос. И очень важный. Ты очень наблюдательна, Бесси. Ты очень наблюдательна, и по этой причине, я уверен, когда-нибудь у тебя все получится. Настанет день, когда ты зайдешь дальше грунтовки. Когда-нибудь тебя полюбят недвусмысленно. Отвечая на твой великолепный вопрос, Бесс, – да, я действительно разработал подробные планы на питание. И оно будет поистине фантастично. Пришлось нелегко, учитывая наложенные ограничения. Но я убежден, что придумал идеальное решение этой головоломки.
– А головоломка – в том, что ты пообещал как подавать мясо, так и не подавать? Что ты подписался и под овощи, и под их отсутствие? Что ты дал слово быть обоими этими мировоззрениями целиком?
– Верно. И я думаю, что предложил оптимальное решение. Но его я вам открыть пока не могу. Это будет особый сюрприз, известный лишь мне одному. И потому мне потребуется присутствовать там лично, чтобы самому приоткрыть завесу тайны.
– Хотите сказать, что еды там пока нет?
– Верно.
– Наш голодный преподавательский состав и сотрудники сидят в тесном кафетерии уже несколько часов с алкоголем и барбитуратами, с навязанными им профессиональными взаимодействиями… но без еды?! И ты не намерен ее им подавать, покуда мы сами туда не доедем?
– Верно.
– Хоть мы и опаздываем уже на несколько часов?
– Да. Поэтому давайте пока не будем об этом. Давайте просто сосредоточимся на дороге, что перед нами, – на той, что все ближе и ближе подводит нас к празднику человечности, которому уже несколько часов…
* * *
Сказать, что поездка в Разъезд Коровий Мык днем значительно отличается от той, что мы предприняли ночью… значит сказать, что солнце отличается от луны или свет дня от полноты мрака. Пока мы ехали – чувствовали, как солнце окутывает нашу машину, а сверкание черного асфальта вспарывает нам глаза. Вообще без сна я чувствовал, что все больше устаю, а тепло и сиянье представляли собой непреодолимое успокоительное.
– Проснись! – вопила Бесси и по пути несколько раз била меня кулаком в плечо. И всякий раз я встряхивался.
Со временем мили летели мимо, и мы из города очертя голову неслись по сельской местности, что была поначалу зеленоватой, а затем, чем ближе к Разъезду Коровий Мык, тем бурее и хрупче. Пейзаж снова преобразился, и теперь, когда снова въезжали в скотоводческий край наших начал, мы видели произошедшие перемены. Ранчо «Коровий Мык», некогда служившее эмблемой всего региона, но с тех пор впавшее в запустенье и тлен. Бывшие выпасы ранчо, на которых прежде пасся скот, но теперь вместо них блистательными и давно доказанными теоремами стояли стрип-моллы. По пути мы ощущали жар засухи и теплоту забытых излучений. Затем – приятное ощущенье воплощения на коже. И наконец хрусткую прохладу растворения дня. В семь солнце уже почти закатилось и виднелось лишь тусклое тленье света. В половине восьмого оно опустилось за горизонт целиком. В восемь вновь настала ночь. К половине девятого мы вкатились в иссушенный пейзаж котловины долины Дьява. А к без четверти девять мы уже ехали мимо дома мэра и музея Коровьего Мыка, а также мимо лавки здоровой еды на том месте, где раньше были «Елисейские поля». Ровно в девять мы проскакали через железнодорожные пути, а еще минуту спустя подъехали ко входу, где Тимми открыл ворота на весь вечер.
– В кампусе так темно, – сказал Рауль.
– И пусто, – сказала Бесси.
– Считаете, вечеринка еще идет?
– Не знаю, – ответил я. – Но, полагаю, вскоре мы это выясним…
От будки охраны я направил «звездное пламя» к кафетерию, где, к нашему облегчению, мы увидели, что вся стоянка заполнена машинами. Вдали кафетерий сиял огнями, словно остров света в море непроницаемой тьмы.
– Они еще тут! – сказал Рауль. – Вечеринка по-прежнему происходит!
Я поставил «звездное пламя» на место для инвалидов рядом со входом в кафетерий. Наконец выйдя из машины, я размял ноги и потянулся к ночному небу.
– Это была долгая поездка, – сказала Бесси.
– Это уж точно, – ответил я. – Но необходимая.
Мои друзья согласились.
– Смотрите, – сказал Рауль. – Опять совершенно темно.
Он улыбался.
– Но хоть дождь закончился, – сказала Бесси.
Она – нет.
Я кивнул им обоим.
Было четверть десятого. Передо мной у входа в кафетерий к парадной двери в темноте на ощупь пробиралась одинокая фигура.
– Кто это? – спросила Бесси.
– Не знаю, – ответил Рауль. – Похоже на индейскую вождицу…
Я фигуру опознал немедленно.
– Это же Гуэн! Она пришла! Должно быть, просто выглянула подышать свежим воздухом… – Благодарно я окликнул ее во тьме: – Эй, Гуэн! Подождите меня!..
Фигура подняла голову и вгляделась в темноту.
Схватив свою спортивную сумку, я побежал ко входу и догнал Гуэн, не успела она достичь двойных дверей, – и широко распахнул перед ней одну створку. Та качнулась, открываясь, и нас окатили внезапные звуки веселого бражничества и тепло перегретых тел.
– Прошу вас… – произнес я.
– Сначала вы… – воспротивилась она.
– Нет, вы…
– Нет, Чарли, вы! Те другие дни давно закончились!
– А, ну да, – сказал я и закинул спортивную сумку на плечо. – Чуть не забыл.
Усталые и голодные после тягот наших соответствующих странствий сквозь время и пространство, она и я стояли перед входом в кафетерий под затаившим дыхание транспарантом, приглашавшим нас на мероприятие.
– Славный транспарант, – сказала Гуэн.
Я кивнул и поблагодарил ее.
– А мне нравится ваш костюм, – сказал я.
– Я Гайавата[53].
– Да, я вижу. Великодушно с вашей стороны. То есть я очень ценю, что вы сегодня пришли.
– Сама рада.
И тут она рассмеялась:
– Это в самом деле поразительное удовольствие!
– Вы, разумеется, имеете это в виду фигурально?
– Нет, буквально. Комната 2С оправдала все мои ожидания. – Гуэн все еще робко держалась за дверь и ждала, чтобы я вошел. – Но кроме того, там было еще и много труда. Никогда не просто преодолевать застарелые предубеждения – быть открытой новым переживаниям, – и это потребовало с моей стороны значительных усилий. Но оно того несомненно стоило. Я измождена, но возбуждена. В себе я чую новое просветленье. Мир только что стал чуточку сложнее. И, боже мой, как же я проголодалась!..
С этими словами мы с нею вошли в кафетерий, где рождественская вечеринка уже подступала к кульминации.
Рождественская вечеринка
Добро пожаловать на Первый ежегодный рождественский маскарад и весеннюю экстраваганцу во имя студенческой успеваемости:
ГДЕ СХОДИТСЯ ВСЁ!
Из приветственного транспаранта над входом в кафетерийКогда двадцатого марта я сделал шаг в рождественскую экстраваганцу, официальные празднества уже завершились, превосходные алкоголи текли, как млеко и мед, а множество преподавателей и сотрудников колледжа, разодетые в богатые причудливые костюмы, уже пристрастились бродить по битком набитому помещению с различными напитками в руках; или сидеть за переполненными столиками; или валяться на массажных скамьях у выставки молочая красивейшего. Украшено помещение было в точности так, как я и предвидел, и, замечая все детали на своих законных местах, я радовался так, словно это была моя персональная победа: в дальнем углу располагалась эстрада; на эстраде стояла новогодняя елка; рядом с елкой – кресло-качалка для Санты; за креслом был домик эльфов; а из этого домика торчала труба. По всему периметру зала были разбросаны бессчетные чулки, по одному на каждого гостя, и имя каждого работника было с любовью выписано на них клеем и блестками. Меж тем в самом центре зала болтался – и кружился, как сам мир, медленно и непреклонно – дискотечный шар, отбрасывавший миллионы осколков отраженного света по всему кафетерию. Мокрый бар бурлил. У стола с рулеткой толпились. На всей стене кафетерия можно было охватить взором громадный трехцветный флаг зарождающейся демократии – все тринадцать его полос и сорок семь звезд, – а вот на стене, непосредственно напротив первой, занимая ту же самую площадь, только с меньшим единством намеренья, располагалась полная его противоположность: разнообразное лоскутное одеяло наций, представлявшее меньшие государственные образования мира.
В этой живой и хаотичной картине я воспрянул духом от того, что наши преподаватели и сотрудники явились в костюмах и общались друг с другом в беспрецедентных в истории сочетаниях: южный плантатор со своим коллегой северным промышленником; тормозной кондуктор – со штрейкбрехером; вдовствующая знатная дама – с миссионером; даже Джон Джей и Александр Гамильтон[54], похоже, примирились за оживленным столиком, где оба теперь стенали о тонкостях составления запросов и безнадежности отыскать верного литературного агента. Переходя от одной исторической эпохи к другой, я становился свидетелем потомству будущности, ныне прошедшей. Барон-разбойник[55] и крепостной слуга. Саквояжник[56]. Вымогатель. Женщина в корсете из китового уса. Прохвост, вымазанный варом и обвалянный в перьях. Рабовладелец с кнутом. Паломник. Первопроходец. Сандиниста. Одна библиотекарша из справочной библиотеки написала алым «Подлежит определению» у себя на щеке, а другая ходила везде за ней и носила картонный позорный столб[57]. Издольщик погонял своего буйвола. Хлопушка танцевала чарльстон[58]. Два ученых-бихевиориста наваксили себе лица, изображая чернокожих. Даже садовод-огородник, любивший переодеваться в женское, поучаствовал в игре, изображая застегнутого на все пуговицы и очень почтенного на вид кандидата в президенты. Вдохновленный, я поспешил в мужской туалет со своей спортивной сумкой и там переоблачился в свой собственный костюм на этот вечер: джинсы, сапоги, наштанники и «стетсон», что позволило бы определить меня как патрулирующего шерифа из Нью-Мексико. Когда все было готово, я вынул кобуру и закрепил ее у себя на талии. После чего приколол к рубашке шерифскую бляху. Аккуратно, чтобы не сбить предохранитель с его закрепленного положения, сунул позаимствованный пистолет в кобуру.
– Только будьте с ним очень осторожны! – сказала мне Этел, когда я поставил ее в известность о своем новейшем замысле костюма. Она ссудила мне антикварный пистолет, который ей отписал в своем завещании ее любимый дедушка. – Заряженный пистолет – не шутка, Чарли. Мне все равно, будь оно даже самим Рождеством! Мне безразлично, сколько единства и доброжелательности вы соберете в этом кафетерии!..
– Не беспокойтесь, – сказал я. – Ваш пистолет останется там же, где и был, – в кобуре. Он не выстрелит – это я вам обещаю!
– Ну, правило же вам известно – никогда не направляйте его ни на кого, если не намерены им воспользоваться!
Я рассмеялся в зеркало.
– Нет, в самом деле, – сказал преподаватель творческого письма, обращаясь к Мод. – Если вы приносите в прачечную-автомат этот презерватив, его чертовски лучше будет надеть!..
Я умыл лицо и принял еще одну пилюлю. Вот теперь мой костюм завершен. Я был готов к маскараду, на планирование которого потратил столько своей жизни. Впитывая все это, я ощущал, как слипается мой план, а облегчение моего наследия принимается наконец плодоносить. Наконец я видел плоды семян, которые бросил в землю. Мякоть моей неустанной подготовки.
– А вы что такое будете? – спросил меня Стэн перед зеркалом. За его спиной я видел, как закрывается дверь туалета, отсекая вечеринку снаружи.
– А кем я должен быть? Чем-то целиком, разумеется!
– Нет, не в этом смысле. Я про костюм.
– А, это. Я шериф. Из Нью-Мексико. А вы?
– Он рогоносец, – сказала Этел. – Но в хорошем смысле!
И она игриво чмокнула мужа в щеку.
– Здо́рово, Стэн. Здорово, что к такому вы относитесь с юмором.
– А что мне еще остается? И кроме того – все уже нормально. Мы с Этел снова вместе. А поскольку над этим гадом Льюком висит судебный запрет, он и большого пальца ноги не может высунуть из-за бара, который обслуживает!
Я кивнул и пробрался через толпу со своей спортивной сумкой.
С одной стороны зала расположился Расти и его бригада ученых зоотехников, одетых ковбоями. По другую сторону была Гуэн и ее собратья-неофиты в индейских нарядах.
Увидев меня в полном облачении, Гуэн громко рассмеялась.
– Можно, угадаю… – сказала она. – Вы – шериф!
– Точно.
– Из Аризоны?
– Не вполне. Это было бы преждевременно. Я из Нью-Мексико.
– Понятно. Думаю, это благоразумно. И вы знаете, кто все мы, верно?
Она показала на сторону кафетерия, где сидели ее приспешники.
– На сторонний глаз, – осмелился предположить я, – смотрится так, будто вы все оделись сборищем местной публики…
– Тепло!..
– Допотопная деревня?
– Еще теплее!..
– Сдаюсь.
– Мы – индейцы. Ясно, Чарли? Индейцы!
– Ясно. Хотя в этом определенно сквозит парадокс. А кроме того, их уже не следует называть индейцами, знаете. Правильнее о них теперь говорят – американские индейцы, а еще лучше – коренные американцы…
Гуэн поправила перо, торчащее у нее из головного убора.
– Как угодно, – сказала она. И добавила: – Между прочим, сейчас я еще больше проголодалась, чем полчаса назад, когда мы с вами вместе сюда вошли. Когда еда будет?
– Очень скоро.
– Надеюсь. Мы все умираем с голоду!
Я кивнул. Несколько минут спустя я столкнулся с Расти у писсуара.
– Славная вечеринка! – сказал он, хотя рука у него была на перевязи, и он с трудом управлялся с молнией.
– Спасибо, – ответил я. – Что у вас с рукой?
– Долгая история…
– Они тут обычно таковы!
– И я не хочу в нее пускаться.
– Понимаю. Имейте, пожалуйста, в виду: я очень ценю, что вы сюда пришли сегодня. И, мне кажется, здорово, что вы и другие преподаватели кафедры зоотехнии выбрали одеться в ковбоев!
– Это в каком смысле?
– Вы же играете роли ковбоев, верно? Ковбойские сапоги. Шляпа. Джинсы и рубашки в клеточку. Галстук-шнурок опять же!..
– Я не понимаю, о чем вы. Никто никуда не переодевался…
Похоже, он обиделся. Я извинился, и Расти ушел обратно, сидеть со своими коллегами.
В мужском туалете воздух был влажен и пахуч от ароматических подкладок писсуара. Костюм мой лежал нетронутым в спортивной сумке.
– Вы еще здесь? – спросил Рауль. – Мне казалось, вы собираетесь надеть костюм.
– Собираюсь.
– Так сколько же на это нужно времени? Уже больше тридцати минут прошло с тех пор, как вы сюда зашли. Бесси заметила, что вас нет. Я подумал, стоит сходить проверить…
– Правда? Время летит, не так ли?
– У вас все нормально?
– Конечно, все. А почему вы спрашиваете?
– Вы какой-то отсутствующий. Глаза у вас уже не красные, а хрустально-ясные – и это в нехорошем смысле. Как будто они лужицы прозрачной воды, в которых видны мрачнейшие глубины человеческого страданья. Держитесь вы спокойно и сдержанно. На вас это совсем не похоже, Чарли. Это меня и настораживает.
– Со мной все прекрасно, Рауль. Ценю вашу заботу. Но мне просто нужно приготовить свой костюм, чтобы я смог влиться в вечеринку…
– Этот пистолет у вас заряжен? Тот, что по-прежнему лежит у вас вон в той спортивной сумке?
– Да, заряжен. Клево, не?
– Наверное. Только будьте с ним осторожны. Знаете же, что говорят о заряженном огнестрельном оружии и добрых намерениях. Так или иначе, наверное, мы с вами увидимся снаружи в кафетерии, когда переоденетесь…
Через несколько минут Бесси и Рауль подошли к тому месту, где я стоял у входа под приветственным транспарантом:
– Отлично смотрится вечеринка, Чарли!
– Спасибо, – сказал я. – Я действительно вложил в нее много планирования.
– Мы в курсе. А когда вы собираетесь переодеваться в свой костюм?
– Очень скоро. Он у меня с собой, вот в этой спортивной сумке…
Бесси ушла взять себе пива, а когда вернулась, мы втроем обозрели оживленную сцену.
– Кто это? – спросил я.
– Это один из Димуиддлов, – сказала она.
– А вон тот молодой человек с наладонным электронным приспособлением?
– Президент нашего студенчества, будущее и судьба нашего общества.
– А девушка с ним рядом? Та, что с младенцем?
– Это дочь-подросток Расти. По-прежнему утверждает, что зачатие было непорочным.
– А та фигура, вон там? Мрачная такая, сидит сам по себе?
– Это человек из «Елисейских полей». Вы с ним познакомились, когда ты только приехал в город.
– Я его почти не узнал. Он так постарел!
– Ну да, время и впрямь летит. А молодость приходит и уходит…
Я плеснул еще немного воды себе в лицо.
Когда я вернулся на вечеринку, веселье уже стало всепоглощающим. В слабом свете меноры накаливания ко мне впервые подошел доктор Фелч. Он был одет Санта-Клаусом, и от слов его разило выпивкой, бубенчик на верхушке его колпака несколько перекосился, липовая борода слегка съехала набекрень.
– Иисусе-блядь-Христе! – воскликнул он. – Вы где это, к чертовой матери, были?!
Бесси улыбнулась своему бывшему мужу и легонько чмокнула его в щеку.
– С праздничком, Билл, – сказала она. – Милая шапочка!
– Добрый вечер, сэр! – добавил Рауль. – И feliz navidad![59]
– Ага, ну и вам frère jaques по тому же месту…[60]
Бесси обогнула бывшего мужа назад в людный кафетерий. Рауль, похлопав доктора Фелча по плечу и пожелав ему веселого Рождества по-английски, последовал за ней, и они вдвоем быстро растворились в бурлящей толпе.
Снова повернувшись к доктору Фелчу, я сказал:
– Мне не на шутку жаль, что я так опоздал, сэр. Но нужно было навестить Уилла в его миг нужды.
– Вы же говорили, что вернетесь к полудню!
– Таков был мой план, да. Но нам в итоге пришлось задержаться гораздо дольше, чем я предвидел. Мы вынуждены были остаться вплоть до середины дня – сильно за два часа фактически, – чтобы выяснить, как закончится мировая история.
– И как же она закончится?
– Результативно.
– Ну, все это хорошо и прекрасно. Но зачем вы забрали с собой в это свое приключение Бесси? Я без нее не мог найти своего чертова блокнота с заметками, что вы мне оставили. А без заметок пришлось все подымать на крыло по памяти и интуицией. Я вынужден был импровизировать повестку дня на каждом шагу…
И тут доктор Фелч рассказал мне, как – по памяти – он открыл вечеринку воодушевляющим благословеньем, за которым – интуитивно – последовало открытие мокрого бара. Оттуда он перешел непосредственно к вылавливанию яблок и музыкальным стульям. Затем – к пиньятам и катаньям на пони. Макательная бочка. Метание колец. В какой-то момент он вспомнил, что надо бы вернуться к присуждению наград и конкурсу костюмов – и в самый последний миг даже совместил эти два рода деятельности в единое мероприятие, вдохновенно с организационной результативностью приняв единоличное административное решенье. Затем последовали воодушевляющие исполнения под караоке, массаж ног, поцелуйный киоск под омелой.
– Сизифов труд, всю дорогу, – вздохнул он.
Я кивнул.
– Вы и понятия не имеете, до чего трудно отыскать омелу в Коровьем Мыке!
Я снова кивнул.
– Не говоря уже про священника, чтобы благословил менору.
Мы еще немного поговорили. Наконец я мучительно сглотнул и сказал:
– Извините меня, сэр, но мне нужно в уборную – переодеться в костюм…
Когда я вернулся, доктор Фелч стоял на том же месте и беседовал с секретаршей.
– Это, что ли, аккредитор вон там? – спросил я.
– Он самый. Они опоздали на автобус. Поэтому веселиться и праздновать сегодня будут вместе с нами.
– Ох нет!
– Ох да. И не только они. Вон там у вас наследники Димуиддлов. А там – почасовики. За тем столом у стены, рядом с дыркой для анонимного отсоса, сидят вожаки нашего студенчества. А напротив них – стол для сановников с мэром и его супругой, с главным инженером округа, тренером местной футбольной команды старшеклассников, его племянницей и тремя преуспевающими выпускниками, которые ныне управляют собственными заведениями в Предместье. В таком маленьком кафетерии многообразия, как видите, прорва. И до черта инклюзивности, Чарли. О, и еще Мерну вы упустили. Она ушла за несколько минут до вашего прихода…
– Здесь была Мерна Ли? Но я же думал, она умерла?
– Умерла?! С чего это вы так решили?
– Ну, все говорят о ней все время так, будто она покойница. Помните, вы еще все устроили ей душещипательные поминки у реки? Вы даже развеивали ее пепел!..
– Ничего она не умерла – боже мой, Чарли, – она на пенсии! Несмотря на некоторое пересечение, эти два понятия довольно различны…
– Но как же быть с поминками, что вы по ней устроили? К чему проводить поминки по человеку, который еще жив?!
– А почему ж нет? Или нам следует вспоминать только покойников? Разве не должны мы с той же степенью нежности помнить и живущих? Почему нам обязательно нужно ждать, пока что-то уйдет в историю, прежде чем мы с любовью отдадим ему дань?
– Наверное, в этом есть смысл.
– Само собой, есть! То есть не к этому ли стремится вся последовательная литература?
– Откуда мне знать? Но как же пепел… как вы объясните его?
– Мерна всю жизнь курила и хранила огромную урну пепла – накопившегося за сорок лет, – на полу у себя в кабинете. И вот мы наконец помогли ей, развеяли его – в тот вечер у реки.
– Понятно.
– А вы это пропустили.
– Верно.
– Так же, как и сегодня вечером упустили ее.
– Верно.
– Вы много всего, Чарли. Но поскольку при этом вы ничто не целиком, то и пропускаете в этой жизни так много.
– Я знаю. И мне действительно очень жаль. Я пытался доехать сюда вовремя. Но, кроме того, я понимаю, что в жизни существует такое, что попросту гораздо важнее…
– Времени?
– Да.
– Например, что?
– Например, тьма.
– И?
– И дождь.
– И?
– И любовь.
– И?!
– И звезды в небе. Все это поистине важно, доктор Фелч. Жизнь в Коровьем Мыке научила меня все это ценить. Живя тут, я постепенно выучил этот урок – мучительно…
– Может, оно и так. Но я думал, вы в костюм свой переоденетесь…
– А я нет?
– Очевидно, нет. Вы по-прежнему в том, что надевали в город…
– Правда?
– Чарли, вы по-прежнему те пилюли принимаете?
– О да.
– Обе?
– О нет! Я теперь пью только одну.
– Ту, от которой засыпать?
– Полагаю, да. Хотя с какой-либо определенностью сейчас трудно сказать. В данный момент оно все как-то мешается вместе.
– Так или иначе, не забудьте про костюм. Только что группой заявилась кафедра математики. И мне нужно еще сделать для всех важное объявление.
Я схватил спортивную сумку и вернулся в мужскую уборную, где доктор Фелч уже стоял рядом с дозатором бумажных полотенец.
– Миленькие у вас сапоги! – сказал он.
– Спасибо, – ответил я. – Но как вам удалось так быстро сюда зайти? Как вы обогнали меня к дозатору полотенец?
– Вы это о чем? Я только что вошел. А до этого пятнадцать минут жал руки всем присутствующим.
– Но!..
– Чарли, вы, похоже, как-то тормозите, друг мой. Судя по виду, вы теряете власть над тем, что вас окружает.
– Это совершенно возможно. Пилюля, которую я принимаю… она… видимо, действует…
– Хорошо. Будем надеяться, она принесет вам заслуженный сон…
Доктор Фелч оторвал от дозатора полотенце.
– Кстати, а когда будет еда?
– Скоро.
– Как скоро?
– Очень скоро!
– Ну, вам имело бы смысл известить всех о том, что происходит, или пиши пропало. Уже почти десять, а люди в этом помещении с шести. Некоторые даже дольше! Тут просто яблоку негде упасть. Они сбились сюда, как скот в раскол для скота. Как патроны в коробке с патронами. Как куски мела в коробке, содержащей много кусков мела. В помещении потно и тепло от недостатка вентиляции. В костюмах жарко. Ваши коллеги устали и очень голодны. Чарли, если вы не предоставите им еды – или хотя бы не пообещаете им еды, – у нас случится бунт!..
– Но…
– …или восстание!..
– Но я…
– Чарли, послушайте меня! Я сейчас готовлю завершающие штрихи своего объявления, которое намерен сделать, раз кафедра математики в нарядах римских сенаторов явилась в полном составе. Меж тем вам лучше бы что-то сказать публике. Скажите что-нибудь, способное ослабить напряжение. Утолить муки голода. Успокоить растущие сомненья. Давайте. Микрофон вон там…
Доктор Фелч скомкал бумажное полотенце, кинул его в урну и вышел.
Я кивнул…
– Есть, сэр, – сказал я.
Когда дверь за ним закрылась, я вынул из кармана рубашки пузырек, открутил крышечку и вытряс пилюлю. Закинув назад голову, я опустил ее себе в горло и запил водой из крана.
– Ладно, – сказал я себе. – Пора сообщить всем, что происходит!..
Усталый и ошалевший, я выбрался из туалета к микрофону в передней части кафетерия. Микрофон был холоден и громко фукнул, когда я его включил.
* * *
– Добрый вечер! – сказал я. – Добрый вечер всем, и добро пожаловать на наш Первый ежегодный весенний маскарад и рождественскую экстраваганцу во имя преподавательского единства и студенческой успеваемости. Также известный как ежегодная рождественская вечеринка общинного колледжа Коровий Мык… Спасибо всем вам за то, что пришли…
Тут я стер слюну, набежавшую у меня из уголка рта. После чего выключил кран над раковиной в уборной и продолжил:
– …Я знаю, уже довольно поздно и все вы очень голодны. Поэтому я просто хотел бы заверить всех вас, что еда на подходе. Поставщику был дан зеленый свет, и поэтому вся еда, какую мы заказали, должна прибыть с минуты на минуту. А если конкретнее, то меня попросили передать вам, что она будет здесь самое позднее к одиннадцати…
– К одиннадцати?!
– Да, к одиннадцати.
– Вечера или утра?
– Очень смешно, Макс. Вечера, само собой. Поэтому прошу всех вас сохранять терпение. Это непросто и для меня. Как вам, вероятно, уже известно, толком я высыпался ночью много месяцев назад. И много дней прошло с тех пор, как я вообще смежал очи. Однако я сейчас стою перед вами. Вот он я, в мужском туалете, в костюме шерифа. Вот я пасу эту рождественскую вечеринку, ведя ее к успешному разрешению. В одиннадцать еда будет здесь – даю вам слово. И она будет стоить своего ожидания. Событием это станет радостным. Причиной отпраздновать. Личной победой вопреки ошеломляющему всему. Меж тем хочу вас призвать воспользоваться этой возможностью, чтобы в этом переполненном кафетерии узнать друг друга получше. Либо, если предпочитаете, в какой-нибудь из десяти экзотических комнат, которые мы оборудовали для вашего наслаждения. Пока ждете, вы с таким же успехом можете беспрестанно беседовать со множеством людей, которым раньше не сказали бы и сколько времени. А уж если вы зашли настолько далеко, тут уж можно и познать их иными способами! В библейском, например, смысле. Как видите, для особенно близких знакомств мы и устроили те самые десять экзотических комнат для вашего наслаждения. А для людей более авантюрного склада у нас есть комната 2С. Более того, я призываю вас к посещению мокрого бара и стола с пуншем – на протяжении всего нынешнего вечера. Угощайтесь, пожалуйста, из тазиков разноцветных барбитуратов и амфетаминов, размещенных по всему залу на видных местах. Не пропускайте, когда до вас дойдет марихуана, передаваемая по кругу. Или дорожки кокаина, тщательно разложенные подобно сельским автодорогам по всему нашему огромному континенту. Или ЛСД и героин, доступные под табличкой «НЕ КУРИТЬ» вон там. (Только не забывайте, публика, что у нас бестабачный кампус!) О, и пока вы этим заняты, не пренебрегайте принимать лекарства, выписанные вам по рецепту, и запивать их каким-нибудь запретительным законодательством. «Прозак». Витамины. «Риталин» и «Виагру». Предписания о знаках и законы о поводках для собак. После такого количества планирования и подготовки здорово знать, что мои донкихотские планы становятся наблюдаемой реальностью. Здорово видеть, как они обретают плоть в виде этой долгожданной рождественской вечеринки. И потому – да, я сам намерен отпраздновать мой собственный успех, причастившись составами Льюка, вон там, в мокром баре. Я намерен пить их с энтузиазмом. И без разбора. И я собираюсь запивать ими эту свою поразительную пилюлю, которую принимал и которая помогла мне держаться на ногах так долго. Эта пилюля не даст мне заснуть – вечно! Все это я намерен сделать. Но сперва мне бы хотелось упомянуть тех, кто помог мне в достижении этого успеха. Есть люди, без помощи которых все это многообразие и инклюзивность были бы невозможны… Для успешной организации рождественской вечеринки нужно всякое. Как всякие типы личностей нужны для управления общинным колледжем на грани краха. Как из всяких типов хомо сапиенс соткан этот богатый гобелен человеческого опыта, что свивает нас в нашей человечности!..
И вот так, перекрикивая болбочущую публику, – они вообще меня слушали? – я поблагодарил доктора Фелча за то, что привез меня в Коровий Мык и доверил мне планировать эту рождественскую вечеринку как верное средство возродить мое наследие после стольких неудачных попыток. И, разумеется, за то, что дал мне пачку двадцатидолларовых банкнот, которая, как я узнал впоследствии, поступила вовсе не из официальных фондов, а скорее с его личного пенсионного счета.
Я умолк, позволяя затихнуть жидким аплодисментам. Затем сказал:
– И, конечно же, необходимо поблагодарить Бесси и Рауля за то, что сопровождали меня в моей поездке навестить Уилла Смиткоута в его миг нужды. То было долгое путешествие, спору нет, но теперь я чувствую себя несравнимо более осведомленным о мире, в котором мы живем. О Природе тьмы. И о засухе. О нашей общей истории и одиноких будущностях. И, само собой, теперь я гораздо более натаскан в различии между мужским и женским оргазмами. Знайте, пожалуйста, что эта жертва стоила ожидания, и я буду тихонько стучаться в ее парадную дверь отсюда и далее. О, и еще вы наверняка обрадуетесь, узнав, что у профессора Смиткоута все прекрасно – в общем и целом. У него все отлично, и он шлет всем вам теплые приветы!..
– Правда?!
– Не буквально, конечно. Но неким околичным путем, я уверен, он по всем вам очень скучает…
Я умолк, чтобы посмотреть на доктора Фелча, ожидавшего за кулисами.
– И, кстати, о скученности, – сказал я. – С противоположного конца кафетерия, куда вы сами некогда вошли на эту вечеринку несколько часов назад, мне сообщают, что я могу передать вам радостную новость. Мне дают понять, что мы только что достигли сегодня вечером стопроцентной явки! Вот именно, публика… только что прибыла кафедра математики! Преподаватели мужского пола одеты римскими сенаторами. Учителя женского пола – соблазнительными кошачьими. Все это означает, что впервые за долгую и легендарную историю общинного колледжа Коровий Мык – с первых двух коров, что вообще бродили по лику земли, и до эпохи меня, стоящего здесь перед вами в ступоре сонной депривации, – мы добились стопроцентной вовлеченности в важное образовательное предприятие. У нас теперь смычка на этой вечеринке – сто процентов, дамы и господа! И потому позвольте мне первым всех вас с этим поздравить! Да, тут нужны поздравления! И раз с этим теперь покончено, мы готовы перейти к доктору Фелчу, у которого есть важное объявление для всего переполненного кафетерия. Для профессуры – лауреатов премий. В доме, не разделившемся на ся[61]. Как видите, вечеринка эта уже начинает обретать очертания полного и тщательного успеха!..
Я снова сделал паузу.
– Сэр? Вы готовы сделать свое объявление?
Доктор Фелч кивнул и подошел к подиуму. Приняв от меня микрофон, он сказал:
– Благодарю вас, Чарли!
На фоне жужжала обогревательная батарея, диско-шар продолжал отбрасывать по всему залу отражения, я праздновал в уме веху стопроцентной явки, а доктор Фелч откашлялся, чтобы начать свою речь.
– Друзья и сограждане, – начал он. – Друзья и граждане общинного колледжа Коровий Мык, сегодня я обращаюсь к вам не как президент вашего колледжа, а как простой – и очень смиренный – человек…
* * *
Не успел он завершить эту фразу, как из публики донеслась очередь выкриков:
– Он не работает! – кричали в аудитории.
– Что? – сказал доктор Фелч.
– Микрофон… не работает! Мы ничего не слышим!..
– Бесси!!!
Вперед проворно выступила Бесси и включила микрофон. Доктор Фелч ее поблагодарил. Публика зааплодировала. И вот теперь, при включенном микрофоне, с вращающимся диско-шаром и липовой бородой Санты, что покачивалась в такт его словам, доктор Фелч начал свою важную речь вторично.
* * *
– Ладно, давайте попробуем еще разок… – сказал он. – Друзья и сограждане! Уважаемые коллеги! Жители Разъезда Коровий Мык – как штатные, так и внештатные! Вы меня слышите? Эта штука работает? Правда? Здорово! Мои собратья – работники образования, сегодня я обращаюсь к вам не как президент колледжа, а как простой человек. Последние тридцать лет, видите ли, мне выпала особая честь быть вашим покорным слугой. Всю свою жизнь я посвятил службе обществу в этом несравненном высшем учебном заведении – сначала как почасовик на кафедре зоотехнии, затем как штатный преподаватель и заведующий кафедрой и, наконец, как почтенный президент вашего колледжа и его исполнительный директор. Здесь я провел много великолепных лет и уверяю вас – это период моей жизни, на который я всегда буду оглядываться с самыми нежными воспоминаниями…
Доктор Фелч сверился со своими записями, затем продолжал:
– …В последнее время мне со всевозрастающей настойчивостью стало приходить на ум, что мир, в котором мы живем, как это с ним так часто имеет склонность бывать, – меняется. Что наш мир становится еще более будоражащим и сложным местом – сложным и будоражащим в том смысле, какой был бы непредставим еще поколение назад. А также мне пришло в голову, что постичь это человеку вроде меня трудно. И что с этими нежданными волненьями и множеством новомодных сложностей, что взметываются, как мухи из мусорных баков на задворках кафетерия, дело иметь придется поколеньям молодых людей поновее и женщинами помоложе. Приходит такое время, когда все люди должны достичь этого понимания. И я его достиг. Есть такое время, когда всем нам следует смириться с подобными реалиями. И я с ними смирился. Поверьте, я часто задумывался в свой черед о том, не переехать ли к тому мирному жилью, что ожидает меня в старом районе Разъезда Коровий Мык, где пастбища еще не перекопаны. Да, я частенько подумывал оставить академическую сцену. Год назад я даже дошел до того, чтобы написать черновик объявления, подобного тому, какое делаю сейчас. Но обсудив этот вопрос с моей последней женой и после небольшого дополнительного размышления о замысловатых делах нашего колледжа в тот период – неотвратимом визите аккредитационной комиссии, неразрешенной дилемме рождественской вечеринки, неспособности собрать воедино наш расколотый преподавательский состав под знаменем общего виденья нашего будущего, – я решил оставить эту мысль. И теперь я в последний раз стою перед вами как ваш покорный президент: нынешний и вскорости уже бывший президент общинного колледжа Коровий Мык…
Тут доктор Фелч извлек носовой платок и стер пот со лба. Затем продолжил:
– …На этом пути, друзья мои, мы вместе достигли поразительного. Расширения нашей программы гуманитарных наук. Перекрытия крыши библиотеки. Электрических пишущих машинок на подавляющем большинстве наших кафедр. Многократного возрастания приема студентов и роста нашего влияния, выходящего далеко за границы пустыря, на котором ныне стоит наша пасека. За годы мы свернули горы и перенаправили реки. Мы покорили континент и его приложения. Мы усмирили буйства природы. Черт, даже луна лично перед нами прогнулась. Короче говоря, время, что я провел с вами, было для меня наслажденьем – причем, мне бы хотелось думать, небесплодным. Оглядываясь на сумму всей моей долгой работы в штате, я бы хотел считать, что оставляю наш колледж в лучшем положении, – или, по крайней мере, не в таком шатком, – нежели то, в каком вы все оказались несколько мгновений назад в комнате 2С…
Доктор Фелч оторвался от своего конспекта.
– Шутка! – произнес он. После чего: – …А если серьезно, я бы хотел считать, что оставляю наш колледж в лучшем положении, – или, по крайней мере, не в таком шатком, – нежели то, в каком так давно он перешел по наследству ко мне. Разумеется, невозможно было б, учитывая наши смертные несовершенства, полностью избежать по пути ошибок. И таков, определенно, наш случай. Да, друзья мои, мы допускали множество ошибок, идя по извилистой тропе к непрерывному улучшению. Ибо вдоль тропы этой мы сеяли семена, которые сами же потом затаптывали в землю. Мы активно пожинали собственные заслуженные награды – лишь для того, чтобы затем смотреть, как эти обильные урожаи гниют в железнодорожных вагонах или погребаются в массовых захоронениях во имя стабилизации рыночных цен. Мы отмахивались от наших коренных языков в пользу тех, что к нам пришли из-за границы. Мы отправляли наших сынов и дочерей – боже мой, а сколько наших сынов мы отлучили от дома? – во все концы нашей необъятной раскидистой родины, и большинство их никогда больше к нам не вернулось. И, разумеется, бывали отдельные примеры бесчестья: заход на сою[62]; повинность[63] и нуллификация[64]; множество безосновательных судебных дел и разбирательств с ними во внесудебном порядке; шестое и восьмое августа соответственно[65]; ну и, конечно, небрежная реконструкция нашего кампуса после великого землетрясения и пожара двадцать шесть лет назад. Да, все это – правда. Все это – правда, друзья мои! Но если нам оглянуться всем вместе, надеюсь, вы согласитесь: какие бы то ни было ошибки, допущенные по пути, – сколь вопиющими они б ни казались, – делались не намеренно, а скорее – в лучших интересах нашего любимого колледжа…
При этом доктор Фелч снял с носа очки для чтения. Вынув из кармана тот же носовой платок, он стер некоторую влагу, скопившуюся у него на глазах, после чего высморкался.
– Прошу прощения, – сказал он. – Мне нелегко. Прошло уже тридцать лет, и, пробыв здесь так долго, я чувствую, что уделил этому колледжу отнюдь не малую часть самого себя. В этом кампусе нет ни дюйма почвы, по которому я лично бы не прошел. Нет ни единого проекта, которым бы я так или иначе не занимался. Нет ни единого замысла, внедренного в этом кампусе, на, по крайней мере, двенадцати заседаниях по обсуждению которого я бы не бывал. Когда я говорю вам, что за последние тридцать лет я отдал нашему прекрасному колледжу всё, – верьте мне. Свое сердце. Свою душу. Свою мужскую силу. Три своих брака. Я пожертвовал нашему учебному заведению всю свою человечность, до последней унции. Общинному колледжу Коровий Мык. Всем вам. И это поистине было великой привилегией и честью для меня.
На этом доктор Фелч умолк. В безмолвии кафетерия было слышно, как в кухне завелся льдогенератор.
– И на этом, вероятно, мне следует умолкнуть…
Доктор Фелч сделал паузу, чтобы его слова лучше дошли.
Но, разумеется, не умолк.
* * *
– …На этом, вероятно, мне следует умолкнуть. Однако долг призывает меня оставить вам несколько последних моих соображений, что могут хоть как-то помочь вашему поколению, пока оно движется вперед сквозь время и пространство. Видите ли, каждый из вас в бесконечном вашем многообразии составляет богатую культурную ткань общинного колледжа Коровий Мык. Ваша сила – в вашем коллективном единстве. И для вас это так же истинно, пусть и родом вы с Севера, Юга, Востока, Запада, Северо-востока, Юго-запада, Северо-запада, Юго-востока, Старого Запада, Нового Юга, Крайнего Севера, Среднего Запада или даже такого далекого места – столь вневременного и невыразимого, – как Калифорния. Вы – производные уникальных переживаний, что вылепили вас. Но пусть географические различия вас не разделяют. Да и ваши разнообразные происхождения. И ваши духовные убежденья. И ваша религия. И ваши политические наклонности. И класс. И раса. И пол. И сексуальная ориентация. И даже сектантская преданность, которую вы так исправно – и вполне объяснимо – испытываете к своим соответствующим академическим дисциплинам. Не позволяйте всем этим затеям мешать великой любви, какую вы питаете к своему ведомству, – любви, что смыкает всех вас как преподавателей и сотрудников общинного колледжа Коровий Мык…
Тут доктор Фелч посерьезнел, а голос у него зазвучал еще глубже и суровей:
– …Не раз отмечалось – и не только мною, – что в истории человечества роль партий особенно вопиюща. Их существование служит лишь розжигу внутренних различий, что делят нас. Вбиванию клина в щели наших сердец. Делению нашего кафетерия на фракции: эта часть людного помещения для ковбоев, а та – для индейцев. Сегодня вечером, однако, мы стоим на пороге новой эры. Ибо сегодня мы стали свидетелями новой разновидности вечеринки. Той, что открыта инклюзивности. Такой вечеринки, что не разделяет, а, наоборот, смыкает. Вечеринки, что говорит миру: да, преподавательский состав всех вообразимых сортов действительно способен сосуществовать в гармонии и самоуважении в зеленеющем кампусе даже самого незначительного общинного колледжа…
…По мере того как вы продвигаетесь к исполнению вашей региональной аккредитации – и нет, я не смогу завершить это путешествие вместе с вами, – убедитесь, что вы поддерживаете добрые отношения и гармонию со всеми, кого встречаете по пути. Избегайте губительных альянсов и привязанностей. Любите Бога. Доверяйте любви. Поклоняйтесь миру. Платите налоги, чтобы настал день, когда мы сможем располагать внушительным военным присутствием по всему миру. Выполняйте все это, и остальное приложится само собой – даже самая пагубная заявка на региональную аккредитацию…
Голос доктора Фелча уже ослаб – он чуть ли не дрожал.
– …Предлагая вам, мои собратья-коллеги, эти советы старого и любящего вас друга, я не осмеливаюсь надеяться, что они окажут на вас сильное или длительное впечатление. Но если же такое случится – что ж, это будет супер-пупер, а? Хотя в конечном итоге решать вам. Следующему поколению выпадет на долю ввести наш колледж в его сияющее будущее. И потому с тяжестью на сердце и щепотью табака у себя под нижней губой я желаю вам всего наилучшего в будущем. Это были славные тридцать лет, друзья мои. А теперь остается лишь попрощаться с вами последним адьё.
Эти слова отставки еще висели в воздухе, а доктор Фелч уже сделал шаг прочь от микрофона и медленно скрылся в толпе.
* * *
{…}
Как множество вещей в жизни, сама возможность отступить сводится к правильному выбору момента. И решению это придает беспокойства. По-новому изумленный давний президент общинного колледжа может остаться и дальше слепо совершать знакомые телодвижения, что привели его к данной точке во времени и пространстве, а может, напротив, покончить с ними раз и навсегда. Но вот когда? Такой вопрос смущал и самые дипломированные мировые умы. Ибо ни «почему», ни «как» не способны поставить в тупик администратора в области образования, как вечный вопрос: когда?
{…}
* * *
После напутствия доктора Фелча настроение в кафетерии изменилось с наэлектризованного до подавленного. Потрясение от объявленья пришло и прошло, и его место заняли общая отупелость и принятие. Долг свой исполняли, возможно, и барбитураты. А то и мятный шнапс. Стоя у мокрого бара, я впитывал все – особенно мятный шнапс.
– Спасибо, что встали сегодня за бар, Льюк. Я правда очень это ценю.
– Не стоит, Чарли. Это просвещает.
– Все приняли на грудь свою порцию напитков?
– Да еще и с добавкой!
– Я рад.
– Все, кроме вас. Что будете?
– Я открыт предложениям. Что порекомендуете?
– Еда на подходе, верно? Может, тогда аперитив, пока ждем? Вы открыты вермуту?
– Можно и так сказать.
Льюк налил выпивку в пластиковый стаканчик и вручил его мне:
– Но вам, может, стоит пить его медленно. Кусучая она тварь!
Я выпил тварь медленно. А допив, поблагодарил Льюка за совет.
– Не хотите присесть или как-то? – рассмеялся он. – Вы уже тут довольно долго стоите!
– Нет, спасибо. Я лучше постою, если вы не против…
И я постоял. И, стоя с долькой лайма в руке, я поддерживал коллегиальный треп с сотрудниками.
– Текилу пьете, Чарли? – подмигивал мне прохожий.
– Можно и так сказать! – отвечал я и заглатывал наблюдаемое одним махом.
– А как насчет коньяку?
– Так тоже можно сказать!
– А джина?
– Да!
– А рома?
– Да!
– А хереса?
– Да!
– А зиваньи?
– Да!
– И медовухи?
– Да!
– А пульке? А кумыса? А байцзю?
– О да! Я открыт им всем!
И вот так за следующие несколько минут я принял все приглашения, мне поступившие. Мятный шнапс. Прыгучие кузнечики. Кровавый мартини. Когда Ванцетти предложил мне «маргариту», я принял. А когда Сакко протянул мне джин с тоником, – не отказался[66]. Когда минитмен[67] предложил мне на выбор либо сладкое вино, либо сухое, я выбрал оба. Когда судьи Байрон и Хьюго[68] налили мне цветастого коктейля, я сделал все, чтобы проглотить его со смаком. А когда Бетси Росс[69] встала на лесенку и добавила новую звезду к большому флагу на стене – теперь там стало тринадцать полос и сорок восемь звезд, – я поднял по этому поводу тост стаканом скотча в одной руке и кружкой грога в другой. Таким манером я пил и крепкие напитки, и мягкие. И цитрусовые, и молочные. Счастливо пил. Пил без разбору. Исполнительно и устало, бурливо и сонно, исторически и кротко – я пил.
– А вы будете?.. – спросил я у коллеги в маскарадном костюме, проходившего мимо.
– Угадайте с трех попыток! – сказал Сэм Миддлтон.
– Абрахам Линкольн?
– Нет!
– Джон К. Кэлхун?[70]
– Нет!
– Маркус Гарви?[71]
– Холоднее!
– Тогда сдаюсь…
– Я Джеффри Чосер!
– Ой, ну да. Следовало понять…
– А вы? – спросила этичка.
– Я шериф, – ответил я.
– Из Нью-Мексико?
– Да.
– Я туда как-то ездила. Там было лучше, чем в Северной Дакоте, но не совсем как в Южной…
– Вот оно что?
– Да.
– Ну, я-то не бывал ни там, ни там.
– Это ничего. У вас еще все впереди…
– Правда?
– Да. Вам предстоит еще добрый десяток лет, чтоб оставить по себе какое-то наследие.
– Надеюсь, вы правы. А тем временем – что это вот?
– Что что вот?
– Этот перезвон?
– Какой перезвон?
– Неужели не слышите? Этот легкий перезвон, что разносится по всему кафетерию? Этот настойчивый похоронный звон, что, невзирая ни на какие научные принципы, заглушает собой гораздо более громкие аккорды несправедливости?
– Это своевременный и нежный лязг игры на треугольнике.
– Алан Длинная Река!
– Да.
– Он читает свой основной доклад!
– Да.
– Как это прекрасно!
– Да, оно так…
– Давайте послушаем, а?
И поэтому мы с ней послушали.
– Но Чарли? – сказала эсперантистка, когда доклад Длинной Реки был прочитан.
– Да?
– Вы так и не ответили на самый осмысленный вопрос из всех?
– О еде? Она на подходе… Честное слово!
– Нет, не о ней.
– О чем тогда?
– О любви, Чарли!
– О любви?
– Да! Что это?
– Вы у меня сейчас об этом спрашиваете? Когда у меня в руке этот кровавый май-тай?
– Да, Чарли. С тех пор, как вы здесь, мы слышали, как Уилл Смиткоут рассказывает нам, какой бы могла быть любовь, а доктор Фелч – какой она была. От Гуэн мы слышали, какой она не должна быть, а от Расти – что она не. Мы даже внимали, когда аккредиторы излагали нам, какой любви необходимо быть, если мы ходим получить возможность возобновить себе региональную аккредитацию. Но в конце концов, в конечном-то итоге, мы по-прежнему не слышали ни от кого, что она такое!
Я кивнул.
– Чарли, вы не могли бы нам, пожалуйста, рассказать, что такое любовь?
– Конечно, – ответил я.
– Расскажете?
– Да, разумеется.
– Ну и?..
И я ей рассказал.
И, проделав это, я тяжко опустился за столик в углу кафетерия, где сиживал, бывало, Уилл Смиткоут.
– Вы как, Чарли? – спросила одна секретарша, возвращаясь из комнаты 2С.
– Я прекрасно, – ответил я, помешав стебельком сельдерея в кровавом «коровьем копченом глазу» и затем похрустев им.
– Прекрасно вы не смотритесь. Вы смотритесь усталым. У вас лицо горит. Глаза у вас пусты и прозрачны. Вы что, неважно спите?
– Можно и так сказать.
– И у вас закончились пилюли?
– И так тоже сказать можно.
– А выпили вы больше, чем способны переварить?
– Вот еще одно, что вы бы могли, вероятно, сказать.
– У вас убедительный костюм.
– Благодарю вас.
– А пистолет заставляет задуматься.
– Спасибо.
– Он заряжен?
– Конечно.
– Метафорически или буквально?
– Буквально. Боюсь, этот заряженный пистолет в данный момент строго буквален.
– Поскольку вы не выспались…
– Верно.
– И слишком много выпили.
– Именно.
– Вы по-прежнему глотаете свои пилюли?
– Да.
– И подвели ли они вас ближе к тому, чтобы стать чем-то целиком?
– Полагаю, что да.
– Но когда же это произойдет?
– Боюсь, что скоро.
– До или после того, как появится еда?
– После, разумеется. Это наверняка произойдет после еды.
– Вы превосходно организовали эту вечеринку, и я жду не дождусь еды, если и когда она прибудет.
– Верно, – сказал я. – Спасибо, Расти. Но, Расти… эй, Расти, а сколько сейчас вообще времени?
– Половина одиннадцатого, Чарли.
– Так поздно?! Нет, в самом деле, Гуэн, уже действительно так поздно?
– Да. Вообще-то уже двенадцатый час.
– Уже?
– Да. Сами посмотрите на часы. Почти полночь.
– Полночь?!
– Да, Чарли, уже хорошо за полночь, а еды так и нет. Время, кажется, движется дальше неумолимо. Преподавательский состав уже потянулся к выходу. Похоже, что эта вечеринка закругляется.
– Но так же нельзя! Тимми, наша вечеринка не может так закончиться! Она еще не кончена!
– Тогда вам бы лучше что-нибудь сделать…
– Точно!
Доковыляв до головы зала, я включил микрофон, который громко фукнул.
– Внимание! – сказал я. – Внимание, все присутствующие! Прошу вас выслушать это важное объявление. Я знаю, что уже поздно, а еды здесь по-прежнему нет. Но меня заверили, что она на подходе. Пожалуйста, пока не расходитесь! Не расходитесь, пожалуйста! Еда скоро будет здесь – честное слово! Эй, Тимми! Тимми, не могли бы вы, пожалуйста, быть так любезны и запереть двери, чтобы никто не смог уйти? Сейчас всего лишь самое начало второго, и жаль будет, если, терпеливо прождав столько времени, все пропустят еду, когда она в самом деле появится! Поверьте, это будет незабываемое событие. Тимми, заприте, пожалуйста, дверь и заложите ее на вон ту бейсбольную биту, которую мы брали для пиньяты!..
Тимми обернулся ко мне с удивленным видом, но дверь запирать не стал – да и не стал ее закладывать бейсбольной битой, которую мы брали для пиньяты.
– Еда будет здесь с минуты на минуту, – обещал я. – И потому, покуда мы ждем ее появления, ваше терпение очень дорого. Между тем загляните, пожалуйста, в мокрый бар вон там и выпейте аперитива. И к тазикам барбитуратов. И, конечно, комната 2С – то, чего не может позволить себе пропустить ни один уважающий себя работник образования!..
Я снова сел к себе за столик. Виды и звуки этой ночи уже пролетали мимо, как множество метафор, что я испытывал по пути. Бурлящие ключи. Текущие реки. Солнце и луна, звезды и тучи. Эспланада, уводящая от рокота затянувшегося экстаза к холодной скамье на краю вселенной. Асфальт под разделительной полосой у колес нашего «звездного пламени». Маятник, что качался между гаультеровым и вечнозеленым. Легкий саронг. Пилюли, что я принимал. Симфония с ее скрипками и флейтами и тающие ледники, что рано или поздно обратятся в дождь. Непрерывная цепь фонтанов с гнездующимися в них пеликанами и гигантскими карпами. В тепле моей собственной грезы все это теперь вихрилось вокруг меня все быстрее и быстрее.
– Ну что, Чарли, – сказал доктор Фелч, подойдя ко мне за столиком. Он вытянул стул и уселся прямо напротив меня. Он уже скинул тяжелый костюм Санты и свелся к белой майке, полузаправленной в красные Сантовы штаны. Липовой бороды на нем тоже давно не было. В его словах пахло алкоголем. – Ну что, Чарли, – повторил он. – Рождество.
– Да, доктор Фелч, это оно.
– Веселого Рождества, Чарли.
– Веселого Рождества, доктор Фелч. И поздравляю с уходом в отставку. Я за вас очень рад.
– Спасибо.
– Уверен, люди уходом Санта-Клауса в отставку будут разочарованы. Да и ну их к черту. Отставка – очень личное решение. И она не могла бы случиться с человеком приятнее…
– Очень душевно вы это сказали, Чарли. Но, Чарли?
– Да?
– Чарли, раз у нас теперь Рождество, вы ничего не хотите мне сказать?
– Конечно.
– Так и что это?..
– Веселого Рождества!
– Нет, не это. Это вы уже говорили. Я имею в виду, не хотите ли вы мне сказать чего-то от себя лично?
– О чем?
– Ну, о мире, в котором мы живем? О теленке, которого мы кастрировали? Ничего в таком вот духе не хотите мне сказать?
– Вы о метафоре, которую мы выдавили, как чернослив из кулька?
– Да. Каково метафорическое значение всего этого, если таковое вообще существует?
– О, еще как существует! Оно совершенно точно есть! Метафора присутствует во всем. Это истина, которую я выучил после того, как приехал сюда. Один из многих полученных мною уроков.
– Так и что это?
– Урок?
– Нет, метафора. Каково тогда метафорическое значение теленка?
– Не уверен, сэр. Вообще-то я как бы надеялся, что вы про это забудете…
– Может, я и стар, но не в маразме! Возможно, я ухожу в отставку, но я не отставной. Пока что, во всяком случае. Все происходит слишком быстро, Чарли, поэтому, думаю, мне лучше спросить у вас это прямо сейчас; иначе с учетом того, как оно все развертывается, другого случая у меня может и не быть. Так каково метафорическое значение теленка в загоне? Вернее, постойте… нет… давайте я выражусь правильно! Иными словами… если загон – наш колледж, грязь – наша пересмотренная декларация миссии, ограды – попытки умерить нашу человечность, автобус – наша коллективная судьба, водитель его безнадежно заблудился, а самостоятельный отчет, который мы состряпали, покорившись высшей власти чуждого нам органа аккредиторов-единомышленников, для кого, однако, основная движущая сила – данные… если все это правда, что есть, Чарли, теленок, чьи яйца вы съели лунной ночью у реки?..
Я рассудительно кивнул.
– Это хороший вопрос, – сказал я. – И своевременный.
– Так что это, значит, такое?
– Теленок – это вы и я.
– Я?
– Да, доктор Фелч. И я. Мы оба.
– Вместе?
– Да, сэр.
– Вы не могли бы пояснить?
– Попытаюсь. Видите ли, положение теленка в загоне, я думаю, представляет наше метафорическое восхождение как администраторов в области образования. Это кульминация нашей коллективной траектории. Вершина нашего наследия. Сколь ни преуспевали б мы… как далеко б ни взобрались на ниве управления образованием, мы никогда не станем ничем иным – останемся лишь теленком, жующим сено рядом с корытом интеллектуального просвещения. Как высоко б мы ни взбирались как люди, мы никогда не подымемся выше досок, что окружают этот загон наших сердец, подобно произвольным границам между нациями мира.
– Это не очень-то воодушевляет, Чарли.
– Нет?
– Нет, это, прямо скажем, ввергает в уныние.
– Но не обязательно должно быть так! Оно совершенно не обязано быть унылым! Если вы посмотрите на это под иным углом, оно окажется совсем не плохой штукой. Это просто необходимое зло. Потому что каким был бы мир, если б телята общинного колледжа выпрыгивали из загона всякий раз, когда их к этому тянет? Каким бы тогда это был мир?!
– Ладно. Это я понимаю. Я согласен с тем, что теленок может означать типичного администратора общинного колледжа. Что он может олицетворять тихо страдающих профессионалов. Но что же насчет самих тестикул? Они тогда что?
– Они восхитительны!
– Да, разумеется. Это утверждение истинно априори. Но метафорически – что они?
– Ну, доктор Фелч, я, честно говоря, над этим вопросом долго не думал. Давненько мне уже не доводилось. Но если бы мне пришлось высказать догадку в этом деле, я вынужден был бы сказать, что в прихотливой метафоре, которой выступает наш общинный колледж, – и батюшки-светы, до чего ж она прихотлива! – тестикулы эти, что вы подняли в пакете на застежке, – а я, сам того не ведая, употребил в пищу на следующий день, – суть остатки нашей человечности…
– Правда?
– Да.
– Это все, что осталось?
– Вполне.
– Но их было две штуки!
– А, ну да. Ну, в таком случае, возможно, они – двойственное тяготение к конфликту и примирению. Эта парочка всегда вместе, понимаете? Мы склонны воспринимать их порознь. Но нет! Они суть одно и то же. И когда отделяем одно, с ним мы отделяем и другое. И потому отделяем мы как раз то самое, что позволяет нам функционировать как живым, чувствующим, размножающимся людям. Но если эти вещи отсечь, мы никогда не познаем потомства наших деяний – наследие, что мы бы могли оставить. Наследие, что никогда не перейдет к нам от бесплодного историка. Или бездетного администратора. Или неопубликованного романиста. Нам останется лишь труси́ть и дальше к своим неведомым судьбам, а в пыли за нами будет тянуться кровавая дорожка…
Я умолк – посмотреть, как мои слова тянутся в пыли. Доктор Фелч с любопытством глядел на меня. Выхватив салфетку из-под своего пустого стакана от мартини, я сказал:
– Выглядит так… – И, нащупав в кармане под наштанниками фломастер, пылкой, однако нетвердой рукой я нарисовал вот что:
– Видите? – спросил я.
– Что вижу?
– Слияние?
– Нет, не вижу.
– Вот, взгляните еще…
И фломастером я добавил несовершенный круг жизни:
– Дошло?
– Что дошло?
– Мы!
– Мы?
– Да, мы! Видите, доктор Фелч, это и есть ключ! Все сводится к тому, как нам определять это слово. Для кого-то оно будет религией, для других – расой. Для некоторых это будет нация, страна, государственное образование – а для кого-то еще это будет их семья или район, где они живут. Или их футбольная команда. Или окрас их любимой политической партии. Или пол. Или сексуальные склонности. Или даже какая-нибудь глубокая убежденность в противостоянии Северной и Южной Дакот. И да, для тех из нас, кто работает в общинном колледже, это запросто может оказаться нашей профессиональной принадлежностью…
– Ремеслом, которым мы занимаемся?
– Точно. Человек без мы – не человек. И потому мы их производим сами. Мы вкапываем эти вешки поглубже в землю, как мраморные столбы в прерии.
– Что есть нечто неизбежное, да?
– Быть может. Вот только для того, чтобы появились какие-то мы, также должны быть и они…
– Другой?
– Изгой.
– Рыжие коровы?
– Верно.
– Что скорбно глядят на других.
– Правильно. И все ж, если посмотреть на все эти поперечные срезы человеческого опыта – на любые поводы для изобретения еще одного мы, – проступает интересная штука. Видите ли, если сама культура есть общий опыт, создающий различные пласты культуры, возникает интересный парадокс…
И тут я перевернул салфетку и принялся рисовать круги на ее обороте. Один за другим рисовал я пересекающиеся трехмерные пласты человеческого опыта, что вносят свою лепту в наши очень личные понятия мы. Круг на круг на круг на круг на круг на круг на круг. Рисовал я непреклонно. Отчаянно я рисовал. Как одержимый, я всеми силами старался выразить бесконечные круги опыта, что составляют богатую культуру общинного колледжа Коровий Мык.
– Это религия Расти… – говорил я и рисовал несовершенный круг: – А это – духовность Гуэн. – Национальность. Раса. Пол. Страстно рисовал я всевозможные совокупности одну на другой, покуда вся салфетка не превратилась в собрание расползшихся чернильных клякс. – Вот это история про темноту, которую нам, бывало, рассказывали родители, – говорил я. – …А это – место на реке, куда отцы некогда водили нас удить рыбу…
И, зарисовав всю ее целиком, я поднял эти пересекающиеся круги так, чтобы их увидел доктор Фелч:
– Вот оно! – воскликнул я.
– Где что оно?
– Круги!
– Какие еще круги?
– Пересекающиеся пласты человеческой культуры. Все они тут. До единого. И среди этих кругов, вот тут, в самой середке, где сходятся все планы, – одна-единственная крохотная точка. Видите ее?
Я ткнул в точку пальцем. Доктор Фелч сощурился, чтоб разглядеть.
– Точка эта – каждый из нас. Среди бесконечных кругов человеческого опыта, видите, каждый из нас – сама по себе культура. Каждый из нас – одиночная культура, потому что нет второго человека, у которого с нами был бы один и тот же опыт.
– Что-то одиноко у вас как-то выходит.
– Для некоторых – возможно. А вот для кого-то это – освобождение…
– Среди однородности современной жизни?
– Да.
– Крохотный оазис в засухе?
– Да. Ибо вода есть всего-навсего собрание влаги, верно?
– Верно.
– Точно так же, как человечество есть всего-навсего пестрая коллекция людей, верно?
– Верно.
– Так не суть ли мы, стало быть, – то множество «я», что составляет мы в КОРОВЬЕМ МЫКЕ? Не сами ли мы суть зеница того ока, где все смыкается, образуя мы?!
– Не знаю… а мы таковы?
– Мы таковы!
– Таковы?
– Да, доктор Фелч, мы таковы!
И тут я сложил салфетку и запихнул ее в карман ко всем остальным.
– Ладно, Чарли. Поверю вам на слово. С учетом того, как уже поздно, мне придется просто поверить вам на слово – в том, что это и впрямь секрет искупления Коровьего Мыка. Что в этом действительно содержится метафорическое значение всего.
Я кивнул.
– Но, Чарли?..
– Да, доктор Фелч?
– Где же чертова еда?!
– Какая еда? Вы про сено в колоде?
– Нет, Чарли, еда, которую вы нам всем сегодня вечером обещали. Мясо без овощей. И овощи без мяса?
– Она на подходе.
– Вся?
– Конечно. Как и со всем остальным в этом мире, тут все дело лишь во времени…
– В отличие от отставки!
– Да.
– И налогов.
– Да.
– И кончины нашего любимого учителя истории.
– Нашего чего?
– Вы не знали?
– Чего не знал?
– Простите, Чарли. Я думал, вы знаете…
– Что знаю?
– Про Уилла… это произошло некоторое время назад… в больнице, где вы его навещали… говорят, все случилось довольно мирно, тихо и во сне…
– Но как это может быть! То есть мы же только что… мы втроем только что… он только что!..
– Простите, Чарли.
– Но!!!
– Чарли!
– Да?
– Чарли, вы… вы, что ли, плачете?
– Нет, разумеется, нет. Конечно же, я не плачу. Я образовательный управленец.
– Вот, возьмите этот носовой платок…
– Но я же не плачу!
Я взял платок и высморкался.
– Я не плачу. Это просто влага, что постепенными приращениями накапливалась многие годы. Влага тысячи рек высвобождается. Влага этих…
Немного погодя доктор Фелч встал, чтобы долить себе в стакан, и я, сидя один за своим столиком, еще раз оглядел весь кафетерий. Дискотечный зеркальный шар отбрасывал кружившие отраженья по теплому залу, и в его вращавшемся свете казалось, что воедино слились все метафоры в мире. Покуда я сквозь алкоголь пялился на мир вокруг, я видел, как из всех углов кафетерия и во все мыслимые стороны летят стрелы. На столе передо мной лежал пластиковый пакетик с застежкой. На стене – флаг. А вдалеке за мокрым баром были шафранный саронг и одинокая скамья на краю вселенной. Гаультерия и эвкалипт. Верные пилюли. Усеченная симфония с ее скрипками и флейтами, тающие ледники и исполнитель на треугольнике, терпеливо стоящий где-то сбоку. Дождь. Река. Звезды. В свете кафетерия – при тусклом неоне туалетной кабинки – я видел все это, хоть и не их отдельные друг от друга образы. Свет бил мне прямо в глаза, а я видел все это смычкой, какую они собою и представляли. Одной кляксой единства, где солнце и луна прекратили друг другу противостоять, а вместе сияли на реку шафрана. Вневременной чередой влаги, текущей по руслам асфальта и ледникам алебастра к совершенному спокойствию, что и есть равноденствие.
Час уже становился поздний, и я очень устал.
Положив голову на стол, я закрыл от всего этого глаза.
* * *
{…}
Так что, стало быть, есть любовь? Что такое любовь, если не то, чем бы могла быть, и не то, чем быть не должна? Если она не то, чем была бы или ей не следует быть, или была? Если любовь не есть ни то, что она не есть, ни то, чем быть ей будет нужно? Все это, конечно, трудные вопросы, хотя еще труднее будут ответы на них. Ибо таков экзистенциальный вопрос нашего биологического вида: если любовь не то, что она не, тогда что именно она такое?
На протяжении веков этим вневременным вопросом непрестанно задавались великие любовники по всему миру. Его изучали великолепнейшие философы и эмпирики на протяжении многих эпох. Чтобы разрешить его загадку, ставили эксперименты, разрабатывали математические модели. Предлагали исследования и писали отчеты. И со временем измеримые итоги всего этого вопрошанья постепенно просочились к выдающимся мужчинам и женщинам, которые преподают в наших общинных колледжах.
Среди благородных представлений мира, вероятно, нет ни одного другого, что вызывало бы больше благоговения и споров. Больше конфликтов и презренья. Для некоторых любовь неизмерима, а для кого-то – невыразима. Для молодежи это страсть, а для людей опытных – любовь. Для виноватых – прощение. Для обреченных – милость. Для учащегося – образование, а вот для учителя – юность. Любовь во всех обличьях своих – надежда и сострадание, покаяние и радость. Это скорбь и боль. Это печаль и стыд. И теплота. И зависть. И нежность. И томленье.
Однако действительно ли все это – она? И если так, она ли это все во всей целокупности? И вправду ли она – в той же мере мимолетная буря, в какой и длительная и последовательная засуха? Солнцестоянье ли она глубочайшей зимы или же солнцестоянье вершины лета? Исходящий пáром поднос мяс? Или прохладнейшая овощная нарезка? Нескончаемая ли это ночная трасса? Река в лунном свете? Кровавый восход? Солнце ли это в сумерках? Легкое касанье бедер? Молчанье ли это, что превыше слов? Или слов больше, чем молчанья? Неловкое объятье? Кивок? Легкая ласка? Крякающие утки? Совокупляющиеся предки? Бессловесность? Интуитивная прозорливость? Или торжествующая эрекция быка в полусумраке? Ощущенье асфальта у вас на коже? Стрела, минующая в полете? Это музыка, поэзия или математика? Сама ли любовь – великий поток человечества с незапамятных времен через века к переполненным кафетериям, конторам и классам наших дней? Любовь ли фертильная телка? Она вообще – хоть сколько-нибудь из перечисленного? Да и вообще хоть что-то из всего этого?
Еще как!
{…}
* * *
Когда я поднял голову, в кафетерии было пусто и темно. Вдали слышался звук льдогенератора. Надо мной стояла Бесси.
– Проснись, Чарли! – говорила она. – Все кончено.
– Что кончено?
– Вечеринка. Она закончилась. Все разошлись. Тут остались только ты и я. И еще женщина, которая пылесосит пол.
– Но еда же на подходе!
– Нет, не на подходе.
– На подходе! Я так тщательно все спланировал. Еда будет здесь с минуты на минуту!..
Оторвав голову от стола, я ощутил, что мир вокруг меня вращается. В окна потоками лился свет. По виску у меня стекла струйка крови и засохла на щеке.
– А сколько вообще времени сейчас?
– Почти два!
– Два?
– Да, два.
– Ночи или дня?
– Дня, Чарли. Сейчас два часа пополудни – суббота – и все уже дома, приходят в себя после вчерашнего празднования.
– Ты это в каком смысле? Где все мои коллеги? Почему они не дождались еды? Что случилось с вечеринкой, на планирование которой я потратил столько времени?
– Даже не спрашивай.
Бесси промокнула мне висок влажной салфеткой.
– Вот, подержи… – сказала она.
Я подержал салфетку.
– Но отчего ж не спрашивать?! И почему у меня идет кровь? И где все?
– Ты не помнишь?
– Нет…
– Ничего?
– Нет.
– Так ты не помнишь, что случилось после того, как ты вчера ночью пришел в себя после сна?
– Какого сна?
– Ты разве не помнишь, как заснул за столом?
– Не очень. То есть – ну, может, отчасти.
– В общем, именно это и произошло. Ты заснул за столиком вон там… а потом Тимми тебя разбудил сказать, что все уходят…
– Разбудил меня?
– Да, Тимми попробовал тебя убедить пойти домой. Но ты ни в какую. «Нет! – вопил ты ему. – Эта вечеринка еще не кончена! Она не кончится, пока не прибудет еда! Не давайте никому расходиться! Наша вечеринка не может кончиться, пока я не стану чем-то целиком!..»
– Я так говорил?
– Нет – ты так ОРАЛ! А потом подбежал к двери с бейсбольной битой и попытался никого не выпускать. С битой в руке ты стоял перед дверью и мешал всем пройти.
– Правда?
– Да. Но Тимми вырвал биту у тебя из рук. Он же в средней школе играл распасовщиком, помнишь? Тимми вырвал у тебя биту, и вот тут все стало действительно скверно. Все стало скверно потому, что как только Тимми вырвал у тебя биту, ты…
* * *
…Как только Тимми вырывал у меня биту, я сунул руку в кобуру за пистолетом Этел.
– Смотрите, – сказал я собиравшейся вокруг меня толпе. – Я знаю, о чем вы все думаете. Вы оглядываете этот огромный кафетерий и думаете, что раз тут нет еды, еды тут сегодня ночью и не будет. Это, говорю я вам, ложное рассуждение. Оно ошибочно. Лишь потому, что на Разъезд Коровий Мык сейчас не падает дождь, это вовсе не значит, что дождь никогда больше не пойдет. И лишь из-за того, что что солнце еще не встало над новым днем, вовсе не значит, что солнце никогда больше не поднимется. Вообще-то всё ровно наоборот. Солнце встанет! Придет день, когда на котловину долины Дьява прольется дождь. И еда, которую я заказал, прибудет сюда, как обещано, к одиннадцати часам…
– Но уже третий час! – выкрикнул кто-то.
– …Очень легко могу это допустить. Но что есть временна́я штука, вроде времени, когда вы – среди того, что в мире непреходяще? Вроде любви. И тьмы. И звуков экстаза, доносящихся из-за стены? Важно ведь во что-то верить. Во что-то ощутимое и легко схватываемое… – я вынул пистолет из кобуры, – нечто тяжелое в руке и довольно холодное на ощупь. В жизни, видите ли, существует вневременное с этой стороны помещения и то, что приходит и уходит, – с другой. То, что превыше слов, и то, что попросту воспроизводимо. Идеи, превосходящие наше понимание, и то, что безнаказанно можно цитировать в самостоятельном отчете. С начала времен существовал выбор, делать который было безопасно и оправданно, – и такой, что заводит нас в места поглубже и потемнее, куда не добивает никакое солнце… – тут я снял пистолет с предохранителя, – и где не сияет никакой свет. Но если не обращать на подобное пристального внимания, оно может ускользнуть от нас очень легко. Например, взгляните вот на этот зеркальный шар… – Я показал на него пистолетом; зазвучал шквал ахов и визгов. – Вон там дискотечный шар, представляющий собой иную разновидность света. Вращается он так же быстро, как сам мир, – и, как сам мир, отбрасывает на всех нас миллион кусочков света. Это красиво, спору нет. И воодушевляет. Он сияет и будоражит, да. Но будет ли он длиться вечно? БУДЕТ??!!..
– Мы не знаем, Чарли! Мы не знаем, каким должен быть ответ на ваш вопрос. Но вы б пистолет этот опустили, а? Положили б его на ковер прямо вон там, чтобы никого не поранить?..
– Ну так я сообщу вам ответ. Ответ на мой вопрос таков: нет! Нет, вечно он не продлится! Он не продлится вечно – точно так же, как не длилось вечно ранчо «Коровий Мык». И мои отношения с Бесси не длились вечно. И не продлился вечно Уилл Смиткоут. Вон тот зеркальный шар не продлится вечно точно так же, как вы или я не сможем продлиться дольше, чем нам суждено продлиться, – точно так же, как мое пребывание в этом колледже наверняка не продлится дольше растворения мира вокруг меня. Все это, как видите, приходит и уходит. И все же мы это любим так, будто оно наше…
Я направил пистолет на дискотечный шар. Раздался еще один шквал ахов и визга.
– …Иногда мы придаем столько ценности вещам, вроде этого шара над нами, что теряем из виду поистине значимые вещи в жизни. Мы так сосредоточиваемся на том, чтобы удерживать в прорези прицела мишени помельче… – тут я навел прицел пистолета на середину вращавшегося шара, – что упускаем более важное, что есть в этом мире. Людей, которые нас любят. Дружбы, что проходят мимо нас. Все они приходят и проходят, а мы изумленно пялимся на эти слепящие штуки, что сияют, искрятся и вращаются…
Я взвел курок пистолета.
– Пистолет, Чарли!
Сощурив глаз, чтобы шар уравновесился в прицеле, я сказал:
– …Но почему? Почему? Я вас спрашиваю. Знаете, мне говорили, что у всего на свете есть цель. Что все имеет значение. Или должно его иметь. И потому этот зеркальный шар тут – со смыслом, верно? Как и шерифский костюм, что сейчас на мне. Как и пистолет, который я сейчас держу в своей дрожащей руке… Если хочешь быть чем-то целиком, говорят, время от времени нужно жать на спуск…
Я покачал головой.
– …Но зачем? Вот сейчас я навел прицел на этот дискотечный шар. Просто чуть дерну пальцем – и он уйдет в анналы истории. Такова хрупкость вещей в этом мире. Но чего ради мне предаваться этому целиком? Почему я непременно должен быть либо мясом, либо овощами? С чего должен быть или дылдой, или коротышкой! Логичным или интуитивным? Бесконечно сложным или бесконечно простым? Почему обязан я стремиться утверждать без колебаний, что я – то или я – это? И что я – то или это целиком? Что моя геометрия – евклидова или неевклидова? Почему мое наследие обязано сводиться либо ко мне, либо к этому вращающемуся шару?
– Положите пистолет, Чарли!
– …Видите ли, я тут для того, чтобы сказать: допустимо быть чем-то целиком и при этом вовсе не быть тем, другим. Ровно так же, как Средний Запад – это не запад и не восток, а занимает свое собственное место на карте. Так же, как центристский судья Верховного суда – и да, такие время от времени попадаются! – ни лев, ни прав, а придает миру столько же ценности, отдавая свой решающий голос в пользу умеренности. Так же, как равноденствие – ни главным образом день и ни главным образом ночь… а просто свое особенное время года. Все это – то, что оно есть. И каждое – то, что есть… целиком!
– Чарли, положи пистолет! Прошу тебя!
– …Знаете, было время, когда меня тянуло несколько ближе к краям спектра. К солнцестоянию, быть может. Или доказанной теореме. Я тщился сделать так, чтобы меня вела за собой диаметральная противоположность. Быть bos indicus среди bos taurus… или bos taurus среди bos indicus. Но те дни давно уж миновали. Они ушли в историю, и теперь меня устраивает быть собственной противоположностью. Ровно так же, как весеннее равноденствие противоположно осеннему. Как сегодня, двадцатое марта, – точная противоположность и летнему, и зимнему солнцестояниям. Как парадокс противоположен самому себе. Все это так же противоположно, как этот зеркальный шар, болтающийся под потолком, – точная противоположность солнцу, которое всего через несколько кратких часов наверняка принесет с собой новый день…
– Жмите на спуск, Чарли! – сказала Этел.
– Что? – сказал я.
– Чарли, пора. Жмите на спуск…
– Вы абсолютно правы, – сказал я. – Спасибо, что прошептали мне на ухо этот совет. Уже очень поздно, поэтому мне самое время стать чем-то целиком.
И вот так, невзирая на ахи преподавателей и сотрудников в кафетерии, я отпустил курок и защелкнул предохранитель. Так и не выстрелив, я отвел глаза от зеркального шара.
Кротко я положил пистолет на пол.
* * *
Тут Бесси покачала головой:
– Вот только, ну, вовсе нет.
– Не положил?
– Не-а. Стоя в одиночестве в переполненном кафетерии, ты был сам не свой, Чарли. Казалось, ты одержим какой-то мыслью. Или звуком. Быть может – гласом вечности. Или обещаньем покончить со временем. А может, на самом деле это Этел Ньютаун тебе на ухо нашептала, чтоб ты нажал на спуск…
Бесси умолкла и притиснула салфетку потуже к моему лбу.
– …Но как бы там ни было, – сказала она, – ты это действительно сделал. На сей раз ты нажал на спуск – целиком.
Резюме экспертного отчета
«Данный отчет представляет собой заключения оценочной комиссии, посетившей общинный колледж Коровий Мык в период с 15 по 20 марта. Колледж стремится к обновлению своей региональной аккредитации и в подтверждение собственной кандидатуры сдал всю необходимую документацию».
Введение
Наша аккредитационная комиссия в составе двенадцати членов посетила общинный колледж Коровий Мык в период с 15 по 20 марта с целью определения, продолжает ли данный колледж соответствовать стандартам аккредитации, оценки того, насколько хорошо колледжу удается достичь заявленной цели, внесения рекомендаций по обеспечению качества и ведомственного усовершенствования, а также подачи рекомендаций в орган региональной аккредитации относительно аккредитационного статуса означенного колледжа.
При подготовке к данному визиту члены комиссии ознакомились с самостоятельным отчетом колледжа и относящимся к таковому доказательственным материалом, предоставленными общинным колледжем Коровий Мык. За три недели до прибытия в кампус каждый член комиссии подготовил письменный отзыв на самостоятельный отчет общинного колледжа Коровий Мык и обозначил сферу запросов, кои ему/ей надлежит сделать по ходу вышеупомянутого визита. Сюда включался подробный анализ административной структуры колледжа, его образовательной программы, финансового положения, планов технического оборудования, процесса оценки, а также способности колледжа поддерживать осознанный диалог во все более многообразном сообществе его штатных и внештатных работников образования. В течение пятидневного визита комиссия провела индивидуальные и групповые собеседования с более чем 80 членами преподавательского состава, тарифицированными сотрудниками, студентами и администраторами. В добавление к вышесказанному члены комиссии провели два семинара с широким оповещением, открытых для всех членов сообщества колледжа. Неделя аккредитационных мероприятий включала визиты на особые демонстрационные проекты, наблюдения на занятиях за ключевым преподавательским составом, фейерверк и церемониальное открытие трех фонтанов на тему скота, а также незабываемую рождественскую вечеринку, на которой координатор особых проектов колледжа применил «ругер» .38-го калибра для расстрела вращающегося дискотечного зеркального шара в кафетерии.
Комиссия оценила гостеприимство работников колледжа, равно как и откровенность его преподавательского состава, обслуживающего персонала и студентов в течение всего своего визита. В общем и целом самостоятельный отчет исчерпывающ и, несмотря на ряд орфографических ошибок и некоторых подозрительных ямбов в главах, касающихся оценочных практик колледжа, документ освещает все важные темы и все стандарты и требования к соответствию требованиям. Комиссия отметила, что колледж проделал хорошую работу по организации жилых помещений. Отдельные члены комиссии также выразили благодарность за ладан и мирру, а также перчатки по плечо, выданные им в знак почтения по завершении нашего визита в колледж.
Основные заключения и рекомендации
В целях признания хорошей работы, проведенной общинным колледжем Коровий Мык, комиссия выражает одобрение нижеследующему:
1. Колледжу выносится благодарность за его текущую преданность студенческой успеваемости, о чем свидетельствует мерцающий цветной телевизионный приемник с диагональю экрана 22 дюйма, оборудованный кнопочным пультом дистанционного управления.
2. Колледжу выносится благодарность за преданность преуспеянию его преподавательского состава. Это охватывает собой широкий поперечный срез дисциплин и перспектив в диапазоне от истории искусств до евгеники и от кузовных работ до философии. Особая благодарность также выражается преподавателю творческого письма колледжа за его чарующий подход к модерации учебной среды на занятиях, способствующей творческому росту и пожизненному обучению.
3. Колледжу выносится благодарность за его усилия по пропаганде культурного многообразия и единства посредством целого ряда различных мер, включая сюда беседы в кампусе и проведение фокус-групп.
Вместе с вышеприведенными благодарностями в результате работы комиссии также составлены нижеследующие сорок три рекомендации:
Рекомендация 1:
Комиссия рекомендует колледжу продолжать двухгодовой цикл пересмотра своей декларации и при этом обеспечить соответствие декларации результатам текущей оценки посредством всеведомственного планирования и процессов гарантирования качества.
Рекомендация 6:
Комиссия рекомендует колледжу продолжать усилия по разработке всесторонних планов по непрерывному усовершенствованию. Более того, рекомендуется внедрение этих планов в разумных временных рамках и поручение означенного внедрения тем преподавателям и сотрудникам, чья преданность вовлеченности в жизнь кампуса и студенческой успеваемости не только искренна, но и целиком разделяется остальными.
Рекомендация 17:
Комиссия рекомендует колледжу разработать более строгую процедуру найма в целях отсева при найме вслепую недостаточно квалифицированных соискателей с блистательными резюме по результатам простого телефонного собеседования.
Рекомендация 26:
Комиссия рекомендует пересмотреть недавно освободившуюся должность координатора особых проектов в целях выполнения им более конкретных задач, а также принять на эту должность соискателя с проверенным послужным списком успехов на административной работе в области управления образованием.
Рекомендация 39:
Комиссия рекомендует оборудовать кафетерий колледжа выходом, соответствующим требованиям Закона о недопущении возрастной дискриминации, а также ясно обозначенными маршрутами эвакуации из помещения в целях безопасного и скорого обеспечения внезапного и массового выхода посредством дверей.
Часть 4 Излучение
План Б
Подлежит определению
– Так что же было дальше? – спросил человек, сидевший рядом со мной. – После того, как вы снесли дискотечный зеркальный шар под вопли и визг как преподавательского состава, так и членов аккредитационной комиссии? После того, как выбежали и рухнули на автомобильной парковке? После того, как надругались над наивными ожиданиями своих коллег, рассчитывавших на мясо и овощи, и потопили попытку своего колледжа обновить аккредитацию? После того, как двое ваших друзей вышли наружу и обнаружили вас в крови и без сознания на асфальте? После того, как они внесли вас обратно в кафетерий, чтобы вы там проспали до следующего дня? После того, как все это произошло, – что же было потом?
– Потом был конец света.
Я посмотрел в окно автобуса. Мимо в последний раз проплывали бурые поля. Под нами мягко подрагивал автобус. Все было сухо, ярко и опустошенно. Все это теперь казалось безжизненно, как бессодержательная проза.
– Я не об этом, – сказал человек. – Я имел в виду – после того, как вы проснулись, что случилось? После того, как села пыль и уехали аккредиторы? После того, как женщина, которая когда-то мечтала стать историком, закончила подметать пол, – как оно все вышло?
– А, это…
Я виновато покачал головой.
– Ну, – сказал я. – Получив свое условное осуждение и, отработав, к удовлетворению судьи, на общественных работах, и когда наконец к растворению своему, едва пикнув, подошел семестр, – после того, как пришло и прошло все это, – я собрал в квартире свои пожитки и спустился по лестнице на эспланаду, где встретил доктора Фелча, Бесси и Рауля. Очень мило было с их стороны прийти меня проводить.
– Они встретили вас на эспланаде?
– Да. Рядом с моей квартирой. Встреча была душераздирающей. У меня на лице до сих пор царапины. Доктор Фелч пожал мне руку и пожелал всего хорошего. Бесси поцеловала в щеку и пожелала всего хорошего. Рауль велел мне носить наштанники в добром здравии и пожелал всего хорошего. Вы, может, даже заметили, что я и сейчас в тех самых сапогах, что он мне подарил…
В доказательство я подрыгал носками сапог.
– …Но это не все. Перед тем как я покинул кампус, Рауль постарался, чтобы у меня осталась одна последняя блок-схема в память о нем, – одно визуальное представление напоследок, – что включила бы в себя весь мой девятимесячный опыт в общинном колледже Коровий Мык. У меня она по-прежнему где-то в кармане рубашки…
Я вывалил все диаграммы Рауля на сиденье между нами. Бумажки перемешались, были все сложены и хаотичны. Пошуршав ими, я отыскал последнюю блок-схему, которую нарисовал Рауль перед моим отъездом. То было схематическое изображение вечных функций и обещаний – прав и обязанностей – общинного колледжа:
– А потом что?
– А потом он оставил мне на ней свой автограф.
– А потом?
– Ну, и они расспросили меня о моих планах на будущее, и я сказал им всю правду как на духу: на самом деле никакого плана на будущее у меня нет. Что мои планы еще подлежат определению. Что я даже не знаю вообще-то, куда отсюда поеду, – что так на самом деле у меня обычно и бывает. Но мне всегда хотелось жить и работать в какой-нибудь экзотической глуши с красивыми пейзажами. В таком месте, где люди не судят тебя за таинственные провалы в твоем резюме или расширяющиеся щели у тебя между зубов, – где твои прошлые достижения принимаются за чистую монету, сколь натянуты бы ни были, и никто не ставит тебе в вину множество твоих неудач на ниве управления образованием. Где-нибудь немного в стороне от обычного, быть может. В таком месте, где я мог бы переродиться, которое мог бы назвать домом. В таком, что станет моим последним перестоем прежде, чем я перейду от этой жизни к следующей.
– Например?
– Может, в Аризоне. Или, еще лучше, – на Аляске.
– А потом?
– Потом, видимо, если там ничего не выйдет, я перееду куда-нибудь еще дальше. В еще менее смежное место. Туда, где далеко, экзотично и неограниченный выбор…
– Нет, я не о том. Я имел в виду… что случилось потом – после того, как вы рассказали им о своих планах?
– Ну, потом я пожелал им троим всего наилучшего и пошел прочь со своими чемоданом и спортивной сумкой. Друзья помахали мне на прощанье, и я пешком прошел всю длинную эспланаду. При входе у будки охраны мы обменялись рукопожатиями с Тимми. «Берегите себя, мистер Чарли», – сказал он. А я ответил: «Вы тоже, Тимми!» Оттуда я перебрался через железнодорожные пути и двинулся мимо безводной канавы – и на шоссе, где меня подбросили обратно до временной автобусной остановки. Каждый из моих друзей предлагал меня подвезти. «Это самое меньшее, что мы бы могли сделать!» – настаивали они. Но я отказался. «В этом грузовике?!» – рассмеялся я. Нет, сказал я им, будет честнее, если я сам доберусь назад. И вот так я вышел один на шоссе и постоял на обочине дороги, дожидаясь, когда меня подберут. Заняло больше времени, чем было б когда-то. Но в итоге притормозил старый скотовод и довез меня до временной автобусной остановки. Поездка была медленной, должен сказать, и горьковато-сладкой. От обочины шоссе он вез меня вдоль канав и пустырей, мимо тюрьмы и почты, мимо забитых досками останков некогда великого ранчо «Коровий Мык». Медленно ехали мы мимо безветренного американского флага – всех его тринадцати полос и сорока девяти звезд. И наконец мы достигли временной автобусной остановки, куда я впервые прибыл меньше года назад. Вот только, ну, она уже не была временной…
– Не была?
– Нет. Она была новой. И современной. Чудом современного инженерного искусства. Образцом архитектуры – лауреатом премий, с приветливым фасадом из кирпича и стекла. Просторный вестибюль с кондиционером. Внутри здания плюшевые кресла, а на крыше – солнечные батареи.
– Фотогальванические панели? Возобновимая энергия – волна будущего, знаете ли!
– Я в курсе. Так или иначе, я прибыл на новую автостанцию. И, ожидая в вестибюле, я думал обо всем, чему научился в Коровьем Мыке. Думал я об этом некоторое время. А потом подъехал мой автобус – вот этот, – и я в него сел.
– А теперь?
– Ну, теперь я сижу с вами в этом автобусе. И впереди у нас долгая дорога. Но это сиденье, общее у нас двоих, – гораздо больше, чем общее сиденье. На самом деле оно невыразимо. Видите ли, прямо сейчас я с вами сижу, примостившись на самой вершине истории. Мы с вами балансируем на пороге, отделяющем традицию от инновации, любовь от результативности. Перемещаясь в этом автобусе, я путешествую в кильватере времени к будущему, яркому настолько, что ярче не бывает. Даже ярче мигающей лампы дневного света в сумрачном и вневременном кафетерии.
– Значит, в итоге все получилось?
– Да. Полагаю, можно сказать и что все получилось.
Человек кивнул. За нашим окном пейзаж менялся в последний раз. Сушь была всепоглощающа. Солнце – вечно. И в последний раз я смотрел в окно на недавний мир, где текли фонтаны и чирикали птицы. На место, где платаны росли рядом с баньянами, а виргинский ломонос оплетал все вокруг нежным объятьем. Из затемненных окон еще было видно, как бык покрывает свою телку. И пеликаны прохлаждались на травянистых берегах средь вневременных звуков производимой писанины. И, конечно, слышалось, как на ветру хлопает забытая история – все тринадцать полос и сорок девять звезд. В том месте не так давно вечно мычал скот, а травы ни на миг не прекращали расти. Водой текла поэзия, а вода текла, как время. По крайней мере, вот чем был Коровий Мык у меня в уме; и у меня в уме он навсегда останется точно таким, верно и во веки веков. Пока автобус вез меня мимо поля для гольфа, где раньше стояло ранчо «Коровий Мык» – то великое ранчо, что некогда кормило полстраны, – я все это впитывал. Автобус кряхтел. Человек со мною рядом спал, привалившись к стеклу. Где-то вдали осыпались великие плотины здешних мест – хоть и неощутимо пока ни для кого. Выше по течению метала икру рыба. Телята жевали сено. Крякали утки.
Снова оставшись один, я вытащил новую книгу по истории и начал читать.
Примечания
1
«Джон Дир» – торговая марка корпорации «Deere & Company», производящей сельскохозяйственную, лесотехническую и строительную технику. Компания основана в 1837 г. в штате Иллинойс кузнецом и промышленником Джоном Диром (1804–1886). – Здесь и далее – комментарии переводчика.
(обратно)2
«Фальстаф» – продукт одноименной (с 1903 г.) пивоваренной корпорации в Сент-Луисе, Миссури, выпускался с 1838 г. пивоварней «Лемп».
(обратно)3
Иронически обыгрывается т.н. «компромисс трех пятых», достигнутый на Филадельфийском конвенте (25 мая – 17 сентября 1787 г.), созванном для пересмотра статей Конфедерации. Отдельные споры вызвал вопрос о том, как именно следует считать население штатов для распределения налогов и мест в Палате представителей. Участники конвента из южных рабовладельческих штатов настаивали на том, что при подсчетах следует учитывать всех жителей штатов, как свободных, так и рабов. Представители северных штатов выступали против, считая, что под населением штата следует понимать только свободных граждан. В итоге было достигнуто соглашение, получившее название «компромисса трех пятых»: южные штаты имели право при определении численности своего населения прибавить к количеству свободных граждан три пятых от общего числа рабов. Тем самым чернокожий раб по сути приравнивался к 3/5 белого человека. Компромисс трех пятых был непосредственно включен в текст новой конституции (статья 1, раздел 2, параграф 3).
(обратно)4
Уэст против Барнса (1791) – дело, вошедшее в историю судебной системы США: первое решение Верховного суда США, касающееся процедуры «приказа об ошибке» – передаче дела в апелляционный суд для пересмотра в связи с ошибкой, допущенной при ведении дела судом низшей инстанции. Уильям Уэст (ок. 1733–1816) – генерал американской милиции в Войне за независимость, верховный судья и заместитель губернатора штата Род-Айленд, антифедералист. Дэвид Леонард Барнс (1760–1812) – окружной судья Род-Айленда. Дело первоначально касалось способа выплаты долга бумажными деньгами, а не золотом и серебром.
(обратно)5
Браун против Совета по образованию Топики, Канзас (1954) – дело в Верховном суде США, решение по которому определило, что расовая сегрегация в государственных школах нарушает Четырнадцатую поправку к Конституции. Суд определил незаконность доктрины «раздельные, но равные». В 1955 г. суд дал указание провести немедленную десегрегацию, оставив методы ее проведения на усмотрение федеральных окружных судов. Дело считается одним из важнейших в конституционной истории Америки. За решением суда последовало признание неконституционности других видов сегрегации, пошло на подъем движение за права афроамериканцев. Практически это решение, подкрепленное законодательными актами, вызвало социальную революцию. Оливер Л. Браун (1918–1961) – железнодорожный сварщик, чья дочь, третьеклассница Линда, вынуждена была ходить шесть кварталов к школьному автобусу, который отвозил ее в сегрегированную школу для черных в 1,6 милях от дома, хотя школа для белых располагалась лишь в семи кварталах от их дома.
(обратно)6
«Никель с бизоном» (или «с головой индейца») – медно-никелевые монеты США номиналом 5 центов, которые чеканились с 1913 по 1938 г. Дизайн разработан скульптором Джеймсом Эрлом Фрейзером (1876–1953).
(обратно)7
«Расширительное толкование» – широкое (либеральное) толкование Конституции США, политико-правовая концепция конца XVIII – начала XIX в., состоявшая в том, что законную силу имеют не только зафиксированные положения Конституции США, но и те, которые логически вытекают из них. Использовалась партией федералистов во главе с Александром Гэмильтоном. Противником такой теории был Томас Джефферсон. В настоящее время сводится, в принципе, к различному толкованию властных полномочий федерального правительства и исполнительных властей штатов.
(обратно)8
Волшебный фонтан Монжуика – эллиптический футуристический фонтан с подсветкой, расположенный на холме Монжуик в Барселоне, построен ко Всемирной выставке в 1929 г. по проекту каталанского архитектора Карлеса Буигаса-и-Санса (1898–1979).
(обратно)9
«Культурой подтверждений» в современном профессиональном арго работников образования называется такой подход, при котором ценность предлагаемых образовательных программ и услуг для учащихся и их соответствие заявленной миссии учебных заведений демонстрируется и подтверждается точными данными и достоверной информацией. В русском языке это обозначается термином «показуха».
(обратно)10
Имеется в виду американский комедийный радио– и телесериал «Частные жизни Этел и Алберта» (1953–1954) о жизни семейной пары Арбаклов в городке Песчаная Гавань. Создателем его была сценаристка и актриса Пег (Маргарет Фрэнсис) Линч (1916–2015), сыгравшая в нем и главную роль.
(обратно)11
«Майский цветок» (The Mayflower) – английское судно, на котором пересекли Атлантический океан 102 пилигрима из Старого Света – первые поселенцы Новой Англии. Они вышли в плавание из Плимута 21 сентября 1620 г. и достигли берегов Америки 21 ноября. Корабль направлялся в Вирджинию под эгидой Лондонской (Вирджинской) компании, но наскочил на скалы значительно севернее места назначения – у полуострова Кейп-Код, где было решено остаться и основать Плимутскую колонию. В апреле 1621 г. судно вернулось в Англию. «Майский цветок» представлял собой двухпалубный трехмачтовый корабль длиной около 27 м и водоизмещением около 180 т. Сам он не сохранился, но в Англии построили его копию «Майский цветок II», который переплыл Атлантику в 1957 г. и ныне стоит на приколе в Плимуте, Массачусетс. «Мои предки прибыли на «Майском цветке»», – говорят те немногие американцы, которые могут похвастаться древностью рода.
(обратно)12
Луизианская покупка – крупнейшая в истории США сделка, в результате которой их территория увеличилась практически вдвое. По этой сделке США получали территорию в границах р. Миссисипи – Скалистые горы – Канада – побережье Мексиканского залива у Нового Орлеана общей площадью около 828 тыс. кв. миль. Ныне на ее месте целиком расположены штаты Айова, Арканзас, Луизиана, Миссури и Небраска, части штатов Вайоминг, Канзас, Колорадо, Миннесота, Монтана, Оклахома, Северная и Южная Дакота. Когда президент Джефферсон в 1802 г. узнал о намерении Наполеона создать империю в Северной Америке, он дал указание Джеймсу Монро и Роберту Ливингстону начать переговоры с Францией о покупке Нового Орлеана и некоторых других участков Территории Луизиана. К удивлению американцев, Наполеон, готовившийся к войне с Англией, предложил купить всю территорию. Договор о покупке Луизианы за 15 млн долларов (около 4 центов за акр) был ратифицирован 21 октября 1803 г. и стал триумфом политики и дипломатии США.
(обратно)13
«Предначертание судьбы» – политическая доктрина, выдвинутая в 1845 г. в статье Джона Л. О’Салливэна об аннексии Техаса. В 1846 г. упоминалась в ходе дебатов в Конгрессе, а также стала предвыборным лозунгом президента Джеймса Нокса Полка применительно к Орегонским землям, а затем приобрела более широкое звучание. Состояла в том, что североамериканцы – избранный народ, которому судьба предназначила превратить Американский континент в «пространство свободы». С началом войны с Мексикой использовалась для обоснования включения Калифорнии и территории современного штата Нью-Мексико в состав США. Затем о ней вспомнили в конце века в период Испано-американской войны (1898) и наконец распространили на тихоокеанский бассейн – и даже на весь мир.
(обратно)14
Патрик Ронейн Клейбёрн (1828–1864) – американский фармацевт и военный ирландского происхождения, генерал армии Конфедерации во время американской Гражданской войны. Получил прозвище «Каменная Стена Запада».
(обратно)15
«Альбатрос» – метафора тяжкого психологического бремени, несомого в наказание, и одновременно зловещего знамения: в поэме «Сказание о старом мореходе» (1798) английского поэта Сэмюэла Тейлора Коулриджа (1772–1834) главному герою вешают на шею труп убитого им альбатроса, от которого он не может избавиться.
(обратно)16
До бесконечности (лат.).
(обратно)17
Глава 15, текст 13: «Я вхожу в каждую из планет, и, удерживаемые Моей энергией, они не сходят со своих орбит. Я становлюсь Луной и питаю жизненными соками все растения» (эсперанто).
(обратно)18
Я люблю эсперанто! (эсперанто)
(обратно)19
Партия вигов – американская политическая партия, возникшая на основе Национальной республиканской партии, существовала в 1834–1856 гг. Сформировалась на почве оппозиции к Эндрю Джексону и демократам. В целом выступала за активную роль центральной власти в экономике, но из-за разногласий внутри партии не смогла выработать единой программы.
(обратно)20
Закон о гербовом сборе был принят британским парламентом 22 марта 1765 г., с ноября 1765 г. облагал налогом все делопроизводство в колониях. Любой юридический или коммерческий документ, не заверенный специальной платной гербовой маркой, признавался недействительным. Принятие закона было попыткой метрополии профинансировать за этот счет содержание войск в колониях и ввести там более строгий режим, но вызвало массовую кампанию протеста среди колонистов не только из-за собственно новых поборов, но и из принципа, поскольку жители североамериканских колоний не участвовали в выборах парламента Британии. В ответ колонисты выдвинули лозунг «Никаких налогов без представительства» и создали организацию «Сыны свободы».
(обратно)21
«Регламент» Роберта – справочник по парламентской процедуре, составленный на основе правил, принятых в Палате представителей. Подготовлен в 1876 г. военным инженером генералом Генри М. Робертом.
(обратно)22
«Прохвост» (scalawag) – презрительная кличка белых южан, сотрудничавших с радикальными республиканцами в объявленной ими программе Реконструкции после Гражданской войны. Слово стало политическим ярлыком в устах южан, особенно – южных демократов тех времен.
(обратно)23
Из письма Томаса Джефферсона (1743–1826), 3-го Президента США (1801–1809) и одного из «отцов-основателей» США, Пьеру Самюэлю Дюпону де Немуру (1739–1817), французскому экономисту и политическому деятелю, представителю школы физиократов, от 24 апреля 1816 г.; в 1802–1803 г., во время президентства Джефферсона, Дюпон был одним из организаторов покупки Луизианы у французского государства.
(обратно)24
Сахель (от aраб. берег, граница или побережье) – тропическая саванна в Африке, которая является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге, более известными как африканский регион Судан.
(обратно)25
«Доблесть прошлого» – первоначально название конкретного флага, который 10 августа 1831 г. был вручен капитану брига «Чарльз Даггетт» Уильяму Драйверу в Салеме, Массачусетс. При подъеме флага на мачте судна капитан объявил: «Именую тебя «Доблесть прошлого»». Впоследствии выражение стало обозначением государственного флага США.
(обратно)26
К 1855 г., когда в Канзасе проводились первые выборы, там обосновалось много переселенцев из соседнего рабовладельческого штата Миссури. Сторонники рабства победили на выборах, но противники рабства обвинили их в подтасовке результатов и в октябре 1855 г. созвали свой конвент в Топике, на котором избрали свои органы власти и приняли антирабовладельческую Топикскую конституцию свободного штата. Однако федеральное правительство отказалось признать ее, и борьба за власть в Канзасе продолжилась.
(обратно)27
«Истекающий кровью Канзас» – характеристика, данная в прессе ситуации на новой территории Канзас после принятия закона о Канзасе и Небраске (1854). Между сторонниками и противниками рабства на новой территории развернулась кровопролитная борьба, ставшая прелюдией к Гражданской войне и продолжавшаяся вплоть до принятия Канзаса в состав США.
(обратно)28
Доктрина народного суверенитета означала высшее и неотъемлемое право народа на создание и изменение форм правления. Получила отражение в работах Руссо, Локка, Томаса Джефферсона.
(обратно)29
Хатшепсут («Находящаяся впереди благородных дам», 1490/1489–1468 до н.э., 1479–1458 до н.э. или 1504–1482 до н.э.) – женщина-фараон Нового царства Древнего Египта из XVIII династии.
(обратно)30
Имеется в виду сражение за Маленькую Круглую Высоту (Литл-Раунд-Топ), один из ключевых эпизодов битвы при Геттисбёрге, которое состоялось 2 июля 1863 г. во время американской Гражданской войны.
(обратно)31
Во многих культурах традиционно считается, что сильное вдувание воздуха во влагалище коровы (иногда – анус) приводит к повышению удоев от нее. Одна из причин, почему Ганди в свое время отказался от молока.
(обратно)32
Парафраз строк из гимна Северной Дакоты, написанного поэтом Джеймсом Фоули в 1926 г. на мотив гимна Австрии.
(обратно)33
Напротив, друг мой! (фр., эсперанто)
(обратно)34
Отвратительная личность (эсперанто).
(обратно)35
Шовинист (эсперанто).
(обратно)36
Седьмая стандартная параллель (45°56’07'N) разделила Территорию Дакоту, существовавшую с 1861 по 1889 гг., на Северную и Южную Дакоту. Граница была отмечена 720 кварцитовыми маркерами 7 футов в высоту, размещенными Чарлзом Бейтсом с полумильным интервалом в 1891–1892 г.
(обратно)37
Бычий Гон (Булл-Ран) – река в восточной Вирджинии, место двух крупных битв в американской Гражданской войне в 1861–1862 гг., в которых победы одерживали конфедераты.
(обратно)38
Имеется в виду Вторая индо-пакистанская война – вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, произошедший в августе-сентябре 1965 г. Начавшись с попытки Пакистана поднять восстание в индийской части спорного штата Кашмир, конфликт вскоре принял характер пограничной войны между двумя государствами. Боевые действия не выявили победителя; война завершилась вничью после вмешательства ООН.
(обратно)39
По ней с разделения Кореи после Второй мировой войны и до Корейской войны (1950–1953) проходила граница между Северной и Южной и Кореей.
(обратно)40
Битва при Зонкьо (она же битва при Сапьенце или первая битва при Лепанто) – морское сражение в ходе венециано-османской войны 1499–1503 гг., происходившее в августе 1499 г. Это было первое в истории морское сражение с использованием установленных на кораблях пушек.
(обратно)41
Окторон – человек, имеющий 1/8 часть негритянской крови.
(обратно)42
Дайм «Меркурий» – серебряные монеты США номиналом в 10 центов, которые чеканились с 1916 по 1945 г. На аверсе монеты изображен бюст женщины в крылатом шлеме, символизирующей Свободу, а на реверсе – пучок фасций. Хотя на монете Меркурий не изображен, за ней закрепилось имя мифологического персонажа: один из его атрибутов – крылатый шлем.
(обратно)43
Готический квартал находится в центре Старого города в Барселоне. Квартал начинается от площади Каталонии и простирается от Рамблы до проспекта Виа Лаетана. Свое название квартал получил благодаря сохранившимся постройкам, возведенным в Средние века, когда Арагон был одной из самых могущественных держав на Средиземном море.
(обратно)44
«Конестога» (конестогская повозка) – тяжелая прочная повозка с широкими колесами, крытая плотной материей; в нее запрягали 4–6 лошадей; на первой упряжке обычно сидели возчики. Такими повозками пользовались пионеры Запада – до 1850 г. она была главным транспортным средством, на котором пересекались горы Аллегени и осваивался фронтир, а также главным транспортным средством Орегонской тропы (с 1843 г.). На такой повозке передвигалась семья переселенцев со всем своим скарбом, на ней можно было перевозить до 8 тонн груза. За это «конестога» получила прозвище «движущей силы империи». Названа по району долины Конестога в Пенсильвании, где с 1725 г. эти повозки изготавливали голландские переселенцы.
(обратно)45
Биметаллизм (биметаллический стандарт, валютный дуализм) – денежная система, основанная на двух металлах, обычно на золоте и серебре; стоимость национальной денежной единицы выражается в определенных количествах как одного, так и второго металла, и соотношение между содержанием каждого металла в денежной единице фиксируется.
(обратно)46
Сотериология – церковное учение о спасении, понимаемом как обретение праведниками «вечного блаженства» в загробном мире, и об Иисусе Христе как Спасителе рода человеческого.
(обратно)47
Сивилон – испанский бык, знаменитый своей кротостью и отвагой. Коррида в Барселоне с его участием возбудила интерес всей нации, так любившей этого быка, что тореро сохранил ему жизнь. Сивилон, тем не менее, был убит и съеден фалангистами Франко, вступившими в Барселону 18 июля 1936 г., – эта дата считается началом гражданской войны в Испании.
(обратно)48
«Желанье» – первое работорговое судно в США, «Надежда» – работорговый бриг, доставлявший рабов из Африки в Род-Айленд.
(обратно)49
«Мокрым баром» называется барная стойка, оборудованная раковиной и водопроводным краном.
(обратно)50
Чиннамаста (Прачанда Чандика) – одна из «дашамахавидья», десяти тантрических богинь, богиня противоречий, символизирует два аспекта Великой Богини индуизма Дэви – дарение и отнятие жизни. Также служит символом сексуального самообладания и является воплощением сексуальной энергии, представляет смерть, бренность и разрушение, а также жизнь, бессмертие и сотворение, обозначает духовную самореализацию и пробуждение кундалини. Характеризуется материнским самопожертвованием, сексуальным доминированием и саморазрушительной яростью.
(обратно)51
2C – основное название психоделиков семейства фенилэтиламинов.
(обратно)52
Кагане́р (кат., букв. «серун») – распространенная в каталонских странах рождественская фигурка раскрашенного человечка в рождественском вертепе, справляющего большую нужду; согласно поверью, такая фигурка приносит ее обладателю удачу.
(обратно)53
Гайавата (1525?–1590?) – вождь племени мохок, основавший вместе с Деганавидой лигу Пяти наций ирокезов. Имя происходит от ирокезского «Гайовентха»; стал главным героем эпической поэмы Генри Уодсуорта Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (1855, рус. пер. И. Бунина).
(обратно)54
Джон Джей (1745–1829) – американский государственный деятель, один из отцов-основателей США, первый председатель Верховного суда США, дипломат, губернатор штата Нью-Йорк. Александр Гамильтон (1755/1757–1804) – государственный деятель США, видный деятель Первой американской буржуазной революции (Войны за независимость США); идеолог и руководитель Партии федералистов с момента ее создания, автор программы ускоренного торгово-промышленного развития США, 1-й министр финансов США.
(обратно)55
Бароны-разбойники – презрительное прозвище основателей крупных промышленно-финансовых корпораций, сколотивших состояния в период первичного накопления капитала во второй половине XIX и начале XX в., в частности в годы Гражданской войны и Реконструкции, причем зачастую при помощи обмана и грубой силы. В средневековой Европе баронами-разбойниками называли мелких феодалов, взимавших подати за проезд через свои земли.
(обратно)56
Саквояжники (или мешочники, carpetbaggers) – презрительное прозвище, которое давали мятежники-южане приезжим северянам, представителям федеральных властей в годы Гражданской войны 1861–1865 гг. и в период Реконструкции; изначально так называли северян, авантюристов и мародеров, приезжавших на Юг в надежде быстро сколотить там состояние и сделать политическую карьеру; впоследствии так называли беспринципных политических деятелей, политических пришельцев из других регионов, пытающихся завоевать голоса избирателей и соответственно выборные посты в ущерб местным политическим деятелям.
(обратно)57
Имеется в виду обычай пуританской Америки XVII века писать на лбу или прикреплять к одежде женщинам, обвиненным в прелюбодеянии, красную букву A (от англ. adultery).
(обратно)58
Хлопушками (или вертушками, flappers) называли молодых женщин 20-х гг. XX в., которые, чтобы продемонстрировать свою эмансипированность и раскрепощенность, коротко стриглись «под мальчика», носили длинные бусы, короткие прямые платья, открывавшие резинки на чулках, и подчеркивали свое «свободное поведение».
(обратно)59
Счастливого Рождества (исп.).
(обратно)60
Frère Jacques (Братец Якоб) – французская детская песенка, широко известное музыкальное многоголосное произведение, исполняется каноном. Впервые опубликована ок. 1780 г.
(обратно)61
Отсылка к речи будущего президента Линкольна 16 июня 1858 г. в Капитолии штата Иллинойс в Спрингфилде об опасности разделения по вопросу о рабстве; источник фразы – Марк, 3:25: «и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот» (синодальный перевод).
(обратно)62
Автопромышленник Генри Форд (1863–1947) пропагандировал культивирование сои в 1930-х гг. Нанятым им химикам Роберту Бойеру и Фрэнку Кэлверту удалось создать искусственное волокно из соевого белка, получившее название «азлон», которому так и не удалось выйти на потребительский рынок, однако к 1935 г. во всех автомобилях Форда уже были те или иные компоненты, изготовленные с применением сои (примерно 120 фунтов исходного сырья на один автомобиль). В 1932–1933 гг. компания Форда истратила свыше 1,25 млн долларов на исследования сои. Впоследствии Форд поддерживал разработку других пластиков на основе сои, из которых в 1941 г. был даже собран прототип автомобиля, получивший название «соевая машинка».
(обратно)63
Имеется в виду воинская повинность. По конституции президент США и конгресс имеют право объявить призыв в случае войны или при чрезвычайном положении в стране. В мирное время воинские контингенты формируются на добровольной основе. Но даже во время войны призыв осуществлялся преимущественно в сухопутные силы, а ВМФ и ВВС формировались главным образом как профессиональные силы. В период подготовки конституции ее создатели предполагали, что милиция штатов (прообраз Национальной гвардии) является достаточной основой для создания регулярной армии, и потому в основном законе воинская повинность не упоминается. Существует предание, что на Конституционном конвенте один из делегатов даже предложил, чтобы численность американской армии никогда не превышала 5 тыс. чел., на что Джордж Вашингтон заметил, что в таком случае следует принять поправку, что «численность солдат иностранной армии, захватывающей Соединенные Штаты, не должна превышать трех тысяч человек».
(обратно)64
Имеется в виду «нуллификационный кризис» – объявление Южной Каролиной недействительными тарифов 1828 и 1832 гг. вообще нуллификация в американской истории – экстремистское толкование прав штатов: отказ властей штата признавать или применять федеральный закон на территории своего штата. Основывается на теории, согласно которой Союз – результат договора между штатами, и они вправе не соблюдать законы федеральной власти, если последняя превышает делегированные ей полномочия. Впервые на практике была использована в резолюциях законодательных собраний Кентукки и Вирджинии (1798). Активным сторонником доктрины был Джон Колдуэлл Кэлхун (см. ниже), выступавший за объявление Южной Каролиной протекционистских тарифов 1828 и 1832 гг. недействительными. В 1832 г. власти Южной Каролины объявили т.н. «гнусный тариф» не имеющим юридической силы на своей территории. Южная Каролина грозила выходом из Союза, если конгресс или администрация предпримут какие-либо принудительные меры. Президент Эндрю Джексон и конгресс были готовы к таким мерам, но в конце концов приняли компромиссный тариф. Доктрина отмерла после поражения Юга в Гражданской войне.
(обратно)65
Вероятнее всего имеются в виду атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 6 августа 1945 г. и обращение президента Ричарда Никсона к нации 8 августа 1974 г., в котором он объявил о своей отставке после Уотергейтского скандала и импичмента.
(обратно)66
Никола Сакко (1891–1927) и Бартоломео Ванцетти (1888–1927) – участники движения за права рабочих, рабочие-анархисты, выходцы из Италии, проживавшие в США. Стали широко известны после того, как в 1920 г. в США им было предъявлено обвинение в убийстве кассира и двух охранников обувной фабрики в г. Саут-Брейнтри. На судебных процессах, проходивших в Плимуте, 14 июля 1921 г. суд присяжных, проигнорировав слабую доказательную базу обвинения и ряд свидетельских показаний, говоривших в пользу обвиняемых, вынес вердикт о виновности Сакко и Ванцетти и приговорил их к смертной казни. Все ходатайства были отклонены судебными органами штата Массачусетс. 23 августа 1927 г. Сакко и Ванцетти были казнены на электрическом стуле. В 1977 г. губернатор Массачусетса Майкл Дукакис официально заявил, что Сакко и Ванцетти были осуждены несправедливо.
(обратно)67
Минитмены – воины-ополченцы в начальный период Войны за независимость. Название связано с тем, что каждый член отряда должен был постоянно находиться в состоянии минутной боевой готовности. Ополченцы просуществовали до создания регулярной армии.
(обратно)68
Байрон Реймонд Уайт (1917–2002) – американский футболист и член Верховного суда США (1962–1993). Хьюго Лафайетт Блэк (1886–1971) – американский политик и член Верховного суда США (1937–1971). Оба считаются крайне влиятельными юристами, разрабатывавшими основные концепции американской юридической системы; дополнительную иронию сообщают, конечно, их фамилии («белый» и «черный» соответственно).
(обратно)69
Бетси Росс (Элизабет Гриском, 1752–1836) – филадельфийская швея, которая, согласно легенде, сшила первый американский флаг.
(обратно)70
Джон Колдуэлл Кэлхун (1782–1850) – один из наиболее влиятельных политиков в истории США, главный идеолог рабовладельческой политики южных штатов и лоббист их интересов в федеральном правительстве.
(обратно)71
Маркус Гарви (1887–1940) – ямайский политический лидер, журналист, издатель, деятель всемирного движения чернокожих за права и освобождение от угнетения. Основатель Всемирной ассоциации по улучшению положения негров (1914).
(обратно)





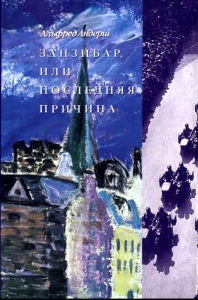
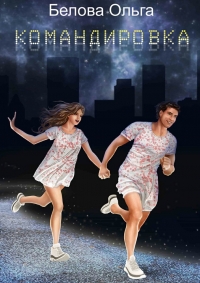


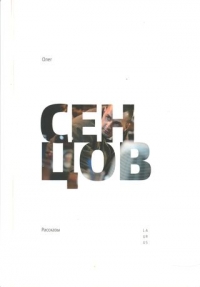
Комментарии к книге «Страна коров», Эдриан Джоунз Пирсон
Всего 0 комментариев