Ханс Кристиан Браннер
НИКТО НЕ ЗНАЕТ НОЧИ
INGEN KENDER NATTEN
Gyldendal 1955
Перевод Т. Величко (часть первая) и А. Афиногеновой (часть вторая)
Часть первая
1
Урчание автомобильного мотора донеслось откуда-то издалека и было еще едва различимо среди тусклых ночных звуков, но Симон уже лежал с открытыми глазами, понимая, что этого-то он все время и ждал.
Самое ужасное оказалось правдой.
Какой-то миг пронзившая его мысль существовала как бы вне его, повисла в воздухе, точно метеор, остановившийся в своем падении на полпути, но уже в следующую секунду чердачная комната словно вся бесшумно обрушилась, и остался лишь этот иглой буравящий сознание звук.
Самое ужасное всегда оказывается правдой.
Теперь мысль была уже внутри его, и он исторгал ее из себя, бросая в лицо неведомым высшим силам как вызов — и как заклинание, как обращенную к Богу невозможную мольбу о том, чтобы это оказалось неправдой. Одновременно он понимал, что это правда, что никакого Бога нет и нет никаких высших сил, а вся вина, вся ответственность лежат на нем. Он подумал об этом — и остатки сна слетели с него. Он сидел распрямившись и вслушивался в темноту.
Произошло самое ужасное, и, в сущности, он все время знал, что это произойдет. Таясь от самого себя, закрывая глаза на реальное положение вещей, он, однако же, знал это уже к полуночи: ведь Лидия так и не пришла, мрак и безмолвие обступили его со всех сторон, и тогда он не выдержал и принялся — в душе стыдясь, как человек, шпионящий за самим собой, — наводить порядок в обеих ее комнатах, одновременно исследуя возможности бегства через крышу, а напоследок улегся на матрац в кладовке под самыми кровельными балками, чтобы слушать, прислушиваться вопреки всем надеждам, прислушиваться даже во сне. И вот, вместо ее быстрых, легких шагов вверх по длинной лестнице, долетела издалека эта ниточка звука — он его ждал и знал, что он означает. Потому что не только сейчас, когда он остался ночью один, но и прошлой ночью, когда она еще была с ним, он уже это чувствовал, это мелькало сквозь ее легкие, быстрые слова (слова — точно рыбья стайка, мельканье рыбешек, заметавшихся в страхе перед чем-то пока еще незримым, пока не слышным), и сквозь ее странно пустые, бессмысленные рыдания (исступленные рыдания, чтобы ничего не слышать, полные слез глаза, чтобы ничего не видеть), и потом тоже, когда она, скинув одежду, стояла перед ним, белая и чужая, и даже когда она лежала с ним в темноте и в ее жестких объятиях и бурных конвульсиях страсти чудился страх, паническая судорога. Но в самый первый раз, и с убийственной уверенностью, он почувствовал это еще три дня назад, когда неожиданно увидел ее возле Лангебро после очень долгого, в несколько месяцев, перерыва и пошел следом за нею по мосту, мимо немецких патрулей, а она шла впереди, одетая совсем не по-зимнему, с непокрытой головой, несмотря на мороз, почти прозрачная в холодном солнечном сиянии, со своими светящимися волосами и тонкой шеей, скользила легко и быстро на своих длинных скользящих ногах в густом уличном потоке — точно призрак средь бела дня или сомнамбула над краем пропасти, бездумно и безоглядно устремляясь навстречу внезапной и страшной гибели. Такое у него было тогда ощущение, и он не собирался подходить и заговаривать с ней, хотел только посмотреть, куда она пойдет. Но она, очевидно, заметила его и знала, что он идет следом, потому что посередине моста вдруг резко обернулась и взглянула на него с улыбкой — и в памяти его мгновенно всплыл один из дней далекого прошлого: тот день, когда она увела его на чердак. Они с Лидией, тогда еще подростки, долго сидели, спрятавшись в укромном месте, потому что все мальчишки во дворе ополчились против них, а когда начало смеркаться, она крепко взяла его за руку, повела сначала по лестнице на самый верх, а потом по узкому чердачному ходу, вставила вдруг ключ в висячий замок, отперла дверь и, втянув его за собой внутрь, обернулась и взглянула на него в сумеречном свете из чердачного окошка с какой-то странной бледной улыбкой, а после они лежали, тесно прижавшись друг к другу, и смотрели друг на друга в полном молчании, и он слышал удары колокола, которые кругами расходились над миром и растворялись в тишине как чистый, тонкий стеклянный звон…
Двор был глубокий, как ствол шахты, с серовато-белесыми стенами домов и четырехугольником серовато-белесого неба, которое никогда не менялось, ни зимой ни летом; день-деньской не смолкали здесь громкие пронзительные крики и топот деревянных башмаков, и все игры неизменно кончались общей свалкой — клубок сражающихся рук и ног, а внизу, под всеми, кто-нибудь истошно вопит, отчего окна одно за другим начинали распахиваться и раздавались сердитые взрослые окрики. Но под вечер, когда возвращались домой мальчишки — разносчики молока в форменных фуражках и синих блузах, воцарялась опасливая тишина, и только у Лидии хватало смелости свистеть им вслед, дразнить и задирать их, несмотря на то что они всякий раз ловили ее и таскали по всему двору, вывернув руки за спину и зажав ее голову под мышкой, так что буйные рыжие космы рассыпались по лицу, а иногда они сваливали ее наземь и, схватив за волосы, провозили по луже лицом, вымазывали всю в грязи, но стоило ее отпустить, как она опять накидывалась на них, точно разъяренная кошка, насмехалась еще злее прежнего и всем телом выказывала свое презрение, извиваясь в дикой пляске, отчего рыжие космы подпрыгивали и светились огнем, и тогда ее снова хватали, и все начиналось сначала. Но Лидия никогда не ревела и никогда не звала на помощь мать, да и к чему, ведь, если ее мать показывалась в окне, старшие ребята выстраивались, подбоченясь, и орали, что она шлюха. Симон, конечно, знал, что означает это слово: он слышал их рассказы и видел их рисунки на стене, — и, однако же, не смел знать, потому что все это имело касательство к Богу, к греху и к каре господней, к страшному божьему гневу, и когда он маленьким ребенком впервые услышал, а потом произнес это слово дома, отец отвел его к себе в сапожную мастерскую и принялся вышибать греховные речи жестким ремнем, ничего не объясняя. Поэтому он не смел прислушиваться к перебранке старших ребят с матерью Лидии, но он знал, что к ней иногда наведывается полиция, а после Господа Бога полиция была страшнее всего. Но в тот день, когда полиция явилась в последний раз, наступила тишина, полнейшая тишина была во дворе, пока полицейские там находились, зато потом вспыхнуло дикое буйство, все скакали и плясали, став в круг, и хором нараспев выкрикивали: «У Лидии мать шлю-ха! У Лидии мать шлю-ха!», а в середине круга стояла Лидия с бледным заносчивым лицом, обрамленным рыжими волосами, и ничего не говорила, только плевалась да еще показывала нос, широко растопырив десять пальцев и задрав для удлинения вытянутую ногу, и тогда все стали нараспев выкрикивать: «А она — без штанов! А она — без штанов!» Сам он не кричал, он стоял в стороне и не знал, кто без штанов, Лидия или ее мать, за спинами ребят он видел лишь длинную качающуюся ногу Лидии в дырявом чулке и серовато-белесую кожу над краем чулка, но тут широкий круг сжался в тесную кучу, и он услышал, как они кричат, что она ведьма, надо ее повесить, изжарить, сжечь, утопить, и вдруг откуда-то взялся мешок, и они натянули его Лидии на голову. Тогда он не выдержал и бросился прямо на них, и все исчезло, его поглотила орущая, давящая тьма, из глаз сыпались искры, на зубах хрустело, рот наполнился кровью вперемешку с землей, но, когда его отпустили и он опять прозрел, мешок лежал на земле и трепыхался, как рыба, хотя верх его был завязан прыгалкой. Это было жутко, он сидел, оцепенев от ужаса, ощущая во рту вкус крови, и тут кто-то крикнул, что ее надо сжечь живьем, как когда-то сжигали ведьм, но кто-то другой крикнул, что сперва ее надо утопить, а мешок между тем лежал и трепыхался, один-одинешенек посреди двора, и хотя он прекрасно знал, что они никогда этого не сделают, все же это была не игра, в этом было что-то реальное, что-то жуткое, — где же взрослые, чего они не идут? Но взрослые так и не пришли на выручку Лидии, и вот безмолвно бьющийся мешок стаскивают вниз по лестнице в прачечный подвал и напускают воды в большую деревянную лохань. Он не помнил, как очутился в подвале вместе со всеми, но, очутившись там, он со всего маху ударил кого-то головой в живот, а потом вслепую отбивался от целого леса вцепившихся в него рук, но внезапно и сам каким-то образом оказался в душной темноте мешка, и брыкался, и орал совершенно беззвучно, орал так громко, что звуков не было, была только кровь, и мешок, и трепыхающиеся руки и ноги Лидии, и ой уже не разбирал, где он сам и где она, и раздался всплеск, и он утонул и долго-долго оставался мертв, пока не вернулись свет и воздух, и сквозь шум воды он услышал гиканье, и хохот, и стук деревянных башмаков по каменному полу — всех вдруг точно ветром сдуло, а он уже поднялся на ноги и смотрел на Лидию, которая медленно выкарабкивалась из мешка, свисавшие на. лицо космы намокли, но все равно пылали, как огонь, который даже вода бессильна погасить. Она и теперь не произнесла ни слова, просто стояла и прислушивалась, крепко держа его за руку, и тут до них донесся сердитый голос дворника и тяжелые шаги вниз по каменным ступеням. «Пошли!»— сказала она и потащила его за собой по подвальному коридору, они спрятались в угольной яме и долго сидели, не разговаривая и не видя друг друга в темноте, а стоило им шевельнуться, как угольная куча начинала осыпаться, и дворник мог прийти на шум и найти их, и тогда бы все кончилось страшным божьим гневом. Поэтому он сидел совсем тихо, почти не дыша, хотя мокрая одежда липла к телу и холод снизу полз по ногам вверх — сырой черный холод и что-то еще, что-то странное, чего он не понимал.
Но когда начало смеркаться и кругом все стихло, она крепко взяла его за руку, повела по лестнице на самый верх и, пройдя узкий чердачный ход, вставила ключ в висячий замок — откуда у нее вдруг оказался ключ? — отперла дверь и, втянув его за собой внутрь, улыбнулась ему в сумеречном свете из чердачного окошка. Это было до того удивительно, он еще ни разу не видел, чтобы Лидия улыбалась, думал, что она вообще не умеет улыбаться, а она опять сказала: «Пошли!» — и еще сказала «мальчик» и «слышишь», и звучало это так, будто она взрослая, хотя ей было четырнадцать лет, она была всего на год старше, и вдруг получилось, что они стоят, прижавшись друг к другу, в своей насквозь промокшей одежде, дрожа и стуча зубами от холода. Но не только от холода — он чувствовал пронзительный запах мокрых волос и кожи Лидии, а ее крепкие пальцы по-прежнему не отпускали его руку: «Вот так, — сказала она, стуча зубами, — нет, не так, вот так!» Но ему было страшно, и он не понимал, чего она от него хочет, что нужно делать, он словно держал в руках рыбину, мокрую, скользкую рыбину, и хотя он слышал рассказы об этом и видел рисунки, в жизни все было совсем по-другому, это было ужасно — и он стал вырываться. А она вдруг повернулась к нему спиной, закрыла лицо, и рыжие волосы так странно задергались, и это было еще страшнее, потому что он представить себе не мог, что Лидия и плакать тоже умеет. Он сразу размяк и в замешательстве услышал собственный голос, бормотавший «Лидия!» и «Ну Лидия, милая!», хотел обнять ее за шею, но она в мгновение ока превратилась опять в прежнюю Лидию, прошипела «Сдрейфил!» и «Маменькин сынок!» и всадила кулак ему в живот, так что у него в глазах потемнело, и недоуменная ярость вспыхнула в нем: ведь, если бы не он, ее бы утопили. Они сцепились, храня гробовое молчание, и повалились на пол, и что-то большое и длинное — стремянка? — с грохотом рухнуло на них из темноты — ну, все, сейчас кто-нибудь придет! — но никто не пришел, они были одни на всем белом свете, прикованные друг к другу немой яростью ненавидящих глаз, ощеренных зубов, переплетенных рук и ног — как в мешке, в мешке под водой, — и она была сильнее и подмяла его под себя, но, он схватил ее за волосы, потянул вниз, и она оказалась под ним — и теперь он понял, чего она хочет, потому что она вытянулась, налилась тяжестью, лежала и шептала: «Бей меня, мальчик, слышишь, бей меня, бей что есть силы» — и еще что-то про боль: «Надо, чтоб было больно!» А потом начала расстегивать на нем одежду, долго расстегивала, пуговицы никак не пролезали через мокрые петли, и после этого он уже не знал, что она делает с ним и что он делает с ней, пока она вдруг рывком не оттолкнула его от себя с криком «Уйди!», и что-то стало выплескиваться наружу сильными, резкими толчками — жизнь, и кровь, и все выплескивалось из него, он взирал на это с ужасом, словно видел со стороны собственную смерть. Потом, когда они уже оделись и все было позади, они тихо лежали и смотрели друг на друга, и ее лицо было так близко, что он видел последние отблески дневного света, прозрачными змейками струившиеся в уголках ее глаз. Но они не прикасались друг к другу, не улыбались и не говорили ни слова, потому что оба знали, оба слишком хорошо понимали: ничто им не поможет. Ни к чему давать друг другу обещания, ни к чему пытаться спрятаться здесь или вместе куда-то бежать: куда бы они ни убежали, полиция все равно их поймает, и Лидию отправят в интернат для трудновоспитуемых девочек, а на него обрушится гнев божий. Но одновременно они знали: то, что соединяет их сейчас, в эту минуту, останется с ними навсегда, до самой смерти, и ничто не сможет этого изменить. Они лежали совсем тихо и говорили это друг другу глазами. В опустившихся сумерках разнеслись над крышами медленные, тягучие удары колокола, они лежали и считали их, пока последний не растаял в тишине как тонкий стеклянный звон. И — словно какая-то дверь затворилась, неслышно, беззвучно. Она снова ему улыбнулась, и он тоже улыбнулся в ответ, думая о том, до чего же все удивительно.
Вечером инспекция по охране детей явилась и увела Лидию, а сам он всю ночь просидел взаперти, один на один с гневом божьим. Прошло много лет, и вот три дня назад все ожило в памяти на мосту Лангебро, когда Лидия обернулась к нему с той же бледной, сумеречной улыбкой в морозном солнечном сиянии, а теперь он словно проснулся на том же чердаке и услышал тот же звук. Происходящее со мной сейчас, подумал он, самое ужасное, не произошло ли оно еще тогда, много лет назад, или я уже тогда знал, что оно произойдет? Неужели все-таки действительно существует нечто, именуемое судьбой, — судьба человека, изначально заданный повторяющийся трафарет, в котором никакой поступок не может что-либо изменить, никакая мысль не может что-либо добавить или убавить?
«Чушь!» — запальчиво буркнул Симон. Он пульнул этим словом по темным нагромождениям хлама в кладовке, словно то было скопление вражеских сил, весь отвергнутый мир буржуазных воззрений, который, воспользовавшись его минутной слабостью, коварно проник к нему в сознание. К чему ударяться в мистицизм и черную романтику — от фактов не уйдешь. Он потерял голову — вот и вся правда. Три дня назад он совершенно случайно встретил Лидию на Лангебро и тотчас опять с ней связался, хотя было более чем достаточно оснований остеречься, один ее вид чего стоил: лицо, залепленное белой как мел пудрой, крашеные волосы, тонкое черное вечернее платье, шелковые чулки и туфли на высоких каблуках — это утром-то, и почему она была не на фабрике? У нее освобождение по болезни, объяснила она, но она ведь была здорова, и почему она разгуливала по городу такая расфуфыренная, где провела ночь и куда направлялась? Она не отвечала на его расспросы, только улыбалась, и он, конечно, понял, что ночью она пила, а возможно, пила много ночей подряд, и, несмотря на это — или именно поэтому, чтобы спасти ее, уберечь от порока (порока, ха-ха) — или еще того хуже: просто потому, что ревность в нем заговорила? — так вот, несмотря на это, он возобновил прежние безнадежные отношения с ней, да еще и проводит ночи здесь, в доме, где он раньше жил и куда всегда могут прийти его разыскивать. Но нет, у нее он в полной безопасности, сказала она с улыбкой, и он, идиот, поверил, хотя ему бы следовало знать цену этой лживой пьяной улыбочке; и откуда, спрашивается, взяла она деньги на ковер и новую мягкую мебель с обивкой отвратного темно-фиолетового цвета (цвет ночи, буржуазный символ порока!), а этот запах турецкого табака, откуда у нее сигареты с турецким табаком? Кто в Дании курит сейчас такие сигареты? Ему бы остановиться на минутку да подумать, так нет, он не остановился, он вообще утратил всякую способность разумно мыслить с того мгновения, как пошел следом за нею по мосту, и вот теперь его настигло самое ужасное — то неизбежное, чего он все время ждал, но во что не хотел верить. Ибо вопреки всему невозможно, совершенно невозможно примириться с мыслью, что Лидия действительно его выдала. Даже сейчас, когда он, забыв о сне, сидел и натягивал на себя носки — вот машина свернула за угол, урчание приближалось, — даже в эту минуту он все еще не мог поверить и думал, словно взывая о помощи, словно воссылая мольбу, что, скорее всего, это произошло помимо Лидии, что прямой ее вины здесь нет. Но шум мотора стал еще слышней, вызывая в сознании почти осязаемый образ ритмично работающих поршней, и он почувствовал, как сердце гулко и часто застучало в ответ, словно у узника, в котором стук из соседней камеры пробудил отчаянную надежду (надежду на что, на пытку и смерть?), и стал заклинать себя: черт подери, хватит, не трусить, этим делу не поможешь! — хотя прекрасно понимал, что заклинания тоже не помогут, а только подхлестнут слепой животный страх, и самое разумное — сосредоточить все внимание на окружающих предметах, на вещах, оказавшихся сейчас под рукой, и сразу же заметил, что прорвал большую дыру в пятке носка, и решил, что попросит Магду заштопать его, и поразился этой мещански благоразумной мыслишке — не факт, что он еще когда-нибудь встретится с Магдой, сейчас для него самое главное — не даться им в руки живым. Одновременно он машинально потянулся за пистолетом, проверил, поставлен ли он на предохранитель, и сунул опять на место, под кожанку, и на миг забыл обо всем остальном, ощущая лишь собственное тело, мужское тело, сжавшееся в комок и заряженное ненавистью. Но когда он встал, чтобы отворить слуховое окно, то споткнулся впотьмах о свой матрац и упал ничком, почти беззвучно, потому что матрац заглушил удар, но пистолет, попавший между ног, причинил такую боль, что в первое мгновение он не мог шевельнуться, и в белом свете молнией пронзившей его боли он вновь увидел перед собой Лидию, ее обнаженное тело, ярко белеющее на темно-фиолетовом, цвета ночи, фоне комнаты, будто выхваченное из тьмы вспышкой осветительной бомбы, — женщина-взрыв с выгнутым дугою телом, с запрокинутой головой и бутылкой у рта… Символ порока, вновь подумал он и невольно застонал, голая пьяная баба с бутылкой портвейна, к тому же безобразная: безобразная длинноногая девчоночья фигура с острыми коленками и тощими ляжками, рыбьей белизны кожа с коричневыми веснушками на плечах, грудь плоская, как у мальчишки, — абсолютно ничего в ней не изменилось, все точь-в-точь как в самый первый раз! От боли и ярости он впился зубами в матрац, словно его уже схватили и пытают, лежал и думал: до самой последней минуты, напрягая воображение, все время видеть ее перед собой — это поможет мне держать язык за зубами! И одновременно: не трусить, от этого проку не будет! И одновременно: живым — ни за что, главное — не даться им в руки живым, твоя вина — тебе и расплачиваться. Какое-то время он лежал совсем тихо, боль понемногу отпускала его — а урчание, куда вдруг девалось урчание мотора? Неужели ему примерещилось? Он ощутил во всем теле пустоту и подумал, спокойно и ясно, что вина, раскаяние — это все буржуазная болтология, не приносящая никакой пользы делу. Он думал об этом с чувством стыда за свой рецидив буржуазности, одновременно сознавая, что и стыдиться тоже никогда не следует, а также сознавая глубоко в душе, под всеми этими затверженными истинами, что никакие ясные и разумные мысли сейчас не помогут и он по-прежнему останется во власти воспоминания: тонкое белое тело Лидии — как пляшущее пламя и его собственная ненависть и вожделение — как самому себе уготованный карающий бич. Он занес его над своей головой, точно кающийся инок во тьме монастырской кельи, и обрушил град ударов на свою окровавленную спину.
С самого начала он дал себе клятву, что не станет бить Лидию, он не хотел больше служить орудием ее мазохистского самоунижения и самоистязания, которые считал клеймом, оставленным на ней общественной системой, и, когда он вернулся из кухни и увидел, что она стоит нагая и пьет из горлышка, он спокойно подошел, вырвал у нее бутылку и вылил остаток вина в раковину, и даже когда она набросилась на него с кулаками, он лишь схватил ее покрепче за руки и сказал: «Лидия, ну послушай меня, Лидия!», полагая, что должны же они наконец начать разговаривать друг с другом по-человечески. Но он не мог поймать ее взгляд, волосы падали ей на лицо, и сквозь космы виден был лишь ее перекошенный рот, который выпаливал без перерыва: «Христосик! Святоша!», но он твердил себе, что это общество, общественная система вколотила в нее свою ненависть и свое презрение, и не отпускал ее, продолжая прочувственно говорить о том, как необходимо сейчас поддерживать друг друга, думать о своих товарищах, и в конце концов она вроде бы поддалась на уговоры, худенькие веснушчатые плечи зябко съежились и задрожали, словно от рыданий, она стала похожа на затравленную девчонку с чуточной грудью, понуренной головой и смиренно свисающими волосами, но едва он ее отпустил, как она снова сделалась прежней и крикнула: «Ненавижу, я ненавижу тебя, всех вас ненавижу, вам бы только молоть языком, судить да рядить, а другие вот умеют танцевать, мне других подайте, солдатика подайте — и чтоб в сапогах!» — и пошла отплясывать комический солдатский «танец в сапогах», резко притопывая пятками об пол, — тощая, голая, длинноногая. И тут злость захлестнула его, он Ударил ее наотмашь по лицу и увидел, как глаза ее сверкнули безумием из-под пляшущих волос, и услышал ее крик: «Давай, давай! Бей меня, избей до смерти!», и звук ее голоса был как удар током, от которого ненависть и вожделение слились воедино и втянули его в привычную игру, и тут он перестал понимать, сейчас это происходит или это было Десять лет назад или еще раньше, в детстве. Он успел лишь ощутить внутри звенящую пустоту, а дальше сознание его отключилось, и все происходило вне времени, развертывалось перед глазами плавно и тягуче, как в кинокадрах с замедленной съемкой. Вот Лидия, танцуя, пятится к стене, удивительно грациозно, по-кенгуриному подпрыгивая, вот она стукается о стену и поникает, укрытая рыжевато-каштановыми волоса-Ми, плавно раскачивается взад и вперед, как морская трава, колеблемая подводными вихрями, а когда он к ней приближается, она медленно выставляет вперед рыбьей белизны руки, загораживая невидимое лицо. Но он не стал отводить ее руки, он спокойно и уверенно намотал длинные пряди себе на пальцы, и за волосы поднял ее с пола, и встретил кристально ясную злость в ее глазах, и долго, отчужденно выдерживал ее взгляд, пока она медленным движением не вонзила ему в лицо свои острые когти, прочертившие кровавые царапины на его щеках и на шее. И тогда он снова ее ударил, и еще ударил, и еще, так что она отпрянула, танцуя, попятилась назад через всю комнату, танцуя с медлительной грацией, и поникла у противоположной стены. Так продолжалась эта игра в полном согласии с незыблемым ритуалом, и к концу ее Лидия была уже не человек, не женщина — она вся обратилась в слепую и глухую страсть, в жажду отдать себя на растерзание и на смерть, обратилась в бесформенное нечто, ведущее игру на грани жизни и смерти и поникшее у его ног. Он поднял ее и унес во тьму. Но когда он уже лежал с нею, сознание прояснилось: он понял, что она опять добилась своего и что эта игра не кончится, пока не погубит их обоих. Лидия и сама была напугана, он чувствовал это по ее влажным ладоням и судорожно напряженным ногам. Он справился с ее страхом, взял ее спокойно и искусно, но даже в миг кульминации не ошутил ничего, кроме пустоты внутри. Когда все кончилось, она прильнула к нему и плакала, молила, клялась: она его любит, никогда никого не любила и никогда никого не полюбит, кроме него, она вовсе не хотела… пусть он не думает… А он тихо лежал и машинально гладил ее по голове, вперив взгляд в темноту и думая о том, что слишком поздно менять что-либо в их отношениях и теперь скоро все кончится.
Он не слышал, как подъехала машина, но где-то внизу тяжело затопали по лестнице сапоги, потом пронзительно, на весь дом затрезвонил звонок. К этому времени он давно уже был на ногах, успел скатать матрац вместе с одеялом и запихнуть в старый шкаф, и только когда он вылез на крышу и, лежа на животе, пытался прикрыть за собой окно, грохнула взломанная дверь. Значит, сама Лидия, во всяком случае, с ними не пришла. Если их там не очень много, он сумеет воспользоваться преимуществом во времени — у него есть несколько минут, — а их, наверно, четверо, не больше: насколько он расслышал, это была малолитражка.
Он оторвался от оконного карниза и боком храбро двинулся в открытую тьму. Крыша в этом месте оказалась не слишком крутая, по ней можно было передвигаться вдоль выступающего ряда слуховых окон, но мороз за ночь сменился оттепелью, чего он не предусмотрел, резиновые подметки не устояли на скользких шиферных плитках, он покатился на четвереньках вниз, перелетев через острый край, попал на почти отвесный участок, напоролся на козырек над окном мансарды, что несколько умерило скорость падения, и, услышав, как скрипнул под ногами водосточный желоб, понял, что все: это смерть. Но почему-то не рухнул вниз, лежал неподвижно, чувствуя оцепеневшими ногами притяжение черной разверстой пасти двора, а потом, придя понемногу в себя, обнаружил, что прямо над его головой находится окно — за светомаскировочными шторами горел свет и испуганный женский голос звал и звал: «Альфред! Альфред!», а хриплый мужской голос откликался из глубины, но слов было не разобрать. Он едва успел подумать вслух: «Да замолчи ты, чертова баба!», как внезапно налетевший вихрь заглушил голоса, и в следующее мгновение сильный ливень со шквальным ветром обрушился на крышу, точно целое полчище фурий. Всего за несколько секунд одежда промокла и прилипла к спине, занемевшие руки потеряли чувствительность; и странная безысходная усталость навалилась на него. Он проговорился Лидии?… И теперь все равно слишком поздно? Так не проще ли отцепиться и — вниз головой?… «Идиот, — прошептал он зажатыми между рукавами кожанки губами, — если ты ей проговорился, то самое главное — успеть предупредить своих. Лучше уж попасться живым, чем свернуть себе шею по доброй воле!»
Он осторожно приподнялся на локтях и коленях; под резким ветром и слепящим дождем, цепляясь непослушными руками за какие-то непонятные острия и зубцы, стал ощупью карабкаться по крутому ледяному откосу — чудовищно высоко над будничными городскими улицами. Упершись ногами в выступ мансарды, он остановился перевести дух. «Романтика, — процедил он сквозь зубы, — романтическая игра в солдаты и разбойники. К черту романтическую шелуху! Это работа, просто работа, которая должна быть сделана. Проклятая, идиотская работа, такая же, как стрелять в людей. Но она должна быть сделана. Давай дальше!» — скомандовал он.
Наконец он взобрался на гребень крыши и пополз на четвереньках по узкой плоской верхушке. Ветер налетал бешеными шквалами, то и дело приходилось останавливаться и ложиться плашмя, и все же он на удивление быстро и уверенно продвигался вперед, чуть ли не мгновенно очутился у поворота крыши и пошел дальше по боковой части здания, где ветер дул ему в спину и можно было стать во весь рост. Добравшись до фронтона, он стал скользить на животе вниз, пока не наскочил на водосточную трубу, которая спускалась на плоскую кровлю низкого здания мастерских. Оттуда он без особого труда сможет спрыгнуть на землю. Квартал этот он заранее обошел и осмотрел, маршрут был продуман, теперь все зависело от того, выдержит ли его труба. Спустив ноги, он услышал как будто треск ломающегося льда и, скользя на бешеной скорости вниз сквозь тьму, отчаянно воззвал к неведомым высшим силам, моля, чтобы труба не подвела, после чего благополучно приземлился на крыше мастерских и желчно усмехнулся, адресуясь к неведомым силам и собственному страху. Одновременно его ступившие на крышу ноги с дьявольской точностью включили серию пронзительно-резких протяжных звуков — словно стальное лезвие механической пилы вонзилось в него, кромсая длинными зубьями мышцы и нервы. Сирена! — сказал он себе, повис на карнизе и отпустил руки, но тотчас спохватился и сделал немыслимую попытку повернуть прямо на лету, в воздухе — не туда, вот идиот! — и тут асфальтированный двор подпрыгнул и со всего маху врезался ему в подошвы. И он опрокинулся на спину, и снова вскочил на ноги, и заметался вдоль стены дома, как крыса, и перед ним разверзлась вдруг черная яма, и он нырнул в нее головой — а дальше было падение в грохочущую бездну, где тяжелые круглые комья сыпались со всех сторон, ударяя в затылок и в спину, норовя погрести его под собой. «Помогите!» — задушенно крикнул он и низвергся через люк времени прямо в ад: тринадцатилетний мальчишка, запертый в аду, оставленный наедине с гневом божьим на целую ночь. Потом, достав ногами дно и выбравшись из-под комьев, он стоял с пистолетом на изготовку и ждал криков, топота бегущих ног. Но никто не появился. Черная лавина у него над головой успокоилась, лишь местами продолжая нерешительно обваливаться. Холодная испарина покрыла его тело.
Он взял в руку округлый ком. Прессованный торф, догадался он, и одновременно до него дошло, что сирена была никакая не сирена, а вопли самых обыкновенных котов, нашедших приют на плоской крыше под фронтонной стеной. Ну и ну, пары блудливых котов оказалось достаточно, чтобы он потерял всякое соображение, спрыгнул не на ту сторону и очутился во дворе. «А сам-то ты кто, как не кот ошалелый!» — сказал он себе и вновь увидел перед собой Лидию, тонкое белое тело Лидии и длинные пританцовывающие ноги:…а другие вот умеют танцевать, мне других подайте, солдатика подайте — и чтоб в сапогах… «Она сидит с этими другими в ночных кабаре, танцует свои танцы с зелеными униформами и черными сапогами». — «Неправда, она нарочно так сказала, чтобы меня взбесить». — «И ей таки это удалось. Вот уже несколько суток, как ты не в своем уме. Возможно, ты сболтнул что-нибудь такое, что наведет их на след». — «Нет, нет, неправда, скорее всего, это произошло помимо нее, не думаю, чтобы она была прямо в этом виновата». — «Виновата? Да ты один во всем виноват!» — «Неправда, не может быть…» Но это была правда, ибо самое ужасное всегда оказывается правдой, это он усвоил еще мальчишкой, и вот пожалуйста: он опять здесь сидит, мокрый, черный, избитый, как тогда в угольном подвале с Лидией. «Неужели все-таки действительно существует нечто, именуемое судьбой? — вопросил он, будто ожидая услышать ответ в шуме дождя и завывании ветра над крышами. — Мистика, — пробормотал он, — черная романтика». И одновременно подумал, что опять подпал под власть старой дурной привычки разговаривать вслух с самим собой, и в эту опасную для жизни минуту невольно устыдился. Но стыд — это буржуазный предрас… «Ладно, дальше!»— буркнул он.
Он принялся шарить вокруг себя в кромешной тьме и обнаружил в решетчатой загородке дверь, ведущую в подвальный коридор. С наружной стороны на двери висел замок, но ему понадобилась всего минута, чтобы с помощью ножика сорвать одну скобу. Очутившись в коридоре, он попытался сообразить, в какую сторону идти к выходу, но потерял ориентировку и не мог взять в толк, где он сейчас находится. Двигаясь ощупью вдоль шероховатой подвальной стены, дошел до входа в помещение, где в темноте слышался монотонный звук капающей воды. Беспрестанно стукаясь коленями о какие-то острые края, он в конце концов добрался до водопроводного крана над деревянной лоханью с замоченным бельем. Пустил воду и стал с жадностью пить, потом обтер себе лицо тряпкой из лохани — кожу, расцарапанную ногтями Лидии, больно саднило. «Как кот ошалелый», — сказал он опять с желчной усмешкой и подумал: комедия, надо относиться к этому с юмором — и, двигаясь ощупью дальше, попал в подвальный отсек с теплым и влажным воздухом, в длинных трубах что-то глухо шипело, а сгустившийся мрак материализовался в мокрые шерстяные вещи, которые свисали с потолка и шлепали его по лицу, так что приходилось идти согнувшись, чтобы их не задевать. Он почувствовал что-то вроде детского страха перед темнотой и припомнил опять долгие черные ночи, когда он сидел под замком в подвале, один на один с гневом божьим. «Выберусь я когда-нибудь или нет?» — спросил он с горечью и на миг приостановился, чтобы понять наконец, где он и что с ним, и дать выход своей ненависти к Богу, и к собственному отцу, и к темной задней комнатушке в сапожной мастерской, и к изображению окровавленного Иисуса Христа в терновом венце, с искаженным болью ртом…
Откуда-то потянуло холодом, и он пошел наугад навстречу току воздуха. Натолкнувшись на дверь, вышел через нее в узкий проход, где сквозило еще сильнее, потом свернул за угол, наскочил еще на одну дверь и неожиданно оказался на дне лестничной шахты. Затаив дыхание, он прислушался, но кругом было тихо, из матового окошка наверху падал слабый желтоватый свет. Все лестничные клетки в доме одинаковые, но этот подъезд, по-видимому, довольно далеко от подъезда Лидии, иначе он бы расслышал отголоски гестаповского налета. Хотя возможно, они уже убрались восвояси — сколько же времени прошло с тех пор, как они нагрянули? Час или пять минут — он понятия не имел. Осторожно поднявшись по лестнице к выходу из парадного, он постоял, держась рукой за замок наружной двери, с улицы тоже не долетало ни звука. Тогда он приоткрыл дверь, мигом протиснулся через нее и бесшумно затворил — лишь неотвратимый щелчок замка нарушил тишину.
«Так, спокойно», — сказал он, чувствуя, как колотится сердце, и прижался спиной к стене, чтобы ноги в панике не понесли его прочь. Ливень прошел, и ветер улегся, лишь туманная мгла висела в воздухе, точно пелена из ледяных иголочек, он ощущал ее кожей лица и рук. На улице не горел ни один фонарь, но он различал очертания крыш, выделяющихся в темноте своей более черной темнотой, а справа виднелся на расстоянии слабый свет и угадывалось открытое пространство — должно быть, полотно железной дороги, за которым, еще дальше, — Страндвайен с богатыми особняками и берег пролива. Если это так, значит, он оказался на улице, перпендикулярной улице Лидии, и надо идти налево, чтобы обогнуть квартал задами. Оторвавшись от стены, он ощутил, как стучит кровь в горле и в висках, и ноги опять чуть было не понесли его бегом, но он сумел их укротить и пошел, медленно и беззвучно ступая на своих резиновых подметках, к углу, потом свернул — и тотчас понял, что перепутал направление, а поворачивать назад поздно, и теперь остается лишь перебежать через полотно и попытаться скрыться по ту сторону железной дороги, где проходит Страндвайен, самое главное — не даться им в руки живым, Это была его последняя осознанная мысль, дальнейшее разыгралось столь скоропалительно, что время и связь событий — все исчезло в ослепительном взрыве света, и в образовавшейся пустоте, где ничего не происходило, он все бежал и бежал на месте, и слышал какие-то звуки, и видел пепельно-серые тени, которые, будто кружась в танце, вплывали в пятно света. Гестаповская машина была где-то у него за спиной, но одновременно все время находилась прямо перед глазами, и он все бежал прочь от нее и навстречу ей, и впереди машины возникла блекло-зеленая фигура, невесомая и бесплотная, будто вырезанная из прозрачной бумаги, и в руках у нее маячила тень автомата, и откуда-то беспрестанно слышались крики «Halt!» [1] и резкие свистки, но автомат не стрелял, не стрелял, никак не стрелял — и, однако же, стрелял безостановочно, воздух сотрясали глухие толчки, и незримый хлыст, отрывисто Щелкая, играл вокруг его ног, и асфальт круто вздымался вверх в ослепительном свете и, как лава, вскипал под ударами хлыста, и кусок серой стены дома, описав дугу, въехал в пятно света, и хлыст полоснул по нему, прочертив воздух длинной слепящей молнией, но все это не имело никакого отношения к нему, он был недосягаем в мертвой пустоте, где бежал и бежал на месте, и видел скользящий мимо асфальт, похожий на далекий лунный ландшафт с горами, кратерами и остроконечными тенями, и видел начерченные мелом детские классики, прыгнувшие ему навстречу и скрывшиеся за спиной, и видел мелкую изморось, неподвижно висящую в лучах света, точно пелена из мерцающих ледяных иголочек, и видел мгновенно выросшее придорожное дерево, которое затрепетало, опаленное слепящим огнем, и, поникнув, рассыпалось в прах, и видел пальцы света, играющие на клавишах решетчатой ограды, и слышал щелканье хлыста по прутьям решетки задолго до того или еще долго после того, как его ноги, оторвавшись от земли, целую вечность парили в воздухе, пока не опустились по другую сторону ограды. И тут он вдруг оказался за пределами светового конуса, который замелькал дальше по улице, голоса и топот бегущих ног постепенно терялись вдали, между тем как сам он бежал по черному парку среди еще более черных кустов и деревьев, оскользаясь в жидкой грязи, покрывшей промерзшую землю, падая и снова вскакивая на ноги, и думал: ранен? Ранило меня? Раненый человек может иногда бежать довольно долго, но нет, он чувствует лишь колющую боль в ладони, на это можно вообще не обращать внимания, — и он бежал дальше, дальше, в открытую тьму над полотном дороги, и различил вдалеке, с правой стороны, очертания станции и змеистые огоньки стрелочных фонарей и подумал, что здесь они могут преследовать его только пешком. Он пытался заставить себя не оборачиваться, не прислушиваться к тому, что делается за спиной, но все равно прислушивался — всем телом, и в панике спотыкался о шпалы, о рельсы, о щебенку, и заклинал себя: черт подери, не трусить, этим делу не поможешь! — одновременно сознавая, что заклинания тоже не помогут, и слышал, как колотится сердце, и чувствовал, как прошибает пот, и все время ждал, что луч прожектора опять его настигнет. Наконец он перебрался через открытое пространство выемки, взбежал по насыпи вверх и попал в проулок между торфяным сараем и дощатым забором, но не дал своим ногам передышки даже в этом темном и тихом месте, а побежал дальше, и увидел собственную тень, черной птицей реющую над пустынной станционной улицей в желтом пучке света из фонаря, и очутился в темной аллее с большими деревьями, и долго бежал вдоль высокой садовой решетки, которая никак не кончалась, но вдруг ступни его затормозили сами собой, и свернули к открытым чугунным воротам, и, чуть помедлив, остановились прямо на въезде.
«Люди, — сказал он вслух, — должны же где-то быть люди, которые мне помогут». Ноги у него подгибались от усталости, и теперь, остановившись, он пошатнулся, в глазах потемнело, он медленно осел на колени, и его стошнило. «Ты заслужил пулю», — сказал он, отирая губы левой рукой. И, ощутив во рту вкус крови, опять почувствовал прежнюю пульсирующую боль — она не утихала. Рука сильно кровоточила, у основания большого пальца застряло внутри что-то твердое. «Люди, — повторил он, поднимаясь на ноги и судорожно глотая слюну, — должны же где-то быть люди…» Он сказал это в полубеспамятстве и, сделав несколько неверных шагов, увидел черную тень, скользящую вдоль белой стены и вдруг устремившуюся ему навстречу, — он замер на месте: тень напружинилась и изготовилась к прыжку в трех шагах от него. Овчарка, обыкновенная овчарка, сказал он себе, стыдясь, что так и не избавился от детского страха перед собаками и даже сейчас не может его побороть. «Убирайся домой, — сказал он, чтобы придать себе духу и нарушить зловещую тишину, — слышишь, живо домой!» Но в ответ раздалось глухое, утробное рычание, и он ощутил жаркое покалывание во всем теле и попятился назад, медленно, бесшумно ступая, не сводя глаз с овчарки и удивляясь, что между ними все время сохраняется расстояние в два-три шага, хотя собака вроде бы не двигается с места. Оказавшись за воротами, он резко развернулся, и в тот же миг овчарка громко залаяла, и, пока он бежал дальше вдоль решетки, он все время слышал, как она носится по ту сторону ограды, шелестя мокрыми листьями и оглашая тишину трубным гавканьем. «Да заткнись ты, черт тебя дери!» — простонал он сквозь стиснутые зубы и тут же услышал, как другая собака подала голос из соседнего дома, — он бежал, как сквозь строй, между рядами заливающихся лаем собак, которые оповещали округу, что вот он, вот он где, ловите его, хватайте, бежал, судорожно сжимая кулаки, готовый разрыдаться от бессильной ненависти ко всем собакам и ко всем богатым господам, которые держат собак и имеют сигнальные звонки для охраны себя и своего треклятого имущества — несмотря на войну, и хаос, и вражескую оккупацию. Наконец он свернул на боковую дорогу, лай и вой понемногу утихли, и он обратил ненависть против самого себя со своей собачьей истерикой, он клеймил себя позором, грозя, что поплатится пытками и смертью за слабость и предательство по отношению к партии и своим товарищам, одновременно сознавая, что это просто заклинания с целью отвратить самое ужасное, которое все равно неотвратимо, и одновременно отдавая себе отчет, что такого рода мысли — рецидив буржуазности, дань буржуазным предрассудкам, и опять он почувствовал усталость, смертельную усталость, и заметил впереди просвет, а немного погодя увидел небольшую площадь и посреди площади — белую башню с золотым крестом, на который из незримого источника падал далекий бледный свет.
Лишь когда ноги прервали свой бег в церковной ограде, до его сознания дошло, куда они его привели. «Приди ко Христу», — зло буркнул он, чувствуя одновременно вечную тщету своего богохульства, которого он втайне устыдился, но еще более устыдился он того, что образ Иисуса Христа так и не утратил до конца своей власти над ним. На миг воображение унеслось далеко: он стоял потерянный, как маленький мальчик на улице своего детства, под вывеской-сапогом, и слушал его жалобное поскрипывание на ветру, и вдыхал темный дух сапожной мастерской — дух дегтя, кожи и кары господней, и сидел в тесном кольце братьев и сестер, сложив ладони у груди и склонив голову, за круглым столом, при бледном зимнем свете висячей лампы, и темный библейский голос отца доносился словно бы откуда-то с высоты, и Распятый висел на стене в вечных муках… «К черту!» — пробормотал он, стряхивая наваждение, и подумал, что как бы там ни было, а идея укрыться в храме весьма разумна, ведь в самом деле трудно себе представить, чтобы они стали разыскивать его здесь. Если только у них нет ищейки, подумал он, но тотчас отбросил это предположение и стал осторожно обходить церковь, однако обе двери оказались на замке, а окна были слишком высоко, поэтому он сразу отказался от своего плана и подумал, что зря потратил целую драгоценную минуту. Эта мысль повергла его в панику, он обежал по периметру всю площадь, прежде чем обнаружил, что она круглая и имеет выход только в сторону Страндвайен — фешенебельная улица слабо светилась поодаль, и ноги уже несли его туда, хотя что-то — то ли какой-то звук за пеленой дождя, то ли соленый металлический вкус во рту, — что-то говорило ему, что смерть — она в этом тихом желтоватом свете, но он слишком устал, чтобы принимать новые решения, и берег пролива рисовался ему единственным спасительным прибежищем. Он выбежал прямо на освещенное место между высокими спящими домами и успел перейти через трамвайные рельсы, когда круглые серно-желтые глаза смерти выкатились ему навстречу и стали расти, вытаращиваясь все сильнее и испепеляя все вокруг него, а он, голый, стоял посреди мостовой как истукан и словно продолжал там стоять, слушая скрежет затормозивших колес, хотя тело его давно метнулось в сторону и ослепшие глаза пытались найти дорогу средь черных пляшущих солнц, и опять он бежал и бежал на месте, и слышал окрики, и ждал знакомого звука, но, когда до него наконец донеслось стрекотание мотора, он был уже далеко, под покровом густой темноты, на пути из одного сада в другой. На миг сознание его полностью прояснилось, освободившись от усталости и страха, и он подумал, что это наверняка была просто машина с полицаями, его ведь окликали по-датски, а теперь они потеряли след и стреляют наобум во все стороны, обычный прием у полицаев, но все равно скверно, что он на них напоролся, теперь они, чего доброго, начнут прочесывать весь квартал, во всяком случае, пробраться в город этой ночью ему не удастся и, хочешь не хочешь, придется искать помощи у незнакомых людей. Он думал об этом, пока бежал к высокой белой каменной ограде, на которой ветвистой тенью чернело шпалерное дерево, но когда он начал карабкаться вверх, то вспомнил о собаках и взмолился: «Боже всемогущий, сделай, чтобы здесь не было собак!», хотя знал, что мольбы его напрасны: это богатый аристократический квартал, а богатые господа, живущие в виллах, почти все держат сторожевых псов; и Господь Бог ответил без промедления — едва он уцепился руками за верх ограды и подтянул ноги, как подала голос первая собака. Одновременно он почувствовал жгучую боль в обеих ладонях и услышал, как что-то хрустнуло. Стекло, удивился он, надо же додуматься — вмуровать в садовую ограду осколки стекла! — и, потеряв равновесие, грохнулся вниз, в терновый куст по ту сторону ограды. «Дальше!»— сказал он и хотел подняться, но снова упал и остался лежать среди острых, колючих шипов, дожидаясь, когда собака перестанет лаять, но она не унималась, и тут вдруг отворилась какая-то дверь, и длинный пучок света, точно взмах птичьего крыла, прорезал тьму сада, и он увидел мужчину в домашнем халате — черный силуэт на фоне светящегося проема — и услышал, как тот свистит, подзывая собаку. Человек, подумал Симон и собрался было выйти на свет, чтобы попросить о помощи, но тут собака тенью скользнула мимо ног хозяина и исчезла в доме, а свет, взмахнув крылом, улетел, и он услышал звяканье ключей и цепочек за затворенной дверью. «Дальше! — сказал он, продолжая стоять на месте, отер кровь с лица и слизнул кровь с ладоней. — Дальше!»— повторил он. И опять он бежал, спотыкаясь и падая, полз по грязи, перелезал через низкие каменные ограды и высокие заборы, и ничего уже не видел и не слышал, ничего не чувствовал, кроме усталости и тупой скуки, и возможно, лаяла где-то собака, и возможно, слышался шум мотора и сверкали автомобильные фары, и возможно, что колючая проволока раздирала ему в клочья кожу и одежду, а возможно, и не было этого, но— «Дальше!»— повторял он, и сидел где-то, примостившись под навесом, между тем как ветер вновь бушевал и дождь все безудержней хлестал по крыше, и слышал какую-то музыку вдали, за дождем и ветром, и шел на звук этой музыки, и опять где-то сидел, и, очнувшись на миг, вдруг увидел, что сидит, прислонившись к стене гаража, и черные руки, которые простерлись, норовя его схватить, — просто ветки низеньких елок, раскачиваемые порывами ветра, а пульсирующая боль в ладони стала еще сильнее, и музыка слышалась совсем близко, лилась из окон белого особняка прямо напротив него. «Люди, — сказал он, — люди, у которых так поздно играет танцевальная музыка? Сколько же можно?… — Он хотел встать и двинуться дальше, но остался сидеть. — Дальше! — сказал он и остался сидеть. — Встань», — сказал он и остался сидеть…
2
Встань, сказал себе Томас. И остался сидеть. Сколько же можно? — подумал он и остался сидеть. Остался сидеть…
…И плеснул чуточку мадеры в стакан с виски, чтобы смягчить едкий вкус (этот Габриэль — он же что угодно может «организовать», почему он не организует ящик настоящего шотландского виски — вместо этого дьявольского пойла из спирта с фруктовой эссенцией?), и, тщательно выбирая, выудил ложкой в серебряном ведерке два кусочка льда, не слишком большие и не слишком маленькие. «Сколько же можно?» — сказал он и, поднеся стакан к уху, услышал позванивание ледышек о стекло — как звон далеких колоколов: можно еще долго, целую вечность…
Ибо жизнь человека не так уж коротка, подумал Томас, не то что у травы и полевых цветов, жизнь человека — это вневременной бесцветный флюид, без четкой формы и без четких границ. Добавив в стакан содовой, он поднял его на уровень глаз; он уже забыл, потерял свою мысль, теперь он был утопленник и медленно опускался на дно сквозь подводные дебри, прислушиваясь к звукам отдаленной музыки и наблюдая, как где-то там на фоне светящегося проема проплывают танцующие пары, похожие на причудливые тени рыб, а потом погрузился на мгновение в давно минувшее детство и увидел перед собой круглый аквариум с золотыми рыбками, полученный когда-то в подарок от матери. Он не Ухаживал за рыбками, не кормил их и не менял воду в аквариуме, только сидел тихонько на стуле и смотрел, как золотистые тени движутся по своим круговым орбитам на фоне падавшего из окна света, а потом рыбки одна за другой начали дохнуть и всплывать на поверхность — и вот теперь, в это мгновение, совсем как много лет назад, он увидел, как они качаются на воде белым брюшком вверх, и зрелище их смерти наполнило его тайным торжеством…
— Да, да, я знаю, — громко сказал он, адресуясь к демону-аналитику, который был уже тут как тут — сидел за своей ширмой, толстобрюхий и плешивый, с долготерпеливой улыбкой будды на пухлых губах, — я знаю, какой ты приберег козырь: его величество царь Эдип с державой и скипетром. Но я-то не убивал своего отца, не любил своей матери и не обрекал себя на слепоту, нет, я любил своего отца, убил свою мать и обрек себя видеть все как есть. — Он произнес эти слова, сам страдая от их ходульности: невозможные слова, принадлежность бессмысленного ритуала, подумал он, а физиономия аналитика удовлетворенно засияла, словно это-то он и ожидал услышать. — О, священный фокус-покус словес, — сказал Томас, — отвяжись от меня со своим идиотским пасьянсом из сексуальных символов, я больше не играю. — Он выпил половину виски в надежде утопить наваждение, но не тут-то было: улыбка аналитика как ни в чем не бывало сияла со дна стакана, а ритуальные слова всплывали наверх цепочками жемчужных пузырьков и лопались на поверхности, так что все это желтое пойло стало отдавать дурным запахом иза рта. — Ты бы хоть зубы чистил, — сказал Томас, — хоть бы мыл свои жирные телеса, чтобы от тебя не разило на весь дом мочой и рукоблудием. — Но улыбка демона сияла ясным, как безумие, светом, он явно принял слова Томаса за доказательство того, что эротическая зависимость анализанта от аналитика достигла стадии ненависти и развитие идет в правильном направлении. — В каком же таком направлении? — спросил Томас и, выпив остаток виски, ощутил в затылке звенящую пустоту и мысленно сказал себе: тихо, сиди совсем тихо, сейчас начнутся галлюцинации! — и вот аналитик уже обратился в пляшущего жонглера, который подбрасывал и ловил цилиндрические и овальные предметы — фаллос и вагина, фаллос и вагина — в сумасшедшем крещендо, пока все не слилось в одно крутящееся в воздухе колесо, и Томасу пришлось закрыть глаза, чтобы отделаться от видения. Но одновременно на месте жонглера оказался иллюзионист в черном фраке и цилиндре, личность удивительно непристойного вида, он вытянул руки с длинными трясущимися пальцами в сторону публики — и переполненный зал тотчас превратился в тонущий корабль, все вспрыгнули на кресла, чтобы не утонуть, а потом он выпустил из своего цилиндра пчелиный рой, и все начали, как полоумные, отмахиваться от воображаемых пчел белыми носовыми платками. И одновременно Томас помнил совершенно отчетливо, что видел этого иллюзиониста в реальной жизни много лет назад — мать зазвала его с собой на представление, и он был единственным человеком в зале, который продолжал спокойно сидеть, не поддавшись действию колдовства. Однако же сейчас — в это мгновение — он ничего не мог с собой поделать: вскочил и полез в карман за платком, чтобы отбиваться от пчел.
— Ты только погляди на Тома, — раздался голос оттуда, где был свет, и танцы, и музыка.
— Да, Мас уже опять нализался, — ответил другой голос.
…Медленно и аккуратно сложил носовой платок и спрятал его в карман, и опустился опять в кресло, и заставил себя сидеть тихо, совсем тихо, ухватившись обеими руками за край стола и неподвижно глядя в пространство, но, несмотря на это, по-прежнему слышал жужжание пчел вокруг головы и видел, как они вьются, словно искры над костром, уносясь в хмельную синеву пустоты, и сказал вслух: «Свобода, наконец-то совершеннейшая свобода», одновременно сознавая, что это просто чушь, потому что свобода — понятие относительное, которое нельзя рассматривать вне взаимосвязи с. с чем? Но он уже потерял мысль — и был опять маленький мальчик, гуляющий с матерью в загородном парке Дюрехавс-баккен, и, когда он попросил у нее воздушный шар, она купила ему целую связку разноцветных шаров, а он взял и отпустил их все и увидел, как они взлетели над кронами деревьев и исчезли в небесной синеве, как радужное сияние, и у него голова закружилась от счастья, но и небо тоже исчезло, и остались одни насекомые: пчелы, не то мухи, не то черные ползучие муравьи. И одновременно он сидел совсем тихо, ухватившись пальцами за край стола и неподвижно глядя в пространство, и говорил себе, что все эти призрачные видения объясняются просто-напросто временным нарушением — как бишь это именуется у эскулапов? — психосоматического равновесия, но что толку говорить об этом и употреблять ученые слова, если холодная и ясная сердцевинная точечка, которая знает истину, — она и сама насекомое, букашка, застрявшая в сетях невидимой паутины, а собственные ее мысли и есть те нити, которые немилосердно опутывают ее со всеми крылышками, лапками и усиками, а вон и паук показался из своего угла — точь-в-точь машина с поршнями и рычагами, работающими по заданной программе. Томас не почувствовал страха при его приближении, потому что по-прежнему ясно осознавал происходящее и понимал, что он не сейчас, не в это мгновение, а давно, еще в раннем детстве, сидит тихо, совсем тихо, в саду у матери и смотрит, как паук, усыпив муху, оплетает ее паутиной и подвешивает, точно запеленутого младенца в белой люльке, слегка покачивающейся от утреннего ветерка…
Встань, сказал себе Томас, встань и уйди. Это совсем нетрудно: наклоняешь корпус чуть-чуть вперед и разгибаешь колени, а потом опираешься на одну ступню, приподнимаешь другую и идешь — уходишь — прочь из своего дома, который для тебя никакой не дом, прочь от своей супружеской жизни, которая никакая не супружеская жизнь, от людей своего круга, которые не настоящие люди, а всего лишь тени, проекции-проекции чего? Что тебя здесь держит? Уйди же отсюда. От тебя не требуется важных решений, нужны только легкие механические усилия. Ты даже можешь нисколько не беспокоиться, что из-за твоего ухода что-то случится, ибо не случится решительно ничего. Никто здесь о тебе не пожалеет, и ты ни о ком не пожалеешь. «Встань же, — сказал он вслух и остался сидеть. — Встань и уйди», — повторил он. И остался сидеть…
— Ты только послушай Тома, — раздался голос оттуда, где был свет, и танцы, и музыка.
— Да, Мас уже опять разговаривает сам с собой, — ответил другой голос.
…Налил себе новый стакан виски и плеснул в него чуточку мадеры, чтобы отбить вкус спирта (неужели этот Габриэль не может организовать хоть немножко настоящего шотландского?) и, тщательно выбирая, выудил ложкой в серебряном ведерке два подходящих кусочка льда, и добавил содовой, и, подняв стакан, посмотрел сквозь него на свет и на танцующих, и вспомнил опять аквариум с золотистыми тенями, которые плавали и плавали по кругу и подыхали одна за другой. «А потом она принесла мне вуалехвосток, — сказал он, — а потом тропических рыбок, и тропических птичек, и болотных черепах, и японских танцующих мышек, но я предоставлял им самим о себе заботиться и самим умирать, а в конце концов я и ей предоставил самой умереть». Он произнес это, не разжимая губ, только язык ворочался во рту, беззвучно выговаривая слова, между тем как он опять сидел тихо, совсем тихо, у постели матери и смотрел, как она соскальзывает в небытие, переходя от сна к беспамятству и от беспамятства к невозможной, немыслимой смерти. «Я знал, что она сделала, — сказал он, — потому что пузырек со снотворными таблетками стоял пустой, а она так часто грозила мне этим. Я никогда не верил в серьезность ее слов. Быть может, она и на этот раз ничего всерьез не замышляла, рассчитывала, наверное, что я вовремя поспею домой и приму меры, во всяком случае, ясно, что она пожалела о сделанном и хотела позвонить по телефону, трубка-то валялась на полу. Почему я сам не позвонил и не вызвал врача? Пьян был? Меня не было дома целые сутки, где я провел ту ночь? Когда я напиваюсь, я потом ничего не помню. Может, все это мне только примерещилось или, может, я просидел возле нее всего минуту, а не несколько часов?» Но видение не отпускало его, он по-прежнему сидел недвижно у постели матери и не сводил глаз с телефонной трубки, которая валялась на цветастом ковре среди грязных чашек и тарелок, и в конце концов он как будто бы поднял ее и положил на место, в вилку аппарата, и, продолжая держаться за нее рукой, смотрел на диск с буквами и на слово помощь в вырезе последнего кружочка. Но он не снял трубку и не повернул диск, взгляд его оторвался от телефона и заскользил по столу — к стакану с водой, на стенках которого застыли белые пузырьки воздуха, потом к порожней бутылочке из-под лекарства с мелкими машинописными буковками на этикетке, а позади стола краснело шелковое одеяло, все в пятнах, потому что она имела обыкновение есть в постели, и он долго рассматривал пятна от подливок, от вина и кофе, от яичного желтка и лишь после этого перевел наконец глаза на ее растрепанные черные волосы и впервые заметил, что она их красит: у корней они были белые как мел; а лицо под шапкой волос было землистого цвета, одутловатое, с крупными порами под слоем румян и пудры, и, пока он сидел смотрел, рот ее, пыхая, то и дело открывался, как у рыбы, и вытекавшая из него зеленовато-желтая слизь тонкой струйкой сбегала по подбородку. Но он не дал себе труда вытереть ей рот, он просто перестал смотреть на ее лицо, и взгляд его начал бесцельно блуждать по горным кряжам и теснинам красного шелкового одеяла, пока на его пути не выросла голая ступня, торчащая над краем кровати, — длинная ступня с дельтой вздувшихся синих жил на подъеме и уродливыми пальцами с покрытыми красным лаком ногтями. Он сидел, уставившись на ее ступню, пока у него не стало плохо во рту, и тогда он потянулся за стаканом и отпил глоток. Но у воды был мертвенно-пресный вкус, он встал, чтобы пойти в ванную комнату, потому что его тошнило, но вместо этого направился к окну, распахнул его и, высунувшись наружу, стал смотреть на большой запущенный сад, куда годами никто не захаживал, — буйно разросшиеся деревья и кусты уже наливались тьмою. Спустя какое-то время ему показалось, что ее прерывистого дыхания больше не слышно, но, когда он подошел к постели и сел, она вдруг опять задышала с протяжным клокочущим хрипом. Периоды полной тишины становились все продолжительней, он замерял их, следя за секундной стрелкой на часах, и думал, что теперь уже скоро конец, но шелковое одеяло всякий раз снова приподнималось, и снова слышался клокочущий хрип. От постоянного ожидания этого звука его стало клонить ко сну, и ему чудилось, что клокотание доносится откуда-то издалека, из-за горизонта или со дна моря. Между тем сумерки вползли через открытое окно, и комната словно наполнилась мелкой угольной пылью, стрелок на часах стало не видно, а лицо на постели, утратив четкие черты, расплылось в бледное пятно. Он не помнит, то ли он задремал — кажется, он не спал всю предыдущую ночь, — то ли просто забылся от скуки, как бы там ни было, очнувшись, он обнаружил, что уже совсем стемнело, а дыхание, незаметно для него, полностью прекратилось. Он зажег свет, задернул гардины и позвонил ее врачу, при этом старательно избегая смотреть в сторону постели, потому что знал, что она лежит с открытым ртом, зияющим круглой дыркой. За несколько минут, что прошли до прибытия врача и кареты «Скорой помощи», он навел порядок и вынес в кухню наставленную на полу за последние дни грязную посуду, а покончив с этим, бесшумно прикрыл за собой дверь, не оглянувшись на круглую черную дырку, и прошел к себе в комнату, где сбросил пальто — выходит, он все это время просидел в пальто? — налил в раковину холодной воды и вымыл лицо и руки, пригладил расческой волосы. Лицо у него было бледное от попоек и недосыпания, но глаза в зеркале, совершенно спокойные, сказали ему, что все сложилось как нельзя лучше, исключительно удачно для него, и теперь главное — вести себя вяло и апатично и как можно меньше помнить. «Как можно меньше помнить и держаться как можно ближе к истине, иными словами, обеспечить возможно большее соответствие между возможно большим количеством членов уравнения и при этом уменьшить неизвестное до бесконечно малой величины, которую никто не заметит». Он говорил это вслух, пока спускался по лестнице и затем, выйдя из дома, прохаживался взад и вперед по переулку в ожидании звуков и голосов. Остальные события той ночи почти целиком выпали из памяти, он помнит только, что все обошлось со скучной простотой и легкостью. Звуки и голоса ворвались в дом, ноги забегали вверх и вниз по лестнице, двое мужчин в униформе внесли и вынесли носилки — ему даже слова сказать не понадобилось, и потом он уже увидел мать только после того, как ее прибрали и уложили в гроб: руки покоились на груди, а закрытый рот выглядел вполне пристойно. Стоя у гроба, он боялся, как бы ненароком не Улыбнуться, потому что ее размалеванное лицо стареющей блудницы с глубокими хищными складками вокруг рта вдруг как будто расправилось, разгладилось и обернулось простодушным лицом изумленной девочки, которая, пробудившись под утро от сна и увидев, что действительность нисколько, ничуть не похожа на ее сбивчивые ночные грезы, приоткрыла было рот, чтобы что-то сказать — о чем-то спросить, — да так и не успела произнести ни звука, было уже слишком поздно.
«Я их всех надул, — сказал Томас. — Надул родню и старого домашнего врача, который веровал в Бога и хотел вывести меня из состояния тупой апатии с помощью формул самовнушения („Я с каждым днем становлюсь бодрее, сильнее, здоровее“); надул невропатолога, который веровал, что все психические симптомы имеют физиологическую подоплеку. и, поместив меня в голом виде на обтянутую белой клеенкой кушетку, простукал со всех сторон молоточком и поставил диагноз: гиперестезия [2] („В остальном вы совершенно здоровы, все у вас в норме. Световые ванны и лецитин — больше ничего не требуется“); надул психоаналитика, который веровал в метод свободных словоизлияний и предложил мне говорить, что в голову взбредет, а сам сидел за ширмой и конструировал свое эдипово построение, соединяя между собою слова, произвольно выхваченные из хаотического потока моей речи („В том, что сами вы считаете абсолютно бессмысленным и невероятным, — как раз в этом-то и кроется истина“). Надуть их всех не составило труда, ибо они действуют каждый в соответствии со своей заранее заданной схемой, системой уравнений, смысл которой сводится к тому, чтобы уменьшить, а в конце концов и вообще приравнять к нулю неизвестное, то неизвестное, которое одно имеет решающее значение. Им и в голову не пришло, что, возможно, ответственность за смерть матери лежит на мне, ни у кого не мелькнула догадка, что это я ее убил, преднамеренно и сознательно, и даже если бы я сам открыл им правду, они отмели бы ее как лжесвидетельство, они бы и тогда не колеблясь меня оправдали. Ведь я же ничего не сделал. Да, я убил свою мать именно тем, что ничего не сделал, буквально палец о палец не ударил, причем зрелище ее смерти вызывало у меня не больше эмоций, чем золотые рыбки, всплывавшие на поверхность воды брюшком вверх. Я не чувствовал ни горя, ни своей вины, одну лишь скуку, смертельную скуку…»
Он зевнул. Взял стакан и отпил, но тотчас отставил его с гримасой отвращения: желтое пойло (неужели этот Габриэль не может орга…) казалось тошнотворно теплым, несмотря на лед, вкус у него стал как у воды в стакане, стоявшем на столе возле постели матери. Он сглотнул слюну, еще и еще раз, но мертвенно-пресный вкус во рту не проходил. Он хотел было встать и пойти в туалет, но остался тихо сидеть на месте и опять увидел перед собой ступню — тощая, костлявая ступня матери торчала в воздухе со своими вздувшимися синими жилами, уродливыми пальцами и кроваво-красными ногтями. Ухватившись обеими руками за край стола, он попытался направить взгляд в определенную точку пространства — туда, где свет и где танцуют, — но по-прежнему видел только стакан с белыми пузырьками воздуха на стенках, и тут столешница начала медленно крениться и шелковое одеяло взметнулось красной волной, а балдахин на четырех столбах наклонился в его сторону и упал… нет, не упал, но вся сумеречная комната с цветастым ковром на полу, цветастыми обоями и французскими гравюрами в рамках стиля рококо приподнялась и закружилась, а сам он сидел неподвижно в пальто и шляпе — на нем и шляпа была? — посреди этой карусели и был осью, вокруг которой она вращалась, быстрей и быстрей, и в конце концов все слилось воедино и рассеялось и улетучилось через небольшую черную дырку. Он сидел совсем тихо и видел ее перед собой: круглую черную дырку рта между вывернутыми складками губ. «Как срамные губы, — сказал он, — как разверстое лоно женщины, которая лежит, раздвинув колени, и ждет, ждет…» Потом все опять прояснилось, и он услышал музыку, увидел танцующие пары и их отражение в стеклах окна, выходящего на длинную веранду. «В действительности я вовсе не видел ее открытого рта, — сказал он, — я не смотрел в ее сторону, и, кстати говоря, я был пьян, а когда я пьян, я теряю реальное ощущение времени: может, я прождал возле нее минуту? А может, все вообще игра воображения и я им сказал чистую правду: когда я пришел домой, она уже умерла, и первое, что я сделал, — я позвонил врачу. Это и в самом деле было первое, что я предпринял, ну а в промежутке? Нет, когда я напиваюсь, то потом ничего не помню. Кто-то пьет, желая стать самим собой, кто-то — желая ближе сойтись с другими людьми или в надежде, что что-то произойдет, я же пью, желая упразднить время и мое собственное „я“, чтобы абсолютно ничего не могло произойти. В действительности возле умирающей находилась некая анонимная личность, имярек, в течение долгих часов наблюдавший ее агонию, и он с полным правом не ударил палец о палец, ибо это невыносимо, совершенно невыносимо, когда тебя будят каждую ночь и принуждают сидеть у постели стареющей женщины, накачивая спиртным (мне было четырнадцать лет, когда я впервые по ее наущению напился допьяна), сидеть из ночи в ночь у кровати с балдахином, этого ее алтаря любви (у нее ведь тоже была собственная немудреная схема: она веровала в сексуальное единение как высшую цель и смысл всего сущего), сидеть у любовного ковчега завета и слушать тошнотворно доверительные, с физиологическими подробностями, рассказы о ее молодых любовниках — случайных молодых любовниках пятидесятилетней женщины, подцепленных где-нибудь в ночном баре, матросском кабачке, а то и просто на улице. Мне было невыносимо скучно слушать ее (ведь, если то, что именуют пороком, перестает означать унижение и позор, тогда остается лишь скучное, надоедное повторение одной и той же бессмыслицы), я терпел долго, бесконечно долго, а потом стал запираться на ключ у себя в комнате и делать вид, что сплю, хотя постоянно слышал, как она скребется в дверь длинными и острыми кроваво-красными ногтями, нашептывая дурашливые любовные словечки собственному сыну, или же дубасит кулаками и босыми ногами, выкрикивая пьяные непристойности и угрозы: она сейчас же, сию же минуту пойдет на кухню и откроет все газовые краны, она уже приняла целый пузырек снотворных таблеток и тому подобное. Мне было скучно это слушать, я знал, что она никогда ничего такого не сделает, но так продолжалось много ночей подряд, и тогда я ушел из дому и не появлялся целые сутки — а может, двое или трое суток? — в пьяном виде я теряю счет времени, но когда я под вечер вернулся, я понял, что она привела в исполнение свою угрозу. Я понял это по тишине и по черным слепым окнам ее комнаты. Когда человек достаточно пьян, когда он достаточно измотан, он понимает все. Как же это было — кажется, я услышал, что что-то упало, когда отпер входную дверь и остановился у лестницы, — или нет? Должно быть, мне просто померещилось от страха, потому что сначала-то я испугался, я ведь никогда не думал, что это может произойти. Смерть — это было нечто невозможное, чего не бывает. Но когда я под конец сидел у ее постели, я не чувствовал раскаяния или отчаяния, помню только, что мне было скучно. Смерть, невозможная, немыслимая смерть — неужели это скука, скучища, и больше ничего? А то, что именуется погибелью? И адом?…»
Он тотчас пожалел о сорвавшемся с языка слове и торопливо потянулся за стаканом, но было уже поздно. Призрачная рука в то же мгновение заскользила по столу с противоположной стороны, с зеркальной точностью повторяя его жест. Прямо напротив него сидел самый опасный, самый живой и реальный из всех его демонов. Молчи, сказал себе Томас, сказал беззвучно, потому что знал: стоит ему сейчас пикнуть, как тот отпарирует, повторив его же слова и обратив их против него. Не шевелись, сказал он себе, потому что стоило ему сделать малейшее движение, как тот передразнил бы его, сделав в точности то же самое, а если сидеть совсем тихо, возможно, ему удастся избавиться от призрачного визави. Вот рука дотянулась до стакана и стала медленно вертеть его между пальцами. Рука была его собственная — он узнал ее по форме ногтей, — и, однако же, она не могла быть его рукой: длинный узкий рукав был из черного сукна и застегивался у запястья на ряд мелких матерчатых пуговок. Он сидел совсем тихо и смотрел на них, не сводя глаз. Стол, смутно мелькнуло в голове, стол?… Должно же быть что-то твердое, что-то настоящее, за что можно хотя бы держаться. Но столешница растаяла под его взглядом, обратившись в тень, он смотрел сквозь нее вниз, на длинные фалды черного одеяния. Вот его визави закинул ногу на ногу — фалды бесшумно подпрыгнули, и из-под подола показался ботинок, изящный черный ботиночек на застежках. Томас тихо сидел и смотрел на него, пока он не начал раскачиваться — почти неприметно и, однако же, властно, нетерпеливо, — тогда его взгляд заскользил вверх по одной из фалд подола, мимо бесплотной тени столешницы и еще выше, вдоль шва с пуговками, все теми же черными матерчатыми пуговками, и наконец натолкнулся на что-то белое. Белым оказался повязанный крестом шейный платок, а что было сверху от него, он не мог толком различить, вроде бы виднелись очертания черной шляпы с широкими полями, но вместо лица под ней было слепое пятно. Он прищурил один глаз, чтобы все получше разглядеть, но тут же пожалел о своей оплошности — зачем самому ставить себя под удар; его визави не замедлил состроить такую же гримасу, и в глазу у него — в невидимом глазу — сверкнула веселая издевка.
«Ты прав, — услышал Томас собственный ответ (хотя тот, другой, не проронил ни слова, только смотрел своим всезнающим, видящим его насквозь глазом, который был везде и в то же время нигде), — теперь я вспомнил. Когда я вошел в дом и остановился у лестницы, я в самом деле услышал, как что-то упало. По всей вероятности, телефонная трубка, которую она уронила на пол: ведь, когда я вошел к ней в спальню, она еще была в сознании — приподняв голову, она воззрилась на меня, а чуть погодя открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла произнести ни звука. Рот ее так и остался открытым и зиял круглой дыркой. Вот что я запомнил: черное зияние страха. Она, наверно, увидела по мне, что… быть может, она тогда в первый и последний раз увидела, каков я есть. Мне достаточно было в буквальном смысле шевельнуть пальцем, чтобы спасти ей жизнь: повернуть телефонный диск и вызвать „Скорую помощь“. Я не сделал этого, я остался тихо сидеть у ее постели — и взял на себя ее смерть. Но она ведь сама сделала выбор…
Не буду тебе лгать, — поспешил он добавить, заметив, что его визави сделал какое-то нетерпеливое движение (ногой, что ли, начал опять раскачивать?), — знаю, что и я немало для этого потрудился. Способ был простой: я хранил упорное молчание. Живя рядом, я месяцами слова с ней не молвил. Уходил из дому без единого слова и возвращался без единого слова, она никогда не знала, куда я, надолго ли, она ничего обо мне не знала. Я хранил молчание, даже когда она по ночам дубасила в мою дверь, угрожая, что покончит жизнь самоубийством, я говорил себе, что она никогда этого не сделает. Но в то же время внутреннее чутье подсказывало мне, что, если у меня хватит выдержки и терпения, я могу вынудить ее к этому. А напоследок я напился, не допьяна, но в самый раз, чтобы все представлялось в нереальном свете и ничто не имело существенного значения, в том числе и ее смерть. Но вообще-то можно сказать, что я убил ее своим молчанием, потому что в нем заключена была некая сила, желание увидеть ее мертвой. Она не могла подспудно не чувствовать этого, все время, постоянно, и в конце концов не устояла, поддалась. Ведь я, пожалуй, всегда желал ее смерти, с самого детства… Да, вот что я вспомнил: одна золотая рыбка как-то выпрыгнула из аквариума и лежала, билась на подоконнике, но я не бросил ее обратно в воду, я сидел и смотрел, пока она не сдохла. А птички, ее любимые тропические птички? Я выпускал их из клетки, нарочно оставляя окно открытым, чтобы они улетели на волю, а потом смотрел, как они исчезают в солнечном сиянии и меж зеленых теней, где, я это знал, их ожидает верная смерть. Вот что мне сейчас вспомнилось. Но мне, наверно, было лет семь, когда я начал понемножку ее убивать. Ты слышишь, я ничего не скрываю, не отрицаю своей вины. Однако в самом-то начале — моя ли была вина? Можно ли вести речь о вине семилетнего ребенка?»
Он запнулся. Кажется, он уже сдает позиции? «Вина» — одно из этих невозможных слов, которые… которые?… «Она меня задаривала, не отказывая ни в чем, — быстро проговорил он, — пока вещи не утратили для меня всякую ценность, причем все живые и неживые; но она никогда не разрешала мне поиграть на солнышке с другими детьми. Она никогда не любила меня, — продолжал он, — только себя самое во мне, я жил ее жизнью, а не своей. Нет, я не собираюсь предъявлять ей обвинение. Но мне, наверно, было года четыре, когда я начал мечтать о ее смерти, и рано или поздно моя мечта должна была исполниться. Я взял на себя ее смерть, и я признаю себя в этом виновным, но в самом начале ответственность лежала на ней самой. Четырехлетний ребенок не может нести ответственность за…»
Он опять споткнулся на слове, на одном из невозможных слов, а тем временем прозрачные черные поля шляпы слегка приподнялись, и рот — кажется, где-то там открылся рот?… «Я знаю, я сам все знаю, — сказал он, торопясь опередить своего визави (ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы он заговорил). — Ответственность. В четыре года я не мог ее нести, но теперь она лежит на мне. И ее ни на кого невозможно переложить. Каждый сам за себя в ответе. Как видишь, я знаю все наизусть и не собираюсь увиливать. У меня и в мыслях не было надувать тебя таким же манером, как я надул эскулапов. Они захотели снять с меня ответственность — или попросту не увидели ее: это было то самое неизвестное, то приравненное почти что к нулю и практически не существующее неизвестное, которое для них свело решение уравнения к бессмысленной игре в слова. Я не хочу играть с тобой в эту игру. Истина заключается в том, что я убил свою мать преднамеренно и сознательно, я прямой виновник ее смерти и несу за это ответственность… Вплоть до этого пункта я готов с тобой согласиться. Но если ты полагаешь…»
«Что полагаешь?» — подумал он, чувствуя, что дает себя вовлечь еще в одно ритуальное действо — незыблемый ритуал вопросов и ответов, которые исходят уже не от него самого. По ту сторону стола царила гробовая тишина, но он не обманывался, он знал, что за этим последует. «Она любила себя во мне», — бросил он в тишину, — и любила меня в своих любовниках. Ее сексуальное евангелие имело предметом и конечной целью ее самое, и это с неизбежностью должно было привести к самоубийству. Смерть была для нее последним актом любовной близости с самой собой, и я не раскаиваюсь, что взял на себя ее смерть. Потому что в известном смысле можно сказать, что я выполнил ее же требование. Она была стареющая нимфоманка, она помешалась на сексуальной почве и жила в собственном, созданном ею самой аду. Нет, я не предъявляю ей обвинения. Я никого ни в чем не обвиняю. Но последней ее сумасшедшей мечтой было любовное соитие с самой собой через посредство собственного сына, и я исполнил ее мечту, убив ее. А что мне оставалось делать? Нет, я ни о чем не жалею, и, когда я под конец тихо сидел и смотрел, как она умирает, я не чувствовал ни своей вины, ни раскаяния или отчаяния — одну лишь смертельную скуку. Ведь «раскаяние» и «отчаяние» — это слова, означающие надежду, а мне претят ложные надежды на спасение. Я хочу сам нести ответственность за свои действия… Какие действия? Действия, состоявшие в молчании, действия, состоявшие в ничегонеделании, в отрицании всякого действия, подобно тому, как я отрицаю вину, и раскаяние, и искупление, и спасение… Ты хочешь знать, почему же я тогда употребляю эти слова, твои слова? Да потому что на самом деле они мои, так же как на самом деле ты — это я… Ты спросишь, а почему же я тогда сижу здесь и… Почему да почему! Нечего почемукать, и так все ясно. Прекрати свои вопросы, я ведь знаю, к чему ты клонишь, что у тебя на уме: Бог… Тебя интересует, почему же не ты, а я его помянул? Да потому что он мой, а не твой. Твой Бог — это мысль, родившаяся у меня в голове, его образ — на самом деле мой образ, его слова — мои слова. Если это неправда, тогда поговори-ка сам. Скажи хоть одно словечко, принадлежащее твоему Богу, а не мне…
Томас наклонил голову и опустил глаза. Он ожидал услышать какое-нибудь латинское изречение вроде credo quia absurdum [3] или de nihilo nihil [4]… Помнится, его визави однажды уже изъяснялся по-латыни. Или, может, раздастся грозное проклятие: глас гнева эхом перекатится меж каменными сводами или прямо с небес грянет гром, возвещающий Страшный суд и способный пробудить мертвецов. Он был готов к этому и не испытывал страха, он сидел, опустив глаза и скрывая усмешку. Или это его визави усмехнулся — усмехнулся и исчез? Нет, ему не верилось. Он долго ждал, что будет дальше, но по ту сторону стола по-прежнему было совсем тихо, и в конце концов ему стало скучно — он зевнул, машинально прикрыв рот рукой. К его удивлению, тот, другой, не повторил его жеста, а когда он нагнулся пониже и заглянул под стол, там не оказалось качающейся ноги в черном ботиночке, выглядывавшем из-под длинных черных фалд, когда же его взгляд осторожно заскользил вверх, там уже не было пасторского не то шутовского одеяния с узкими рукавами и смешными матерчатыми пуговками, не было повязанного крестом белого шейного платка, и он уже не мог различить поля кивающей пасторской не то клоунской шляпы над отсутствующим лицом. Его визави пропал, взял и исчез, без единого слова, без звука, лишь усмешка осталась после него в воздухе, как комическое напоминание о черно-белой фигурке пастора — не то клоуна, не то колдуна. Теперь все было обыкновенно, как прежде, — или, быть может, чуточку тише, яснее и отчетливее, чем прежде? Немножко чересчур ясно и отчетливо, подумал Томас, слов-до тихо усмехающееся безумие. Прямо перед его глазами распростерлась правильной круглой формы столешница, посредине столешницы ярко краснело правильной круглой формы пятно — как красное яблочно мишени, а с разных сторон от него стояли две кофейные чашечки с блюдечками, маленькие и тонкие, как папиросная бумага, расписанные цветочными гирляндами, и еще ликерная рюмка, шаровидная рюмка для коньяка и синяя сахарница в виде ладьи. Почему-то все эти предметы производили совершенно идиотское впечатление своей отчетливой ясностью и осязаемостью, и не странно ли, что их не убрали? Ведь прошло, должно быть, несколько часов с тех пор, как он сидел пил кофе с… гм, кто же это был? Шмыга, или Пупсик, или Соня, или как уж их там зовут. Поближе стояло ведерко со льдом, сверкая так, что глаза резало, хотя на серебре был матово-белый налет, будто оно покрылось росой или холодной испариной, а прямо перед ним стоял стакан с виски, которое было вовсе не виски, а спирт с эссенцией, сдобренный капелькой мадеры (изобретение Габриэля). Дьявольское изобретение, подумал Томас, абсолютно неудобоваримое пойло, и все же, все же не мешает мне, пожалуй… Он хотел было выпить, но не стал, просто тихо сидел и смотрел в стакан: пузырьки углекислоты все еще поднимались со дна (значит, он только что его наполнил, хотя ему казалось, прошла уже целая вечность), как снежинки, падающие вверх, или как белые усики вьющихся растений, как ли… лита… как лианы в незримых дебрях, поднимались и лопались на поверхности, издавая слабый мелодичный звук. Его удивило, что он так явственно слышит их пение, потому что в это время поставили пластинку со свингом и он видел, как кружатся в бешеном вихре танцующие фигуры за широким окном, отделяющим гостиную от веранды. И однако он не слышал танцевальной музыки — или она так гремит, что ухо вообще ее не воспринимает? — он слышал лишь это слабое пение, и на миг ему почудилось, что он сидит где-то далеко, в темном и тесном закутке — в исповедальне? — что он проговорил много часов подряд и высказал все, что просилось наружу, а теперь ждет лишь ответа незримого патера. Но быть может, тот ускользнул потихоньку, пока он говорил, а может, никого здесь и не было, кроме него, потому что ответа нет — только тишина, тишина да теперь еще вот это еле слышное «Kyrie eleison» [5], это далекое антифонное песнопение, а между тем стало совсем темно, лишь едва виднеется какой-то слабый просвет. Он начал осторожно шарить перед собой кончиками пальцев, но там ничего не было, кроме пустоты, и, однако же, он все время упирался во что-то… во что-то такое… в решетку? Он не видел ее и не осязал, но рука на нее натыкалась. «Пустяки, — сказал он вслух, пытаясь заглушить легкое беспокойство, — всего-навсего временное нарушение псих… психосоматического (опять это бессмысленное словечко из лексикона эскулапов)… психосоматического равновесия вследствие избыточного… нет, вследствие недостаточного приема алкоголя», — поспешно поправился он, ибо предметы уже возвратились на свои места, отчетливо ясные, чуточку сумасшедшие предметы, и он потянулся за виски, но не смог достать стакан, стоящий прямо перед ним. Смешно, подумал он, улыбаясь отчетливой ясности. И опять он сидел, наклонившись вперед, упершись локтями в колени и сложив перед собою руки, он смотрел вниз на эти свои холеные — почему такие холеные? — руки, на черные рукава смокинга и двойные манжеты белой шелковой сорочки с филигранными золотыми запонками, подаренными ему Дафной или Габриэлем? А еще ниже он видел бордюр восточного каминного ковра на фоне серой велюровой подстилки. Воистину похороны по первому разряду, подумал он и зевнул, и опять ему стало скучно: он по-прежнему не слышал ничего, кроме этого тоненького пения, нет, вернее, тиканья — оно теперь было совсем рядом — наверно, это тикали его часы. Повертев запястьем, он выпростал их из-под рукава, золотые наручные часы, подаренные Габриэлем не то Дафной, — потому что вспомнил, как ему однажды удалось убить время, следя за секундной стрелкой, которая двигалась и двигалась по кругу. Он взглянул на циферблат, тиканье стало совершенно отчетливым — и разом заглохло, секундная стрелка замерла в своем кружочке. «Кончился завод», — сказал он и подумал, что это неудивительно: он ведь так и не ложился всю ночь; но, когда он собрался завести часы, никаких часов не оказалось. Он воззрился на свое запястье: красный след был отлично виден, но часов не было, хотя он буквально только что… «Я, должно быть, еще раньше снял их и куда-нибудь положил, — сказал он, — мне сейчас только показалось, что я их вижу, потому что я привык их видеть. Все это просто-напросто незначительное временное…» Его поразило, что он не слышит собственного голоса. Все на свете звуки вымерли. А ну-ка сиди тихонько, подумал он, но поздно: обе руки его попытались ухватиться за край стола, однако нашарили лишь пустоту, и он всем телом повалился назад и падал все дальше, все глубже и мягче, пока не натолкнулся наконец на спинку кресла.
Смешно, подумал Томас и остановил взгляд на серой велюровой дорожке, которая извивалась по широкой внутренней лестнице, точно змея, оцепеневшая в последней ритмической судороге, а посреди ее извилистой спины стояли Габриэль и Дафна. Они направлялись вниз и замерли на ходу, приподняв одну ногу над лестницей — широкая лакированная туфля Габриэля и узкая серебряная туфелька Дафны свободно парили в воздухе, в прозрачном и ясном воздухе. Как танцующая пара, подумал Томас, отец с дочерью, дочь с отцом посреди веселенького танца, посреди веселенькой смерти, смерти под музыку, как в американском паноптикуме, отец с дочерью, дочь с отцом, тщательно приведенные в надлежащий вид персоной, именуемой caretaker [6], напудренные и подкрашенные, облаченные в черный фрак и серебристо-серое вечернее платье и установленные стоймя в танцующей позе посреди роскошного мавзолея — точной, вплоть до мельчайших подробностей, копии отошедшего в вечность дома дочери. Этот caretaker — настоящий мастер своего дела, надо отдать ему должное: оба кажутся, пожалуй, даже более живыми, чем при жизни. Коренастая моряцкая фигурка Габриэля энергично устремлена вперед, вперед — вся, от сверкающей брильянтом белой крахмальной манишки до сверкающих атласом полос на брюках и сверкающей лаком приподнятой туфли. А глаза? Тоже сверкают из-под массивных роговых очков?
Нет, глаза очень темные и прямо-таки по-собачьи доверчивые — как всегда, а рот простодушно-чувственный, с пухлыми красными губами в гуще черной козлиной бородки и усов. Верный как золото, подумал Томас и припомнил одну из любимых сентенций Габриэля: «Всегда были и будут умные головы, которые надувают тех, кто поглупее». А теперь вот смерть ухитрилась надуть его самого — или это он надул смерть? Он-то ведь не знает, что умер, а о чем не знаешь, о том, как говорится, и душа не болит— Ну как его такого не полюбить, подумал Томас, как не полюбить за его наивную плутоватость и простодушно-чувственную влюбленность в собственную дочь. Ведь неведомый искусник, бальзамировавший его, ничего не утаил: Габриэль увековечен в миг блаженства— дочь обнимает его за пояс, а он обнимает дочь за узкие плечики, держа в ладони, в моряцкой ладони, ее младенчески нежную грудь, ее едва приметный розовый бутончик, ее драгоценное девственное сокровище. Да и Дафна тоже выглядит живее, чем при жизни, потому что она наконец-то стала законченным воплощением собственной девственности: уже не полудевственница, какой он ее знал, а совершенная девственница, сама недосягаемость, сама мечта о… о чем-то недосягаемом… о чем? — думал Томас, полулежа в кресле и неотрывно глядя снизу вверх на ее парящую в воздухе серебряную туфельку, на выпуклый подъем стопы и приподнятое колено, на серебряное платье с его легким ритмическим махом и плавным ритмическим полетом вверх, вверх — платье в форме вазы, возносящейся вокруг ее длинных тонких ног и узких бедер к широкому красному поясу на непостижимо узкой талии, которую с легкостью могут обхватить две мужские ладони, и дальше вверх, к младенчески нежной, рожденной из пены девственной груди, которая кажется еще более целомудренной и девственной в обхватившей ее толстой, короткопалой руке Габриэля. А сверху вздымаются из серебряной вазы обнаженные плечи и цветочный стебелек выгнутой назад шеи с нетронутым цветком головы. Небесно-голубые глаза, искоса, снизу вверх устремленные на Габриэля, улыбкой отвечают на его доверчивый, собачий взгляд из-под роговых очков, она прислонилась затылком к его плечу и, подняв свободную руку, ласково касается его жесткой черной козлиной бородки. Нимфа и сатир, подумал Томас, красотка и чудовище. Вечно торжествующая победу над мужчинами дева без грудей и без бедер, резная фигура, украшающая корабль их мечты. Или восковая фигура из паноптикума, подумал он и вспомнил ее обнаженную — раздетый восковой манекен за стеклом витрины, долговязый, худой, холодный. И однако же, и все же я здесь сижу и не могу вырваться из… ритма — это ритм? — подумал он и поднял взгляд на его застывшую внешнюю форму, — или это звук ее голоса? Потому что с ее полуоткрытых губ только что слетело слово, нестерпимо банальное и скучное слово, но звук был как у серебряного колокольчика. Ему чудилось, что он слышит — нет, вернее, видит — он видел перед собою этот звук, и эту музыку, и этот скользящий ритм — как звонкий узор, повисший в воздухе, возникший из пустоты, растворенный в пустоте. Смешно, снова подумал он и хотел было засмеяться, но вспомнил, что засмеяться сейчас невозможно, даже улыбнуться невозможно, потому что улыбка уже застыла у него на лице гримасой и отражается где-то в ясном до безумия воздухе. Менуэт? — подумал он. Менуэт это, или веселенький гавот на месте, или, может, это…
Ад? — подумал Томас и тотчас пожалел: хотя он не шелохнулся, даже взгляд не перевел, весь восковой музей вдруг медленно закружился, и он увидел через светящуюся арку вереницу фигур, замерших посреди залихватского свинга. Какой-то мужчина парил, оторвавшись от пола, длинные ноги перевиты между собой, руки протянуты вслед убегающей женщине, которая замерла, отклонившись всем корпусом назад и закинув обе руки за голову, а вокруг них в воздухе — замерший вихрь толстых черных ног и тонких светлых ножек, белых сорочек и переливающихся всеми цветами радуги шелков, завитые дуги и закрученные спирали, не способные распрямиться, высоко задранная женская ступня и слетевшая с нее туфелька, навечно оставшаяся танцевать на носочке, мужское тело, падающее, но так и не упавшее, хохочущее лицо с разинутым ртом, и лицо, искаженное нестерпимой мукой, и белое как мел потухшее лицо с глазами, скрытыми пляшущим облаком волос, — круговое движение продолжалось с нарастающей скоростью, и в поле зрения поочередно вдвигались и вновь исчезали разные предметы: накренившаяся стена, скособоченный потолок, большой круглый стол со множеством поваленных бутылок и рюмок, и вот уже движение перестало быть движением, а предметы — предметами, осталось лишь повисшее в воздухе нерасчленимое колесо. Легкое головокружение, подумал Томас, оставаясь в центре колеса, легкое головокружение, и больше ничего… Потом он тихо, как прежде, сидел и широко открытыми глазами смотрел в камин, где березовые поленья горели без звука, без движения и мелкие язычки пламени слились в один застывший конус, оцепеневший огненный язык, который взметнулся высоко, до самого дымохода, и заканчивался наверху изящным завитком.
Не без кокетства, подумал Томас и засмеялся внутри беззвучным смехом: эта картина явилась как бы сценой апофеоза, завершающей комический балет. «Абракадабра», — сказал он, но и слово тоже осталось у него внутри. Он хотел было похлопать в ладоши, да забыл, погрузившись в созерцание: тихо сидел, следя, как последние искры и последний легкий дымок исчезают в зияющей черной пасти. Тем же путем, через трубу, улетучился, должно быть, и неведомый клоун — или пастор — или колдун, — предварительно вызвав видение бессмыслия с помощью весьма нехитрого приема: он застопорил всякое движение постановил время. Только-то — и этого оказалось достаточно, чтобы от предметов остались одни лишь мертвые формы, безобидный залихватский свинг приобрел вид пляски проклятых грешников, а уютный огонек камина превратился в само адское пламя. «Но ты не запугаешь меня своим адом, — сказал Томас. — Если ад существует, я хочу быть в аду. Если существуют проклятые грешники, я хочу быть с ними». — Его раздосадовало, что он не может выговорить свои слова вслух: в застопоренных движениях и омертвелом времени он по-прежнему чувствовал молчаливый вызов виновника наваждения. — «Я знаю, знаю, — продолжал он, — это всего только образ реальности, находящейся за пределами человеческого разумения, версия, предназначенная для простачков, умеющих видеть одними лишь глазами, понимающих одни лишь мысли и слова. И однако же, что это такое, как не образ мук и отчаяния заблудших душ, и что такое отчаяние, пусть даже самое безысходное, как не надежда? Покажи мне ад, в котором не жила бы надежда… Да, да, я знаю, — заторопился он с ответом, потому что воздух сделался нестерпимо ясен и мертвые отражения достигли совершенства в своем бессмыслии, — я знаю, что ты хочешь сказать: „Твой ад — это ты сам, ты, сделавший безнадежность своей надеждой. Ты, знающий, что ада нет, и, однако же, создающий его по своему образу и подобию. Ты, которому нужно всего лишь встать и уйти, и, однако же, не способный встать и уйти. Ты, знающий слово, которое может положить конец этому танцу среди мечей, и, однако же, не…“ „Не способный его произнести? — подумал Томас. Или я попросту забыл его?“» Он сидел прямой и неподвижный, уставив взгляд в стакан с золотистой жидкостью, где все белые пузырьки воздуха замерли, остановленные в своем полете наверх. Как слова, подумал он, застывшие слова, которые обрели зримую форму и превратились все в одно и то же: онемевшие литании из одного и того же вопроса и ответа, ряды и цепочки из одного и того же священного непристойного слова, бессмысленного слова из бессмысленного ритуала. Нет, я не помню его. Но я знаю правду о нем, подумал он, чувствуя, как мускулы вокруг рта растягиваются в улыбке — в настоящей улыбке: ну да, просто-напросто провал в сознании, который объясняется незначительным сдвигом в психосоматическом равновесии, который в свою очередь объясняется временным поражением нервов, управляющих системой зрительного восприятия, иначе говоря, сказывается избыток — то есть нет, недостаток алкоголя. Небольшая терапевтическая доза этого неудобоваримого пойла — и наваждение развеется, как дым…
Он протянул руку — медленно и осторожно, чтобы демоны ничего не заметили и не пустили в ход свои фокусы. И он их перехитрил. Лицо Томаса осветилось ясной торжествующей улыбкой, потому что он опять увидел движение, увидел, как рука его, точно выслеживающая добычу кошка, крадучись подбирается к стакану. И вот уже… вот…
Звук! Звук чего-то, что упало и разбилось. Он посмотрел вниз — на полу сверкали осколки стекла, темное пятно медленно расплывалось по синему с красным узору каминного ковра. Тут он откинулся на спинку кресла и расхохотался громко и облегченно, потому что Габриэль с Дафной сошли с лестницы и стояли прямо перед его столом по-прежнему в обнимку. Красотка и чудовище, нимфа и сатир. Томас хохотал.
— Что ты, право, Том, — сказал Габриэль. Его доверчивые глаза за роговыми очками были совсем темные, а красный рот в гуще черной бороды принял свое обычное благочестиво-чувственное выражение — с отвисшей нижней губой.
Ну как его такого не полюбить, думал Томас, продолжая хохотать. Он все хохотал и хохотал, потому что в это мгновение по лицу Дафны скользнуло смешное облачко, тень отвращения пробежала по ее неприступно отрешенному луноподобному личику совершенной красоты, а потом… потом она открыла рот, чтобы что-то сказать…
— Не вижу причин для веселья, Мас, — сказала Дафна голоском, похожим на звон серебряного колокольчика.
«Я дурной мальчишка, и Господь Бог гневается на меня. Я дурной мальчишка, и Господь Бог гневается на меня. Я дурной мальчишка, и Господь Бог гневается на меня. Я гнева… то есть Господь дрянной…» Нет, о нет, это же не нарочно, просто, когда повторяешь одно и то же сто раз, тысячу раз, под конец обязательно запутаешься, это же нечаянно, о Господи Иисусе, смилуйся! Но никакие мольбы теперь не помогут, он уже слышит грохот отодвигаемого стула, отец, огромный и костлявый, поднявшись, нависает над ним грозной тенью, рука, ухватив его за локоть, выволакивает из угла, где он стоял на коленях, и тащит опять в ад. Он успевает лишь краем глаза увидеть на стене Иисуса Христа в терновом венце да тесным кольцом сидящих за круглым столом братьев и сестер с понуренными головами, успевает в последний раз ощутить тепло комнаты и тяжелый запах керосина, а когда он пытается задержать взгляд на желтом огоньке висячей лампы, то замечает тонкий язык копоти над верхним краем лампового стекла — предвестие ада, — и потом ноги его, споткнувшись о порог, бухают, бухают тяжелыми глыбами вниз, по подвальной лестнице — у него словно нет ступней, и лишь ухватившая его костлявая ручища удерживает тело от падения. «Прости, ну прости, пожалуйста, — без конца твердит его голос, — прости, я же не виноват, я нечаянно так сказал…» Но он знает: ничто ему не поможет, потому что он говорит неправду, а правда — как раз самое ужасное. Вот они спустились в подвальный коридор; может, он отделается тем, что его отведут в мастерскую с ее холодным темным запахом дегтя и старой обуви и там выпорют ремнем, но нет, так легко он, конечно, не отделается, они уже миновали дверь в мастерскую и подошли к другой двери, решетчатой; ручища отпускает его лишь затем, чтобы отпереть замок. «Прости меня, я не…» — успевает он сказать в последний раз, прежде чем его швыряют в темноту и он грохается ничком на кучу кокса. Тяжелые шаги стихают, он остается один взаперти, и ему вновь предстоит испытать, каков собою ад. К тому же ад с дьяволом. До сих пор он попадал сюда днем, при дневном свете дьявол не мог его найти, а сейчас почти ночь, и ад на этот раз черный, в нем адская темень, ничего не видно, зато дьявол видит все. Но если сидеть тихо и следить, чтобы коке не осыпался, может, дьявол тогда забудет, что он здесь? Да нет, на это надеяться нечего, все равно ведь дьявол слышит шумные, гулкие толчки у него в груди, и вот уже что-то черное задвигалось посреди всей черноты. Он сидит совсем тихо и смотрит прямо в эту черноту — ни к чему закрывать глаза, ни к чему плакать или звать кого-то, это не поможет. Некоторые говорят, что никакого дьявола нет, но это, конечно, неправда. Он есть. Потому что правдой всегда оказывается самое ужасное — и вот уже что-то черное придвинулось к нему вплотную и коснулось его лица…
Симон выкинул вперед руку и наткнулся на ветку с жесткими иголками. Сознание мгновенно прояснилось: пистолет? — на месте, под мышкой; за спиной — стена гаража, прямо перед ним — все те же густые разлапистые елки, раскачиваемые беспрестанными порывами ветра, а в большом белом доме по-прежнему играет танцевальная музыка. Сколько же времени он проспал? Час или всего несколько минут — трудно сказать. Ночь как будто немного просветлела, словно вот-вот забрезжит заря. Нет, не может быть, подумал он, до рассвета, наверное, еще далеко, но это и не лунный свет из-за облаков, потому что ночь безлунная. Ночь, слава тебе Господи, безлунная.
Рана опять дала о себе знать, но не резкой колющей болью, как раньше, а просто сильной пульсацией в ладони. Он провел пальцами по лицу — оно было холодное, мокрое и словно разгладилось от дождя и от сна. У него не осталось ни надежды, ни страха, лишь успокоительная пустота внутри, как у ребенка, проплакавшего так долго, что он уже забыл причину своих слез и сам не понимает, что с ним было. Теперь у него ничего особенно не болело, хотя одежда, отяжелевшая от дождя, стояла колом, все тело было в ушибах, а руки и лицо — порезаны и изранены колючей проволокой, осколками стекла, шипами и бог знает чем еще, и это не считая прежних царапин от…
«Лидия», — сказал он вслух и заметил, что имя ее звучит для него уже по-иному. Таившаяся в нем боль тоже утратила язвящую остроту, окрасившись глубоким покоем неотвратимости. Ибо теперь он знает точно. У него не осталось и тени сомнения: Лидия его выдала. А все остальное значения не имеет. Упоминал он Кузнеца и других из группы или нет — это дела не меняет, она же знает их всех по прежним временам и ненавидит за то, что они втянули его в партию. Ей достаточно о них известно, чтобы без труда обо всем догадаться. Возможно, она просто по пьянке сболтнула со зла лишнее, но от этого не легче, ведь даже если она до сих пор непосредственно на немцев не работала, то теперь-то уж хочешь не хочешь, а придется. Пути отступления отрезаны. Он анализировал ситуацию спокойно и трезво, но одновременно ясно сознавал, что не может выдать Лидию своим товарищам. Не может и все, это исключено. Он застрелит ее, иного выхода у него нет. Ее и себя.
Невесть откуда, издалека, явилась мысль: так и должно быть. Так было всегда. Когда я ее застрелю, подумал он — и вспомнил, как они самый первый раз лежали, прижавшись друг к другу, при свете догоравшего дня и без слов смотрели друг другу в глаза, — когда мы с ней вместе разом умрем, произойдет, в сущности, только то, что все время происходит. Это будет последний акт любви. Для нее и для меня. Его изумила эта мысль и мир, покой, заключенный в ее суровой неумолимости, но он не спрашивал, откуда она явилась. Не о чем было больше спрашивать.
«Но самое главное — не даться им в руки живым, — сказал он, — вернее, ни живым, ни мертвым, но все-таки лучше уж живым, чем мертвым, потому что, если я сейчас умру, некому будет предупредить остальных». Он невольно усмехнулся: сколько можно твердить одно и то же, заладил — как молитву. Кого он молит и какой в том прок? Он и так знает, что этого не случится. Невозможно, чтобы он сейчас умер.
В доме заиграла совсем другая музыка: буйные, размашистые, смешливые ритмы, будоражащие ночь далеко вокруг; неугомонный вой ветра и буйные лапы молоденьких елок подхватили мелодию, и Симон сам не заметил, как вскочил и его голова, тело и ноги задвигались в такт музыке. Невозможно, подумал он, разражаясь смехом, совершенно невозможно! Он продрался сквозь еловый пояс и зашагал по газону к дому, негромко насвистывая. Вот и каменная лестница, поднявшись по ней и пройдя между двух каменных львов — или это сфинксы, а может, тритоны? — он очутился на открытой террасе, перед длинной застекленной верандой. Понимая, что сейчас его темная фигура хорошо видна на фоне белых плиток, он забеспокоился, но забыл об этом уже мгновение спустя, когда длинный луч света птичьим крылом взметнулся над террасой — должно быть, кто-то из танцующих задел штору с той стороны окна. Потом штору поправили, но не до конца — осталась узкая светящаяся щель. Он подкрался на цыпочках к окну и заглянул внутрь.
Толстые темные ноги и тонкие светлые ножки, мужчины в черных брюках и белых сорочках и женщины, колышущие длинными плавниками, красными, желтыми, зелеными, синими, летящие в танце навстречу друг другу, и вокруг друг друга, и прочь друг от друга, раскачивая головами, тряся телесами, выкидывая руки взад и вперед, высоко вверх, далеко в стороны. Мужчина с белым, как у клоуна, лицом подпрыгивает на месте и кружится, кружится без остановки — вот его затылок, а вот лицо, вот затылок, а вот лицо; женщина выбрасывает вперед длинную ногу, и — хоп! — одна туфелька взлетает на воздух, хоп! — и вторая летит следом, а женщина плывет дальше в одних чулках, мужские руки хватают ее за талию и треплют, она болтается как тряпичная кукла, а ее распущенные волосы пляшут, занавешивая слепые глаза, вот она вскидывает длинные щупальца-руки мужчине на шею и притягивает его лицо к своему разинутому рту, вот они оба теряют равновесие, валятся на софу и утопают в подушках, продолжая трясти, махать, бить руками и ногами в такт друг другу, в одном и том же ритме, а снаружи, за окном, на воющем ветру стоит он сам — он сам? — и против своей воли дергается всем телом, и чувствует, как пистолет ударяет его в бок, и уносится смутною мыслью далеко, в ночь над Европой. Он видит нескончаемые войсковые колонны, пляску сапог и скачку касок и винтовок, он видит длинные ряды узников, тощих, как скелеты, в болтающихся отрепьях, видит взмахи их кирок и лопат в такт друг другу, в одном и том же ритме, под веселое щелканье надсмотрщицких плеток. Ад! — думает он, стуча зубами от ярости, приплясывая будто на раскаленных угольях, и независимо от его сознания правая рука выхватывает из кобуры пистолет и снимает с предохранителя, а левая поднимается к окну, готовая на все…
Музыка смолкла так же внезапно, как началась. Бьющаяся пара на софе расцепилась, оба вскочили на ноги — женщина откинула волосы с лица и обалдело ищет глазами свои туфли, мужчина обмахивается носовым платком, а вокруг другие пары замерли, точно заколдованные, в позе, в какой их застал оборвавшийся пассаж танцевальной мелодии, и лишь постепенно начинают приходить в себя, двигаться и разговаривать. Симон не слышал их слов, он только видел их открывающиеся и закрывающиеся рты, их жесты и гримасы. Пистолет он опять поставил на предохранитель, продолжая, однако, держать его в руке; ветер как будто бы улегся, в окружающей тьме воцарились тишина и покой, между тем как внутри, за окном, все двигалось, вырисовываясь с какой-то сумасшедшей ясностью. Теперь лишь он разглядел, что веранда устроена как зимний сад: вьющиеся по стенам растения, горшки с деревцами и кустиками, обнаженные фигурки-статуэтки, наполовину скрытые ядовито-зеленой листвой. Точь-в-точь аквариум, подумал он, аквариум с искусственной подсветкой, полный золотых рыбок и вуалехвосток, пучащих свои телескопические глаза и то и дело открывающих рты. За высоким сводчатым окном в задней стене веранды видна гостиная, такая большая, что отдельные ее уголки и ниши теряются в темноте, хотя зажженные там и сям светильники образуют вокруг себя островки света. Посреди одного из световых пятен стоит широкий стол, сплошь уставленный всевозможными бутылками и рюмками, высоко над столом парит в полумраке потушенная хрустальная люстра, похожая на бледную медузу, а дальше, в глубине, он отчетливо видит лишь отдельные фрагменты гостиной: на фоне полосатых обоев два портрета в стиле рококо — небесно-голубая дама и пурпурно-красный кавалер, угол рояля, гигантских размеров китайская ваза, свисающая складками портьера из желтого шелка, абстрактная картина с хороводом солнц и вихрем спиралей — будто парафраза на тему умолкшей танцевальной музыки, а вон там — открытая раздвижная дверь, через которую можно заглянуть еще дальше в глубь темноты. В углу за этой дверью, должно быть, горит камин — красноватый мерцающий отсвет скользит по лицу и рукам мужчины в смокинге, который сидит согнувшись в кресле и спит, впрочем, нет, он не спит, глаза широко раскрыты и устремлены прямо на невидимый огонь. Уж не умер ли он, подумал Симон, не может живой человек сидеть вот так, абсолютно неподвижно, да и лицо чересчур бледное. Но нет, он не умер, вот он медленно разгибается, распрямляет спину, и руки его с растопыренными пальцами шарят по краю круглого стола. Симон криво усмехнулся. Спирит в трансе, сказал он себе, полоумный тип, вызывающий духов с помощью трехногого стола, эти буржуи — они же от безделья верят во всяких там духов, призраков, в загробную жизнь и бог знает во что!.. Тут он забыл, потерял свою мысль, потому что стол начал вдруг медленно крениться вместе со всем, что на нем стояло: с чашками, рюмками, серебряным ведерком для льда… сейчас… сейчас это все упадет… но что за идиотство, ничего не падает, хотя стол сильно наклонился набок, и оторвался от пола, и закружился в такт… в такт музыке? Разве музыка опять заиграла? И все там у них опять закружилось, хотя не слышно ни звука?…
Галлюцинации, подумал Симон сквозь дремоту, это усталость, просто-напросто усталость. Он ущипнул себя за руку, чтобы очнуться, но ничего не почувствовал. Что же он, стоит и спит с открытыми глазами или?… «Осторожно, не спать! — сказал он вслух. — Не терять сознания! Если ты сейчас потеряешь сознание, то…» В это мгновение внутри, за окном, зажегся яркий слепящий свет, из темноты выступила широкая лестница, а по лестнице спускались в обнимку двое: низкорослый, толстый, одетый во фрак мужчина и высокая, тонкая серебристо-серая женщина. Симон, встрепенулся, от приступа слабости не осталось и следа, он весь напружинился, как кошка перед прыжком, смертельная ненависть спазмом сдавила желудок, во рту появилась горечь, и он судорожно глотал слюну, чтобы не стошнило. О да, эта женщина ему знакома. Хотя он ее в глаза никогда не видел, ему хорошо знакомо в ней все от начала до конца: надменное белое лицо, оголенные до неприличия руки и плечи, неестественно тонкая талия, перехваченная широким красным поясом, узкие бедра и длинные, плавно скользящие ноги. Козявка, думал он, следя за тем, как она легко и ритмично, словно танцуя, спускается по лестнице бок о бок со своим карикатурным маленьким кавалером, блестящая серебристо-серая моль, раздавить между пальцами — и сдуть, как пыль, как прах, тень праха, и однако же… однако… Как Лидия, ошеломленно подумал он, неужели она будит во мне желание, как Лидия? И по внезапной нелепой ассоциации идей перед глазами его возникла Лидия: вот она медленно поникает лицом вперед, а в узкой ложбинке внизу затылка — маленькая круглая дырка, аккуратная, резко очерченная дырка со слабым налетом пороховой гари, но без крови, — и жуткое видение словно еще более разожгло неукротимую слепую ненависть к этой совершенно чужой ему женщине. Когда все кончится, думал он, когда последний голый мертвец будет давно забыт, она все так же будет танцевать длинным, узким языком пламени в окружающей ее пустоте, за пределами мира страждущих, мира живущих, и все жертвы были напрасны… Между тем его внимание опять привлек к себе мертвый — не то спящий, не то полоумный фокусник, который теперь сидел на виду, в слепяще ярком свете, — он вдруг выкинул руку вперед и толкнул свой стакан, который упал на пол и разбился. И тут человек разом ожил: откинувшись назад в своем кресле, он захохотал. Серая женщина и ее кавалер, сойдя с лестницы, остановились перед его столом. Вот маленький толстяк что-то сказал, а вот и женщина что-то сказала, она сердито тряхнула головой, и по ее неприступному белому лицу пробежало облачко. Человек в кресле смотрел на них и хохотал. Другие пары набежали из гостиной и столпились вокруг, жестикулировали и говорили все наперебой, но неизвестный человек в кресле не отвечал им, он сидел, откинувшись назад, и хохотал, хохотал.
«Да он пьян, — сказал Симон вслух и словно бы почувствовал облегчение от сделанного открытия, — просто-напросто мертвецки пьян. Эти мне буржуи, — он и сам рассмеялся, давая выход своей ненависти, — эти развратные, продажные, прогнившие, проклятые, презренные…»
Томас уже долгое время сидел и смотрел на стоящую перед ним на коленях женщину в строгом черном платье, белом кружевном передничке и с белой наколкой на волосах. Рядом дымился тазик с горячей водой, и она старательно терла кусочком замши темное пятно на ковре.
— Мария, — сказал он, ее ведь как будто зовут Мария? — Вы думаете, я пьян?
— Как может господин так говорить, — услышал он тихий сокрушенный голос.
— Я не хочу, чтоб меня называли господином, — сказал Томас. — Говорите мне «вы», или «ты», или «Мас», только не «господин».
— Госпожа велела…
— Мало ли что она велела. Я вам не господин!
В следующий раз она все равно назовет меня господином, подумал он и, махнув рукой, погрузился опять в глубь кресла. И не только потому, что Дафна так распорядилась, — так повелевает ей достоинство прислуги, мечтающей о настоящих господах. Глядя, как белая наколка на гладко причесанных выцветших волосах кивает и кивает у его ног, он вспомнил поместье, купленное Габриэлем в начале войны. Мария попала туда ребенком и прожила там всю жизнь, пока не превратилась в существо без возраста и пола, она тенью бродила по дому и была хранительницей ключей от господского бельевого шкафа, на чердаке у нее была скромная девическая светелка с комодом, застланным вышитой напрестольной пеленой, и с портретом старого помещика, прислоненным к вазе с засохшими иммортелями. Того самого старого помещика, который сказал Габриэлю: «Не вы вступаете во владение поместьем, а поместье вступает во владение вами». Для Габриэля поместье было просто способом временного помещения капитала («Что бы ни случилось, земля всегда останется в цене»), и теперь, почуяв, что война близится к концу, он продал его, нажив на этом деле четверть миллиона. Но ради своей дочери Дафны он оставил у себя камеристку Марию, эту идеальную прислугу. Что-то она думает о здешнем полусвете с его оргиями? Сохранила ли в неприкосновенности свою мечту о настоящих господах феодального типа? Стоит ли у нее, как прежде, портрет старого помещика на той же напрестольной пелене перед теми же иммортелями? Между прочим, я даже не знаю, где ей отвели комнату, подумал Томас, я ни разу не видел ни чердака, ни подвалов этого дома, который на бумаге числится моим, хотя мне впервые показали его лишь после того, как он был куплен, оплачен и полностью устроен и обставлен. Интересно, скоро ли Габриэль сочтет выгодным и его тоже продать через мою голову? Скоро ли он будет с гордостью демонстрировать мне новые старинные ковры, мебель и портреты, мой новый старинный домашний очаг с такими же каминами, уютными уголками и нишами, широкими лестницами и массивными дверями, приобретя все по случаю после смерти или разорения прежнего владельца либо сотворив эту новую старину за какую-нибудь неделю с помощью нанятого фокусника-дизайнера? И будет ли камеристка Мария и там бродить — как фамильный призрак, уцелевший с феодальных времен?
Между тем коленопреклоненная черно-белая фигура поднялась, и Томас машинально сунул руку в боковой карман, нашарил несколько бумажек, скомкал их и торопливо запихнул в кармашек белого кружевного передника. Женщина вся затрепетала от его легкого прикосновения: она стояла, перебирая ногами, как испуганная кобылица, и сквозь пар, клубящийся над тазиком с водой, смотрели на него выкаченные глаза.
— Госпожа… — пробормотала она, заливаясь краской от шеи до корней волос, низко потупила голову и двинулась прочь, побежала, второпях спотыкаясь, вон из комнаты с дымящимся тазиком в руках, а на пятне, где она только что стояла, он увидел остроносые серебряные туфельки Дафны и лакированные туфли Габриэля со сверкающими черными носами. Он поднял взгляд и опять заметил облачко презрения на белом луноподобном лице Дафны.
— Мас, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не смел давать им деньги, — прозвенел серебряный колокольчик.
— Прошу прощения, госпожа, — сказал он. — У пьяных такое в обычае. У них это вроде условного рефлекса: достать свои денежки и похвастать ими, а то и раздать кому попало. Но ты не беспокойся, тебе их вернут. Она сама придет и отдаст, не понадобится даже намекать: мол, господин был в невменяемом состоянии или, мол, деньги, которые у господина в кармане, — они господину не принадлежат. Она все знает. Ей все известно.
— Мас, — оборвала его Дафна.
— Ты говоришь «Мас»? — продолжал Томас. — Ей бы тоже следовало называть меня Масом, а она называет меня господином. Для тебя старается, потому что любит тебя. Безнадежно и неизлечимо, как все мы тебя любим. А какой же я господин, если я даже сам себе не господин…
— Перестань молоть чепуху, — сказала Дафна.
— Тут дело не в деньгах, Том, — вмешался Габриэль, и Томас заглянул прямо в его бездонные черные глаза за роговыми очками. Зрачки как у морфиниста, подумал он, переводя взгляд на его кроваво-красные губы, шевелящиеся в гуще усов и бороды. — …В кои-то веки нашелся человечек, — вещал басовитый пророческий голос, — верный и преданный человечек старой школы. Ты ведь только обижаешь, расстраиваешь ее — и больше ничего. Зачем же подрывать ее веру в нас…
И то правда, подумал Томас, и на миг перед его мысленным взором вновь возникла камеристка Мария, ее худая, угловатая фигура, бегом, спотыкаясь взбирающаяся по лестнице, страх и возмущение, написанные на ее крестьянском лице, обрамленном поблекшими волосами. Вот она отперла дверь в свою каморку и поникла, закрыв руками лицо, по которому ручьем текут слезы. Смятые бумажки лежат на напрестольной пелене рядом с иммортелями и портретом старого помещика. Небось у нее и распятие висит на стене или чудотворный образ мадонны? Не должно глумиться над святыней. Кто деньги помянет — помянет имя короля — помянет и имя Божие. Пусть себе верует в господ, пусть ищет спасения в этой своей вере, подумал Томас и одновременно услышал собственный голос, произнесший:
— Sie haben ganz recht, Herr Direktor Blom. Ich bin der Spielverderber [7].
— Mac, перестань, пожалуйста, говорить по-немецки, — сказала Дафна.
— А я говорю по-немецки? Это опять-таки условный рефлекс. У пьяных в обычае изъясняться на иностранных языках. But right you are, Lady, we will have to speak English very soon [8].
Дафна безнадежно покачала головой и, подняв вверх узкие дужки бровей, взглянула на Габриэля, а Габриэль взглянул на Дафну своими доверчивыми собачьими глазами. Отец с дочерью, дочь с отцом.
— Hitler is doomed [9], — сказал Томас, припоминая, что их обоих довольно долго было не видно, они наверняка поднимались в комнату Дафны, в просторную спальню Дафны с балконом, выходящим на море, и с выдержанными в пастельных тонах коврами, картинами и занавесями, которые служат оправой для алтарного престола кровати. — Victory Day is at hand [10], — сказал он, одновременно терзая себя воображаемым зрелищем сидящей перед трельяжем за туалетным столиком Дафны: нестерпимо глупая и нестерпимо красивая головка Дафны, отраженная в трех зеркалах, фас и два профиля, таинственно мерцающее изваяние богини в окружении священных сосудов и флаконов, золотых туалетных принадлежностей и шкатулок с драгоценностями. Габриэль тихонько крадется от двери, и в тот миг, когда на него падает свет, богиня воздевает обнаженную руку — троекратно повторенный жест, исполненный душераздирающей прелести, — обвивает его шею и притягивает к себе его голову. Щека к щеке: заросшая черная щека Габриэля и круглая белая щечка Дафны, глаза в глаза: черные бездонные глаза Габриэля встречаются в зеркале с сияющими сапфировыми глазами Дафны. Отец с дочерью, красотка и чудовище… — Скоро мы разрядимся в красные, синие и белые перья, — услышал он собственный голос, — нацепим шапочки, ленточки и значки союзнических цветов, возьмемся за руки и будем дружно плясать на улицах и площадях, кричать «ура» и петь «God Save the King» [11], и «Марсельезу», и «Stars and Stripes» [12], и «Интернационал», и… — Чудовище берет красотку на руки и несет на кровать, усаживается на краешке алтаря, держа ее на коленях, ноги в черных лаковых туфлях упираются в раболепно распростершуюся на полу шкуру белого медведя, охраняющего святыню, не щадя клыков и когтей. Ночник над кроватью пунцово тлеет, рука чудовища бережно гладит тонкую спину красотки, покрытую светлым пушком, а красные губы в гуще черной бороды целуют светящийся нимб ее волос, целуют драгоценный жемчуг у нее на шее, целуют платиновый браслет на ее запястье, целуют ее пальцы и сапфировое кольцо, спорящее блеском с ее сапфировыми глазами, и вот — вот Габриэль медленно соскальзывает вниз и, стоя на коленях, целует ее ножку над серебряной туфелькой, и обхватывает ладонями ее узкий стан, и прячет лицо у нее в подоле, и… — …и бить в барабан, и дуть в рог, и трубить в трубу, возвещая, что грядет Страшный суд — или «dies irae» [13] — или «le jour de gloire est arrivé» [14], если не в этом году, то в будущем или еще через год…
— Маc, — прозвенел серебряный колокольчик. — Посмотри-ка на меня, слышишь, Маc!
С какой это стати мне на нее смотреть? — подумал он, не отрывая взгляда от матовой полированной столешницы с ярко-красным пятном посредине, и руки его принялись бесцельно играть со стоящими на столе стаканами, чашками, сахарницей. Сахарница — это корабль, плывущий по зыби прожилок. Он смутно помнил, что играл, бывало, вот так же в детстве, когда они с матерью сидели за столом и она умоляла его съесть роскошную взрослую еду, которой любой ребенок мог только позавидовать. А он не хотел. Он не слышал ее голоса, не поднимал на нее глаз, он играл со стоявшей на столе посудой. Корабль плыл по морю.
— Поражение Германии неизбежно, — сказал он, — поток грузов, перевозимых морскими конвоями, все более возрастает… — Чудовище зарывается лицом в платье между тонкими ляжками красотки и целует святая святых: ее маленькое пушистое лоно под серебристым шелком… Ну и что в том дурного? — спросил он себя. Это все та же игра, в какую они играли, когда она была маленькой девочкой: он — ее мишка, он ползает перед ней на четвереньках по ковру, а она треплет его за ухо, таскает за волосы и за бороду, они бодаются, мыча как коровы, и называют друг друга всякими бессмысленными именами, они болтают на своем тарабарском детском языке, понятном только им двоим. Почему бы не поиграть? И разве не может их теперешняя детская игра быть столь же невинной, как и прежняя? А если она и порочна, то разве нельзя сказать, что это пустяковый, трогательно простодушный порок? Такие мысли мелькали у него в голове, пока руки переставляли с места на место стоящие на столе предметы: тонкие цветастые чашечки— это острова в море, а синяя сахарница в форме ладьи — судно из конвоя, плывущего в Данию. Было время, когда Габриэль скупал акции судоходных компаний, так как суда шли нарасхват, так как война была неизбежна — или наоборот? Война была неизбежна, так как суда шли нарасхват, так как люди вроде Габриэля скупали судоходные акции. Потом настало время, когда суда шли ко дну со всеми потрохами, и Габриэль сказал: «Ни к чему закрывать глаза на правду — победа Германии неизбежна. Скоро суденышка живого не останется». Затем последовало героическое время, когда враждующие силы держали друг друга в состоянии неустойчивого равновесия, и Габриэль сказал: «Сейчас ни к чему думать о потерях и издержках. Navigare necesse est, vivere non est necesse»[15]. Теперь суда опять плавают по морям, нескончаемый поток грузов перевозится морскими конвоями, и поражение Германии неизбежно. И все это время, пока суда плавали, и потом тонули, и потом снова плавали, и города горели, и страны стирались с лица земли, Габриэль был в курсе вещей, о которых другие не знали, и высказывал мудрые пророческие суждения обо всем, что происходит и что должно произойти в будущем, но по-настоящему он жил и чувствовал себя счастливым тогда, когда прогуливался со своей дочерью Дафной по центру города, заходил с нею в магазины, примерял новую шляпу на ее прелестную головку, набрасывал легкие пестрые шали на ее хрупкие девичьи плечи и крохотную девичью грудь и оглядывал ее со всех сторон, любуясь на свое произведение среди зеркал, или когда нацеплял ей на шею жемчужное ожерелье, надевал на палец кольцо, а на руку браслет, или же когда показывал ей новый старинный дом с коврами и обоями, с мебелью и картинами, которые будут служить новой прекрасной старинной оправой для ее глаз и волос, для ее голоса и телодвижений. Но еще счастливее чувствовал он себя, когда тайком от всех ползал перед ней на четвереньках, а она таскала его за волосы и за бороду своими маленькими ручками и называла какими-нибудь кретинскими ласкательными именами, и уж воистину райским блаженством бывал тот краткий миг, когда он мог положить голову между ее хрупких колен и запечатлеть легкий поцелуй на драгоценнейшем из всех украшений: на ее светлом пушистом недосягаемом…
Рука Томаса двигала синюю сахарницу: корабль плывет меж цветущих островов по морю-океану, великому тихому океану детства. Из глуби вод внезапно взметнулся громадный вал — корабль опрокинулся, и груз — белые кусочки сахара — оказался за бортом, на зыби прожилок столешницы. Ясный, как стекло, пузырь парит над морем, прозрачно-тонкий и поэтому почти незримый, Томас щелкнул по нему ногтем и услышал кристально чистый, медленно замирающий звон.
— Осторожно, — сказал он, — угроза нависла над счастливыми островами. Быть может, это новое секретное оружие Гитлера или, быть может, кара Господня или просто капля человеческой злобы в чистом виде. Пока угроза недоступна зрению, а на слух просто как звенящая тишина, но она существует, она растет, напряжение достигло предела — близится миг неминуемой катастрофы. Ибо это сила, способная обратить землю в руины, она проникает сквозь самые крепкие стены, она парализует мужскую потенцию и убивает зародыш во чреве матери. Берегитесь же, — сказал он, чувствуя, как в нем зреет проклятие, — она уже покоится в Божьей деснице, и сейчас — сейчас она низвергнется!
Он поднял каплеобразную коньячную рюмку высоко вверх и разжал пальцы. Дзинь! — и воцарилась долгая тишина, весь стол блестел от усеявших его мелких осколков.
— Том, — раздался голос Габриэля, — пора тебе ложиться. Пошли, я тебя провожу.
— Ты что, думаешь, я сам не дойду? — спросил Томас. — Думаешь, я пьян?
— Ну что ты, нет, — ответил Габриэль. — Мы же знаем, ты не напиваешься допьяна. Ты просто устал, Том. И тебе самое время лечь спать.
Поддакивает, соглашается, подумал Томас. Они обращаются со мной как с малым ребенком, хотя я здесь единственный взрослый. Они считают, что я психопат и пропойца, хотя я единственный, кто ясно видит и трезво мыслит. Ответственный — среди безответственных, виновный — среди невинных носителей порока. Я-то понимаю, что весь этот танец среди мечей — чистейшая игра воображения, мне-то достаточно пальцем шевельнуть, слово молвить, чтобы… Взгляд его упал на разоренный стол: осколки стекла и фарфора, рассыпанный сахар, пролитые сливки. Это все я? — удивился он. Учинил погромчик, смешной и бессильный? Может, он прав: я действительно пьяный психопат, действительно устал и мне сейчас самое время лечь спать? Или я трезв и ясен рассудком, и мне самое время… Он увидел себя стоящим перед шкафом в спальне: вот он выдвигает ящик, открывает потайное отделение за ящиком и достает пистолет. Итак, через минуту — через полминуты — через десять секунд-Тут он почувствовал руку Габриэля у себя на плече, встретил доверчивый взгляд его темных глаз и услышал отечески властный голос:
— Пошли, Том… вставай… я тебя провожу.
— Пусти меня. — Томас сделал быстрое движение и с изумлением увидел, что маленький толстяк, пошатнувшись, пропал. На пол, что ли, сел? Он взглянул на Дафну: она от него отвернулась, за ее оскорбленным неприступным профилем виднелись другие лица, слышались голоса. Кто эти люди? — спросил он себя. Что тебе здесь делать? Встань и уйди отсюда прочь. Вставай же! — сказал он и остался сидеть. Остался сидеть…
…Остался сидеть, между тем как Дафна, медленно повернув голову, посмотрела прямо на него далеким, холодным и чужим взглядом. Она его не знает, он для нее не существует. И однако же он сознавал, что не способен встать и уйти, не способен повернуться лицом к реальной жизни, он не в состоянии даже взорвать свой ад нереальности выстрелом из пистолета. Он может поиграть с этой мыслью, может достать пистолет из потайного отделения в шкафу и стать перед зеркалом — вот он прикладывает дуло к виску и принимает решение: через минуту. Секундная стрелка на его часах твердо и четко отсчитывает шажки в своем кружочке — через полминуты, через двадцать секунд, через десять секунд, — но она шагает чем дальше, тем медленнее и напоследок совсем останавливается, все мысли и все движения замирают, распластавшись в пустоте перед чертой катастрофы, которая так и не происходит. И ему остается спрятать обратно пистолет, раздеться и залезть в постель, где он лежит и слушает музыку и гомон, доносящиеся снизу, а когда заглохнут последние звуки и весь дом погрузится в тишину, он опять выбирается из постели, на цыпочках пересекает коридор и стоит в пижаме, дрожа от холода, под дверью у Дафны, запершейся на ключ. Осторожно стучит и шепотом зовет ее, но она не слышит, она спит сном праведных, подложив обе руки под мягкую круглую щечку, и, даже если бы он добудился ее, дубася в дверь кулаками и ногами, она бы все равно не открыла, голоса не подала, зато другие двери стали бы приоткрываться, и другие глаза увидели бы, как он стоит жмется в своей полосатой арестантской одежде. И он поневоле возвращается опять к себе в постель и лежит, распростершись во мраке за пределами времени, лежит в ожидании сна, который никак не приходит, и слушает шумное, бурное клокотание своей горячей крови, и вспоминает те редкие ночи, когда он находил ее дверь открытой и лежал с нею под легким пуховым одеялом, гладил и ласкал ее всю, такую длинную и тонкую, с прохладно-гладкой кожей, а после того, как эти воспоминания промелькнут и исчезнут, оставив его ни с чем, он цепляется памятью за еще более редкие и далекие ночи, когда он после долгих молений и терпеливых ласк удостаивался милости лечь у нее между колен и насладиться ее младенчески взрослым телом со слабыми, неразвитыми формами и светлым пушистым лоном, утолить свою страсть, на которую она никогда не отвечала и лишь ждала, когда же ей снова дадут погрузиться в беспамятство глубокого сна. Но и эти воспоминания скоро утрачивают всякую осязаемость, и, чтобы как можно ощутимее, сокровеннее приблизиться к ней, он оживляет в памяти один-единственный летучий миг, когда она лежала в сонном полузабытьи, и ее волосы касались его щеки, и рука ее играла с его ухом, а голос нашептывал ему во тьме бессмысленные ласковые словечки. Из ночи в ночь осужден он лежать в одиночестве, вспоминая эти нестерпимо глупые, дурацкие словечки, повторяя их снова и снова, и что толку знать, что в тот миг она просто была маленькой девочкой, которая во сне разговаривала с отцом, и что толку твердить себе, что, вполне возможно, она нашептывала те же словечки на ухо многим другим мужчинам, — это не помогает. Он говорит себе: «Она инфантильна и фригидна; нагая, без одежды, она тощая, безобразная и бесполая, как раздетая восковая кукла, но она показывается лишь задрапированной в кисею и шелка, в кружева и пестрый флер». Он говорит себе: «Она получеловек, она полудевственница, которая отдается всем мужчинам подряд, желая удовлетворить свое мелкотравчатое воспаленное любопытство, утвердиться в своем мелкотравчатом младенческом самомнении, она скучает, лежа с ними в постели, и ждет не дождется, когда же кончится эта смешная и непонятная интермедия». Он произносит эти слова вслух, бросает их во тьму как молитву, как заклинание, но магия слов обращается против него самого и лишь усиливает его тоску, разжигает страсть. Тогда он испробует иные слова, он говорит: «Есть же другие женщины, у меня было немало других. Как их звали? Какие они были? Как они выглядели?» Он тихо лежит, и они проходят перед его мысленным взором, но это зрелище еще более разжигает его страсть к полной их противоположности. Тогда он говорит: «В мире идет война, люди в смятении, люди страдают, люди гибнут от мучений и пыток— сейчас, в это мгновение; что значит измышленный мною ничтожный ад в сравнении с их невыдуманным адом?» Он клеймит себя презрением и позором, он мучит себя мыслями о замученных людях, пока не замечает, что опять уже думает не о них, а лишь о собственных муках и собственном вожделении. «Почему я люблю ее? — спрашивает он себя и сам отвечает: — Потому что это бессмысленно. Люблю, потому что она не способна любить, потому что я не хочу любить и быть любимым, потому что я хочу остаться в собственном аду, которого нет…» Но одновременно он сознает, что и эти его слова тоже не имеют реальной значимости, что они просто звенья нескончаемой цепи из одного и того же вопроса и ответа в монотонной литании страсти…
3
Габриэль и Дафна опять стояли перед ним, отец с дочерью, красотка и чудовище, но между их лицами выставилось третье — мужская физиономия, властные светлые глаза и редкие длинные темные пряди, старательно начесанные на голое темя и на высокий крутой лоб. Троица стояла, взявшись под руки и переглядываясь, потом отец с дочерью, дочь с отцом исчезли, и остался только третий — персона в безукоризненной фрачной паре, широкие плечи, узкие бедра, длинные ноги. Записной любовник, подумал Томас, мечта всех женщин. Теперь он и имя вспомнил.
— Феликс, — сказал он, — доктор Феликс, ты тоже считаешь меня пропойцей? И те двое подговорили тебя предложить мне по доброй воле пройти курс антиалкогольного лечения в закрытой клинике?
— Мас, дружище, — сказал доктор, обнажив в улыбке белые зубы.
Что-то слишком уж много крепких белых зубов, подумал Томас, и на плечо его легла рука, повелительно-увещевающая, успокоительно-твердая докторская рука, большая, холеная, с полированными ногтями. Какое-то мгновение Томас сидел совсем тихо и смотрел на нее — он видел Феликса, доктора Феликса, развалившегося в парикмахерском кресле, растопыренные пальцы его руки покоятся на мраморном столике, жрица красоты, склонившись, колдует над ними со своими притираниями, массирует корни ногтей и полирует до зеркального блеска выпуклые роговые пластинки, — красивая рука, не молодая, но и не старая, рука во цвете сил, рука записного любовника, которая приковывает взоры женщин, которая может… которая, наверно… он сбросил ее, резко тряхнув плечом, и с удивлением увидел, что локоть доктора взметнулся, загораживая лицо, а зубы, крепкие белые зубы, сверкнули, обнажившись будто в страхе. Он меня боится? — подумал Томас, и это его позабавило, но одновременно он почувствовал легкое беспокойство. Похоже, у меня все еще нарушена координация движений?
— Друг мой, — сказал он, — добрый старый дружище, сбегай-ка ты на своих длинных мускулистых ногах, принеси нам с тобой чего-нибудь горло промочить, чтобы мы могли поговорить по-дружески, что называется, по-мужски, как мужчина с мужчиной, а то сейчас я, по правде сказать, не ручаюсь за…
За что? — подумал он. Уж не ревную ли я — или что я против него имею? И с удивлением обнаружил, что тот, оказывается, успел выйти и уже возвращается, осторожно балансируя, с двумя полными стаканами. Вот теперь можно опять пришвартоваться к надежной пристани: сидеть, обхватив рукою стакан, между тем как в кресле по ту сторону стола сидит Феликс, доктор Феликс, забросив одну длинную ногу на другую и покачивая длинной элегантной ступней в блестящей туфле, шелковый носок над туфлей — черный, с белой стрелкой на боку. Томаса почему-то раздражала эта качающаяся стрелочка, он постарался сосредоточиться на своем стакане и отхлебнул глоток желтой жидкости — спирт был горький и прямо-таки сногсшибательно крепкий. Напротив сидел доктор и улыбался всеми своими зубами.
— Правильно, брат, так и надо, — сказал Томас, — друга не мешает На всякий случай опоить до потери сознания, а самому остаться в форме. Не это ли почитается критерием мужского достоинства: уметь перепить всех мужчин и наслаждаться любовью всех женщин — подруг своих добрых старых друзей?
Неужели я действительно ревную? — все еще не веря, спросил он себя, глядя, как белые пузырьки воздуха в стакане всплывают наверх, и услышал голос, докторский голос, с той стороны стола:
— Ну что ты, Мас, перестань… Никто не собирается… — И рука, красивая рука с выпуклыми, подпиленными, отполированными до блеска ногтями, опять мягко потянулась к нему и…
— Нет, нет, — сказал Томас, — вот уж чего не надо, так этой руки. В моем случае она не показана. Кстати, интересно, каков твой диагноз? Abusus spirituosus [16] — или шизофрения — или dementia praecox [17]?
— Скорее, можно предположить dementia paranoides [18], — ответил доктор. — Случай, к сожалению, инкурабельный, ибо, по всей видимости, конституционально обусловленный. Между прочим, четко определить твой конституциональный тип довольно затруднительно. Что касается физического склада, твой габитус находится где-то посредине между атлетическим и лептосомным, тогда как психика у тебя по преимуществу шизоидная, с некоторыми эпилептоидными элементами. Поэтому я бы ограничился допущением, что ты страдаешь одной из форм дегенеративной психопатии. В целом тебя можно считать относительно неопасным как для самого себя, так и для окружающих, хотя твои параноидные бредовые идеи в настоящий момент имеют достаточно выраженный характер. Но это объясняется просто кое-какими неполадками в твоих синапсах, что в свою очередь…
— Что в свою очередь объясняется острым нарушением психосоматического равновесия, что в свою очередь объясняется выходом из строя аккомодационной мышцы глаза, что в свою очередь объясняется приемом алкоголя, — сказал Томас. — Не избыточным, а недостаточным приемом алкоголя, — добавил он и отхлебнул глоток. — Небольшая дополнительная терапевтическая доза! — Он снова отхлебнул. — Только что у меня были самые настоящие галлюцинации, мне мерещились призраки и чудились голоса. А сейчас я, можно сказать, перевалил на другую сторону: слышу нормально и вижу ясно. Пожалуй, чуточку слишком ясно, — сказал он и, продолжая пить, устремил взгляд поверх стакана, наполовину уже пустого, на длинные темные пряди, изящно начесанные на выпуклое голое темя и крутой голый лоб; пониже были властные светлые глаза, а еще пониже — сигарета, зажатая в уголке искривленного рта и окутавшая лицо положенной по ритуалу дымовой завесой, а вон и полированная, шлифованная рука, и атлетическая, чисто атлетического конституционального типа грудь под панцирем манишки, а вон качающаяся туфля и черный носок с белой стрелкой, ослепительно белая стрелочка почему-то вызвала у него опять такое раздражение, что он невольно сжал в руке стакан и в конце концов залпом осушил его, чтобы не… — И мыслю я опять нормально, — сказал он, — хотя, пожалуй, немножко слишком остро. От этого резь в ушах, неприятный такой звук — представь, что ты вырезаешь алмазом на оконном стекле магический знак: Абраксас, знаешь? Ну, божество с петушиной головой и змеями вместо ног? Да нет, ты не знаешь, ты для этого слишком нормальный, чуточку слишком нормальный. Но ты, безусловно, выдающийся психиатр. Dementia paranoides — я ничуть не сомневаюсь, что ты прав. Параноидно-шизоидно-эпилептоидные бредовые идеи. Есть что-то в высшей степени успокоительное в этих психиатрических иностранных терминах, особенно если не слишком задумываться над их смыслом — собственно, лучше всего вообще не задумываться и не понимать этих слов, а просто отдаться во власть их магии. если не считать магии чисел, ничто не вызывает у меня такого восхищения, — как психиатрическая абракадабра. Я восстанавливал свое душевное здоровье под лучами дуговой лампы, я блуждал в дебрях сексуальной символики и крутился до бесконечности между частями моего растепленного, распавшегося «я», а затем заново синтезировал себя, проходя курс психоанализа. К несчастью, мы склонны вновь и вновь утрачивать целостность. Прогноз, увы, неутешителен, все мы подвержены непременным рецидивам. Причина — в крайне неустойчивом состоянии равновесия, мы танцуем босиком среди мечей, один недостающий или лишний шажок, одна-единственная мысль, не укладывающаяся в эмпирически проторенную колею, — и ты падаешь. Для стоящего на твердой почве наблюдателя это выглядит комично: крохотная человекоподобная фигурка с руками и ногами, крутящимися точно мельничные крылья, проделывая серию сальто-мортале, устремляется в бездну, навстречу неминуемой катастрофе. Но не надо забывать: тот, кто падает, утратил страх смерти, а вместе с тем и собственное «я», свое способное бороться, действовать и совершать выбор «я», а вместе с тем и ощущение времени и пространства — он парит в натяжении упругой пустоты, и никакой катастрофы не происходит. Если он и чувствует что-либо, так разве что скуку, а единственная занимающая его мысль — это комичная мысль о том, что его состояние лишь плод иллюзорных представлений, что катастрофа абсолютно невозможна, что «смерть» и «тлен» — названия явлений, которых в действительности нет, слова, выражающие вечно напрасный страх или вечно напрасную надежду. Он это знает, он единственный, кто это знает и, вообще говоря, ему достаточно сказать слово, достаточно пальцем шевельнуть, чтобы разрушить всю эту фантасмагорию. Но он не делает этого. Вот что смешно, в чем весь комизм: он этого не делает. Можно задаться вопросом, не хочет он или не может, дана ли ему свобода воли или не дана, существует ли он вообще или нет, точно так же как можно задаваться вопросом о существовании или несуществовании Бога, — все это вопросы, лишенные смысла, иррелевантные, если пользоваться твоими иностранными терминами, заведомо ложная постановка проблемы. Истина же в том, что он остается в своем аду, потому что этот ад— бессмыслица, потому что он не существует, потому что совершенно невозможно представить себе этакую смехотворно-нереальную погибель, являющуюся просто результатом несчастливого стечения обстоятельств, минутной неосмотрительности. И однако же, все же, уверяю тебя, в сравнении с этим состоянием даже самые колоритные пророчества, живописующие Страшный суд, не более чем трогательная, по-детски безыскусная попытка создать образ того, для чего нет образов и нет слов. Или, может, ты знаешь такое слово? Может, есть такое волшебное слово на твоем магическом языке, которое способно…
Он оборвал речь и машинально потянулся за стаканом, но стакана не оказалось. Он поднял глаза на своего собеседника, но никакого собеседника не было. Кресло стояло пустое. Ушел? — подумал Томас. Или никого и не было? И увидел, что тот возвращается, осторожно балансируя, с полным стаканом в руке. Кажется, он уже однажды приближался ко мне вот так же — или он только сейчас появился? Кто он? Как его зовут?
— Ты прав, дружище, — сказал тот, поставив перед Томасом стакан, — ты, бесспорно, совершенно прав.
— В чем? — спросил Томас.
— Ну, во всем, о чем ты говорил.
— А о чем я говорил?
— Признаться, последних твоих слов я не слышал, — сказал тот, усаживаясь. — Я заметил по твоему виду, что тебе не мешает принять еще одну дозу. Небольшую терапевтическую дозу, последнюю. Продолжай, — он закинул ногу на ногу, — а то потеряешь нить. Я слушаю тебя. Слушай с большим удовольствием. — Он сложил вместе кончики растопыренных пальцев. — Не подлежит сомнению, что ты страдаешь dementia paranoides в легкой форме, — вещал он под аккомпанемент качающейся ноги в черном носке, — но это не исключает возможности того, что в твоих высказываниях содержится некий глубинный смысл. Сейчас ведутся интересные исследования, касающиеся соотношения между… — в черном носке с белой стрелкой, — …не могу, к сожалению, предложить какого-либо философского обоснования, только лишь практический клинический метод, для того чтобы… — с белой стрелкой, с этой несносной качающейся стрелкой…
— Клинический метод, — повторил Томас. — А не знаешь ли ты практического клинического метода, который помог бы человеку встать и уйти? И нет ли волшебного словечка на твоем магическом языке, которое могло бы заставить человека шевельнуть пальцем и повернуть диск, телефонный диск, набрать какие-то буквы или цифры, или продеть тот же палец сквозь игольное ушко — небольшое отверстие в металлической вещице — и просто-напросто нажать на спуск?
— О чем это ты? — спросил доктор.
— О тебе и твоих словечках, — ответил Томас. — О твоих шизоидных эпилептоидных параноидных иностранных терминах, — он поднес стакан ко рту, — о твоей клинически-практической стерильно-антисептической магии, — сказал он и отхлебнул. — Правда, вполне антисептической ее не назовешь, она таки слегка замарана фекалиями, приванивает тошнотворным цинизмом… — Он отпил несколько глотков, чувствуя, что все более трезвеет и сознание заметно проясняется. Теперь он опять уже знал, кто перед ним сидит, вспомнил имя: Феликс, доктор Феликс, патентованный любовник. Последнее время Дафна то и дело употребляет медицинские термины. Сыплет ими к месту и не к месту, едва ли понимая их смысл, раскидывает их вокруг, как экзотические цветы, серебряный колокольчик ее голоска оглашает воздух их звоном. Ревность? Неужели я действительно ревную? — снова спросил он себя и одновременно констатировал с полнейшей определенностью, с клинической точностью, что правой руке его приходится очень крепко держать стакан, чтобы под действием просто-таки неодолимого импульса не выплеснуть его содержимое на эту плешивую голову, на эту полную снисходительного превосходства ухмылку, и одновременно подумал, что его ревность чудовищно глупа и бессмысленна, и одновременно почувствовал, что сама эта мысль обостряет его муку и его боль. Или его радость? Радость, в которой боль, боль, в которой радость? — Цинизм… — сказал он и отпил еще. — Очарование цинизма кроется в амбивалентности взгляда на вещи, какая имеет место, к примеру, в отношении небезызвестного аромата: то ли это смрад, то ли благоухание. Цинизм провозглашает удовлетворение плотских вожделений единственным предназначением человека, но в то же время он несвободен от христианско-пуританского предрассудка, что плоть — это зло и мерзость, а функции кишок и желез сами по себе унизительны. Однако для гедониста, — продолжал он, — для счастливого, независимого человека без комплексов, этот крохотный рудимент страха перед преисподней, разумеется, всего лишь пикантный штрих, этакая кокетливая мушка, без которой его совершенная система психосоматического равновесия рисковала бы показаться чуточку банальной, капельку скучноватой. Чем было бы наслаждение без такой вот амбивалентности взгляда, которая поднимает его на уровень сознания? Тебе можно позавидовать, — сказал он, стискивая в руке стакан, — я, ей-богу, чувствую ревность, как представлю себе всю гамму твоих переживаний, когда ты любишь женщину и в то же время сжимаешь в объятиях скелет, тазовый пояс, неотразимое прельстительно-отталкивающее скопление воды, солей, углеводов, жиров и…
— Тсс!.. — Доктор состроил лукаво-предостерегающую мину, и Томас, проследив направление его взгляда, опять увидел на ковре черно-белую коленопреклоненную фигуру жрицы — камеристки Марии, которая сметала в кучу осколки и вытирала мокрое пятно. Опять она пришла, подумал он, или она все время здесь обретается? Стоит на коленях у ног своего господина, готовая в любую минуту уничтожить следы его смехотворных погромов, его вечно напрасных бунтарских поползновений? Одновременно внимание его привлекли легкие ритмические колыхания скользнувшего мимо серебристо-серого платья, и он увидел, как сапфировые глаза Дафны встретились с властными светлыми глазами записного любовника доктора Феликса, — он увидел это и вдруг очутился совсем в другом месте, среди другой мебели, других ковров и картин… Роскошный холостяцкий дом, храм любви великого любовника. На дворе ясный солнечный день, но гардины задернуты, и сочащийся сквозь них свет переливается мягкими красками. Будто цветовой орган, подумал Томас, или это играет электроорган? Потому что из-за портьеры слышатся звуки патефона, вернее, автоматического электропроигрывателя, и, между тем как банальная мелодия с одной и той же вечной темой крутится и крутится по своей спирали, он видит, с нестерпимой ясностью, с убийственной отчетливостью, как цепкая рука записного любовника с отполированными до блеска ногтями обхватывает тонкую спинку Дафны в том месте, где позвонки выступают из-под кожи, точно миниатюрное подобие и предвестие смерти, а Дафна кладет руку на плечо любовника с нарочитой легкостью и беспечностью, словно любуясь собою в зеркале, и голосок ее серебряным колокольчиком вызванивает пустые, бессмысленные словечки, и в конце концов и голоса, и мелодия, и игра красок сливаются воедино, преобразуясь в причудливую тень на стене — или это в зеркале? Там, кажется, и правда есть кристально ясное сверкающее зеркало?
Томас открыл глаза. Он опять сидел в своем кресле и опять спрашивал себя, почему он испытывает эту дурацкую ревность, и отвечал себе, что в действительности это никакая не ревность, а желанная гарантия верного, непоправимого краха, который служит человеку последним надежным прибежищем, и одновременно сознавал, что от этой мысли ему ничуть не легче. Он увидел, что жрица Мария поднялась с колен и идет прочь, торопясь и спотыкаясь, казалось, она вот-вот закричит, раздастся вопль… Но она исчезла. Прямо напротив была все та же качающаяся нога с белой стрелкой на черном носке и физиономия, которая все так же ухмылялась с видом снисходительного превосходства, а голос — голос давно уже что-то говорил, но он уловил лишь последние слова начатой фразы:
— …нечто совсем другое.
— Что — совсем другое? — спросил Томас.
— То, о чем мы говорили. Чувства, которые испытываешь, когда любишь женщину.
— Разве мы об этом говорили? — Томас тотчас пожалел о сорвавшемся с языка вопросе: властные светлые глаза мгновенно изменили выражение и рука — докторская рука — опять потянулась к нему через стол, так что он невольно отпрянул, спасаясь от нее. — Извини, — сказал он, — я, наверно, отключился на минутку. Бывает, что сидишь, сидишь — да вдруг и заснешь, словно в яму провалишься. Но это неважно. Ты продолжай. Что ты хотел сказать?
— Ты очень бледный. Тебе плохо? — спросил доктор.
— Нет, нет, отнюдь. Мне никогда еще не было так хорошо. Ну, рассказывай. Итак, что же ты чувствуешь, когда любишь женщину?
Феликс придвинулся ближе.
— Я воспользуюсь образом, — начал он с тонкой улыбкой. — Представь себе, что ты взбираешься по крутой горной тропинке. Она прихотливо извивается и петляет, и ты никогда не знаешь, что тебя ждет за следующим поворотом, то ли райский уголок, то ли бездна. Заранее никогда не знаешь. — Он умолк и затянулся сигаретой. — Но, как бы там ни было, поднимаешься все выше, и воздух становится все разреженней. — Он снова затянулся. Теперь он сидел так близко, что Томас слышал его дыхание и видел, как пульсирует огонек его сигареты. Вот он сделал глубокую затяжку, вот он выпустил дым двумя тонкими струйками через ноздри. — На последнем крутом участке пути сознание мутится, — продолжал он, — в глазах туман, земля под ногами колеблется. И вдруг…
— …вдруг ты оказываешься на вершине, и тебе открывается небо, — перебил его Томас. — Глубоко внизу лежит земля с ее горами, равнинами, лесами, и ты слышишь голос, который говорит: взгляни, все это будет твое, если ты упадешь и… нет, если ты бросишься отсюда вниз, и пусть ангелы твои… — Он поднял стакан и увидел, как жемчужные цепочки воздушных пузырьков ползут вверх. За стаканом он различил искаженные черты докторской физиономии, а за ней, позади нее… Это что же за демон заявляет о себе, неся этот путаный вздор? — подумал он и в тот же миг услышал голос Феликса.
— …путаный и туманный метафизический вздор. Я просто воспользовался образом, чтобы ты понял, какие чувства испытывает нормальный мужчина при достижении совершенной эротической кульминации после обстоятельной подготовки.
— Isn't that a religious feeling [19]?! — сказал Томас. — Вся земля сотрясается под действием ужасающей мужской силы. Или это состояние пантеистического экстаза? Мистическое слияние с материнским лоном жизни?
— Мистическая пантеистическая трансцендентная ахинея, — сказал доктор. — Да ничего подобного, это — плотское вожделение в его наивысшей потенции. Все инстинкты и влечения плоти, все ликование и весь ужас, слившиеся в едином консонансе, — неподдельное физическое наслаждение, вдвойне сладостное оттого, что делишь его с существом противоположного пола. Одариваешь им другого и одновременно сам получаешь его в дар. Это ли не возможность максимально приблизиться к тому состоянию, которое верующие именуют блаженством? — вопросил он и сделал паузу, короткий перекур. — Если бы я сам веровал в Бога, я бы воззвал к нему, моля ниспослать мне смерть от разрыва сердца имен-до в этот миг. — Он вобрал дым в бронхи и задержал его, прежде чем выдохнуть через ноздри. — При чем же тут цинизм или какие-то христианско-пуританские страхи перед преисподней? — сказал он. — А если уж вешать в экстатическом бреду, то я бы сказал, что в это мгновение любишь не одну, а всех женщин, весь женский род как таковой. — Он снова втянул в себя дым. — Молодых и старых, больших и маленьких, толстых и тонких… — (Сейчас у него пепел упадет, подумал Томас, следя за тем, как пунцовый огонек, освещающий узкую излучину в уголке рта, пожирает табак и бумагу.) — …белых, смуглых и черных, девочек и старух… — (Пепел все не падал. «Вирджиния», подумал Томас, принюхиваясь к запаху сигареты, и как это Габриэль ухитрился организовать английские сигареты с вирджинским табаком? Из-за дымовой завесы до него долетал аромат мужского туалетного мыла или одеколона, а дальше, за этим ароматом…) — …ненасытных нимф и невинных стыдливых девственниц.
— О, девственницы, — сказал Томас, улыбаясь своему стакану, — вечно юные старые бесстыжие невинные нимфомански ненасытные целомудренно-фригидные полудевственницы… — Кто же скрывается за этими ритуально-сексуальными словесами? — подумал он.
— В каждой женщине есть хотя бы малая частичка от этого всего, — продолжал записной любовник Феликс. — Мне еще ни разу не встретилась женщина, которая была бы неспособна предаваться любви в той или иной форме. Женщин по-настоящему холодных нет, есть лишь невротический страх, который на то и существует, чтобы с ним совладать, — сказал он, затягиваясь сигаретой. — Ну а зрелого мужчину более всего влечет к девственным, хрупким, невинным, нетронутым… — Он опять втянул дым и несколько раз пропустил его через дыхательное горло, прежде чем выдохнуть. — По естественному закону компенсации, уравновешивания, — продолжал он. — Что ж в том плохого? Красивая и естественная вещь, не так ли?
— Безусловно, — ответил Томас. — Пустяковый трогательно детский порок. Возврат к детству, как и вообще почти все, что именуют пороком. Кстати, каким термином обозначают это явление: регрессивное развитие или?…
— Психоаналитические бредни, — сказал Феликс. — Порочно лишь то, что во вред другим. Кто действительно виновен перед людьми, так это мечтатели…
Мечтатели? — подумал Томас, созерцая свой стакан. Мечтатели-кровосмесители! Он отхлебнул большой глоток горького пойла и вспомнил Дурной запах изо рта у демона-аналитика вместе с его словами: «Мечта брата о единении с сестрой, мечта сына о возвращении в лоно матери, мечта отца быть возрожденным в непорочном зачатии — из этих чистых мечтаний проистекают все грехи мира…» Он видел, как эти слова всплывает наверх воздушными пузырьками, а за круглым стеклом стакана он видел серую дымовую завесу, сквозь клубы которой проглядывали искаженные черты доктора Феликса, и уловил вдруг обрывок его речи: «…Увеличивать сумму наслаждений в этом мире и уменьшать сумму страданий — чего еще можно требовать от человека…», и одновременно он видел, как руки с маникюром вычерчивают в воздухе фигуры — параболы ненасытных развратных мечтаний. Но позади, по ту сторону этого вздорного пустословия и кривлянья, по-прежнему звучал совсем другой голос и вырисовывался некий черно-белый узор. Может, это давешний маленький пастор — или клоун — вернулся, чтобы снова завести свою неслышную монотонную литанию за этим зеркалом нереальности, или позади него есть что-то еще, что-то другое, тишина, две руки, которые?… Томас отставил стакан и взглянул на собственные руки. Ему почудилось… нет, все прошло, ничего уже нет. Но ему почудилось…
— Ты что, опять заснул? — неожиданно услышал он голос доктора Феликса.
— Нет, я не сплю.
— Как бы ты у меня совсем не свалился. Может, сделать тебе укол?
— Укол? — переспросил Томас. — Да нет, я не свалюсь. Я тебя слушаю. Так о каких ты говорил мечтах?
— Я говорю, лучше бы люди не впутывали в это свои мечты, пусть это будет просто то, что есть на самом деле: физико-механический акт. Вопрос техники — и больше ничего.
— Физико-механическая эротическая техника, — сказал Томас. — А не покажется ли это скучновато?
— Наоборот, — возразил доктор. — Скучно будет, как раз если приплетать к этому мечты. Тогда провал обеспечен. Если же сосредоточить внимание на физической стороне, обнаружится, что возможности для обоюдного наслаждения практически неисчерпаемы.
— Но физико-механический акт всегда одинаков, — сказал Томас.
— Он никогда не бывает одинаков. Его можно варьировать до бесконечности, по своему многообразию он превосходит все прочие физические и психические наслаждения, превосходит, если на то пошло, все виды искусства, вместе взятые, ибо он — сама квинтэссенция вкуса, аромата, цвета, звука, ритма. Все женщины — разные, и что ни женщина, то новое неповторимое сочетание этих элементов. — Он помолчал, улыбаясь своей многомудрой улыбкой. — И даже у одной женщины это сочетание может быть разным в разное время и в разных ситуациях, — сказал он и втянул сигаретный дым в легкие.
— Однако модель, — сказал Томас, поднося стакан ко рту, — физическая модель, развивается по собственным, присущим ей законам. Все действия, в основе которых лежат инстинкты, имеют тенденцию заштамповываться, превращаясь в застывший ритуал, где все образы носят одинаковый характер и все движения совершаются в заданных направлениях, подобно движениям шаров в бильярдной игре. Стоит только обнаружить шаблон, по которому строится модель, — он отпил из стакана и гадливо сморщился (неужели этот Габриэль не может?…), — как иллюзия наслаждения пропадет, начнутся вечные перепевы одного и того же. Волшебное восхождение на вершину горы превратится в сизифово карабканье с камнем, а совершенная кульминация — в антикульминацию, в свою совершенную противоположность. Обстоятельная подготовка, — он отхлебнул еще глоток, — долгое посвящение будет ощущаться как мучительная епитимья. Причастное вино приобретет вкус затхлой воды, просфора станет хрустеть на зубах, как песок, культовая тема будет отстукивать сама себя на механическом фортепьяно. Останется только смотреть, как опускаются и поднимаются клавиши — для этого пальцем шевельнуть не понадобится, — и слушать литанию из одних и тех же бессмысленных вопросов и ответов. И в конце концов, — он отпил еще глоток, — в конце концов вкус и аромат, цвет, звук и ритм сольются вместе и обратятся в одно и то же. Происходящее из одного и того же сводится к одному и тому же. Сам не заметишь, как окажешься заточенным в собственном аду, в ничтожном безопасном аду беспросветной скуки. Но как из него вырваться, если действуешь по принуждению? — продолжал он. — Как представить себе самую возможность чего-то иного, если настоящее — это всего лишь та часть будущего, которая уже содержится в прошлом?
Доктор Феликс сделал глубокую затяжку и выпустил дым длинной презрительной струей.
— Не морочь мне голову своими инфернальными бреднями, — сказал он. — К чему все эти размышления и рассуждения? В том-то вся и приятность, что в такой ситуации ни о чем не думаешь. Все возможно, и все дозволено. Ты абсолютно свободен…
— Не морочь мне голову своей пресловутой свободой, — прервал его Томас. — Абсолютная свобода — это абсолютное принуждение. Думать и думать до потери сознания — другой возможности просто нет, думать в отчаянной надежде, что в конце концов заблудишься в собственных мыслях и, быть может, нежданно-негаданно найдешь выход из своего лабиринта. Наткнешься нечаянно на мысль, которая прежде не приходила в голову. Но, должен признаться, это не слишком реальная возможность, а посему едва ли не самое лучшее — продолжать делать то, что мы все время и делаем, будь то осознанно или неосознанно: молиться тому самому Богу, в которого мы не веруем. Богу, которого не существует. Молись денно и нощно, молись до бесконечности бессмысленной запредельности, Отцу ли, Сыну ли, Пречистой ли деве, называй как угодно, лишь бы это было нечто невероятное, немыслимое, пусть хоть идея, если тебя больше устраивает это слово, доброе начало, а по мне — пусть хоть и злое начало: молись Сатане, чтобы он открыл тебе врата ада и допустил к благословенным физическим мукам. Не так уж это трудно — они в натуральном виде ждут тебя прямо на улице. Отвори дверь и ступай туда…
Он опять поднес стакан ко рту и, бросив взгляд на сидящего напротив, встретил невозмутимо-многомудрую улыбку.
— Извини, — сказал он, — извини меня за параноидные разглагольствования. Я говорю, разумеется, лишь о себе. Гедонист, счастливый, свободный от предрассудков любитель наслаждений, — другое дело. — Осушив свой стакан, он почувствовал, что наконец-то полностью протрезвел. Он вступил в фазу ясности, зеркально отчетливой ясности, когда малейший звук иглой вонзается в нервы, а предметы расчленяются на гротескно увеличенные детали. Ощутив сухую резь в глазах, он закрыл их, потом снова открыл. — Скажи, у тебя зеркало над кроватью висит? — спросил он.
— Зеркало?… С чего ты взял?
Томас усмехнулся: доктор внезапно изменил тон, и вот тут-то — тут пепел с его сигареты упал и рассыпался по фрачной паре. Он достал из нагрудного кармана платок и смахнул его, но на блестящем атласном отвороте осталось серое пятно. Он дул на него, тер платком и наконец соскреб кончиком ногтя. Тихий царапающий звук причинил Томасу физическое страдание.
— Ну, может, не над кроватью, тогда в другом соответствующем месте, — сказал он. — Не помню, я когда-нибудь видел твой холостяцкий дом? Нет, по-моему, я ни разу у тебя не был, но я перевидал столько всяких домов, столько низкой удобной мебели для сидения и лежания, столько глубоких кресел, диванов и кушеток! Вся эта узорчатая пестрота, — продолжал он, — все эти полосатые, клетчатые, цветастые ковры и подушки, портьеры и обои — все перепуталось, разве упомнишь, где что было, я столько лет своей жизни провел в подбитых шелком китайских шкатулочках. Может, я просто во сне это видел, — сказал он, — может, мне просто пригрезилось, что у тебя есть большое зеркало, привешенное в таком месте, где тебе удобно любоваться самим собою в лежачем положении.
— Ну а если б и было зеркало, — полная снисходительного превосходства ухмылка по-прежнему проглядывала в уголке рта доктора, — что в том дурного? Кому это во вред? Почему я должен лишать себя возможности смотреть? Совершенное наслаждение предполагает согласное звучание всех пяти чувств.
— Конечно, — сказал Томас. — Кажется, такое принято называть извращением, но, конечно же, это совершенно невинная вещь — на ум приходит сравнение с ребенком, познающим свое подвижное тело. Представь себе грудное дитя, которое лежит в колыбели и крутит, вертит ручонками у себя перед глазами или хватает себя за ножку и засовывает ее в рот. — Он повертел в руке пустой стакан и подумал было встать и пойти наполнить его, но одновременно подумал, что надобность в этом отпала, он теперь и так в состоянии координировать свои движения, он вполне владеет своим голосом. — Ну а после, — продолжал он, — в молодости? Представь себе свой физико-механический акт в обрамлении всей многообразной природы. Ты любишь в лесу, любишь на берегу моря, ты слышишь, как ветер шелестит листвой, внимаешь шуму прибоя, ты видишь клин перелетных птиц на фоне полной луны или различаешь вдали белый парус на солнечной дорожке, ты — частица этих предметов и явлений, или они — частица тебя, ты создал их в детстве по своему образу и подобию. Однако предметы и явления следуют собственным, присущим им законам и возвращаются в исходную точку, многообразие ограничивается, подвижный образ застывает, превращаясь в затейливые арабески. Ты лежишь за опущенными гардинами и созерцаешь гобелен, узор из неких символических фигур, а когда наглядишься на них до слепоты, они отходят на задний план и уступают место зеркалу. И вот ты заново обретаешь себя, переживая второе детство, ты вторично познаешь нагое человеческое тело. Ты не замечаешь увядания, не веришь в грех, ни на секунду не задумываешься о смерти — ты создаешь это все по своему образу и подобию. Но, разумеется, не отдавая себе в этом отчета, — добавил он в ответ на презрительную гримасу своего визави, — а просто чувствуя, что уродливость красоты и красота уродливости придают остроту наслаждению, служат эротическим стимулятором, если пользоваться твоими иностранными словечками. Каких только не бывает возбуждающих средств, — продолжал он, — мне рассказывали о человеке, у которого была навязчивая идея, будто он способен к эрекции — кажется, так это у вас именуется? — только если он перед этим побывает на похоронах. Это был мужчина во цвете лет, и он чуть ли не каждый день ходил в церковь, сидел и слушал органную музыку и псалмопение, быть может, даже представлял себе, что это его собственный труп лежит в украшенном цветами гробу на катафалке. После чего он встречался со своими любовницами, которых постоянно менял, и обнаруживал невероятную живость и высочайшую потенцию. Как же, потенция — это ведь основа основ, — продолжал он, — священный долг мужчины — быть готовым к совершению физико-механического акта когда угодно и с кем угодно. А нет ли в этом элемента тирании? По мне, так иной раз не грех посчитать это скучноватым и утомительным…
Томас зевнул. Резь в глазах мучила его, закрыть бы их хоть на полминуты, но движения человека по ту сторону стола приковывали к себе его взгляд. Белая стрелка на черном носке раскачивалась все нетерпеливей, руки с маникюром без устали играли тончайшим носовым платком: то растягивали и крутили за кончики, как скакалку, то свертывали его, и получалась фигурка, мышка, маленькая белая мышка. Следя глазами за платком, Томас уловил тонкий аромат мускуса. Духи Дафны. И платок ее? Его опять больно кольнула ревность, и он вернулся к прерванному разговору.
— Извини, — сказал он, — прости пациенту шизофренический ход его мыслей. Я говорю, разумеется, лишь о себе. Счастливому гедонисту скучно не бывает, он полон сил и неутомим. Уж тебе-то бояться нечего, — продолжал он, — ты еще молод. Ну, может, не первой молодости, но, во всяком случае, до старости тебе далеко. Мужчина во цвете лет. Неужели я правда не бывал у тебя в твоем холостяцком доме? Да нет, я и не мог там быть, мы же с тобой едва знакомы, и, однако, мне так ясно все представляется. Утром ты встаешь и делаешь гимнастику: сгибание рук в локтях, приседания, повороты туловища вправо и влево, несколько упражнений с гантелями, немножко бокса — «бой с тенью». Ты взвешиваешься и констатируешь, что пока не набрал лишних килограммов, подходишь к зеркалу и разглядываешь свою обнаженную натуру: сильное тело настоящего мужчины. И лицо молодое, даже еще более молодое оттого, что жизнь прочертила его своим резцом — твоя молодая, сильная, живая жизнь, Волосы на макушке немного повылезли, что втайне, наверно, тебя гнетет, но можешь утешиться: я где-то вычитал, что по статистике лысые мужчины — самые лучшие любовники, с самой высокой потенцией…
Помолчать бы сейчас, подумал Томас, закрыть глаза и помолчать. Но голос его продолжал:
— Даже не верится, что я никогда у тебя не бывал, я так живо вижу, как ты ходишь по комнатам и делаешь последние приготовления: задергиваешь гардины, зажигаешь там и сям уютные светильники, что-то перекладываешь, переставляешь, пока не удостоверишься, что все у тебя как нужно. В ожидании есть свое особое наслаждение: пройдет немного времени — и ты перестанешь быть самим собой, ты будешь не ты, а два человека, или даже не два, а много: ведь все женщины разные, да и в одной и той же женщине столько всего намешано, в ней есть что-то и от преды-душей, и от следующей, что придет после нее. Один и тот же накрытый стол ожидает их всех: здесь морская живность и лесная дичь, здесь всевозможные фрукты — ты только подумай, какое на свете обилие яств и питий, вот уж что никогда не надоедает. Ты сидишь во главе стола, перед тобою горят свечи, ты преломляешь хлебы и вкушаешь вино, ты ткешь свой словесный узор. Подумай, сколько на свете есть слов, их можно бесконечно низать друг на друга, сплетая в замысловатую вязь, и все же они только прелюдия к собственно наслаждению, которое по своей спиральной дорожке восходит на вершину, к совершенной кульминации. По пути встречаются волшебные уголки — Verweile doch, du bist so schönl [20], — встречаются и грозящие опасностью бездны, но что тебе опасность, она лишь возбуждает! — Der echte Mann will Gefahr und Spiel [21]… Прости меня за немецкий язык, у пьяных в обычае изъясняться на иностранных языках. Я просто хотел сказать: подумать только, какую неисчерпаемую сумму наслаждений вмещает человеческая плоть: буйство и нежность, ликование и отчаяние, власть и покорность, и ведь это лишь осознаваемая часть, а есть и другое: ощущение раскованности, животной свободы, полное бездумье, погружение в стихию чистейшей невинности…
Он умолк. С чего я мелю этот вздор, подумал он, этот убийственно скучный вздор?
— Так о чем бишь мы говорили? — снова начал он. — Ах да, вспомнил: о совершенной кульминации. И вот ты очнулся, желать больше нечего, ты чувствуешь некоторую пустоту и скуку, может, даже ловишь себя на том, что зеваешь, но это продолжается не слишком долго, минут десять, ну, полчаса. В полумраке мерцает большое кристально ясное зеркало. Я вижу, как ты находишь в нем себя: ты выпячиваешь грудь, ты сгибаешь руки, так что бицепсы выступают наружу, ты поднимаешь ногу и напрягаешь мышцы в икре и в ляжке — твоя богоподобная мужская сила вздымается над вечно женственной слабостью. Почему ты должен лишать себя возможности смотреть? Совершенное наслаждение — это консонанс всех чувственных ощущений. Спустя короткое время ты уже опять взбираешься по крутой спиральной тропинке, ведущей в небеса, сердце твое бешено колотится, глаза застилает туман, но ты торжествуешь победу, ты чувствуешь, как земля сотрясается во второй раз, в третий раз. Впереди у тебя вся ночь, и молодость не подводит — ты по-прежнему на высоте, раз за разом ты сам себя превосходишь. В глубине твоей плоти таится страх перед импотенцией, перед непостижимым падением — утратой мужской силы, но ведь и страх своего рода стимулятор, возбуждающие средства скрываются во всем, к чему ты прикасаешься, начиная от девственной женской груди и кончая такой мелочью, как вечная сигарета, от которой у тебя желтеют кончики пальцев и возникает одышка, когда ты взбегаешь по лестнице. У каждого есть свой особый, пусть и ничтожный, ад, в котором мелкие и крупные вещи равно важны. Я мог бы, к примеру, рассказать тебе о женщине, заблудившейся в дебрях сексуальной символики, из которых она так и не выбралась: даже смерть ее являла собою картину coitus interruptus [22] — она осталась лежать со скрюченными пальцами и разинутым ртом. Но мы отвлеклись, на чем мы остановились? Так вот, значит, Бог, тот Бог, в которого ты не веруешь, возможно, он все же услышит твои мольбы и сподобит тебя умереть в миг эротической кульминации, хоть это и произойдет иначе, чем ты себе мыслил. Я тоже не верую ни в какого Бога, но боюсь, что наши мольбы где-то и кем-то всегда бывают услышаны, и, если мы достаточно терпеливы и выносливы, в конце концов исполнение желаний настигает нас в неожиданной, совершенно неузнаваемой форме. Подчас оно имеет вид бессмысленной жестокости, но ведь наши представления так бедны, мы не понимаем, о чем сами же молим. С чего тебе желать умереть сейчас, когда у тебя впереди вся прекрасная пора зрелости? Я мысленно вижу тебя, каким ты будешь через десять лет, через двадцать лет: ты все такой же, в сущности, ты ни на год не постарел, хотя жизнь оставила на твоем лице еще более отчетливые следы — твоя вечно молодая жизнь. Ты сидишь у камина, на тебе атласный шлафрок в белый горошек, на голове — красная феска с черной кистью. Нет, в самом деле, я ясно вижу, как ты сидишь и греешься у огня, слушая приглушенную музыку, которая льется из автоматического проигрывателя. Что может по своей гипнотической силе сравниться с музыкой? Все женщины — разные, и у каждой женщины своя мелодия, свой особенный музыкальный образ, живо воскрешающий память о ней. Ведь даже если человек не признает мечтаний и грез, то память о живой, осязаемой жизни всегда остается с ним, она — неисчерпаемый кладезь наслаждения, к тому же в облагороженной форме, очищенной от всяких несущественных и уводящих в сторону деталей. Пластинки сменяют одна другую сами, без всякого твоего участия, маленький сапфир бежит и бежит по спиральной дорожке, разнообразные музыкальные темы распадаются на бесчисленные вариации и, обогатившись, возвращаются обратно. Камин пышет нестерпимым жаром, да и слушать без конца довольно-таки утомительно: незаметно для себя ты позевываешь, красная феска начинает кивать. Для тебя в твоем полузабытьи непохожие, разные темы сливаются в некий общий лейтмотив, ты будто слышишь упражнения ребенка, играющего одну вечную гамму. Ты встаешь и выключаешь проигрыватель, ты делаешь круг по комнате и останавливаешься перед рядом женских портретов на камине, ты берешь в руки один из них и разглядываешь его вблизи. Это больше чем просто фотография, это произведение искусства, гармоничное сочетание светлых и темных тонов, тоже очищенное и облагороженное. Если под глазами были темные круги или морщинка залегла у губ, искусная ретушь их убрала: глаза сулят небесное блаженство, а губы шепчут три заветных слова. Ты долго стоишь и любуешься портретом, потом берешь в руки следующий, а за ним еще и еще — ты никак не можешь вдосталь наглядеться, а если глаза твои в конце концов устанут и все лица заволокутся дымкой, обратившись в одну и ту же неясную игру света и тени, то найдутся другие, еще более сильные гипнотические средства. Ты выдвигаешь ящик стола и достаешь небольшую вещицу, к примеру тончайший носовой платок, ты развертываешь его, Держа перед собой, ты откидываешь голову назад и накрываешь им лицо. Он невесом, точно паутинка, но заряжен чудодейственной силой, как реликвия, ибо все еще хранит волнующий аромат женщины, это занавес, за которым вход в святая святых. Сердце твое колотится сильнее, ты подходишь к окну и плотнее задергиваешь гардины, на всякий случай ты поворачиваешь ключ в двери, прежде чем открыть потайное отделение в шкафу и что-то оттуда извлечь. Я плохо вижу, что это такое, в комнате стало почти совсем темно, но я догадываюсь, что это туфля, женская туфелька. Ты сидишь, откинувшись в глубоком кресле, и держишь ее на коленях, ты оглаживаешь ее со всех сторон, ласкаешь тонкий каблучок, ты протискиваешься внутрь и нашариваешь отпечаток ноги. Мечты и грезы — от лукавого, но отчего бы не дать волю творческой фантазии? Ты слышал историю об узнике, приговоренном к пожизненному заключению? У него в камере жила мышь, которую он постепенно приручил, выманивая из норы хлебными крошками, он сжимал эту мышку в ладонях, наслаждаясь ее хрупким теплом, он любил и желал ее так, как никогда в жизни ничего не любил и не желал. Существует очень много всяких любовных средств, а мужская сила никогда не может полностью иссякнуть. Ты сидишь, ощупывая след от ножки чуткими пальцами слепца, и из слабого отпечатка вырастает живой, облеченный плотью и кровью храм. Темнота сгустилась, я уже совсем плохо вижу тебя в твоем кресле, но я слышу твое дыхание. Мало-помалу, почти незаметно, приходит исполнение заветного желания. Сердце твое перестает биться, выкатившиеся глаза делаются огромными, взгляд застывает, превращаясь в кристально ясное зеркало пустоты. Или в зеркале что-то виднеется? Что-то как будто белеет на дне кладезя наслаждений? Какая-то фигура или торс, некогда, возможно, изображавшие женщину, или ребенка, или животное; возможно, что так, а возможно, это просто мертвый белый камень, какие находишь на морском берегу, гладко отшлифованный прибоем камень, некая неузнаваемая анонимная форма…
Томас давно уже сидел согнувшись, упершись локтями в колени и свесив вниз кисти рук, он слушал только собственный голос и не отрывал взгляда от каминного ковра с его восточным узором. Но вот в сознание проник посторонний звук — мерное похрапывание, и он распрямился. Доктор спал глубоким, тяжелым сном, рот открылся, черты одрябли. Лицо было белое как мел, изрытое мелкими воронкообразными рябинами, две глубокие морщины пролегли полукружьями от крупного костистого носа к уголкам рта, из-под опавшей кожи проглядывали оголенные челюсти и пустые глазницы. Как кольца вокруг луны, подумал Томас. Он слегка устыдился, что сидит в ясном сознании и рассматривает это лицо, такое раздетое и незащищенное во сне. Что с ним? Смертельно болен или просто мертвецки пьян? Должно быть, он спит уже несколько минут: выпавшая изо рта сигарета успела догореть прямо на столе. Томас осторожно сдул пепел, но большое прожженное пятно осталось среди извилистых прожилок столешницы. Он протянул руку и слегка потряс доктора за плечо.
— Ты спишь, — сказал он.
Из открытого рта вырвался утробный звук — словно сама плоть испустила задушенный крик, и в следующее мгновение голый ужас глянул на Томаса из слепых расширенных зрачков. Устыдившись, он поспешно перевел взгляд на стол с темным вспузырившимся шрамом, слегка поскреб его ногтем.
— Тебе плохо? — спросил он. — Принести тебе чего-нибудь?
— Нет, нет, спасибо, — ответил Феликс, смахивая с себя пепел. — Извини. — Он покрутил головой и провел пальцем вокруг шеи, оттягивая воротничок. — Ты только не подумай… — сказал он и, поднявшись, поправил манишку, одернул на себе фрак. — Напротив, я слушал тебя с живейшим интересом.
— Что же вызвало у тебя интерес? — спросил Томас.
— Ну, все, о чем ты говорил…
— А о чем я говорил?
— Признаться, последних твоих слов я не слышал, — сказал Феликс. Он стоял, откинувшись корпусом назад и облокотясь на камин, он скрестил длинные ноги и мерил Томаса косым взглядом сверху вниз, он покачивал каблуком и держал во рту незажженную сигарету. Черная лаковая туфля с качающимся каблуком, рот с качающейся белой сосулькой. — Но то, что я слышал, мне было интересно, — выговорил рот, — и не только, с профессиональной точки зрения… — Он прикурил от своей зажигалки, сощурив против пламени один глаз, он затянулся и выпустил дым. — Признаться, лично я едва успеваю навести маломальский порядок хотя бы в том, что относится к сфере моего чувственного восприятий, — сказал он. — Но это отнюдь не значит, что меня не интересует другая сторона.
— Какая — другая?
— Ну, все, что касается души…
Разве я говорил о душе? — подумал Томас и уставился опять на круглую столешницу с ярко-красным пятном посредине. И что же я сказал? — спросил он себя, но тут же забыл обо всем — он окунулся в далекое детство, ему вспомнилась мишень с разноцветными кольцами вокруг красного яблочка. Мать купила ему эту мишень вместе с воздушным пистолетом и коробкой стрел, маленьких блестящих стрел с красными, белыми и синими кисточками на концах, — он помнил все очень ясно, потому что это была единственная игрушка, которая действительно некоторое время забавляла его. Он метился и стрелял из пистолета, пока не научился попадать в яблочко с первого выстрела, после этого игра прискучила ему, и тогда мать купила…
— Я только что прочел книгу о гениальности и шизофрении, — продолжал рот с качающейся сигаретой, — надо будет прислать тебе экземпляр, она наверняка тебя заинтересует… — (…купила ему мелкокалиберную винтовку с настоящими патронами. Однажды вечером, когда он остался дома один, он застрелил ее кота, сиамского кота с леденисто-синими глазами, сиявшими в гуще черной шерсти, он выстрелил ему прямо между глаз и похоронил, закопав в саду, а ей так ничего и не сказал, хотя не спал и, лежа в постели, слышал, как она…). — Нам с тобой надо поговорить обо всех этих вещах с глазу на глаз, может, сегодня же ночью, только попозже… — (…слышал, как она потом ходила вокруг дома и кричала, звала до поздней ночи…), — или как-нибудь в другой раз, когда мы оба будем трезвые. А то сейчас я, признаться…
Черный ласточкин хвост заскользил, будто его тянули на веревочке, прочь по застланному ковром полу, прямой и негнущийся, как привидение. Вот он миновал лестницу, вот исчез, как тень, за дверью в прихожую… Вышел, потому что сейчас его стошнит, трезво констатировал Томас, он что же, действительно мертвецки пьян или это я заговорил его до смерти? Что я ему сказал? Он уже все забыл, помнил одну только ревность, свою ревность — совершенно идиотскую, и тем не менее во время разговора он сидел, стиснув в руке стакан, и чувствовал непреодолимое желание выплеснуть его содержимое доктору на плешь. Но я удержался, подумал он, и в отместку заговорил его до потери сознания, я глушил его словами, потоками слов, а от него самого в памяти у меня остались лишь ногти да зубы да еще пустые глазницы, которые глядели из-под опавшей кожи и были как круги вокруг луны.
Свет над лестницей погасили, теперь только камин отбрасывал красные блики и горели пестрые светильники в большой гостиной. Патефон играл новую мелодию, и тени на сводчатом окне, выходящем на веранду, исполняли медленный томный танец — танго или слоуфокс. Он сидел, слушал музыку, и опять перед его мысленным взором возникла Дафна: младенческое взрослое тело Дафны, распростершееся под ним в темноте, серебряный голосок Дафны, напевавший отрывок из какой-то песенки в ожидании конца этой смешной маленькой интермедии. Мираж, ничто — и, однако же, он едва не запустил стаканом в физиономию другого мужчины. Ревность, думал он, отраженное чувство, чувство-тень, неужели это оно удерживает меня здесь, не давая встать и уйти? Он откинулся на спинку кресла и стал рассматривать свои руки, вертеть их перед глазами. Ему было почудилось, что по ним пробежала судорога боли, предвестие чего-то неведомого, приближающегося откуда-то извне… почудилось некоторое время тому назад, а сейчас он уже ничего не чувствовал, сейчас в руках ощущалась пустота — от ревности и жажды мщения. Он покачал головой, мелькнули беглые мысли о возможности мщения, о полнейшей бессмысленности мщения. Он зевнул. Потом он забыл обо всем и просто тихо сидел и скучал…
…тихо сидел и скучал и услышал, как она сказала:
— Ах, Том, мне не забыть этого, Том.
Кто она? Как ее зовут?
Она вплыла в полутьму, картинно воздев обнаженные руки, она пела, и томно изгибалась, и выделывала плавные танцевальные па вокруг его кресла, а потом скользящим движением опустилась к нему на колени и, обвив рукой его шею, промурлыкала последние слова припева ему в ухо. Сейчас она тихо сидела, теребя подол своей юбки, ее миниатюрный профиль чернел на фоне красного отсвета камина, как вырезанный из бумаги силуэт.
— Нет, правда, я не могу забыть этого, Том, — повторила она в третий или в четвертый раз.
Чего она не может забыть?
Длинные тени ее ресниц слегка вздрагивали.
— Ах, Том, ты такой чудесный любовник. Да, да, чудесный…
Теперь он вспомнил. Это было в одну из тех ночей, когда он стоял в пижаме, дурак дураком, перед запертой дверью Дафны, осторожно стучался, царапался, шептал ее имя в замочную скважину, не слыша ни слова, ни звука в ответ. А когда, потеряв в конце концов всякую надежду, поплелся по коридору обратно, другая дверь бесшумно приоткрылась, ему сделали знак глазами, и неожиданно для себя он очутился в незнакомой постели, в другой, незнакомой темноте, с другой женщиной. Он явственно припомнил, какой он тогда испытал шок, заключив ее в объятия, — она была как две капли воды похожа на Дафну: те же миниатюрные неразвитые формы, те же тоненькие руки и ноги. Закрыв глаза, он пытался уверить себя, будто обнимает настоящую Дафну, но тщетно, ибо, хотя он старательно закрывал ей рот поцелуями, она все шептала и шептала в темноте: «Помоги мне, Том… возьми меня, Том… возьми, я хочу, я смогу, я так хочу любить тебя, слышишь, я люблю, люблю, люблю тебя, Том», — и ее вульгарный говорок копенгагенской девчонки не мог быть Дафниным…
— Ты был такой добрый, — произнес потупившийся профиль со вздрагивающими тенями ресниц, — такой ласковый и терпеливый, ах, Том, разве я могу забыть…
Ласковый? — подумал Томас. Терпеливый? Пожалуй, я и правда был терпелив, я ласкал ее бережно, стараясь не причинить боли, еще бы, научишься терпению, когда живешь ожиданием чуда, я играл в свою подловатую игру, в анафемскую игру с двойником Дафны, но все было напрасно, потому что она продолжала шептать те же слова, хотя это длилось чертовски долго, целую вечность. Я наверняка был пьян, подумал он, а когда напьешься, все затягивается до бесконечности и полного удовлетворения, полного расслабления так и не наступает. Только под утро он ушел от нее и вернулся к себе, возбужденный, неуспокоенный, кровь по-прежнему бурлила в жилах, и белесые пятна плясали перед глазами. В тысячный раз достал он пистолет из потайного ящика, и приставил его к виску, и дал себе сроку одну минуту, и начал следить за секундной стрелкой часов, и в тысячный раз умерло время, пока он стоял в смехотворной позе самоубийцы, думая совсем о другом: кто эта женщина? Как ее зовут? Где ее место в туманном круговороте анонимных лиц, мелькающих перед ним в этот мертвый вневременный миг? Тут утреннее солнце, ворвавшись в комнату, наполнило ее своим ясным безумием, он подошел к окну, и взгляд его упал на машину, желтый спортивный автомобиль доктора Феликса, что стоял на боковой дорожке, наполовину скрытый за деревьями. Значит, сам Феликс где-то в доме, быть может, у Дафны, за ее запертой дверью? Он припомнил это все и очнулся, опять возвращаясь к ревности, к своей псевдоревности, к своей псевдожизни…
Женщина у него на коленях вдруг прильнула к нему и спрятала лицо у него на плече, как испуганный ребенок.
— Ах, Том, я так хочу быть твоей, — прошептала она, — ты, наверно, единственный мужчина, которого я могла бы любить. Я знаю, я никудышная, ни на что не гожусь, но… ты был такой добрый, мне этого не забыть, и я думаю… мне кажется, с тобой я бы смогла… Если б ты захотел. Хочешь, Том? — Она попробовала приподнять голову, чтобы заглянуть ему в глаза, но он крепче прижал ее к себе за тонкую с ложбинкой под затылком шею, машинально поглаживая хрупкое плечико и пытаясь опять обмануть себя, вообразить, будто это Дафна, шея и плечико Дафны, но… — Ну пожалуйста, Том, скажи, что ты хочешь. А я хочу всего того же, что и ты.
— Замолчи, посиди тихонько. — Он закрыл глаза, еще крепче прижимая ее к себе, но она неспособна была молчать и шептала не переставая те же слова, он слышал вульгарный, простоватый говорок, который не мог… («Ах, спаси меня, Том, я так боюсь, а ты был так добр ко мне…») не мог быть Дафниным, это была не Дафна… («Ведь я же не требую, чтоб ты меня любил, я только хочу, чтоб ты был такой же добрый и позволил бы мне тебя любить, ну хоть самую чуточку…») не Дафна, но тогда кто же она? Где ее место в туманной мешанине анонимных лиц, окружающих лицо Дафны? Как ее зовут — Шмыга, или Щепка, или Пупсик, или?… Ни с того ни с сего она сделалась другая, не такая, как прежде, она вдруг прыснула рассыпчатым смешком прямо ему в ухо.
— Ой, нет, — хихикала она, — я, наверно, никогда ничего не любила, кроме своих танцев… ни на что я больше не гожусь… то есть я и танцевать не умею, я знаю, но я так люблю, я люблю, люблю танцевать…
Соня. Соня, вот как ее зовут. Соня-танцовщица, Соня, которая не умеет танцевать. Он вспомнил, как они однажды вечером сидели в варьете: он, Дафна, Габриэль и Феликс-Дафна со своими тремя мужчинами, — сидели за столиком перед самой сценой, и в промежутке между двумя эстрадными номерами вышла, вихляясь, на цыпочках, Соня, почти нагая, лишь грудь да низ живота были прикрыты цветастой тряпицей, и начала медленно кружиться под медленное круженье софитов, заливавших разноцветными лучами бледное озябшее девическое тело. Она была новенькая и неопытная, это бросалось в глаза, руки от страха не слушались ее, она взмахивала ими, как подстреленная птица крыльями, и не смела оторвать взгляд от пола, увы, она не умела танцевать, одно она умела — выставлять напоказ свою трогательно робкую наготу перед скопищем жующих, пьющих и галдящих людей. Продолжалось это какую-нибудь минуту, потом она скрылась за занавесом, и свет в зале опять зажегся, никто и внимания не обратил на ее танец — никто, за исключением Дафны, которая с сияющими глазами хлопала в ладоши и смеялась: «Ну до чего она похожа на меня, вы заметили, как она на меня похожа!» А Габриэль с Феликсом смотрели на Дафну и тоже хлопали, и Габриэль купил букет роз и написал что-то на своей визитной карточке, и девушка, похожая на Дафну, спустилась к ним, и звали ее Соня, и была она тоненькая, хрупкая, в милом черном платьице с белым воротничком и манжетами. Ее пригласили за стол, и она сидела между Габриэлем и Феликсом, точно пойманная птица, и не смела поднять глаз от скатерти, хотя оба кавалера, стараясь превзойти друг друга, ухаживали за ней в угоду Дафне, а сама Дафна сидела напротив и болтала, смеялась, заливаясь серебряным колокольчиком, и осыпала девушку похвалами, ну как же замечательно она танцевала, но та в ответ говорила только «ах что вы», «ну что вы», и мотала головой, тряся желтоватыми волосами, и продолжала прятать глаза; лишь время от времени, не отрывая их от скатерти, она косилась в сторону, чтобы посмотреть, как едят омара, а один раз взглянула вдруг с мольбою на Томаса, как будто общее молчание объединяло и связывало их друг с другом. Ему запомнились ее длинные нафабренные ресницы, которые то и дело испуганно вздрагивали, черная краска слегка размазалась, придавая лицу ее овечье выражение, а веки были припухшие, красноватые, как если бы она долго плакала, но, возможно, это просто была простуда, она непрерывно хлюпала носом, а потом принялась рыться в сумочке, но, не найдя носового платка, продолжала и дальше хлюпать да бормотать «нет, спасибо», и «да, спасибо», и «спасибо вам большое». Ресторан закрывался рано — действовал комендантский час, но они не захотели с нею расстаться, привезли ее на извозчике к себе домой, и Дафна потребовала шампанского, а девушка осмелела, язык у нее развязался, и она затараторила своим вульгарным говорком: «Ой, а мы с мамашей», «Ну надо же, а мы с сестренкой», и Дафна восторгалась: «Чудесно», «Очаровательно» — и повела ее наверх, к себе в комнату, а когда они вернулись, на девушке вместо платья было натянуто розовое трико. Завели патефон, и она танцевала в большой гостиной, но успела к тому времени захмелеть и уже нетвердо держалась на ногах, начала спотыкаться, совсем сбилась с ритма и вдруг застыла посреди комнаты, глядя в пространство своими припухшими красными глазами, губы растянулись в дрожащую струну, а когда кто-то захлопал в ладоши, она упала в кресло и, пряча слезы, закрыла лицо голыми озябшими руками. Дафна тотчас бросилась к ней, опустилась возле нее на колени, гладила по голове, вытирала ей глаза, завораживая своим серебряным голоском, и потом они обе во второй раз исчезли, а когда снова показались на лестнице, девушка преобразилась: на ней было платье из гардероба Дафны, ее же тончайшие чулки и туфли на высоких каблуках; Дафна потащила ее к зеркалу, показать, как они похожи друг на друга, ну в точности, просто сестры-близнецы, и девушка попыталась сложить дрожащие губы в улыбку, но лицо отказывалось ей повиноваться, оно жалко скривилось, сморщилось, и слезы опять потекли ручьем. Домой! Она хочет домой! Габриэль ей втолковывал, что надо подождать, пока кончится комендантский час, а Дафна предлагала свою комнату и постель, но она закрывала лицо руками, и никакие доводы на нее не действовали; «Домой, я хочу домой», — всхлипывала она, тряся желтоватыми волосами. Тогда Феликс предложил отвезти ее домой в своей врачебной машине. Они вышли в прихожую, и Габриэль подал девушке ее обтерханное пальтецо, держа его, точно королевскую мантию, но Дафна, выхватив у отца пальтецо, отшвырнула его и не сходя с места презентовала ей одно из собственных манто и надела ей на голову одну из собственных шляп, и личико под шляпой опять скривилось, и им поневоле пришлось поторопиться выпроводить девушку за дверь, пока ее окончательно не развезло от хмеля, слез и простуды. Дело было весной, в апреле или в Мас: Томас помнил ее покрытое красными пятнами лицо в лучах утреннего света, пробивавшегося сквозь стекла оконного витража, хотя время было еще раннее; он помнил, что стоял в дверях и смотрел, как она сгорбившись ковыляет к машине, пошатываясь и спотыкаясь, в Дафниных туфлях на высоких каблуках — Феликсу приходилось поддерживать ее, обнимая за плечи, — но прежде чем выйти за ворота, она вдруг обернулась и окинула Томаса долгим сияющим взором, хотя он за все время ни слова не произнес и пальцем не шевельнул, чтобы ей помочь. Соня-танцовщица, Соня, которая не умеет танцевать. С тех пор он иногда видел, как она приходила сюда и уходила вместе с доктором Феликсом, теперь-то он вспомнил, с патентованным любовником Феликсом, которого сильнее всего влечет к девственницам, хрупким, невинным, нетронутым…
Женщина у него на коленях пустилась в нежности: она прикусывала мочку его уха; приложившись губами к его губам, она медленно скользила по ним из стороны в сторону, она вонзалась острыми ноготками ему в затылок. Томас невольно усмехнулся, до того это походило на старательно затверженный урок, на ненатуральные взрослые речи в устах ребенка.
— Сиди тихонько, — повторил он, притягивая ее голову к своему плечу, но она не унималась, продолжая рассусоливать о любви, о любви…
— Ах, Том, если б ты захотел моей любви, ну хоть чуточку, мне кажется, я бы научилась тебя любить. А другого я больше не хочу, не могу я больше…
— Чего другого?
Она теснее приникла к нему.
— Нет, — прошептала она, — не спрашивай. Сейчас я ничего не скажу, мне страшно. Сперва я хочу быть твоей. Сперва ты будешь меня любить.
— Ладно, сиди тихо, — сказал он, прижимая ее к себе. — И думай про мою любовь. Я любил тебя долго-долго, целую ночь, ты забыла?
— Я ни о чем другом и не думаю, — прошептала она. — Все время стараюсь думать только об этом, но…
— Но что? — спросил он. — То, другое? О нем мы не будем говорить. Я знаю, что это такое, но мы не будем об этом говорить.
— Знаешь? Ты?… — Юбка зашуршала, она распрямилась и уставилась ему в лицо, зрачки ее были как два темных озерка в темноте.
— Нет, нет, об этом мы не будем говорить. — Он снова притянул ее к себе. — Я люблю тебя, ты любишь меня, мы полюбили друг друга с той минуты, когда я впервые увидел, как ты танцуешь, и будем любить друг друга всегда. Теперь война скоро кончится, и мы вдвоем бежим отсюда в такое место, где никто нас не знает, в другую страну, в другой город, в Париж, а? Как тебе Париж?
— Да ну, Том, я же совсем не об этом…
— Париж, — продолжал он, — столица столиц. Сейчас он пал, но он не разрушен. Париж всегда останется Парижем. К весне война кончится — и вот мы с тобой любим друг друга в Париже. Мы бродим по набережным и смотрим на рыболовов, которым никогда ничего не попадается на удочку, — к тому времени они уже снова будут там стоять. Мы сидим перед «Кафе де ла Пэ» среди всех богатых иностранцев — к тому времени они уже снова будут там сидеть, мы стоим под Триумфальной аркой, где горит огонь на могиле Неизвестного солдата — его не гасили, он все время там горит, я знаю из газет. Мы гуляем под каштанами вдоль Сены, мы гуляем под платанами по широким бульварам, сейчас все деревья в Париже особенно красивы, потому что во время войны не было автомобильного движения, об этом писали в газетах…
— Том, замолчи, при чем тут Париж, я никогда не была в Париже.
— Тем лучше, вместе с тобой и я буду смотреть на него новыми глазами. Вообрази, мы сидим в парке и целуемся — среди всех других целующихся парочек, мы отправляемся в Булонский лес и любим друг друга у озера, на прибрежных склонах — среди всех других любящих парочек, мы заходим в наш трактирчик, где нас принимают так, как в Париже принимают только влюбленных, мадам и месье улыбаются нам, и мы тоже в ответ улыбаемся и уверяем, что в жизни не пробовали такой замечательно вкусной… Погоди, дай мне договорить, — сказал он, придерживая ее за руки, — такой замечательно вкусной курятины, мы сидим с тобой в золотые часы на террасах кафе и потягиваем дюбонне, и перно, и амер пикон — все это, конечно, снова появится, — а потом возвращаемся домой, в свой дешевенький гостиничный номер с крупным цветастым узором на обоях, чересчур аляповатых, чтобы быть красивыми, мы любим друг друга на французской кровати, занимающей всю комнату, мы любим утром, и днем, и ночью, и опять утром…
— Пусти меня, Том. Ты надо мной насмехаешься.
— Я не насмехаюсь. Я тебя люблю. Мы любим друг друга. Но ты права, любимая, Париж — это тривиально, слишком уж много влюбленных побывало там до нас, к тому же это недостаточно далеко, но теперь война скоро кончится, через год-два жизнь войдет в обычную колею, корабли опять будут плавать, и тогда мы на каком-нибудь торговом судне поплывем с тобой в Средиземное море и будем приставать в испанских и итальянских портовых городках — к тому времени Испания и Италия вновь станут самими собой, — или нет, мы уплывем прочь из Европы, уплывем из холодных в жаркие края, представь себе, любимая, ночью мы лежим под открытым небом на ложе из спасательных поясов и видим, как одни созвездия скрываются, а другие созвездия восходят над нами, пока мы с тобой любим друг друга и вдвойне наслаждаемся нашей любовью, потому что это опасно: хотя война уже кончилась, но ведь милы еще иногда попадаются, представляешь, мы вдруг наскакиваем на мину — и в буквальном смысле возносимся на небеса в миг нашей любви! Это ли не прекрасная смерть? Но нет, мы с тобой, конечно же, не умираем, в миг любви умереть невозможно, мы просто терпим кораблекрушение посреди Тихого океана, и волны выносят тебя и меня, единственных, кто остался в живых, на счастливый остров, где живут счастливые туземцы, украшающие головы цветочными венками. Возможно, это остров, где люди вообще не слыхивали о войне, такие острова, наверно, еще есть, или представь, что к тому времени разразилась новая война, еще более ужасная, которая уничтожила весь цивилизованный мир, а мы даже не подозреваем об этом, мы себе танцуем танец цветов на синем берегу, под лунным сиянием, мы любим друг друга сутки напролет в хижине из пальмовых листьев, а между тем…
— Том, ну хватит тебе болтать чепуху. Зря ты думаешь, что я такая дурочка. Я прекрасно понимаю, как глупо парить в империях.
— Где, где парить? — Томас рассмеялся. — Ты права, любимая, глупо парить в эмпиреях. Никуда мы из Дании не поедем, мы укроемся от всех в деревенской глуши, среди простых неиспорченных людей, представляешь себе, разведем фруктовый сад, или будем держать домашнюю птицу, или… Погоди, не перебивай меня, — сказал он, придерживая ее за плечи, за хрупкие детские плечики, — что же, мне и помечтать нельзя, людям должно быть позволено мечтать. Так на чем бишь мы остановились? Ах да, усадьба, деревенский дом со смолеными балками, штокрозы вдоль стен и большой сад со старыми деревьями, просторная горница с низким потолком, где мы с тобой, усталые после дневных трудов, коротаем вечера, сидим у очага и ни слова не говорим, просто чувствуем, как мылю…
Она рывком высвободила руку и закрыла ему рот.
— Да замолчи же, Том. Ты должен мне помочь, слышишь? Ты надо мной насмехаешься, я знаю, не считаешь меня за человека, но все равно, ты должен меня спасти.
— Как же тебя спасти?
— Хотя я тебе ни капельки не нравлюсь и, по-твоему, я просто дурочка, но, пожалуйста, Том, попробуй… постарайся… вернуть меня к жизни.
— Вернуть к жизни?
— Господи, я же все-таки женщина. Скажи мне, что я — женщина.
— Ты женщина.
— Самая обыкновенная, нормальная женщина, скажи.
— Самая обыкновенная, нормальная женщина.
— Ну так поцелуй меня, Том.
Она опять принялась за свои мертворожденные фокусы: вонзалась в него ногтями, целовала с открытым ртом, просовывала язык между его зубами… Едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, он зажал ее голову в своих ладонях и слегка отодвинул от себя. Теперь здесь было не так тёмно, свет из большой гостиной падал прямо на ее узкое детское личико: губы обиженно поджаты, глаза широко раскрыты. Он поцеловал ее в лоб, в выпуклый, как яйцо, детский лоб, он попытался поймать ее взгляд, но зрачки расплывались под длинными трепещущими ресницами, мерцая оловянным блеском. Опять они ее напоили, подумал он и вспомнил ее шаткий спотыкающийся танец нагишом. Соня, которая не умеет танцевать, хотя и любит, хотя это единственное, что она любит.
— Соня, — сказал он, — посмотри на меня, Соня. — И она попробовала, но ничего у нее не вышло, лицо задергалось. — Ну же, посмотри на меня, — повторил он, — улыбнись мне, Соня. — Если бы она посмотрела на него и улыбнулась, возможно, ему бы удалось заставить ее замолчать. И она сделала еще одну попытку, по-детски храбро попробовала улыбнуться, но лицо скривилось, она обхватила Томаса обеими руками за шею и опять приникла к нему, ее волосы, вздрагивая, щекотали ему щеку, она тихо, почти беззвучно плакала.
— Да, я не умею, — всхлипывала она, — не умею целоваться, я знаю. Но мне так хочется. Ты должен меня научить. Пожалуйста, Том, научи меня. Если б ты знал, как мне страшно, Том. Я больше не хочу того… Я боюсь.
— Тсс, — шепнул он ей, — мы не будем об этом говорить. — Он сидел, держа ее на коленях, как испуганного ребенка, он гладил желтоватые волосы и смотрел поверх ее головы в большую гостиную, где цепочка темных брючин и светлых чулок сплеталась и расплеталась между островками света вокруг ламп, — сейчас там танцевали под попурри из английских солдатских песен, — он заглядывал в черную пасть камина с тлеющими под слоем пепла угольками и слышал, как Соня говорила: «Я больше не могу, я больше не хочу…», он ласково покачивал ее на руках, между тем как взгляд его беспорядочно блуждал в готическом церковном мраке холла между лестницей и темно-фиолетовыми гардинами, скрывающими высокое окно с витражами. Он вспомнил своих демонов и попытался выманить их из небытия, пусть бы кто-нибудь из них объявился, но демоны хранили молчание, а сам он был уже по ту сторону всяческого хмеля и дурмана, один средь вопиющей бессмыслицы реальности, один со взрослым ребенком на руках, который глотает слезы, дрожит от страха и, судорожно всхлипывая, заикаясь, силится выговорить какое-то идиотское слово: «Пла… мой пла… носовой пла…»
Он достал свой носовой платок и вытер ей лицо, аккуратно счистил размазанные пятнышки черной краски на веках. Плач и всхлипывания понемногу смолкли; затихнув, она взглянула на него оголенными красными глазами — как ребенок, над которым надругались, подумалось ему, — и произнесла спокойно и ясно:
— Я умру от этого, Том. Умру, если ты меня не спасешь.
Он сидел, держа ее на руках, и не знал, что ей еще сказать. А она вдруг выпалила совсем другим тоном:
— Я ненавижу их. Ох, как ненавижу!
— Кого ты ненавидишь?
— Феликса, и Габриэля, и…
— Дафну?
— Нет, Дафну — нет. Ой нет, не Дафну.
— Дафну ты любишь?
— Может, и люблю. Не знаю. Я вообще ничего не знаю. И про себя тоже, какая я сама. Не понимаю больше, запуталась вконец. Но я так боюсь Габриэля. А Феликс — Феликса я ненавижу.
— А я думал, Феликс — твой любовник.
— Любовник! — Она возмущенно фыркнула, на личике выразилось презрение. — Да он вообще не мужчина, ничего не может, только мастер на всякие противоестественные штучки. Сперва он чего только надо мной не проделывал, и все время говорил, молол какую-то непонятную чушь, думал, что это ему поможет, а у самого ничего не получалось, и он злился на меня, и бил, и говорил мне разные гадости, но у него все равно не получалось, и тогда он стал требовать…
— Тсс, замолчи.
— Требовать, чтобы я говорила ему то же самое и проделывала над ним те же гадкие противоестественные вещи, и я не отказывалась, потому что я его ненавижу, но ничто, ничто ему не помогало, и вот теперь… нет, больше не скажу.
— Ну так замолчи. Я сам все знаю.
— Знаешь, как это происходит? Они тебе рассказали?
— Не все ли равно, как это происходит. Не хочу я ничего слышать, это всегда одно и то же. Вполне могу себе представить.
— Ничего ты не можешь. — Опустив глаза, она теребила свою юбку. — Это вообще невозможно себе представить. Теперь мы с Дафной приходим к нему днем и начинаем раздеваться, все с себя снимаем, а он сидит в своем кресле спиной к нам и смотрит в большое зеркало, а потом мы пляшем вокруг него, показываем язык, толкаем его, пинаем ногами, а он просто сидит в своем кресле, пока мы пляшем и поем… нет, не скажу, что мы поем, ну вот, а после мы с Дафной ложимся вместе на диван и… а он сидит в своем кресле и видит все в зеркале и… ох, не надо мне было рассказывать, теперь ты будешь меня ненавидеть, я знаю, теперь ты меня ненавидишь и презираешь, и…
— Перестань, замолчи. Я тебя не ненавижу.
— Нет, ненавидишь. Ты должен меня ненавидеть, слышишь, потому что я сама себя ненавижу, и презираю себя, и хочу, чтобы ты на меня разозлился, но только по-настоящему, чтобы ты побил, отлупил меня, и тогда бы я опять вернулась к жизни, ведь я не живу, я больше не человек, я просто ничто… ну чего ты улыбаешься?
— Я не улыбаюсь.
— Улыбаешься. Нечего тебе улыбаться, лучше побей меня и скажи, что я потаскуха. Дура и потаскуха, ну скажи.
— Замолчи.
— А ты побей меня. Побьешь, тогда замолчу.
Она вдруг замерла, вся напружинившись, и молча выжидала, сверля его глазами. Сверкнувший в них огонек предупредил о грозящей опасности: он успел отвести ее руку, взлетевшую, чтобы ударить его по лицу; сложив вместе ее тонкие запястья, он крепко стиснул их в своей ладони. Она попробовала вырваться, тело ее судорожно напряглось, голова резко мотнулась, и желтоватые волосы упали на лицо. Потом губы медленно растянулись и задрожали, судорога разрядилась слезами. Она пыталась сквозь плач что-то сказать, но слова тонули в протяжных завываниях, жалобных, как у попавшего в капкан зверька. Он тихо сидел, продолжая крепко ее держать, и думал о том, что она рассказала, у него было ощущение, что он проваливается глубже и глубже в слизистую хлябь, где копошится слепая бесформенная жизнь: жизнь, которая вся — только ротовое и анальное отверстие, и больше ничего. Он спрашивал себя, знал ли он об этом заранее, ожидал ли именно этого или, быть может, чего-то иного, Но одновременно он понимал ненужность своего вопроса, потому что все такого рода вещи — всегда одно и то же. Ненависть, насилие над жизнью и похоть, страх, паническое отступление и покорность — в едином клубке. Извращения, думал он, то, что называют противным естеству, не есть ли это на самом деле подлинное естество в обнаженном виде? Дафна, думал он, неужели я по-прежнему люблю Дафну, продолжаю ее любить? — и страдал, мысленно произнося «люблю», и одновременно думал: похоть, вожделение, неужели я по-прежнему испытываю к ней вожделение? — и одновременно думал, что это не вожделение, а просто-напросто кабальная привычка, и одновременно сознавал, что осознание этого ничего не изменит и не поможет ему: под утро, когда весь дом затихнет, он опять будет стоять в своей полосатой арестантской одежде перед ее запертой дверью. Смешно, думал он, сдерживая зевоту, почему мне смешно? Да потому, что все это, вопреки ожиданию, невероятно скучно. Безмерно, беспредельно скучно.
Плач утих, женщина у него на коленях успокоилась. Теперь можно было отпустить ее руки, скрещенные запястья остались лежать одно на другом, будто скованные незримой цепью.
— Напрасно ты смеешься, — сказала она, задиристо взглянув на Томаса из-под упавших на лицо желтоватых прядей. — Если б ты знал…
— Я не смеюсь.
— Нет, смеешься, только про себя. Думаешь, я не вижу? Но если б ты знал, что они говорят, ты бы не смеялся.
— Не все ли равно, что они говорят. Вполне могу себе представить. Те самые слова, которые мы в детстве писали мелом на заборе. Ведь так?
— Ну так, но это только вначале. Вставляют всякие мерзкие слова, и я не уверена, что до них это доходит, по-моему, они их даже не замечают. Но потом, когда мы оденемся, они усаживаются со своими рюмками и говорят, говорят, а на меня ноль внимания. И голоса у них делаются другие, и мудреными словечками они так и сыплют, думают, я ничего не пойму, но мне-то ясно, о чем у них речь: будто бы противоестественные штучки, которые они вытворяют, это и есть самое естественное, а нормальные люди на самом деле ведут себя противоестественно.
— В каком-то смысле это верно, — сказал Томас.
— Что ты сказал?!
— Да нет, ничего. Ничего я не сказал.
— Послушал бы ты их — не болтал бы чепуху. Между прочим, они и про тебя говорят. По имени не называют, а просто тот, — думают, я не догадаюсь, о ком у них речь, но мне-то ясно, что о тебе, Феликс — он вечно тебя передразнивает, насмехается над тобой, а Дафна хохочет. Рассказать, что они про тебя говорят?
— Не надо, ни к чему. Я и так могу себе представить.
Соня откинула волосы со лба и быстро взглянула на него, как ребенок, который хочет по выражению лица взрослого прочитать его мысли. И опять залопотала своим вульгарным говорком:
— Знаешь, тебе не мешало бы быть поосторожней, по-моему, они против тебя что-то замышляют, усядутся и секретничают, шепчутся о тебе, и Дафна говорит, теперь, мол, скоро все кончится, уж не знаю, что она хочет сказать, то ли ты скоро допьешься до смерти, то ли, может, сойдешь с ума, то ли она просто бросит тебя, но они против тебя что-то замышляют, все трое.
— Трое?
— Ну да, можешь не сомневаться, он с ними заодно.
— Он? Ты имеешь в виду Габриэля?
— Тсс…
— Стало быть, Габриэль знает?…
Она закрыла ему рот рукой.
— Только не надо называть его имя. Он где-нибудь сидит и подсматривает за нами, я точно знаю. Ох, до чего я его боюсь. Те двое тоже никогда не называют его имени, говорят просто он. Нет, я понятия не имею, что ejviy известно, но думаю, что все, она с ним делится всем на свете, я почти уверена. Вообще-то, я его редко вижу, а если и вижу, он со мной не заговаривает, но все равно он будто постоянно рядом, даже когда мы танцуем нагишом и поем и вытворяем эти вещи, он будто спрятался где-то и все-все видит, ох, до чего я боюсь, так и чувствую, что он с меня глаз не спускает, наверно, это он и устраивает, это он дергает нас за веревочки, заставляет плясать и дрыгаться перед зеркалом, а сам сзади наблюдает за нами, и я просто игрушка у него в руках, а может, и Феликс тоже, его ведь только Дафна одна интересует, да и ее на самом деле только он интересует, и все эти противоестественные штучки она проделывает только ддя того, чтобы потом прийти к нему и рассказать, так мне кажется. Нет, правда, ей на самом деле ни чуточки не интересно возиться со мной и с Феликсом, а когда они говорят о тебе, она только смеется и повторяет, что теперь скоро все кончится, но она больше не выйдет замуж, потому что не хочет иметь детей, дети испортят ей фигуру, а она обещала ему, что никогда не даст испортить себе фигуру. Ох, если б ты знал, до чего это все противоестественно, я так и вижу их двоих, когда она после рассказывает ему, это же еще ужасней, еще противоестественней: она для того лишь и занимается этим, а он для того лишь и заставляет ее, чтоб услышать, как она будет рассказывать, а может, они… может, они даже… нет, я больше ничего не скажу, потому что не знаю, ничего не знаю, но мне чудится самое ужасное, самое противоестественное…
— Ну-ну, — он притянул поближе голову Сони и упрятал ее лицо к себе под смокинг, — полно, полно, спать, спать. Забудем об этом. Перестанем об этом думать.
— Я и не хочу, — услышал он шепот из темноты у себя под мышкой, — мне страшно думать об этом, я боюсь, ох, как я его боюсь, спаси меня от него, Том, я умру, если ты мне не поможешь…
Ее тонкое птичье тельце трепетало от страха, цепкими пальцами она крутила пуговицу на его манишке, одну из филигранных золотых пуговиц, подаренных ему Дафной не то Габриэлем, Габриэлем не то Дафной. В большой гостиной зажгли лампу над роялем, молодой человек в сверкающей белизною сорочке, с похожей на шлем прической из черных блестящих волос сидел, залитый ярким светом, и играл солдатскую песню, а женщина в платье цвета морской волны, закинув над головой длинную руку, кружилась в танце, и тут многоголосый хор грянул: «Где, у пагоды Мульмейнской, блещет море в полусне…» [23]
— …Умру, я умру от этого, Том, — шептала женщина у него на коленях, еще ближе приникая к нему, — уж он постарается сделать так, Чтоб я умерла. Ты его видишь? Он следит за нами. Ох, я знаю, он где-нибудь спрятался и следит за нами и слышит, о чем мы с тобой говорим, он все на свете видит и слышит, а ему надоело («…Воротись, солдат британский, воротись ты в Мандалай…»), надоело уже со мной возиться, ведь он («Воротись ты в Мандалай…»), он же считает меня дурочкой, я для него просто игрушка («…По дороге в Мандалай…»), но он боится, вдруг я проболтаюсь, вот он и задумал («…И, как гром, приходит солнце из Китая в этот край…»), задумал меня прикончить, я точно знаю, что он это задумал, я же все время вижу, как он сидит и смотрит на меня, вижу его черную бороду и эти его глаза за очками, и ему ничего не стоит это сделать, он может сделать все, что захочет, потому что тайком водится с немцами, они для него что угодно устроят, а если победят не немцы, а другие, так он ведь и с другими дружбу водит, тоже тайком, а сейчас полиции нет («…Мандалай, воротись ты в Мандалай…»), и когда я в темноте иду одна по улице, то чувствую, как кто-то за мной крадется, все время слышу шаги у себя за спиной («…По дороге в Мандалай…»), а оглянуться боюсь и бегом побежать боюсь («…И, как гром, приходит солнце из Китая в этот край…»), боюсь, потому что если побежать, то шаги тоже за мной побегут, и вот я иду, а в затылке — боль, ну прямо ужасная боль, ведь сейчас столько людей убивают, и никто не знает, за что их убивают, а ночью я лежу у себя в постели и от страха не сплю, потому что иногда под окнами останавливается машина и на лестнице раздается громкий топот — а вдруг это за мной, вдруг он на меня до… («…Мандалай, воротись ты в Мандалай…») донес немцам, хотя я ровным счетом ничего ни о чем не знаю, но все говорят, это не поможет, они берут и отправляют в бордель, в солдатский бордель, вдруг он обо всем с ними договорился, разве я для него человек, я же просто («…О, дорога в Мандалай…»), просто игрушка, попользовался и выкинул («…И, как гром, приходит солнце из Китая в этот край…»). А может, — прошептала она, незаметно расстегнув филигранную пуговицу и еще глубже зарываясь лицом в его манишку, — может, это ему и не понадобится, зачем, если достаточно просто сидеть и молча смотреть на меня этими своими глазами из-под очков, чтобы я взяла и сама это сделала, ведь я прекрасно вижу, о чем он думает; сейчас она пойдет домой и сделает это, сейчас она пойдет и покончит с собой («…Мандалай, в Мандалай…»), знаешь, однажды ночью они отвезли меня домой, потому что я была пьяная, они меня так напоили, что я совсем ничего не соображала, — и потом оказалось, я легла на подушку в кухне и открыла газ — или это он меня там уложил и велел открыть газ, в общем, я совсем не помню, как было дело, а только сестра вернулась домой и нашла меня там, но я ей не сказала, как это случилось, потому что боюсь, я никому ничего не говорю, кроме тебя, Том. Ах, Том, ты должен мне помочь, я же опять пьяная, они меня опять напоили, а он все время сидит и смотрит этими своими глазами («…Мандалай, воротись ты в Мандалай…»), дает мне понять, что надо пойти домой и опять сделать то же самое, а сестры сейчас нет, и я боюсь оставаться одна, мне так страшно, ах, Том, постарайся, чтобы я не осталась одна сегодня ночью («…О, дорога в Мандалай…»), я не могу, Том, не могу быть одна («…И, как гром, приходит солнце из Китая в этот край…»).
— Все, все, полно, полно, спать, спать, — сказал Томас и, обхватив ладонью ее тонкую шею с ложбинкой под затылком, почувствовал, как дрожь пробежала по ней, трепет восторженного ужаса.
— …Люблю, я люблю тебя, Том, — донесся придушенный шепот у него из-под мышки, после чего она вся обмякла и затихла.
В большой гостиной хор наконец-то допел «Мандалай», молодой человек за роялем, заведомый счастливчик в сорочке, сверкающей белизной, примериваясь, перебирал пальцами клавиши и в конце концов весело заиграл ироническое попурри из немецких военных песен: «Die pahne hoch, die Reihen fest geschlossen…» [24], «…Fahren, wir fahren gegen Engelland…» [25], но хор подпевал недружно, вразнобой, все вылилось в какофонию случайных, разрозненных слов и мелодий. Но вот по собранию прокатилась волна радостного возбуждения: черно-белые и цветные тени торопливо заскользили по сводчатому окну, выходящему на веранду, из столовой послышался перезвон хрусталя и фарфора. Легкая ночная закуска, подумал Томас, ощущая во рту тошнотный вкус, и перед глазами возникли огромные блюда, полные красиво разукрашенных бутербродов. Остаться на месте, подумал он, посидеть одному в темноте, пока они там набивают брюхо салатами, омарами, красным ростбифом с кружочками желтков, и дуют спиртное, и смеются своим непременным смехом, и распевают свои непременные песни («Женщин всех подряд люби, покуда жив…»), и гоняют взад и вперед по столу свои шуточки, полускабрезности и скабрезности, как шары в бильярдной игре, точь-в-точь как шары в бильярдной игре («Внимание, сейчас последует мягкий тычок, а он дает красивый приплод!»), которые попадают точно в цель, и отскакивают рикошетом, и делают карамболь, и исчезают в лузах — все знакомо до мельчайших подробностей, все наперечет заранее известно, и можно соснуть минуток десять, а то и полчасика, под этот аккомпанемент, зная, что пока, во всяком случае, ничего не произойдет.
Голова Томаса качнулась, он уронил подбородок на грудь. Веки сомкнулись. Он совсем забыл о невесомой, как птица, женщине у себя на коленях и вспомнил о ее существовании, лишь когда она сжала его голову в своих ладонях и приникла губами к самому уху:
— …Надуем их, увидишь, ты да я — мы их надуем… Голова Томаса качнулась, он оторвал подбородок от груди.
— Надуем?… То есть как?
— Том, ты же спишь, ну Том.
— Нет, нет, — сказал Томас, — я не сплю. Я все слышу. Конечно же, мы их надуем, ты да я.
Должно быть, он все же немного соснул, и она не преминула воспользоваться расческой и зеркальцем, волосы были опять зачесаны наверх, лоб открылся и все личико стало белое и гладкое, как яйцо. Она смотрела на него прищурившись и улыбалась плутоватой детской улыбкой.
— Думают, они страсть какие хитрые, а мы все равно их перехитрим. Я ведь знаю, зачем они при мне постоянно про тебя говорят, Том. Хотят, чтобы я… они хотят, чтобы мы с тобой…
Томас зевнул.
— Они тебе так и сказали?
— Ну, не то чтобы… хотя… сказали, Том, не буду тебе врать. Они мне кое-что пообещали, если я соглашусь.
— Ну, и ты согласилась?
— Да, но не поэтому. А потому что сама захотела. Ведь я же знаю, зачем им это нужно. Чтобы иметь доказательство твоей неверности — тогда она может с тобой развестись и выйти за Феликса, а ему не придется оплачивать расходы. Но мы с тобой их надуем, увидишь. Потому что, я знаю они тебя боятся. Да, да, они над тобой насмехаются, а сами все-таки побаиваются тебя. Я же прекрасно вижу. Они тебя считают ужасно умным. Я-то знаю, что ты ни капельки не умный в этих делах, но они так считают. Даже он тебя чуточку побаивается. Мной он, конечно, вертит как хочет, но тебя он тронуть не посмеет. Поэтому надо только дать ему понять, что тебе все известно. И про них двоих, про него и Дафну, тоже. Потому что я почти уверена в этом, хоть сама и не видела. Ты просто намекни, что все про них знаешь. Ну что же ты, Том, опять ты спишь?
— Нет, нет, — сказал Томас. — Я не сплю. Я слушаю. Я все про них знаю.
— Ты ему скажи, что сам уйдешь, по своей доброй воле. Ты согласен на развод, пожалуйста, но только тебе нужны деньги. А денег ты сможешь вытянуть у него, сколько пожелаешь, потому что он побоится тебя тронуть и побоится, как бы это не выплыло наружу. Из-за нее побоится. Ну а так он ведь и со мной заодно развяжется. И неважно, если он поймет, что это я их выдала, только бы ты спас меня от него, чтобы он ничего не мог мне сделать. Ах, Том, вот бы нам вместе уйти отсюда и чтоб ты мне позволил пожить немножко с тобой… нет, я знаю, долго ты меня не вытерпишь, но хотя бы чуть-чуть. Позволил бы мне поухаживать за тобой. Тебе ведь и правда нужен человек, который бы тебя любил, ухаживал за тобой. Ах, Том, если б мы с тобой…
Склоняя и изгибая длинную шею, склоняясь и изгибаясь всем своим тонким девическим телом, она плавно и грациозно соскользнула на пол и стала на колени.
— Том, ну пожалуйста, а? Скажи, что ты согласен. Хотя бы ненадолго, пока я тебе не надоем. Неважно, если ты будешь любить меня только потому, что я похожа на нее, и если ты даже вообще не будешь, не захочешь меня любить, то тоже ничего, дело же не в этом. Совсем не в этом дело… — Она наклонилась к ковру, она поцеловала его туфлю, обвила его ноги руками и спрятала лицо у него между колен. — Сиди, не двигайся, нет, ты сиди, мне все равно, пусть они смотрят, пусть делают со мной что хотят, лишь бы мне побыть немножко с тобой…
Почему бы и нет? — подумал Томас, рука его играла ее волосами, ее канареечно-желтыми волосами, потом соскользнула на ее плечо с выпирающими из-под кожи тонкими косточками. Какая разница, чем она хуже любой другой. Встань, сказал он себе, встань и начни действовать: возьми ее на руки, отнеси к себе в комнату и уложи в постель, как укладывают ребенка, заблудившегося ребенка, который встретил наконец-то взрослого человека и отдался в его руки. Побаюкать, сказать ей что-нибудь доброе, ласковое, как говорят ребенку, проснувшемуся ночью и дрожащему от страха. Под конец она спокойно уснет, положив голову мне на плечо, а когда рассветет…
— Правда, Том, — прошептала женщина в ответ на его мысли, — ну пожалуйста, Том. — Подняв голову, она взглянула на него, ее белое личико светилось чистотой и счастьем. — Пойдем к тебе, возьми меня с собой, мы прижмемся друг к другу крепко-крепко и полежим рядышком, как брат с сестрой. А когда рассветет…
Брат с сестрой? — подумал Томас. Сестренка моя без стыда и без гордости, сестра по несчастью, по краху. Полежать рядышком, как брат с сестрой, заснуть и грезить, что она — это я, а я — она, погрузиться в грезы так глубоко и так надолго, чтоб они в конце концов обратились в явь. Почему лишь недобрые сны должны становиться явью? Ты взрослый человек или нет? — сказал он себе. Встань и…
— Том, ну ты же не слушаешь!
— Нет, я слушаю. Когда рассветет…
— Когда рассветет и на улицах появятся люди, мы потихонечку выберемся отсюда и пойдем ко мне домой, там никого сейчас нет и вполне можно пожить, пока мы не найдем себе какое-нибудь жилье. Просто пару чердачных комнатушек. У меня есть кое-что из мебели, другие вещички, и y сестры можно что-нибудь на время попросить. Я сошью занавески, и цветы у нас будут, я стану готовить тебе еду, прибираться, чтобы было чисто и уютно, и я буду твоя, когда тебе захочется, а когда не захочется, ты просто велишь мне уйти — и все, тогда я, может, не так скоро тебе надоем. Нет, правда, это ничего, если ты будешь любить меня только потому, что я похожа на нее, пусть я буду у тебя как замена, будто я — это она… Ах, Том, ты можешь делать со мной, что хочешь, слышишь, можешь мной распоряжаться, будто я не человек, а просто твоя собственность, а если ты захочешь вместо меня другую женщину, ну и что ж, пожалуйста, и пока ты с ней, я буду одна бродить по улицам и думать, что тебе сейчас хорошо, а если тебе вообще не нужны женщины, если тебе больше нравится напиваться пьяным, то и напивайся, и можешь говорить мне все что угодно и делать со мной что угодно, когда ты пьяный, даже если ты разозлишься и побьешь меня, тоже ничего, а когда ты уже не будешь держаться на ногах и начнешь засыпать, я уложу тебя в постель и посижу рядом, пока ты спишь. Ах, Том, ты будешь делать все, что только пожелаешь, а если тебе нравится ничего не делать, а просто сидеть целый день в кресле и смотреть в окно, то и сиди себе, мне еще и лучше, знаешь, как приятно мне будет ходить вокруг тебя, пока ты там сидишь и ничего не слышишь, ничего не говоришь, даже не замечаешь меня. А на жизнь нам с тобой вполне хватит, денег мы можем выудить у него сколько угодно, если же тебе неохота с ним говорить, то можно взять и послать ему письмо, а что в нем написать, я тебе скажу. Если ты только согласишься, Том… Ну вот, опять ты спишь?
— Нет, я не сплю, — сказал Томас, борясь со сном. Встань, сказал он себе, встань же, пока еще не поздно. Но глаза его слипались, все тело налилось смертельной тяжестью. — Я слушаю, — сказал он, — ты говоришь, письмо? Мы напишем письмо?
— Нет, Том, ты, наверно, не согласишься. Конечно, не согласишься, но это и не обязательно, я сама заработаю, сколько нам нужно денег, знаешь, я хоть и худенькая и из себя дурнушка, и не люблю я этого, а все равно есть много мужчин, которым как раз такие и нравятся. Представляешь, Том, встречаю я какого-нибудь незнакомого мужчину и иду к нему домой, и вот я с ним, а сама все время думаю только о тебе и делаю это только ради тебя, и, может… не знаю, как тебе объяснить, но, может, мне это даже необходимо, может, я только так и научусь по-настоящему тебя любить. А, Том? Ладно? Скажи, что ты согласен. Ну хоть ненадолго, пока я тебе не надоем или пока это все не кончится, ведь люди говорят, теперь скоро все кончится…
Скоро, подумал Томас, очень скоро. Было что-то в окружающей его тьме и тишине, что силилось прорваться к нему сквозь дремоту, дать ему знать, что речь идет о жизни или смерти и если он вот в этот самый миг не встанет, то потом будет поздно, непоправимо поздно, а сейчас вокруг не слышалось ни звука и лампы в большой гостиной отбрасывали слабый желтоватый свет, словно отражающийся в темном омуте. Но вот из-за двери, ведущей в прихожую, донесся шепот, потом дверь бесшумно отворилась, луч света птичьим крылом прорезал тьму холла и исчез — кто-то на цыпочках прокрался по ковру и стал подниматься по лестнице к спальням, медленно и осторожно, чтоб никто не услышал. Томас сквозь свое сонное бодрствование узнал шаги и понял, что они означают. Восхождение, подумал он, медленное восхождение на вершину совершенной кульминации. Кто бишь об этом толковал? Феликс, доктор Феликс, патентованный любовник. Он ясно видел перед собой его фигуру в окутавшей лестницу тьме: осторожно ступающие ноги в лаковых туфлях, рука, нащупывающая перила, спина, согнувшаяся под незримым бременем. «Если бы я веровал в Бога, я воззвал бы к нему, моля ниспослать мне смерть в этот миг…» Томас усмехнулся сквозь сонное бодрствование.
— Ты усмехаешься, — пролепетал женский голос откуда-то снизу, с его колен, — не хочешь, да? Ну конечно, не хочешь. Господи, какая же я дурочка!.. — Чего он не хочет? И кто эта женщина? Соня, Соня, которая не умеет танцевать. — Конечно, ты на это не согласишься, — продолжал голос, — еще бы, хоть ты и не считаешь меня за человека, и я тебе ни чуточки не нравлюсь, а внешность моя и подавно не нравится: худенькая, некрасивая, на что я такая гожусь, но ты все равно не захочешь делить меня с кем попало, я прекрасно понимаю. Но, любимый мой, это вовсе не обязательно, я найду, как тебе помочь, мало ли способов, я знаю место, где меня охотно возьмут танцовщицей, если я буду танцевать совсем голая… Ах, мой любимый, ты только представь: я танцую нагишом перед публикой в большущем зале, но что мне за дело до этих людей, они ни при чем, ведь я принадлежу тебе одному, и разделась донага только для тебя, и танцую только для тебя, мой любимый, мой милый. А может… нет, я не знаю, это невозможно объяснить, но, может, я действительно научусь танцевать, если буду нагишом танцевать для тебя и думать только о тебе, потому что при этом я буду чувствовать, что… ну, как бы искупаю… искупаю свою вину перед тобой, мой любимый, может, я вообще только так, танцуя, и могу тебя любить? Нет, ты ничего не понял, да и что я говорю, на самом деле я ведь и в танцовщицы тоже не гожусь, но я люблю, люблю танцевать…
Она повернулась к нему спиной и запрокинула голову назад, к нему на колени, она забросила вверх обнаженные руки и сцепила пальцы у него на шее.
— Милый мой, любимый, позволь мне, пожалуйста! Дай мне потанцевать, слышишь? Возьми меня на руки, отнеси к себе в комнату, и я станцую для тебя прямо сейчас! Мне кажется, сейчас у меня получится. Любимый, мне кажется…
— Встань, — сказал Томас, — ну же, встань! — Потому что их вдруг залил поток яркого света — перед ними на каминном ковре стояли рядом две пары ног: узкие серебряные туфельки Дафны и лаковые туфли Габриэля с широкими черными носами. — Встань, — повторил Томас, но она ничего не слышала и не видела, и ему пришлось силой расцепить ей пальцы и как следует ее встряхнуть, чтобы вернуть к действительности. И она наконец-то поднялась, она стояла, понурившись и свесив руки, как маленькая девочка, обманутая и потерянная, перед Дафной с ее белым луноподобным лицом и Габриэлем с его бездонным взглядом из-под роговых очков.
Габриэль, оттопырив нижнюю губу, покачивал своей массивной головой.
— Ах, Том, Том, — сказал он и пощелкал языком.
— Как ты себя ведешь, Соня, — сказала Дафна.
Встань, еще не поздно, сказал себе Томас, сознавая, что давно уже слишком поздно, и одновременно невольно усмехаясь: стоило ему услышать серебряный колокольчик ее голоса, как он тотчас увидел себя стоящим в полосатой пижаме перед ее запертой дверью и услышал собственный призывный, молящий шепот в замочную скважину.
— Напрасно ты улыбаешься, Мас, — сказала Дафна, и две смешные морщинки пролегли у нее между бровей. — Улыбаться тут нечему.
Да уж, подумал Томас, улыбаться нечему. Но усмешка так и не сошла с его лица, потому что он уловил едва приметную дрожь в ее голосе и поймал себя на исполненной торжества мысли: сегодня ночью она меня впустит, сегодня она отопрет мне дверь, потому что ощутила некоторую неуверенность, а под утро, когда все будет позади и она поймет, что в действительности ничего не случилось, она почувствует одиночество, страх, усталость, и тогда ей понадобится поддержка и опора — она уткнется лицом мне под мышку и будет в полусне шептать мне на ухо свои инфантильные словечки, одарит меня новым драгоценным сокровищем: горсточкой дурашливых, пустых, бессмысленных словечек, которых мне достанет на месяцы и годы…
Дафна взяла Соню под руку.
— Идем, — она кивнула головой в сторону лестницы, — мне надо с тобой поговорить.
И Соня послушно дала себя увести, Соня, которая не умеет танцевать, она как сомнамбула заскользила по ковру, а потом вверх по лестнице, понурив голову и свесив плети рук. Поднявшись на несколько ступенек, она вдруг обернулась и послала Томасу сияющий взгляд, хотя он пальцем не шевельнул, чтобы ей помочь. Встань, в последний раз сказал он себе, встань и помоги своей сестре по унижению, своей бедной сестренке-танцорке… И они исчезли из виду, он слышал, как отворилась дверь в комнату Дафны, где их поджидает Феликс.
— Нет, нет, Том, ты не уходи, — сказал Габриэль, хотя Томас не проронил ни слова и ничем не обнаружил намерения встать, — мы с тобой за весь вечер так и не удосужились поговорить. Давай посидим уютненько вдвоем, наедине друг с другом. Только здесь что-то холодно, — он зябко поежился, — ты забываешь подтапливать камин. — Он взял несколько поленьев из большого медного таза и уложил их как надо трезубой кочергой, он стоял задом к Томасу, наклонившись вперед, и фалды фрака, точно занавески, раздвинулись вокруг его коротких растопыренных ног. Потом он отставил трезубец и взялся за мехи, желтые язычки огня запрыгали в такт между березовыми поленьями и слились в высокое яркое пламя. — Ну вот. — Он сделал поворот кругом и фалдами фрака задел трезубец, который с грохотом опрокинулся на плиту перед камином. Габриэль с трудом нагнулся за ним и тяжело перевел дух, потом немного постоял, прислушиваясь. Из столовой доносился гул голосов вперемешку со звяканьем ножей и вилок.
— Пусть их веселятся, — сказал он. — Ночные угощения уже не для меня. Спится плоховато. Да, Том, старость не радость, силы уже не те. — Вид у него был трезвый и утомленный, он стоял, опершись о трезубец, задумчивый, словно погруженный в свои мысли, оттопырив нижнюю губу и устремив в пространство доверчивый взгляд из-под роговых очков. Отблески огня играли вокруг его черной шевелюры и бороды.
Ну как его такого не полюбить, подумал Томас.
В столовой раздался взрыв хохота, в мощном хоре мужских голосов выделялись дискантовые женские взвизгивания. А следом грянула песня: «Мне плевать, куда я на том свете попаду…»
4
«…А мне плевать, куда я на том свете попаду». Ох уж эти буржуи, подумал Симон.
Он просидел какое-то время в своем укрытии между елками и стеной гаража, выжидая, пока гостям надоест и они разойдутся, и хотя у него зуб на зуб не попадал от холода, а боль в руке опять усилилась, все же глаза то и дело слипались и он впадал в забытье; в промежутках он по-прежнему слышал музыку, ту же треклятую, анафемскую музыку, и в конце концов до сознания его дошло: ведь они и не могут уйти до самого утра, пока не кончится комендантский час. Ему необходимо еще до этого каким-то образом проникнуть в дом, нельзя бежать дальше, неизвестно, сколько он продержится на ногах, в глазах темнеет от одной лишь мысли о новых скитаниях, новых особняках, о лающих псах и богатых хозяевах. Кто-нибудь из здешних обитателей должен спрятать его и помочь добраться до города, должен же кто-то найтись среди такого множества людей, и, может, даже к лучшему, что они все пьяные, хотя, конечно, с пьяными опасно иметь дело, никогда не знаешь, чего от них ждать, но, во всяком случае, маловероятно, чтобы его стали разыскивать в этом доме. Он опять, как и в прошлый раз, прокрался по лужайке к каменной лестнице и стал подниматься по ступенькам между двумя львами или сфинксами, как и в прошлый раз, беспокоясь, что его темная фигура хорошо видна сейчас на светлом фоне, и заклиная себя: живым— ни за что, главное — не даться им в руки живым, хотя лучше уж живым, чем мертвым, нет, ни живым, ни мертвым! — но одновременно чувствуя с полнейшей уверенностью, что этой ночью ничего не случится: невозможно, чтобы он сейчас умер — и все. Одновременно он проклинал себя за мелкобуржуазный мистицизм, однако проклятия не возымели действия — он снова вспомнил Лидию и явственно увидел, как она медленно падает лицом вниз с зияющей круглой дыркой в узкой затылочной ложбинке. Он остановился. Ну хватит, резко сказал он себе. Он опять уже стоял перед окном, где была щель между гардинами, и — «…А мне плевать, куда я на том свете попаду».
«Эти мне буржуи, бесстыжие буржуи», — стуча зубами от холода, прошептал Симон, когда через открытую раздвижную дверь увидел ярко освещенную столовую, — там-то они и горланили свою песню, рассевшись вокруг заново накрытого стола с новыми бутылками, новыми рюмками и большими блюдами, полными разукрашенных бутербродов-Должно быть, они здорово перепились: все движения — угловатые и неверные, из опрокинувшейся пивной бутылки пенистое содержимое выливается на скатерть, но никто и не думает ее поднимать, физиономии дурашливо осклабились, глаза оловянные, широко разинутые орущие рты набиты едой. Один мужчина играет на клешне омара, как на флейте, другой отбивает такт куриной ножкой, периодически принимаясь ее обгладывать, и одновременно свободной рукой сжимает под скатертью колено соседки, а третий запихивает снедь в рот своей даме, которая, отбиваясь, вонзается зубами ему в руку, кусочки красного ростбифа падают ей на платье, а мужчина, измазав пальцы яичным желтком, начинает угловатыми неверными движениями обтирать их о ее густые черные волосы, и тогда она, сверкнув белками глаз из-под рассыпавшихся волос, молниеносно срывает с ноги туфлю и трахает его по голове каблуком, а он хохочет и громко вопит, зияя черной дырой посреди физиономии, и тут — «Женщин всех подряд люби, покуда жив…»
Не поддаваться ненависти, думал Симон, стоя у окна, ненависть делу не поможет, и однако же он чувствовал такую ненависть, что у него сердце зашлось, хоровод бледных лиц перед глазами слился в сплошной туман, колени подогнулись — и, боясь упасть, он уперся лбом в карниз под окном. Не поддаваться тошноте, приказал он себе, не терять сознания. Пытаясь себя взбодрить, он унесся мыслями в темную даль, в кромешный коричнево-черный мрак над Германией, где сотни его товарищей в эту минуту томились, заживо погребенные, в лагерях, он ощутил запах крови, мочи, экскрементов — и вдруг сам очутился в глубоком подвале и увидел собственное голое тело, распростертое на столе, запястья и лодыжки были перехвачены кожаными ремнями; он слышал чей-то смех и чувствовал, как сыплются удары, один за другим, в веселом ритме… — «…Женщин всех подряд люби, покуда жив. Женщин всех подряд люби, покуда жив» — и видел, как кровавые шрамы огненными молниями вспыхивают на его обнаженной спине, и думал в исступлении: пускай бьют, пускай меня бьют, чтобы я наконец-то научился молчать, стиснув зубы, и тем искупил свою вину перед товарищами, и одновременно думал, что вина и раскаяние — буржуазные предрассудки, от которых нет никакой пользы, и одновременно говорил себе: хватит, прочь из головы эти мысли, от них — никакого проку, они только ослабляют тебя, а тебе еще много чего надо сделать, прежде чем можно будет умереть, и сейчас самое главное — добраться до города и предупредить своих. Он с трудом поднял голову опять к окну, но старался больше не смотреть в столовую, где черные дыры на бледных физиономиях по-прежнему зияли, горланя ту же идиотскую песню: «…Ты пальни в последний раз, покуда жив. Ты пальни в последний раз, покуда жив…» — и принялся искать глазами низкорослого и толстого черного мужчину и высокую серебристо-серую женщину, ведь, судя по всему, это были хозяин и хозяйка, кто уж она ему, дочь или жена, которую он себе купил, как покупают левретку или породистую кобылу, но их нигде не было видно, ни за столом, ни в большой гостиной, где зажгли под потолком хрустальную люстру и черная женщина в белой наколке прибиралась и наводила порядок. Вот она исчезла, точно тень, унося на подносе последние бутылки и рюмки, и Симон подумал: сейчас, именно сейчас подходящий момент, чтобы проникнуть в дом через черный ход — кухня у них, должно быть, в подвале, сидя в своем укрытии среди елок, он время от времени различал свет за проемом в каменной ограде заднего двора и слышал, как там внизу переговаривались и гремели посудой, — но пока он принимал решение и нащупывал пистолет, из столовой вышел мужчина без пиджака, обнимая за талию женщину в облаке тюля цвета морской волны. Мгновение они постояли, ярко освещенные, в дверях гостиной, потом мужчина потушил хрустальную люстру, подвел свою даму к арке и спустился с нею по ступенькам на веранду, где он тоже выключил свет. Симон поспешно отпрянул от окна — они оказались так близко, что он услышал, как женщина мурлыкает себе под нос: «та-та-та-ти-ти, та-та-та-ту-ту», но потом наступила тишина, и он нехотя все же приблизился опять к окну и смутно различил их в слабом свете ламп из гостиной — они лежали вдвоем на узком цветастом диване, наполовину скрытые от глаз зеленым кустом в горшке, он вдруг услышал, как на пол упала туфля, за ней последовала другая — резкое движение сотрясло куст, листья которого испуганно затрепетали, и Симону почудилось позади него что-то белое. Только этого и не хватало, подумал он, крепко стискивая зубы и отводя взгляд, но поневоле продолжая слышать мурлыканье женщины и стоны мужчины, ни стыда ни совести у этих проклятых… — и одновременно подумал, что ненависть делу не поможет, что необходимо рассматривать весь этот продажный буржуазный мир в его взаимосвязи с… — тут раздался визгливый смешок и какое-то рычание. Ну все, он их больше не видит и не слышит — взгляд его устремился поверх них, к островкам слабого света в гостиной, и еще дальше, за эти островки, где он в конце концов разглядел…
— Та-та-та-ти-ти, та-та-та-ту-ту, — мурлыкала женщина.
— Пусти, пусти же, да нет, убери свои руки, — шептал мужчина, — не бойся ты, им же ничего не видно и не слышно, и никто сюда не придет, убери руки, глупышка, ты моя прелестная глупышка, да нет, пусти, я хочу тебя, слышишь, хочу… — И одновременно он думал, какая дурость, что он потушил свет: он пьянее, чем ему казалось, все кружится и плывет перед глазами, да еще этот куст, чертов куст, шуршит и шуршит все время, а что если он так пьян, что вообще не… поздно, теперь слишком поздно, никуда не денешься, вон она уже туфли скидывает, бах! — одна на полу, бах! — и другая… — Хочу, хочу тебя, — стонал он, одновременно думая, что хочет-то не он, а она, она его в это втравила, хотя у него на самом деле не было ни малейшего желания, и что, если он не… но нет, надо так надо, отступать теперь поздно, и завтра… завтра, думал он, делая отчаянный скачок вперед во времени и видя себя с бритвой перед зеркалом, надо, чтобы завтра он мог, встретив в зеркале свой взгляд, сказать самому себе…
— Та-та-та-ти-ти, та-та-та-ту-ту…
О Господи, хоть бы она перестала, до того это сейчас некстати, руки в панике никак не сладят со всеми дурацкими застежками, крючками, петлями, да еще резинка прикреплена к чулку какой-то штуковиной, которую невозможно отцепить… тр-р-р! — ну вот, что-то разорвалось, и она тотчас оттолкнула его руку, но не затем, чтобы освободиться, не затем, чтобы кончить, поставить точку, нет, она просто сама отстегнула резинку и сбросила пояс на пол… а ляжки-то тощие, какие у нее тощие ляжки, и этот запах, такой сильный, если я теперь не…
— Поцелуй меня, поцелуй, — зашептал он, но она отвернула лицо в сторону и подставила ему голое плечо, и он присосался к нему губами, чтоб осталась метина, кровавая метина. Трусишь, чего ты трусишь? — говорил он себе, присасываясь сильнее, черт побери, в мире идет война, повсюду в этот миг пылают города, людей убивают тысячами, женщин насилуют. Закрыв глаза, он впился в ее плечо и сосал, пока не ощутил вкус крови во рту, воображая себя при этом солдатом в пылающем городе, солдатом, который вламывается в дом, где полуобнаженная женщина бросается перед ним на колени и просит, молит его о пощаде, но он непреклонен, он берет ее силой… силой…
— Та-та-та-ти-ти, та-та-та-ту-ту…
Боже милостивый, вразуми ее, чтобы она перестала, думал он, если она не прекратит, я же не смогу, я не смогу… И одновременно: не трусить, только не трусить, если струсишь, ничего не получится, тогда ничего не получится… И одновременно: не думать, ни о чем не думать, просто закрыть глаза и совсем ни о чем не думать…
— Та-та-та-ти-ти, та-та-та-ту-ту, — мурлыкала женщина.
…в конце концов разглядел маленького черного толстяка-хозяина, который сидел за открытой дверью в самую дальнюю комнату, очень высокую, с лестницей и большим, уходящим вверх под самую крышу, окном, — хотя сейчас оно было занавешено тяжелой темно-фиолетовой гардиной, за ней угадывалось некое подобие церковного витража из разноцветных стекол. Хозяин сидел в углу у камина и говорил, говорил — не только ртом, но и глазами, и всем телом, ноги его беспокойно двигались, маленькие толстые руки жестикулировали. Напротив него сидел на своем постоянном месте человек с белым лицом, молчаливый и неподвижный, как прежде, то ли спящий, то ли мертвецки пьяный. Вот хозяин вскочил с кресла, стоит и говорит, и размахивает руками, освещаемый невидимым пламенем камина, вот он выкатил откуда-то круглую кожаную подушку и плюхнулся на нее у ног другого, который по-прежнему ничего не отвечает, хотя бородатый человечек смотрит на него умоляюще снизу вверх и, словно заклиная, протягивает к нему руки. Но нет, тот не отвечает, сидит с отсутствующим видом, откинувшись назад, и как будто прислушивается к чему-то снаружи, кисти рук, белые, точно каменные, застыли на подлокотниках кресла. Симон опять невольно спросил себя, действительно ли эта абсолютно безучастная недвижимая фигура — живой человек, или… но в это мгновение тот наконец открыл рот и что-то сказал.
— Все, больше ни капли, — сказал Томас. — Право же, стыдно за тебя, Габриэль, чтобы ты, с твоими связями, не мог организовать ящик настоящего шотландского виски. Сидишь, глушишь это твое отвратительное пойло из спирта с эссенцией, а хмеля ни в одном глазу, только галлюцинации начинаются: привидения мерещатся, голоса какие-то слышатся. Так и свихнуться недолго, нет, все, больше ни капли. Спокойной ночи, Габриэль, благодарствуй. Пойду к себе наверх. — Произнося эти слова, он уже мысленно видел себя с пистолетом и часами в руках: десять секунд, пять секунд, две секунды, одна… Возможно, думал он, возможно, нынче ночью я на это решусь.
— Нет, нет, Том, не уходи, — сказал Габриэль, хотя Томас по-прежнему сидел и не думал вставать, — мы с тобой так и не поговорили, дружище, дорогой мой дружище, мне необходимо поговорить с человеком… нет, нет, не уходи, — повторил он, кладя руку Томасу на колени, — посиди со мной, Том. Я обязательно опять раздобуду тебе виски, дай только срок. Сейчас слишком опасная ситуация. Настала пора все пересматривать и переделывать. Я заменил своих людей в Стокгольме и порвал все немецкие связи. Не решаюсь больше иметь дело с немцами — после покушения на Гитлера ни одному человеку верить нельзя. — Он покачал массивной головой. — Ох уж это неудавшееся покушение, оно ведь могло бы обеспечить нам разумный мир. Сейчас мы упускаем из рук козырную карту. — В камине громко стрельнуло, головешка выкатилась на пол и пустила струю дыма. — Ладно, пусть война идет своим чередом, — продолжал Габриэль, вскакивая с подушки и хватаясь за каминные щипцы, — победа нам обеспечена. Господи, спаси нас и помилуй. Победим себе на погибель. — Повернувшись к Томасу задом, он укладывал на место головешку. — Куда как просто рассуждать о безоговорочной капитуляции Германии, — он сделал поворот кругом, — ну а баланс, баланс! — Он стоял, потрясая поднятыми к потолку щипцами. — Всякая политика — это в конечном счете вопрос равновесия, — сказал он, — поэтому нам нужно теперь же, не откладывая, нажать на тормоза. Мы не можем позволить себе и дальше проводить различие между друзьями и врагами, — он уселся, закинув ногу на ногу, — сейчас задача сводится к тому, чтобы предотвратить хаос. Нам нужна холодная голова и умение смотреть в будущее, на пять, на десять лет вперед… Через десять лет я буду в могиле, — продолжал он, по-медвежьи раскачиваясь взад и вперед на кожаной подушке, — сердце мое долго не выдержит. Но это не освобождает от необходимости думать. По ночам не спится, лежишь и думаешь, думаешь, вдруг чувствуешь — сердце приостановилось, пропустило удар. Звоночек с того света. И страшно становится. Лежишь у себя в постели, а самому страшно. Что-то будет, если вот так нежданно-негаданно кончишься? Нет, сейчас кончаться никак нельзя. Ответственность за будущее — от нее и смерть не избавит. Да и на кого рассчитывать, если не на себя? На дочь, которая ничегошеньки не смыслит? Господь ее благослови, и не надо, и пусть она ничего не смыслит. Так на кого же?… Ну, конечно, Том, у меня есть ты, ты — единственный… нет, нет, не уходи. Я обязательно опять раздобуду тебе виски, Том. Ты получишь виски, получишь, чего только душа пожелает, все опять появится, все у тебя будет, дай только срок, дай срок. The game is too dangerous just now [26]. Ты слишком много пьешь, Том, — продолжал он без всякого перехода, — это же опасно, ты сам себя губишь. — Он бросил на Томаса доверчивый взгляд поверх очков, выпятил нижнюю губу и с сожалением пощелкал языком. — Ах, Том, Том, этого нам никак нельзя, нас теперь ждут другие заботы. Рекламное бюро, у меня есть планы относительно него, по ночам я лежу без сна и разрабатываю программу большой кампании. Рано? Ничуть, самое время. И вот тут я думаю о тебе, Том. У тебя всегда находятся идеи, ты должен мне помочь. Ты должен стать тем человеком, который в будущем… нет, нет, Том, не уходи, пожалуйста. Смотри-ка, что у меня есть, — сказал он, извлекая из заднего кармана серебряную фляжку, — для тебя мне ничего не жаль. Коньяк, — шепнул он, доверительно подмигивая, — у меня еще осталась пара бутылок настоящего коньяка. Я их берегу, как драгоценное сокровище, коньяк — единственное, что принимает мой желудок. Больше я теперь ничего не пью и к еде почти не притрагиваюсь, ты можешь мне сказать, почему я остаюсь такой же толстый? Врачи говорят, надо вес сгонять, чересчур велика нагрузка на сердце. Но насколько можно верить этим врачам? Я скоро никому не буду верить, ни врачам, ни пасторам. Только тебе, Том, ты — единственный… посиди, не уходи. На вот, возьми себе фляжку, видишь, на этой стороне — мои инициалы: Г. Б., Габриэль Блом. Возьми ее себе, чтобы осталась память о старом Габриэле Бломе. Ну, то есть, когда я буду в могиле. Интересно, в могиле человек обретает покой? Этому-то можно верить? Как ты думаешь, Том, загробная жизнь правда существует? Рюмки, где у нас рюмки? — Он поднялся, по-прежнему держа в руках каминные щипцы. — Ох-ох-ох, посмотрел бы ты сейчас на мой винный погреб — печальное зрелище. И даже те жалкие крохи, что еще остались, у меня крадут, — сказал он и пощелкал челюстями щипцов, — даром что на двери двойной запор, растаскивают все, как воронье. Скоро ни одного человека не найдешь, которому можно верить. Да, мне уж не видать на своем веку винного погреба, — продолжал он, — как его восстановишь, если старых вин из сборов лучших лет не осталось, а новых не будет из-за войны. Этот мир стал малопригоден для житья, а куда мы попадем, когда его покинем? Растет ли в тех местах виноград, бывают ли особо благоприятные для вина годы, есть ли богатые и бедные, будут ли умные и там тоже надувать тех, кто поглупей? Я знаю пастора, который утверждает, будто неравенство существует даже на небесах, но можно ли этому верить? Не нарочно ли он ко мне подыгрывается, чтобы выманить денежки для бедных прихожан? Если у тебя водятся деньги, никому нельзя верить, вот в чем проклятие. Может, и в самом деле нужна революция, может, необходимо все перевернуть вверх дном? Но возможно ли представить себе мир, где умные не будут надувать тех, кто поглупей? Ответь мне, Том, ты ведь у нас такой умный, так много знаешь. Поверь мне, дружище, дорогой мой дружище, — продолжал он, — ты опять получишь виски, получишь все, чего душа пожелает, дай только срок. Да, стало быть, рюмки, — он поставил щипцы, прислонив их к камину, — нам нужны коньячные рюмки. Подожди меня, Том, обещай, что не уйдешь. Нам с тобой надо поговорить, нам еще о многом надо поговорить…
Каминные щипцы, упав, загремели, Томас поднял голову и заморгал глазами. Я, кажется, уснул? — подумал он. А Габриэль куда подевался? Усыпил меня своими речами, чтобы улизнуть наверх? И теперь стоит, подглядывает в замочную скважину, наблюдая ритуальную игру, ритуальный танец двух голых женщин вокруг голого мужчины в кресле? Он напряг слух, пытаясь различить звуки сверху, но мешали шум и гам в столовой. А что, если встать, подумал он, что, если взбежать по лестнице и грохнуть кулаком в дверь, рявкнуть погромче? Подумал — и остался сидеть. Ревную? — спросил он себя. Неужели я ревную?… Он взглянул на свои руки. Они словно жили собственной, отдельной от его, жизнью: побелев от натуги, они стискивали подлокотники кресла. В столовой вновь грянула песня, все та же вечная песня: «Мне плевать, куда я на том свете попаду…», «Женщин всех подряд люби, покуда жив…».
На столе перед ним стояла серебряная карманная фляжка. Коньяк, вспомнил он, Габриэль пошел за коньячными рюмками. Габриэль с его винным погребом, Габриэль с его надеждами, что на небесах будут богатые и бедные, что умные и там будут надувать тех, кто поглупее. Это он когда сказал, только что? Или это было давно, может, это были вообще первые слова, услышанные им при знакомстве из уст Габриэля? А разве было время, когда я не был с ним знаком? — с удивлением подумал он. Было, конечно: в действительности они впервые встретились перед самой войной, на борту парохода, стоявшего в Антверпенской гавани в ожидании последних пассажиров.
Томас закрыл глаза, и воспоминания замелькали пестрой чередой: поток пассажиров, которые день за днем прибывают и заполняют пароход, заполняют каюты, теснятся в салонах, толпятся на палубе, покуривая сигареты и перебрасываясь словами, закусывая и выпивая — в вакууме остановившегося времени, ожидая чего-то ужасного или чудесного, что никак не наступает. В воздухе ни дуновения, тихие и теплые солнечные дни перетекают в тихие и ясные звездные ночи, прилив поднимает корабль вверх вдоль стенки причала, отлив опускает корабль вниз вдоль стенки причала. Проходит слух: мы отплываем, вот-вот отплываем, отплываем через час, отплываем завтра, мы вообще не поплывем, началась война. Маленький чернобородый толстяк сидит за своим постоянным столиком в салоне для курящих, сидит весь день с утра и до вечера, а рядом— его юная белокурая дочь в безукоризненно сшитом светло-сером костюме. На стол беспрерывно ставятся новые бутылки и рюмки, вокруг стола беспрерывно появляются новые лица, все болтают и смеются, а маленький толстяк молчит и отечески улыбается, сверкая ярко-красными губами из-под курчавых усов и черными глазами из-под роговых очков. На набережной у него над головой сутки напролет раздаются крики, топают ноги, скрежещут краны, за стеклом иллюминатора у него над столом солнце застилает белесым маревом порт с его пестрым мерцаньем и угольным дымом. Время от времени слышится басовитый рев мастодонта, гигантские корабли медленно скользят мимо, направляясь в открытое море, флаги всех наций возникают в иллюминаторе и скрываются в солнечной дымке: британский Юнион Джек, американские Звезды и полосы, российские Серп и молот, германская черная свастика на красном поле, японское красное солнце на белом поле. Маленький толстяк провожает их глазами, сидя на своем постоянном месте, задумчиво кивает и молчит. Проходит слух: отбой, войны не будет, немецкая армия взбунтовалась, Гитлер взят под стражу генералами. Гитлеру конец. Маленький толстяк слушает, отечески улыбается и молчит. Лишь во внезапной пустоте тишины, когда смолк всякий шум и замерли все разговоры, неожиданно раздается в салоне его голос:
— Вы заблуждаетесь, дети мои, вы колоссально заблуждаетесь. Через год или два Гитлер завладеет всей Европой, но что из того? — Он поднимает свою рюмку к солнцу в иллюминаторе. — Ваше здоровье, дорогие дети, что до меня, по приезде домой я займусь своим винным погребом. Бывало ль когда, чтобы в мире не пили вина? Кто бы ни проигрывал и кто бы ни побеждал в войнах, кто бы ни правил этим миром, в нем всегда будут пить вино, в нем всегда будут рядом богатство и бедность, ведь умные даже на небесах будут надувать тех, кто поглупее…
— Том, ты не спишь?
— Нет, не сплю.
Габриэль поставил рюмки на стол и налил коньяк из серебряной фляжки, он подбросил в камин дров, сходил за подушкой и подложил ее Томасу под голову.
— Ну вот, теперь тебе будет удобней, — сказал он. — Так на чем мы с тобой остановились? — Он стоял, раскорячив ноги и заложив руки за спину. — Ну да, рекламное бюро. В свое время мы создали его просто так, в шутку — как место, где ты мог дать волю своей веселой фантазии. У тебя были идеи, а у меня связи, так почему их не использовать, зачем платить крупным агентствам за рекламу, которую мы сами можем делать интересней и забавней? Надо тебе сказать, Том, по части забавных выдумок ты мастер, — продолжал он, бросив на Томаса взгляд поверх очков, — ты в своих пародиях, или шаржах, или как уж ты их там называешь, едва не переходил грань дозволенного, чуть ли не на посмешище выставлял все торговое дело. Но люди забавлялись, и, боже ты мой, какое это имело значение: началась война, товары исчезли, так что для рынка сбыта реклама стала всего лишь вопросом сохранения клиентуры. Важно не дать о себе забыть, напоминать людям, что вещи опять появятся. И если все равно нет конкуренции, отчего не позволить себе слегка подразнить конкурентов. Ну а потом появилась возможность подразнить и немцев. Ты и тут, пожалуй, далековато заходил в своем шутовстве, это было совсем не безопасно, тогда ведь никто еще не знал, как все повернется. А с другой стороны, ну что особенного, всегда можно придумать, чем оправдаться, да и немцы попались разумные — те, что сидят в торговом ведомстве, — понимающие шутку. Отчего же не выпустить слегка пар? Боже ты мой, какое это имело значение. Зато люди забавлялись, у людей поддерживался интерес, люди учились следить за объявлениями. Все это теперь пойдет нам на пользу, после войны мы можем рассчитывать на расширение клиентуры. Нет, я не жалею о нашем шутейном бюро, хотя на этом этапе оно мне обошлось недешево. Согласись, Том, я ведь тебе по-царски платил за твои рекламные стишки, хотел бы я видеть знаменитого поэта, получающего такие гонорары. Чего же ради я был так щедр? — Он опять опустился на обтянутую красной кожей марокканскую подушку у ног Томаса. — Ну, разумеется, ты женат на моей дочери, я доверил тебе самое дорогое, что у меня есть; кроме того, ты мой друг, я бы сказал, мой единственный друг. И однако же, Том, деньги это деньги. За них рассчитываешь что-то получить. Не тот я человек, чтобы открывать новое дело при неблагоприятной конъюнктуре и вкладывать в него уйму денег, не имея никакого тайного умысла. Есть у меня планы, Том, обширные планы…
Габриэль согрел в ладонях тюльпановидную рюмку, он приставил ее к носу и понюхал, он обмакнул язык в коньяк и откинул голову назад, он закрыл глаза и пошевелил губами, словно в беззвучной молитве.
— Небесная влага, — сказал он, проглотив наконец капельку с языка, — как ты думаешь, Том, на небесах есть коньяк? Ну-ка пригубь, а потом ответь мне…
Томас осушил рюмку и налил себе новую.
— Ах, Том, — Габриэль покачал головой, — это же кощунство. Мой учший выдержанный коньяк. — Он выпятил нижнюю губу и пощелкал языком. — Ты пьешь чересчур много, Том, ты губишь себя. Уж лучше девочки, — продолжал он, — по крайней мере не промахнешься, да и греха особого, право же, нет. Я люблю тебя. Том, — он устремил на Томаса свой проникновенный доверчивый взгляд из-под очков, — люблю, как родного сына, однако скажу со всей откровенностью: непозволительно тебе губить себя спиртным. Настает время, когда потребуется холодная ясная голова. Ведь теперь мы не шутки шутить будем — нет, Том, игра наконец-то пойдет всерьез. Нас ждет воистину век рекламы. Ты подумай, какой спрос предстоит насытить, в чем только людям не приходилось себе отказывать. Это все красивые слова, что война спаяла нас всех воедино, очистила от мелочности и эгоизма, отучила думать об одних лишь материальных ценностях. Истина, конечно же, как раз в обратном. Люди просто-таки помешаны на вещах, на всех тех вещах, которые им недоступны, на всех тех вещах, которые они вынуждены доставать хитрыми окольными путями, вещи и только вещи у них на уме. Ни о чем другом они думать не могут, ни о чем другом не мечтают. Я не говорю о людях умных, всегда умеющих воспользоваться конъюнктурой, — уточнил он, — не говорю и о весьма редких идеалистах чистой воды, нет, я говорю о людях, составляющих большинство. Им не хватает одежды, обуви и постельного белья, они стосковались по кофе, спиртному и табаку, они мечтают о новых коврах и гардинах, мечтают о машинах и предметах роскоши, все они спят и видят, как бы приобрести те вещи, которых у них нет, те вещи, которые и придают ценность жизни. Вот ты о чем подумай, Том. И подумай опять-таки, сколько всего нового принесла с собой война: новые чудодейственные лекарства, новые материалы — пластмассы, из которых можно формовать что угодно. Голова идет кругом при одной мысли обо всем этом, ночью иной раз лежишь и будто слышишь нарастающий гул в воздухе — ближе, ближе. Разумеется, мгновенно перемены не наступят, на это потребуется несколько лет, что ж, тем лучше. У нас будет время разработать комплексный план всей кампании. В первую очередь надо расширить бюро, надо вдесятеро его укрупнить, надо сформировать штаб из необходимых нам профессиональных художников, техников, фотографов и литераторов, новых людей с новыми идеями. Затем мы должны создать сеть необходимых связей, заинтересовать своими планами влиятельных лиц, нам надо иметь своих людей повсюду, где делаются дела, и прежде всего за границей, в Америке. К тому времени, как расступятся воды, мы должны иметь готовую, сложившуюся организацию. Как только мы всерьез приведем ее в действие, никто уже не сможет составить нам конкуренцию, ибо мы возьмемся за новые задачи, грандиозные задачи, которые никому у нас в Дании и в голову не приходило решать с помощью рекламы. Вся суть в том, чтобы постичь время, в которое живешь. Мы не можем воспрепятствовать развитию, которое будет неумолимо идти в направлении унификации, стандартизации и плановой экономики — всего того, с чем мы сейчас на словах боремся. Да, остановить его мы не можем, но мы можем поставить себя на службу неизбежному, мы можем развернуть свой корабль по ветру. А когда мы вырвемся вперед, когда мы станем незаменимы на рынке, тогда вполне в нашей власти будет превратить рекламу в могущественнейшую силу современности, более могущественную, чем наука и искусство, чем пресса, радио и кино, более могущественную, чем даже политические организации, ибо мы просто-напросто добьемся того, чтобы все эти институты служили совершенно определенным интересам. Будем, так сказать, координировать их деятельность. Все это, разумеется, не одним махом, мы будем двигаться к цели медленно и осторожно, чтобы никто ничего не заподозрил. Если вести себя разумно, не будет заметно никаких перемен. Понятно тебе, к чему я клоню? Том, ты не спишь? Томас с трудом поднял голову и поморгал глазами.
— К нам кто-то идет, — сказал он.
— Пожалуйста, Том, не спи, — Габриэль слегка потряс его за плечо, — ты должен меня выслушать. Говорят, все на свете — политика, что верно, то верно. Только надо понимать, что политика не есть нечто застывшее, она постоянно меняет цели и средства. Мы должны отдавать себе ясный отчет в том, ради чего в действительности ведется эта война. Лозунг один — свобода. Националисты борются за национальную свободу, интеллигенция борется за свободу духа, демократы борются за демократические свободы. Пусть себе думают, что это так, ради Бога, пусть продолжают в это верить. Мы ни в коем случае не должны отнимать у людей их лозунги, наоборот, мы постараемся их использовать, ведь использовать их можно для чего угодно. Но на самом-то деле политика нынче не имеет, разумеется, никакого отношения к свободе и демократии, да даже и к национальным проблемам. Политика — это экономика. Грядущая эпоха станет эпохой международных трестов. Либо так — либо новые формы диктатуры. Казалось бы, это и ребенку ясно. Однако никто не слышит, что петух пропел уже в третий раз. После войны нас ждет полнейший политический хаос. Перед всеми демократическими правительствами встанут совершенно одинаковые экономические проблемы, которых они не сумеют решить, поскольку находятся в зависимости от национальной экономики, обратившейся в род безумия, находятся в зависимости от политических партий, в свою очередь зависящих от мертвых доктрин, унаследованных от мертвого прошлого, находятся в зависимости от прессы, в свою очередь зависящей от среднего человека с его предрассудками. Что бы они ни делали, как бы себя ни называли, социалистами или консерваторами, всем им придется проделать путь одинаковых принудительных экономических преобразований, всеми ими будут манипулировать совершенно одинаковым образом. А результат? Всеобщая коррупция, всеобщее оболванивание, всеобщая политическая усталость. Вся политическая власть постепенно перейдет от народа к учрежденным им же самим организациям. Ну и пусть так будет, ради Бога, пусть все так и останется. Для нас откроется поле деятельности, лучше которого и желать невозможно. Потому что реклама, Том, реклама не связана никакой зависимостью. Она вольна вести игру, сталкивая лбами враждующие стороны, ведь по своей природе она аполитична и интернациональна, ей нет необходимости принимать во внимание что бы то ни было, кроме материальных потребностей человека. Мало-помалу, незаметно для окружающих, мы можем добиться того, что станем организацией, стоящей за спиной всех других организаций. Понимаешь, что я хочу сказать? Ты слышишь, что я говорю, Том? К чему ты прислушиваешься?
— Кто-то ходит вокруг дома, — сказал Томас. — Скоро позвонят в дверь.
— Да пускай звонят. — Габриэль придвинулся со своей подушкой поближе к Томасу и постукал его кулаком по колену. — Том, ну ты понимаешь, что я хочу сказать? Для всякой демократической политики тормозом являются предрассудки простого человека. Искоренить их мы никогда не сможем, так же, как не сможем поднять его на более высокую ступень политического сознания, зато мы всегда можем избрать противоположный путь. В этом убеждает нас и опыт последнего десятилетия. Предрассудки человека зависят от его жизненных привычек, которые в свою очередь зависят от материального положения. С помощью рекламы, с помощью посулов, обещая ему материальные блага, мы можем усиливать его зависимость от материальных благ и тем самым изменять его привычки и предрассудки. И мы обязаны делать это ради него самого, чтобы уберечь его от худших бед. Мы будем не только служить удовлетворению его материальных потребностей, но еще и создавать и формировать их, незаметно для него мы будем направлять его по определенному пути. Как осла морковкой. Если мы освоим игру, если мы постигнем время, в которое живем, то мало-помалу добьемся того, что станем определять, как ему строить свое жилье, как его дому выглядеть изнутри, какого типа женщины должны ему нравиться, что ему считать красивым и что безобразным, что правильным и что неправильным. Мы будем выбирать ему одежду для тела и шляпу для головы, мы будем решать, что ему есть, что пить и что курить, какие лелеять мечты, какие думать думы, какую ему читать газету, за какую политическую партию голосовать. И когда мы этого достигнем, перед нами откроются воистину невиданные…
— Сейчас позвонят, — сказал Томас.
— …воистину невиданные возможности. Разумеется, нужно, чтобы он ничего не замечал, он должен по-прежнему верить, что сохраняет полнейшую свободу, и в известном смысле он ее действительно сохранит. А именно в смысле политическом. Ибо мы никогда не свяжем себя с какой-то определенной партией, наоборот, мы постараемся не допустить, чтобы сильнейшие получили безраздельную власть. Хватит с нас диктатуры, мы насмотрелись, к чему приводит безоговорочная поддержка сильных личностей. Да, мы будем всегда оставаться в тени, не претендуя на политическое господство, но в то же время мы должны быть достаточно сильны, чтобы ни одна политическая партия не решилась всерьез конфликтовать с нами. Пусть нас публично поносят, пусть обвиняют во всех смертных грехах, пусть истошно вопят, что мы ставим палки в колеса прогресса, пожалуйста, на здоровье, лишь бы с нами всегда были вынуждены считаться. Действуя таким образом, мы будем обеспечивать статус-кво, поддерживать политическое равновесие и защищать свободу волеизъявления на выборах. Лозунгом по-прежнему останется свобода. Нам надо не забывать использовать его, нам надо выкрикивать его со всех трибун, втихомолку вливая новое вино в старые мехи. Потому что свобода всегда должна оставаться только видимостью. Истинная свобода приносит лишь несчастья, обыкновенному человеку она не на пользу. Но пусть он верит, что она у него есть, ради Бога. Пусть он свободно входит в кабину для тайного голосования и выбирает ту партию, которая сулит ему максимум материальных благ, пусть он свободно выражает желание иметь конкретные осязаемые вещи, новые вещи, ценные вещи, больше вещей. Есть гарантия, что желания его никогда не исполнятся, и это только к лучшему. Потому что именно работа ради приобретения вещей придает интерес его жизни, именно мечта о вещах делает его счастливым, отнюдь не сами вещи. Поэтому мы должны постоянно держать у него перед глазами образ желанных вещей. И делать это надо ради него самого. Ведь стоит ему возмечтать об истинной свободе, или о правде, или о справедливости, или как там еще зовутся эти ужасные вещи— и все, загубит он свою душу, и никакой дьявол не убережет его от самых кошмарных бед. Тут уж его надуют так, как еще никогда не надували. Ибо в этом лучшем из миров, Том, да и на небесах, меж ангелов господних, умные всегда… Что такое, Том?… Умные всегда будут налу…
— Тише, — сказал Томас.
Габриэль рывком вскочил с подушки. Шум в столовой разом смолк. В воцарившейся чутко настороженной тишине раздались три глухих удара в парадную дверь.
Габриэль поднял вверх обе руки и пошевелил растопыренными пальцами:
— Не уходи, Том, посиди, пожалуйста. Ничего страшного. — Он повернулся кругом на каблуке. — Абсолютно ничего страшного. — И он вприпрыжку, коротконогим аллюром побежал к выходу. — Одну минутку, — бросил он и исчез. — Кто там? — донесся до Томаса его голос из прихожей. С улицы что-то ответили, послышалось звяканье ключей и цепочек.
Томас сидел, наклонившись вперед, упершись локтями в колени и настороженно вытянув голову. Двое мужчин… два незнакомых голоса, потом смешок Габриэля. И на этот раз ничего, подумал Томас и перестал вслушиваться. Который теперь час? Он взглянул на свое запястье — часов не было. Должно быть, он снял их и куда-то положил. Обведя глазами стол, увидел свою рюмку и выпил коньяк. Лучший выдержанный коньяк Габриэля. На вкус как тепловатая водица, как та вода, которую он пил у смертного одра своей матери. Он поставил пустую рюмку обратно на стол. Неужели невозможно напиться допьяна? К чему это Габриэль опять говорил про умных, которые надувают тех, кто поглупей? Он вообще в своей жизни говорил о чем-нибудь, кроме этого? Или он не способен говорить ни о чем другом?
Сколько же можно? — подумал Томас и откинулся назад, принимая прежнюю позу. Он закрыл глаза и задремал. Подбородок опустился на грудь, кисти рук, белые, точно каменные, застыли на подлокотниках кресла.
Симон втянул голову в плечи и пригнувшись добежал до края террасы, перепрыгнул через балюстраду и бухнулся прямо в куст — осторожно, черт возьми! — вскочил и заполз в угол за каменной фигурой. Он скрежетал зубами от ненависти к себе: идиот, как же ты их не услышал, ты заслужил… хватит, прекрати! Он нащупал рукой пистолет.
Нет, они его все-таки не заметили: две пары ног за оградой шагают дальше по тротуару. Но этот дом — последний в ряду, после него дорога упирается в море, — повернут назад или пойдут вдоль берега? Повернули назад. Вот опять приближаются, и вот — вот открылись ворота. Гравий хрустит у них под ногами, идут сюда. Пошли вокруг дома.
Спокойно, а ну-ка спокойно, сказал себе Симон, однако ноги, не дав ему опомниться, самосильно швырнули его тело — его голову — его мысли, как мячик, через газон — к елкам? к гаражу? — нет, слишком поздно, они уже услышали — идиот! — сейчас его настигнут, когда же они выстрелят? «Господи Иисусе!» — вслух сказал Симон и успел на бегу устыдиться своих слов. Ноги между тем несли его к темному проему в белой каменной стене, и, лишь почувствовав под ногами цемент, он понял, что это задний двор, что стена отгораживает кухню и черный ход, — и хотел повернуть обратно, но напоролся на какой-то острый край — звякнул металл, мусорный бак? — уж этого-то они не могли не услышать, однако теперь бежать назад было поздно. И вообще все было слишком поздно. Шаря вокруг руками, он прокрался вдоль четырех стоящих в ряд мусорных баков и забился в угол каменной ограды за последним из них, одновременно сознавая с полнейшей ясностью, что ничего глупее сделать не мог. Теперь он попался, как крыса в ловушку.
Он выжидал, держа пистолет наготове, но все было тихо. Потом, придя в чувство, огляделся по сторонам. Впереди, на некотором расстоянии от него — несколько ступенек, ведущих вниз, к кухонной двери. Он различил свет вдоль края светомаскировочной шторы, совсем близко слышались женские голоса, а подальше — слабое эхо все того же вечного пьяного шума. Но из темноты сада не долетало ни звука. Где же те двое, стоят караулят у входа во двор? Навряд ли. Почему их только двое, а где машина с остальными? Нет, это все-таки не полицаи и не немцы. Может, это были просто двое гостей, вышедших подышать свежим воздухом?
Страх отпустил его напруженное тело, ему стало холодно и стыдно. Боль в ладони опять усилилась. Он медленно опустился на корточки в своем углу, согнул плечи и засунул обе руки под куртку, чтобы хоть немного согреться. Сон одолевал его, он проваливался в глубь времени — и был опять маленький мальчик, запертый отцом в угольном подвале. Он сидит и ждет дьявола, а дьявол никак не появляется, но и его никак не выпускают на волю. Глаза его сомкнулись. «Осторожно, не спать!» — сказал он вслух самому себе, потому что откуда-то послышался колокольный звон, он кругами расходился над миром и замирал, уносясь вдаль. Но какое это имеет значение, если пьяный хохот и пение продолжают достигать его слуха, как отдаленный шум ночного прибоя. Глаза его сомкнулись. «Осторожно, не спать!»— снова сказал он себе, потому что теперь сверху раздался стук, колотили… резиновой дубинкой?… Он чувствовал удары по собственному телу, правда, всего лишь как легкие толчки, ему было не особенно больно. Пытка так пытка, пускай, он выдержит, если только его не запрут в темной яме и не оставят наедине с дьяволом… Или это Бог, может, это руки Бога живого тянутся к нему? Глаза его сомкнулись. «Нет, нет, не спать, — сказал он, — самое главное — не даться им в руки живым, то есть и мертвым тоже, но лучше уж мертвым, нет, лучше живым, нет, ни живым, ни мертвым…» Глаза его сомкнулись. Невозможно, чтобы этой ночью что-то случилось. Он погрузился во мрак забытья, перед глазами стояла картина: Лидия, медленно, очень медленно поникающая лицом вниз, с круглой дыркой в узкой затылочной ложбинке.
— Кто-то стучит в дверь, — сказала женщина.
Она уже зажгла свет и теперь стояла посреди веранды, пудрилась и подводила губы помадой. Мужчина поднял голову и открыл рот, но не успел ничего сказать, потому что волна тошноты подступила к горлу и он стал судорожно глотать слюну. Ну и пусть стучат, думал он, я ничего не слышу, мне дела нет, кто бы ни стучал, мне сейчас важно одно — чтобы меня не вырвало. Он сидел на диване сгорбленный, обхватив свои колени, и неподвижно глядел в пол, стараясь все удержать на месте: руки, и ноги, и внутренности, и плавающие вокруг ярко освещенные предметы. Поднявшаяся из желудка волна улеглась. Он вспомнил об одежде, пощупал, застегнута ли сорочка, потом принялся за галстук, вот что ему сейчас важно — завязать галстук, но нет, с этим разобраться невозможно, и он переключился на туфли, ага, они уже надеты, только шнурки еще не завязаны, так что сейчас важно прежде всего завязать эти самые шнурки, чтобы никто ни о чем не догадался и не поднял его на смех, но когда он нагнулся, пол вдруг подпрыгнул и, звонко шлепнув его по ладоням, отбросил назад — он ударился затылком о стену, и волна тошноты вновь поднялась из глубины живота. Заметила она? Смеется надо мной? — подумал он и бросил взгляд туда, где белый слепящий свет заливал вьющиеся по стенам растения и зеленые деревца в горшках, а посреди этого сверкающего ядовито-зеленой листвою леса красовалась отвратная кукольная мордочка и руки с зеркальцем, помадой и пляшущей пуховкой, и при виде ее волна опять стала подступать к горлу. Он крепко зажмурился, чтобы удержать тошноту, чтобы все удержать на месте, но тут глаза его будто повернулись внутрь головы и он заглянул глубоко в себя, в свое темное чрево с бледными извивающимися кишками, и волна, взметнувшись с неодолимой силой, докатилась до самого рта, так что он ощутил вкус… рыбы?… Это рыба? Или тухлое мясо? Или спирт? Или?… О Господи, рыгнул, да громко! Услышала она? Смеется над ним? Стоит посреди веранды, пудрит себе нос и смеется? У-у, чертова бабенка, ладно, смейся, потешайся на здоровье, а штаны с тебя таки сняли. И не кто-нибудь, а он повалил ее на этот диван и взял. Или он так и не?… И все кончилось тем, что?… Нет, он ничего уже не помнит, только как брякались об пол одна за другой все туфли, и как пояс для чулок с треском разодрался, и потом ее тонкие руки и ноги, белевшие в темноте, и тощие ляжки, и еще запах, этот запах… Он выхватил из кармана носовой платок — вот теперь речь действительно идет о жизни или смерти, — он боролся с тошнотой как одержимый, но одновременно видел, что все уже выплескивается наружу. Он хотел остановиться, старательно глотал, но все продолжало извергаться в платок, и конца было не видно. А в уме мелькало: она заметила, не может не заметить, сейчас пойдет к ним и расскажет, что я здесь блюю, а может, заодно расскажет и про то, что… что я не… Он уже слышал взрыв хохота, оглушительный хохот, несущийся из столовой, с улицы, отовсюду. В голове мелькало: ах ты, пигалица, не больно-то хорохорься, попробуй-ка отопрись, если я скажу, что ты сама сбросила одежду и лежала со мной голая вот на этом диване, а что было дальше — не все ли равно, это уж детали. В голове мелькало: стучат? Она сказала, что стучат в дверь, может, это немцы? О Господи, хоть бы это были немцы, хоть бы случилось что-нибудь ужасное, а обо мне все бы позабыли. В голове мелькало: нет, ничего мне не поможет, я пропал, о Господи, хоть бы умереть! Но когда полегчало, он очень ясно и здраво подумал: ну какое это имеет значение, никакого. Он просто пьян. Сейчас все пройдет, он потихоньку выберется в туалет и утопит свой платок в унитазе, а завтра утром, когда он проснется… Он уже слышал звук льющейся воды и чувствовал аромат мыльной палочки: он стоит в ванной комнате с намыленным лицом, подмигивая своему отражению в зеркале, он приоткрывает узкую щелочку рта в гуще белой пены и говорит самому себе: ну какое это все имеет значение, да никакого.
— Ибо даже на небесах умные будут надувать тех, кто поглупей. — Маленький толстяк не покидал своего постоянного столика, он сидел в салоне для курящих на пароходе в антверпенской гавани, устремив многомудрый взор через зеркальное стекло иллюминатора в солнечную дымку, где флаги всех наций торжественно скользили мимо: разнообразные солнца и звезды, кресты и полумесяцы государств всего мира на пути в родные порты. Его юная белокурая дочь сидела рядом, не притрагиваясь к еде и к питью и не произнося ни слова. И вот пароход наконец отчалил, с палубы по случаю поднятия трапа донеслось дружное многократное ура. Маленький толстяк заказал шампанское. Каким-то образом Томас вместе с другими очутился в его окружении, за столом, прямо напротив дочери. Вблизи она казалась почти ребенком. Не пригубив вина, она тихо сидела, уткнувшись взглядом себе в колени. Посмотри на меня, думал Томас, ну же, посмотри. В конце концов она откликнулась на его мысленный зов, вскинула голову и, встретившись с ним глазами, тотчас вновь опустила их, стала легонько водить рукою по краю стола. Детская ручка, подумал он. Потом он о ней забыл. Или не забыл? Ходил по всему пароходу и, сам того не ведая, искал ее? И нашел на верхней палубе, где она лежала на солнце с закрытыми глазами, держа руку, узкую детскую ручку, на раскрытой книге? Как все было, спала она или нет, разговаривала с ним или по-прежнему хранила молчание? А поздно вечером он стоял у двери в ее каюту, вслушиваясь в доносившиеся оттуда звуки, в тихий и жалостный детский плач, — или этого не было? Он не знает. Ночь выдалась очень теплая, ему не спалось; не улежав в постели, он оделся и пошел бродить: карабкался по множеству лестниц, проходил через множество помещений, заполненных сидящими, лежащими, спящими людьми, осторожно пробирался по палубе между многочисленными распростертыми на ней человеческими телами, которые метались и стонали в беспокойном сне; он прошел на нос корабля, где сидел у включенного прожектора человек, выискивавший в море первые мины, он прошел на корму и стоял смотрел на звездное небо, следил глазами за оставленной кильватерной струей полоской, тянувшейся к берегу с его редкими далекими огоньками. Наконец его осенило: он понял, для чего он там стоит. Страх исчез, как тень, он чувствовал себя невесомым и бестелесным, чувствовал себя полностью свободным и тихонько смеялся во тьме, взбираясь на поручни, он занес уже ногу на самый верх. Всё, подумал он и…
Почему он не прыгнул? Когда он увидел ее? Лишь в самый последний момент? Он не слышал, как она подошла, ни с того ни с сего она оказалась возле него. «Взгляните», — сказала она, указывая вниз. Долгое время они стояли рядом, ничего не говоря, не глядя друг на друга; перегнувшись через поручни, они созерцали фосфорическое свечение ночного моря. Когда он наконец украдкой посмотрел на ее лицо, оно блестело от слез, и не успел он вымолвить слово, как она кинулась к нему на грудь. Спрятав лицо, она долго беззвучно плакала, только волосы да плечи чуть заметно вздрагивали, а потом он зажал в ладонях ее голову и стал целовать мокрые глаза, и щеки, и губы, и она не противилась. Под конец он уже не знал, кто плачет, она или он сам, лишь чувствовал во рту соленый вкус и видел, как мерцают звезды на небе, ее белое лицо словно скрылось в тумане. Теперь она как будто улыбалась ему, но когда он хотел что-то сказать, она отрицательно покачала головой. Взяв за руку, она оторвала его от поручней и увела в темный угол, где никто не мог их увидеть, они забились туда вдвоем, как дети, которые спрятались от взрослых. Заметив, что она дрожит от холода, он снял свою куртку и укутал ее, застегнул все пуговицы, он долго сидел, держа ее на руках и крепко прижимая к себе, но всякий раз, как он пытался что-нибудь сказать, она отрицательно качала головой.
«Взгляните», — сказала она ему, стоя у поручней и указывая на ночное море с его фосфорическим свечением. Вот и все, что он от нее услышал, единственное слово, затерявшееся в слезах. Догадалась ли она, когда увидела его, чего он хотел, для того ли подошла, чтобы удержать, или одно и то же общее желание свело их обоих в одном и том же месте? Он не знает этого и не узнает никогда. Произошло ли это с ним наяву или только пригрезилось во сне? А сейчас, в этот миг, в этом тумане пустых слов, и звуков, и мелькающих лиц, бодрствует ли он, заглядывая в позабытую явь, или спит и видит во сне давнюю грезу? Он послал свой вопрос в ночную тьму и услышал ответ: отдаленные звуки тихого безутешного плача. Он изо всех сил старался открыть глаза, он тряс незримую решетку, ведь сейчас это важнее всего на свете, сейчас это вопрос жизни или смерти — вовремя поспеть, чтобы унять бессмысленный плач…
— Том, ты спишь?
— Нет, я не сплю.
— Одну минутку.
Распрямившись в кресле, Томас успел лишь увидеть, как блеснули атласные полосы на черных брюках прошедшего мимо Габриэля. Вон он трусит через большую гостиную, вон остановился в зимнем саду и поправляет гардину. «Пустяки, — слышится оттуда его голос, — совершеннейшие пустяки. Не обращайте внимания, дети мои». Платье цвета морской волны торопливо скользнуло в столовую, где свет и шум, мужская фигура без пиджака медленно, деревянным шагом проследовала через холл и исчезла за дверью в прихожую. Что он такое прятал в руках?
— Пустяки, разумеется, — сказал Габриэль, который опять уже стоял перед камином, — просто двое из караульной службы. Светомаскировка была не совсем в порядке, вот они и зашли предупредить. Похоже, сегодня ночью здесь какая-то заваруха. — Он подбросил в огонь дров. — Полицаи разъезжают по дорогам, не дай бог, заметят свет — пальбу открыть могут, с них станется. А все от страха, чертяки несчастные. И с гестапо, между прочим, та же история, — добавил он, поворачиваясь к Томасу, — поэтому никогда не надо давать себя запугать. Важно только знать какое-нибудь имя, которым их при случае можно огорошить. Den Herrn Mannteufel will ich anrufen, — он поднял трезубую кочергу к потолку, — der ist mein guter Freund. Ach, Sie kennen den Mannteufel nicht? — Он бросил на Томаса угрожающий взгляд поверх роговых очков. — Sie sollen ihn kennenlernen! Was, Sie lachen? — Он приставил трезубец к груди Томаса. — Sie sollen bald gar nicht lachen! [27] Фокус-покус. — Он снял очки и отвел их в сторону. — Кеinе Hexerei nur Behändigkeit [28], — он снова водрузил очки на нос. — Говорят, ну что может значить имя. Имя может значить все. Том, ты спишь?
— Нет, я не сплю.
— Так на чем бишь мы остановились? — Габриэль плюхнулся на свою подушку. — Ну да, реклама, — он опять вскочил, — реклама, Том. И в наше время есть люди, отстаивающие деловую рекламу, честную рекламу. Что ж, честь им и хвала, когда речь идет о таких вещах, которые могут быть измерены и взвешены, о таких вещах, как станки и приборы. Техника есть техника, товар должен отвечать своему назначению. Но ты подумай обо всех тех вещах, которые должны отвечать человеческим мечтам, — сказал он, расхаживая взад и вперед, — утолять человеческое тщеславие, человеческое честолюбие, человеческую ненасытность. Человеческий страх, наконец. — Он остановился перед Томасом, раскорячив ноги, он покачивался на носках и держал трезубую кочергу за спиной. — Сюда относится практически все, что можно купить за деньги, — продолжал он, — начиная с зубной пасты и медикаментов и кончая автомобилями, домами, мебелью, картинами. Что такое, по-твоему, эти вещи, если не символы иррациональных мечтаний? Мечтаний о величии и власти, мечтаний о романтике и красоте. Я знаю, что ты мне скажешь: это несчастливые для человека мечты, они обречены на вечное крушение, не имеют ничего общего с реальностью. Но что называть реальностью, Том, когда дело касается людей? Ответь-ка мне на этот вопрос, ты ведь у нас такой умный. Я уже старик, — сказал он, глядя на блестящие покачивающиеся носы своих туфель, — усталый больной старик, и мне день ото дня становится ясней, что смерть — вот единственная истинная реальность. Но можно ли сказать такое обыкновенному простому человеку? Можно ли прийти к нему с религиозной проповедью веры как единственно насущного блага? Или с политической проповедью общественной солидарности как человеческой реальности? И надо ли пробуждать его от сна, открывая реальность, недоступную его пониманию и способную лишь толкнуть его в объятия самых ужасных бед? Нет, пусть он, во имя всего святого, сохранит свою веру в вещи как истинную ценность, пусть он лелеет свою мечту о новых вещах, о лучших вещах, о множестве вещей. Она не сделает его счастливым, это правда, но любые другие устремления могут сделать его лишь еще несчастливей, привести к разладу с самим собой. Уж на это-то мы насмотрелись. Вот почему мы должны пустить в ход все средства, какими располагает реклама, чтобы он укрепился в своей мечте. И делать это нужно ради него самого. Мы должны убеждать его текстом и иллюстрациями, что все человеческие чувства непосредственно связаны с вещами, неотделимы от вещей. Почет и власть измеряются в вещах, достоинство и самоуважение личности зависят от вещей, любовь к отечеству, к природе, к женщине — все выражается через вещи, вещи и еще раз вещи. Мы, в сущности, давно идем по этому пути, но надо последовательно идти по нему до конца. Даже мечту человека о загробной жизни мы должны сделать конкретной и осязаемой, обставить множеством вещественных подробностей. Не успеет он, почив, сомкнуть очи, как проснется обладателем всех тех вещей, которых напрасно домогался при жизни. И вот уже он в самом большом и дорогом автомобиле раскатывает без ограничения скорости по небесным дорогам, в окружении улыбчивых пейзажей с непременной грядой синих гор вдали. Он находит себе точь-в-точь такое жилье, какое жаждал иметь при жизни, устроенное со всем мыслимым комфортом и роскошью: загородную виллу в райском уголке, или горный замок с зубцами и башенками и с великолепным видом на море, или дворец с колоннами и мраморными лестницами в одном из крупных небесных центров — в зависимости от желаний и потребностей. Он может удовлетворить любые свои желания, ведь в его распоряжении неограниченные средства. Он заходит в фешенебельные магазины и покупает все вещи, какие ему только приглянутся, — отчего не доставить ему радость приобретения, радость обладания? Он сидит в первоклассном ресторане, вкушая изысканные блюда и попивая благородное вино, а перед ним сидит девушка его мечты. Ты только представь себе это зрелище, Том. Она прекрасна, как мадонна, и в то же время — воплощение всех женских совершенств, на ней вечерний туалет-мечта, она купается в лучах розового света, и глаза ее обещают ему блаженство. Нет, Том, ты пойми меня правильно, — сказал он, бросив на Томаса доверчивый темный взгляд из-под роговых очков, — не надо воспринимать это как кощунство. Но, спрашивается, зачем превращать небеса в скучное место, где праведники знай себе слоняются в длинных белых одеждах, размахивают пальмовыми ветвями и поют аллилуйю, зачем отвергать многоцветье и праздник, все то, что связано с отношениями полов? Неужели все плотское надо отдать на откуп преисподней? Там есть котлы с кипящей смолой и раскаленные щипцы, там корчится в страшных муках плоть, так отчего терзаниям плоти не должно противостоять блаженство плоти? Ведь сказано же в Писании, что мы воскреснем во плоти. Ты усмехаешься, Том. Дескать, если довести эту мысль до логического конца, то обывательские небеса обернутся адом. Но кто сказал, что при восхождении по небесной лестнице человек не проходит несколько ступеней? В Писании говорится: «В доме Отца Моего обителей много». Так отчего же не быть и обители для нищих духом? Отчего не допустить, что небесные мечтания обыкновенного человека содержат в себе долю правды, ту долю, которая доступна его пониманию? Кто сказал, что он не будет вознесен в более высокую, духовную сферу, после того как пресытится материей с ее вещественными благами и в полной мере изведает тщету вещей? Ведь все в воле Божьей, разве не так?… Ну возьми меня, я старый больной человек, — тут он широко раскинул руки, словно обнимая весь дом, — вещными ценностями я сыт по горло, моя мечта — это келья с кроватью и столом, но и я не рискнул бы утверждать, что обыкновенный простой человек, перейдя в мир иной, не будет окружен всеми теми бесчисленными вещами, о которых он напрасно мечтал в этом мире. Возможно, ему просто необходимо побыть их владельцем, прежде чем он окажется способным к постижению чего-то более возвышенного. Церковь сулит ему блаженство, если он будет следовать ее заповедям, но она не способна дать ему ясное представление о том, в чем же заключается состояние блаженства. Фанатики из Внутренней Миссии грозят ему костром и геенной, дурацкие секты со всего света, как воронье, рвут на части его грешную душу, а теологи высокопарно разглагольствуют о духовных материях, лежащих далеко за пределами его разумения. В действительности он только нас и дожидается. Не в том смысле, что мы выступим в поддержку какой-то новой секты, Боже упаси, мы будем всегда опираться на официальное христианство, но это должно быть христианство, понятное обыкновенному человеку. Христианство из плоти и крови. Ты усмехаешься, Том, хочешь сказать, дескать, есть предел тому, во что можно заставить обывателя поверить. А я тебе ручаюсь, что он поверит во все что угодно. Это урок, преподанный нам Гитлером, это урок, преподанный войной. И раз человека все равно оболванивают, так уж лучше пусть это будет легкое и безболезненное оболванивание, которое всем нам только во благо. Церкви сейчас пустуют, а мы их снова заполним людьми. Мы используем волну религиозного подъема, которого следует ожидать после войны, мы позаботимся о массовых встречах прихожан с проповедниками, похожими на нормальных людей и умеющими просто и доходчиво говорить о воскресении плоти, мы будем оказывать им всяческое содействие с помощью прессы, радио и кино, мы обеспечим гигантских размеров рекламные объявления во всех популярных газетах, которым поэтому будет выгодно поддерживать наше дело. Ты усмехаешься, думаешь, это неосуществимо? Я тебе гарантирую, что это осуществимо. Оркестр уже настроил инструменты, он ждет лишь взмаха дирижерской палочки. Разумеется, в одиночку нам с задачей не справиться, но это — как снежный ком: стоит нам его слепить, стоит ему только покатиться, как все силы, стоящие на страже общественных устоев, ринутся его подталкивать. Нам не понадобится даже ни к кому обращаться, не понадобится ни с кем вступать в контакт, это произойдет само собой, автоматически. Все можно сделать с помощью пропаганды, это продемонстрировал нам Гитлер, это продемонстрировала война, даже самая черная ложь в конце концов становится правдой, если выкрикивать ее достаточно громко и повторять достаточно часто. Вещам присуща внутренняя логика, раз машина существует, она требует применения. Так отчего не применить ее для пропаганды такой религиозной веры, какая действительно нужна человеку? И отчего не увязать пропаганду загробной жизни плоти с рекламой всех тех вещей, которые имеют к плоти непосредственное отношение? В нашей власти добиться того, чтобы человек, образно говоря, брал с собой вещи в могилу, — впрочем, почему бы и не в буквальном смысле, лишь бы это по-прежнему называлось христианством. Чем прочнее мы сумеем укоренить в людях веру в значение вещей, тем лучше. Напрасно ты усмехаешься, Том, я тебе гарантирую, что это осуществимо; в противном случае за дело возьмутся другие и используют машину для гораздо более ужасных целей. Но мы будем учиться на опыте и двигаться вперед осторожно, для начала совсем медленно, обыкновенный человек не должен замечать никаких существенных перемен. Вера в загробную жизнь плоти мало-помалу войдет ему самому в плоть и кровь, незаметно проникнет в привычный для него быт, в привычную жизнь, в привычное сознание. Ведь в основе всего лежат просто-напросто привычки, уж на это-то мы насмотрелись. Под конец эта вера станет необходима ему, как воздух, превратится в самоочевидную истину, не вызывающую более ни малейшего сомнения. Я тебя все еще не убедил? Не убедил, я же вижу, о чем ты думаешь: вера укрепляется лишь в противоборстве, никакая вера не может жить без борьбы. Но и это тоже предусмотрено. Антихрист у нас как был, так и есть. Страх как был, так и есть в этом мире. Ибо не следует забывать…
Симон вскочил на ноги еще до того, как звук достиг его слуха. Дверь открылась, свет взметнулся над задним двором, дверь захлопнулась. Громыхнуло ведро, девушка взбежала наверх по каменным ступенькам и направилась к мусорным бакам. Симон воззвал к небесам: пусть она выберет тот, что подальше от него. Он приказал руке, сжавшей пистолет, остаться под тужуркой, он съежился у себя в углу, втянул голову в плечи и не поднимал глаз. Господи Боже, сделай, чтоб она меня не заметила, взмолился он, устыдившись в душе. Он стоял и ждал новых звуков: вот… вот сейчас щелкнет крышка бака… из ведра посыплется мусор… крышка захлопнется… — нет, звуков не было. Никаких звуков не последовало. Стояла полнейшая тишина. Самое ужасное, как всегда, оказалось правдой.
Он ничуть не удивился, когда, подняв голову, увидел прямо перед собой лицо девушки. Она стояла так близко, что достаточно было протянуть руку, чтобы до нее дотронуться. Он видел ее, словно при свете ясного дня: большое темное пятно на белом халате, полуоткрытый рот с толстыми бледными губами, черные омуты глаз, заполненные слепым ужасом. Сейчас закричит, завопит, думал он, Господи, сделай, чтоб она не завопила. Но вопля не было, никакого вопля не последовало. Она стояла с ведром в руке, ведро чуть слышно дребезжало, рука не могла отцепиться от дужки, горло ее не могло выдавить крик. Немой ужас девушки накатился на него, как черная волна, как сама ожившая, всколыхнувшаяся тьма. Он думал: не трусить, ради Бога, не трусить, она завопит, если заметит, что ты трусишь. Он думал: спокойно, а ну-ка спокойно, бояться ее нечего, молоденькая девушка, совсем еще ребенок. Он думал: пистолет, нельзя, чтоб она увидела пистолет. Но слишком поздно: пистолет сам собой вылез наружу. Смешно, думал он, неужели я способен угрожать пистолетом ребенку, что может быть смешнее, чем два человека, которые не смеют шевельнуться или слово сказать от страха друг перед другом, но она-то все равно считает меня убийцей, детоубийцей, который грозит ей комично наставленным в упор пистолетом, чтобы принудить к… Эта мысль новой волною ужаса перекатилась от него к ней, а от нее — обратно к нему. Он думал: если она так и будет видеть во мне убийцу, если мы так и будем стоять здесь, точно два затравленных, онемевших от ужаса друг перед другом зверя, то как бы это не кончилось тем, что я действительно… мне действительно придется… И тут черная волна словно разом захлестнула их обоих, превратила их в единое существо, единый воплощенный ужас, который все нарастал и нарастал, но он не сдавался, он отчаянно боролся, он говорил не переставая, без слов, без звуков, не понимая уже сам, к кому он обращает свою речь: не надо, ну не надо, не бойся же ты, ведь я не желаю тебе зла, я такой же человек, как ты, я несчастный человек, которого преследуют, человек, попавший в беду…
Медленно, очень медленно выскользнуло ведро из ее руки. Вот оно упало, вот загремело, ударившись о цементное покрытие двора. Он увидел белый блеск в ее глазах, увидел, как губы ее задрожали, раздвигаясь все шире, и одновременно услышал собственные слова, собственный быстрый напористый шепот: «Молчи, черт дери, заткнись, черт тебя дери, а не то я выстрелю…»
— …ибо не следует забывать, Том, — Габриэль, приподняв зад, пододвинул красную подушку поближе к Томасу, — не следует забывать, что страх всегда был необходим людям. Он просто-таки является условием их существования. Если человек утратит страх перед сверхъестественными силами, он начнет страшиться самого себя, а это ужаснее всего на свете, ужаснее самого ада. Поэтому мы должны поддерживать в людях священный огонь и не должны забывать об острых шипах и раскаленных щипцах. Я имею в виду не религиозную веру в преисподнюю: мучений плоти в загробном мире мы касаться не будем. И отнюдь не потому, что трудно или невозможно заставить людей поверить в адские муки — люди готовы поверить во что угодно, но все это стало выглядеть слишком безобидно, слишком, так сказать, гуманно, даже сам князь тьмы, Сатана, постепенно превратился в комическую фигуру. Нет, пусть погибель зовется погибелью и пусть люди вкладывают в это слово, что хотят, вечную пустоту, вечный мрак. Этого достаточно, более чем достаточно. — Он беспокойно заерзал на своей подушке. Поднялся на ноги. Передернул плечами. — Дует откуда-то, — сказал он, — я что-то мерзну. Тебе не холодно, Том?
— Нет, мне не холодно.
— Так на чем мы остановились?… Ад. Надо, чтобы ад существовал здесь, на земле, — продолжал Габриэль, плюхаясь опять на подушку, — он должен просто-напросто идентифицироваться с теми идейными и политическими силами, которые отвергают Бога. Я имею в виду не только коммунизм, но вообще весь социализм и радикализм, а если на то пошло, так и либерализм, и гуманизм, и пацифизм, и как уж они там все называются. Да плюс различные «измы» в области науки и искусства. Все это вместе мы должны объединить под одной общей вывеской — как явления, имеющие одинаковое происхождение, мы должны, не мудрствуя лукаво, объявить их силами зла. Когда опасность грозит самой первооснове, по необходимости приходится прибегать к упрощению. Запретить их, разумеется, нельзя — боже упаси, мы никогда не должны ничего запрещать, — но после того, как мы утвердим веру в загробную жизнь плоти, можно будет развернуть против них религиозную пропаганду. А остальное мы спокойно предоставим довершить здоровому народному чувству нетерпимости. Пусть популярная пресса рассказывает читателям, как приспешники зла в варварских странах питаются зажаренными на вертеле младенцами и увеселяют себя убийствами, изнасилованиями и мужеложством, пусть она клеймит позором наших отечественных радикалов как шпионов и изменников, как пособников Сатаны — никакой беды от этого не будет, лишь бы только им не наносили телесных повреждений. Никто и никогда не должен подвергаться физическому насилию, даже в тюрьму они не должны попадать за свои убеждения. Их следует тихо и мирно принудить к молчанию, так сказать, незаметно для них самих. Ибо надо помнить, что мы ведь ставим своей целью именно борьбу против насилия и физического террора, мы призваны защищать дело свободы. Право каждой человеческой личности свободно распоряжаться собой и своим имуществом. Потому что ни о какой другой свободе речь идти уже не будет. Мы должны понять, что время не остановишь. Мы можем повесить Гитлера на его собственных кишках, но мы не можем перевести стрелку часов мировой истории назад. Экономический либерализм отжил свой век. А следовательно, на деле приходит конец политической демократии, и, следовательно, автоматически исчезает то, что мы понимаем под свободой духа. Мы ни в коем случае не должны публично это признавать, боже упаси, и мы постараемся сделать переход настолько мягким, что его никто не заметит, однако надо смотреть правде в глаза. Мы должны поставить себя на службу неизбежному. Поэтому недостаточно держать перед глазами обыкновенного человека образы его грез и мечтаний, одновременно мы должны стать для него незримой угрозой, притаившейся за спиной, угрызениями совести, страхом, живущим в его душе, который мешает ему остановиться и оглянуться назад. Обрати внимание…
— Ты не потаскушка немецкая, верно ведь? Ты датская девушка? — Симон поморщился: дурацкие слова, но ему необходимо ее разговорить, она должна открыть рот и хоть что-нибудь сказать. По-прежнему ни звука, молчит. Если она так и будет стоять, стуча зубами и сверкая белками глаз, то он не ручается за… Просто нет больше времени. На кухне ее того и гляди хватятся. Он сунул пистолет в кобуру.
— Как тебя звать? — Рут.
Наконец-то живое слово. Глаза, оторвавшись от него, смотрят вниз, на упавшее помойное ведро.
— Давай-ка, Рут, нам надо поторопиться. — Он поднял ведро и вытряс содержимое в бак. Громко стукнул ведром о край бака. Подобрал руками просыпавшийся наземь мусор и кинул туда же. Захлопнул крышку. Начав действовать, он почувствовал себя лучше, голова заработала четко и ясно.
— Сколько тебе лет, Рут?
— Сем…наддать.
— Тогда ты все поймешь, послушай, что я тебе скажу. За мной гонятся немцы. Мне надо скрыться, чтоб они меня не поймали. Понимаешь, Рут?
Она не ответила. Он слышал ее прерывистое дыхание.
— Ну-ну. Не бойся. Бояться тебе нечего. Ты просто должна мне помочь. У тебя тут есть своя комната?
Она покачала головой.
— А где ты живешь?
— У ма… с мамой.
— Ну да, но где? Впрочем, неважно. А где ты спишь, сегодня-то ты будешь спать здесь? Неважно. Ты знаешь кого-нибудь из прислуги, кто живет в этом доме? И на кого можно положиться? Подумай, но только поскорей.
Она подняла на него глаза. Лицо просветлело.
— Мария, — сказала она.
— Ты хорошо знаешь Марию? У нее своя комната? Считаешь, мы можем на нее положиться? Она на нашей стороне? Прекрасно. Теперь слушай меня внимательно. Ты ни одному человеку не скажешь, что видела меня здесь. Только Марии. Попросишь ее выйти сюда. Остальные ничего не должны знать. И ничего не должны заметить по твоему виду. Ты поняла, Рут? Тогда беги поживей. На вот, возьми ведро.
Она кивнула. Она уже была на пути к спуску в подвал. Симон бросился за ней, схватил за руку.
— Рут! Ты знаешь, что будет, если… если ты не… — Идиот, сказал он себе, потому что они стояли совсем близко к лестнице, а кухонная дверь была закрыта неплотно, через нее проникали снизу свет и голоса, и тут девушка опять начала… — Ну-ну. Перестань, — быстро прошептал он. — С тобой ничего не случится, я обещаю. А что такое гестапо, ты знаешь. Знаешь, на что они способны. Если сцапают меня, потом могут сцапать много других. Представляешь, если по твоей вине… — Он уже проклинал себя, потому что дыхание ее участилось, стало неровным, как у ребенка, который вот-вот расплачется. — Рут! Не бойся. Ты должна мне помочь, ну подумай сама. Представь, что твоего брата или твоего жениха вот так… (Да заткнись ты, идиот!) Ну все. Иди. Поживей. Смотри, чтоб они ничего не заметили.
Он постоял в нерешительности, глядя вслед девушке, которая спускалась по ступенькам. Дверь за нею закрылась. Тогда он опять отошел к стене и настороженно прислушался. Все оставалось как прежде. Те же голоса, те же звуки. И однако ему чудилось, что кто-то плачет — далеко, в глубине дома.
«Законченный идиот, — шепотом сказал он себе, — вручил свою судьбу распустившему нюни ребенку. Да ладно бы еще только свою… Надо же было столько выболтать. Ты заслуживаешь пули».
Лицо его задергалось. «Неужели нет ни одного человека? — беспомощно бросил он в пустоту ночи. — Должен же найтись взрослый человек?…»
— Обрати внимание на то, как другие умело берут на вооружение иррациональный страх. Даже у нас в Дании, Том, есть взрослые люди, которые верят, что магический глаз гестапо проницает сквозь каменные стены. Я знаю людей, которые накрывают телефонный аппарат грелкой для чайника, прежде чем начнут шептаться в соседней комнате. Многие не то что говорить — думать не смеют так, как им думается. Слухи об ужасах действуют сильнее реальных ужасов. Разумеется, мы далеки от мысли перенимать методы немцев, но поучиться у своих врагов не вредно. Страх перед сверхъестественными силами, как ни крути, необходим нормальному человеку, он держит его в состоянии равновесия, он ограждает его от худших зол, позволяет чувствовать себя в относительной безопасности. А чувство безопасности для него важнее всего, куда важнее свободы. Поэтому надо, чтобы человек демократического общества научился испытывать страх перед собственной демократией, мы должны создать институт, заменяющий диктаторские средства устрашения. Не для того, чтобы человек думал, будто мы желаем ему зла — мы никому зла не желаем, но пусть он думает, что нам известна вся его подноготная. Этого достаточно, чтобы оказывать на него мягкое безболезненное давление, которого он в действительности и не заметит — он ничего не должен замечать, просто у него будет ощущение, что есть некое всевидящее око и все-слышащее ухо, от которого ничто не укроется. А остальное мы предоставим довершить его собственной фантазии. Мы будем продвигаться к цели медленно и осторожно, для начала наше рекламное бюро пустит невинный боковой отросточек: отдел изучения рынка. Он займется анализом доходов, потребления, материального положения, покупательского спроса различных социальных слоев. Такого рода исследовательские системы существуют давно, но они недостаточно эффективны. Их данные носят исключительно поверхностный характер. Может ли врач составить представление о пациенте по его температурной кривой? Так отчего бы не предпринять исследование, которое действительно копнет в глубину? Кто нам мешает шаг за шагом составить обширную картотеку, регистрирующую всевозможные человеческие привычки? Как люди живут и работают, едят и пьют, любят и спят, на что они надеются и чего боятся, какие вещи хотят приобрести, с какими другими людьми общаются, каковы их суждения о деньгах, об общественном устройстве, о религии, эротике и так далее и тому подобное. Это гораздо проще, чем тебе кажется. Разумеется, невозможно завести отдельную карточку на каждого индивида, но у нас будет представительный выбор, практически адекватно характеризующий все население. Единичные явления мы в этой связи учитывать не будем, верхами и социальным дном нам тоже незачем заниматься, нас интересует средний человек. Первичные сведения мы будем добывать самыми разными способами, и прежде всего имея своих агентов на крупных предприятиях, в местах увеселения, в поездах и трамваях, повсюду, где есть скопления людей. Когда наберется достаточно сырого материала, мы произведем отбор: просеем, рассортируем, распределим по группам и категориям. И, выделив наиболее типичное, дальше поведем работу только с ним, возьмем определенное число людей — которых, конечно, время от времени надо заменять новыми группами — и будем следить за каждым их шагом, за каждым предпринимаемым ими действием. Это далеко не так трудно, как тебе кажется. При всех различиях между людьми привычки у них в основном одинаковые, хотя и выступают в виде множества различных комбинаций, а привычки — они определяют все. Привычный образ жизни, привычные мысли, привычные желания, привычные мечты — их уяснение позволит нам уяснить себе саму структуру, найти общий знаменатель нашей картотеки, нашего реестра. Это тоже далеко не так сложно, как тебе кажется, и наверняка может быть сведено к очень простой схеме. Не забывай, что общественное развитие идет в направлении все большей нивелировки средних слоев населения, а главное, не забывай, что мы и сами будем в состоянии оказывать влияние на эту тенденцию. Продолжая расширяться, наше рекламное бюро пустит еще один боковой отросток: отдел всякого рода пропаганды. Зачем отдавать пропаганду на откуп другим, если она естественным образом вписывается в нашу компетенцию? Пропаганда — дело экспертов и технических специалистов, она должна строиться по совершенно определенному шаблону, отвечающему привычным представлениям среднего человека, знать которые благодаря реестру будем только мы. Понимаешь, к чему я клоню? Руководствуясь данными реестра, мы будем иметь полную возможность с помощью рекламы и пропаганды способствовать усилению нивелировки общества, просто-напросто поддерживая все элементарное, типическое, общепринятое за счет сложного, индивидуального, самобытного. Соратников искать не придется, они сами объявятся и помогут нам в борьбе. Продвигаясь дальше по этому пути, мы сможем создать новый отдел — изучения общественного мнения. Он будет работать на совсем ином уровне достоверности, чем старые гэллаповские институты, ибо тоже будет основываться на данных реестра, который, собственно, сам и представляет общественное мнение. Ты подумай, что это будет значить, если мы с почти математической точностью сможем прогнозировать результаты выборов. В народе пойдут разговоры об организации, стоящей над всякой политикой и обладающей некоей таинственной властью, а мы не будем торопиться с опровержениями, ведь такого рода слухи лишь помогут окружить наш реестр ореолом непогрешимости. Политические деятели кинутся к нам в надежде получить поддержку своих партийных программ, а мы неизменно будем проявлять готовность к переговорам с ними и оказывать им поддержку в той мере, в какой их поддерживает наш реестр. Но не более того. Реестр по-прежнему останется организацией вне политики. Он никогда не должен стать орудием в руках политической партии, он никогда не должен оказаться под властью сильной личности. Реестр не будет ни служить, ни угрожать чьим-либо интересам, он будет оказывать воздействие лишь самим фактом своего существования. Пусть организация постепенно разрастается, пусть самые разные люди добровольно поставляют нам нужные сведения, не грех, если дело дойдет до того, что у всех будет ощущение тотальной слежки со стороны всех. Что ж плохого, если мы нейтрализуем сплетни и используем их для разумных целей? Нам не составит труда построить разветвленную систему с подчиненными центру филиалами, отсортировывающими существенное от несущественного. Разумеется, сам реестр будет неизбежно становиться все более обширным и сложным, но можно вычленить из него особые подразделения при центральном реестре, которые будут фиксировать все и всяческие изменения и движения, происходящие в общественном организме. Над этим придется поломать голову, но задача вполне разрешима, на то и математические мозги экспертов. И пусть механизм разрастется до такой степени, что ни одна живая душа не сможет обозреть всю картину в целом, — тем лучше. Даже высшие деятели высшего управления реестра должны быть не более чем функционерами, работающими на систему. Они лишь слуги реестра, никоим образом не его хозяева. Реестр управляет собою сам. Что красиво и что безобразно, что хорошо и что плохо, что есть ложь, что есть правда — определяет реестр. Задача пропаганды — лишь следовать его указаниям. Таким образом, круг замкнулся: мы создали самодействующую, саморазвивающуюся тоталитарную демократию. Организацию, стоящую за спиной организаций, машину, стоящую за спиной партийных машин. Мы достигли максимально возможного приближения к природе. Ты понял мою мысль, Том? Прообразом всякой созданной человеком техники является природа, даже самая хитроумная машина — всего лишь грубое подражание живому организму. Наша машина станет копией самого жизненного начала, явится, если угодно, олицетворением воли Всевышнего, создавшего человека. Ты слушаешь меня, Том? Понимаешь, что я хочу сказать? Надеюсь, ты не спишь? Право, Том, зря ты усмехаешься, зря ты так на меня смотришь. Я не фантазер. И не страдаю манией величия. Я всего лишь человек, Том, одинокий и…
«…Я всего лишь человек, не могу я больше. Пора нам что-то делать. Слишком много прошло времени». — «Перестань, с чего ты это взял? Может, всего две минуты и прошло. Ты же знаешь, в нашем положении трудно реально судить о времени. Может, она не сразу сумеет поговорить с другой прислугой. Та могла выйти из кухни. Надо подождать. И не терять головы. На карту поставлена не только твоя ничтожная жизнь». — «В том-то и дело. Как мы вообще могли вручить свою судьбу ребенку?» — «Человек — не математическая величина, его поведение всегда непредсказуемо. А нам нельзя упускать шанс. И никакой она не ребенок, ей уже семнадцать». — «Конечно, ребенок. И мы теперь в руках плачущего ребенка. Она разревелась, как только закрыла за собой дверь. Я слышал. И сейчас еще слышу. Она продолжает там где-то плакать». — «Не плачет она. Все тебе мерещится. У них сейчас тихо. Ничего не случилось». — «Случилось, причем самое ужасное. Случается всегда самое ужасное. Правдой всегда оказывается самое ужасное». — «Истинно так, ты еще Богу помолись, авось легче станет. Где твой здравый смысл? Поздно уже, скоро утро. У них там тихо, потому что все устали». — «Как бы не так, устали. Знай себе жрут и пьют, распевают свои похабные песни и распутничают со своими проклятыми бабами». — «Ну, замечательно. Праведный гнев — это замечательно. А сам-то ты каков? Сам-то ты почему здесь очутился? Если правдой оказалось самое ужасное, так откуда оно на нас свалилось?» — «Я знаю. Это моя вина. Если схватят остальных, вина — моя. Если переправка сорвется, если их всех заберут вместе с женщинами и детьми, вина — моя. Вина целиком и полностью моя. Но я всего-навсего человек. Я могу лишь постараться искупить свою вину. Пускай немцы делают со мной что хотят. Я ни слова не скажу, обещаю». — «Ну нет, обещания не в счет. Человеческое поведение непредсказуемо. Ты сам не знаешь, много ли ты способен выдержать». — «Нет, знаю. Я все могу выдержать, не могу только ждать и ждать один в темноте. А так пускай что хотят, то со мной и делают. Пусть выдирают мне ногти, прижигают сигаретами кожу, пинают сапогами, избивают до смерти. Я ни слова не скажу. Стисну зубы и буду молчать». — «Ну ладно. Хватит. Это только ослабляет тебя. Призови на помощь свой здравый смысл. Сейчас главное — сделать все возможное, чтобы не попасть в их руки». — «Да, да, знаю, ни живым, ни мертвым, ни мертвым, ни живым, знаю, но я всего лишь человек, я могу лишь постараться искупить свою…» — «Замолчи. Нам сейчас не до истерик. Послушай, что я тебе скажу. Ты вел себя как последний идиот. Вот и все, точка. Остальное — буржуазный романтический вздор. Но ты должен успеть предупредить своих. И должен рассказать им правду. Это необходимо — рассказать им всю правду». — «Но кто поручится, что это правда? Не может это быть правдой, не должно. О Боже, хоть бы это было неправдой!» — «Боже, ха-ха! Это правда. И ты это прекрасно знаешь». — «Тогда я сам. Раз так нужно, я сам это сделаю. Это мое право, я же все-таки человек. Я сам… сам… (Маленькая черная дырка. Маленькая резко очерченная круглая дырка)».
— …одинокий, бедный и несчастный человек. Я скоро умру, Том, сердце у меня никуда не годное. Бывает, оно вдруг пропустит удар, заглохнет, и тогда я думаю: ну все. Кажется, вечность проходит. И страшно становится. По ночам мне от страха не спится: все время лежишь и ждешь этого. Вот и начинаешь размышлять над проблемами, чтобы как-нибудь ночь скоротать, не прислушиваться без конца к своему сердцу. И тут тебя вдруг озаряет идея, тебе открывается взаимосвязь вещей — и дальше ты уже играючи выстраиваешь свою мысленную конструкцию: все само увязывается в стройную систему, где все элементы точно подогнаны один к другому. Но, стало быть, конструкция правильная? Откуда по— является такая идея, не может же она возникнуть из ничего? Как ты думаешь, Том, Бог есть? Ответь мне, ты ведь у нас такой умный. Ты веруешь в Бога? Я больше не знаю, во что я верую, вообще ничего не знаю. Я старый больной человек и скоро умру, а единственное, что я умею в этой жизни, — это делать из денег еще больше денег. Деньги и вещи, вещи и деньги, вот мое проклятие. Стоит мне подумать о какой-нибудь вещи — и она уже у меня в руках. Ни дать ни взять сказочная скатерть-самобранка: перед тобою любые яства, и ты давным-давно позабыл, что такое голод или жажда. Но вот, Том, взгляни на эту вещь, — Габриэль встал и, словно заклиная, воздел руки к большому натюрморту, висящему на стене, — возможно ли ею владеть? Покупаешь ее, платишь деньги, но владельцем ее ты как не был, так никогда и не станешь. Вещи владеют собою сами, а ты их слуга — и только. Представляешь, Том, собрать все вещи в одном месте да поджечь, вот был бы костер! Но кто же на это способен. Их можно ненавидеть, можно проклинать, но от них не отвяжешься. В чем тут дело? Злая сила, что ли, скрывается в мертвых вещах, глаз у них дурной? А может, истина в том, что в действительности их нет, они вообще не существуют? Их можно видеть, можно потрогать, но… Иногда бывает такое ощущение, будто ты сошел с ума, будто ты живешь в… Представляешь, если вот это все, — он широко раскинул руки, — если все эти вещи вокруг тебя…
Габриэль оцепенел. Раскинутые руки застыли в воздухе, взгляд сделался пустым, рот обратился в зияющую страхом дыру в гуще бороды и усов.
— Так где мы?… На чем мы с тобой остановились?…
— Реестр…
— Реестр, да, — Габриэль кивнул и плюхнулся на свою подушку. — Реестр, — сказал он и придвинулся поближе, придвинулся совсем близко к Томасу и положил руки ему на колени. — Реестр, Том. Ну вот как, откуда возникает такая идея? Ведь не может она быть порождением злых сил, раз приходит к человеку как озарение, в полностью законченном, совершенном виде. Я не желаю людям зла, Том, я думаю лишь об их благе. Да и то сказать, если кто и будет не спать по ночам, выстраивая такие планы ради собственного удовольствия, так уж только не больной старик, который сам, увы, не доживет до их осуществления. Ведь на это потребуется немало времени, лет десять, а то и двадцать. Нет, ты не вправе называть меня фашистом, я не презираю людей, наоборот, мною движет любовь, несчастная любовь к людям. Я хочу одного: оградить их от худших зол. Да, я ошибался, я это признаю. Сначала я верил в победу Гитлера, мало того, я желал ему победы, восхищался его организаторскими способностями, его экономической системой, его гениальным умением упрощать понятия. Он доказал нам, что невозможное возможно. Ну а если бы он победил? Ведь всегда нужны люди, которые могут предотвратить наиболее опасные последствия побед и поражений, позаботиться, чтобы пострадало как можно меньше народу и в как можно меньшей степени. Ничего другого я не желал. Мне ничего не надо было для себя лично. Но я ошибся и не боюсь в этом сознаться. То, что я считал гениальностью, на поверку оказалось своего рода безумием. Все шло в соответствии с программой, и однако же в итоге получилось совсем не то. Происходило много такого, чего я не ожидал. Я недопонимал чего-то. Я всегда чего-то недопонимаю, Том. Может, это вещи, мертвые вещи отчуждают меня от людей? Люди словно тоже превратились в вещи. Я всегда безошибочно определяю, какова им цена, я знаю заранее, как они поведут себя в каждой конкретной ситуации, что они сделают и чего не сделают, что скажут и чего не скажут. Я знаю их вдоль и поперек. И однако же этого оказывается недостаточно. Чего-то я, по-видимому, недопонимаю. Все идет в соответствии с расчетами, а в итоге получается не то. И вот я уже больной старик, а рядом — никого, ни живой души. Когда я ночью лежу без сна и обдумываю свои планы, я постоянно возвращаюсь к вопросу: кто же? Кто тебе поможет? И тогда я думаю: Том. Есть Том. Он знает то, чего ты не знаешь. Почему я так о тебе думаю, что я такого вижу в тебе, Том? Ты держишься особняком, сидишь один ночь напролет и глушишь спиртное, ни в чем не принимая участия. Никому не известно, какой ты человек, неизвестно, какие у тебя мысли. И все же что-то заставляет меня верить, что именно ты знаешь то, чего я сам не знаю. То, что имеет решающее значение. В чем тут дело? Разве ты умнее других? Поговорить с тобой — так вроде нет, не умнее. Можно твердить себе: он ничтожество, он просто нуль. Можно смеяться над тобою, Том, можно зеленеть и лопаться от злости, можно из-за тебя приходить в отчаяние и лезть на стенку. Но все равно как-то так получается, что без тебя не обойтись. Ты всегда умеешь повернуть человека, как хочешь. Может, это именно потому, что ты ничего не хочешь, совсем ничего? Ах, Том, как далеко ты мог бы пойти, если б только захотел, ты так устроен, что любого человека можешь повернуть, как хочешь. Но ты ничего не хочешь. Почему, скажи? Ну ответь мне по крайней мере, Том, хватит тебе усмехаться! Ты мне поможешь? Если ты мне поможешь, я смогу привести в исполнение свои планы. Тебе не понадобится участвовать в самой работе, для этого люди найдутся. Твое дело — только говорить да или нет. Это правильно, а это неправильно. Это хорошо, а это плохо. Это делать надо, а этого не надо. Больше от тебя ничего не потребуется. Ты согласен, Том? Я озолочу тебя, если согласишься. Назови, чего тебе недостает, и все у тебя будет. Ты даже сохранишь полную свободу, пожалуйста, приходи и уходи, когда тебе вздумается. Ну скажи, что согласен! Ничего не отвечаешь. Скажи же хоть да или нет! О Господи, чтобы я, Габриэль Блом, стоял на коленях перед пьяницей и бездельником, умоляя согласиться на предложение, за которое любой другой мне бы руки целовал! А ты даже ответом меня не удостаиваешь, сидишь себе, дремлешь. Не согласен? Тогда вставай и убирайся отсюда! Нет, Том, нет, я не хотел тебя обидеть. Прости меня. Не обязательно отвечать мне прямо сейчас, время терпит, когда ты захочешь, тогда и решишь… или нет, не надо, можешь вообще ничего не говорить, ни да ни нет, забудь об этом, Том, забудь все, что я тебе сказал, только останься со мною. Пожалуйста, Том, не уходи от меня, мне сейчас будет худо. Скоро начнется, я уже чувствую. Это бывает каждую ночь. И я не сплю, лежу и жду. А рядом — никого. Ни живой души. Что я делал не так? Чего я недопонимаю? Скажи мне, Том. Нет, не надо, скажи мне просто, что я не злой человек, не пропащая душа, скажи же скорей. Нет, не надо, молчи. Сиди на месте. Дай мне твою руку…
«Стой на месте. Не двигайся. И послушай, что я тебе скажу. Этот вопрос решать не тебе. В твои задачи это не входит. А тот, кто действует по личному усмотрению, нарушает принцип единства партии, который…»-«Плевать я хотел на единство партии».
«Как ты сказал?!»
«Знаю, знаю: единство партии — превыше всего. Единство партии надо беречь как зеницу ока. Слова Ленина. Или еще кого-то. Мне безразлично. Плевать я хотел на партию. Господи ты Боже мой, я всего лишь человек, нельзя же требовать от меня невозможного. Я знаю ее с тех пор, как она была маленькой девочкой. Она — женщина, которая…» — «Которую ты любишь, ха-ха!» — «Можешь называть это буржуазной романтикой, называй как угодно, но это правда. Да, я ее люблю. Я всегда ее любил. Вот в чем правда и больше ни в чем. И это моя вина, если она… Говори что хочешь, но вина — не предрассудок. Человек должен нести ответственность за другого человека. И вся вина лежит на мне. На тебе и на мне». — «На мне!» — «И на тебе тоже. Ведь она была права: за каким дьяволом мне понадобилось лезть в партию? Я слесарь, я механик, я хорошо разбираюсь в двигателях. А что я знаю о Ленине, Марксе, Энгельсе, что я понимаю в вашем треклятом диалектическом материализме? Вы только языком болтаете. Только проповеди читаете». — «Вот-вот, а другие умеют танцевать, мне других подайте, солдатика подайте, и чтоб в сапогах…» — «Знаю. Можешь называть ее шлюхой, немецкой потаскушкой; если это так, то вина моя, но кто может знать, так ли это, кто вообще может что-нибудь знать? Идиот я несчастный, остался бы в своей мастерской, занимался своим делом. Она иногда заводила разговор о собственном домике. Сейчас у нас уже был бы домик, жили бы с ней вдвоем, лежали бы ночью вместе и грели друг друга, как все обыкновенные, нормальные люди… Да замолчи, черт возьми, заткни свою глотку и не читай мне мораль, без тебя знаю, ты прав, ты всегда прав, черт тебя дери, но не могу я больше, не могу стоять и ждать до бесконечности. Невозможно, чтобы так продолжалось: тишина, темень — и больше ничего. Ну должен же кто-то мне помочь, сейчас помочь, должен же найтись человек, должно же наконец что-то произойти, вот сейчас, теперь…»
— Спасибо. Теперь мне лучше. Скоро пройдет. Только ты от меня не уходи, немного погодя опять начнется, я уже знаю. Я всегда заранее чувствую. Ночью все время лежу и жду, а сам думаю: Том. Есть Том. Он — единственный. Все остальные ненавидят меня, даже собственная дочь. Ты так смотришь, не веришь, да? Но это истинная правда, Том. Она ненавидит старика-отца, только и мечтает, чтобы я поскорей убрался на тот свет. Она похожа на свою мать. Ты знаешь, что мать ее покончила с собой? Нет, конечно, откуда тебе знать, я же скрыл это от всех, и себе-то до конца не решаюсь признаться. Пытаюсь уверить себя, будто это был несчастный случай. Но она покончила с собой. Утопилась. Просто в голове не укладывается, Том, ведь у нее было все! Ей ни в чем не было отказа: кивнет — и вещь у нее в кармане, она могла делать, что ей заблагорассудится, она могла ездить, куда ей вздумается, уходить и приходить, когда ей захочется. Все ей завидовали. Она утопилась. Право, Том, я чего-то недопонимаю. Это началось, когда она почувствовала, что у нее будет ребенок. Она не хотела ребенка. Ходила бледная, как смерть, и ни с кем не разговаривала, к еде не притрагивалась — ее все время тошнило. Когда девочка родилась, она ее отринула, даже взглянуть на нее не пожелала. Дафне был месяц от роду, когда это случилось. Я так и не рассказал ей правду, мы никогда не говорим с ней о матери, да и кто может доподлинно знать, правда ли это? Она была нездорова, не в себе, сама не ведала, что творит. Так сказали врачи. Психоз, вот якобы причина. Но я-то знаю, почему она это сделала. Чтобы мне отомстить. Она ненавидела меня и не хотела иметь от меня ребенка. За что она меня ненавидела? Что я делал не так? Ночью я лежу и пытаюсь докопаться. Чего я недопонимал? Нет, не могу взять в толк, лишь вижу перед собой ее мертвое лицо. Она была очень красива мертвая, при жизни она никогда не бывала так красива. Дафна похожа на мать. Она все больше становится на нее похожа, иногда я ловлю себя на том, что мне мерещится, будто это не она, а ее мать. Хотя она совсем еще ребенок. Хорошо бы она так и осталась ребенком, обещай мне это, Том. Пусть она лучше не взрослеет, и пусть всегда пребывает в неведении. Я баловал ее безгранично, я сам ее испортил, я знаю. Но что мне оставалось делать? У меня, можно сказать, не было выбора. Видел бы ты Дафну, когда она была маленькая, я становился на четвереньки, а она ездила на мне верхом, и чего она только не вытворяла: била меня, брыкала ногами, выдирала мне волосы, срывала очки и швыряла их об стенку, разбивая вдребезги. А сама заливалась звонким смехом. Но что мне было делать? По-другому я не мог, да и сейчас все осталось так же. Ты, конечно, не веришь, Том, но и по сей день все осталось так же. Она по-прежнему ездит на мне верхом, когда мы одни, я — ее толстый черный мишка, которого можно трепать за волосы, за нос, за уши, мы по-прежнему лопочем на нашем детском языке: ля-ля-ля, ту-ту-ту. Мы так и не перешагнули через это, нам словно страшно решиться на что-то другое. Возможно, то же самое происходит вообще со всеми нами, мы играем в детские игры, болтаем друг с другом на детском языке, а если забываемся, если на секунду выпадаем из роли и делаемся взрослыми — спаси и помилуй нас, Господи. Как-то раз я случайно заглянул в зеркало. И встретил в зеркале ее глаза. Это длилось мгновение, но в такое-то мгновение и открываешь для себя правду. Ты когда-нибудь видел ненависть в глазах маленького ребенка? Ты видел, какие у него глаза, когда он всей душой желает одного: поскорее стать большим и сильным, чтобы тебя убить? Она ненавидит меня, Том. Сама того не ведая, безотчетно, думать об этом она, конечно же, не смеет, но она ненавидит собственного отца. Так было всегда, она родилась на свет, чтобы меня ненавидеть. Ибо я — человек, который отнял жизнь у ее матери. Или это у меня навязчивая идея? Скажи, что это просто навязчивая идея! Но нет, это — правда, возможно, я действительно помимо своей воли сделал это, откуда я знаю? Кто может вообще что-нибудь знать? Пусть Дафна навсегда останется ребенком, обещай мне, Том. Если она хоть на миг очнется и станет взрослой — спаси нас Господи. И без того все скверно. Я проявлял непростительную слабость, я знаю: она всегда умела настоять на своем, я потворствовал ей даже тогда, когда это было во вред другим. Но что мне оставалось делать? Я ни в чем не смею ей отказать, ничего не смею запретить, ничего. Прости меня, пожалуйста, Том. Обещай, что простишь, что бы дальше ни случилось. Она ненавидит меня так, как меня еще в жизни никто не ненавидел, собственной дочери я боюсь больше всех других людей. И однако же она у меня одна. Кто у меня есть, кроме нее? Ну, конечно, Том, у меня есть ты. Ты— единственный. Ты поможешь мне, Том? Постараешься меня понять, что бы дальше ни случилось? Я ведь не имею над ней никакой власти. Но я люблю тебя, Том. По ночам я лежу и думаю: есть Том, я люблю Тома. Почему мужчина боится признаться в любви другому мужчине? Ну на кой прах непременно нужна женщина? Что мы знаем о женщинах, они нам чужие, они не такие, как мы, любовь, которой я искал у женщин, всякий раз приходилось покупать за деньги. А мужчины всегда поймут друг друга. Представляешь, Том, если б мы с тобой взяли и уехали куда-нибудь вместе, когда наступит мир на земле, спрятались подальше от этого всего? Да нет, бесполезно, мы так прочно увязли, что никуда нам от этого не деться. Но поговорить-то и понять друг друга мы можем? Не знаю, это тоже еще вопрос, но, во всяком случае, мы можем согревать, мы можем любить друг друга, верно ведь? Нет, Том, ты только не подумай, я же не имею в виду… впрочем, отчего бы и это не испробовать, откуда я знаю, разве я хоть раз в жизни испытал, что такое любить человека? Отчего мужчина не может найти тепло и покой у другого мужчины? Нет, нет, не уходи, я же вовсе не это имел в виду, я вообще ничего не имел в виду, забудь, что я тебе говорил, забудь, только дай мне твою руку, подержи меня за руку, нет, не за эту, за левую. Сейчас опять начнется, я уже чувствую вот здесь, в плече. Поговори со мной, Том, скажи мне что-нибудь, ну пожалуйста. Скажи, что ты здесь. Всякий раз, как это у меня начинается, рядом — никого, ничьих глаз, совсем ничего. Представляешь себе, Том? Сердце останавливается, время останавливается, а ты не умираешь, все никак не умираешь, лежишь с открытыми глазами и видишь, что ничего нет, кричишь в темноту, зовешь и знаешь, что ответа не будет. Вот она, погибель. Вот он, ад. Придвинься поближе, держи меня покрепче, чтобы я чувствовал, что ты здесь. Скажи мне, что вот это… все, что нас окружает… скажи мне скорей, что это все есть, действительно существует, что это не… что это… не ад…
Симон постоял еще мгновение, прислонившись к стене. Он пошарил рукой сзади себя — вот она, здесь, прохладная и гладкая, надежная опора. И, подумав так, оторвался от стены: опора ему больше не нужна. Легкий приступ страха давно прошел. В сущности, оснований для паники — никаких. Тишина воцарилась вдруг во всем доме, глубокая и странная тишина, но почему она должна таить в себе опасность — наоборот, это добрый знак, и хотя ему кажется, что он ждет уже целую вечность, по всей вероятности, прошло всего лишь несколько минут. Ситуация знакомая, с ним и раньше бывало, что время как будто останавливается. Во всяком случае, совершенно ясно: надо ждать, пока кто-нибудь выйдет к нему. Ты останешься на месте, ты будешь совершенно спокойно стоять, где стоишь. Так он подумал, так он себе сказал и подтвердил свою мысль кивком. Лишь одно чуточку беспокоило его: и тело, и мысли кажутся какими-то до странности легкими, словно утратившими всякий вес и всякое значение. Он здесь стоит и думает о том, что для паники нет ни малейшего основания, а между тем левая нога его сама собой приподнялась и сделала движение вперед— И вот уже за ней последовало тело. Потом то же самое проделала правая нога. До чего же легко идти, подумал он, просто-напросто приподнимаешь ногу и как бы начинаешь немножко падать, движешься вперед, совершая одно за другим мелкие, вовремя прерываемые падения. Только и всего. Одновременно рука его успела вытащить из кобуры пистолет, тоже какой-то невесомый и незначительный — металлическая вещица, детская игрушка. Он взвесил его на ладони и устремился к Лидии, образ которой явственно представился ему: густые рыжевато-каштановые волосы Лидии, упавшие на лицо и уже рассыпавшиеся по земле, тонкая шея Лидии с ложбинкой наверху и над самой ложбинкой, у границы волос — аккуратная маленькая дырка от точного попадания из девятимиллиметрового пистолета. Застрелить человека — такая же работа, как всякая другая, подумал он, чертовски опасная и неприятная, но просто работа, и больше ничего. Остальное — романтический вздор. И эта мысль была тоже легкая и невесомая, как и тело его, как ноги, шагающие вниз по каменным ступенькам, как рука, которая уже протянулась к двери. Дверь не может быть заперта, иначе он бы слышал щелчок, когда девушка затворяла ее за собой. Он нарочно прислушивался, но щелчка не было. Он ясно это помнит. Рука его нажала на дверную ручку.
Резкий переход от темноты к свету ослепил его, но лишь на мгновение. Теперь он видел вполне отчетливо. Просторное белое помещение, почти что зал. Круглые белые луны висят под потолком, и свет их многократно отражается в пронзительной белизне стен, сверкают белые кафельные плитки и белый лак, блестит белый металл. Большой шкаф с красным глазком издает гудящий звук. Слышится также звук льющейся воды, а вон и струя, вырывающаяся из крана над раковиной, тугая, точно ледяная сосулька. Но, должно быть, это кипяток, потому что вокруг клубится облако пара, а посреди облака — два женских лица, глаза уставились на него. Ни одна из женщин не шевельнулась, не сказала ни слова. Руки ближайшей к нему, мывшей посуду, приросли к тазу с водой, вторая, вытиравшая стаканы и рюмки, замерев, стоит столбом. И это длится уже целую вечность. Вода продолжает течь. Две женщины продолжают с бессмысленным видом таращиться на него из разрастающегося облака пара. Ни одна не догадывается закрыть кран. Зрелище было до того комичное, что Симона так и подмывало засмеяться. Одновременно он чувствовал некоторую досаду. Ну чего они так перепугались? Пистолет увидели, но ведь он не угрожает, не целится в них, у него и в мыслях нет как-то их обидеть. А может, это его внешний вид нагоняет страх — он вспомнил, что одежда промокла до нитки, а сам он весь в царапинах и ссадинах, да к тому же его угораздило шлепнуться в одном месте прямо в грязь. Это воспоминание тоже показалось ему комичным. Он улыбнулся, давая понять, что им незачем его бояться. Это не помогло. Они продолжали таращиться. Вода продолжала течь. Белый туман поднимался все выше, заволакивал блестящие кафельные стены, окутывал клубами светящийся шар у них над головой. Не могут же они стоять вот так до бесконечности; раз они не решаются сделать шаг ему навстречу, надо самому с ними заговорить. Он им объяснит, что всю ночь в темноте мотался по городу, что его преследуют немцы, что он очень нуждается в помощи. Ведь все так просто, они его сразу поймут, как только он вступит с ними в разговор. Хотя, в общем-то, это не к спеху. Торопиться некуда, сейчас он может совершенно спокойно постоять, где стоит, у самой двери, при входе в просторную белую кухню с ее мирным теплом, с ее добрым, ласковым запахом вкусной еды. Его ужасно клонит в сон, хочется сесть, расслабиться и закрыть глаза. Скоро они принесут ему стул, дадут поесть и попить, уложат где-нибудь спать. Он так устал, его мучают голод и жажда, он пришел сюда из ночной тьмы после долгих вынужденных скитаний. Они не могут этого не понять. Ведь это так просто…
Но вот наконец — какое-то движение. Откуда-то сверху приближаются шаги, быстрые, словно спотыкающиеся. Симон повернулся в сторону лестницы. До сих пор он ее не замечал, и ему показалось, что она очень далеко от него: узкий темный проем в самом конце сверкающего зеркальным блеском помещения. Она круто поднимается вверх и на повороте скрывается за стеной. Вот на ступеньках показалась фигура — маленькая женская фигурка в строгом черном платье и в белой наколке, несущая большой серебряный поднос, сплошь уставленный пустыми рюмками. Остановившись посреди лестницы, она замерла. Время томительно тянулось. А она все стояла как вкопанная — крохотная, далекая, — вытянув вперед руки с серебряным подносом, будто для благословения. Точь-в-точь мадонна в нише, подумал Симон, маленькая смешная мадонна. Он чуть было не захохотал. Но тут поднос немного наклонился. Медленно, бесконечно медленно заскользил он у нее из рук и… и вот… вот…
Голова Габриэля стала медленно клониться назад. Следом начали клониться к полу плечи и спина. Сейчас упадет! Томас успел его удержать. Он хотел приподняться, чтобы обхватить его поудобней, но массивное тело повалилось прямо на него и вдавило обратно в кресло. Ноги Габриэля судорожно дергались, так что сбился ковер на полу, он мотал головой, бодаясь как бык, пальцы вцепились в руки Томаса повыше локтей, и Томасу чудилось, ногти Габриэля пронзили насквозь его рукава, пронзили кожу и мясо до самой кости. Это было — как изнасилование, как слепая борьба утопающего с человеком, который пытается его спасти. Немного погодя Томасу удалось кое-как высвободиться, во время единоборства он задел Габриэля локтем по лицу, очки слетели на пол и отскочили далеко в сторону. Наконец судороги прекратились, руки и ноги перестали двигаться, отяжелевшие и безжизненные. Однако и теперь грузное тело упорно оказывало пассивное сопротивление, оно будто камнями было набито, и Томасу приходилось напрягать все силы, чтобы с ним совладать.
Габриэль полулежал на спине, туловище было зажато между ног Томаса, а голова покоилась у него на коленях. Лицо было землистое, покрытое холодной испариной, дыхание тяжелое, с протяжным присвистом, глаза без очков — оголенные и чужие. Они натужно пучились, стараясь увидеть Томаса и поймать его взгляд, одна рука силилась приподняться и на что-то указать, перекосившийся рот тщетно пытался выговорить слово. Слышался лишь клокочущий хрип. Какая-то острая угловатая шишка вздулась на щеке, и Томас увидел, к своему удивлению, что из уголка рта торчит зуб. Никогда раньше он не замечал, что у Габриэля вставная челюсть. Он осторожно вынул ее и положил на стол, отер слизь носовым платком. Тонкая струйка сукровицы показалась изо рта и поползла по подбородку. Томас вытер ее. Он промокнул капельки пота на лбу у Габриэля, он развязал ему галстук и расстегнул на шее белый крахмальный воротничок. Габриэль сделал попытку кивнуть, и Томас кивнул ему в ответ. «Спать», — шепнул он и поднес руку к глазам Габриэля, чтобы их закрыть, но тот неприметно покачал головой. Оголенный взор не хотел отпускать Томаса. Рот открылся, чтобы что-то ему сказать. Томас наклонился пониже в надежде разобрать слова, но слов не было. Были лишь неподвижно вперившиеся в него глаза.
Дыхание стало ровнее, хрипы мало-помалу стихли. Смерти срок еще не подошел, но ждать оставалось недолго. Томас знал, скоро она придет. Близость смерти была — как знак ему от Габриэля. Она создавала сферу глубокой доверительности между ними, но, вопреки ожиданиям, не ощущалась как нечто мрачное или угрожающее, скорее она витала в воздухе, как незримая улыбка. Томас, кажется, никогда в жизни не был так близок с другим человеком. Он увидел многое, что прежде было от него сокрыто. Спавшийся беззубый рот горько сжат, как у доведенного до отчаяния ребенка. В морщинах вокруг глаз, не спрятанных сейчас за роговыми очками, — такое же выражение простодушного детского горя. Темная шевелюра и пышная черная библейская борода светятся у корней снежной белизной. Габриэль красит волосы и бороду. Томас впервые это обнаружил и не мог не улыбнуться, рука его невольно потянулась погладить эти старые седые волосы, которым так хотелось прикинуться молодыми, погладить это комически старое детское лицо. Он передумал, рука остановилась на полпути, вместо этого он нагнулся и поцеловал Габриэля в лоб. Скоро, очень скоро, подумал он и почувствовал прилив глубокой нежности.
Его поцелуй словно пробудил лицо умирающего к новой жизни, оно вздрогнуло, оно мелко задергалось. Томас улыбнулся и шепотом позвал Габриэля, он ждал от него ответной улыбки. Но не улыбка была ему ответом. Лицо омрачилось и стало медленно собираться в морщины, раздался слабый стон. А за ним последовал плач, едва слышный, как плач ребенка, который проплакал так долго, что нет больше голоса, нет больше сил плакать. Томас невольно улыбнулся, ведь он уже столько времени вслушивается в тихий, полный отчаяния плач. В этот миг он прорвался из глубины наружу всхлипом в устах умирающего, дрожью на умирающем лице, но он и раньше был, он слышался все время. Он слышался за всеми экивоками и вывертами Габриэля, за серебряным колокольчиком голоса Дафны с ее пустыми словечками, за фальшивыми ужимками записного любовника Феликса, за торопливой пляской излияний бедной Сони. Всю ночь он сидит и вслушивается в него, и не только эту ночь — много ночей, все ночи, начиная с самого детства. Плач прорывался сквозь голос его матери — впервые в жизни он встретился с ним, когда лежал у нее на руках и смотрел в скорбное лицо женщины с жестким ярко накрашенным ртом. Ну а кто он сам, Томас, который сейчас сидит и утешает умирающего, — не женщина ли он со своим новорожденным на руках? Мысль была настолько нелепа, настолько противна всяческому смыслу, что он и ей невольно улыбнулся. Мысль отразила его улыбку, послав ее обратно, — улыбку за пределами всяческого смысла. Нежность его становилась все сильней, она росла и ширилась безгранично, обращаясь в нежность ко всему живому, в женскую нежность за пределами всяческого разумения. Воцарилась тишина, все вокруг вслушивалось, улыбаясь, в этот безутешный плач, в котором было столько счастливого комизма, который был воистину полной бессмыслицей, потому что он вовсе не был безутешным. Ведь достаточно ласкового прикосновения, чтобы его унять.
Он положил руку на лоб Габриэля, и плач после нескольких судорожных вздохов прекратился, лицо разгладилось и стало спокойным и мягким. Вокруг стояла полнейшая тишина, он, Томас, единственный из всех не спал. Он улыбался, он знал простую самоочевидную истину и лишь слегка печалился от того, что не узнал ее раньше. Теперь было слишком поздно. В глубокой сонной тишине, объявшей дом, произошло то, чего он давно уже ждал. Он почувствовал это по боли, внезапно пронзившей его руки. Настал тот миг, когда он должен встать и уйти.
Томас поднял голову. Он задержал дыхание и прислушался. Вот и все, подумал он.
…Вот и все, поднос упал. Град блестящих осколков посыпался вниз по лестнице и разлетелся по всему полу. За ними с громыханьем покатился колесом большой круглый поднос, он прыгал со ступеньки на ступеньку, а потом, подребезжав, улегся плашмя. Одна из женщин уронила на пол стакан, и он тоже разбился, запоздало тренькнув, а она стояла, выпучив глаза и прижимая кулак к широко разинутому рту. Зрелище было такое невообразимо комичное, что Симон рассмеялся бы, если бы не внезапная непредвиденная помеха — его собственный крик, перекрывающий шум, и грянувший одновременно выстрел. Это он? Действительно вьющийся из дула пистолета. Ну хорошо, выстрелил, но это же просто предупредительный выстрел, дырка вон она, посредине потолка, известковая пыль еще оседает на пол мелкими снежными хлопьями. Он никого не ранил. И нет ни малейшего основания для этого смехотворного переполоха. Маленькая черно-белая мадонна на лестнице воздела обе руки к небу, лицо ее начало медленно кривиться и постепенно превратилось в утратившую человеческие черты маску, в которой зияла черная дыра рта. И раздался вопль. Она не должна так вопить, надо остановить ее, заставить замолчать! Он во второй раз услышал собственный громкий голос, но слишком поздно, вопль уже вознесся к потолку, он возносился выше и выше, заполняя собою весь спящий дом. «Дьявольщина!» — заорал он и поднял пистолет, поднял и опустил, снова поднял и снова опустил, он поднимал и опускал его до тех пор, пока не забыл обо всем на свете и только вслушивался в этот вопль, который никак не смолкал. Его невозможно было остановить, он отъединился от слепой белой маски с зияющим черным ртом, давшим ему жизнь, он уже жил сам по себе, он нарастал сам по себе и, обретая в пространстве зримый образ, бешеной спиралью, неистовым вихрем взвивался ввысь, в пустоту, увлекая за собою все, что попадалось на пути. Как будто мертвые камни и живые уста разверзлись и возопили, исторгли песнь, как будто мощный многоголосый хор в экстазе и муке возносил мольбу, неумолчно взывая к небесам, по мановению рук маленькой жрицы. Симон стоял немой, оцепенелый и вслушивался, не в силах шевельнуться или двинуться с места. И не было этому ни начала, ни конца. Это длилось вечно…
Томас тихо сидел и вслушивался в отдаленное подземное громыханье. Вот грянул выстрел. А потом раздался наконец вопль, которого он все время ждал.
Он поднялся с кресла и постоял, держа на руках умирающего. Грузное тело больше не казалось тяжелым. Он отнес его на узкий диван у стены за камином и, не торопясь, уложил поудобней. Осторожно подсунул под голову подушку и соединил обе руки на груди, пощупал пульс и послушал дыхание. Вопль, доносящийся снизу, немного мешал ему, но нисколько не пугал. Он был такой, каким и должен был быть, пронзительно монотонный и совершенно бессмысленный. Всю ночь Томас слышал, как он приближался, и лишь по чистой случайности он в этот миг прорвался наружу из уст некой женщины.
Он бросил последний взгляд на бледное лицо на подушке и неспешным шагом двинулся через просторную комнату, в обход столовой, к черной лестнице, ведущей в кухню. В буфетной девушка-подросток стояла как столб. Томас мимоходом кивнул, в голове мелькнуло, что он никогда ее раньше не видел. Слышно было, как наверху, у него над головой, дом просыпается, наполняясь лихорадочной панической суетой: хлопали двери, раздавались громкие голоса, топот торопливо бегущих по коридорам и лестницам ног. Потом все звуки поглотил приближающийся снизу вопль.
Они сходились со всех концов большого особняка и толпились в холле, они прибегали бегом и звали, спрашивали громкими испуганными голосами — но внезапно затихали при виде умирающего человека на диванных подушках.
— Кто?… Это он?… Он застрелился или?… — неуверенно, с запинками выговорил женский голос. Никто не ответил, вопрос повис в тишине. Снизу долетал вопль. О нем никто словом не обмолвился. Они подступали ближе к неподвижно лежащей фигуре, но останавливались на расстоянии трех шагов и теснее придвигались друг к другу, они были похожи на толпу потерпевших кораблекрушение в своей случайной разномастной одежде: в вечерних туалетах и нижнем белье, в шлафроках и кимоно. Кто-то спросил про доктора Феликса. Головы завертелись из стороны в сторону, глаза торопливо оглядывали окружающих, но его нигде не было видно. Движение замерло, безмолвие вновь опустилось на них. Они избегали смотреть друг на друга. Вопль все никак не смолкал, монотонный, как вой неукротимой сирены во тьме ночи.
Дафна спустилась по большой лестнице. «Папа! — крикнула она, подбегая ближе: девчоночья фигурка, ноги босые, полы цветастого пеньюара развеваются. — Папа!» — крикнула она опять. И осеклась, увидев его, замерла и онемела, как все остальные. Она не решалась на него смотреть, она опустила глаза и плотнее запахнула на себе пеньюар, стояла, тонкая и озябшая, подогнув колени и повернув босые ступни носками внутрь, на некотором расстоянии, как грешница перед причастием. Никто не заметил, как пришел доктор Феликс, он вдруг оказался у дивана с умирающим. Опустился возле него на колени. Свободное пальто в крупную клетку скрывало всю его фигуру до самых ступней, лишь шея и затылок были видны над широким воротом, жидкие темные волосы взъерошились и торчали хохолком. Дафна его не замечала, она не отрывала глаз от покрытых красным лаком ногтей на ногах. Вопль все никак не смолкал.
Вдруг она вскинула голову. Выбившийся локон упал на лоб, взгляд беспомощно заметался от одного лица к другому, скользнул дальше в полумрак комнаты и напоследок остановился на кресле, где еще недавно сидел Томас. Губы ее растянулись и задрожали, детская рука, медленно поднявшись, заслонила лицо. И она наконец разрыдалась. «Том… Мас… Томас…» — говорила она пустому креслу жалостным, срывающимся от слез голоском.
Спираль вопля распрямилась и круто взметнулась ввысь, дрожа и вибрируя, как колокольный звон. Он возносился выше и выше, за пределы всяческих звуков, в тишину.
Спускаясь дальше, Томас увидел внизу белую кружевную наколку на гладко причесанных выцветших волосах камеристки Марии. Она стояла на повороте лестницы, подняв кверху руки с судорожно сжатыми кулаками. Вся ее фигурка, увенчанная наколкой, трепетала и извивалась, как окутанный черным дымом белый язык огня, полыхающее пламя пронзительно бессмысленного вопля. Томас легонько коснулся ее плеча, и в то же мгновение вопль смолк, будто подсеченный ножом, последний оборванный звук вихрился в воздухе, как кончик лопнувшей струны. Одновременно ее напружиненное тело расслабло и сникло, превратившись в бесформенный ком, и она тяжело рухнула, цепляясь обеими руками за перила. Бледное оголенное лицо с бесстыдно вывернутыми губами и широко открытыми, ничего не видящими и ничего не таящими глазами медленно повернулось к нему. Словно дева в родах, подумал Томас и улыбнулся нелепости своей мысли, он осторожно переступил через загородившие ему дорогу ноги в черных шерстяных чулках и стал спускаться дальше, в просторную, сияющую белизной кухню. Облако пара, поднимаясь из раковины, расплывалось под потолком между белыми шарами ламп. Две судомойки стояли навытяжку в гуще тумана, как бледные призраки, но в глубине Томас успел углядеть темную мужскую фигуру, которая тотчас скрылась в подвальном коридоре.
Шагая по черно-белым шахматным плиткам кухонного пола, он слышал шум осыпающегося кокса. Полоска света из кухни, пересекая коридор, падала через открытую дверь внутрь котельной. Посреди освещенной полосы он увидел ноги незнакомца. Взгляд Томаса медленно заскользил вверх, от стоптанных, вымазанных в грязи ботинок по черным матросским брюкам и кожаной тужурке, перепоясанной ремнем, к вороту темного шерстяного свитера, над которым белела голая шея. И наконец он встретил глаза незнакомца. Вместо лица у того была сплошная корка из земли и запекшейся крови.
В темноте что-то задвигалось. Длинный черный пистолет короткими рывками поднимался вверх, пока не нацелился прямо в Томаса. Он невольно улыбнулся этому зрелищу. В голове мелькнуло, что пистолет все-таки комичная штука.
Мгновение они стояли друг против друга, не шевелясь и не произнося ни слова. Потом Томас сделал шаг вперед.
— Здравствуй, брат, — сказал он.
Пистолет выпал из руки незнакомца. Кокс у него, под ногами начал осыпаться, напряженно выпрямленное тело описало в воздухе плавную дугу. Томас успел его подхватить.
Часть вторая
1
— Надеюсь, тебе больно, — сказал Томас.
Стиснув зубы, Симон втянул в себя воздух и напряг все мышцы, чтобы не отдернуть руку.
— Не смотри, — сказал Томас. — Сиди спокойно, брат. Расслабься, откинься назад. Говори себе, что боль — блаженное ощущение. Самое концентрированное воплощение жизни. Ибо что такое вообще жизнь? — спросил он, беря со стола пинцет. — Некоторые ученые утверждают, будто ее вовсе нет. Никто ее не видел. Нам известен лишь механический процесс, сочетание стимулов и рефлексов. Таким образом, это единственная реальность. Даже так называемая высшая мозговая деятельность ничего иного собой не представляет. И точно так же как мы сегодня умеем останавливать этот процесс простым механическим вмешательством, рано или поздно мы научимся и запускать его механическим путем. Фокус-покус, keine Hexerei nur Behаndigkeit. Неизвестная малая величина сведена к нулю. В уравнении всего одна ошибочка — части его не равны. Неизвестное было и останется неизвестным, как бы его ни обозначить, буквами или цифрами. Но эта теория вполне сочетается с диалектическим материализмом, которому, как я полагаю, ты присягнул.
— Заткнись, — простонал Симон сквозь зубы.
— Должно быть больно. Чертовски больно. — Томас говорил быстро, машинально, все его внимание было сосредоточено на работе пальцев. Он поднял пинцет и мгновение рассматривал пулю в слепящем свете лампы. — Похоже на зубную пломбу, — сказал он, — но это, судя по всему, что-то совсем иное. — Пуля упала в пепельницу с металлическим звуком. — Конечно, живому нелегко увидеть жизнь со стороны, — продолжал Томас— Вопрос в том, видит ли он что-нибудь еще, помимо жизни. Мысли тоже нелегко, чисто практически, отказаться от себя как от причины. Все это напоминает человека, вытаскивающего себя за волосы из болота. Мюнхгаузен, кажется? Забыл я свои сказки… Но мысль, безусловно, способна уничтожить самое себя, — прибавил он, — для этого существует безошибочный метод. Однако просвещать тебя по сему поводу, думаю, не стоит?
— Заткни свою поганую глотку, — повторил Симон.
— Ладно, об этой возможности забудем, — сказал Томас. — Алкоголь помогает, но не очень. Да и действует не сразу. Ближе всего подойти к подобному состоянию, пожалуй, позволяет боль, когда что-то причиняет жуткую, чертовскую боль. — Он взял бутылочку йода и вылил ее содержимое на рану. Рука дернулась, залитые кровью пальцы извивались, словно черви. Томас крепко прижал кисть Симона к своему колену, внимательно следя за его белым, искаженным болью лицом. — Как ты побледнел, брат, — сказал он. — Тебя тошнит? Уж не собираешься ли опять в обморок грохнуться?
Симон помотал головой.
— Нет, нет, не смотри, — сказал Томас. — Делай, как я говорю. Откинься назад, расслабься. Сейчас это модно. Заниматься йогой. Внушай себе, что боли не существует. Или попробуй метод мистиков. Закрой глаза и говори себе: я — ничто, меня окружает ничто…
Из судорожно сведенного рта Симона вырвалось что-то вроде «чу-чушь собачья».
— Вот так и повторяй про себя — чушь собачья. Говори и думай, что хочешь, только сиди тихо. — Рука Томаса протянулась за бинтом. Он работал быстро и легко, в воздухе порхала, разматываясь, белоснежная лента, обвивая пальцы и кисть Симона. Томас обрезал бинт, разорвал надвое конец и сделал узел. — Хорошо, что левая, — сказал он, — к работе она сейчас непригодна. — Он отпустил руку Симона и огляделся, взгляд его упал на массивный армейский пистолет на письменном столе… Томас взял его, вынул магазин, пересчитал патроны, посмотрел на марку. — «Хускварна», — проговорил он, взвешивая оружие в руке, — пожалуй, великоват и тяжеловат, а?
Симон не ответил. Оба молчали, настороженно меряя друг друга взглядами. Пистолет лежал на полотенце, расстеленном на коленях Томаса.
— Ну-ка, дай я на тебя посмотрю, брат, — сказал Томас; направляя свет лампы на изуродованное лицо Симона.
Тот сейчас напоминал боксера, отдыхающего в углу ринга, но готового к борьбе. Томас дал ему купальный халат, промыл раны и заклеил пластырем самые страшные царапины. Через всю щеку от самого глаза опускались вниз к подбородку и дальше по шее, вплоть до тощей груди, четыре вспухшие полосы. Взгляд Томаса проследил их путь. Симон быстрым движением запахнул халат на шее. Его щеки чуть порозовели.
— Ну так, хорошо, — сказал Томас с беглой улыбкой. — Ты уж извини, что пришлось обрабатывать раны таким примитивным способом. Но у меня нет самого необходимого, в первую очередь обезболивающего. Вообще-то тут в доме имеется настоящий врач, но он сейчас занят другим пациентом. Да и к тому же я не знаю, насколько ему можно доверять.
Они не спускали друг с друга глаз.
— А ты сам разве не врач? — спросил Симон.
— Ты мне льстишь. Но увы! У меня вообще нет никакого образования. — Томас положил пистолет обратно на стол и встал. — Но я занимался всем понемногу, — добавил он и начал собирать инструменты в полотенце, — я знаю все и ничего. А посему теперь остановился на поэзии. — Он прошел в ванную. — Живу по-королевски, сочиняя рекламные стишки, — донесся его голос, отраженный от кафельных стен, — ну, знаешь, эти рифмованные советы и призывы, которые хорошо запоминаются по причине своего идиотизма. Вот и вся техника. Именно бессмыслица обладает способностью прочно врезываться в память, и в конце концов люди автоматически начинают ей верить. — Томас мыл руки, чтобы перекрыть шум воды, ему пришлось повысить голос. — Мы используем самые современные методы массового гипноза, обращаемся непосредственно к чувству голода, суевериям и половому инстинкту. В настоящее время наша деятельность заморожена, но у нас большие планы, сразу по окончании войны собираемся организовать рекламу совершенно по-новому. — Он уже успел раздеться и сейчас в одном нижнем белье подошел к двери. — К сожалению, мне в этом участвовать не придется, — сказал он, натягивая халат, — а сам директор лежит при смерти. — Томас открыл большой стенной шкаф, намереваясь повесить туда свой смокинг. — Быть может, он уже пробудился к своей загробной плотской жизни, — продолжал он, стоя спиной к Симону. — В таком случае он обнаружит, что ничего не изменилось. Его по-прежнему окружают те же вещи, там тоже есть богатые и бедные, банки, магазины и рестораны и тоже существуют умные головы, которые надувают тех, кто поглупее… Тебе небось все это кажется совершенным идиотизмом, — сказал он, повернувшись, — но ни за что нельзя поручиться. Может, это как раз и есть истина. Для Бога и Сатаны нет ничего невозможного. — Он подошел к двери. — Еще рановато, — произнес он, приложив ухо к замочной скважине, — но скоро придет время.
— Время для чего?
— Для того, чтобы отправляться в путь.
— Отправляться в путь? — Симон открыл глаза. Сквозь пелену он видел, как тот, другой, приближается к нему, вот он протянул руку и погасил лампу на письменном столе. «Поспи, — сказал голос. — Поспи еще немножко, но здесь нам оставаться нельзя. Слишком много людей вокруг».
Я спал? — подумал Симон, намереваясь встать. Но тяжесть собственного тела снова придавила его к креслу. Томас подошел к камину и подложил дров, хотя жара и так была невыносимой. Симон боролся со сном.
— Скажи сначала, где мы? — спросил он.
— В доме. В большом новом старинном каменном особняке. Симон скривил губы.
— Это я уж как-нибудь понимаю. Чей это дом?
— На бумаге числится моим, — послышался голос. — Но это ничего не значит, так было сделано из практических соображений. На самом деле он принадлежит другому. Человеку, о котором я уже рассказывал. Он приобрел его со всем имуществом после смерти или, может, разорения прежнего владельца. Точно не знаю. Он так часто покупает и продает. Мы жили во множестве разных мест. Но теперь — конец. Это место — последнее… — Томас, неподвижно застыв посредине комнаты, обводил ее взглядом. Симон видел его как в тумане.
— А как тебя зовут? — спросил он.
— Можешь звать меня Мас или Том. Меня зовут Томас. Фамилия не имеет значения. Ни к чему нам знать друг о друге лишнее. А тебя-то как зовут, брат?… Нет, не хочу знать. Я буду и дальше называть тебя братом… Ты, конечно, член партии?
Воцарилось настороженное молчание. Симон выпрямился.
— Какой партии?
— Партии. Разве непонятно, о какой может идти речь?
— А ты сам состоишь в этой партии?
— Хотелось бы. В этой или в какой-нибудь другой. Но я недостаточно тверд в своей вере.
— Почему же тогда ты спрашиваешь меня?
— Я не спрашиваю. Тебе не надо отвечать. Я ничего не хочу знать. Просто у меня с языка сорвалось, потому что по тебе это видно. По всему. Одна униформа чего стоит… — Он кивнул на темную кучу одежды, лежащую на каминной плите. — Пусть сперва просохнет, потом мы ее сожжем.
— Сожжем?…
— Ты не считаешь, что так будет надежнее? Никогда ведь не знаешь…
— Да, но… — Симон посмотрел на свою одежду, потом на себя.
— Об этом я уже подумал. Ты наверняка влезешь в мои вещи. Размер у нас приблизительно одинаковый. — Томас стоял, склонившись над кучей одежды, яркие отсветы колеблющегося пламени падали на его белые, застывшие в ожидании руки, белое, застывшее в ожидании лицо, снизу вверх повернутое к Симону. — Будем, не будем? Решай сам. Мне-то все равно: натягивай свою униформу и прямым ходом в их лапы. Меня это не касается. Но тебе, наверное, надо и о других подумать?… Это не вопрос. Я ничего не хочу знать.
Симон был в нерешительности.
— А я могу тебе доверять?
— Нет, конечно. Так же как и я не могу доверять тебе. Как мы не можем доверять и самим себе. Но мне кажется, у нас нет выбора. — Его руки уже были заняты делом. Раздалось шипение. Языки пламени взметнулись и исчезли под чем-то черным. Густой белый дым повалил в комнату. — Вот идиот, — выдавил Томас, захлебываясь кашлем. — Еще не просохла, надо было развесить. Или сжечь в котельной. Но всего не упомнишь. А теперь уже поздно… — Он зажег верхний свет. Движения были быстрые, энергичные. Стоя перед шкафом, он через плечо измерил взглядом Симона, потом бросил на спинку стула темно-серый костюм, выдвинул ящики, из которых полетели рубашки, носки, майки, трусы, на полу приземлилась пара спортивных ботинок на толстой подошве. Его собственная одежда уже лежала наготове на постеленной для сна кровати в алькове. Вот он уже опять очутился у камина и шевелил каминными щипцами мокрую одежду, давая доступ воздуху. В комнату продолжал валить белый дым. — И окно открыть нельзя, — сказал Томас, вновь подходя к двери и прислушиваясь. Голоса затихли, но двери продолжали хлопать, по-прежнему раздавались шаги по лестницам и коридорам. — Они что, никогда не угомонятся? — проговорил он, подходя к окну. — А где же «скорая»?
Симон, откинувшись на спинку кресла, наблюдал за беспокойными, казавшимися призрачными в резком верхнем свете, движениями хозяина, пряди дыма раскачивались, напоминая снующие нитки ткацкого станка. Симон ощущал горький запах, во рту появился металлический привкус. Он изо всех сил боролся со сном.
Внезапно Томас повернулся к нему:
— Куда тебе надо?
— В город, — ответил Симон, моргая.
— Обязательно?
— Обязательно.
— Который час? — Томас взглянул на запястье, огляделся вокруг, но часов не обнаружил. — Скоро утро, пора тебя одевать. Или ты сам справишься?… Погоди-ка, — он исчез. — Вот, — сказал он, возвращаясь со стаканом в руке. Он плеснул в стакан жидкость из фляги. — Выпей. Это коньяк.
Симон не притронулся к стакану. Его лицо перекосилось от отвращения.
— Выпей, — приказал Томас. Он стоял, опираясь руками о стол. Внезапно лицо его побелело. — Пей, — повторил он. — Тебе надо взбодриться. Требуется поставить тебя на ноги. У нас мало времени.
— Пей сам, — ответил Симон. — Тебе это нужнее, чем мне.
Томас наклонился, лицо его вплотную приблизилось к лицу Симона.
— Ну и рожу ты состроил. Думаешь, я тебе яд даю?… Или, может, это противоречит твоим принципам? Ну конечно, пьянство — буржуазный порок! Плевать мне на твои священные убеждения. И на твою партию тоже.
— Катись к черту. — Симон смотрел прямо ему в глаза. Ни один из них не пошевелился.
— Ах ты, мой христосик, — сказал Томас. — Все еще чересчур слаб? Хочешь с ложечки?
Он взял стакан и медленно поднес его к губам Симона. Тот резко взмахнул рукой, и содержимое стакана выплеснулось Томасу в лицо. Две пары глаз, не моргая, продолжали буравить друг друга.
Томас выпрямился.
— Что за манеры, брат! — сказал он, вытирая рукавом лицо. — Самый старый выдержанный коньяк из домашнего погреба! Что этот пролетаришка корчит из себя? Ты попал в господский дом, имей в виду. Здесь живут порядочные люди. Здесь у нас имеются коньяк и шампанское, мозельское и бургундское, портвейн и real old scotch [29]. У нас есть кофе и табак, есть коке в подвале и горячая вода в трубах, есть все, что только можно пожелать. Ты что-нибудь имеешь против? Почему бы умным не надувать тех, кто поглупее? Пусть буржуазное общество разрушается из-за своих внутренних противоречий, чем быстрее, тем лучше. Разве не так? — Он вновь наполнил стакан. — Надеюсь, ты простишь бедного заблудшего буржуа, ставшего пьяницей от отчаяния из-за своей бессмысленной жизни?
— Мне-то что за дело, — отозвался Симон. — Можешь мучиться угрызениями совести сколько влезет, но меня не вмешивай. На тебя глядеть тошно, от тебя так и несет «душой, метафизикой, смыслом жизни». Протри глаза. Слова и рассуждения сами по себе бессмысленны. Они просто-напросто средство.
— Средство? — Томас осушил стакан. Он тяжело дышал, глаза были закрыты. Потом он снова налил. — Для чего?
— Для достижения ближайших практических целей.
— Каких целей?
— Имея глаза, обнаружить их не так сложно, — устало ответил Симон. — Покончить с войной, победить голод, нужду, невежество. И не ради души, а потому, что это условие нашего выживания. Призови на помощь свой здравый смысл.
— Ну, а как насчет твоего собственного здравого смысла? — спросил Томас и осушил стакан. — Откуда ты явился, брат? Как ты попал сюда?
— Они гнались за мной.
— Как они выследили тебя? — Томас поставил стакан и скрылся в алькове. — Это не вопрос, — послышался оттуда его голос, — я не желаю ничего знать.
В дверь тихо постучали. Симон уже был на ногах, он стоял голый, собираясь одеваться. Но тут опять упал в кресло и прикрылся халатом. Дверь чуточку приоткрылась, послышался приглушенный женский голос. К Симону подошел Томас с подносом в руках.
— Вот, поешь. Полагаю, тебе не мешает подкрепиться. — Он поставил поднос на стол. — Выпей, — сказал он, наливая пиво. — Поешь и выпей, тебе станет лучше.
От ледяного пива стакан запотел. Симон посмотрел на стакан, на четыре бутерброда и вдруг ощутил ужасающую слабость во всем теле от голода и жажды. Рука его дрожала, когда он брал стакан, и пиво немного расплескалось, от жадности, с которой он принялся поглощать еду, он закашлялся, на глазах выступили слезы. Халат соскользнул на пол, Симон наклонился, чтобы поднять его, и опрокинул стакан. Томас вытер стол полотенцем и вновь налил пива.
— Не торопись, — сказал он, — время еще есть. Если хочешь, могу добавить. — Симон, сидя с набитым ртом, заметил улыбку в голосе Томаса, перестал жевать и, опустив голову, оглядел себя. Полы халата разошлись. Он стянул его на груди и замер в такой позе. Томас отошел к камину. — Чертов дым, — проговорил он, отворачиваясь от огня. — Свет резковат, — добавил он и погасил верхний свет. — Так-то лучше… Тс-с-с, что там такое?
Вдалеке, в тлеющей тишине ночи завыла сирена «скорой помощи». На какое-то мгновенье она прорезала дальние стены мрака и погасла.
— Сиди, — приказал Томас в ответ на испуганный грохот отодвигаемого стула, — тебя это не касается. Кстати, твоя стрельба никого не задела, если ты этого боишься. Тут случай morbus cordis [30]. — Он быстро подошел к французскому окну, скрытому за шторой, приподнял ручку и потянул на себя так, чтобы можно было протиснуться в образовавшуюся щель.
Порывистый ветер стих, за окном было тепло и туманно. До рассвета, должно быть, оставалось совсем немного. Томас несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул воздух, потом перегнулся через балюстраду и посмотрел вниз.
Расплывчатые черные и серые пятна обрели более четкие контуры, превратившись в широкую въездную площадку, кусочек сада с темными кустами под стеной и широкую аллею, белевшую между черными кронами деревьев за стеной. Кто-то там прохаживался, мужчина и женщина. Они ожидали каждый сам по себе, не вступая друг с другом в беседу. Мужчина был лишь черным контуром на улице, но Томас сразу же его узнал по пульсирующему огоньку сигареты. Женщина ходила по тротуару вдоль стены сада, он не видел ее, только слышал постукивание высоких каблуков по плитам — цок-цок. Ему вспомнилась другая ночь, когда он сам ходил взад и вперед по переулку вблизи дома в ожидании «скорой помощи». На мгновение он перенесся в прошлое и опять сидел у кровати и видел стакан с водой и застывшими пузырьками воздуха на стенках, мелкие буковки на этикетке пузырька с лекарством, уродливую голую ступню и круглую черную дыру рта. Пытаясь отогнать видение, он оперся на балюстраду и сосредоточился на двух ожидающих внизу. Вот мужчина швырнул окурок, огонек, описав сверкающую дугу, погас. Хрупкое стаккато высоких каблучков затихло у дальнего конца стены. Вот они повернули назад. Снова приблизились.
«Скорая» примчалась со стороны Страндвайен. Машина въехала на аллею, сирена смолкла, и тотчас время понеслось вскачь, потеряло связанность, превратилось в отдельные, выхваченные из мрака и пропадавшие во мраке проблески. Фары осветили опустошенное белое лицо доктора Феликса и его высоко поднятую руку. Хлопок автомобильной дверцы, суетливые черные фигуры около машины. Ноги, идущие в дом, лучи карманных фонариков, шарящие по гравию, плитам, каменным ступеням лестницы. Приглушенное урчание работающего вхолостую двигателя. Ноги, выходящие из дома, медленно, осторожно, краешек носилок, красное одеяло, черные волосы и борода Габриэля. Негромкие мужские голоса, хлопок автомобильной дверцы, луч света, описавший круг и исчезнувший на Страндвайен, вновь завывшая сирена. Осталась только одинокая мелодия высоких тонких каблуков — цок-цок — по плиткам дорожки, вверх по лестнице. Неспешный тяжелый звук закрываемой двери.
Томас, перегнувшись через низкую балюстраду, спрятал лицо между руками. Она осталась. Феликс поехал, а она осталась с ним. Она будет его ждать, он знал. Не надо было бы стучать, он мог прямо войти к ней в темноту, и она бы обняла его и укрылась бы у него на груди, не говоря ни слова. И ему тоже не надо было бы ничего говорить. Томас закрыл глаза и вспомнил первую ночь, когда они встретились на пароходе, он видел ее руку, указывающую на фосфорическое свечение ночного моря, видел ее лицо под бледными звездами, над кучками спящих людей. Томас отнял руки от лица и прижался лбом к обжигающе ледяному железу. Он дышал часто и тяжело, открытым ртом. Внезапно он оторвался от балюстрады, круто повернулся и шагнул назад в удушливую жару и горький дым.
Он зажег свет. Симон заснул. Съежившись в кресле, он спал с полуоткрытым ртом, упираясь подбородком в грудь, полы халата опять разъехались, обнажив белое костлявое тело, тощие ляжки и черную растительность вокруг непропорционально большого члена. Голый беззащитный человек, каким бывает всякий спящий. На столе перед ним стояла пустая тарелка.
Томас легонько тронул его за плечо.
— Просыпайся, брат, — сказал он. — Пора.
Симон тяжело застонал. Руки беспомощно зашевелились, лицо перекосилось от муки.
— Лидия, — произнес он, уставившись прямо на Томаса невидящими черными зрачками.
— Кто такая Лидия? — спросил Томас.
Симон выпрямился, медленно, словно его оглушили.
— Что?… Что ты сказал?
— Я сказал: кто такая Лидия?
— Лидия? — Симон окончательно проснулся и рывком запахнул халат. — Какая Лидия?
— Именно это я и спрашиваю.
— Не знаю никакой Лидии. Откуда ты взял это имя?
Рука Томаса медленно приблизилась к лицу Симона, кончиками пальцев он провел по вспухшим царапинам, спускающимся по щеке и подбородку на шею и грудь.
— А откуда у тебя это?
Симон отбросил его руку. Мгновеньем позже он уже был на ногах. Томас отскочил за письменный стол. Они не спускали друг с друга глаз.
— Я что, обязан отчитываться перед тобой?
— Нет, конечно. Забудь. Я ничего не спрашивал. Просто еще ни разу не видел мужчину, который бы в драке пускал в ход ногти. Кто такая Лидия?… Нет, я не спрашиваю. Не хочу знать. Но ты, брат, думай, с кем спишь. Ты разговариваешь во сне.
— Заткнись, — проговорил Симон. — Заткни свою поганую глотку. Томас был белее мела. Он улыбался.
— Кто такая Лидия? — опять спросил он. — Хорошая девушка? Хороша в постели?
Симон сделал шаг вперед.
— Свинья, — прошипел он, поднимая руки над головой. — Грязная свинья…
— Поосторожнее с левой, — предупредил Томас, отступая. Симон не отставал ни на шаг. — Побереги левую. — Они медленно, как бы танцуя, заскользили по полу, не сводя друг с друга глаз. — Не бойся, — сказал Томас, — это останется между нами, братьями. Но если только она не чертовски хороша в постели, то я не вижу разумной… — Он пошарил сзади рукой, нащупал спинку стула и стремительным скачком укрылся под его защитой. — Ведь никогда не знаешь, — сказал он, — и если это она… — Он выдвинул вперед стул. Симон сделал прыжок, опрокинул стул, поскользнулся и, взмахнув руками, ударился левой об острый край. На секунду боль парализовала его. — Я хочу сказать, что это ведь может иметь последствия и для других, — сказал Томас. — Нет, нет, я ничего не спрашиваю, ничего не знаю… — Он сбросил халат с плеч и, переступив через него, швырнул его в Симона, накрыв того с головой. Тот покачнулся и упал, он боролся вслепую с опрокинутым стулом, с халатом Томаса, запутавшимся в его собственном, и наконец, освободившись, стремительно поднялся на ноги. — Только не левой, только не левой… — говорил Томас, парируя удары.
Две обнаженные мужские фигуры, точно два белых языка пламени, плясали среди мебели. Мертвая тишина опустилась над ними, слышалось только шлепанье прыгающих ног да горячее дыхание из открытых ртов. Они кружились, сталкивались, сливались воедино и вот, потеряв равновесие, покатились колесом из рук и ног по ковру. И вдруг все кончилось — Симон лежал распятый на спине, Томас придавил его руки к полу, зажав между ногами извивающееся тело. Они не спускали друг с друга глаз. Постепенно напряжение спало, они молча встали и, отвернувшись друг от друга, начали медленно одеваться. Симон был как в тумане, в висках стучала кровь, перед глазами все плыло, в ушах шумело, боль пульсировала в поврежденной руке. У него подкосились ноги, и ему пришлось сесть.
— Идиот, — выругался он шепотом.
— Что ты сказал? — послышался голос Томаса из алькова. — Опять во сне разговариваешь?
Симон, прочистив горло, повторил громко:
— Идиот!
— Христосик. — Томас, в одной рубашке, спокойно подошел к нему. — Помочь или сам справишься?
— Сперва сам научись штаны застегивать, — огрызнулся Симон. — Убирайся. Иди и подумай о своей бессмертной душе. Подумай как следует о смысле жизни.
— Жизнь не имеет смысла, — сказал Томас, застегивая верхнюю пуговицу рубашки. — Слова и мысли — всего лишь средство для достижения ближайшей практической цели… — Он взял со стола пистолет Симона. — Ты хоть раз кого-нибудь застрелил?
Симон, нагнувшись, натягивал носки. При последних словах Томаса он поднял голову и бросил на него быстрый взгляд.
— А ты?
Томас покачал головой.
— Я не могу. Этого не могу… Существует множество других способов убить человека, — сказал он. — Самый надежный — предоставить всему идти своим чередом, ни во что не вмешиваясь. Но застрелить человека?… Не могу. Даже самого себя. Почему-то этого я не могу. Быть может, потому, что это совершенно бессмысленно. Настолько бессмысленно, что становится смешным. — Говоря, Томас продолжал играть пистолетом.
Симон скривил губы:
— Ну вот, опять то же — смысл жизни. Священная неприкосновенная человеческая жизнь…
— Это я все знаю, — Томас протестующе махнул рукой. — Ты, естественно, совершенно прав. Застрелить другого человека — значит совершить практическое действие, продиктованное необходимостью. Человеком движет логика вещей, одна необходимость вызывает другую. Как нынче ликвидируют доносчиков? В часы пик отыскивают нужного человека на площадке трамвая, за секунды до остановки выполняют требуемое, соскакивают и исчезают в толпе. Вот так просто. Простое практическое действие. Все остальное — сантименты, буржуазная черная романтика… Ну а ты-то сам, брат, пробовал? — спросил он, подходя к Симону с пистолетом в руке. — Нет, нет, это не вопрос. Нам нельзя слишком много знать друг о друге. Можешь не отвечать, — добавил он, выпрямляясь. — Ты этого никогда не делал.
Симон посмотрел на него.
— Почему ты так уверен?
— Интуиция. Ты из тех, у кого руки трясутся. Ты не способен. Симон открыл было рот, чтобы ответить, но передумал. Он помотал головой.
— Держи, — сказал Томас, протягивая ему пистолет. — Ну-ка покажи мне, что ты способен прицелиться в человека и у тебя при этом не задрожит рука.
Наступило молчание, их глаза встретились вновь. Томас в расстегнутой белой рубахе стоял, широко расставив ноги. Симон сидел с пистолетом в руках.
— Чушь, — сказал он.
— Не способен, брат, — сказал Томас. — Ну, покажи мне, способен или нет.
— Пожалуйста, ежели это тебя развеселит, — согласился Симон с усталой гримасой. Он поднял пистолет. — Ну, доволен теперь?
— Жульничаешь, — сказал Томас. — Ты поставил его на предохранитель. Дай-ка. — Он взял пистолет из руки Симона, снял с предохранителя и отдал обратно. — Вот теперь порядок. Давай поиграем. Ты — борец за свободу, а я — доносчик. Я донес на тебя в гестапо. Они вот-вот явятся и заберут тебя. Поглядим, сможешь ли ты унять дрожь в руке?
И опять в наступившем молчании они не сводили друг с друга глаз.
— Кончай, — сказал Симон. — Это совершенно бессмысленно.
— Кто сказал, что бессмысленно? Что ты обо мне знаешь? Подумай-ка, в какой дом тебя занесло. В разгар оккупации мы купаемся в роскоши. У нас есть все, чего нет у других. Кто мы такие, по-твоему? Кто в этой стране наживается на войне? Пораскинь мозгами. Ты попал к коллаборационисту, дружок, а я женат на дочери коллаборациониста. Я ем его продукты, пью его спиртное и живу на его деньги. Его немецкие деньги…
— Вранье, — сказал Симон.
— Это истинная правда. Тебе бы следовало это понять давным-давно. Но ты ни шиша не понимаешь. Потеряв голову, ты в растерянности мечешься по городу и делаешь самое худшее из того, что мог сделать. Бросаешься прямиком в логово льва. Пока ты спал, мы позвонили в полицию. Они уже в дороге. Сейчас у тебя последняя возможность. Покажи мне, осмелишься ли ты воспользоваться ею.
Две пары глаз настороженно следили друг за другом. Пальцы Симона ощупывали пистолет, уголки рта подрагивали.
— Будь это правдой, ты держал бы язык за зубами, — проговорил он.
— Почему это? Откуда ты знаешь, может, мне все надоело? Войне скоро конец, а я поставил не на ту лошадь — может, мне вовсе не хочется, чтобы вы, такие замечательные и правильные, вываляли меня в грязи. А может, я просто игрок, может, мне нравится играть в орел и решку. Есть еще один вариант — я не решаюсь сделать это сам. Да мало ли какие есть варианты… Погляди на меня. Да не так, смотри внимательно. Это он серьезно? — думаешь ты. Уверяю тебя, я не шучу. Они придут, они уже едут, разве ты не слышишь, не чувствуешь этого в воздухе? Они придут с минуты на минуту, воспользуйся же возможностью, пока есть время. Подумай, во что ты влип, подумай о своих товарищах, которых ты предал, потому что вел себя как идиот. Или о Лидии. Подумай о Лидии. Соберись же с духом и покончи со всем этим. Черт возьми, ну давай же покончим с этим раз и навсегда…
Ладонь Симона сжала пистолет.
— Заткнись, заткнись, говорю тебе… или… клянусь Богом живым…
— Богом живым, ха-ха. Очень скоро ты попадешь к нему в руки. Через минуту, брат, они будут здесь, эти негодяи, они заберут тебя, и что тогда?… Тогда да поможет Бог твоим замечательным правильным святым товарищам. Ибо ты не из тех, кто способен молчать. Им не потребуется даже пальцем тебя тронуть, достаточно будет посадить в темную камеру и оставить там куковать, и ты сразу наделаешь в штаны и выложишь все, что знаешь. Потому что ты из породы тех, кто боится темноты. Ты боишься собственных мыслей, боишься всех и всего. Ты со своим здравым смыслом. Ты со своим братством, со своей священной человеческой солидарностью. Ты трус, брат, ты не годишься для этого ремесла, ты даже Не можешь употребить в дело пистолет. Ну докажи мне, что осмелишься… Ха-ха, клянусь Богом живым, не осмелишься. Не можешь. Не можешь. Ты не можешь…
Томас с белым лицом в белой рубашке стоял совершенно неподвижно и улыбался зеркально ясной улыбкой. Он видел, как дрожащими рывками поднимается черное дуло пистолета, видел, как лицо другого превращается в нечеловеческую маску с зияющей дырой рта посередине. Он ждал. Выстрела не было. Время замерзало, обращаясь в лед, в зеркально ясный прозрачный лед. Выстрела не было. Вот пистолет закачался, вот опустился— рывок за рывком, вот выскользнул из руки и упал на пол.
Симон сидел скрючившись, спрятав лицо в ладонях. Томас по-прежнему стоял прямо, ноги слегка дрожали, он закрыл глаза, потом открыл их. Наклонился, поднял пистолет и не глядя, отвернувшись, отложил его в сторону.
— Прости, брат, — сказал он. — Забудь, что я тебе тут наговорил. Все это, разумеется, полная чепуха.
У Симона затряслись плечи, дыхание стало прерывистым.
— Если бы ты знал, — проговорил он, не отнимая рук от лица, — если бы только знал…
— Я знаю, — торопливо перебил Томас. — Впрочем, нет, не знаю, — тут же возразил он сам себе, — лучше ничего не знать. Но то, о чем ты думаешь… лучше отступись. Предоставь это другим. Ты не способен… И не потому, что ты трус, — поспешил он добавить, — я отказываюсь от своих слов. Из нас двоих трус — я. Но на это ты не способен.
Симон медленно поднял голову и расширенными глазами посмотрел на него. Томас, избегая взгляда Симона, быстро огляделся, заметил серебряную фляжку Габриэля, взял ее и потряс. Она была пуста.
— Коньяка больше нет, — сказал он, подходя к шкафу, — придется удовольствоваться спиртом с эссенцией — пойлом, называемым также «eau de vie» [31]. — Он наполнил до половины стакан Симона, рука дрожала, жидкость пролилась на пол. — Прости, — сказал он. — Ну-ка, выпей, сколько сможешь. Внуши себе, что это необходимо. Прими как лекарство.
Симон послушался. Закрыв глаза, он с трудом сделал глоток. Томас поддерживал стакан.
— Еще немножко, — попросил он. Симон попытался, но безуспешно. Внезапно он сделал резкое движение, желтая жидкость выплеснулась через край.
— Больше не могу, — проговорил он, — мне надо… — Он встал. Томас проводил его в ванную и поддерживал голову Симона, пока его рвало. Потом вымыл ему лицо и дал стакан воды.
— Полежи немного, — сказал он, укладывая Симона на кушетку. — Ну как, получше? — Симон кивнул. — Я мог бы сообразить, что тебе от нее станет плохо, — сказал Томас, осушая стакан с «живой водой».-Ужасная гадость, — продолжал он, наполняя стакан, — но тому, кто привык, помогает. — Он вновь опорожнил стакан и глубоко вздохнул. — Небольшая терапевтическая доза, quantum satis [32]. Без нее трудно держать себя в руках. О чем это я говорил? Не имею ни малейшего представления. — Он отошел к кровати и вернулся уже в брюках. — Я на минутку выйду, а ты пока постарайся одеться, если сможешь. Мои часы куда-то запропастились, понятия не имею, который час, но мне кажется, скоро утро. У нас больше нет времени. Надо выбираться из дома. — Он в одних носках подошел к двери и прислушался. — Я на минутку, — повторил он, — только посмотрю, свободен ли путь. — И исчез, бесшумно закрыв за собой дверь.
Томас секунду постоял, привыкая к темноте. Рука его нашла перила, шедшие вдоль открытой галереи, он перегнулся и прислушался к тому, что происходит в холле. Ничего не увидев и не услышав, он, держась за перила, двинулся к лестнице и начал спускаться вниз, в тишину и могильный мрак. И тут услышал тиканье часов. Сунул руку в карман, вытащил коробок спичек, раздался сухой треск, между пальцами заплясал огонек. Он немедленно его загасил, потому что в ту же секунду часы начали бить. Казалось, он простоял целую вечность, прислушиваясь. «Раз, два, три», — громко посчитал он и еще до того, как последний хрупкий удар замер в тишине, уже опять поднимался по лестнице. Он завернул по галерее налево, к комнатам для гостей. Из-за одной неплотно прикрытой двери сочилась тоненькая желтая полоска света, из комнаты доносился возбужденный шепот. Он приложил ухо к щели и различил три или четыре голоса, но не… нет?… Вновь ощупью добрался до перил и пошел дальше, не отрывая руки от гладкой поверхности, удивляясь, что не вполне вла-' деет собой и не все четко помнит. Вскоре он оказался перед еще одной дверью. Нажал ручку, тихонько, беззвучно, чуточку приоткрыл дверь и бесшумно, как тень, скользнул внутрь. Не отпуская ручки, он стоял, не шевелясь, открыв рот, чтобы не слышно было дыхания, устремив неподвижный взгляд прямо перед собой. Светомаскировочные шторы были раздвинуты, балконная дверь, выходящая на пролив, распахнута. Холодный ветер снаружи принес облегчение, остудил лицо. Ее дыхания Томас не слышал. Иногда на шведском берегу можно было различить огни, он припомнил, что видел их раз или два, но то ли ночь была слишком туманной, то ли уже слишком поздно— сегодня огней не было. Он надеялся увидеть их, но огней не было. Нет, ее дыхания не слышно. Это значит, что… Что? Ему показалось, будто он различил тихий плач, едва слышный, но, вероятно, он ошибся. Или же она замолчала, услышав его шаги? Не могла она его услышать. Он надеялся… надеялся на что? Он постоял какое-то мгновенье возле ее двери, не издавая ни единого звука и глядя широко раскрытыми глазами в темноту. Потом вновь оказался в коридоре, закрыл дверь и быстро направился в свою комнату.
В комнате были зажжены все лампы, Симон одевался.
— Прекрасно, — сказал Томас. — Нам надо спешить. Уже три часа. — Он ловко опустился на колени перед Симоном, который сидел, наклонившись, и с тяжкими стонами пытался надеть ботинки, и помог ему. — Вроде годятся, — сказал он, завязывая шнурки. — Попробуй-ка, можешь ли ты в них ходить. — Симон немножко прошелся взад и вперед. Томас, по-прежнему на коленях, внимательно следил за ним. — Жмут? — спросил он. Симон помотал головой. Он стоял посреди комнаты, осматривая себя. Томас растянулся на полу, как будто он окончательно выдохся и изнемог, потом прыжком вскочил на ноги. Тоже надел ботинки и, встав перед зеркалом, причесался и повязал галстук. — Тебе тоже нужен галстук, — сказал он, выбрав красный в белый горошек. — Иди-ка сюда. — Он накинул галстук Симону на шею, затянул узел и полюбовался своей работой. — Вполне прилично, — кивнул он одобрительно. — Пиджак, где пиджак? — Подал Симону пиджак, застегнул, одернул, расправил. — Как на вас сшит, ваша милость, — сказал он, обходя Симона с портновскими ужимками, — может, чуточку великоват и мешковат, но нынче такие носят, нынче это в моде. Ну-ка, — он взял Симона под руку и подвел к зеркалу. — Посмотри, как мы похожи, вполне могли бы сойти за братьев… Возможно, даже за близнецов, — сказал он, — если бы не вмешательство того, что называют средой. — Он повернулся к шкафу. — У меня нет ни братьев, ни сестер, — сказал он, перебирая на полке шляпы. Он выбрал мягкую серую фетровую шляпу и надел ее на голову Симону. — Видишь, мы даже шляпы можем носить одинаковые, — воскликнул он с торжеством, поправляя поля. — Так? — спросил он, загибая поля вверх. — Нет, вот так, — и опустил поля вниз. Руки у него вдруг упали, лицо стало пустым, точно он внезапно провалился в наполненную молчанием яму. Их глаза встретились в зеркале. — Мы готовы? — спросил Томас, быстро осматриваясь вокруг. Он подошел к камину. Дым больше не валил в комнату, раскаленные угли тлели под наполовину обгоревшим тряпьем. Томас подложил дров, взял мехи и раздул пламя. — Будем надеяться на лучшее. Плохо, если после нас что-нибудь обнаружат. Я хочу сказать, плохо для тех, кто здесь остается. Для нас-то это не так важно, мы сюда не вернемся. Да, я тоже не вернусь, — сказал он, отвечая на немой вопрос стоящего за его спиной, — от проживавшего здесь человека не останется ничего, кроме синего костюма. Первоклассного, сшитого на заказ костюма. — Он поднялся и отряхнул с брюк пыль и пепел. — Не беспокойся за меня, брат, — добавил он, — я найду себе другое пристанище. Я человек неприхотливый, не думай. На самом деле все, что мне требуется, — это стол, стул и кровать. — Он вдруг громко рассмеялся и повернулся.
Симон стоял посреди комнаты и смотрел на него. Он снял с головы шляпу и теперь мял ее в руках.
— Я боюсь…
— Чего ты боишься? — поинтересовался Томас, смеясь ему прямо в лицо. — Не думай обо мне, я ничего не боюсь. Да, да, я вовсе не хвастаюсь, на самом деле это серьезный недостаток. Кажется, есть такая сказка — о человеке, который отправился бродить по свету, чтобы узнать, что такое страх. И первый раз испытал его, когда его возлюбленная вывалила ему за шиворот ведро живой колюшки. Так вроде? Забыл я свои сказки. Ничего теперь не помню… — Его лицо побелело, ноги дрожали, взгляд блуждал.
Симон сжал его руку.
— Помолчи, — сказал он, — иди сюда. Сядь и помолчи немного.
— Зачем? — спросил Томас, вскакивая со стула. — Нам рассиживаться некогда. Надо держаться на ногах, — сказал он, отходя в сторону, — надо, ради всего святого, держаться на ногах. Не обращай на меня внимания, это сейчас пройдет. Я только подумал… ты знаешь, вещи и события имеют свойство повторяться. Возможно, человеку под силу пережить одно-единственное событие в своей жизни, или же он хочет пережить лишь это единственное событие. Сам вызывает его, сам собственными руками лепит его, заставляет его происходить, не сознавая этого. Оно происходит по-разному, принимает множество разных личин, но человек все равно его узнает. Замечает по тишине. Тишина может значить очень многое. Даже такая малость, когда не слышишь дыхания другого человека. Стоишь, прислушиваешься и ничего не слышишь. И тогда интуитивно чувствуешь. Ибо все происходит именно в тишине. Слова не говорят ничего, а тишина что-то говорит…
— О чем это ты? — спросил Симон.
— Ни о чем. — Томас, стоя к нему спиной, что-то искал в гардеробе. — Может, это просто игра воображения, — сказал он, — и твое чувство ничего не значит… Да, разумеется, оно ничего не значит, — сказал он, возвращаясь назад, — но порой бывает необходимо болтать чепуху. Так же как необходимо держаться на ногах. Там, куда мы идем, спиртное есть?… Вряд ли. Вряд ли нас угостят спиртным, когда мы умрем… — Он наполнил Габриэлеву фляжку «живой водой» и сунул ее в задний карман. Остатки вылил в стакан. Рука дрожала, и ему пришлось немного подождать, пока она успокоится. — Извини, — сказал он.
Симон подошел к нему и взял стакан.
— Тебе больше пить нельзя, — сказал он спокойно.
— Отдай, — проговорил Томас. — Это лишь последняя те… тера… вот, забыл слово. Все забываю. Но ты за меня не бойся, я из тех, кто чем больше пьет, тем трезвее делается. Ничего не случится. Ну, отдай же мне стакан, — сказал он, протягивая руку.
Симон поднес стакан ко рту и осушил его. Он пил не спеша, ни один мускул на лице не дрогнул, взгляд не отрывался от лица Томаса. С легким стуком он поставил стакан на стол. На какое-то время воцарилось молчание, потом Томас рассмеялся.
— Ого, черт побери, — сказал он, смеясь. Ему хотелось отвести взгляд, отвернуться, но глаза Симона не отпускали его.
— О чем ты думаешь, Томас? — спросил он. — Скажи, чего ты боишься. Может, я смогу тебе помочь.
— Избавь меня от своей священной марксистской любви к ближнему, — ответил Томас. — Помоги лучше самому себе.
— Не бойся, — сказал Симон. — То, о чем ты думаешь, не случится. Я видел ее. Она этого не сделает.
— Кто и чего не сделает? — спросил Томас. — В твоем катехизисе для правоверных написано далеко не все. Нельзя узнать человека, всего лишь увидев его. Кстати, о ком, черт возьми, мы говорим? Стоим и болтаем. На это у нас нет времени. Штаны застегнул, брат? Готов отправляться в путь? Не забудь самое главное. — Он взял со стола пистолет и протянул его Симону. Тот, не глядя, сунул его во внутренний карман. Он не сводил глаз с лица Томаса. — Sо ein Ding mufi ich auch haben [33], — проговорил Томас и, точно фокусник, вытащил из бокового кармана пиджака миниатюрный пистолет. — Погляди-ка, этот будет поудобнее. Никогда не знаешь, что тебя ждет. — Он приставил дуло к виску и начал считать: — Раз, два… скажи три, брат. Скажи три.
— Прекрати, — сказал Симон. — Все равно ведь духу не хватит.
— Еще как хватит. Скажи три.
— Позер, придурок, — устало сказал Симон. — Все это смешно.
— Вот в том-то и дело, — ответил Томас, паясничая, — это — комично. Изо всех человеческих поступков самый смешной — самоубийство. И, поняв это, человек уже не может покончить с собой. Не может относиться к этому серьезно.
— Отговорки, — возразил Симон.
Томас подбросил пистолет в воздух, поймал его и спрятал в боковой карман.
— Мы готовы? — спросил он. — Багаж собран? Пижама? Нет. Чистая рубашка? Нет. Написать пару прощальных слов? Тоже не стоит. Это тоже смешно. Надевай шляпу. Пошли.
— Как мы выберемся отсюда? — спросил Симон.
— Недооцениваешь, чьим гостем являешься, — сказал Томас. — У нас, имеющих все, имеется, естественно, и автомобиль и бензин и разрешение.
— А комендантский час?
— Имеется бумага. Ты что, боишься, что я не смогу вести машину? Не волнуйся. Я совершенно протрезвел. Трезвее никогда не бывал. Кстати, улицы пусты, так что интересоваться, не выпил ли водитель, будет некому. Идем. Марш…
Он вытолкнул Симона и закрыл дверь, не оглянувшись.
— Возьми меня под руку, — приказал он. — Ты не ориентируешься в доме, а свет зажигать не стоит. Полагаю, лучше, чтобы нас никто не видел. — Они под руку миновали коридор, спустились по лестнице, пересекли холл. Томас с уверенностью лунатика продвигался в абсолютной темноте к двери в прихожую. Закрыв ее за собой — быстро и беззвучно, — он зажег верхний свет. — Здесь можно рискнуть, — сказал он, сунув голову в шкаф, — самое опасное уже позади. — Он бросил Симону пальто. — Надень. Это мое. — Он продолжал перебирать одежду, висевшую на латунной перекладине, нашел меховую шубу Габриэля, залез во внутренний карман и вытащил листок бумаги. — Слава Богу, — воскликнул он, кладя бумагу обратно в карман, — я боялся, что он спрятал свой аусвайс [34]. Никогда нельзя знать… Так, теперь ключи. — В руке у него очутилась большая связка ключей. — Ключ от зажигания? От гаража? Вот они. Иногда везет. — Он вытащил из шкафа шубу, надел на себя и застегнулся. — Сшита на другую фигуру, — проговорил он, оглядывая себя в зеркало, — на низенького толстого смешного господина. Но этого никто не заметит. Шляпа? Я забыл шляпу. — Он поискал на полке, нашел высокую меховую шапку Габриэля, нахлобучил ее на голову и покривлялся перед зеркалом. Симон не мог сдержать улыбки — настолько комично выглядел Томас. — Д-да, маловата, — прокомментировал тот, — ну да ладно. Иметь при себе частицу моего тестя не помешает — там, в незащищенности, черноте и пустоте. — Он погасил свет. Звякнула откинутая цепочка на массивной входной двери, щелкнул замок. — Ваша милость, — сказал Томас, распахивая Дверь в темноту, — только после вас. Натяни шляпу глубже. Если нас остановят, сиди спокойно, не раскрывай рта и предоставь все мне. В этом Можешь на меня положиться. — Он отпустил дверь, и она закрылась, тихо чмокнув. — Я же сказал, что ничего не боюсь…
— Так на чем мы остановились? — сказал Томас, резко повернув голову сначала налево, потом направо, прежде чем выехать на Страндвайен. — Да, все дело в том, что слова очень быстро теряют свое значение. Просто-напросто сами себя отменяют, — говорил он, увеличивая скорость. — Тот, кто ищет, не обрящет. Тот, кто спрашивает о смысле, уже задает бессмысленный вопрос. И нам следует радоваться этому, ибо это великая милость… Ты слушаешь? — спросил он напряженную тишину за спиной. — Ну ответь хотя бы, что ты не желаешь слушать мою болтовню, скажи, что страх и боль имеют физическую природу, скажи, что слова и мысли служат достижению ближайшей практической цели. Остальное лишь игра воображения — скажи мне это. В настоящее время это не так уж далеко от истины.
Он бросил быстрый взгляд назад и уловил в бледном предрассветном освещении очертания застывшего белого профиля. Даже носы у нас похожи, подумал он, с одинаковым чуть вздернутым кончиком. От этой мысли он испытал тайную радость и улыбнулся про себя, в то же время зорко вглядываясь в пустынную дорогу, расстилавшуюся перед ним в мертвенном желтом свете уличных фонарей. По обеим сторонам появились дома, высокие спящие дома с черными слепыми окнами, лишь кое-где — отблеск, отражение, движение, намек на далекую жизнь. Они ехали по лунному ущелью из камня и тишины, и черные контуры были накрыты невидимой тенью. Радость Томаса росла, он ощущал свое теплое дыхание, чувствовал свои живые глаза, свои легкие живые руки на руле. Прыгало и радовалось в груди сердце.
— Брат, — обратился он к черному безмолвию тесного замкнутого пространства, — на твоем месте я не стал бы глядеть на улицу, я бы откинулся поудобнее и подумал о чем-нибудь другом. Сейчас это было бы наиболее целесообразным. Но чем бы мне тебя отвлечь? Я больше не в силах говорить о себе. Слово «я» тоже одно из этих бессмысленных слов. Когда я думаю «я», я уже больше не я, от моего «я» остается лишь противный запашок. Высказать тебе свои сомнения по поводу твоего священного абстрактного «мы», твоего великого братства людей всей земли? Нет, не буду тебя оскорблять, мне гораздо больше хочется объясниться тебе в любви. Я так сейчас счастлив, я почти готов сказать, что люблю тебя, если бы ты не сидел так далеко, я бы поцеловал тебя прямо в губы. Нет, это ни к чему, мы же мужчины. А слово «любить» — одно из тех слов… Женщины, поговорим о женщинах, а? Кто такая Лидия?
— Лучше смотри, куда едешь, — сказал Симон.
— Наконец-то хоть слово от тебя услышал, — ответил Томас. — Не волнуйся, я смотрю, только и делаю, что смотрю. — Его взгляд был устремлен на освещенную полосу возле ворот какого-то огромного здания, он слышал урчанье моторов и различил — вот — стену из неровного бетона, поднятый ствол пулемета, пепельно-серые тени, похожие на человеческие фигуры, суетящиеся в световом кругу. Он до предела выжал педаль газа, и видение со свистом улетело назад. Как пустота, подумал он, слепое белое пятно в живой тьме. — Гости на нас даже не взглянули, — сказал он. — Так на чем мы остановились?… Лидия, как она выглядит? Мне кажется, я могу угадать, я почти вижу ее. Длинные ноги и узкие бедра, маленькая грудь и серые глаза… Я не ошибся?
— Не можешь ли ты помолчать, — раздался голос из темноты за его спиной.
— Это единственное, чего я не могу, — ответил Томас, — придется тебе слушать мою болтовню. Не потому, что я боюсь — сегодня ночью с нами ничего не случится, — а чтобы не заснуть. Я немного устал, не хотелось бы заснуть за рулем. У меня нередко бывают такие короткие приступы сна, они настигают меня как тать в ночи. Посему я должен говорить. Ежели я вдруг замолчу, толкни меня. Я, правда, очень устал, но это счастливая усталость. Пожалуй, никогда не чувствовал себя таким счастливым. И потому я должен говорить. Слова — замечательный аккомпанемент, они обладают способностью усиливать чувства — и радость и ужас. И вот сейчас эти два ощущения как бы слились в высшем единении. Это и есть истинное чувство жизни. На чем мы остановились? Ах да, Лидия. Она, наверно, удивительная девушка, раз ты мог… Нет, не будем говорить об этом, я знаю, для тебя это мучительно. Но пусть это тебя не мучает. Надо любить то, что происходит, а не то, что должно было бы произойти. Ты чересчур пуританин, брат. Закрой глаза, потому что там… погоди-ка, мы обойдем их сзади… — Он стремительно крутанул руль, машина резко повернула направо, Симон судорожно вцепился в сиденье, свет фонаря описал дугу и остался позади. На какое-то время стало тихо — Томас, не спеша выровняв ход, кружил по узеньким улочкам. — Полагаю, что я знал немало женщин, — сказал он, — рослых и маленьких, молодых и старых. Сейчас у меня в голове все перемешалось, я не в состоянии даже отличить их от мужчин, с которыми я встречался. Я, кажется, знал массу разных людей. Сейчас я забыл их имена, но все они существуют и притаились здесь, во мраке. Счастливая мысль, правда? — Он миновал круговую развязку и въехал в широкую аллею, обрамленную по обеим сторонам темнотой парка. — Подъезжаем к Трем углам, — сказал он, — куда тебе надо?
Симон на мгновенье задумался, потом ответил:
— В Кристиансхаун.
— Но здесь притаилось и кое-что другое, — сказал Томас. — Откинься назад, посмотри туда на деревья, видишь тень, как бы отделившуюся от всех остальных теней? Погляди на вот тот приближающийся фонарь, видишь там черный круг и еще один рядом? Нет, ни о чем не спрашивай, не будем касаться непреложных вещей, не будем убегать от них, требуя от них смысла. Пусть прекрасные бессмысленные слова останутся тем, что они есть, поверим, что они означают одно и то же, жизнь и смерть — одно и то же… ах, брат, я люблю тебя. Испуганного героя-пуританина… Если бы ты сидел поближе, я бы поцеловал тебя. Нет, нет, не бойся, сегодня ночью с нами ничего не случится. А ты смотри, смотри на то, что вокруг, посмотри на край вон той клумбы, она ведь как живая, погляди, как дрожит стена дома, посмотри, как скользят трамвайные рельсы, посмотри, как они отливают серебром… Черт! — выругался он и сделал быстрое движение, когда сияние рельсов превратилось в огненное солнце, помчавшееся ему навстречу и ослепившее его. Точно белая тьма, подумал он и увидел плоские серо-зеленые тени, движущиеся по мостовой. — На этот раз нам не улизнуть, — сказал он, резко тормозя, — они подали знак. Пистолет, ты его спрятал? Если нет, засунь поскорее под сиденье. Это немцы. — Машина плавно остановилась. — Сиди и молчи. Если они тебя о чем-нибудь спросят, покачаешь головой, ясно? Постараюсь, чтобы этого не произошло…
Хлопнула дверца, Томаса уже не было. Симон заморгал от резкого белого света. Но вот луч сместился в сторону, высветив Томаса, приближающегося к двум фигурам в серо-зеленой форме, — он казался черным пятном в своей черной толстой шубе и высокой черной меховой шапке. Подняв два пальца к шапке в знак приветствия, он тут же быстро заговорил. Симон улавливал лишь отдельные немецкие слова. Одна фигурав форме подняла руку, открыла рот и что-то сказала. Томас повысил голос: «…aber verstehen Sie doch nicht, daβ ich…» [35]. Он отчаянно жестикулировал, воздевал руки, словно заклиная, извлек из кармана некую бумагу и, подержав ее минуту на свету перед двумя парами глаз, снова сложил и спрятал. «Was? Sie wissen nicht…» [36], — услышал Симон его голос, «Sie kennen nicht…» [37]. И потом: «…aber das ist ja sinnlos, das hat überhaupt keinen Zweck…» [38]. Одна фигура в форме покачала головой и протестующе подняла руку, другая медленно направилась к машине. Симон видел, как она приближается, слегка размытая и мерцающая, словно зеленоватая тень, видная сквозь прозрачную воду, и только черные шагающие сапоги да выпирающая черная кобура у бедра были реальными. За стеклом возник белый овал лица, глаза всматривались в темноту. Симон заставил себя сидеть неподвижно, мышцы напряглись, точно сведенные судорогой. Но вот лицо отдалилось, сапоги и кобура не спеша зашагали обратно к Томасу, который по-прежнему стоял в центре светлого пятна, что-то говоря и жестикулируя, удивительно большой и черный. Вдруг он сорвал с себя шапку, подбросил ее в воздух и ловко поймал головой. Он громко засмеялся. Фигуры в форме тоже засмеялись. Все трое быстро пошли к автомобилю, казалось, что они идут в ногу. Рука Томаса протянулась к дверце. Он открыл ее и уже занес одну ногу в машину. «Danke vielmals», произнес его голос прямо в ухо Симону, «nа also, weg, los, weiterfahren» [39]. Хлопнула дверца, Томас уже сидел за рулем, он приложил два пальца к шапке и включил скорость. Снаружи, на свету, фигуры в форме отступили назад, щелкнули каблуками и отдали честь. Впереди стлалась световая дорожка, дорога изгибалась, горбатилась, высокие пепельно-серые стены отвесно вставали из темноты и опять погружались в темноту. Потом их точно языком слизнуло. Автомобиль два-три раза повернул, и Симон различил круглый купол киоска на Трех углах, они были уже на Эстерброгаде, справа открылся глубокий мрак озера Сортедамсэен. К Симону постепенно возвращалась способность дышать. Томас, большой, черный, сидел за рулем и мурлыкал какую-то немецкую песенку.
Симон, вцепившись в спинку переднего сиденья, нагнулся к водителю. Он откашлялся, чтобы избавиться от комка в горле, и начал:
— Как… как тебе удалось…
— Aber ich habe keine Ahnung… [40], — дробью застучал голос Томаса о ветровое стекло. — Извини, — оборвал он себя, — я никак не выйду из роли. — Лицо его улыбалось, в темноте белели зубы, и Симона вдруг поразило, как молодо он выглядит. — Не знаю, честное слово, я просто болтал. Показал им бумагу. Назвал фамилию.
— Какую фамилию?
— Первую немецкую фамилию, которая пришла мне в голову. Может, фамилию моего портного-еврея, или фон Меншеншрека [41], или фон Мюнхгаузена, понятия не имею. Не спрашивай, что я им говорил. В таких случаях надо, чтобы слова опережали мысль. Надо все время говорить, чтобы не было времени думать. Слова просто-напросто сражаются с другими словами, как в дискуссии. Как в политической дискуссии… — Он повернул голову налево, к спящему вокзалу Эстерпорт, потом направо, к угольной черноте железнодорожного полотна с горящими фонариками вдоль путей. — Я уже говорил тебе, что не боюсь, — проговорил он, опять улыбаясь. — Удивительно только, что при этом не можешь избавиться от скуки. Право, от этого всего становится скучновато…
Симон опустился на свое прежнее место в углу. Внезапное изнеможение охватило его, он зевнул и закрыл глаза — всего на какой-то мимолетный миг, — но когда открыл их снова, увидел, что они уже на Конгенс-Нюторв, и его всего передернуло от ужаса, потому что машина медленно, очень медленно приближалась к немецкому сторожевому посту у освещенного портала. Самое ужасное, подумал Симон, изо всех сил прижимая руки к груди, конечно, самое ужасное оказалось правдой… Он так и знал, знал с самого начала, вся зловещая взаимосвязь событий вдруг четко предстала перед глазами: тот, другой, в своей белой расстегнутой рубахе, спокойно улыбающийся прямо в дуло пистолета… огромный и черный в ярком свете фар, весело болтающий с гестаповцами… и вот сейчас, в эту минуту готовый передать его прямо в руки врага. Они уже въехали в полосу света, тот, другой, не спеша приложил два пальца к шапке и бегло осмотрелся, как бы в поисках места, где можно припарковаться. Рука Симона панически шарила за подушками сиденья, ища пистолет, — и в ту же секунду автомобиль рванулся вперед, оставив позади все дурные предчувствия, и Симон услышал невозмутимый голос, шедший от приборной доски с ее надежно горящими огоньками: «Извини, но я полагал, что так лучше, если мы не хотим, чтобы нас опять остановили. Куда в Кристиансхауне?»
Симон не ответил, молча борясь со стыдом. Идиотизм, думал он, все это полнейший идиотизм… Автомобиль повернул, и еще, и еще раз, тьма редела там, где угадывался порт, голос сказал: «Успокойся, здесь ничего не случится. Закрой глаза, если можешь…» Симон не послушался совета, выпрямившись, он застыл на сиденье, глядя вперед, туда, где вскоре должен был возникнуть мост; он увидел, как свет со сторожевой вышки отражается от шлема и винтовки, то исчезающих из пятна света, то вновь появляющихся… скорее, скорее, беззвучно молил он, ногти впились в ладонь, пальцы ног зарылись глубже в носки ботинок, ибо тот, другой, вновь замедлил ход, вот часовой остановился, двинулся за ними, за освещенным передним стеклом шевелились черные тени, а машина медленно, бесконечно медленно заскользила мимо и въехала на мост, и Симон сквозь косые железные балки вглядывался в туманную морскую мглу слева, различая вдали бледный подвижный свет, и смотрел направо, в сторону порта, и видел черными виселицами вздымающиеся на темном фоне краны, слышал шум с верфи, видел, как вспыхивают голубые молнии сварки за громадным, похожим на призрак сверкающим скелетом из железа и закопченного стекла, и наконец все как будто остановилось, как будто они уже давно стояли на месте, будто их окликнули и они остановились и теперь ждут только топота бегущих ног, и ему показалось, что воцарившаяся тишина засасывает его, словно черная вода. Потом они вдруг оказались на другой стороне, посреди узкой расщелины улицы, и он вновь услышал голос: «Куда именно в Кристиансхауне?»
— Все равно, — ответил Симон, прерывисто дыша, — куда-нибудь. Чуть подальше… Нет, направо. Лучше направо.
Томас пересек площадь, свернул в улочку, ведущую к Воллену, и остановил машину. Он заглушил мотор, выключил фары и замер за рулем. В серебристо-сером туманном свете, не имевшем, по-видимому, никакого источника, стояло, раскинув ветви, высокое дерево. За деревом в том же призрачном свете виднелся дом. Отворилось окно, из дома послышался детский плач, из окна высунулась женщина — ее голова и плечи обозначились темным контуром на фоне красноватого свечения. «Это вы, доктор?» — произнес голос сквозь черную сетку ветвей.
Томас спустил боковое стекло.
— Еще нет, — крикнул он вверх, — он сейчас приедет.
Окно захлопнулось, опустилась штора. Двое в машине молчали. Потом Томас протянул руку назад, туда, где сидел Симон.
— Прощай, брат, — сказал он, не поворачивая головы. Симон взял его руку и задержал в своей.
— Ну, а что теперь с тобой будет? — спросил он.
— Не думай обо мне, — ответил Томас, отнимая руку. — Уж я попаду туда, куда мне надо.
— Понимаешь, я ведь не могу предложить тебе…
— Знаю. Не беспокойся обо мне. Я найду себе пристанище. Или же просто вернусь туда, откуда приехал. Конечно, так я и сделаю. Что же еще?
— Да, но ты говорил…
— Забудь, что я говорил. Все это была пустая болтовня. Пистолет у тебя? Поторопись-ка, здесь нам нельзя оставаться.
Симон пару раз глубоко вздохнул.
— Твоя одежда… — начал он.
— Оставь ее себе. Сожги, выброси где-нибудь в порту, делай с ней что хочешь. Мне она уже не пригодится.
— Идиот чертов, — вырвалось вдруг у Симона. — Ты-то сам годишься на лучшее, чем бессмысленная гибель.
— Кто сказал, что человек должен на что-то годиться? Поторапливайся, иди и покончи с войной. Иди, спасай мир, иди к своему священному братству желтых, коричневых, белых и черных. Я в это не верю. Я ни во что не верю.
Симон помедлил, не зная, как ответить.
— И не надо. Сейчас речь идет только о…
— Знаю. О ближайшей практической цели.
— Да, а разве сегодня имеет значение что-нибудь еще? — сказал Симон. — Сейчас ведь и этого довольно? И здесь ты должен быть вместе с нами. Это поможет не только тебе. Это поможет и многим другим.
— Прекрасно, я согласен. — Томас выключил зажигание и спрятал ключи в карман. — Я присоединяюсь к вам. Пошли… — Он распахнул дверцу машины.
Симон по-прежнему сидел в своем углу.
— Это исключено, — сказал он. — Именно сейчас это исключено. Но ты можешь…
— А, заткнись, — сказал Томас, поворачивая к Симону белое как мел лицо. — Христосик! Ты и вправду решил, будто я серьезно? Вы что, вообще не понимаете шуток? Выходи. Я тебя никогда не видел, в этом по крайней мере можешь быть уверен. Я не знаю тебя, ты не знаешь меня. Мы друг про друга ничего не знаем. Запомни хорошенько на тот случай, если кто поинтересуется…
Тот, другой, быстро скользнул сквозь бледную влажную пелену света, обволакивавшую дерево, и исчез в улице, которая вела назад к каналу. Вокруг было тихо и мертво. Голова Томаса медленно упала, он прижался лбом к рулю и тяжело вздохнул. «Спать», — произнес он громко. Время ускользало, Томас сидел с закрытыми глазами, потерянный, опустив голову, опустив плечи. Потом вдруг рывком выпрямился; он не имел представления, сколько он проспал — много минут или несколько секунд. Вынул из кармана ключ зажигания, собираясь завести машину. Рука сильно дрожала. «Ты не сможешь, — сказал он вслух самому себе, — один ты не сможешь». Пошарив в карманах, он нашел серебряную фляжку с «живой водой», открутил колпачок и сделал большой глоток. Он сидел во мраке и широко раскрытыми глазами смотрел на бледное серебристое свечение над влажным голым деревом. Время ускользало, возвращалось обратно, ускользало, возвращалось, ускользало… Фляжка в руке наклонилась, жидкость пролилась на шубу. Он этого не заметил.
Внезапно он оказался снаружи. Он стоял рядом с машиной, уже успев запереть дверцу. Услышал, как падают капли с дерева, увидел, как оно, в своей паутине света и мрака, заскользило назад. Он быстро шагал по узким черным вымершим улочкам, чувствуя легкое головокружение, беспокоясь лишь, не опоздал ли он. Нет, не опоздал, он проспал не больше минуты, потому что тот, другой, как раз завернул за угол у канала и на миг показался в голубоватом ярком сиянии, исходившем из огромного помещения на другом берегу. Томас прибавил шагу и, дойдя до угла, успел увидеть его тень, черной ночной птицей прорезавшую мертвенный желтый свет на перекрестке и исчезнувшую среди деревьев вдоль канала. Сам же он, быстро перейдя через мостик, поспешил следом по другой стороне. Тот, видно, вовсе не торопился, потому что внизу у следующего мостика его приглушенные шаги внезапно возникли из темноты и тишины. Томас вжался в какой-то подъезд и замер, пока звук не затих у следующего угла. Теперь можно было не спешить, он точно знал, в каком направлении идти. Тот, другой, свернул налево вдоль канала и потом направо через последний мост в непроницаемую угольную тьму мертвых пристаней, пустых причалов, брошенных фабрик, сараев и пакгаузов. У моста Томас остановился. На другой стороне чернела непроглядная темь, звук шагов замер внезапно и сразу. Значит, то место находится где-то поблизости. Томас, без сомнения, найдет его, но переходить мост пока еще ни к чему. Спешить некуда. С этой минуты не существует ничего, из-за чего следовало бы спешить.
Он спокойно побрел назад вдоль канала, казалось, он уже забыл про Другого. «Позволю себе такую вольность ненадолго забыть про тебя, брат, — произнес он вслух. — Чуточку свободы у человека должно быть, а я ужасно устал. Блаженная, счастливая усталость…» Он провел пальцами по стене дома — возникло ощущение живой подрагивающей кожи. Скоро утро, люди возносятся к свету, люди беспокойно мечутся во сне, заполненном враждебными сновидениями. Он чувствовал это, слышал это. В глубине одного дома раздался женский крик, но в нем звучала радость, не страх, а жаркая дикая радость. «Кровать, — сказал он и начал искать вход, — может, там есть кровать?» Он дернул ручку маленькой дверцы в середине громадных ворот — она была заперта. «Какая жалость», — сказал он, устало улыбаясь. Глаза его уже давно привыкли к темноте и четко различали предметы, он стоял и рассматривал рыбацкие сети, натянутые на двух мачтах, — плотные черные узоры, вытканные на более светлом сером небе. Вид этот привел его в восхищение. В туманном воздухе послышались тяжелые шаги по палубе, скрип открываемого люка, потом застучал, разогреваясь, керосиновый движок, мелькнул свет в затемненном иллюминаторе. «Люди, — произнес он и повторил это слово по-немецки, по-английски и по-французски: — Menschen… human beings… les hommes…» Он совсем было уже решил подняться на борт, посидеть вместе с ними под лампой в тесной теплой каюте, но по дороге к причалу забыл свое намерение. Время ускользало от него и возвращалось, ускользало и возвращалось, ускользало и возвращалось, в мозгу всплывали одни и те же слова: «Люди… спать… устал, ужасно устал». Было еще одно слово, которое он когда-то знал, может быть, еще в детстве, но оно никак не желало появляться. Он чувствовал, что вот-вот ухватит его, несколько раз чуть было не наткнулся на него, но каждый раз оно опять исчезало. Пока он занимался поисками забытого слова, ноги сами привели его обратно к мосту, он стоял чуть правее, а прямо перед ним находился небольшой трактир, расположенный в подвале. Света в окнах не было, изнутри не доносилось ни звука — и все же он был уверен, что там кто-то есть. Крадучись спустился по ведущим вниз четырем ступенькам и приложил ухо к двери — ему показалось, что откуда-то издалека доносится женский голос. Он понимающе улыбнулся этому глубокому теплому живому женскому голосу, говорившему вот так поздно ночью или так рано утром, и уже было поднял руку, намереваясь постучать. Но тут мысли его приняли другое направление. А вдруг это всего лишь эхо голоса, который он однажды слышал, один из его собственных призраков. На него вновь навалилась усталость, реальная, смертельная усталость, ноги отказывались подниматься по лестнице, ему пришлось вцепиться в перила и буквально вытащить наверх свое тело. «Ужасно устал, — сказал он, — sehr mude… very very tired… trиs fatiguei…» [42] Он осмотрелся. Над пустынным портом возвышались краны. Взгляд Томаса блуждал по сторонам, мысли путались в неровных зубчатых контурах, но справа от трактира он обнаружил брешь в окружавшей его тьме и невольно улыбнулся при виде ветхого домишка. Его удивило, что он так отчетливо различает домик, над которым нависала плотная чернота громадного, похожего на крепость, пакгауза, но возможно, это объяснялось тем, что дом был знаком ему с прежних лет, он до сих пор стоял у него перед глазами: низкий деревянный сруб со смолеными балками, с побеленными известью стенами, построенный, наверно, во времена парусников и зеленых лугов. Чтобы добраться до домика, Томасу надо было пересечь пустырь, расстояние было небольшим, но приходилось идти медленно и осторожно, кругом валялся всевозможный мусор, цеплявшийся за ноги. Пока он шел, он опять услышал детский плач, казалось, этот звук будет преследовать его всегда. И все-таки он не испугался, этот звук тоже вызвал у него улыбку. В плаче был новый оттенок: какая-то неукротимость, чуть ли не радость… и в то же время было ощущение, словно бы непокорная жизнь плача черпала силу в его собственном теле, отнимая ее у него — его ноги дрожали, Томас был вынужден остановиться, чтобы перевести дух. Но вот плач затих, время ускользнуло, вернулось, ускользнуло. Плач возобновился, слабее, чем прежде, более отдаленный. Снова приблизился. Исчез. Томас прошел мимо выбеленного известью домишка, потому что не могло… не могло же это быть здесь… Но нужное место совсем рядом. Совершенно очевидно. Он стоял у угла пакгауза, взгляд скользил вверх по стене, различая выступающие дверцы люков и черный крюк грузового подъемника на фоне светлеющего неба. Там. Где-то там наверху… Дверь была прямо перед ним. Его не удивило, что она оказалась открытой, и, только уже закрыв ее за собой, он подумал, что ее следовало бы держать на замке. Какая неосторожность! Томас вынул коробок спичек, потом опять спрятал его в карман. Было бы неосмотрительно зажигать спички. Он потянул носом и почувствовал запах снастей, смолы, керосина и… и…
— Ты, брат? — спросил он шепотом, но ответа не получил. Плотный мрак был беззвучен и неподвижен, и все же Томас знал наверняка, что кто-то стоит поблизости от него. — Выходи, кто бы ты ни был, — сказал он чуть громче, — тебе нечего бояться. — Ответа по-прежнему не было.
Томас ощупью подошел к лестнице, сел на нижнюю ступеньку и снял ботинки. Потом стал подниматься, держа ботинки под мышкой. Лестница была крутая и очень старая, он понял это по шероховатости перил и стертым, в выбоинах ступеням, то и дело скрипевшим под ногами, хотя шел он очень осторожно, в одних носках. А может, лестница скрипит вовсе не под его тяжестью… конечно, это наверняка незнакомец, невидимка, который следует за ним по пятам. Может, даже с пистолетом, подумал Томас, в любой момент ожидая выстрела и надеясь, что этого не случится. Выстрел наделает шума, выстрелу здесь не место. У него мелькнула мысль обернуться и предупредить преследователя, но он тут же ее забыл. Он весь был во власти усталости, этой странной животворной усталости, которая росла с каждым лестничным пролетом и почти парализовала его. Сверху вновь послышался детский плач, но этот звук как бы придушили другие голоса, много голосов, взрослые голоса — кажется, они ругались. Он удивился, что люди могут ругаться в таком месте в такой ранний час. Наконец он заметил свет, пробивающийся через дверную щель.
Он осторожно открыл дверь и беззвучно, поскольку был в одних носках, переступил порог. Свет шел издалека, из самого дальнего угла, отделявшая его от света темнота была заполнена всевозможными мыслимыми и немыслимыми предметами — ящиками, мотками веревки, ведрами, разномастной мебелью, инструментами, кухонной утварью. Томас сделал несколько шагов среди этого хлама и увидел источник света — фонарь… судовой или из конюшни?… А вокруг проступали силуэты семи-восьми человек в каких-то странно скрюченных, съежившихся позах. В тот момент, когда он вышел вперед, сердитые голоса замолкли, по комнате беспорядочно заметались тени, похожие на крылья летучей мыши. Потом вдруг все разом застыло, точно от ужаса, и только детский плач по-прежнему висел в воздухе. Томас невольно улыбнулся, ибо ребенок был не призраком, как он боялся, а реальным живым младенцем, который лежал в кузове от детской коляски и оглашал помещение своим безудержным, чуть ли не ликующим криком. Томас подумал, что надо бы дать ребенку чем-нибудь поиграть, схватился за запястье, но в ту же секунду вспомнил, что часы пропали, поэтому взамен вытащил коробок спичек — он хотел подойти к младенцу и погреметь над ним спичками, чтобы тот перестал плакать, но… усталость, усталость была непомерной, сейчас он был не в состоянии даже оторвать ногу от пола, это раздражало его, и, кроме того, мешала мысль о том беззвучном невидимке, который все время следовал за ним по пятам, а сейчас стоял у него за спиной и… и…
Удар был нанесен с большой силой. Он пришелся Томасу по затылку, но толстая шапка смягчила его, и Томас почувствовал лишь, как страшная, но мягкая тяжесть почти ласково заставила его медленно упасть на колени. Одновременно он услышал, как упали на пол его ботинки, и хотел подобрать их, но руки уплывали от него и… и исчезли. Исчезли ноги, исчезло тело. Исчезло все.
— Спать, — проговорил он, улыбаясь той чуть жалобной интонации, с которой, вопреки его воле, прозвучало слово, и прежде чем окончательно погрузиться в забытье, успел повторить на разных языках: — Schlafen gehen… go to sleep… dormir…
2
…— Но каким образом? — воскликнул капитан. — Как подобное вообще может случиться? Разве здесь не приняты меры безопасности?
— Ты что, считаешь, здесь ставка генерального штаба? — отозвался человек в исландском свитере.
Капитан пропустил его слова мимо ушей. Он обращался к рыжему человечку в комбинезоне.
— Я требую информации, — сказал он. — Мы здесь не марионетки. С нами нельзя обращаться с такой полнейшей безответственностью.
Рыжий человечек пожал плечами.
— Вы же сами видели, охрана сработала. Ничего не случилось.
— Откуда такая уверенность? — спросил капитан. — Может, его немцы подослали. Может, следом придут другие.
— Господи, да он был мертвецки пьян, — сказал медик. — Едва на ногах держался.
— А зачем вы тогда его ударили? — спросила девушка с узким бледным лицом.
— Что вы с ним сделали? — поинтересовался долговязый юноша с окладистой бородой.
— Черт подери, меня спрашивать бесполезно, — сказал рыжий человечек в комбинезоне. — Я к этому не имею ни малейшего отношения, я, как и вы все, должен перебраться через пролив. Понятия не имею, что они с ним сделали. Возможно, пристрелили. Будем надеяться.
— Вы не имеете права так говорить. — Глаза девушки потемнели и казались огромными на бледном лице. — Эрик! — позвала она.
— Можно было бы хоть поговорить с ним, — сказал юноша, выступая вперед. — Это совершенно ненужная жестокость.
— А что, по-твоему, надо было делать? — спросил рыжий человечек. — Нельзя же допустить, чтобы здесь шаталась всякая пьянь, правда? У нас нет времени на разговоры о правах человека, — сказал он и оглядел снизу вверх долговязую худую фигуру, в конце концов упершись взглядом в редкую крашеную бороду и блеклые крашеные волосы. — Думаешь, мы здесь играем в солдат и разбойников? Ты еще не понял, что идет война?
— Но ведь мы вступили в бой против чуждых нам методов не для того, чтобы самим их использовать?
Рыжий скривил губы.
— Нет, мы должны подставить левую щеку, — сказал он.
Пожилой седой человек снял очки и протер их о рукав черного пиджака. Покрасневшими глазами он прищурился на свет, глубокие складки вокруг рта страдальчески дрогнули.
— Неужели нельзя жить в мире? — сказал он устало.
— Извините, пастор, — отозвался рыжий. — Здесь курить нельзя, — обратился он к медику, который постукивал сигаретой о портсигар.
— А почему этому исландцу можно? — спросил медик.
Человек в исландском свитере протянул к свету свою короткую толстую изогнутую трубку, показывая, что она пуста. Он улыбнулся, сунул трубку обратно в рот, на мгновенье обнажив желтоватые клыки, и грузно уселся на место — широкоплечий, широкозадый, расставив ноги и упираясь богатырскими руками в ляжки.
— Керосин, — сказал он.
— Ну, а это? — Медик мотнул головой в сторону фонаря. — А электричества нет? Мне надо побриться.
— Понятия не имею, — отозвался рыжий. — Наверное, тока нет. Спроси ее, когда она появится.
— А у тебя, значит, с собой электрическая бритва? — спросил человек в исландском свитере, касаясь мундштуком чемодана из светлой свиной кожи.
Медик кивнул. Его замшевый ботинок попал в полосу света. Над ботинком виднелся красный носок, а еще выше — белая щиколотка. Покачивая ногой, медик провел рукой по подбородку.
— Двухдневная щетина, — сказал он.
— Успеет стать четырехдневной, — сказал рыжий человечек.
— Заткнись, рыжик, — сказал медик. — Лучше скажи, когда нас наконец переправят.
— Когда Господу Богу будет угодно, — отозвался человек в исландском свитере.
— Задай этот вопрос им, когда они явятся, — сказал рыжий. Он встал, чтобы отодвинуть ведро с керосином от горящего фонаря.
— Ну и висит же у тебя задница, брат, — сказал исландец.
— Нельзя ли выражаться повежливее, — сказал капитан.
— А, пошел ты… — ответил исландец, вынимая трубку изо рта.
— А я и не знал, что мы пили на брудершафт.
— Неужели нельзя жить в мире, — сказал пастор. Рыжий человечек осклабился.
— Это мне дал Кузнец, — сказал он, подтягивая штаны комбинезона, мешком висящие на его тощей фигуре. — Я очень спешил, не успел надеть воскресный костюм. Ну, а у тебя-то, только вот это?
Мужчины улыбнулись друг другу.
— Вот черт! — воскликнул вдруг человек в исландском свитере.
Кузов коляски какое-то время молчал, но теперь он вновь начал раскачиваться, и из него медленно высунулись два крошечных кулачка.
— Сара, — сказал маленький портной, послав жене выразительный косой взгляд. Она тут же поднялась и направилась к ребенку — большая, одетая в черное, по-матерински грузная. Опустившись на колени, она занялась ребенком, успокаивая его нечленораздельными горловыми звуками. Громкий плач стал чуть тише. Но тут раздались еще звуки с верхнего этажа. Над их головами беспокойно вышагивали — взад-вперед, взад-вперед — чьи-то ноги.
— Опять немец начал, — сказал медик.
— Австриец, — коротко поправил рыжий. — Не путай.
Воцарилось недолгое молчание.
— Сколько времени? — спросил бородатый юноша.
Капитан вынул из кармашка жилета золотые часы, поднес их к свету и щелкнул крышкой.
— Ровно пять часов семнадцать минут, — ответил он.
— А сколько секунд? — спросил человек в исландском свитере.
— Секунд?
— Ага, не скажешь ли, сколько секунд? Это может иметь важное стратегическое значение.
— Избавьте меня, пожалуйста, от вашего хамства, — сказал капитан.
— Неужели нельзя жить в мире, — сказал пастор.
— Простите, пастор, но не я взял этот тон, — отозвался капитан. — Нам бы следовало здесь иметь человека, несущего всю полноту ответственности, — добавил он.
— Точно, давайте введем немножко прусской дисциплины, — сказал исландец. — Почему бы вам самому не принять на себя командование? Чтобы мы могли сдаться вермахту, держа руку под козырек.
Капитан побагровел.
— Если вы сейчас же не прекратите ваши выпады, то…
— То что?
— Заткнись, ладно тебе, — сказал рыжий. Человек в исландском свитере улыбнулся ему, обнажив клыки, и принял прежнюю позу.
— Датский офицер выше вас всех на десять голов, — сказал капитан. — Вы недостойны даже завязать шнурки на его ботинках.
— Замолчите, — рявкнул рыжий.
Пастор открыл было рот, намереваясь что-то сказать, но передумал. Он снял очки и потер их о рукав, оголенное лицо с глубокими морщинами дрогнуло. Все молчали, младенец кричал громче прежнего, над головой безостановочно шагали взад и вперед беспокойные ноги.
— Сегодня ночью уехать тоже, наверно, уже не удастся? — спросил бородатый юноша.
— Совершенно исключено, — ответил капитан. Он сидел прямой как палка на раскладном кресле и барабанил пальцами по подлокотнику. — Не понимаю, зачем собирать нас, когда еще ничего не готово, — сказал он. — Мы ждем уже больше суток.
— Нам никто не обещал, что нас переправят в точно назначенное время, — возразил рыжий.
— Вся эта история плохо пахнет, — сказал капитан. — Каким образом здесь мог появиться мертвецки пьяный человек в четыре часа утра? Как он вообще нашел это место?
— Ничего странного, этого крикуна за квартал слыхать, — ответил медик, кивая в сторону ребенка.
Маленький портной рывком вскочил на ноги.
— А я вам говорю — нет, — сказал он. — Наверху — да, слышно. На улице — нет, не слышно. — Голос его сорвался на фальцет. Широко раздвинув коротенькие ножки, он размахивал руками с растопыренными пальцами.
— Давайте я сделаю ему укол, — предложил медик. — Ему это не повредит, просто будет спать. Господи, да поймите вы, все равно придется. Нельзя же, чтобы он и в лодке кричал.
— Замолчите, вам говорят, — взвизгнул маленький портной.
Его большая, одетая в черное жена поднялась с колен. Руки висят вдоль бедер, рот между мясистыми бледными щеками перекошен от страха.
— Иосиф, — сказала она с мольбой в голосе, — позволь ему. Ведь и в самом деле…
— Молчи, — сказал портной. — Что в самом деле? Имею я право решать, что делать с моим собственным ребенком?
— Вопрос не в том, кто имеет право, — сказал рыжий, — вопрос в том, что необходимо.
— Я ведь только помочь вам хочу, — сказал медик. Портной переводил взгляд с одного на другого.
— Не понимаю, — сказал он. — Я просил этого молодого человека помочь мне? Нет, не просил. Мне от него ничего не нужно. Пусть не лезет не в свое дело. Этот молодой… этот молодой…
— Сбавь обороты, Мойше, — сказал медик. Маленький портной расправил плечи.
— Меня зовут Иосиф Шваненфлюгель, если вам угодно знать мое имя, — с достоинством произнес он.
Вперед выступил бородатый юноша.
— Может, обойдемся без оскорблений? — обратился он к медику. — Мы ведь здесь не антисемиты!
Маленький портной протестующе повернулся к своему защитнику:
— Я могу сам за себя ответить? По-вашему, носить еврейское имя для меня оскорбление? Я горжусь, что ношу еврейское имя.
— Он ненормальный, — сказал медик.
— Заткнись, — посоветовал рыжий.
Пастор встал с места. Держа очки на весу, он собирался было что-то сказать, но передумал, покачал головой, складки вокруг рта страдальчески дернулись. Капитан, задрав подбородок, барабанил по подлокотнику. Человек в исландском свитере сидел, упираясь локтями в раздвинутые колени и уставившись в пол. Женщина в черном подошла поближе и теперь стояла перед мужем, возвышаясь над ним на целую голову.
— Иосиф, — сказала она, — позволь ему…
Медик открыл саквояж.
— Подержите его, вдвоем, — приказал он.
Внезапно в середине кружка оказалась девушка с узким бледным лицом.
— И вам не стыдно! — крикнула она и огляделась.
— Бенедикта, — сказал бородатый юноша, протягивая к ней руку. Девушка оттолкнула ее. На ее лнце сейчас были видны только глаза, маленькая грудь вздымалась и опускалась.
— О чем вы думаете! Ведь не для того же мы… — Она трясла головой, погрузив пальцы в волосы. — Ну нельзя же… Нельзя… — Она вдруг разрыдалась и закрыла ладонями лицо.
— Бенедикта, — сказал юноша, обнимая ее за плечи.
— Нет, — крикнула она, пытаясь стряхнуть его руку, — нет, нет, нет! — Она кричала, топала ногами, черные распущенные волосы закрыли лицо и руки. Никто не промолвил ни слова. Юноша увел ее подальше от света, туда, где метались причудливые чердачные тени; усадив ее на канатную бухту, он примостился рядом и стал гладить девушку по голове. — Мужчины, — проговорила она, ударив его по руке, — и это называется мужчины…
Воцарилось странное неловкое молчание, все разом вдруг посмотрели в сторону ребенка. Плач незаметно стих, человек в исландском свитере стоял на коленях, опустив голову в обтянутый клеенкой кузов. Ребенок водил ручонками по его лицу, потом вырвал трубку и засунул себе в рот. Сара, — сказал маленький портной, бросив боязливый взгляд на жену, но она с улыбкой покачала головой.
— Пусть ребенок играет, — сказала она. — Он просто голоден. Давно не кормлен.
— Так дай ему попить, — сказал портной.
— Она забрала его бутылочку.
— Что же она не возвращается с ней? Надо ее позвать. А почему бы нет?
— Освободится, придет, — сказал рыжий.
— Знаете, ребенок здесь — самое главное.
— Знаете, поищите другую гостиницу, — сказал медик.
— Заткнись, — сказал рыжий.
Они замолчали. Из сумрака за фонарем доносилось чмоканье младенца. На чердаке над их головой шагали взад и вперед беспокойные ноги.
— Этот фриц там, наверху, неужели он не устал? — поинтересовался медик.
— Его зовут не Фриц, — отозвался рыжий.
— Он разве не немец?
— Австриец, я же говорил.
— Из венских детей!? — спросил капитан.
— Очевидно.
— Да, хороши венские детки, — сказал капитан, продолжая барабанить по подлокотнику.
— С ним все в порядке, — сказал рыжий.
— Почему же тогда он не спустится к нам сюда? — послышался из темноты дрожащий голос девушки. — Почему он бродит там один?
— Спроси у него. Может, ему хочется побыть в одиночестве.
— Ну уж нет, ради Бога, не надо его нам тут, — сказал капитан. — Гестаповец! Фу!
— Крысы бегут с корабля, — сказал медик, посасывая незажженную сигарету.
— Я же сказал, он свой, — сказал рыжий.
— Откуда вы знаете? — спросил капитан. — В любом случае он — изменник родины. Как вообще можно доверять людям такого сорта?
— Может, хватит разговаривать о нем? — сказал рыжий.
1Так называли детей из Вены, которых после первой мировой войны на какое-то время взяли на воспитание датчане.
Капитан продолжал барабанить по подлокотнику.
— Все это подозрительно. Почему нас не отправляют? Почему здесь появляется неизвестное лицо? Кто может поручиться, что ваш гестаповский герой не ведет двойную игру?
— Во всяком случае, помещать его вместе с нами — неправильно, — сказал медик.
— Вот как? Ну так знайте, — сказал рыжий. — Он работал на нас с тех пор, как появился здесь. Теперь они начали его подозревать. Мы вынуждены переправить его как можно быстрее. А он, видите ли, не желает. Не желает. Хочет попасть им в лапы. Мы не можем пойти на такой риск.
— Кому в лапы? — спросил капитан. — Гестапо?
— Кому же еще? Знаете, как они расправляются с такими, как он? Рассказать?
На мгновение все замолчали.
— Но почему же тогда он хочет попасть им в лапы? — послышался из темноты голос девушки.
— Потому что у него там остались жена и дети. Рассказать вам, что произойдет с его женой и детьми, когда станет известно, что он находится в Швеции?… Ну то-то же, вот и заткнитесь, — добавил он, не получив ответа.
Бородатый юноша вышел на свет.
— Это все, конечно, трагично, — проговорил он, откашливаясь. — Но мы ведь не можем отбрасывать в сторону тот факт, что работа в гестапо, даже из самых благородных побуждений, является преступлением против человечества. Нельзя идти на компромисс со злом.
Рыжий человечек встал. Глаза его сузились.
— Во что ты играешь, малыш? — сказал он. — Пойди-ка лучше к цирюльнику да верни себе прежний цвет волос. Любому идиоту понятно, что ты за птица. Если хочешь знать, он один стоит дюжины таких, как ты. Чем ты занимался? Провалиться мне на этом месте — бумагу марал.
— Не всем же взрывать железные дороги, — отозвался юноша.
— Разумеется, нет, черт меня побери. Хотел бы я посмотреть, как ты закладываешь взрывчатку. Как называется газета, в которой ты пишешь?
— «Форпостен». Это…
— Благодарствуй, знаю я ее. Не надо, мол, ненависти. Возлюбим врагов наших. Поспешим броситься им на шею, как только будет покончено с этим свинством. Разве не так?
— Кто-то должен хранить дух гуманизма в такое жестокое время, — сказал юноша.
— Скажи пожалуйста, да ты к тому же еще и гуманист. Все эти ваши проклятые печатные листки приносят больше вреда, чем пользы. А они берут на себя труд переправлять такого, как ты!
Молодой человек расправил плечи.
— У меня другая точка зрения. Необходим активно борющийся гуманизм.
— Скажите, вы марксист? — спросил капитан.
— А вам-то какое дело? — сказал рыжий. — Я же не спрашиваю вас, кто вы.
— С радостью отвечу, — сказал капитан. — Я — солдат. Для меня превыше всего отечество.
— Отечество! Это мы слыхали.
Пастор встал со своего места. Он поднял вверх руку с очками.
— Разрешите мне сказать?
— Пожалуйста, давайте развернем дискуссию, — ответил рыжий.
— Речь идет не о дискуссии, — сказал пастор. — Нам должно быть стыдно, что мы так себя ведем. Мы же все в одной лодке. Мы боремся против одного и того же врага, каждый своим оружием. — Он стоял в центре освещенного круга, мускулы оголенного лица судорожно дергались. — Правильно, что мы не имеем права никого судить, — он указал очками на потолок, — правильно, что нужно беречь дух гуманизма, правильно, что надо бороться за свое отечество, правильно, что борьба сегодня — единственная необходимость, — все это правильно. Но мы забываем самое главное — ответственность. Личную ответственность отдельного человека за общее дело.
Пастор сделал паузу и оглядел всех присутствующих. Ему никто не ответил. Рыжий человечек сел на ящик. Девушка с узким бледным лицом и огромными глазами вышла на свет. Человек в исландском свитере стоял чуть поодаль, в зубах трубка, руки в карманах. Капитан сидел неподвижно, прямой как палка, у медика в уголках рта пряталась улыбка, младенец вновь залился пронзительным криком, хотя отец и мать были рядом. Над головой шагали взад и вперед беспокойные ноги.
— Ответственность, — повторил пастор, повышая голос, чтобы перекричать ребенка, — ответственность, которая составляет суть самой человеческой жизни. И если больше никто не желает вспомнить о ней, то придется это сделать мне. Мне, который знает, что значит изменить своей ответственности, мне, который даже недостоин находиться здесь, среди вас. Если вы спросите меня, кто я такой, то я буду вынужден ответить, что я погибший человек. Я совершил тот единственный грех, которому нет прощения.
Рыжий поднял голову.
— Что это значит? Вы на кого-нибудь донесли?
— Я совершил более тяжкое преступление. Я предал Спасителя.
— Ах, вот что, — сказал рыжий, переводя взгляд на свои руки.
— Я предполагаю, что большинству из вас христианство чуждо, — продолжал пастор. — Это не упрек. У каждого своя вера. У каждого человека своя правда. Да и не мне наставлять других на путь истинный. Я могу лишь судить самого себя. Но для меня христианство составляло смысл бытия. Я жил лишь верою в Бога, в ответственность перед Богом. Теперь я больше не существую. Перед вами стоит не живой человек. — Он поднес очки к лицу, потом опять опустил их, его покрасневшие глаза смотрели в пол. — Я отрекся от своего Господа, — произнес он. — Я отбросил то, что было мне доверено. Я предал тех, кто полагался на меня.
И вновь воцарилась странная тишина.
— Каким образом? — спросила девушка с узким бледным лицом.
— Об этом тяжело рассказывать, — он проглотил комок в горле, — но я попытаюсь… В тот день, когда со всех церковных кафедр оглашалось послание совета епископов против преследования евреев, — в тот день моя церковь была переполнена. Обычно там бывало двадцать-тридцать человек, но в тот день церковь была заполнена до отказа. И стояла мертвая тишина. Когда я дочитал послание, я вдруг услышал внутренний голос, который сказал: вот твой путь. Ты должен проповедовать против несправедливости, бороться со злом, которое живет на этой земле, прямо рядом с тобой. Тогда люди будут тебя слушать, тогда твоя церковь вновь станет борющейся церковью, тогда ты сам станешь живым христианином. И я последовал этому внутреннему голосу, я действовал по совести. Каждый раз, стоя на кафедре, я использовал слово Божие как оружие, направленное против нашего общего врага. И люди приходили и слушали меня. Они не умещались в церкви, они стояли на улице, толпой окружали меня, чтобы пожать мне руку. Это было счастливейшее время моей жизни. Я чувствовал полное единение с моей паствой и ее единение со мной… Он замолчал. Снял очки, потер их об рукав, снова надел.
— Естественно, такое поведение не могло остаться безнаказанным, это мне было ясно с самого начала. Я был готов к самому ужасному — так мне казалось. Но мы так легко обманываем самих себя, — сказал он с вымученной улыбкой. — Сам того не сознавая, я, вероятно, считал, что самое ужасное, что со мной могут сделать, — отправить во Фреслев [43], на дешевое маленькое мученичество. Но Господь требует всего или ничего. Три дня назад недалеко от моего дома застрелили немецкого пособника. Должно было последовать возмездие — казнь заложников, так это называется. Незнакомый голос сообщил мне по телефону, что жертвой буду я. Мое имя стоит первым в списке, они придут сегодня же ночью и застрелят меня. У меня не было причины не верить голосу. Наверно, я предчувствовал это, ибо, как только зазвонил телефон, я уже знал, о чем пойдет речь. Много часов боролся я с собой. Но я оказался трусом. И сбежал. Вы понимаете, что это значит? Я сбежал.
— Естественно, вы сбежали, — проговорил рыжий человечек, отрывая взгляд от своих рук. — А что вам еще оставалось?
— Что еще! Разве вы не понимаете, что моим долгом было остаться? Я не имел права скрываться, я был обязан встретиться со злом лицом к лицу, чего бы это мне ни стоило. Этого требовал от меня Господь, этого ждала от меня моя паства, этот обет я как бы давал в своих проповедях. Я сам уличил себя во лжи. Сбежал от ответственности. Предал тех, кто видел во мне пример для подражания. Вчера я был частью живого общества, сегодня я мертвец. Теперь вы понимаете, что нам надо держаться вместе? Понимаете, что каждый из нас несет ответственность за другого?
Пастор, подавшись вперед, зажмурил глаза, словно прислушиваясь к ответу. Но не было ответа — лишь молчанье и отвернувшиеся лица.
— Нет, — сказал он с горечью, — вы ничего не понимаете. Все это ни к чему… — Он всхлипнул. Вытащил большой белый носовой платок, снял очки и собирался сунуть их в нагрудный карман, но промахнулся, очки упали на пол, он нагнулся было за ними, однако в ту же секунду забыл о своем намерении. — Простите меня, — сказал он, прикладывая платок к глазам, — не надо было… мне не следовало…
Девушка подняла с пола очки и протянула ему. Не заметив ее руки, он на негнущихся ногах ушел в темноту — среди нагромождения ящиков его качающаяся фигура напоминала большое неуклюжее привидение.
Девушка побежала за ним, держа в руке очки.
— Нет, — крикнула она дрожащим голосом, — не надо… Я понимаю вас, слышите! Я понимаю вас!
— Бенедикта, — позвал бородатый юноша, но она уже исчезла во мраке. Послышались прерывистые рыдания. Никто не проронил ни слова.
Капитан застыл на своем кресле. У медика в уголках губ пряталась улыбка. Рыжий человечек рассматривал свои руки, безнадежно качая головой. Человек в исландском свитере снова подошел к младенцу.
— Тс-с-с, — раздалось вдруг, — она идет.
Сразу же наступила полнейшая тишина. Замолк плач младенца, прекратились рыдания пастора, внезапно остановились беспокойные ноги над их головой. Из безмолвия длинных лестниц пакгауза донеслись легкие, быстрые, словно танцующие шаги.
— Я ручаюсь за него, — сказал Симон.
— Хорошо бы ты хоть за себя мог ручаться, идиот несчастный, — ответил Кузнец. — У меня нет времени слушать дурацкую болтовню. Мне надо идти.
— Я хочу знать, что с ним будет, — сказал Симон.
— Ты хочешь знать! Мы что, отчитываться перед тобой должны? Все как раз наоборот, мой мальчик. Это мы тебя попросим кое-что нам рассказать.
— Я все объясню. Только дайте мне немного времени. Сперва мне надо… — Симон посмотрел на вытертый зеленый линолеум столешницы с кругами от стаканов, с черными царапинами и порезами. У него поплыло перед глазами.
— Проваливай, — сказал Кузнец. — Поспи чуток, потом поговорим. Ты же едва на ногах стоишь, парень. Похож на вытащенного из воды котенка.
— Сперва я хочу узнать, что будет с ним, — упрямо повторил Симон.
— А мне откуда знать? Заниматься доносчиками не мое дело, правда?
— Он не доносчик.
— Вот это-то мы и выясним.
— Его отсюда уведут? — спросил Симон. — Ты…
— Пока я еще ничего не предпринимал, — ответил Кузнец. — У меня не было времени. Ну иди же. Нечего тебе здесь ошиваться.
— Ты обещаешь, что с ним ничего не случится, пока мы с тобой не поговорим?
— Я ничего не обещаю. Не могу же я оставить его здесь. И тем более не рискну выпустить его в город. Что ты мне предлагаешь?
— Ты можешь переправить его в Швецию. Если ты захочешь, то сможешь переправить его.
Кузнец немного помолчал.
— Ну ладно, — сказал он, — если он окажется своим парнем, мы его переправим. Теперь доволен?
Симон с трудом отвел глаза от стола и посмотрел прямо в большое угрюмое лицо.
— Если ты решишь его переправить, обещаешь, что он доберется до места?
— Этого никто не может гарантировать. А почему вдруг он может не добраться?
— Немецкий дезертир, который был у нас здесь на прошлой неделе, — разве он добрался?
— Он был отправлен. Это все, за что я отвечаю.
— Ага, был отправлен. Но не добрался.
— Вот как? Этого я не помню.
— Помнишь, помнишь. С ним произошел несчастный случай.
— Заткнись, — сказал Кузнец. — Есть вещи, о которых мы не помним, ясно? Иногда приходится действовать по собственному разумению. Мы не можем ставить под удар дело из-за ненадежных людей.
— Ты и с ним надумал поступить так же?
— Пока я вообще ничего не надумал.
— Надумал, конечно. Как раз сейчас про это и думаешь. Но если вы и с ним сделаете то же самое, тогда…
— Тогда что?
— Я не отвечаю за свои поступки…
— Какого черта… — Кузнец покачал своей массивной головой, потер рукавом лоб, почесал в курчавых волосах. — Какого черта, — повторил он и встал, громадный, широкоплечий, уперев кулачищи в стол. — Сядь, — приказал он, отходя, чтобы подбросить в печку топлива. — Проклятый мокрый торф, — он в ярости потряс решетку, — опять гаснет… Не надо ли тебе чем-нибудь подкрепиться?
— Нет, — ответил Симон. — Я в полном порядке.
Он сидел, согнувшись, и не отрываясь глядел на зеленый линолеум стола. Черные царапины проступали уже не так отчетливо.
Кузнец, приоткрыв дверь в трактирный зал, заглянул внутрь.
— Куда она, черт подери, подевалась? — сказал он. — Никогда не знаешь, где ее искать. — Он вернулся к столу и пододвинул свою чашку Симону. — Выпей, он по крайней мере горячий.
Симон отхлебнул горького черного кофе. Его затошнило, рука дрожала, он поспешно отодвинул от себя чашку и уставился на мокрое пятно, расползавшееся по столу. Все время он ощущал на себе пристальный взгляд Кузнеца.
— Какого дьявола? Что с тобой? — спросил Кузнец. — На тебе лица нет, малыш. Что произошло, во что ты влип?
— Я как раз за этим и пришел, чтобы все объяснить, — ответил Симон. — Но ты не желаешь слушать.
— И не стану, пока ты не будешь в состоянии разумно и здраво рассуждать, — сказал Кузнец. — Сейчас ты сам не знаешь, что болтаешь. Иди ложись.
— Некогда. Дело неотложное.
— Так давай, выкладывай.
— Сперва ты должен обещать мне, что он живым доберется до места, — сказал Симон. — Он не виноват. С ним все в порядке. Я ручаюсь за него.
— Ты опять за свое, — сказал Кузнец. — Что это значит — ты за него ручаешься? Ты понятия не имеешь, кто он. Ты даже не знаешь, как его зовут.
— Его зовут Томас.
— А дальше?
— Фамилия не играет роли. Я знаю его.
— Так, значит, не играет роли? Может, и то, что у него при себе был немецкий аусвайс, не играет роли?
— Аусвайс не его.
— Точно, он принадлежит Габриэлю Блому.
— Габриэлю Блому?
— Этого ты, оказывается, не знал. Да, Блому, человеку, заработавшему миллионы при немцах. Возможно, он уже переметнулся на сторону англичан, почем я знаю. Капиталисты умеют разыгрывать свои карты. Но от этого они не становятся более надежными.
— Томас не имеет к этому отношения, — упрямо гнул свое Симон. — С ним все в порядке. Мне это известно. Я знаю его.
— Знаешь! Ты знаешь его всего несколько часов!
— Дело не во времени. Есть другие, более важные вещи. Я знаю его.
— Нам не легче от того, что ты полагаешь, будто знаешь его. Будь ты знаком с ним хоть всю жизнь. Будь он твоим братом…
— Он мой брат, — сказал Симон.
— Какого дьявола! — Кузнец вытаращил глаза. Опять почесал в голове. — Что за чепуху ты болтаешь, парень? Твой брат! Ты что, бредишь?
— Не знаю, — ответил Симон. — Я так чувствую. Я знаю его, как самого себя.
Кузнец медленно покачал своей большой головой.
— А знаешь ли ты самого себя, сын мой?
Симон ощущал на себе его взгляд. Он сидел, уставившись на стол, и ковырял дырку в зеленом линолеуме. Лицо его подергивалось.
— Значит, вы мне не верите? — проговорил он. — Вы мне больше не доверяете?
Кузнец встал, подошел к печке, опять потряс решетку, медленно зашагал по комнате.
— Мы не имеем права никому доверять, — сказал он. — Даже самим себе. Мы не можем принимать в расчет чувства, только факты. Все это ты прекрасно знаешь.
Симон пытался овладеть своим лицом. Он поднял глаза и увидел огромную тень, медленно движущуюся по потолку и голым стенам. И вновь уставился на стол.
— Давай предположим самое ужасное, — сказал Кузнец. — Я не утверждаю, что так именно и обстоит на самом деле, но мы обязаны принять это в расчет. Он помог тебе…
— Если бы он мне не помог, я бы сейчас…
— Я знаю. Не перебивай меня. Мы обязаны исходить из наихудшего. Почему он привез тебя сюда? Не лучше ли было бы подождать, пока ты сам смог бы доехать на трамвае?
— Он не рискнул оставлять меня в доме. Гости напились, он не доверял им. На улице поблизости была заваруха.
— Так. Ты говоришь, что вас остановили немцы. Он вышел из машины и поговорил с ними. Что он им сказал?
— Не знаю. Не слышал.
— И ты не спросил?
— Он сам не знал. Просто болтал.
— Вот как. Ты говоришь, он высадил тебя у Воллена. Сюда ты пошел один. Через полчаса здесь появляется он. Каким образом это могло произойти? Ты дал ему адрес?
— Не знаю. Наверно. — Симон ногтем ковырял зеленый линолеум Неспешные шаги остановились. — Я не помню, — сказал он в плотную тишину. — Я дошел до ручки. Был не в себе.
— А сейчас ты в себе? Посмотри на себя.
Симон взглянул прямо в большое лицо. Многочисленные глубокие складки растянулись в улыбку, в голубых глазах светилась снисходительная насмешка.
— Так дал ты ему адрес, сынок? Говори правду. Не давал.
— Нет, — ответил Симон, переводя взгляд на стол.
— Ну вот. Остается одна возможность, а именно — он тайком пошел за тобой посмотреть, куда ты направляешься. Зачем?
— Не знаю. Он был… он много выпил.
— Так он к тому же еще был пьян? Неплохо сработано для пьяного. Но это ничего не объясняет. Почему он пошел за тобой? Что ему здесь было надо?
Симон чертил пальцем узоры на столешнице. Веки его смежились, речь замедлилась, голос звучал глухо:
— Он ведь не мог вернуться домой. И больше не мог быть один. Ему некуда было больше пойти. Что ему оставалось делать? Мне следовало бы догадаться. Ведь я его знаю. Он мой брат…
Кузнец негромко засмеялся. Он положил руку на плечо Симона и потряс его.
— Идем, тебе надо лечь. У тебя же глаза слипаются. Ты говоришь во сне.
Симон вздрогнул.
— Что?… Что я сказал?
— Ничего, кроме полнейшей чепухи. Идем. Поговорим, когда ты выспишься.
— Нет, время не ждет. — Симон энергично растер лицо. Кожа казалась омертвевшей. — Сперва я должен тебе кое-что сказать. Прямо сейчас. Я должен сказать это сейчас.
— Ну тогда говори, только поскорее.
Симон растерянно огляделся. Потом взял чашку с черным кофейным суррогатом и опорожнил ее.
— Погоди, — сказал он, сглатывая комок в горле.
— Во что ты влип? Что-нибудь по женской части?
— Да… то есть…
— Ну, выкладывай же. Что за женщина? Она что-нибудь знает? Ты ей рассказал о нас?
— Может быть… нет, не знаю… — Симон боролся со сном. Но сон все равно наваливался, быстро, неумолимо, словно жуткий черный паук. Что-то клейкое, колючее опутывало Симона со всех сторон, даже мысли и слова все крепче запутывались в тягучей невидимой паутине. — Я не помню… ничего не могу вспомнить… я не думаю… но…
— Рассказал? Посмотри на меня. — Большое лицо вдруг приблизилось вплотную. Голубые глаза улыбались. — Нет, ты этого не сделал.
— Нет, я ничего не говорил, но…
— Но что? Она опасна? Тебе что-нибудь про нее известно?
— Нет, не известно… я ничего не знаю… но…
— Ерунда. Либо ты спишь, либо пытаешься придумать что-то в его защиту.
— Нет, я не сплю. — Симон стряхнул с себя сон. — С ним это никак не связано. С ним все в порядке. Ты мне не веришь? Клянусь Всевышним, что…
— Всевышнего оставь при себе. Больше об этом ни слова. Я знаю все, что мне нужно знать.
— Это значит, что…
— Больше ни слова! — Огромная лапища тяжело опустилась на стол. — Хватит с меня этой чепухи. Я и так потратил на тебя кучу времени. У меня сейчас на шее самая скверная группа — такой еще никогда не было. Все они уже на грани истерики. Вчера их отправить не удалось. Я не знаю, что случилось, я не получил новых указаний. Но что-то не так. Что-то нехорошее носится в воздухе, я замечаю это по всему. Ты, надеюсь, сам способен сообразить, что поэтому мы не можем позволить себе роскошь идти на риск.
— Значит, ты не веришь ни единому моему слову. Тебе хочется думать, будто он работает на немцев.
— Раскинь мозгами. Если бы я так считал, то, естественно, предпринял бы совсем другие шаги и меры. В этом случае мы бы сейчас здесь не сидели. Не знаю, во что он там играет, но это не важно. Отпустить его мы не можем— слишком опасно, так куда же его деть? У нас нет времени. Он должен исчезнуть, у нас нет иного выхода.
— Тогда я тоже хочу исчезнуть. — Голова Симона медленно опустилась на стол, лицо уткнулось в скрещенные руки. — Он не виноват. Это я виноват. Это полностью моя вина. И я должен ее искупить. Это я… — Затылок и плечи затряслись от рыданий.
Кузнец подошел к нему, коснулся его своей громадной узловатой рукой, мягко погладил по волосам.
— Эх, малыш, — произнес он, медленно качая головой, — эх, малыш… Рыдания усилились.
— Замолчи. Не трогай меня. Ты мне не веришь…
Могучая ладонь продолжала делать свое дело, спокойный неумолимый голос, казалось, доносился откуда-то сверху.
— Ну, конечно же, я тебе верю. Но ты чересчур мягок, братишка. Стыдиться тут нечего. Этим свойством отличаются самые лучшие люди. Но на такие дела ты не годишься. С тобой творится что-то неладное, я это давно заметил. Тебя надо переправить на ту сторону, слышишь? Я переправлю тебя.
— Правильно, отошлите меня. Куда подальше. Чтобы я исчез, как и он. Лучшего я не заслужил. Я ни на что не гожусь, ты сам сказал… Пусти…
Могучая ладонь задумчиво задержалась на затылке Симона, на его костлявых плечах, на бицепсах. Складки на тяжелом лице стали глубже, глаза смотрели вдаль.
— Малыш, подумай, что нам предстоит. Скоро мы победим, и тогда начнется настоящая работа. Уже через десять-двадцать лет мы увидим начало совсем нового мира — мира, в котором можно жить. Подумай об этом. Ты не должен уходить. Мы не хотим лишиться тебя. Ты не имеешь права заразиться от него.
— Заразиться от него? Чем?
— С тобой что-то произошло, я просто не могу понять, что. Но думаю, причина кроется в нем. Я его не знаю. Я не знаю, кто он, но знаю, откуда.
— Я знаю, кто он. Он мой брат.
— Он тебе не брат, он твой враг. Забудь его, слышишь? Вычеркни его из памяти. Ты никогда не встречался с ним, его нет на свете. Порой приходится рассуждать именно так. Я не знаю и знать не хочу, что он за человек. Не думай, будто я шутя беру на себя такие вещи, но речь идет не об отдельном человеке. Нет, их нельзя чересчур близко узнавать. Да, да, у людей могут быть разные мысли, они смотрят с разных точек зрения — все это мне знакомо. Но есть мысли, которые не должны возникать, даже
‹…›
зало потрясающее действие, усталость и слабость как рукой сняло, в голову снова ударил хмель, впервые в жизни по-настоящему бурлящий радостью хмель, от которого захотелось петь и плясать. Одновременно он сознавал, что хмель этот обманчив, что это мимолетное неверное счастье не имеет под собой реальной основы и самым разумным с его стороны сейчас было бы поесть — должно же что-нибудь лежать в тарелке, но он отбросил эту мысль. Успеется, все эти скучные необходимые дела подождут. Он принялся ходить — три коротких шага от двери до окошка и обратно, четыре длинных от одной побеленной стены до другой, — то чуть подпрыгивая, то пританцовывая, и думал о других танцующих шагах, шагах, которые по-прежнему… по-прежнему… Он остановился и прислушался: и вправду, кто-то ходил внизу, у него под ногами, но не женщина, то были, без сомнения, мужские ноги, неустанно шагающие взад и вперед, эти шаги он уже слышал раньше, слышал все время. И все равно это наполнило его радостью. Он не один, здесь есть другие люди, живой человек в комнате прямо под ним, и дверь открыта, он может идти, куда хочет, спуститься вниз к этому человеку, если пожелает, может провести время в обществе другого человека, ожидая… ожидая чего? Томасу пришлось сесть на матрац, чтобы перевести дух и привести в порядок мысли, ибо на самом деле… на самом деле не было ни малейшего основания думать, что она вернется. Нет никаких оснований, сказал он себе, потому что на самом деле произошло лишь одно — у нее немного сникли плечи и бедра, и округлости щек чуть задрожали на свету, и надломленно дернулся рот, большой некрасивый рот с набухшей, потерянно отвисшей нижней губой, и даже в этом во всем я не уверен, ведь это такие мелочи, которые на самом деле и не разглядишь, и Господи ты Боже мой, что мне за дело до женщины с большими грудями и широкими плечами и бедрами, если у той единственной, о ком я думаю, единственной, кого я в жизни любил и желал, о ком мечтал, — тонкие руки и ноги, едва заметная грудь и голос как серебряный колокольчик, а вовсе не этот глубокий, чуть грубоватый… Тут он остановился, изо всей силы затряс головой, чуть было не показал себе самому язык: идиот, она же не произнесла ни слова, ты никогда не слышал ее голоса и никогда не услышишь. Теперь он и вправду усомнился в своем рассудке, он ходил взад и вперед по комнатушке и всячески казнил себя, сознательно мучил себя, заставляя вспоминать о тех ночах, которые так и не повторились, тех далеких редких ночах, когда дверь в ее комнату была открыта и он лежал рядом с ней в легкой, мягкой, теплой, как пух, темноте, лежал какие-то мгновенья у нее между колен и слышал, как ее голосок серебряным колокольчиком вызванивает эти ничего не значащие, невыразимо глупые слова… глупые до безобразия, а эту можно назвать почти безобразной — огромная, некрасивая, распустеха, неряха, юбка съехала на сторону, не хватает крючка, туфли поношенные, ободранные, может, даже каблуки сбиты? Нет, этого я не запомнил, но черный свитер маловат и на нем волосинки, длинные светлые волосинки, бог знает, когда она последний раз мыла и расчесывала свои густые рыжие волосы и когда она вообще занимается собой, может, она и не спит вовсе, а каждую ночь ублажает разных случайных мужиков, потому что набухшие, потерянно отвисшие губы и две глубокие горизонтальные морщины под глазами вполне могут означать… нет уж, она вовсе не похожа на ласточку в полете, она чересчур большая и грузная, и она, естественно, не вернется, и кроме того, пора тебе сосредоточиться на реальном положении вещей, ибо хотя ты пытаешься вообразить, будто ничегошеньки не помнишь и понятия не имеешь, где ты и что происходит, но я тебе скажу, что на самом деле твои мысли чертовски ясны, просто-таки душераздирающе бессмысленно отчетливы: это — место, где тебе делать нечего, место, где они собирают беженцев, которых нужно переправить в Швецию, и рано утром или два-три часа назад он был здесь, тот, кого ты называешь братом и кто поразительно — приходится признать — похож на тебя, он приходил, чтобы увести тебя отсюда, он валялся на коленях и простирал к тебе руки, и если ты воображаешь, будто не помнишь, что он сказал, так я повторю слово в слово: «Речь идет о твоей жизни. Сегодня ночью тебя отправят на ту сторону, но живым ты не доберешься. Где-нибудь посередине пролива они пристукнут тебя и выбросят за борт…» Идиот, ты же теперь свободен, ты же можешь выйти отсюда, ведь она оставила дверь открытой, забыла запереть, потому что… у нее чуть поникли плечи, и едва заметный надлом… Как от боли… нет, конечно же, она не вернется, какой смысл бегать взад и вперед в ожидании того, чего никогда не будет, уходи, выйди в эту дверь… нет, подожди немножко, у тебя еще есть время, еще не стемнело, у тебя еще есть время все обдумать, я ведь не причинил им никакого зла, я просто случайно забрел в то место, где мне нечего делать, наверняка можно заставить этих людей внять голосу разума, но даже если они не захотят слушать меня, даже если самое ужасное — правда, даже если мой брат прав, мой перепуганный братишка со своим огромным смешным пистолетом, то разве могу я желать себе лучшей участи, чем исчезнуть бесследно, разве я не этого хотел? И я не боюсь, я не боюсь ничего, но почему… почему же тогда тебя всего трясет от ужаса?
Он сел на матрац. Засмеялся. Покачал головой. Он был не в силах взять себя в руки. Его переполнял страх. Бессмысленный необоримый страх. Страх перед узкой черной тенью вокруг больших черных теней, страх перед черным пятном в огненном свете и… и…
…И картошка все не разваривалась, потому что кастрюля была чересчур велика, а газ горел чересчур слабо, и она всюду опаздывала, все шло наперекосяк, и постоянно происходило что-то неожиданное. Симон наконец-то заснул, он спал так, словно был решительно настроен никогда больше не просыпаться, так что пока с ним никаких забот, но вот остальные — Кузнец прав, такой скверной группы у них еще не было, и чем дальше, тем хуже, они только и заняты тем, что ругаются и скандалят и ненавидят друг друга лютой ненавистью, и иногда спрашиваешь себя, стоит ли овчинка выделки… Но я не решусь признаться в этом Кузнецу, сказала она себе, он тут же начнет читать длиннющую лекцию, он не понимает, что иногда говоришь то, чего на самом деле не думаешь, именно потому, что не думаешь, а просто чтобы отвести душу… уф, хоть немного отвести душу; сдунув с глаз волосы, она принялась срезать последние ошметки мяса с кости, одновременно представляя себе, как они будут жаловаться, что их опять накормили рагу почти из одной картошки… да, женщин он знает плоховато, не понимает, что иногда делаешь такие вещи потому, что никакого особого смысла в это не вкладываешь, именно потому, что просто делаешь, не вкладывая никакого особого смысла, но в тот раз с Кузнецом, в тот единственный разнесчастный раз его так потом ужасно мучила совесть, и он обвинял и меня и себя, хотя это не имело никакого значения, и, по правде говоря, в общем-то ничего и не было, поскольку хотя он такой громадный и сильный, но не для этого, нет, этого он не понимает… а австриец смотрит сквозь меня, словно я пустое место, только потому, что в какую-то минуту мне показалось, будто я могу ему помочь именно таким образом, заставлю хоть немножко забыться, конечно, это было глупо, это ни чуточки не помогает, ничегошеньки не значит… Хотя — она откинула волосы — кое-что, конечно, значит, но только чуть-чуть и ненадолго, впрочем, когда этого давно не было, начинаешь видеть в этом нечто большее, чем есть на самом деле, для мужчин это вообще всегда нечто большее, но сейчас, когда идет война, как раз наоборот, они видят в этом что-то дурное, не имеющее никакого смысла, и Симон… когда Симон проснется, надо попробовать поговорить с ним об этом, только поговорить, хотя ему бы я помогла охотнее всего, потому что он вовсе не большой и не сильный, а жутко серьезный и торжественный и верит в свое дело, и, кстати, боится меня, как все остальные — и почему это все здешние мужчины так меня боятся? — о, Господи, пошли мне кого-нибудь, кто не верит в свое дело и не боится, нет, пусть боится, но не меня, пошли мне кого-нибудь, кто будет меня немножко любить, нет, не немножко, а еженощно и ежедневно, ведь у меня так давно ничего не было, и груди мои набухли и уже не выдерживают собственной тяжести, где у меня лифчики и где вся моя одежда, когда же я сделаю постирушку и когда я наконец найду время вымыть голову и расчесать себе волосы, чтобы они ожили и заблестели, как прежде, ведь в них моя единственная красота, а вообще-то я некрасивая, чересчур большая и грузная… Устала, может, я устала? — она опустила руки— нет, если б я хоть устала, но я никогда по-настоящему не устаю, да и ни к чему мне это, мне надо переделать еще кучу дел, а ведь еще день, даже не начало смеркаться, и чего это я сегодня все жду, когда стемнеет? «Иду», — крикнула она в ответ на раздавшийся снаружи голос, но с места не двинулась, а, опустив плечи, подняла руки к груди и вновь подумала, какая она тяжелая и набухшая, словно от молока, и одновременно подумала, что не будет прикручивать газ, он и так еле горит… Коли бы я точно не знала, решила бы, что беременна, сказала она про себя, выбегая из своей кухни и направляясь в трактир, и груди прыгали под черным свитером, плясала на коленях зеленая юбка, но видит Бог, это невозможно, последний раз это было сто лет назад, когда же стемнеет, почему это я жду не дождусь, когда стемнеет, и какого черта… какого черта я боюсь?
…Да, придется тебе признаться, что ты боишься, ты весь трясешься, но зачем же так слепо поддаваться этому чувству, возьми себя в руки, а для этого тебе надо разобраться, в чем тут дело. Ты боишься смерти, ты твердо знаешь, что скоро умрешь, но в этом страхе перед смертью присутствует радость и тоска по смерти, эти чувства слились в одно, а все-таки и это не вся правда, ибо за всем этим кроется еще что-то, и ежели у тебя не хватает духу признаться, так я тебе скажу, что именно: вожделение, просто-напросто плотская страсть к случайной громадной неряшливой бабе, которую ты и видел-то лишь мельком. Теперь тебе известна правда. Так встань же, выйди из двери, спустись по лестнице и уходи прочь из этого места, где тебе абсолютно нечего делать… Не хочешь? Не можешь? Должен дождаться ее возвращения? У тебя есть хоть какое-нибудь основание думать, что она вернется?…Говоришь, уверен, а на чем основывается твоя уверенность: черные пятна глаз, надломившиеся от боли губы? И это называется здравым смыслом, это реальность? Ты даже не уверен, что все это видел. Послушай-ка, что я тебе скажу: почему она не заперла дверь, если не потому, что хотела, чтобы ты ушел? Помнишь, что говорил твой брат: произойдет самое ужасное, самое ужасное, если ты не уберешься отсюда… Ты ведь не хочешь, чтобы это ужасное произошло, не хочешь стать причиной гибели женщин и детей? Вспомни, кто ты есть, ты уже однажды убил человека тем, что просто тихо сидел и ждал, напомнить тебе о смерти твоей матери? Помнишь те часы, когда ты сидел на стуле у ее постели, помнишь стакан с прозрачными пузырьками воздуха, и бутылочку из-под лекарства с мелкими черными буковками на этикетке, и телефонную трубку, которая валялась на полу, и торчавшую из-под одеяла голую ступню, и тот взгляд, тот последний взгляд, который она тебе послала?… Не слушаешь, а? О чем же ты тогда думаешь — о зеленых ободранных туфлях, о заштопанном чулке и недостающем крючке и?… Ради Бога, подумай о чем-нибудь еще, подумай о ком-нибудь, кого ты действительно знаешь, если ты воображаешь, будто никого не знаешь и никогда не видел и не знал ничего, кроме дурацких бессмысленных мелочей, так я тебе помогу, я тебе назову одно имя: Габриэль. Габриэль умер или умирает, помнишь, как ты сидел с ним перед тем, как у него начался сердечный приступ, и он говорил и говорил до бесконечности о… о чем? Не хочешь ли ты сказать, будто ничего не помнишь, кроме… кроме черного пятна, слепяще черного пятна в огненном свете?… Да, я боюсь за тебя, я за тебя больше боюсь, чем ты сам боишься смерти, встань, выйди в эту дверь, а не можешь, продолжай бегать взад и вперед по комнате, пока в голове не исчезнет последняя мысль, уже поздно, видишь, смеркается, ходи по комнате и ни о чем не думай, глазей по сторонам, пока еще видно, и прислушивайся к тому, что происходит снаружи, слышишь… шаги, вот опять звук шагов… и опять…
…Она вбегала и выбегала, поднималась по лестницам и сбегала вниз, время от времени останавливаясь, чтобы что-то сказать, ответить, забрать и отдать, и по-прежнему чувствовала тяжесть во всем теле и слабость в коленях, а потом и боль в ногах, но настоящей усталости не было, и если она вдруг остановилась и быстро огляделась в сумерках, так лишь затем, чтобы отдышаться, смахнуть что-то с глаз и откинуть волосы за спину, прежде чем войти с черного хода в тесную кухоньку трактира, где Оскар открывал бутылки с пивом, ругая ржавые неплотные пробки, изза которых пиво выдыхалось, она на ходу улыбнулась ему, подумав одновременно, что надо бы постирать его белую куртку, и вошла в шум и гам, в тяжелый спертый воздух, пропахший пивом, потом, металлом и едким табаком, увидела, как в клубах дыма тускло горят лампы, и мужчины в рабочей одежде стали кричать ей то, что они обычно кричали, и она отвечала так, как обычно отвечала, и двинулась дальше через узкий длинный зал, быстро перебирая ногами и увертываясь от протягивающихся к к ней рук, открыла дверь в заднюю комнату, и ждавший ее Кузнец сказал:
— Лена, скорей, закрой дверь, где тебя носит, мне некогда… — как он обычно говорил, и потом сразу, без перехода: — Я наконец узнал, в чем дело, они ввели двойной контроль, недалеко от Копенгагена курсируют два патрульных катера, они останавливают все проходящие мимо суда, переворачивают вверх дном грузы, там проскользнуть абсолютно невозможно, но мы можем отправить их завтра рано утром из Туборга… Ты слышишь, Лена, что я сказал? — О да, она прекрасно слышала его слова, и повторила: «Конечно, из Туборга», но Кузнец перебил ее: — Тсс-с, могут услышать, Лена, подойди ближе… — И она подошла к нему вплотную и устремила взгляд на его тяжелое костистое озабоченное лицо, но он отодвинулся и, потупив глаза, сказал: — Лена, слушай меня внимательно, проследи, чтобы завтра они были готовы к пяти утра. Я мог бы отвезти их туда сегодня вечером, но не хочу рисковать, потому что те, кажется, о чем-то пронюхали, тут по кварталу бродили какие-то личности, что-то выведывали, но повода для паники нет, пока им ничего не удалось узнать, второй путь достаточно надежен, я рассчитываю достать большой крытый немецкий грузовик, но когда мы прибудем, все нужно провернуть как можно скорее. Лена, понимаешь? Ты все поняла? — Она поняла, все поняла, но по-прежнему ощущала странную тяжесть в теле и слабость в коленях, а Кузнец казался нервознее и озабоченнее, чем всегда, поэтому она открыла шкаф, налила стакан и протянула его Кузнецу: «Выпей, это ром», а заметив его непонимающий и чуть ли не испуганный вид, пояснила: «Это не датский ром, это настоящий». Но он отвел ее руку и произнес: — Спирт, ты соображаешь? Что с тобой, Лена? — Но с ней все было в порядке, просто мысли блуждали где-то далеко, она засмеялась и осушила стакан, ведь он не захотел, но Кузнец все еще с испуганным выражением на лице сказал: — Лена, тебе надо пойти и лечь, слышишь, полежи часа два, — и она ответила:
— Хорошо, я полежу часа два, но не сейчас, сейчас у меня нет времени… — и направилась к двери, а он шел за ней, повторяя: «Лена… Лена…», но она уже вновь очутилась в жарком, спертом воздухе, гаме, среди зовущих ее голосов и рук, хватающих ее за колени и бедра, а еще через миг она уже стояла на улице, удивляясь, как быстро стемнело, она глубоко перевела дух и отправилась дальше, все думая… думая…
…можно ли спать стоя, можно ли ходить взад и вперед по комнате и спать?… Наверно, я все-таки заснул, ведь всего минуту назад было совсем светло, а теперь такая темь, что не видно ни зги. Но я по-прежнему хожу взад и вперед и ни о чем не думаю, нет, не думаю о мягком бесшумном водопаде ее зеленой юбки, о том, как она держит голову с тяжелой копной медных волос, но ни один человек не в состоянии жить в черном, пустом мире без образов, в те времена, когда я напивался до бесчувствия, у меня хоть были мои демоны — эти веселые духи, которые все эти годы играли со мной в свои игры. Был мужчина в белом халате, он стучал серебряным молоточком по моему телу и говорил: «Все страдания имеют физическую подоплеку», и был психоаналитик, который, сидя за ширмой, говорил: «Истина скрывается в словах, которые произносишь, не думая», о да, они все, по очереди, установили истину и исцелили мое тело и душу, однако продолжали являться ко мне во хмелю, но сейчас, когда я не пьян, я не в силах вызвать их и не уверен, что у них есть что мне еще сказать, ибо что-то все-таки изменилось. Но среди них был один, один-единственный, которого я… нет, не боялся, потому что тогда я ничего не боялся, но который причинил мне немало хлопот, и я До сих пор вижу его перед собой: маленькая, одетая в черное фигурка в черной шляпе с полями, скрывающими лицо… нет, лица его я никогда не видел, но помню белый шейный платок, повязанный крестом, тонкие руки, и остроносые, начищенные до блеска ботиночки, и пуговицы вдоль шва на сутане, эти черные матерчатые пуговицы, которые почему, то вызывали у меня отвращение. На самом деле я слышал только его голос из-за решетки в исповедальне — значит, меня когда-то занесло даже в исповедальню? — но на то, что накопилось у меня на душе, ответа я так и не получил, и потом встречался с ним лишь во хмелю, причем в самом глубоком. Сейчас он далеко, но я бы не имел ничего против увидеть его именно сейчас и услышать его голос, обращающийся ко мне, ведь никто не может жить в мире без образов, и в ожидании того, что случится, — того неизвестного, реального, в чем слиты воедино радость и ужас, — в ожидании этого я не могу представить себе более подходящего времяпрепровождения, чем созерцание Бога, души и вечной жизни. Выйди из укрытия, Отче, выйди из мрака, давай поговорим о погибели, ибо меня ждет погибель, я точно знаю, и я желал бы обратиться на путь истинный и вручить тебе мою душу, если и впрямь в твоей власти отогнать от меня те, другие образы, те совершенно бессмысленные картинки дурацких мелких погрешностей в женской одежде и страдальческий излом губ…
…Уф, она опустила поднятые руки — вот уже несколько минут она расчесывала щеткой волосы, и они стали пышными, наполнились блеском и жизнью и потрескивали, словно из них выскакивали электрические искры. Она осталась довольна своей работой, встала, разгладила, насколько это было возможно, юбку и, бросив последний взгляд в зеркало, вошла в комнату к Николасу. Тот, сидя в кровати, воскликнул: «Ты только погляди!» — с торжествующей ухмылкой показывая на вырванные из альбома открытки, которые вперемешку валялись на одеяле. «Лондон, — сказал он, подбрасывая фотографии в воздух. — Берлин, Париж, Амстердам, Нью-Йорк…» — Она подобрала их с пола и с кровати, положила на комод и сказала: «Уже поздно, Ник, пора спать». «Спать не буду», — ответил Ник, но она вновь была у его кровати. «Смотри, что я тебе дам, — сказала она, — если ты будешь спать». Он лишился дара речи, взгляд остановился — в руке она держала бокал, до краев наполненный прозрачной водкой. Потом все тело его пришло в движение, он протянул руки, выражал свое нетерпение нечленораздельными звуками, но она сказала: «Погоди, дай я тебе помогу», — и, поддерживая его голову, поднесла бокал ко рту, и он маленькими глотками выпил содержимое. «Еще!»— потребовал он, хлопая ладонями по одеялу, но она, улыбаясь, покачала головой: больше нет, уложила его обратно, накрыла одеялом с руками, подоткнула со всех сторон и сказала: «Я с тобой посижу, пока ты не заснешь». Она погасила свет, села на стул возле кровати и стала ждать; но вот он затих, бормотание прекратилось, дыхание выровнялось. Тогда она беззвучно встала и выскользнула из комнаты, спустилась по лестнице, взяла одеяло и другие приготовленные вещи и быстрым шагом вышла из дома, покачивая головой и говоря про себя: «И чего это я размечталась, о чем думаю…» Но в действительности она ни о чем не мечтала и ни о чем не думала…
…Отче, если ты и вправду существуешь, а не есть только порождение моего пьянства, про которое я давным-давно забыл, выйди из своего укрытия, скажи мне разумное слово, ибо я весь трясусь, сам не знаю, от радости или страха, уже поздно, осталось недолго, но оставшиеся краткие минуты мне хотелось бы провести не унывая и достойно. Явись мне, давай поговорим о душе и вечной жизни, или о погибели, если ты предпочитаешь, ибо, может быть, погибель вовсе не так страшна, может, это легкое и не вызывающее уныния дело, мне хотелось бы, чтобы ты это опроверг или подтвердил. Мне очень страшно, потому что я чувствую, что скоро умру, но в то же время я в хорошем настроении и готов при помощи орла и решки определить, что ждет меня — спасение или погибель, но поспеши, ибо ноги уже отказываются служить мне. Видишь, я ложусь на матрац и накрываюсь одеялом, я лежу и жду тебя, и если ты на самом деле существуешь, то приди, помоги заблудшей душе в крайней нужде, меня трясет еще хуже, чем раньше, зубы лязгают от холода или страха или надежды, но я закрываю глаза, складываю ладони и молюсь без слов — что еще может сделать сомневающийся человек? Приди, яви свое лицо, покажи, что это не мое собственное лицо, сделай хоть одно движение, которого я сам не делал, или произнеси хоть одно слово, которое принадлежит не мне…
Он соскользнул в сон, чувствуя, что где-то здесь действительно кто-то есть — кто-то укрыл его одеялом, потому что он больше не мерз, ему было тепло и уютно, и он улыбался во сне. Внезапно он очнулся, уже зная — это правда. Она сидела рядом. Его голова покоилась на ее коленях. Он медленно поднял руки и коснулся ее плеч, волос, ее груди. Она была живая, настоящая.
Он молча приподнялся. Она сняла с него пиджак. Расстегнула и сняла рубашку. Остальное, мягко отстранив ее руки, он доделал сам, наблюдая, как она двигается живым темным пятном во тьме: что-то стащила через голову, что-то стянула с ног, все произошло быстро, чересчур быстро, она уже лежит рядом с ним под одеялами, и он слышит ее тихий голос, глубокий доверительный голос, в котором звучала та же живая тьма: «Возьми меня, скорее, скорее, у меня так давно ничего не было, поэтому все будет быстро, сильнее, сделай мне больно, дай мне немножко умереть, ведь так ужасно долго ничего не было, и сперва я хочу немножко умереть, немножко, немножко…»
4
— Томас? — Она тихонько рассмеялась. — Значит, тебя зовут Томас?
— При крещении меня нарекли Томасом, но никто меня так не называет. Говорят Том или Мас.
— Со мной та же история, — сказала она. — Меня зовут Марта Мария Магдалена и еще парочка имен, которых я даже не помню. Но меня все называют Магда или Лена. Только отец зовет Магдаленой.
— Вот как, у тебя есть отец? — спросил он, смеясь.
— А что в этом смешного?
— Не знаю. Просто смешно.
— Кстати, у меня его все-таки нет. Не знаю даже, кто был моим настоящим отцом.
— Вот видишь. И я тоже — никогда не видел своего отца.
— А этот — мой отчим, — сказала она после недолгого молчания. — Или был им — нынче он просто ребенок.
— Что ты имеешь в виду?
— Он впадает в детство. Мне приходится помогать ему со всем — раздевать, одевать, мыть, кормить. Вообще-то он все может сам, просто комедию ломает. Он соображает лучше, чем кажется. Но делать нечего, я вынуждена держать его дома.
— Почему? Разве ты не можешь?…
— Хватит об этом, хватит говорить о нем, давай поговорим о нас. У нас мало времени.
— Который час?
— Не хочу об этом думать сейчас. Я завела будильник.
— Будильник? — Он прислушался: в темноте что-то тикало, слабо, словно придушенно.
— Будильник, — подтвердила она, — я завернула его в свое белье. Чтобы не трещал прямо в уши. Мы услышим, когда он зазвонит. Мы ведь не будем спать.
— Практичная, — засмеялся он.
— Конечно, практичная. Что в этом смешного?
— Просто смешно. Ты совсем другая, чем я себе представлял. Даже на ощупь другая — словно бы намного меньше.
— Наоборот, намного больше. Признайся. Безобразная громадина.
— Маленькая и смешная.
— Я длиннее тебя. Твоя голова не достает до моей, сам же видишь.
— Это потому, что ты лежишь выше. Твои ноги лежат на моих. У тебя только волос больше, — сказал он, гладя ее волосы. — Безобразная густая грива…
— Я расчесала их ради тебя. Во мне только и есть красивого что волосы.
— Только и есть безобразного. Лохматая, густая, безобразная грива… — Он зарылся в нее лицом. — Я люблю ее.
— Молчи, — сказала она. — Ты тоже другой. Я думала, ты маленький, несчастный, беспомощный. Маленький и испуганный.
— Я и правда боюсь. Ужасно боюсь.
— Чего?
— Тебя.
— Ерунда. Ни чуточки ты меня не боялся, это-то уж я заметила. Ты был грубый. Сделал мне больно.
— Это потому, что я боялся. И потому, что ты сама просила.
— Я просила? Не помню. В следующий раз будет по-другому. В следующий раз мы не будем торопиться!.. Нет, еще не сейчас, не сейчас. Сперва я хочу на тебя поглядеть.
Он засмеялся:
— Ты ведь ни черта не можешь разглядеть.
— Можно видеть руками, дуралей… У тебя большие глаза, громадные, темные, такие темные, что я вижу их. Синие?
— У тебя были черные глаза, когда я глядел в них. Как черные пятна в огненном свете.
— Ну уж нет. Вовсе они не черные, а серые, с прозеленью. Но я спросила…
— Серые, и зеленые, и карие, и черные, всех цветов. А в глубине…
— Молчи, поговорим о тебе. Кончик носа у тебя немножко вздернут, зато уши…
— У тебя маленькие ушки, они прячутся в волосах. Но ты хорошо ими слышишь. Удивительно практично и чутко и…
— …А твои уши, я думала, они у тебя чуть оттопырены, но…
— …А ты скуластая, и по щекам спускаются к подбородку две складочки, и под глазами две продольные морщинки, которые ветвятся на концах. Сперва они мне напомнили ласточку в полете, но теперь вызывают совсем другие мысли…
— Молчи, мне казалось, у тебя маленькое, худое лицо, но оно, оказывается, вовсе не маленькое. И твоя шея и плечи… Я думала, ты маленький, тщедушный, я думала…
— Я думал, у тебя грубая кожа, жесткая и грубая, но она совсем другая, на ощупь совсем другая, и твои груди…
— Молчи, я думала, что ты маленький несчастный человечек, которому очень нужна помощь, но тут ты внезапно встал и подошел ко мне. Я испугалась.
— Это я испугался. С тех самых пор дрожу от страха.
— У меня в голове с тех пор не было ни единой мысли. Не могла даже дышать. Тело вдруг отяжелело. Не могла…
— Молчи, больше не хочу слушать.
— Да, хватит говорить… Иди ко мне…
И их долго не было, а потом они вновь долго лежали, не шевелясь, и смотрели друг на друга глазами темнее окружающей тьмы, и когда он наконец набрал в легкие воздух, собираясь что-то сказать, она закрыла ему рот ладонью, и лишь спустя какое-то время вновь раздался ее голос.
— Все было по-другому, — произнесла она, все еще словно издалека, — совсем не так, как я ожидала. Первый раз я подумала — это из-за того, что у меня давно никого не было. Но теперь я знаю, что и правда по-другому. Раньше никогда так не было.
Он помолчал, обдумывая ее слова.
— Да, по-другому, — сказал он потом. — Сейчас все по-другому. Но жутковато. Как-то по-новому жутко. По-моему…
— Молчи, — сказала она, — не надо об этом говорить.
Они замолчали, тесно прижавшись друг к другу. В конце концов у него появилось ощущение, что надо что-то сказать, что-нибудь иное, все равно что, не имеющее значения.
— Так-так, у тебя, значит, были другие?
— Нашел о чем спрашивать, милый, — ответила она прежним спокойным глубоким голосом. — Мне уже за тридцать. Но других было не так много, как можно подумать, и почти всегда я шла на это, чтобы им помочь. Большинство мужчин нуждается в помощи. Большинство мужчин так боится… А по-настоящему был — или есть только один…
— Кто же он?
— Кто? Он не слишком высокий. И не очень сильный. Его зовут Карл. Он сейчас в море, судовой механик. Я не видела его с начала войны. Не знаю, где он, ничего о нем не знаю. Наверно, плавает на кораблях союзников. Небось был в конвоях в те разы, когда почти все погибали. Нет, не хочу про это думать. Он слабый человек, не надо было бы ему воевать, не под силу ему находиться так далеко от меня. И если он был внизу, в машинном отделении одного из кораблей, которые… нет, больше не буду об этом думать. Вначале я не спала ночами, а теперь почти не думаю о нем. Какой в этом прок? Сколько уже погибло, и стольким надо продолжать жить. Но он слабый человек, даже с ним я спала тоже в основном потому, что он боялся и нуждался во мне. Любовник он был никакой, и коли тебе непременно нужно выяснить, милый, — а тебе ведь только это и хочется выяснить, — так я до сих пор по-настоящему и не знала, что такое спать с мужчиной. Я думала, достаточно и того, что он… понятия не имела, что и сама я… А ты?… Нет, не буду тебя ни о чем спрашивать.
— Со мной то же самое. Я тоже никогда раньше не знал, что значит спать с женщиной.
Они опять замолчали. Потом он сказал:
— Я убил свою мать.
— Свою мать? Что значит — убил свою мать?
— Она покончила с собой, а я не пытался ее спасти. Я вернулся домой вовремя и вполне мог бы спасти ее, но не сделал этого. Сидел рядом и ждал, пока она умрет. Не позвал на помощь, пока не убедился, что уже поздно.
— Значит, ты ненавидел свою мать?
— Я всегда ненавидел ее. Ненавидеть ее я научился раньше, чем научился ходить или говорить. Я был для нее лишь средством. Во мне она любила и ненавидела себя, и убила себя, использовав меня как средство. Она не сознавала этого, называла это материнской любовью. А у меня не было собственной жизни. Мне не разрешалось играть с другими детьми, только с ней. Вернее, она играла со мной. Она обнимала и целовала меня, без причины плакала надо мной, без причины била меня. Когда я подрос, она научила меня напиваться допьяна. И потом не давала мне ни минуты покоя, ни днем ни ночью, не давала спать, колотила в мою запертую дверь, грозилась покончить с собой, если я не отопру, выла как зверь, выкрикивала все ругательства, какие только есть на свете. Я затыкал пальцами уши, но все равно слышал, как она марает себя ею же заведенным ритуалом, изрыгая священные непристойные слова…
— И все-таки ты не можешь простить себе, что помог ей умереть?
— Могу. Теперь могу. Теперь для меня это что-то внешнее, больше меня не касается. Но я не могу простить себе, что позволил воспользоваться собою как средством… Человек — не средство, человек — цель. Мне это стало ясно только сейчас. Прости меня, любимая.
— За что я должна тебя прощать?
— За то, что я так задержался, что пришел так поздно.
— Какое это имеет значение? Сейчас-то ты здесь.
— Ну, сейчас…
— Да, сейчас!
— Сейчас?
— Ты не понимаешь, — засмеялась она в темноте. — То, что было, сейчас ушло, оно больше не существует. Невозможно любить жизнь без того, чтобы при этом что-нибудь не умирало, и чем сильнее ее любишь, тем больше умирает. А ты этого не понимаешь, продолжаешь цепляться за то, что умерло. — Она снова засмеялась. — А все-таки ты маленький испуганный несчастный человечек, любимый. О, какой же счастливой ты меня сделал…
— Счастливой?…
— Да, ведь со мной было точно так же. Я все это тоже пережила, хотя и по-другому. Я была совсем крохой, когда моя мать познакомилась с моим отчимом, я мало что понимала, но все же достаточно. Он эксплуатировал ее, жил за ее счет и за счет еще пяти-шести других. Он держал трактир, который на самом деле был борделем. Когда я подросла, он и меня использовал в своих целях. Запер в одной комнате с мужчиной, которому по вкусу были такие, как я — ни ребенок, ни женщина. Я дралась, царапалась, кусалась, кричала, молила о помощи, но никто не пришел, не помог…
— Молчи, не хочу больше слушать об этом. Ты говоришь, отчим? И ты за ним ухаживаешь? Он живет у тебя?
— Конечно. Теперь он превратился в ребенка, который мочится в постель. Впрочем, он всю жизнь был ребенком. Как и твоя мать. Кто-то должен ведь ему помогать, а кто ему ближе меня? Неужели ты не понимаешь, что я должна — ради самой себя? А то другое… когда-нибудь надо перейти через это. Преодолеть. Неужели ты не понимаешь, что это единственный способ преодолеть?
— Нет, — сказал он, — не понимаю.
— Ты все-таки мало что понимаешь, любимый. Но ты сделал меня такой счастливой, только сейчас я стала совсем-совсем счастливой. Потому что теперь я могу помочь тебе. Давай поиграем в одну игру…
Она привстала и склонилась над ним. Ее волосы упали на него мягким беззвучным водопадом, закрыли, запеленали, она медленно, ласково провела ими по его коже. Она смеялась и плакала от счастья, теплый дождь омочил его лицо. «Я твоя мать, — шептала она, — я тебя люблю, ты мой. Я беру тебя обратно, чувствуешь, обратно в свое лоно. Теперь тебя больше нет, ты во мне. А вот — я опять рожаю тебя…»
— Господи, ты наказал меня за высокомерие. Я проповедовал в твоей обители, желая поднять людей на сопротивление, я вообразил, будто могу использовать твои слова как убедительное оружие в борьбе со злом. Но зло нельзя победить оружием. Ты научил меня смирению, ты дал мне увидеть себя во всем моем ничтожестве, ты обнажил передо мной мою человеческую суть. Отец небесный, я благодарю тебя за это, и если сейчас я возношу к тебе молитву, то прошу не о собственном спасении. Уничтожь меня, пошли мне смерть, пусть душа моя погибнет, если без этого нельзя, но вразуми этих людей, чтобы они поняли: все мы связаны общей ответственностью, и ответственность, которую мы несем друг за друга, то же, что ответственность перед тобой. Чтобы они поняли: человек сам по себе ничто, он ничего не значит вне Бога, и если научить их этому можно лишь ценой моей погибели, пусть так и будет…
— Хорошая игра была, любимый?
— Марта Мария Магдалена, это была чудесная игра. Самая прекрасная игра в моей жизни.
— Но мне стало страшно, — сказала она. — Согрей меня, мне холодно. Согрей мои руки, согрей мои ноги.
Он спрятал ее ладони под мышки, он обвил ее ноги своими, он прижал ее к себе — так крепко, что казалось, тела их слились в одно. Он чувствовал, как зябкая дрожь пробегает по ее коже, и, закрыв глаза, увидел перед собой воду, блестящую водную гладь и бегущую по ней рябь от порывов ветра. Она прошептала:
— И вовсе это была не игра. Я, кажется, забеременела. Я понесла от тебя.
— Почему ты решила?
— Такое чувствуешь, — ответила она, — женщина такое всегда чувствует. И я знала заранее. Я ждала этого весь день. Я вдруг отяжелела. Груди набухли… И по циклам сходится. У меня как раз середина цикла. А теперь война скоро кончится, и я рожу сразу после победы, это очень удачно, потому что тогда у меня будет время… Чего ты смеешься, дурачок?
— Ты так практично рассуждаешь.
— Кто-то должен быть практичным. Но сейчас я не рассуждаю практично, я вообще не рассуждаю. Мне холодно. И страшно. Обними меня. Прижми крепче…
— Бенедикта, — сказал юноша, — послушай…
— Пусти меня, — ответила она, ударяя его по руке, — не прикасайся ко мне. Я этого не выношу. Я больше не могу… — Она с силой потрясла головой и погрузила пальцы в волосы. — Что это за люди? Что это за мир? И вот за это мы боролись?
— Ты просто устала, — сказал он. — Две ночи не спала. Полежи, отдохни.
— Пусти, не хочу ложиться. Не хочу спать…
Она опять запустила пальцы в волосы, впиваясь ногтями в кожу, в мозг.
— Ненормальные, все ненормальные. Но я не сдамся, буду продолжать бороться. Когда кончится война, борьба начнется всерьез. Нельзя допустить, чтобы жизнь соскользнула в прежнюю колею. Нельзя закрывать «Форпостен», газета должна жить дальше. Я пойду по домам, буду говорить с людьми, собирать деньги, собирать подписи. Я… я хочу сказать, что кто-то ведь должен продолжать бороться за лучший мир. Кто-то должен бороться за правду, свободу, справедливость. Кто-то должен…
— Бенедикта, я согласен с тобой, ты ведь знаешь. Но надо иметь и нормальную человеческую жизнь. Не пора ли нам чуточку подумать о себе? Ты обещала выйти за меня замуж, когда кончится война. Не лучше ли завести семью, детей?…
— Пусти меня. Замолчи. Людей, размножающихся как крысы, хватает и без нас. Голодающих и неграмотных — половина населения земли. Мы не имеем права рожать детей. Сначала надо изменить мир, сначала надо изменить человека… человека… человека…
— Бенедикта…
— Пусти меня. Не прикасайся ко мне…
— …Я хочу, чтобы он был похож на тебя. Маленький испуганный несчастный человечек. Только чтобы внешность у него была не твоя… ну, нос, пожалуй, он у тебя не слишком красивый. А так ты чересчур хорош собой. У него будут рыжие волосы, настоящие огненно-рыжие, веснушки и оттопыренные уши…
— Но тогда это должен быть мальчик.
— Мальчик или девочка — значения не имеет. Но если будет мальчик, то уж никак не герой, не желаю видеть его с пистолетом в руке… Ладно, хватит об этом, до этого еще далеко, будем говорить только о нас. Я больше не боюсь и не мерзну, наоборот, мне жарко, уф… — Она перевернулась на бок. — Спина чешется, почеши мне спину… нет, не там, повыше… нет, правее… нет, левее… нет, не так. Слишком слабо, у тебя силенок не хватает.
— У меня достаточно силенок, чтобы согнуть тебя в дугу, толстушка моя.
— Попробуем? Поборемся? — В ту же секунду она подмяла его под себя. В темноте они вцепились друг в друга, одеяла взлетели в воздух, а они скатились с матраца на пол. Он смеялся — ее волосы щекотали ему лицо, и куда бы он ни поворачивался, повсюду натыкался на руки, ноги, локти, колени.
— Перестань, — взмолился он, давясь от смеха, ибо она впилась ногтями ему между ребер, — перестань, щекотно, я умираю…
— Ну, кто сильнее?
— Ты.
— Будешь просить пощады?
— Пощады!
Она поправила одеяла, села, подняв руки над головой, зевнула и потянулась.
— Я ужасно проголодалась? А ты?
— Немножко.
— Какая я дура, — сказала она, — мне следовало подумать о еде. А я принесла только пиво.
— Пиво?
— Да, а что тут такого смешного?
— Не знаю, просто смешно… Кстати, у нас есть еда, я не съел того, что ты принесла мне раньше. Подожди-ка, я достану.
Он ощупью добрался до своей одежды, отыскал в кармане брюк коробок и зажег спичку. Она мгновенно погасла, но этого было достаточно — он успел осмотреться в крохотной пустой комнатенке и уверенно направился к подносу.
— Вот, — сказал он, набрасывая свой пиджак ей на плечи. Она сидела с подносом на коленях.
— Что хочешь — яйцо с селедкой, сыр или колбасу? — спросила она. — Почему ты смеешься?
— Не имеет значения, — ответил он. — Не знаю, просто смешно.
— Дурачок, — сказала она, и он снова засмеялся: она говорила с набитым ртом. Они по очереди откусывали хлеб и по очереди отпивали из бутылки. Спички все еще были у него в руках, он чиркнул одной о коробок и загородил огонек ладонью — ему очень хотелось посмотреть, как она ест и пьет. — Нельзя, — сказала она, — снаружи видно. — Она задула спичку, но картинка осталась: очертания крепкой округлой груди, не вмещающейся в его пиджак, белый блеск жующих зубов, глубокий темный смех в глазах и мерцающее облако волос…
— А кто ты вообще, в гражданской жизни? — спросил рыжий.
— У меня нет гражданской жизни. Я в некотором роде никто.
— Но что-то же ты, черт возьми, делаешь? На что-то жить должен? Человек в исландском свитере вынул изо рта пустую трубку и задумался.
— Делаю, конечно. В некотором роде. Но ничего существенного. Занимаюсь всяким рукомеслом. Немного режу по дереву, балуюсь глиной, высекаю из камня, когда у меня есть на это деньги, — но такого почти не бывает, — иногда мажу холст или пачкаю бумагу. Ничего путного не получается, не гожусь я для этого, не знаю, в чем дело. Ничего существенного. Бессмысленное занятие, людям ничего не дает. Просто я делаю это. Делаю, потому что не могу не делать. Вот так-то.
Рыжий рассмеялся:
— Так я и думал, так и предполагал, что ты что-нибудь вроде дерьмового художника…
— Не думала, что мне захочется спать, пока я с тобой, — сказала она. — Но вот захотелось… Ну чего ты опять смеешься?
Он собирался было ответить, что его насмешил ее голос — тихий, звучащий уже издалека, но она, не дожидаясь ответа, принялась шарить в темноте руками, нащупала будильник и поставила его на пол рядом с матрацем.
— Нет, не смотри, — сказала она, поворачивая будильник светящимся циферблатом к стене, — нам ни к чему знать, который час. Но мы должны услышать, когда он зазвонит. Обними меня, я посплю, всего минутку. Хочу разок провалиться в сон в твоих объятиях и разок проснуться в твоих объятиях, хочу получить в придачу и это удовольствие. — Она тесно прижалась к нему и устроилась поудобнее, положив голову ему на плечо. — Вот теперь я стала совсем маленькой, чувствуешь? Маленькая усталая сонная старушка… — Она глубоко и удовлетворенно вздохнула, и вскоре ритм ее дыхания изменился, стал спокойным и ровным. Он лежал на спине, вытянувшись во весь рост, смотрел в темноту— казалось, он плывет по черному штилевому морю, — и слушал четкие педантичные шажки часов — от секунды к секунде. Он улыбнулся, подумав, что часы, в сущности, смешное изобретение — донельзя комичное и абсолютно ненужное, ибо в действительности времени не существует, оно — чистейшая игра воображения. Он вслушивался в вечный свист ветра над крышей, а немного погодя в уши проник звук беспокойных шагов незнакомца в комнате под ними. Кто этот человек и что заставляет его вот так ходить? Он забыл спросить ее об этом, он вообще ни о чем не успел ее спросить. А сейчас это уже не важно. Потеряло значение. Когда прозвонит будильник, что-то произойдет, это он знал, ощущал как покалывание в ладонях, но слабое, мимолетное и тоже не имеющее никакого значения. Она так тесно прижалась к нему, что он не мог бы сказать, где кончается его собственное тело, а где начинается ее, но волосы ее щекотали ему щеку, вызывая улыбку. Сейчас только это и имело значение. Он улыбнулся еще шире и провалился — в ее дыхание, в ее сон…
Николас давно проснулся. Позвал раз-другой Магдалену, но ответа не получил. Тогда он встал с кровати, кудахча от удовольствия— вот какой он хитрый, она-то думает, что он совсем беспомощный, ничего не может, а на самом деле он может все. И еще она думает, будто он ничего не знает, а он знает все. Он пробрался в ее комнату и зажег свет — ну, точно: в постели ее нет, она спит с военными, эта потаскушка. Она думает, будто он не знает, где она проводит ночи, а он знает. И уж позаботится, чтобы вытрясти из нее деньги — и деньги, которые принадлежат ему, и спиртное, которое принадлежит ему, и вообще все, что принадлежит ему. Ведь здесь все кругом его— трактир и все остальное. «Мое, — проговорил он, кивая и фыркая, — мое, мое, мое». Который час? Наверно, уже утро, хотя она и пыталась убедить его, что еще ночь. Она думает, будто он не умеет определять время по часам, но он умеет, он все умеет. Часов на комоде, где они обычно стояли, не было, спрятала небось. Зато… Он заморгал, уставился в одну точку, глаза заблестели — ключи… там лежали ключи. Она забыла их взять.
Схватив связку ключей, он бегом вернулся в свою комнату — теперь к нему вернулась способность двигаться быстро. Не выпуская из рук ключей, он натянул на себя брюки, наспех заправил в них ночную рубаху, сунул босые ноги в тапочки, застегнул на все пуговицы вязаный жакет. Потом поднес ключи к уху и, погремев ими, повторил: «Мое… мое, мое» — и вот уже ноги прихрамывающей, спотыкающейся трусцой понесли его вниз по лестнице, через кухню, к трактиру. Запыхавшись, он добежал до цели и торжествующе захихикал. Кругом было темно, свет нигде не горел, — нет, они не здесь, но ему-то известно, где они скрываются, он-то знает, где они прячутся от полиции. «Мы их надули, приятель», — произнес он, лукаво подмигивая и в то же время подбирая ключ к задней двери — ключи, будь они неладны, громыхали и то и дело соскальзывали, не попадая в замочную скважину, или просто не подходили, но в конце концов ему повезло, и в следующую секунду он уже стоял в зале трактира и повсюду зажигал свет — зажигал все светильники. «Мое», — сказал он, с торжествующим видом обводя глазами помещение. «Иди сюда, приятель», — позвал он, прошел через длинный пустой освещенный зал в заднюю комнату и принялся подбирать ключ к шкафу — «потому что настоящий товар мы прячем здесь, приятель». Он сумел открыть шкаф, и вот наконец-то — наконец-то! — у него в руках бутылка. Он вытащил пробку и понюхал — все верно, ром, «настоящий ром, приятель», придвинул два стула по обе стороны стола, поставил два стакана и наполнил их до краев, так что немного жидкости перелилось даже через край, но «наплевать, там, где я нашел эту бутылку, есть еще». Он сел и взял стакан, ром лился через край на стол и ему на брюки, поэтому следовало поторопиться. «Твое здоровье, приятель. До дна, я угощаю, сегодня ты мой гость. Все, что ты здесь видишь, мое». Опорожнив стакан, он быстро перебежал на другую сторону, сел, взял второй стакан, сказал «спасибо, приятель, твое здоровье, приятель», налил по второму кругу и произнес: «А ты помнишь, приятель, тот раз…»
Она шевельнулась во сне и глухо прошептала: «Любимый, они придут, я боюсь, они сейчас придут…», но он только крепче прижал ее к себе и ответил — во сне, но совершенно отчетливо и с полной убежденностью:
— Не надо бояться, любимая. Никто не придет. С нами больше уже ничего не может случиться.
— …помнишь девочек в Гамбурге, приятель, заходишь за загородку, ну словно как в туалете, и вдруг попадаешь в это самое — они горланили и вопили, точно попугаи, свешивали из окон груди, хватали тебя и обещали все на свете, они все умели, но вообще-то они были не то чтобы очень, старые, уродины… — Нет, приятель, твое здоровье, приятель, давай лучше вспомним тех, в Амстердаме, это уже совсем другой класс, они неподвижно сидели в витринах— накрашенные, разодетые, манерные, помню одну в голубом кринолине, она была похожа на карточную даму, или представь себе живой портрет за стеклом и в раме, она лишь показывала на тебя веером и подмигивала одним глазом и… — Да-а, а помнишь ту в Марселе, которая ногами обнимала меня за шею, пока я… — Э-э, все равно она и в подметки не годилась той в Барселоне, у которой… — Нет, приятель, испанские девки не по мне, слишком толстые, да и груди у них… — Кто-то колотит в дверь, приятель… — А, пусть их, мне все равно… Да, китаянки тоже не по мне, они, наоборот, слишком маленькие, худые, и талии никакой, зато… — Все еще стучат, как думаешь, не пойти ли тебе открыть, вдруг полиция?… — Полиция, ты имеешь в виду полицию нравов? Я теперь не имею ничего общего с полицией нравов, ничего не знаю, ничего не ведаю, но коли тебе непременно приспичило открыть дверь, так пойди сам и пошли их куда подальше… — Нет, это тебе надо пойти, ведь ты здесь хозяин, приятель, ты же владелец этого заведения… Заведения, ну ясно, я владелец заведения, все здесь принадлежит мне, все здесь мое, поэтому я имею право сам решать, кому открывать дверь, и нечего нам мешать, когда мы наконец сидим здесь и… что это, черт подери, еще за шум?… — Берегись, приятель, они взломали дверь, идут сюда, я слышу их шаги… — Ну и лад-' но, пусть приходят. Спокойно, приятель, спокойно, мы про эти делишки не знаем, мы ничего не знаем, а если и знаем, держим язык за зубами…
Она проснулась мгновенно — в ту же секунду, когда зазвонил будильник, протянула руку, выключила звонок и, повернувшись к нему, прошептала:
— Любимый, побудь со мной еще немножко, я поставила будильник с запасом, у нас есть еще чуточку времени. Поцелуй меня… — Он нашел в темноте ее губы, но они были безжизненные и сухие, она не раскрылась ему навстречу и прошептала: — Нет, не могу, не целуй меня, просто побудь со мной, обними меня, прижми покрепче, о, крепко-крепко… Нет, любимый, не надо, не надо, я не могу сейчас, не хочу… Да, любимый, я могу, хочу… хочу… хочу тебя еще раз, еще один-единственный раз…
— …Нет, это была не полиция, а может, все-таки полиция, уж больно эти двое бьши похожи на переодетых полицейских в своих плащах, перетянутых поясами, и шляпу ни один не снял, а как они вели себя — шарили и шарили вокруг глазами. Один здоровый, толстый, он держал руку в кармане плаща, точно у него там что-то было спрятано, но не он был самым страшным — нет, самым страшным был тощий, потому что был бледный как смерть и похож на скелет — челюсти, зубы, впалые щеки, запавшие глаза, — и он как гаркнет: «Почему не открываете? Что вы здесь делаете? С кем вы разговаривали?» — Николас оглянулся и позвал: «Приятель!»— ведь он разговаривал именно с ним, куда это он вдруг подевался? Но Смерть вплотную приблизила к нему свое лицо и сказала: «Без глупостей, мы знаем всё, где они?» — и ощерилась и хотела его схватить, так что Николас испугался и крикнул: «На помощь, Магдалена! Магдалена!..» А Смерть спросила: «Кто такая Магдалена?» Но тут подошел толстяк, толкнул второго в бок и подмигнул ему — и, хотя у Николаса глаза были на мокром месте, он хорошо все видел и слышал, как толстяк прошептал: «Давай лучше я, старик-то чокнутый…» — да, эти слова он ясно разобрал и заулыбался, энергично закивал, потому как все верно: он чокнутый, все думают, что он чокнутый, хотя на самом деле никакой он не чокнутый, и сейчас главное смотреть в оба. Толстяк уже уселся на место приятеля, нет, он не страшный, он сам вроде приятеля, круглое добродушное лицо, он подмигнул и сказал: «Давай-ка потолкуем, старина. Где они прячутся?» И Николас тоже подмигнул в ответ и спросил: «Кто? Ты имеешь в виду девочек?» Тут подошла Смерть и хотела было вмешаться, но толстяк отмахнулся от товарища и спросил: «Девочки? Там только девочки, парней нет?» И Николас ответил: «Есть, военные». А когда толстяк, не поняв, повторил «военные?», Николас, вытянув шею и прикрыв рукой рот, прошептал: «Война идет, приятель, в стране война», и толстяк кивнул и опять повторил его слова, он продолжал сидеть, что-то вертя в руках, а потом сказал: «Мы бы тоже не отказались от парочки девочек, да вот где же их взять? Если бы ты согласился показать нам, где они, тогда…» Николас обмер— толстяк держал в руках деньги, Магдалена-то думает, будто он не разбирается в достоинстве денег, но он прекрасно разбирался и знал, что это крупная купюра, — он подмигнул и сказал: «Пошли, приятель, я все устрою», — взял деньги и, прежде чем засунуть в брючный карман, скатал в маленький шарик — потому что тогда она не заметит, — и вот он уже идет через зал рядом со здоровенным добродушным толстяком, а сзади идет Смерть и гасит все лампы…
Она протянула руку, взяла часы и задохнулась от страха, увидев, сколько времени. Мгновение спустя она уже была на ногах и торопливо одевалась. Он продолжал лежать, переполненный чувством счастливой опустошенности и изнеможения, вставать не хотелось, но он все-таки поднялся и начал не спеша натягивать на себя одежду. Он опять почувствовал покалывание в ладонях и понял: вот сейчас что-то должно произойти — то, что принято называть событиями, хотя в действительности это не имеет никакого значения. Он собирался было сказать ей об этом, но тут же забыл свое намерение. Оба молчали. Он был спокоен и безмятежен, возникло желание засвистеть или замурлыкать песенку, но тут она вдруг подошла к нему и сказала:
— Любимый, оставайся здесь, обещай, что останешься.
— Почему? — Он улыбнулся, смеясь над бессмысленным страхом, звучавшим в ее голосе. — Почему мне нельзя быть с тобой?
Но она повторила:
— Обещай, что останешься здесь. Я приду, как только смогу, тебе нельзя идти со мной, и не удерживай меня. Пусти меня, сейчас же, слышишь, а не то… а не то…
…Добродушный толстяк, вдруг утративший свое добродушие, приказал шепотом: «Стой здесь, и чтобы ни звука, а не то…» Он бесшумно скользнул вверх по лестнице, а Смерть осталась на месте, держа Николаса за руку. Николасу стало очень страшно, ему хотелось позвать на помощь, хотелось позвать Магдалену, но Смерть, вцепившись в его руку, вдавила что-то твердое ему между ребер. Медленно ползло время, черное беззвучное жуткое время, но наконец вновь заскрипели ступени, толстяк вернулся и что-то прошептал Смерти, что-то насчет телефона, и Смерть вывела Николаса на улицу и повела обратно, к трактиру, шипя сквозь зубы: «Так, теперь шутки кончились, ясно? С головой у тебя все в порядке, и если ты опять начнешь ломать комедию…»
…но он не отпускал ее, пошел за ней к двери и, загородив дорогу, сказал: «Я хочу остаться с тобой, быть там, где ты… Нет, я не отпущу тебя одну, ты боишься, и именно поэтому я должен пойти с тобой». Со слезами в голосе она проговорила: «Отойди, пусти меня сейчас же, пожалуйста, дай мне уйти, и так слишком поздно, и пока мы тут стоим…» Пока они там стояли, высокий богатырского сложения мужчина шагнул в круг света и, подняв пистолет, крикнул: «Руки вверх, все к стене, быстро, быстро!», и когда ему показалось, что они медлят выполнять его приказ, он направил свой пистолет в пол и одновременно… и одновременно оба замерли и, разомкнув объятия, прислушались, и, когда прогремел выстрел, они поняли, что случилось, и с этой минуты не обменялись больше ни единым словом. Он открыл дверь и вышел, она попыталась обойти его, но он рукой загородил ей дорогу и начал торопливо спускаться по лестнице, стараясь ступать беззвучно. Надо было бы снять ботинки, подумал он, но сейчас на это уже не было времени. Он удивился, что не слышит ее шагов, и какое-то мгновение надеялся, что она осталась там наверху, но, пошарив сзади рукой, понял — она по-прежнему идет за ним по пятам. Двумя этажами ниже он заметил чуть приоткрытую дверь, из-за которой сочился свет, — он остановился в этом узком освещенном пространстве и обернулся. Он не услышал ни звука, а шептать не рискнул, и потому глазами и руками велел ей оставаться на месте, после чего, открыв немного пошире дверь, проскользнул внутрь и крадучись пошел по туннелю — с одной стороны стена, с другой — нагроможденные друг на друга ящики. В конце туннеля свет был ярче, там спиной к нему стоял человек — высокий богатырского сложения мужчина в шляпе, из-под которой белела мощная шея. Он стоял совершенно неподвижно, уперев одну руку в бедро, а из другой торчало черное пистолетное дуло, нацеленное прямо в середину окаменевшего, странно искореженного леса темных человеческих тел и белых поднятых рук. Люди сбились в кучу в дальнем углу, повернувшись лицом к стене, и у Томаса мелькнула мысль, что настоящие живые люди так стоять не могут. Одновременно он с досадой вспомнил, что у него самого пистолета нет, и потому ему не оставалось ничего другого, как подкрасться как можно ближе и прыгнуть, но это было ужасно рискованно: неизвестно, чего можно ждать от заряженного пистолета в руке вышедшего из себя человека. Потом все мысли оборвались, он пригнулся, присел, но человек, наверное, что-то услышал или заметил, потому что, прыгнув, Томас увидел, как здоровенная фигура круто повернулась, бешеные глаза на круглом белом лице с искаженным гримасой ртом уставились на него. Томас успел поднырнуть и броситься прямо в ноги противнику, над головой прогремели выстрелы, и тут тяжелое тело рухнуло на него, и время исчезло, мир взорвался, распавшись на образы, звуки и ощущения без смысла или связи. Он лежал на полу, человек — сверху, потом сверху оказался Томас, а человек под ним и повсюду руки, ноги чужака, но Томас не чувствовал пинков в голени, ударов коленом в пах и кулаков, молотивших по подбородку, ибо взгляд его не отрывался… не отрывался от пистолета, а руки, крепко обхватив широкое запястье, выворачивали его — медленно, бесконечно медленно, и все-таки затея удалась, теперь он уже схватил пистолет, но одновременно прогремели последние выстрелы, он почувствовал, как дернулась рука, и услышал, как пули где-то в темноте прошивают дерево и металл. Наконец все кончилось. На помощь пришли остальные, множество рук удерживало на полу сопротивляющееся тело, а он сам стоял с пистолетом в руках и рассматривал пустой магазин и выдвинутую блестящую часть затвора, но одновременно раздались еще два выстрела, и лежавший на полу человек подтянул колени к животу, высоко задрал ноги и вновь распрямил их, потом опустил — движение было точное и четкое, как гимнастическое упражнение, но человек был мертв, а застрелил его высокий красивый мужчина, одетый словно на выход— черное пальто свободного покроя с ослепительно белым шелковым шарфом вокруг шеи, раньше его здесь не было, и вот он вдруг стоит перед Томасом, в руках у него автомат, и с вежливым поклоном он говорит мягким красивым голосом, в котором слышится певучий иностранный акцент: «Прошу прощения, сударь…» Это казалось настолько нелепым, настолько бессмысленным, что Томас чуть не рассмеялся, но одновременно — или это было уже давным-давно? — он различил шум множества голосов, увидел, как появляется и исчезает множество лиц, и одновременно — или это тоже было очень, очень давно? — он стал ощупью пробираться обратно по темному туннелю, по-прежнему держа в руке пистолет, и в это время кто-то бегом поднялся по лестнице. В дверях возникла фигура великана, который, светя карманным фонариком, закричал: «Выходи-выходи-выходи-живо — вверх, через чердак, и вниз по другой…» — и внезапно замолк, точно окаменев, — лучик света, скользнув вниз, наткнулся на что-то зеленое.
Она лежала на спине, закинув руки за голову, и затылок ее покоился на волне густых медных волос. Нет, лицо было не тронуто, она, казалось, спала, и две продольные морщинки под глазами все еще улыбались. Но вот луч света передвинулся ниже и высветил дыру в черном свитере как раз под левой грудью, вокруг дыры ткань пропиталась кровью, и чуть ниже талии была такая же дыра в зеленой юбке. Световой лучик долго шарил по телу, и Томас увидел то, что видел раньше: черный свитер был чересчур тесен, или сел от стирки, и потому не прикрывал целиком то, что должен был прикрывать, юбка перекосилась, и на ней не хватало крючка. Он различал все очень отчетливо, но ничего не чувствовал, потому что он знал об этом заранее, и вовсе не сейчас стоял он здесь и видел все это, а давным-давно. Нет, он, в сущности, ничего не чувствовал, просто знал, что ничего больше нет. Не на что больше надеяться, но не в чем и раскаиваться и не о чем скорбеть, ибо жизни больше нет. Теперь надо было только подумать… нет, ни о чем не думать, а продержаться еще немножко на ногах, действуя хладнокровно и разумно, и, прежде всего, практично, ибо предстояло еще кое-что сделать.
Потом наступило время, когда он стоял и наблюдал, как они появляются в дверях и поднимаются по лестнице. Великан освещал им дорогу своим фонариком и размахивал руками, торопя их, говорил «быстрее, быстрее» и все-таки Томасу казалось, что все происходит ужасно медленно и что цепочка людей никогда не кончится. Он увидел высокого человека с военной выправкой в сером, сшитом по фигуре пальто, в руках он нес кожаный чемодан, перетянутый ремнями; и он увидел молодого человека в желтом спортивном плаще с поднятым воротником, на нем были желтые перчатки и в руках желтый кожаный чемодан; и он увидел старого седого человека в черном, на носу очки в стальной оправе, большое страдальческое лицо изборождено глубокими морщинами, он нес черную сумку, такую, с какими когда-то ходили за покупками хозяйки. Вот вышел маленький рыжий человечек в рабочем комбинезоне, который был ему слишком велик и висел мешком, что делало его похожим на клоуна, а за ним широкоплечий широкозадый мужчина в исландском свитере, и у него в руках был ящик, наподобие кузова от коляски, а в ящике спокойно спал грудной младенец, и сразу за человеком с ребенком появилась крупная толстая, одетая в черное женщина и крошечный человечек на таких коротких ногах, что Томас невольно улыбнулся. Потом вышел длинный худой юноша, который нес на руках, юную худенькую темноволосую девушку, очевидно потерявшую сознание, ибо ее голова и руки безжизненно мотались из стороны в сторону, и сам юноша был очень бледен, шатался и чуть было не уронил свою ношу. Томас шагнул к нему, чтобы предложить свою помощь, но столкнулся с человеком в черном пальто с белым шелковым шарфом — он опять возник совершенно неожиданно, держа под мышкой тяжелый автомат дулом книзу; слегка поклонившись, он произнес со своим красивым венским акцентом: «Прошу прощения, сударь. Разрешите, сударь…» — и направился не вверх по лестнице, как все другие, а вниз, к выходу, великан что-то крикнул ему вслед, желая остановить его, но тот уже скрылся из виду, хотя вроде бы двигался спокойно и размеренно. Потом вдруг никого не осталось, и тут великан словно бы только что заметил Томаса. Широко раскрытые глаза на его тяжелом костистом лице долго смотрели в широко раскрытые глаза на очень белом лице Томаса. Наконец великан схватил его за плечо, тряхнул и, указывая наверх, сказал «быстрее-быстрее», давая понять, что ему надо идти вслед за остальными, но Томас осторожно освободился и, показав пистолет — он по-прежнему сжимал в руках пустой пистолет убитого, — ответил: «Я останусь здесь». Великан почесал в затылке, вытер рукавом лоб и медленно покачал головой, в ответ Томас тоже медленно покачал головой, оба открыли было рот, намереваясь что-то сказать, но промолчали. И тем не менее они договорились. Великан показал вниз на лестницу, потом на дверь комнаты, Томас повторил его движения и кивнул в знак того, что понял. И великан, перепрыгивая через две ступеньки, помчался вверх с поразительной для такого громадного и грузного человека скоростью и легкостью, свет фонарика пропал, Томас остался один.
Он прошел по темному туннелю в круг света от фонаря, ругая себя, что забыл попросить у великана патронов. Обыскав карманы убитого, он обнаружил во внутреннем кармане плаща кобуру с запасным магазином. Маловато, подумал он, но лучше, чем ничего. Пистолет убитого, 9-миллиметровый F. N., тяжело и удобно лежал в ладони, Томас прицелился, потом, прежде чем сменить магазин и взвести курок, внимательно проверил, как действует механизм. Он не чувствовал волнения и, пока руки его занимались делом, что-то тихонько мурлыкал. Вдруг от двери послышался звук приближающихся шагов. Томас резко поднял голову. Перед ним стоял его брат, его ночной гость. «Симон», — сказал он, неожиданно осознав, что знает его имя, но не задаваясь вопросом, откуда, и улыбнулся радостно и удивленно. Но тот, другой, не разделял его радости. «Томас», — произнес он, качая головой. «Томас, Томас», — все повторял он и по-прежнему качал головой, и уж не слезы ли стояли в его глазах? Томасом овладело легкое нетерпение.
— Для этого у нас нет времени сейчас, — сказал он, — надо спешить. Пистолет при тебе? У тебя есть девятимиллиметровые патроны? — Тот с удивленным лицом отрешенно показал ему пистолет и патроны в карманах. — Слава богу, — сказал Томас, беря горсть. — Теперь надо приготовиться. Они еще не явились, иначе австриец открыл бы стрельбу. Но они явятся с минуты на минуту. — Он погасил фонарь и снял ставни с двух окон. — Как только мы услышим автомат австрийца, начнем стрелять. Попасть, конечно, не попадем, но пусть думают, что нас здесь по-прежнему много. Таким образом мы, не исключено, поможем остальным скрыться… Видит Бог, невелика помощь, но это лучше, чем ничего.
Потом наступило время, когда они услышали автомат австрийца, и они лихорадочно начали стрелять из окон, выходивших на мост и канал. Снизу из темноты с разных сторон стреляли, но лишь несколько пуль, разбив стекло, залетели в комнату. Потом где-то включили прожектор, мощный луч осветил мост, и они увидели пять-шесть бегущих фигур в черной форме, одновременно застучала автоматная очередь, и фигуры в форме мгновенно исчезли, и только одна осталась лежать в центре светового пятна. Затем на мост въехал большой крытый грузовик, последовала новая автоматная очередь, прожектор погас, и грузовик, миновав тусклый фонарь на углу у канала, двинулся дальше по направлению к главной улице. «Вот вам!» — кричал Томас, стреляя из своего окна, «Вот вам!» — кричал Симон, стреляя из своего окна, и в их голосах звучало торжество.
Потом наступило время, когда они больше не слышали автомата австрийца. Мост внизу снова был освещен, и в круге света двигались фигуры в зеленой форме, а автомат молчал.
— Надеюсь, он мертв, — сказал Симон.
— Я знаю, что он мертв, — отозвался Томас. — Я видел его лишь мельком, но этого довольно. Его живым не возьмут. Теперь главное, чтобы и нас не взяли.
Потом наступило время, когда они уже давно перестали стрелять — это было бессмысленно, да и невозможно, потому что прожектор теперь был направлен прямо на пакгауз, и пули летели дождем через разбитые стекла, впиваясь в мощную потолочную балку. Скрываясь от слепяще белого света, Томас и Симон нашли прибежище в темноте лестничной площадки, и прошло немало времени, прежде чем они услышали шаги, но вовсе не такие, каких они ожидали, шаги приближались удивительно неуверенно. Симон и Томас выстрелили в один и тот же миг, кто-то ответил снизу, но совершенно вслепую, и сразу же сапоги поспешно застучали вниз по лестнице. Они, наверно, в кого-то попали, ибо внизу во тьме кто-то ворочался, шуршал, стонал и немного погодя послышался жалобный зов: «Mutti… Mutti…» [44] Голос был молодой, по всей видимости, принадлежащий немцу — совсем мальчишке, он звал и звал, но никто к нему не шел. Томас, схватив Симона за руку, крикнул: «Нет, дай я…», но поздно, Симон уже исчез, раздался выстрел и почти сразу еще один. Симон не возвращался… Симон не возвращался… нет, вот он поднимается, но медленно, очень медленно, и вдруг Томас услышал, как Симон упал, прямо на лестнице, и побежал вниз к нему, закинул его руку себе на шею, чтобы помочь ему встать, но ноги не держали Симона, и Томасу пришлось нести его — сперва на лестничную площадку, потом дальше в зловещий пронзительный свет разбитых окон, и здесь Томас понял, что произошло. «Он выстрелил…» — простонал Симон, когда Томас опустил его на пол и укрыл пальто, пуля попала в живот, и вскоре Симон скорчился, изо рта у него пошла кровь, и он прошептал: «Воды…» Раздобыть воды Томас не мог, он вообще ничего не мог сделать, кроме как сидеть рядом, обнимая раненого, все время ожидая топота сапог и держа пистолет наготове. Симон приподнял голову, посмотрел на него и проговорил отчетливо и громко: «Только не живым…» И Томас кивком головы обещал ему это, больше Симон ничего не мог сказать, он лишь неотрывно смотрел на Томаса с немой мольбой в глазах.
— Брат, — произнес Томас, становясь на колени, — смотри на меня, брат, смотри на меня…
И Симон смотрел на него и попытался улыбнуться, а Томас между тем протянул руку назад за пистолетом, не торопясь приставил его к виску Симона и спустил курок. Он долго сидел, упершись локтями в колени и уставившись в одну точку на полу, потом поднял голову и поглядел на лицо мертвеца. Ему удалось заставить себя протянуть руку и закрыть брату глаза, а когда он сделал это, его собственные глаза стали громадными, совсем черными и очень спокойными.
Потом наступило время, которое было, собственно, не временем, а пустотой. Они, вероятно, погасили все свои солнца, потому что слепящий свет больше не бил в глаза. Не раздавалось ни единого выстрела. Не гремели по лестнице сапоги. Вокруг царила тишина и чернота. Но рассвет был, наверно, не за горами, ибо в тишине он услышал колокольный звон. Он закрыл глаза и увидел перед собой башню — высокую башню в стиле барокко с закрученным спиралью шпилем, увенчанным золотым шаром и крохотным царем небесным на вершине шара. Видение вызвало у него улыбку, но она тут же погасла, и он услышал собственный голос: «Поскорее бы».
Не успели еще эти слова слететь с его губ, как последовал ответ. Вновь вспыхнул ослепительный свет, опять началась стрельба. Дом сотрясся от грохота, внушительную дверь подъемника сорвало с петель и разнесло на мелкие части, и в стене образовалась громадная зияющая дыра. Они установили внизу пулеметы, подумал он, или, может, даже пушку? Он невольно рассмеялся при мысли, что они используют такое оружие, как пушка, против одного-единственного человека. Хотя они небось думают, что нас здесь еще много, и пусть думают, пусть одержат надо мной победу.
Грохот усиливался с каждой секундой и стал настолько оглушительным, что казалось, наступила тишина. Вероятно, где-то произошел взрыв, ибо весь дом словно подскочил, пол заходил ходуном, и сразу же из шахты лифта в комнату повалил дым. С этого мгновения события стали разворачиваться с необычайной быстротой. Томас почувствовал резкий запах керосина и увидел, как огонь побежал по полу, словно рябь по морской глади, как он запрыгал в воздухе, образуя причудливые бесплотные фигуры, со всех сторон заплясали языки пламени, слизывая попадающиеся на пути предметы. В мгновение ока дым отогнал его к стене, он очутился рядом с громадной дырой, разинувшей пасть во тьму, легкие вместо воздуха заполнились огнем. Он больше ничего не видел — ни того, кто был его братом, ни того, что было его собственной длинной короткой удивительной жизнью, все поглотили адское пекло и свет, да и на что иное он мог для себя надеяться?… Но сгореть живьем — не самая легкая смерть, подумал он и поднял пистолет. И тут же передумал. Пусть одержат надо мной победу, пусть увидят меня, но я должен встретить их безоружным. Он подошел к пролому в стене, выбросил пистолет во тьму. И стал ждать. Он слышал отвратительные жесткие звуки, но не смотрел вниз, туда, откуда они доносились, он вспомнил колокольный звон и стал всматриваться в занимающийся рассвет в надежде увидеть контуры взметнувшегося ввысь спирального шпиля башни. Ибо вечно, подумал он… но к этому времени тело его уже прошила дюжина пуль, и оно, подломившись, рухнуло в пламя, как разбитая гипсовая статуя… вечно сияет свет жизни…
Рассказы
СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
Мартин покружил возле киоска.
В телефонной будке с двумя автоматами только что скрылась дама, молодая дама в меховом манто. Мартин подождет, пока будка освободится, он хочет быть там один. К тому же надо обдумать, как он все это скажет.
— Идиот, — укоряет он вслух самого себя и все-таки тянет и тянет. Пузатый киоск выставил напоказ крикливые шапки последних новостей: «Кровопролитные бои в Абиссинии», «Выборы», «Успех оксфордского Движения». У киоска, засунув руки в карманы брюк, стоит человек, он заглядывает куда-то вглубь, за прилавок, где в полумраке, за кипами газет лежат таинственные брошюрки: «Торговля белыми рабынями», на обложке округлое женское колено.
Значит, толстопузый киоск тоже живет сексуальной жизнью, ущербной, неудовлетворенной сексуальной жизнью, и вот перед ним стоит человек и заглядывает в эти брошюрки. Он переступает с ноги на ногу и что-то мурлычет себе под нос, притворяясь равнодушным. Хорошо одетый, дородный господин, наверно, много лет женат, держит в строгости троих-четверых детей. Но иногда он мурлычет вот так, стоя перед киоском, или заходит в табачную лавочку и, мурлыча, покупает несколько открыток в запечатанном конверте. А потом запирается у себя в кабинете и потеет и мучается над ними, а может быть, падая на колени, молится Богу, хотя вообще-то в него не верит. Это его тайна, и он скорее умрет, чем проговорится о ней кому-нибудь, но случайный прохожий угадал ее в его взгляде и в его манере мурлыкать себе что-то под нос.
Но случайный прохожий не может ему помочь, он брезгливо сторожится его, он смотрит на него свысока. Он думает о Ханне, об ее округлом колене, о том, чем владеет он сам. Но пора наконец решиться…
Пора решиться сказать Ханне. Мартин рывком отворяет дверь телефонной будки: видно, не дождаться, пока оба автомата будут свободны. Испуганное движение, взгляд затравленного зверька — в будке все еще стоит молодая дама; кутаясь в манто, она произносит что-то вроде «Нельзя! Подожди, пока я сама позвоню!». Она говорит приглушенным, безнадежным голосом, прикрывая трубку бледной рукой, точно заслоняет от ветра крошечный огарок свечи. Она звонит любовнику, думает Мартин, стоя у соседнего телефона. Их увидели вдвоем и сказали кому-то, кто не должен об этом знать. А у нее муж и ребенок, может быть, двое, но один-то наверняка. И теперь она боится. Она скрывает свою тайну изо всех сил, заслоняет трубку рукой и говорит ничего не значащие слова — вдруг кто-нибудь подслушивает. Но резкие тени на ее лице, и то, как она судорожно сжимает трубку, и взгляд, который она бросила на меня, когда я дернул дверь… Впрочем, может статься, муж ничего не замечает…
Но вот в трубке что-то клокочет, и в октябрьскую непогоду, точно луч света, проникает голос Ханны:
— Я слушаю! Это ты, Мартин? Ну как?
Голос Ханны! Мартин так ждал его, и все-таки точно животворная струя влилась вдруг в недра всего сущего.
— Мартин, ну как?
Секунду он переводит дыхание.
— Прекрасно, черт возьми! Все сошло блестяще. Я даже не ждал такого, Ханна!
— Мартин, неужели?…
— Ну да, ее приняли!
— Мартин, поздравляю! Иди же домой! Скорее!
Да! Вот наконец прозвучали слова, которых Ханна ждала пять лет, и голос ее встрепенулся, полетел навстречу им. Ей не хватало именно этих слов, чтобы расцвести от счастья, как березке под лаской ветра и солнечных лучей.
— Мартин, скорее! Где ты сейчас? Садись на трамвай. Мы устроим праздник. Купи… Ах, я забыла, ты ведь уже уплатил за квартиру?
— Да!
— Жалко, а то мы купили бы…
— Мне дали аванс! Две сотни крон аванса!
— Мартин, толстый дуралей, не может быть! Ну приезжай же скорей! Купи бутылку… Нет, я сама спущусь. Который час? Ох, ведь сегодня субботний вечер…
В ушах Мартина щебечут летние пташки: это прежний голос Ханны, голос, пробудившийся от долгой спячки, теперь он снова расправил крылья. Мартин облегченно смеется, слыша, как она воркует, перескакивая с одного на другое. Так он смеялся пять лет назад в ответ на каждое ее слово, на каждую ее выдумку. Ханна пойдет в лавку? Забавно!
— Нет, девочка, ты останешься дома. Я сам позабочусь о еде. Закажу ужин в ресторане!
Ханна испуганно замолкает, потому что воображение Мартина сделало семимильный скачок, а она замешкалась где-то позади, точно маленький муравей.
— Мартин, не увлекайся…
— До свидания, — прерывает ее Мартин. Он уже не может остановиться. Трубка повешена. Шляпа! Портфель! Киоскерша, у которой он купил жетон, стучит в стекло, потому что Мартин дал ей крону и не получил сдачу, но что ему теперь крона? Дверь распахивается навстречу ветру, и Мартин исчезает в октябрьской непогоде.
А у второго телефона женский голос изменил окраску, едва приметно изменил окраску, он стал теперь глубоким и мягким, как бархат: «Может быть… если ты вправду будешь счастлив…»
Киоскерша разглядывает крону, оставленную Мартином, и вдруг вспоминает, что сегодня субботний вечер и что ей не хватает шерсти для диванной подушки. Она хотела коричневую, но, может, красная лучше… Зажигается первый фонарь. Он вспыхивает прямо над головой Мартина, высоко и ослепительно, ветер раздувает его пламя, и от одного этого фитилька вспыхивает вдруг огнями весь город. Прямые аллеи фонарей бегут по холодному зеленому небу, а далеко впереди, над бурлящей Норребро, карабкаются ввысь красные буквы, гаснут на ветру и снова лезут ввысь. Никогда прежде Мартин не видел таких громадных, ярких огней. Он шагает, уверенный и радостный, неся в себе голос Ханны. Голос Ханны, такой, каким он был пять лет назад. Этот голос щебечет в такт мерцанию красных и зеленых огоньков, он ни на минуту не покидает Мартина: вот замер звук — погасла лампочка, но уже вспыхнула другая. Ханна повсюду: она в глазах прохожих, она в огоньках велосипедов, дождем искр летящих через мосты, она в витринах магазинов, открывающихся ему навстречу. В одном из магазинов рука Ханны манит его мягкой теплой варежкой. Мартин силится вспомнить размер ее руки. Продавщица протягивает ему свою, Мартин берет ее, сравнивает со своей, и ему кажется, что он держит руку Ханны, хрупкую узкую руку Ханны. Это Ханна смеется из-за прилавка голосом другой женщины. А потом он оказывается у большой зеркальной витрины. Там стоят сотни пар туфель, они многократно отражаются в стекле и превращаются в тысячи пар; ноги Ханны в тысячах пар туфель! Мартин чувствует себя как в рождественский вечер, у него разбегаются глаза. Его портфель ломится от свертков, свертки оттопыривают его карманы, свертки зажаты под мышками, но это капля в море перед тем, что ему хочется купить.
Вот цветочный магазин! Мартин вспоминает, как однажды подарил Ханне букетик душистого горошка, и тут же у него в ушах раздается смех Ханны, такой же трепетный и светлый, как эти цветы.
— Сейчас не сезон для горошка, — говорит продавщица, выходя из пылающего багрянцем осеннего леса позади прилавка.
Она говорит это с улыбкой, точно Мартин — несмышленый младенец. И Мартин забывает о душистом горошке, он уже посреди багряного леса, а впереди идет девушка, ее талия перетянута лакированным пояском. Никогда в жизни Мартин не видел такого яркого пояска, он краснее пылающих октябрьских листьев! Девушка замечает взгляд Мартина и чуть-чуть покачивает бедрами — наверно, она недаром купила такой красный поясок, она хочет, чтобы все любовались ее тоненькой талией и длинными сильными ногами. И Мартин любит ее за это, он готов расцеловать ее посреди сказочного леса за то, что она — женщина, как и Ханна. Но сейчас не сезон для трепетного душистого горошка, сейчас пора осанистых хризантем. Девушка показывает огромный букет.
— Посмотрите, какие крупные и нарядные, как ветер распушил их лепестки…
— Заверните, — решает Мартин. — И вот эти, и эти, и эти!
— Эти заказаны, — говорит продавщица с красным пояском и уводит Мартина от слишком дорогой корзины цветов, которую она два дня под-Ряд тщетно пытается продать. Почему она это делает? Может, она чувствует, что ликование Мартина — это большой неуклюжий медвежонок, которого надо держать на привязи, а может быть, она думает совсем о другом человеке, о том, что она сказала ему вчера в пылу ссоры; но сегодня она позвонит ему и объяснит, что она это ляпнула сгоряча. Она окончательно решает это как раз в то мгновение, когда Мартин собирается уходить. Он стоит, прижимая к груди сразу три букета, и не может взять в толк, почему девушка вдруг разражается смехом:
— Да вы что? В такую погоду? Вы их до дому не довезете!
Она отнимает у него цветы и передает их рассыльному, а Мартин пишет несколько слов на карточке. Несколько самых обыкновенных слов, но они как-то неожиданно выглядят на белой карточке. А на конверте — имя Ханны, только ее имя. Мартин повторяет его, идя по улице, как будто в этом имени есть что-то очень смешное и странное: Ханна…
И вот он уже в другом магазине и командует продавщицей в белом халате:
— Нет, не эти, вот те, в глубине. Серьги за 18 крон 75 эре.
Ханна однажды с грустью показала ему их: «Когда мы разбогатеем…» На что ей эти серьги? Мартин озирается в смущении: вокруг него все сверкает холодным блеском, в ящичках и коробках на белых подушечках лежат безжизненные, стылые цветы — стеклянное кладбище, и величественная дама в белом, точно в гроб, укладывает две серьги в коробочку, выстланную ватой. Однако Мартин решается спросить, сколько стоят ручные часы на золотом браслете.
— 585 крон, — отчеканивает дама в белом, и в голосе ее такой же ледяной холод, каким веет от витрин.
Она смотрит на руки Мартина, большие руки без перчаток, и Мартин невольно прячет их и идет своей дорогой, не осмелившись попросить часы в кредит. Сотни поблескивающих в стеклянных гробиках камней сверлят ему спину злым и колючим взглядом. На что ей, глупышке, эти серьги?
А на улице непогода. Извиваясь, ползет по рельсам трамвай. На подножке девушка, она готовится спрыгнуть, юбка плещется над округлыми коленями.
— Давай, Артур! — кричит девушка, соскакивая на ходу, и Мартин вспоминает, что сегодня субботний вечер.
Артур соскакивает следом за девушкой, подхватывает ее под руку, и они идут слаженной быстрой походкой, потому что сегодня суббота, они хотят попасть в кино, где весь вечер, затаив дыхание, просидят перед экраном. А позже, забравшись под одеяло, они прижмутся друг к другу, и кровь забьется в них тяжело и неукротимо, и он распушит своим дыханием ее волосы и будет смеяться, а она ущипнет его за ухо, называя глупыми ласкательными именами, и субботний вечер исчезнет в налетевшем вихре. Мартин останавливается, глядя им вслед. «Давай, Артур!» — крикнула девушка, соскочив с подножки.
А вот этого зовут Карл. Высокий, сердитый, он шагает большими шагами, а рядом с ним семенит его маленькая светловолосая подруга и, заглядывая ему в глаза, успокаивает его:
— Послушай, Карл, да ведь он это ляпнул сгоряча.
— Ничего, я в долгу не остался. «Поищите себе другого», — так ему прямо и сказал.
— Карл, неужели ты решился!
Она отлично знает: ничего подобного он никому не сказал, но сегодня субботний вечер, и ему ведь станет легче, если она поверит.
А мясная лавка сверкает белыми кафельными плитками и красными кусками мяса; маленькая старушка стоит в очереди с кредиткой в руке; она борется с дурнотой и похожа на утопающего, который вот-вот пойдет ко дну. Она такая крохотная и совсем седая, на мгновение силы ей изменяют, глаза закрываются и все лицо костенеет, точно она погружается в бездонную пучину. Но кредитка оказывается спасительной соломинкой: «Пожалуйста, колбасный рулет, паштет из печенки, итальянский салат…» Сегодня суббота, мальчики дома, она так и видит, как они расхаживают вокруг стола, потирая руки: «Ай да мать, вот это ужин!»
Женщины заходят в магазины, женщины выходят из магазинов. Робкий, тихий голос просит отпустить какую-то мелочь на 15 эре, а рядом самоуверенная матрона выставляет напоказ большой меховой воротник — поруку своей состоятельности. Пухленькая девушка со свертками в руках весело впорхнула в подъезд, словно птичка, уносящая перышки в свое гнездо, и вскоре в квадрате окна появляется рука и опускает красные шторы, загораживаясь от осеннего ветра. И в других окнах тоже появляются руки и опускаются шторы, загораживаясь от осеннего ветра. Осенний ветер бушует над крышами, а за каждой шторой начинается своя жизнь, кропотливая возня, свои маленькие победы и поражения: «Послушай, Карл, да ведь он это ляпнул сгоряча…»
Но на самом верху, на пятом этаже, окно по-прежнему ярко освещено: хозяйке было некогда опустить штору, она совсем сбилась с ног! Два человека в ливрее, точно рабы из «Тысячи и одной ночи», вносят в кухню серебряное блюдо, а тем временем у двери уже стоит рассыльный с целой охапкой цветов. А тут еще вино, конфеты, сигареты, перчатки, туфли и всякая всячина — все, что можно добыть при помощи двух десятков бурых банкнотов! Впрочем, кажется, какие-то деньги еще остались. Сколько — Мартин не помнит, да и не хочет вспоминать, завтра воскресенье, их никто не потревожит, на целые сутки можно преобразить мир. Мартин взбегает по лестнице, прыгая через три ступеньки, а во всех его свертках что-то гремит и болтается, а в двух пузатых фляжках что-то плещется, изнывая по глазам Ханны, по губам Ханны, по рукам Ханны… Ханна, Ханна, Ханна…
И вот он уже в прихожей и бурно прижимает ее к себе: «Ханна!» Он так мечтал об этой минуте, и все-таки… мечта в который раз бледнеет перед живой Ханной. Вот она запнулась на каком-то слове и уже болтает о чем-то другом, вот она стала серьезной, но это совсем не похоже на серьезность других людей, и вот ее детский рот уже сложился в улыбку, полную слез, а рука у нее мягкая и невыразимо трогательная, и вся она — какая-то непостижимая игра света и тени, и он каждый раз представляет себе все это совсем иначе, и теперь он смеется, сам не зная чему. Ханна! Она как мерцание красных и зеленых огоньков, как пламя тысячи маленьких фонариков, которое колеблется и гаснет на ветру. Ханну можно Увидеть в глазах других людей и в изменчивом освещении на углу улицы — вот как неуловима Ханна. И Мартин может проснуться утром после ночных кошмаров, проснуться на плече Ханны, как потерпевший крушение моряк, который прижимается лицом к спасительной зеленой земле, — вот как верна и постоянна Ханна. Мартин всматривается в глаза Ханны: он думал, что они синие и далекие, как парус в морских просторах, но, оказывается, они черные и маленькие — все не так, как он ожидал. Но наконец он приподнимает прядь волос у ее виска и находит там коричневую родинку, круглую родинку над самым ухом, она всегда прячется там, и, пусть Ханна станет седой и старой, как маленькая старушка в лавке, ему стоит только приподнять прядь волос у ее виска, чтобы убедиться, что перед ним Ханна. И пока он пытается представить себе Ханну седой и старой, она молотит кулаками по его спине и кричит:
— Мартин, пусти, соус!.. И куропатка!.. И цветы!..
— Вот, гляди, тут еще кое-что!
Мартин вываливает свертки прямо на пол, чтобы было виднее, и хотя Ханна уже давно догадывается, что в каком свертке и сколько денег осталось у Мартина, она все-таки в изнеможении опускается на стул.
— Господи! Мартин!
Мартин хитро начинает с самых невинных трат:
— Сигареты. Сотня. Чертовски дорогие! Конфеты.
Ханна вздрагивает, зажмурив глаза и изображая, как у нее текут слюнки. Но тут появляются перчатки, туфли на красных каблучках, и теперь в ее голосе уже не восторг, а испуг и досада:
— Мартин, ты сошел с ума!
Но Мартин входит в роль и обиженно произносит:
— Значит, тебе не нра…?
— Мартин, глупый, толстый дуралей, да ведь это как раз то, о чем я мечтала. И как раз мой размер. Но ты сумасшедший!
А когда появляются серьги, Ханна вообще теряет дар речи, она, как во сне, беспомощно качает головой:
— Но откуда… Ведь это те самые… Как ты догадался?…
Она прекрасно знает, что сама показала их Мартину, и Мартин знает, что она это знает, но если можно сотворить чудо из пары серег… Мартин ходит по комнате и разглядывает цветы, но он их не узнает, он видит только руки Ханны, пальцы Ханны — как быстро она со всем управилась! Раз-два! Одну ветку сюда, другую туда, и вот уже три огромных букета превратились в легкую паутину стебельков и листьев. Вот какие руки у Ханны! А на полке в банке для молока стоят три хризантемы, и он сразу представляет себе, как Ханна, взгромоздившись в кухне на табурет и поднявшись на цыпочки, выудила эту банку с самой верхней полки буфета. Он видит ее напряженные икры, ищущий взгляд, глубокую, озабоченную морщинку над переносицей — и банка вдруг кажется ему невероятно смешной. Ничего, в понедельник купим большой зеленый кувшин.
Вот уже в третий раз Мартин собирается что-то купить в понедельник. Ханна бросает на него быстрый взгляд. Ну да, он ведь должен ей объяснить…
— Ты ведь еще не знаешь, послушай…
— Мартин, подожди! Соус!
Красные каблучки Ханны исчезают в кухне, начинается бешеная суета.
— Мартин, подогрей красное вино! Салфетки в шкафу. И принеси еше кокса, Мартин!
Суета! Полная надежд суета субботнего вечера. Красные каблучки Ханны мелькают между кухней и комнатой. Мартин несет из чулана полный ящик кокса. Правда, в чулане кокса почти не осталось, но…
— В понедельник мы купим кокса на всю зиму, слышишь, Ханна! Купим тридцать мешков, завалим чулан до потолка.
— Хорошо, только иди скорее, рыба стынет! Скорей, Мартин.
Ханна уже разлила «сотерн», но она снова берет бутылку и наполняет бокал Мартина до краев. Форель мясистая и нежная, вино обжигает холодом. Мартин осушает бокал, и еще один и опять пытается объясниться:
— Ты ведь не знаешь, Ханна, послушай…
Но, оказывается, пора кипятить воду для кофе, а тут еще куропатка, и рука Ханны снова и снова подливает ему в бокал красное вино. Узкая рука Ханны, какие у нее гибкие и мягкие движения, она хорошо знает, что делает. Восемь часов, девять часов — субботний вечер бежит неслышными, большими скачками, и руки Ханны проворно летают среди блюд под серебряными крышками, и никакого объяснения больше не нужно. Рано или поздно Мартин должен был пробиться, это было ясно как день, и, когда сегодня утром пришло письмо из театра: «Мы хотим побеседовать с Вами по поводу предложенной Вами пьесы…», он сразу же понял, что они сдались, теперь уж им придется допустить его в свой мир. Мартин насмешливо описывает маленького директора в огромном кабинете: письменный стол на ножках вроде пушечных ядер, трон с высокой спинкой, львиная шкура со стеклянными глазами и маска Наполеона на стене. Директор расхаживал по комнате, заложив руку за борт пиджака. Боже милостивый, ему недоставало только звезды на ленте!
Мартин показывает, как расхаживал директор. Ох этот Мартин! Он видит людей насквозь, выворачивает их наизнанку и подносит своей возлюбленной на блюде. И возлюбленная смеется, бессильно откидываясь на спинку стула, всем своим видом показывая, что она покорена, что она вся в его власти. Мартин распрямляет плечи. За последние годы он немного отяжелел и обрюзг, но куда это все девалось! Он стоит пружинистый и сильный, точно пантера, готовая к прыжку.
— Идиот, зачем я согласился на двести, надо было потребовать втрое больше! Но в понедельник…
— Мартин, пей же, разопьем всю бутылку.
Ханна не может надолго сосредоточиться на чем-нибудь одном, ее узкие уверенные руки все время в движении.
— А теперь кофе. Но сначала уберем посуду. И свет.
Ханна тушит верхний свет, зажигает золотистую лампу в углу, придвигает туда кресла. Перемена декораций: Ханна и Мартин отправляются в свадебное путешествие на большом туристическом пароходе. Они пообедали и теперь сидят в своей каюте. Слышите, как наверху, среди мачт, бушует шторм, но судно твердо идет по намеченному курсу; где-то глубоко-глубоко внизу работает машина, бесшумная, хорошо смазанная, ее не замечаешь. Гибкие руки Ханны разливают кофе, пальцы Ханны играют ложечкой и кофейной чашкой, по ним скользят свет и тени. Ну конечно же, Мартин и Ханна на роскошном пароходе, никогда прежде не было У Ханны таких белых рук, таких розовых ногтей. В каюте стоит удивительная тишина, лампа отбрасывает матовый золотистый свет, лицо Ханны тает, подернутое легким облачком сигаретного дыма, но даже сквозь это облачко просвечивает яркий румянец ее детских щек. Как мало они изменились! У Мартина вот-вот выступят слезы на глазах: как мало они изменились! Большие руки Мартина трепещут, ему нужно так много сказать… — Ханна, я хотел купить душистый горошек, но мне объяснили, что сейчас не сезон.
Ханна смеется, запрокинув голову, смеется тому, что сейчас не сезон, а Мартин думал купить душистый горошек, но смеется совсем не так, как прежде над маленьким Наполеоном, ее смех звучит совсем по-другому. Мартин поднимает голову, как зверь, заслышавший зов из глубины леса. Может быть, зов Ханны прозвучал слишком громко, она косится теперь на свою ступню, тихо покачивая туфлей на красном каблучке, и свет играет на ее девчоночьих ногах — как мало они изменились! Но у самой коленки на чулке маленькая штопка. Прилежные пальцы Ханны осторожно водили иглой с длинной тонкой ниткой, а потом расправляли чулок, подносили ближе к глазам, снова отстраняли его, и штопка почти незаметна. Вот так всегда с Ханной: столько есть мелочей, которые в ней не сразу заметишь. Ох как много нужно ей сказать! Мартин сжимает ее лицо в ладонях.
— Ты ведь не знаешь, Ханна, ну послушай же наконец. Когда-нибудь потом…
Но руки Ханны отстраняют его, нажимают кнопку, и в каюту струится музыка: это танго.
— Мартин, идем танцевать!
— Правда, Ханна, почему мы теперь никогда не танцуем? Я знал раньше столько разных па, а теперь все перезабыл. Как это?
И Ханна снова смеется, потому что Мартин танцует из рук вон плохо. Он видит людей насквозь и, конечно, будет знаменитым писателем, но танцевать он не умеет, этого дара у него нет. Но я люблю тебя за это, люблю тебя, глупый, толстый, неуклюжий мальчик!
Теперь они забились в одно кресло и снова болтают о пьесе Мартина. Ох эта пьеса! Мартин никак не может перестать говорить о ней.
— Знаешь, Ханна, может случиться… Но рука Ханны зажимает ему рот.
— Молчи, не все ли равно, что может случиться? Дай лучше мне сказать. Итак, значит, премьера. Ох, Мартин, представляешь, на мне то платье, помнишь, я тебе показывала? То есть не то, но такого же цвета. Но это уж моя забота. А ты в новом смокинге, к тому времени у нас будут деньги и ты похудеешь: мы займемся теннисом. И конечно, мы придем в последнюю минуту. Театр битком набит, и все зрители шепчут: «Тсс! Это он, глядите, он!»
— Но они же меня не знают!
— Как это — не знают? Ты забыл, что в последнее время газеты каждый день печатают статьи о тебе и твои портреты? Это ведь не какая-нибудь заурядная пьеса, это твоя! Мартин, смотри, мы сели в первый ряд, свет понемногу гаснет, перед занавесом дирижер, весь в черном; вот он поднимает палочку, а позади нас головы, головы, головы… Яблоку негде упасть. И вот началось! Мартин, это же бешеный успех! Слышишь, они хлопают, вызывают тебя. Наконец занавес поднимается и ты выходишь… Ой, тут я умру. Только, Мартин, после этого мы ни за что не вернемся домой. Ты подумай: цветы, телеграммы, непрерывные звонки, — нет, мы лучше уедем. Все равно куда, лишь бы нас там не знали, ну хотя бы к морю, представляешь, посреди зимы! Оденемся потеплее и всю ночь напролет будем гулять по берегу, а газет читать не станем, они печатают всякую ерунду. Они ведь не могут написать о тебе так, как надо. Ох, вот если бы мне дали написать…
Цветы, телеграммы, слава — Мартин улыбается. Ну да, улыбается, как умный человек, видящий все насквозь. Побережье, гостиница — это летние мечты Ханны, которые теперь возродились вновь. Она мечтала о поездке и строила разные планы с самого мая по октябрь. А теперь на улице осенняя непогода, ветер срывает с деревьев красные листья, и — раз-два — летние мечты превратились в зимние: «Оденемся потеплее и всю ночь будем гулять по берегу… а потом, в гостинице…» Фальшивая идиллия, пошловатая роскошь, но в шепоте Ханны звенящий трепет, такой знакомый и всегда новый, и руки Ханны такие гибкие и нежные. Мартин улыбается, но все-таки идет вдоль берега, и маленькие круглые волны, отороченные кружевной пеной, осторожно набегают на берег, отступают и снова рвутся вперед. Мартин уже не слышит, что ему шепчет Ханна, да и разве дело в словах — он встает, больно ударившись о стул, в его руках белеет нежная и тяжелая ноша. На его затылке сплелись руки Ханны, словно кольцо, которое наконец сомкнулось.
Свет в окне гаснет, над крышами воет ветер. «Ой, какой ветер!» — шепчет Ханна, прижимаясь к груди Мартина. «Ой, какой ветер!» — шепчут вдоль всей Норребро, прижимаясь друг к другу. Окно за окном гаснет, над крышами воет ветер. А где-то за большим окном под лепным карнизом лежит потный дородный мужчина, он силится произнести какие-то слова и сам не узнает своего голоса: «Анна, я лгал тебе. Я был неверным мужем. Много лет я изменял тебе…» Но Анне пятьдесят лет, у нее тяжелая, обвисшая грудь. Какие там старые измены, что он бормочет? «Тебе что-то приснилось, повернись на другой бок, все пройдет». И он поворачивается на другой бок, спиной к ней, не рассказав о запертом ящике, в котором хранятся открытки и иллюстрированные брошюрки с иностранным текстом. Может быть, она права и ему это только приснилось…
«…Значит, ты солгал мне, Карл? Это не ты ему сказал, чтобы он искал кого-нибудь другого, это он тебе сказал?…» — «Да». — «Карл, что же мы будем делать?» — «Не знаю, поищу другое место». — «Карл, но ведь скоро зима, строительство прекратится…» — «Знаю, черт возьми!» — «Карл, не говори матери и отцу! Завтра воскресенье, а там посмотрим…»
«Мать, ты зачем встала? Что ты ищешь на кухне? Ты больна?» — «Нет-нет! Я просто взяла стакан. Очень хочется пить после салата». — «Мать, ты лжешь, я слышу по голосу!» — «Что ты! Спи спокойно…»
Свет вспыхивает и снова гаснет; голоса, не узнающие друг друга, не узнающие самих себя. Немного лжи, немного умолчания — кропотливая возня под покровом мрака и тишины. Приподнявшись на локте, Мартин склоняется над кроватью Ханны: он не слышит ее дыхания.
— Ханна!
— Да, Мартин!
— Почему ты не спишь?
— А ты почему не спишь, Мартин?
— Ханна, я солгал тебе. Мне вернули пьесу обратно.
— Я знаю, Мартин.
— Ханна! — быстрое движение на кровати Мартина, белый бросок в темноте. — Ханна! Но ведь…
— Японяла это сразу, когда ты позвонил, Мартин. По тому, как ты сказал. И как ты вошел потом. И по твоим рукам. И как ты все время возвращался к этому. Мартин, Мартин, меня ты никогда не обманешь.
Мартин молчит. Умный Мартин, который видит все насквозь, молчит, не зная, что на это сказать…
— Зачем же он вызвал тебя, если они не хотят ее взять?
— Он предлагает, чтобы я написал комедию. Из копенгагенской жизни. Ему кажется, что у меня забавный диалог! — Мартин говорит это таким тоном, что Ханна может посмеяться, если хочет. Но Ханна не смеется.
— Ну а двести крон — это ведь не… то есть это ведь, наверное, деньги за квартиру?
— Да.
— Что-нибудь осталось?
— Немножко.
— Ну не беда. Завтра воскресенье, ничего не случится. А потом посмотрим. Спи теперь, не думай об этом.
— Хорошо. Ханна, почему ты сразу не сказала?
— Не знаю. Я думала, у тебя столько неудач, может, тебе будет немножко легче, если я поверю. Да ведь ты и сам поверил, Мартин. Ведь ты поверил под конец!
— Ханна! — Он может проснуться на плече Ханны, как потерпевший крушение моряк, который прижимается лицом к спасительной зеленой земле. Мартин склоняется к ней, он полон надежды, его голос звенит: — Ханна! В понедельник я снова пойду к нему! Я переделаю конец! Я придумал…
— Нет, Мартин! Не надо переделывать конец. Он и так хорош. Ты не должен уступать, не должен! Я верю в тебя, Мартин, я верю, что счастье тебе улыбнется. Только это будет не скоро. И дорого обойдется нам…
Голос Ханны. Мартин в ужасе молчит. Круглое детское личико Ханны и этот голос. И Мартин вдруг понимает, что лицо Ханны больше не детское и не круглое и глаза у нее не синие и не черные. Они серые. И под глазами Ханны мешки, и бледная кожа испещрена морщинками: телефонные звонки, шаги посыльного на лестнице, человек с листком бумаги в руках…
Это будет не скоро и дорого обойдется…
За окном на верхнем этаже темно и тихо. Так тихо, что даже не слышно дыхания двоих.
ДЕРЕВЯННЫЕ БАШМАКИ ГАННИБАЛА
Мы с Ганнибалом слыли самыми плохими учениками в классе, по каковой причине нас водворили на последнюю парту, откуда всего трудней следить за объяснениями учителя. Не слишком педагогично, но так уж положено от века. Еще на заре рода человеческого самые сильные и смекалистые располагались вблизи костра, а хилых и недоумков оттесняли во мрак.
Мы с Ганнибалом не находили в этом ничего странного. Все школьные годы напролет мы чувствовали себя каторжниками, прикованными к одному и тому же веслу, безнадежно выбивавшемуся из общего ритма галеры — жалкой деревяшке, которую беспрерывно швыряло из стороны в сторону.
— Ну как, все поняли? — спрашивал учитель математики, доказав на доске какую-нибудь теорему, и тотчас же птичьей стайкой взлетали кверху руки учеников.
А мы с Ганнибалом, не в силах воспарить вслед за ними, растерянно переглядывались; иногда кто-то из нас робко пытался поднять дрожащий палец, но нет — где уж нам было понять всю теорему! — и учитель со вздохом снова брал в руки мел:
— Что ж, классу придется подождать, пока я еще раз объясню все сначала.
И класс фыркал и смеялся над нами, а мы с Ганнибалом, багровые от стыда, покорно кивали головой и бормотали «Да, да, понятно», потому что не смели ни о чем спросить.
Правда, после такого урока я клал перед Ганнибалом свою черновую тетрадь и показывал, как мне удалось найти квадратуру круга — ни больше ни меньше. И еще я показывал ему перпетуум-мобиле, потайной механизм, который я соорудил с помощью двух ниток: они вращали чернильницу, вставленную в парту, — изобретение простое, но гениальное; я увозил свое открытие за границу и, завоевав мировую славу, возвращался домой весь в орденах. И все мои соученики выстраивались на школьном дворе и кричали «ура».
Таким уж я был мальчишкой, и так повелось у меня с того самого первого дня, когда я очутился перед рамой с рядами стальной проволоки, на которой сверкали пестрые деревянные кольца. Их полагалось сдвигать и раздвигать, казалось бы, что может быть проще? — и новички запрыгали на партах, как головастики в банке. «Ой, можно мне?» И меня вызвали первым, но тут рама вдруг стала расти, расти, кольца слились в одно и растворились в тумане, красном, зеленом, синем, а сзади напирали голоса: «Ой, можно мне, можно?» Так я потерпел провал, конечно пустяковый, ничтожный, никем другим не замеченный, но руки мои от этого налились свинцом, и весь урок я просидел не шевелясь и видел, как ловко справился с задачей следующий ученик, как ловко справлялись с ней все, все без исключения.
И скоро я привык мечтать, в мечтах уносясь прочь от класса и черной доски. За окном сверкали на солнце макушки тополей, а я уже обитал за гранью учебника: в огромных сапогах и с саблей на боку, я был знаменитый борец за свободу своей страны. В классе оставалось лишь мое бренное тело, исправно приносившее домой плохие отметки.
Да, таким уж был я мальчишкой, но не таков был Ганнибал. Ганнибал не бежал от жизни, он оставался на своем месте среди пыли, чернил и бутербродов с крутыми яйцами и принимал бой, терпел поражение и снова принимал бой. У Ганнибала были белесые глазки, и взгляд их тоскливо перескакивал с доски на книгу, а с книги — на лицо учителя; у Ганнибала были мясистые, грубые руки, вечно потные, и всегда они еле заметно дрожали: уж как торопился он записывать объяснения учителя и листать страницы учебников, но сколько ни старался, а все же не поспевал за другими. «Ой, погодите!» — молил Ганнибал на середине диктанта, У него, видите ли, сломался карандаш. «Ой, погодите!»-доносилось вдруг из чрева Ганнибаловой парты, когда все остальные ученики уже приготовились читать: снова в его учебнике не оказалось нужной страницы. Во всех учебниках Ганнибала недоставало страниц — ему ведь всегда покупали только подержанные, с чернильными пятнами и отпечатками грязных пальцев на листах.
— Ганнибал! — бывало, вызывал его учитель английского господин Хег, изящным жестом насаживая его на указку. — Изволь читать вслух!
И палец Ганнибала с широким грязным ногтем, будто слепая гусеница, начинал елозить по книге: вверх-вниз, туда-сюда…
— Silence![45] — приказывал классу господин Хёг. — Сейчас вы услышите, как читает по-английски истинный британский джентльмен. Вперед, Ганнибал! Черненькие закорючки в книжке — это буквы!
Сладостный трепет ожидания охватывал учеников: сейчас им покажут настоящий бой быков; в роли быка, по обыкновению, Ганнибал, а Хег, тореадор в безупречно отглаженных брюках и с цветком в петлице, то и дело колет быка изящной толедской шпагой. Вот бык, пригнувшись, бросается в бой и скачет тяжелым, неровным галопом: «Артур, благородный король Англии…» Господин Хег хладнокровно стоит поодаль, а бык опрометчиво скачет дальше, между тем как двадцать пар глаз следят за лицом тореадора, и вот уже толедская шпага со звоном вонзается в книгу, лежащую перед Ганнибалом:
— Хватит! Скажи, на каком языке ты читаешь?
Вскинув голову, Ганнибал оторопело глядит белесыми глазками на учителя.
— На английском…
— Ах вот как! Где же это так говорят по-английски? Разве что в обезьяньем царстве?
Взрыв смеха; Ганнибал рухнул на парту, уши его горят, а тореадор, изящно отступив на два-три шага, отмечает свою победу в журнале, обернутом вощеной бумагой. Бой быков окончен.
Были в классе еще и другие мальчики, которым тоже не давалось английское произношение, но эти юные львы непринужденно восседали за партой, разложив на ней новенькие, чистенькие учебники; сделав ошибку, они тут же исправляли ее или выходили из положения с помощью удачной остроты. А у Ганнибала не было в запасе острот, он лишь молча глядел на учителя тяжелым белесым взглядом и сопел резко и громко, ну совсем как бык. И казалось, что он сопит упрямо и злобно. А Ганнибал, может, вовсе не нарочно сопел: еще малышом он упал и сломал себе нос, и потому его носоглотка с трудом пропускала воздух; но так ли, иначе ли, очень уж он был нехорош — с этим носом, расплющенным, как у боксера, и прыщавой кожей, мясистым, потным лицом и мясистыми, потными руками; до чего бы он ни дотронулся, всюду оставались грязные следы его пальцев — девочки брезгливо пожимали плечами и говорили «Фу!». Даже и то нисколько не помогло ему, что он первым из всех мальчишек стал носить длинные брюки: ведь ему всего-навсего перешили старый синий отцовский костюм, уже изрядно потертый и порыжевший; воротничок рубашки был ему велик и болтался у него на шее как застиранная тряпка. Может, мать Ганнибала сама перешивала костюм и примеряла его на сына, а Ганнибал радовался обнове и мечтал скорей надеть ее в школу, но радость его скоро погасла. Конечно, грех корить человека за то, что его родителям не по карману новый костюм, и, само собой, никаких разговоров на этот счет в школе не было, наоборот — появление Ганнибала во взрослом наряде встретили полным, гнетущим молчанием.
А Ганнибал, как всегда, держался от всех в стороне, притворяясь, будто ничего особенного не случилось, но сопел и потел пуще прежнего и все засовывал палец за воротничок, пока тот не приобрел столь же жалкий, неопрятный вид, как все его книги и тетрадки, как все, к чему он ни прикасался.
Конечно, жаль было Ганнибала, но, право, зачем он поспешил облачиться во взрослый костюм? Не мог же он не знать, что всякий раз, когда он вылезает вперед, привлекая к себе внимание, это плохо кончается для него.
Однажды инспектору Хаммеру вздумалось провести на уроке десятиминутный опрос — узнать, кто кем хочет быть, когда вырастет. Дошла очередь и до Ганнибала. А Ганнибал хотел стать инженером и властвовать над машинами, это была его мечта — ничуть не хуже мечты любого другого, — но таким назойливым любопытством полнилась обступившая его плотная тишина, что он не решился поведать правду и лишь пробормотал, запинаясь:
— Для начала я должен стать просто студентом!
В словах Ганнибала не было никакого вызова. Но в ту пору у него менялся голос, и звуки вырывались из его горла с резким хрипом, похожие на собачий лай; инспектор Хаммер недовольно приподнял брови и, передразнивая Ганнибала, повторил:
— Ах вот как, значит, ты хочешь стать просто студентом?
Молчание. С другого конца класса, где сидели девочки, донесся насмешливый шепот, и руки Ганнибала заметались по парте, будто две полевые мыши в поисках норки, куда можно юркнуть. Но норки не оказалось, и снова раздался инквизиторский голос Хаммера:
— А что, разве тебе так хочется стать студентом?
И тут Ганнибал выпалил в ответ такое, что его слова с той же минуты сделались в нашем классе притчей во языцех.
— Не мне, — ответил он и засопел. — Это отцу моему хочется!
Весь класс знал отца Ганнибала: его в любой день можно было увидеть на вокзале в синем комбинезоне с белым фартуком поверх. Отец Ганнибала был носильщиком. Конечно, грех корить человека за то, что он носильщик, и в общем никто его и не корил, да только отец Ганнибала, даже согнувшись в три погибели под чьим-нибудь огромным чемоданом, никогда не глядел в землю, а смотрел лишь вперед и вверх, и там, впереди, виделся ему его сын Ганнибал в мундире с золотым шитьем и красными лампасами, и сын — этакий новоявленный Наполеон в белых перчатках — повелевал поездами. Вот такая была мечта у отца Ганнибала, ради нее он после работы батрачил на чужих огородах, ради нее ценой жестоких усилий держал Ганнибала в респектабельной частной школе, где учились дети богатых и образованных граждан. Мечта носильщика была дорогостоящей мечтой, хоть и вполне похвальной, и требовала огромных жертв. Кто бы осудил его за это… Но в дни, когда выставлялись оценки, Ганнибал ни в одной книжке не мог сыскать нужной страницы, на уроках отвечал невпопад и тоскливо смотрел узкими воспаленными глазками, так что учителя даже спрашивали, не ходил ли он нынче к заутрене. Нет, говорил он, не ходил. На другой день после выдачи табеля Ганнибал передвигался странной деревянной походкой и, садясь за парту, опускался на скамью медленно и осторожно. А все потому, что его отец лелеял свою мечту, как святыню, а святыня и скверный табель — вещи несовместимые…
Одно время Ганнибал блистал на футбольном поле — да только совсем недолго. На первом уроке футбола его поставили защитником, никто не ждал от него особенных подвигов. Но тут нам открылся совсем иной Ганнибал — кто-кто, а уж он был не новичок в этом деле: семь раз подряд завладевал он мячом и, прогнав его через все поле, забивал в ворота противника. Это было совсем не по правилам, но разве Ганнибал заботился о правилах? Он мчался напролом, будто бык — хвост трубой, с громким и грозным рыком, — и никто не решался сцепиться с ним. В те дни Ганнибал куда живей отзывался на всякий вопрос и как будто даже меньше потел, а в петлице его куртки засверкал круглый значок. Это была эмблема спортивного клуба, в котором он состоял; прежде, поутру отправляясь в школу, он всегда вынимал его из петлицы, но теперь полагал, что…
Да, на какое-то время Ганнибал и впрямь завоевал уважение как футболист, но скоро он и на поле нарвался на неприятности, как вечно и всюду нарывался на них, и повинен в этом был Лайф. В нашем классе Лайф первенствовал во всех видах спорта, и на день рождения ему подарили книжку про футбол, изобиловавшую хлесткими английскими терминами, которыми он резво щеголял. Но еще и другое вычитал Лайф в той книжке — к примеру, как увести мяч из-под ног у сильного, но неуклюжего противника. Лайф старательно заучил все приемы и на следующем уроке футбола выбежал наперерез атакующему Ганнибалу. Однако показа новейших английских приемов на этот раз не получилось: раздался громкий удар, резко столкнулись два тела, Ганнибал, не останавливаясь, побежал дальше, а Лайф остался лежать на земле с вывихнутой рукой и не мог подняться. Свисток!.. Одного из мальчиков срочно послали в булочную звонить по телефону, затем, опираясь на плечи двух приятелей, Лайф проковылял к автомобилю. Конечно, Ганнибал сделал это не нарочно, но почему же он не подошел к Лайфу и не извинился, как подобает спортсмену? Стоя поодаль, он лишь сопел, пугая всех своим свирепым видом, и вскоре вокруг него возникла пустота. А на уроке его вызвали к директору, он вернулся оттуда с покрасневшими глазами и еще громче сопел; ему дали письмо к родителям и до самого конца учебного года запретили играть в футбол. Но приговору не было суждено свершиться в тиши. Когда Ганнибал побрел домой на расправу, его соученики, столпившись во дворе, затеяли спор, виноват он или нет, и этот спор закончился яростной дракой между «патрициями» и «плебеями».
Патриции и плебеи — так назывались две политические партии в нашем классе. С таким же успехом мальчишки могли бы назвать себя правыми и левыми или фашистами и коммунистами, богатеями и бедняками. Однако, прослушав красочный рассказ учителя Ингерслева об «уличных боях в Древнем Риме», они решили именоваться патрициями и плебеями.
Главарем патрициев был Лайф, тот самый, которому Ганнибал вывихнул руку, — стройный синеглазый мальчик, с поистине офицерской суровостью рассуждавший о товарищеском долге и чести класса. Когда его вызывал учитель, он молодцевато вскакивал и отвечал урок без запинки, слово в слово, как в учебнике, не упуская ни одной запятой, — да, в глазах учителей Лайф был воистину примерным отроком: на такого спокойно могли положиться Бог, король и отечество.
В его партию входили исключительно мальчики из богатых семейств. Их легко отличали по форме, которую они стали носить: рубашка цвета хаки и коричневая куртка военного покроя с большими накладными карманами; у них были в обиходе английские трубки и английские словечки, когда же рядом оказывались девочки, патриции принимались загадочно толковать между собой о великих и таинственных делах, ожидающих их за стенами школы. Вот только старались они зря — девочки даже не смотрели на мальчишек из средних классов, будь они хоть тысячу раз патрициями: девочки прогуливались под ручку друг с другом и вертелись вокруг старшеклассников.
В плебеях числили себя мальчики из небогатых семей; у них не было никакой формы, как не было ни в чем и согласия: уж очень разнились они друг от друга, и только властный нрав их предводителя Мариуса удерживал их в рядах партии. Мариус же казался полной противоположностью Лайфу — маленький, живой, с горящими глазами и лохматой головой. Будучи много способней своего противника, он никогда не отвечал урок словами учебника; мало того, он позволял себе критиковать учебник и вечно старался докопаться до истины; засыпая учителя вопросами, допытывался до сути дотошно и неуемно, как умеют допытываться только дети, и у учителя порой не оставалось иного выхода, как строго прикрикнуть на Мариуса: яйца курицу, мол, не учат!
И вообще, было в нем что-то такое, из-за чего его недолюбливали и учителя, и родители его друзей; иные папаши даже запрещали своим отпрыскам с ним водиться, а школа обрушивала на него удар за ударом. На последнем экзамене по датскому языку ему даже выставили посредственную отметку за сочинение: дескать, неверно понята тема.
Однажды вечером состоялось собрание в школьном клубе «Свободное слово», основанном самим директором; дискутировали о мировой войне и ее причинах, и тут с места поднялся Мариус и заявил, что причины возникновения войны надо искать в экономике и войны исчезнут лишь с отменой частной собственности. Да, так думал Мариус, и высказать свое мнение имел полное право, но назавтра он пришел в школу с распухшим, почти неузнаваемым лицом: два старшеклассника подстерегли его на обратном пути из клуба и избили. Однако им не удалось выбить из него смелость: Мариус знал, кто напал на него, а именно братья Эйерман, сыновья богатого фабриканта, и он пошел прямо к директору с жалобой на обидчиков. Только, может, зря он это сделал: школьное начальство не сообщило отцу братьев Эйерман об их проступке, мало того, их даже не вызвали на допрос, зато директор, собрав всех учеников, обрушил громы и молнии на тех, кто смел заниматься политикой. Он даже стукнул по кафедре кулаком и запретил политику раз и навсегда: в следующий раз, сказал директор, он уже никому не даст спуску.
И он сдержал слово. Через месяц из школы выгнали Ганнибала как зачинщика политических беспорядков. Да, Ганнибала, который всякий раз давал Мариусу от ворот поворот, когда тот пытался вовлечь его в свою партию. Того самого Ганнибала, который хотел лишь одного: чтобы ему не помешали кончить школу и стать студентом. Что ж, политика иной раз штука подлая и коварная.
Это было весной 1919 года. Там, в Европе, рушились троны, короли бежали за рубеж в париках, с накладными бородами и усами, но у нас на школьном дворе по-прежнему единолично царствовал инспектор Хам-мер. Ровно без пяти минут девять он трижды властно ударял в медный гонг у школьных ворот, и тут же словно из-под земли перед ним вырастали двести мальчиков и девочек, строившихся рядами и шеренгами класс за классом. Равняйтесь, смирно, молчать, шагом марш!.. Ко что это? В строю зияет брешь и шепотом от одного ученика к другому передается имя Ганнибала. Заболел? Нет, такие, как Ганнибал, не болеют. Опоздал? Быть не может, такого с ним сроду не случалось. Где только не требовалось шевелить мозгами, Ганнибал всегда поспевал вовремя.
Но в одну минуту десятого, когда отзвенел второй звонок, из-за ворот послышались какие-то странные звуки — бряк-бряк-бряк-бряк, — и все увидели Ганнибала: он выскочил из-за угла и во весь опор бежал к школе. Казалось, глаза у него вот-вот выпрыгнут из орбит, на спине трясся ранец самого что ни на есть дешевого образца — такие носили лишь мальчишки в бесплатной городской школе, — а внутри ранца в такт шагам Ганнибала подскакивал пенал, вверх-вниз, вверх-вниз, но не пенал был виновником странных звуков: это стучали башмаки Ганнибала, деревянные башмаки! Бряк-бряк-бряк-бряк. Непривычные звуки для нашей респектабельной школы; ее стены брезгливо отбросили их от себя, башенные часы презрительно искривили бледный старческий лик. И, наконец, над двумястами голов прогремел трубный глас инспектора Хам-мера:
— Ганнибал Ольсен! Ступай сюда!
Сердце Ганнибала забилось как у перепуганного птенца; когда, задыхаясь, он мчался в школу, то молил Бога об одном: только бы этого не случилось; и вот случилось именно это! Ганнибала, в его деревянных башмаках, поставили у стены, вся школа промаршировала мимо него, и каждый мог пялиться на него сколько хотел. Кое-кто из мелюзги нарочно топал вовсю, передразнивая Ганнибала, и пусть многие девочки совсем не смеялись — увы, не те это были девочки, с которыми привыкли считаться, а Сольвейг и ее подруги смеялись! Я хотел было кивнуть Ганнибалу, но, как дошло до дела, оробел. Да и какая была бы ему от этого польза? Слабые бессильны друг другу помочь. Другое дело, если бы ему кивнул Лайф, но Лайф прошагал мимо, прямой как струнка, и даже не взглянул на Ганнибала.
Зато ему кивнул Мариус. Кивнул подчеркнуто и нарочито. Но это был опасный кивок: не самому Ганнибалу поклонился Мариус, а его деревянным башмакам, все мы это почувствовали. Мариус вынашивал далеко идущие политические замыслы, Ганнибалу же он уготовил в них роль государства-сателлита.
Промаршировав через весь двор взвод за взводом, армия учеников разошлась по классам; из окна в коридоре верхнего этажа я увидел заключительную часть экзекуции. Инспектор Хаммер грозно навис над Ганнибалом, огромным горбатым носом словно пригвоздив его к месту, а тот лишь жался к стене, испуганно переминаясь в своих топорных деревяшках — будто навозный жук под клювом хищной птицы. Может, все же инспектор его простит? Нет, Ганнибалу никогда ничего не прощали: ни обаянием, ни находчивостью он не отличался, — и вот уже инспектор извлек карандаш и журнал в вощеной обертке. Да, сегодня Ганнибалу придется солоно, наверху, в классе, уже вовсю кипят политические страсти, в кругу своих сторонников стоит Лайф, его пышная золотистая грива сияет, будто зажженная свечка, и он возглашает:
— Этот мужлан смеется над нами!
— У нас нет школьной формы! — с другого конца класса осаживает его Мариус. — Каждый волен приходить сюда в чем угодно!
— А вот и нет!
— А вот и да!
— Заткнись!
— Сам заткнись!
Мальчишки ощерились, словно псы перед дракой, а девочки сидят чинно, тихонькие, смирненькие, как домашние кошечки, и смотрят в учебник, точно им ни до чего нет дела. Но вот из коридора опять доносится «бряк-бряк, бряк-бряк» — это гремят по каменным плитам деревянные башмаки Ганнибала, но теперь уже не резво и дробно, как прежде, а вяло, уныло. Ганнибалу незачем теперь спешить.
Он входит в класс, и его встречает тишина, вязкая и густая. Взгляд Сольвейг с затаенным лукавством перескакивает с одного мальчика на другого и замирает на Лайфе, и Лайф тут же подскакивает к Ганнибалу.
— Эй ты, мужик вонючий, — говорит он и толкает Ганнибала плечом так, что тот спотыкается в своих деревянных башмаках и чуть не падает.
Казалось бы, дальше некуда — такого не стерпит ни один уважающий себя мальчишка, но Ганнибал не может позволить себе роскошь самоуважения, и он вновь устремляется к своему месту, торопясь спрятать деревянные башмаки в парту: он должен кончить школу и стать студентом и, значит, ни во что ввязываться не намерен.
Но где уж сателлиту самостоятельно определять свою политику — словом, путь Ганнибалу преградил негодующий Мариус.
— Ганнибал, врежь ему! Он тебя обзывает, а ты терпишь! Свен, Карл! Ступайте сюда!..
И началась потасовка. Сверток с завтраком, пролетев над партами, шлепнулся об доску, раздался хруст разбитой яичной скорлупы; щуплый мальчишка, проворный, как обезьяна, вытер доску и, налетев на Лайфа, мазнул его по лицу грязной тряпкой, и вот он уже прикрывает свое отступление венским стулом — тем самым, на котором обычно сидит учитель, — но Лайф опрокинул стул, послышался громкий треск, и тут же грянул дикий, торжествующий вопль: патриции и плебеи, сцепившись в клубок, покатились по полу. И столь же внезапно все стихло: среди мертвой тишины в дверях возник учитель закона божия, кандидат богословия Сакс, и, поворачиваясь в разные стороны острым носом, стал оглядывать класс.
Большинство учеников успели вовремя удрать; Лайф и Мариус уже сидят каждый за своей партой, положив на крышку раскрытую Библию. Но у самого окна два мальчика мертвой хваткой вцепились друг другу в волосы. Они ничего не слышат, не видят: стоят багровые от злости, не решаясь дернуть врага за чуб, но не решаясь и отпустить его, и тогда господин Сакс, схватив с ближайшей парты линейку, вытягивает ею обоих по спинам; бойцы вздрагивают и, дико озираясь, отскакивают друг от Друга. Класс разражается смехом и облегченно вздыхает.
Да, вот так господин Сакс улаживает всякое дело, и ученики в нем Души не чают. Кто бы подумал, что он преподает закон божий? Сакс больше всех других учителей смыслит в футболе, и вообще он самый веселый и добродушный из всех, и таким же предстает в его рассказах Христос… Секундой позже, однако, под Саксом чуть-чуть не рассыпался на куски венский стул, и тут даже этот незлобивый учитель вспыхнул и сердито Нахмурился: хулиганства он все же не потерпит. Он учинил своим питомцам допрос с пристрастием и, несмотря на все их увертки, быстро установил, что в конечном счете драка вспыхнула из-за деревянных башмаков Ганнибала.
На этом Сакс прекратил дознание и уже больше не спрашивал ни о чем. Должно быть, решил, что Ганнибал обулся в деревянные башмаки лишь для того, чтобы накуролесить в школе. А было совсем другое: отец в семь утра поднял Ганнибала и велел ему окучивать картофель, даже выпороть пригрозил, если сын уйдет в школу, не закончив работы. И Ганнибал окучивал так, что от мотыги летели искры, а все же, когда он закончил последнюю грядку, часы уже показывали без десяти девять, и Ганнибал бросился в школу, сердце у него готово было выпрыгнуть, и он позабыл обо всем на свете, а уж о деревянных башмаках и подавно… Вот как это случилось, и будь господин Сакс хоть сколько-нибудь расположен к Ганнибалу, он мог бы поговорить с ним с глазу на глаз и тот объяснил бы ему все как есть. Но господин Сакс не был расположен к Ганнибалу. Не потому, что тот приходился сыном носильщику — быть носильщиком не зазорно, — но должен же мальчик как-никак являться в школу в приличном виде, и уж во всяком случае недопустимо нахально сопеть, когда с тобой говорит учитель.
В середине урока Ганнибала вызвали отвечать. Он пытался было ответить с места, чтобы снова не увидели его деревянные башмаки, однако господин Сакс велел ему выйти к доске. Может, поэтому Ганнибал не сумел связно рассказать про малых пророков, а ведь накануне мать проверяла, как он выучил урок, и он знал их всех назубок, а теперь вот даже запнулся на имени Аввакум. И снова появился в руках учителя журнал в вощеной обертке.
— Эх, Ганнибал, Ганнибал! — покачал головой господин Сакс, ставя отметку в журнал, — побольше бы ты об уроках думал, а о драках — поменьше.
Да, так он и сказал. Ганнибал засопел и сел на место, а патриции торжествующе переглянулись: святая церковь осудила деревянные башмаки! Вряд ли учитель вкладывал в свои слова такой смысл, но так уж истолковали их: по крайней мере хоть ясно было, что думает начальство…
Утро шло своим чередом. Ганнибал благополучно пережил маленькую перемену, пережил он и урок естествознания у фрёкен Кнудсен. Но подспудно шла тайная дипломатическая возня. С передней парты нам передали записку: на большой перемене назначалась встреча за велосипедным сараем. Ганнибал не захотел даже взглянуть на записку, а лишь засопел и отшвырнул ее в сторону. Все же он, должно быть, успел ее прочитать и, как только зазвенел звонок, решительно встал и, громыхая башмаками, вышел из класса, юркнул в уборную и закрыл дверь на задвижку. Не хочет он ввязываться ни во что!
Но сателлиту не дано оставаться в стороне, Мариус поставил Свена и Карла караулить уборную. Свен и Карл вроде бы выступали как друзья Ганнибала, но так как силой одной лишь дружбы не удавалось выманить его в коридор, то они подожгли обломок гребешка и просунули его под дверь. Ганнибалу пришлось выйти. Вдвоем Свен и Карл были сильнее его; подхватив Ганнибала под руки с двух сторон, они поволокли его по коридору, вниз по лестнице, через весь школьный двор, «бряк-бряк, бряк-бряк» гремели деревянные башмаки. Последний кусок пути был самым трудным — отовсюду сбегались малыши, скакали вокруг Ганнибала и вопили: «Фу-ты ну-ты! Дяденька в деревяшках! Дяденька в деревяшках!»
— Слыхали? — воскликнул Лайф, как только конвой благополучно доставил Ганнибала к площадке за велосипедным сараем. — Мелюзга уже ни в грош нас не ставит! — И, откинув великолепную золотую копну волос, Лайф продолжал рассуждать о чести и репутации класса, запятнанной деревянными башмаками: — Честное слово, я не сноб, — говорил Лайф. — Чего нет, того нет! Когда я приезжаю к дяде в его имение, я нередко и сам обуваю деревянные башмаки, но в нашей гимназии им не место. Или, может, вы хотите походить на голодранцев из бесплатной городской школы?
— Слушайте! Слушайте! — вопили патриции, плотно обступившие своего предводителя.
— Ерунда! Ерунда! — рычали плебеи и барабанили кулаками по жестяным коробкам для завтраков.
Но Лайф сделал своим приверженцам знак, и тут среди шума и гама все увидели то, что Арвид до сей поры прятал за спину, — пару ботинок, обыкновенных коричневых ботинок со шнурками.
— Вот, Ганнибал, если хочешь, Арвид подарит тебе эти ботинки. На твоем месте я бы их взял!
Ганнибал засопел. Белесыми глазками он разглядывал ботинки. Что ж, они слегка стоптаны и помяты, но целые еще, крепкие. Ганнибал колебался. Вся эта возня с партиями ему не нравилась, но ботинки, что ни говори, вещь полезная. Обуешься в них, и до конца дня ты спасен. И Ганнибал потянулся было к ботинкам…
Но нет, он вовремя вспомнил, что Арвид — низкорослый мальчишка и ноги у него маленькие, намного меньше, чем у Ганнибала. Да и кто поручится, что вся эта затея с ботинками не ловушка? У Лайфа, который сейчас взял их в руки, на лице такое злорадство… Нет, Ганнибал покачал головой: он не возьмет ботинки, не хочет он ввязываться ни во что…
Но на это как раз и рассчитывали патриции, весь план сражения они продумали четко. И вот уже Ганнибал лежит на спине, а облепившие его мальчишки срывают с него деревянные башмаки и напяливают ему на ноги коричневые ботинки.
Да только ботинки Арвида и впрямь были малы Ганнибалу. Дело застопорилось, плебеи бросились на выручку жертве, и теперь на земле копошится сплошной клубок тел, мелькают руки, ноги, из перекошенных ртов вырывается частое, жаркое дыхание, руки вслепую хватают врага, то тут, то там на поверхность выбиваются локти, колени. А в самом низу под дерущимися лежит Ганнибал.
Даже самый покладистый бык и тот разъярится, если слишком долго его дразнить. Замечания, нагоняи, речи народных трибунов, рассуждения о чести класса, политические интриги и прочую чепуху — все это еще можно вынести. Но вот кто-то надавил Ганнибалу на живот коленом, и сразу стало нечем дышать; вот он стукнулся об асфальт затылком, так что в глазах замелькали искры, а рот наполнился вязкой и теплой кровью, — и Ганнибал уже не сопит, а рычит. Он переворачивается на живот, выгибает спину и, приподнявшись на четвереньки, хочет стряхнуть с себя все то черное, живое и мерзкое, что ползает по нему, мешая ему подняться. Рука Ганнибала нащупывает тяжелый предмет, и он хватает это тяжелое и швыряет прямо в золотую копну волос, в ангельски светлое лицо гордеца, который сидит за первой партой и важничает и кичится тем, что может ответить на какой угодно вопрос…
Тяжелый предмет оказался деревянным башмаком Ганнибала. Но он не попал им в Лайфа, потому что Лайф быстро пригнулся и башмак пролетел над его головой, мимо велосипедного сарая. И врезался прямо в толпу малышей, сбежавшихся поглазеть на драку…
И вдруг не стало никакой драки. Ни патрициев, ни плебеев, ни политических страстей. В углу за велосипедным сараем остался один Ганнибал. Он сидит на земле, на одной ноге у него деревянный башмак, на другой — только носок. Лицо его перепачкано кровью, а узкие белесые глазки тупо смотрят на малыша, распростертого шагах в десяти-двенадцати от него. Как-то странно, неподвижно лежит мальчуган.
Но рядом с мальчуганом лежит второй деревянный башмак Ганнибала. А через двор уже спешит на длинных негнущихся ногах инспектор Хаммер.
Слухи обгоняли друг друга. Сначала говорили, будто мальчуган умер, затем — что у него сотрясение мозга, а под конец — что он просто лишился чувств. Никто не ждал, что после всего случившегося Ганнибал покажется в классе, но не прошло и десяти минут с начала третьего урока, как он явился. Успел смыть кровь с лица и обуться в спортивные тапочки. Когда он вошел, учитель поднял голову, но ничего не сказал, и Ганнибал тоже не сказал ничего, тихо прошел к своей парте и сел. Кто-то шепотом спросил его, говорил ли уже с ним директор, но Ганнибал лишь покачал головой.
А директора не было в школе. Он повез малыша, с которым случился обморок, сначала в больницу, а затем домой. Вернулся он лишь к середине четвертого урока, и тут-то все и завертелось. Да только без громов, молний, без Страшного суда, как того ждали мы, а завертелось неслышно, скрытно, зловеще.
Бесшумно отворилась дверь, надзиратель заглянул в класс и кивнул Лайфу. И Лайф, стройный, прямой, непринужденно вышел из класса и, такой же стройный, прямой, непринужденно вернулся через десять минут. Я бы многое дал, чтобы в тот миг увидеть его лицо, но он сел, даже не повернув головы, а когда с задней парты его шепотом о чем-то спросили, Лайф только огрызнулся в ответ. Вслед за ним вызвали Арвида, и на этом все кончилось. Ни Ганнибала, ни Мариуса, вообще никого из плебеев не вызывали.
Наступила перемена, Лайф и Арвид разом поднялись и вместе вышли за дверь, не сказав никому ни слова. А Ганнибал остался на своем месте, и надзиратель притворился, будто не заметил его, хотя сидеть в классе на переменах не разрешалось. Но в коридоре мальчик из третьего класса шепнул нам, что видел, как директор вдвоем с инспектором Хаммером стоял в углу за велосипедным сараем. И Хаммер что-то показывал и рассказывал. Чуть позже к ним присоединился Лайф, и директор что-то долго и настойчиво ему внушал. А Лайф стоял перед директором, вытянувшись как солдат, и временами коротко и решительно кивал головой.
Кончился пятый урок, а все еще ничего не случилось. Кончилась перемена, начался последний урок, и по-прежнему — ничего. Ганнибал забыл вынуть учебник латыни, я пододвинул ему свой, но все равно он не стал в него глядеть. Какая-то странная отрешенность уже поселилась в нем. Но вокруг нас мальчики не сводили глаз со своих наручных часов. Неужто так ничего и не будет?
И вот без пяти минут три в дверь просунулась голова надзирателя. Ганнибал побелел, затем на его лице вспыхнули багровые пятна. Однако он тут же встал и, неслышно ступая спортивными тапочками, вышел из класса.
Зазвенел звонок. Но никто не остался ждать Ганнибала, класс мигом опустел, оказалось, в последние пять минут урока все, кроме меня, поторопились уложить свои книги в ранец. Но куда было мне спешить? Ни в заговорах, ни в драках я не участвовал и к тому же приходился Ганнибалу соседом. Словом, я остался его ждать.
Прошло совсем немного времени, и он вернулся, но по его лицу ни о чем нельзя было догадаться. И он ничего не сказал мне, а подошел к парте, откинул крышку и начал складывать вещи. Он уложил в ранец все, что только у него было, даже кусок оберточной бумаги, которым изнутри выстлал парту. И я ни о чем не стал спрашивать…
Очистив от вещей парту, Ганнибал вышел в коридор и опорожнил шкафчик, в котором хранился его спортивный костюм. Оттуда же вынул он деревянные башмаки, но в ранце им уже не было места… Ганнибал пытался их туда втиснуть, но нет, они не влезали… и он замер в растерянности. Тогда я взял у него деревянные башмаки, завернул их в оберточную бумагу и обвязал кусочком веревки. А Ганнибал стоял и смотрел на меня.
Потом он надел ранец на спину и сразу же вышел из класса, забыв про деревянные башмаки. Я нагнал его в коридоре и хотел отдать ему сверток, но сделать это мне показалось неловко, и кончилось тем, что я проводил Ганнибала до дому и всю дорогу нес его башмаки, хотя обе руки у него были свободны. Ганнибал не противился этому, но и не поблагодарил меня, он словно и не замечал, что я иду рядом. А сам он все шагал и шагал в своих легких спортивных тапочках, оцепенело глядя перед собой, и со странным безразличием ступал по лужам и вообще где попало.
Но когда мы подошли к переулку, в котором он жил, Ганнибал остановился и взял у меня сверток с деревянными башмаками.
— Дальше тебе идти незачем, — сказал он и засопел.
И это было последнее, что я от него услыхал.
ВЛАСТЬ ДЕНЕГ
Я не имею права сидеть сложа руки. Правда, еще вчера я ходил наниматься в два места, но потом этот человек смерил меня взглядом с головы до ног, и я вдруг почувствовал, что больше не могу.
Иной раз тебя увольняют со службы, но ты испытываешь не страх, а даже некоторое облегчение. В нашей конторе шла борьба не на жизнь, а на смерть, и случилось так, что я вытянул короткую соломинку, поставил не на ту лошадь, понял, что моя карта бита, — словом, назовите как хотите, для этого годится любое выражение из тех, что политиканы позаимствовали у шулеров и завсегдатаев скачек. Конечно, в нашей политической игре ставки были мелкие, нас ведь и служило-то в конторе всего двадцать человек, но, как атом повторяет строение солнечной системы, так и наша игра во всем повторяла крупную политическую игру.
Вначале я был рад, что избавился от служебных дрязг. Я не сомневался, что без труда найду другое место, к тому же мне казалось, что только теперь я наконец вновь обрел жену и сынишку. Пока я ходил на службу, мне было не до них. Я почти не видел сына, часто наказывал его по пустякам, а с женой говорил только о служебных делах. Даже поздно вечером, погасив свет и лежа в постели, мы продолжали в темноте говорить о том, что происходит у меня на службе, или, вернее, это я продолжал говорить. И все об одном и том же — о конторе, о мелких смехотворных интригах и подсиживаниях. И вот я наконец избавлен от них — и понял, насколько они мелки и смехотворны. Все окружающее предстало передо мной в новом свете. Лежа вечером в кровати, я прислушивался к ровному дыханию сына, ощущал прикосновение руки, которая гладила меня по волосам, и хорошо знакомый голос шептал мне на ухо ласковые слова. Я не всегда разбирал их, но они успокаивали меня, и иной раз я даже плакал в темноте. Знаю, в этом никогда не следует признаваться, но я был счастлив, что плачу, счастлив, что есть человек, который меня любит, и иногда, тесно прижавшись друг к другу, мы говорили, что, если нам придется совсем плохо, мы так и умрем вместе, тесно прильнув друг к другу. И когда мы лежали вот так рядом, мы ничего не боялись. Мы были уверены — никакая сила нас не разлучит, мы так и войдем в вечность, слившись в одно существо.
Но теперь у меня нет прежней уверенности. Я боюсь, что деньги способны вырыть пропасть между двумя людьми, даже если эти люди в отчаянии льнут друг к другу и уверяют друг друга, что ничто их не разлучит.
Вот уже два месяца, как я лишился места, и с той поры чуть не каждый вечер мы сидим вдвоем и пишем цифры на клочках бумаги. Вначале цифр было немного, и они были маленькие, да и теперь еще наш долг не так уж страшен, нас выручила бы какая-нибудь тысяча крон. Но все-таки мы теперь очень часто говорим о деньгах, почти так же часто, как когда-то о моей службе. В последние две недели это настолько угнетает меня, что я каждый день ухожу из дому и с утра до вечера ищу работу. В городе не так много мест, где нужны люди, чтобы их обойти, незачем тратить целый день, но иной раз легче ходить до полного изнеможения, чем праздно сидеть дома и с замиранием сердца прислушиваться к шагам на лестнице, гадая, не у твоей ли двери они остановятся, или ждать: вдруг почтальон принесет письмо, которое перевернет твою жизнь. Эта надежда не так уж нелепа, ведь я побывал во многих конторах и говорил со всеми, кто мог бы мне помочь получить место. Но я уже объяснил: в последние дни большей частью я хожу просто для того, чтобы как-то убить время, чтобы избежать разговоров о деньгах и чтобы иметь право сказать жене, что побывал там-то и там-то. Иногда я вовсе не захожу в те конторы, о которых рассказываю жене; случается, я постою у двери и, не позвонив, спускаюсь вниз. И все-таки рассказываю жене, что побывал в конторе, и стало быть, строго говоря, лгу. Вообще-то я не такой уж новичок во лжи, на службе нам всем приходилось лгать по многу раз в день. Но до сих пор я, кажется, никогда не обманывал самого близкого мне человека. Ночью, в темноте, я иногда порываюсь признаться ей в этом, но у меня не хватает решимости. Если я когда-нибудь снова начну зарабатывать деньги и расплачусь с основными долгами, я наберусь смелости, признаюсь ей во всем, и тогда мы вместе посмеемся над моими страхами.
И все же теперь я не знаю, могут ли два человека быть так близки друг другу, чтобы деньги не властны были вырыть между ними пропасть. Я хочу рассказать о том, что произошло вчера, потому что вчерашний день никогда не изгладится из моей памяти. Ничего особенного не случилось, но у меня в ушах раздался странный, чистый, прозрачный звон, точно зазвенели маленькие колокольчики. Такие звуки, наверно, слышит тот, кто падает с огромной высоты, или тот, кто вдруг замечает, что стоит на плавучей льдине, а вокруг со всех сторон синевато-зеленая ледяная вода. Представляете себе: синевато-зеленая ледяная вода и мелкие пенистые волны, которые плещутся о лед, звеня, точно маленькие колокольчики. Вчера я сидел на стуле и вдруг услышал такой звон, может, откуда-то издалека, а может, в моей собственной крови.
Все началось с той минуты, как этот человек смерил меня взглядом. Я пока еще прилично одет, но существует нечто, называемое «общим впечатлением». Ты уже давно не стрижен, не так тщательно выбрит, руки у тебя уже не такие холеные, и по ботинкам заметно, что тебе приходится обивать чужие пороги. А может, все дело в выражении глаз. Так или иначе, за последнее время многие окидывают меня таким оценивающим взглядом. Есть что-то бесчеловечное в этой манере оглядывать другого с ног до головы, но людям это, видно, невдомек. Я сам, когда служил заведующим отделом закупок, наверно, не раз окидывал таким взглядом приходивших к нам в контору агентов. Но я очень надеялся на этого человека и поэтому откладывал визит к нему на самый крайний случай, ведь он в свое время сказал мне, что я достоин лучшего места, чем то. которое занимаю, и просил как-нибудь зайти к нему в контору. Два месяца я каждый день думал о нем, твердил его имя в такт шагам, слоняясь взад и вперед по улицам, но мне не приходило в голову, что мои глаза и руки изменились со времени нашего последнего разговора. И вот, когда он не поднялся мне навстречу из-за письменного стола, не протянул руки, а только смерил меня взглядом, у меня вдруг почва ушла из-под ног и я повел себя как последний болван. Не помню, что я говорил, но дело не в этом, а в том, что я растерял все свое достоинство и на глазах у меня выступили слезы. Он держал себя очень тактично, помню даже, стиснул мне руку у запястья, провожая меня к дверям. «Не теряйте мужества», — сказал он. Но ведь я приберегал визит к нему на самый крайний случай, и поэтому, когда я вышел на улицу и побрел куда глаза глядят, меня душили рыдания.
Сейчас в городе эпидемия гриппа, начальники многих контор хворают. Недавно жена прочла в газете, что больных становится все больше и больше.
— Слава богу, — сказала она, — смертельных случаев почти нет.
— Да, слава богу, — отозвался я, но не пожелал ли я в глубине души, чтобы умирали почаще, как когда-то во время испанки?
Не подумайте, что я дурной человек: пока у меня было место, мне такое и в голову не пришло бы, да и сейчас, конечно, я этого не желаю. Но все же мне кажется, будто теперь я лучше понимаю людей, которые в минувшем сентябре желали, чтобы началась война, хотя тогда я возмущался их словами. Но если бы теперь речь опять зашла о войне, кто знает… война приносит столько перемен. В последнее время мы с женой часто говорим о людях, которых постигло несчастье. Раньше этого никогда не бывало.
— Какой ужас, — говорит жена, узнав, что какой-то безработный отравил газом двух своих детей.
— В самом деле, ужасно, — отвечаю я.
В газетах почти каждый день описываются подобные случаи, ими пестрит теперь вся первая полоса.
И вот вчера, когда я плелся по улице, после того как этот человек смерил меня взглядом, я вдруг почувствовал, что мне нездоровится, и вспомнил о гриппе. Я зашел в парк и сел на скамью; было холодно, ветрено и почти безлюдно. Я сидел и думал о гриппе. Может, я тоже подхватил грипп, я ведь все время разъезжаю в трамваях, там легко заразиться. А впрочем, болезнь, вероятно, тоже привилегия и только тот, у кого есть место, имеет право пойти домой и лечь в постель. Я пощупал свой пульс, он бился лихорадочно, с перебоями, кожа горела. По дороге домой мне становилось все хуже, начался озноб, и, когда я подошел к дому, у меня вдруг потемнело в глазах. Пришлось даже постоять немного на лестнице.
Я отпер дверь и вошел в прихожую. Жена спросила из спальни:
— Это ты?
Раньше, когда у меня было место, она всегда выходила мне навстречу в переднюю и говорила: «Добрый вечер!» Теперь она перестала меня встречать. Я ухожу и прихожу слишком часто. И все-таки на этот раз меня задело, что она ко мне не вышла. Я долго стягивал пальто и, наверно, невольно застонал, потому что она спросила из спальни, что со мной. Не ответив, я направился прямо в спальню, где она гладила белье, но не подошел к ней, ле поцеловал ее в щеку, как обычно, а снял со своей постели покрывало и повесил на спинку стула пиджак. Перестав гладить, она подняла на меня глаза.
— Ты собираешься лечь? — спросила она.
— Да. Мне нездоровится. У меня жар.
— Вот как!
«Вот как!» можно сказать по-разному. Она произнесла это удивленно и немного испуганно. Но она не сказала «наверно, это грипп». И работу не отложила — она снова взялась за утюг.
— Ты не возражаешь, если я лягу? — спросил я.
— Конечно, нет, наоборот, полежи, почитай книгу, пока я глажу. Надо ведь и тебе когда-нибудь отдохнуть.
В ее тоне не было намека на то, что если человек остался без работы и без денег, он не имеет права ложиться в постель, но в прежнее время она перестала бы гладить и подошла бы ко мне. Раздеваясь, я думал сразу о многих вещах. Я думал о том, что она уже больше не красива. Исчезла подтянутость, стройность, живот торчит, а грудь увяла и обвисла. Да и лицо поблекло и потеряло свежесть, под глазами темные круги. И в то же время я вспоминал, как однажды, много лет назад, ветер играл ее волосами, и солнце искрилось в ее волосах, и ее губы тихо улыбались, и голос звенел тайной и ожиданием. А теперь волосы у нее выцвели, и голос больше не звенит — он стал монотонным и ровным, как движение утюга по простыне. Нет больше тайны, нет ожидания. Меня охватила горькая обида, и в то же время я понимал, что это моя вина, и устыдился и забился в постель, решив не думать больше о ней. Но потом мне стало досадно, что я устыдился, и я подумал: вот я болен, а ей дела нет до моей болезни — ведь я сижу без работы и без денег. И в то же время я отлично понимал, что здоров и лег в постель только потому, что тот человек смерил меня взглядом и не подал мне руки. Человек, который был последней моей надеждой. Эти мысли мелькали у меня в голове в те короткие минуты, пока я раздевался и устраивался в постели. Мысли спорили и переплетались одна с другой и наконец вылились в жгучую ненависть к женщине, стоявшей возле меня с утюгом, от которого пахло паленым. Но все-таки я не так жалок и гадок, как вы думаете, я ведь никогда не позволил бы себе так ненавидеть эту женщину, если б не сознавал в то же время, что я ее люблю, нежно люблю именно за то, что лицо ее слегка поблекло, и грудь немного увяла, и фигура чуть-чуть расплылась. Ведь это я сделал ее такой, во всем этом была частица меня самого, потому что у меня не хватало средств сделать ее другой. А будь у меня средства, она была бы сейчас совсем иная. Она и теперь оставалась бы тонкой и стройной, с ямочками на щеках, в ее движениях сохранилась бы манящая грация, а голос был бы полон тайны.
Я лег в постель и потребовал градусник. У меня оказалось около 38°.
— Тридцать восемь и две, — сказал я жене.
На самом деле у меня было только тридцать семь и восемь, но это очень мало, а мне хотелось заболеть, хотелось иметь право раз в жизни вытянуться в постели и ни о чем не думать. Вы, конечно, осудите меня за это, да и сам я теперь, когда я рассуждаю хладнокровно, ни за что не стал бы притворяться больным перед единственным близким мне человеком. Но не забудьте, в течение последнего месяца я каждый день бился лбом об стену, задавал один и тот же вопрос, получал один и тот же ответ и люди оглядывали меня с ног до головы. Мне нужен был предлог, чтобы немного передохнуть. Когда у меня было место, я не совестился, если мне случалось прихворнуть и пропустить службу. «Велика беда, — говорила жена, — зато ты побудешь с нами!» А теперь мне приходится выдумывать предлоги.
Из-за собственного притворства я злился на жену еще больше. Раньше она проявила бы беспокойство, спросила бы, как мне помочь, чего мне хочется, а теперь продолжает гладить. Некоторое время я лежал на спине, ожидая, что она скажет, но она ничего не сказала. Я закрыл глаза, я чувствовал, что выражение у меня неестественное. Неужели я впрямь поверил, что причина моего раздражения — болезнь? Мне не удавалось собраться с мыслями, я боялся заговорить: не знал, что сорвется у меня с языка. Поэтому я уткнулся в книгу — детективный роман, который я читаю по ночам, когда не могу заснуть. Я раскрыл его наугад:
«Мы вошли в библиотеку лорда Питера. Это была комната с высоким, точно церковный свод, потолком: на полу бухарские ковры, вдоль стен книги в одинаковых переплетах, на каминной полке изящные букеты в севрских вазах. Лорд Питер отложил книгу, которую читал, и поднялся, чтобы пожать нам руки. Лакей подал кофе мокко, и лорд Питер разлил коньяк времен революции. — Теперь у нас есть все, чего может пожелать душа, — сказал он. — Чудесный огонь в камине, добрый коньяк на столе, за окном бушует ноябрьский ветер. Недостает только хорошенького трупика».
Так там и было написано, я помню отрывок наизусть. И слова о трупе выделены курсивом. Лорд Питер был английский джентльмен. У него была похожая на храм библиотека с бухарскими коврами, севрским фарфором и коньяком времен революции. Автор этой книги ни разу в жизни не видел и не пробовал того, что описывал, но какое это имело значение: ведь под каждым из названных предметов подразумевалась просто куча денег, и самая громадная, умопомрачительная куча денег подразумевалась под хорошеньким трупиком.
Лорд Питер был настолько богат, что вообще не вел счета деньгам. Он мог позволить себе стать частным сыщиком и совершать эксцентричные поступки. Ему недоставало только трупа. Но ведь труп можно купить… Я отложил книгу и, повернувшись на бок, закрыл глаза. Я вошел в библиотеку лорда Питера. Лорд Питер смерил меня взглядом. «Мне нужен труп, — сказал он. — Я дам вам тысячу фунтов». Я молчал. «Ладно, — сказал лорд Питер. — Пусть будет пять тысяч». Я продолжал молчать, лорд Питер тонко улыбнулся. «Идите сюда, я угощу вас коньяком, — сказал он. — Попробуйте и оцените, это коньяк, переживший Французскую революцию». Все это пронеслось передо мной в какой-то полудреме, но при этом меня не покидала отчетливая мысль, что мне теперь нельзя читать даже детективные романы. Мне вообще нельзя больше читать. Мне всюду мерещатся деньги и снова деньги, труп и тот превращается в деньги. Стоит мне зажмурить глаза, и я опять вижу деньги. И в то же самое время я продолжал ощущать и молчание жены, и запах паленого, и все это мучительно на меня давило, точно кто-то меня в чем-то обвинял. Не оставалось ничего иного, как зарыться лицом в подушку, заснуть и забыть об окружающем.
Я проснулся под вечер. Жены в комнате не было; уходя, она открыла окно, чтобы выветрился запах паленого, сдерживаемое крючком, оно легонько похлопывало. Из столовой доносился голос сына. Может, он меня и разбудил. У него очень звонкий, пронзительный и чистый голосок.
— Ну почему мне нельзя туда войти, мама? — спрашивал мальчик.
— Тс-с! — отвечала жена. — Потому что папа спит.
— А почему он спит днем, мама?
— Потому что он устал. Не шуми, дай ему выспаться.
Но, вероятно, мальчик понял, что на сей раз, если он ослушается, его не накажут, а может, даже воспринял запрет матери как поощрение, ведь дети чутки не столько к словам, сколько к тону, каким они произнесены. Дверь тихонько открылась, и он, крадучись, пробрался в спальню. Я лежал на спине, делая вид, что сплю, но чувствовал рядом с собой его горячее дыхание. Мальчик весь дрожал от радостного возбуждения. Наконец он осторожно протянул палец и пощекотал мне затылок. Я рывком повернулся к нему. Он засмеялся и запрыгал в потемках. Смеялись его губы, зубы, волосы, все его существо, и я видел, как в этом подпрыгивающем комочке смеха светятся плутовские глазенки. И вот он уже умчался, и его голос победоносно звучит из кухни, хотя дверь еще не успела захлопнуться за ним:
— Мама, мама, я разбудил папу!
Я продолжал лежать, улыбаясь, точно большая волна тепла прошла по моему телу. Нечего киснуть, подумал я, живо под душ, под струю ледяной воды…
Но в этот миг из кухни пришла жена и спросила:
— Подать тебе обед в постель или выйдешь к столу?
В этих словах не было ничего особенного, но тон и вся ее поза… И я понял ее так: «Я прекрасно знаю, что ты здоров. Ты просто слюнтяй и притворяешься больным, потому что не можешь заработать денег. Ну как, будешь продолжать эту жалкую комедию или уже образумился?» Я молча встал и, сунув ноги в домашние туфли, накинул куртку поверх пижамы. Кажется, я вышел в столовую нетвердой, страдальческой походкой, но я и в самом деле чувствовал свинцовую тяжесть в голове и во всем теле. Мальчик стоял посреди столовой и, увидев меня, опять засмеялся. Наверно, он смеялся, довольный тем, что у него хватило духу разбудить меня, и еще потому, что увидел меня в пижаме, хотя до ночи было еще далеко, а я никогда прежде не разгуливал днем в таком виде. А может, его насмешило выражение моего лица. Но я подошел прямо к нему и сказал: «Молчать», — и, видно, сказал очень тихо и злобно, потому что мальчик втянул голову в плечи и обеими руками заслонил лицо. Должен признаться, я почувствовал, что отвел душу. Трудно, конечно, поверить, что самолюбие взрослого человека может быть уязвлено тем, что ребенок посмеялся над ним, увидев его среди бела дня в пижаме, но иначе я не могу объяснить свой внезапный гнев. С моим приходом в столовой воцарилось молчание, злое и испуганное молчание. Я уселся в качалку и спрятал лицо за газетой.
На первой полосе писали о войне в Испании:
«…Многие женщины, дети и старики остались в городе, надеясь, что победители их пощадят, но, едва только город был взят, их всех согнали, как скот, на площадь и стали расстреливать из пулеметов. Мы наблюдали эту сцену с вершины горы, и нам казалось, что это какое-то видение Дантова ада. Малолетние дети искали убежища под материнскими юбками, но это не могло их спасти. Стрельба продолжалась до тех пор, пока не были уничтожены все…»
Утром я пробежал эту статью, но смысл ее как-то не дошел до меня. Я и сейчас пробежал бы ее так же невнимательно, как вдруг меня поразили слова «но это не могло их спасти». И внезапно я увидел детей, прячущихся под материнскими юбками. Это было жуткое зрелище, газета жгла мне руки. Я отбросил ее в сторону. Мне вспомнился лорд Питер, которому был нужен хорошенький трупик. Может, богатство лорда Питера, его бухарские ковры и севрский фарфор были обязаны своим происхождением оловянным рудникам в Испании. Может, лорд Питер был одним из тех, кто желал, чтобы война тянулась как можно дольше, может, он уже раздобыл себе не один хорошенький трупик. Но я тоже несу за это ответственность, я мог скользить глазами по таким заметкам и забывать о них. Если на свете творятся подобные вещи, какое имеет значение, безработный я или нет, живу я или умер, какое значение имеет вообще все, что со мной происходит? Мне захотелось подойти к жене и прижать ее к себе. Ничего не говорить, а только крепко прижать к себе. Я был потрясен до глубины души.
И все-таки, несмотря на пережитое потрясение, война между мной и единственным близким мне человеком продолжалась. Жена принесла сыну овсяную кашу, швырнула тарелку на стол, позвала мальчика и повязала ему вокруг шеи салфетку. Я снова взял газету и развернул ее, мы не обменялись ни словом. Жена вышла на кухню, но доносившийся оттуда звон посуды говорил о том, что война продолжается.
Мальчик сидел, ковыряя ложкой кашу, я наблюдал за ним поверх газеты. Может, ему и в самом деле кусок не шел в горло, а может, он сердился на меня и старался досадить мне, как умел. Какая-то сила подняла меня с кресла, я уселся за стол прямо против сына и сидел, не шевелясь и не сводя с него глаз. Мальчик некоторое время выдерживал мой взгляд, но потом вдруг отбросил ложку, лицо его исказилось.
— Посмей только зареветь! — сказал я с расстановкой. — Ешь!
Мальчик в страхе сунул в рот полную ложку каши, он изо всех сил старался ее проглотить, но стал давиться.
— Попробуй только выплюнь, — сказал я. — Только попробуй!
Не успел я закончить фразу, как каша фонтаном вылетела у него изо рта, горло перехватила судорога, он кашлял, задыхался, размазывая кашу и слюни по посиневшему лицу. Я почувствовал бешеное удовлетворение. Наконец-то я дал выход накопившейся во мне злобе, я ненавидел самого себя, жену и захлебывавшегося от кашля и рыданий ребенка, которого рвало у меня на глазах. Я грозно поднялся с места. Но мальчик, опередив меня, опрометью бросился в кухню с криком:
— Мама!.. Мама!.. — Обхватив руками колени матери, он зарылся лицом в ее юбку.
Я добежал до двери кухни и замер на пороге. Увидев, как мальчик зарылся лицом в юбку матери, я невольно вспомнил детей из того испанского городка. Неужели меня можно довести до такого отупения и ненависти, что, если кто-то отдаст мне приказ, я лягу за пулемет и… и…
Я вернулся в столовую и снова сел за стол. В висках у меня стучало, я сжимал кулаки и стискивал зубы. Я хотел выскочить в кухню, схватить мальчишку и отколотить его, как он того заслуживал; нет, я хотел уйти, уйти куда глаза глядят и никогда к ним не возвращаться, пусть живут как знают. Но вместе с тем я отлично сознавал, что у меня самая обыкновенная истерика, потому что я бьюсь лбом об стену, потому что люди оглядывают меня с ног до головы и я не знаю, где достать денег, но я люблю жену и сына, и, если я возьму себя в руки, все обойдется. Только бы взять себя в руки, взять себя в руки…
Сын по-прежнему был в кухне, я слышал, как жена шепотом успокаивает его и его рыдания постепенно утихают. Немного погодя она вернулась в столовую с суповой миской. Она ни словом не обмолвилась о происшедшем, лицо ее было бесстрастно и замкнуто, она разлила суп в две тарелки, и мы начали есть.
Мясной бульон — мое любимое блюдо, особенно бульон с фрикадельками, заправленный овощами. На этот раз бульон был совсем пустой, в нем плавало только несколько морковок, но я вовсе не по этой причине отложил ложку в сторону и перестал есть. Я не мог есть, мне кусок не шел в горло. Но я очень удивился, когда жена, откинувшись вдруг на спинку стула, громко расхохоталась.
— Чего ты смеешься? — спросил я.
— Посмотри на себя в зеркало.
— А в чем дело?
— Я не виновата, что у меня нет денег и я не могу подать тебе бульон с фрикадельками.
На такие слова можно и посмеяться, но меня точно по лицу хлестнули. Я вскочил и сказал ей только одно слово, самое грубое слово, какое пришло мне в голову. И вышел в спальню, громко хлопнув дверью. Сначала широко распахнул дверь, а потом хлопнул ею изо всех сил. В этом было что-то смешное, что-то комически бессильное. «Я не виновата, что у меня нет денег». Она решила, что я злюсь из-за тарелки супа, она считает меня таким ничтожеством. И в то же время я понимал, что она права: я в самом деле ничтожество. Но это сознание было для меня невыносимо. Я зажег свет и, забившись в самый темный угол, стал воздвигать вокруг себя спасительную стену ненависти. Бросить ее, думал я, пусть выпутывается как знает, увидит, каково ей придется. С какой стати она от меня чего-то требует? Я ведь не хотел тогда жениться, это она настаивала. Я хотел подождать, пока мне прибавят жалованье, но она настояла. С ребенком я тоже не хотел торопиться, я хотел подождать, но она настояла. Она сама навязалась мне, и теперь злится и корит меня, потому что я не приношу денег. Деньги, твердит она, деньги, деньги и деньги. И если я даже уйду от нее, она не оставит меня в покое, она пришлет ко мне адвоката за деньгами! Хоть бы мне вправду заболеть и умереть, чтобы не видеть ее больше, не слышать об этих деньгах, всегда только о деньгах. Вместе с тем я все время понимал, что это истерика и на самом деле я ничего такого не думаю.
Я долго сидел в своем углу. Перед глазами мелькали черные мушки, потом исчезли. Ненависть испарилась, оставив мутный осадок. По сути, ничего особенного не произошло. Какой-то человек за письменным столом смерил меня взглядом. Последний в длинном ряду тех, к кому я обращался, за последним в этом ряду столом. Я потерял голову и сделал попытку сказаться больным. А когда мне это не удалось, я впал в истерику. Тогда жена меня одернула, она должна была это сделать, мы не так богаты, чтобы впадать в истерику. Я совершенно отрезвел, мне было стыдно, меня слегка знобило, я сознавал, до чего дошел. Я дошел до точки. Я потерял сострадание к другим. Я упивался горем других, стараясь найти в этом облегчение; все ужасы, происходящие в мире, стали для меня только средством отвлечься от моих собственных жалких бед. Но все-таки тарелка супа оказалась для меня важнее. Раньше я не был таким, я стал таким теперь, и, если это будет продолжаться, я, может быть, дойду до того, что меня используют как орудие убийства. Может быть, да, а может, и нет, но, когда я думаю о том, насколько я изменился, я не смею ни за что ручаться. Меня знобило, мне было стыдно, мне было страшно и одиноко. И все же я хотел, чтобы меня оставили одного. Я даже не надеялся, что жена придет ко мне. До сих пор я считал наши отношения несокрушимой скалой, которую не могут размыть никакие подводные течения. Но теперь, притаившись в темноте, я чувствовал, что стою на плавучей льдине. Она еще недалеко от берега, ее еще не унесло в открытое море, но течение тихонько повлекло ее за собой. И я слышал, как мелкие пенистые волны плещутся о лед и льдинки позвякивают, точно колокольчики; я увидел перед собой полоску синевато-зеленой воды, которая становилась все шире. Никогда раньше я не испытывал такого страха. Но если бы жена и вошла сейчас, я все равно не решился бы прижать ее к себе и пообещать не покидать ее ни в горе, ни в радости: подобные слова люди говорят лишь тогда, когда они благоденствуют, — нужно иметь средства, чтобы верить в такие клятвы.
Но она не пришла ко мне, между нами не произошло ни объяснения, ни примирения, и я был этому даже рад. Только поздно ночью, когда я думал, что она уже заснула, ее рука вдруг протянулась ко мне, ощупью нашла мою руку и сжала ее.
— Постараемся быть друзьями, — сказала она со своей кровати.
— Да, — ответил я. — Постараемся быть друзьями.
ИСАКСЕН
Четыре года, которые я прослужил в фирме Больбьерга, оптового торговца бумагой, были для меня сплошной мукой. Я все время жил в лихорадке, от возбуждения горели щеки, потные ладони пылали жаром, и то и дело схватывало живот. Состояние это, пожалуй, лучше всего назвать «конторским психозом», оно сопровождается вечным страхом и дурными предчувствиями, а вызывается, как правило, непрестанными придирками, склоками, заговорщическими перешептываниями на лестнице и в раздевалке. Сердце щемит от настоящих и мнимых обид, а между тем иной раз ты и сам подольешь масла в огонь, еще выше вздувая пламя распри, и довольно мельчайшего повода, чтобы злоба и страх выплеснулись в дикие выходки — пусть задним числом каждый непременно постарается приукрасить в них свою роль, подобно той самой вороне, что рядилась в павлиньи перья.
Самая благодатная почва для психоза возникает в торговом заведении средней руки. В маленькой лавчонке обстановка волей-неволей сплачивает работников, на крупном же предприятии противоположные интересы сталкиваются в открытой и честной борьбе. Но торговое заведение средней руки, подобно нашей Солнечной системе, держится лишь силой нерушимого закона социального притяжения — вопреки всем успехам демократии за последний век.
Ты знаешь, конечно, что вокруг, в бескрайнем пространстве, кружат миллионы небесных тел; что фирма, в которой ты служишь, всего лишь крохотная песчинка в сонме миров; этой мыслью ты силишься подавить чувство жгучей обиды — но тщетно: душа не приемлет ее. Под конец ты плотно прирастаешь к своей песчинке, сживаешься с ее суточным ритмом и больше всего на свете страшишься потерять «твердый оклад» и оказаться выброшенным в зияющую пустоту, где неведомыми путями мчатся громадные планеты, где нет ни ночи, ни дня.
В центре мироздания восседает владелец фирмы, он грузно покоится в кресле, у заповедного письменного стола. Он-то и платит тебе скудное жалованье, без которого, однако, нет ни жизни, ни света; ты во всем приноравливаешься к нему, сознавая свое ничтожество перед ним, и послушно описываешь вокруг него положенные круги, но и тут нужна осторожность: умный человек не станет слишком часто попадаться ему на глаза — иному небезопасно узреть сияние, которое излучает его лицо. Одни лишь ближайшие помощники шефа заходят к нему без страха, что его сияние их ослепит, всех прочих уже сам кабинет повергает в трепет — блеск красного дерева, золото багетов, зелень пальмы, громада кресла, узоры ковра…
Разумеется, кое у кого из нас тоже есть дома схожие вещи, но в конторе они обретают символический смысл атрибутов власти. Даже старший конторщик Альбек и тот владеет всего лишь одним-единственным креслом и скромным ковриком, а нижестоящим и этого не дозволено. Какое-то время на моем рабочем столе стояла вазочка с душистым горошком. Я вовсе не думал кого-то этим дразнить, я просто купил цветы потому, что влюбился в девушку, которая носила платья нежных тонов. Но мой поступок перетолковали по-своему, на цветы же поглядывали молча и многозначительно и в мое отсутствие без конца судачили о них. Будто невидимая рука обхватила стебли и все сжимала и сжимала их, пока они не исчезли.
Нас было четырнадцать человек, четырнадцать единиц мироздания, но только двоим выпала честь непосредственно вращаться вокруг Солнца. Ближнюю орбиту занимал старший конторщик Альбек, который вел текущие дела фирмы. Но его импозантный пиджак редко показывался в низших регионах, и, когда нужно было обратиться к нему, нам надлежало сначала доложить о себе в приемной и затем несколько минут дожидаться аудиенции. Помимо этого непременного срока ожидания, отражавшего социальную дистанцию между ним и нами, Альбек присвоил себе еще и ряд других привилегий, внушавших благоговение и зависть: за работой он курил сигары, а кофе к завтраку ему подавали на подносе прямо в кабинет.
Чуть дальше в мировом пространстве — этаким Марсом, озаряемым грозными красными и зелеными вспышками, — кружил управляющий Феддерсен. Феддерсен был вездесущ: орбита его имела форму эллипса, но он то и дело позволял себе отклоняться от курса и, точно комета, неожиданно появлялся то тут, то там, за что все ненавидели его и боялись как истинно злого духа фирмы «Бумага Больбьерга».
Всякий раз, когда ты меньше всего мог этого ожидать, он вдруг возникал за твоей спиной с часами, карандашом и записной книжкой в руках. А стоило ему застигнуть тебя за частным разговором по телефону, как он тотчас становился рядом и ждал, постукивая карандашом по столу. Даже в обеденный перерыв, когда рядовым служащим разрешалось курить во дворе, достаточно было ему показаться в окне, и тотчас рядовые смолкали и прятали сигареты — кто в ладони, а кто за спиной. Его колючий, беспощадный взгляд выдавал странную особенность его мозга: этот мозг был в точности подобен американскому электронному устройству и, как оно, беспрерывно посылал в пространство тайные сигналы, загадочные красные и зеленые вспышки.
Феддерсен был немногословен, но стоило ему раскрыть рот, и собеседнику казалось, будто ему тычут в нос кулаком; голос его резал и жег, как пламя паяльной лампы, в единый миг сметая все доводы и оправдания подчиненных. Об этом человеке судачили шепотом, с замиранием в сердце и резью в желудке, когда удавалось перекинуться двумя-тремя словами в темных коридорах подвала, где шелестел сквозной ветер, холодный и безжалостный, как людская молва. Но никто никогда не мог утверждать с уверенностью: то-то и то-то сказал Феддерсен, то-то и то-то он сделал. Видели лишь, что возникал и исчезал он внезапно, следуя своими неисповедимыми путями, и был он ужасен, весь начиненный зловещим знанием о каждом из нас — кого уволят, кому понизят оклад, — может, даже знанием о самом хозяине фирмы!
Вокруг Феддерсена вращались его спутники: бухгалтер, торговый агент Люне и я. Конечно, в желтом телефонном справочнике под рубрикой нашей фирмы бухгалтер именовался «заведующим бухгалтерией», Люне — «коммерческим директором», а я — «начальником склада», но этими громкими титулами можно было лишь тешиться в семейном кругу, в конторе же они слетали с нас, как платье с голого короля, там нас называли просто-напросто «ребята Феддерсена», и мы вертелись и извивались как могли, стараясь не прозевать вспышек зеленого света, озарявших его мефистофельский лик с длинным, вечно что-то вынюхивающим носом. Стоило только ему подняться и выйти из комнаты, как мы начинали беспокойно ерзать на стульях: куда он пошел, что у него на уме?
Вокруг меня вращались самые мелкие и презренные единицы Солнечной системы — работяги, занятые «грубым физическим трудом». Хозяин фирмы даже не знал их имен, они представлялись ему каким-то темным, безликим клубком, и, если надо было кого-то из них уволить, он говорил: того рыженького, курносого коротышку! Вспоминали о них всякий раз лишь в пору подведения годового баланса, который всегда оставлял желать лучшего, а дальше все разыгрывалось, будто на каком-нибудь хуторе, где хозяйка, замыслив недоброе, может велеть кухарке: «Возьми вон того, пестрого, с короткими лапками…»
А уволить могли когда угодно; шепотом передавались слухи: то одного, то другого из работяг прочили в жертву, и весной, когда фирма подводила годовой итог, они прятались на складе за полками, чтобы их ненароком не заприметили и не вздумали рассчитать. Но при том у них сложился свой особый солдатский быт — с его тяжким трудом и пылью, кружкой пива, осушаемой где-нибудь в углу, или сигаретой, угрожающе вспыхивающей во мраке подвала; были у них и свои соленые шутки, свой тайный жаргон и условный свист, предупреждающий, что идет начальство.
Долгое время я старался быть с ними на дружеской ноге, думал, что владею их языком, что смогу, как нынче принято говорить, пробудить в них живой интерес к работе. Впоследствии я узнал, что и меня, подобно другим, они наградили кличкой: «студентом» прозвали они меня. И стоило мне показаться на лестнице, как в подвале мгновенно смолкал громкий смех. А при том они смотрели на меня свысока; или, может, мне это только казалось? Разве я не был клерком, вооруженным всем, что приличествует этому званию: письменным столом, лампой под зеленым абажуром и толстыми конторскими книгами? Скоро я понял, что за их разбитным тоном кроется свое особое, четкое представление о рангах. Был, например, среди них один парень, чье усердие я хотел поощрить и потому поручил ему надзор за приемом товара; ему выдали учетную тетрадь и предоставили письменный стол, за которым отныне ему полагалось сидеть. Это был самый что ни на есть обыкновенный стол из некрашеного дерева и без ящиков, но этого оказалось довольно, чтобы прежние его товарищи от него отвернулись; а доступа в стан врага он не получил. И парень стал бесцельно слоняться по комнатам: то сложит несколько цифр на счетной машине, то без особой надобности полистает конторские книги. Прежде он слыл самым усердным из работяг, теперь же его скитания по конторе заметил Феддерсен. Весной его рассчитали.
Это лишь один из многих моих грехов той поры, когда я служил в фирме Больбьерга. Хуже всего я оплошал с Исаксеном. С маленьким, кротким Исаксеном, двадцать лет подряд степенно и важно стоявшим за своим узким прилавком, где неизменно лежали чернильный карандаш, кривой ножик и два мотка шпагата.
Не так-то легко описать внешность Исаксена — неправдоподобную, как детский рисунок. Под редкими седыми старческими волосами круглилась головка, гладкая и трогательная, будто у семилетнего ребенка. Но кожа его лица напоминала серый пергамент: казалось, она впитала в себя бумажную пыль всех времен, само же личико заканчивалось короткими жесткими барсучьими усиками прямо под вздернутым носиком, а рта и подбородка словно и не было. И всегда это простодушное личико поражало редкостной игрой: часто-часто моргали глазки, кротко, ласково вздрагивали серые усики; и человечек на своих коротких ножках стоял за прилавком, изредка выглядывая оттуда, как мышка, лакомящаяся отрубями.
Исаксен ни с кем не водил компании; самый одинокий человек во всей фирме Больбьерга, он предпочитал держаться особняком за своим прилавком, на который опирался добрых два десятка лет, где разглаживал бумагу и любовно наводил порядок и чистоту. Здесь же лежали орудия его труда: чернильный карандаш, кривой ножик, шпагат в двух аккуратных мотках и, наконец, бумага нужного формата.
Когда только не мешали ему трудиться на своем месте, не было существа покладистей, но, конечно же, двадцать лет однообразной работы отложились глубокими метами в его мозгу. Прилавок Исаксена был его царством, клочком жизни, которым он владел безраздельно и каковой почитал своей собственностью, а посему никак не хотел допускать сюда посторонних. И если, случалось, кто-то из молодых рабочих невзначай положит свой тюк на заветный прилавок, кроткий человечек тут же неузнаваемо преображался. Точно фокстерьер, бросался он на защиту своих владений и, дрожа от гнева, тявкал тонким голоском: «Нет-нет, нельзя! Нельзя! Я буду жаловаться! Да, да! Сейчас же поднимусь наверх и пожалуюсь!» После каждого такого всплеска Исаксен надолго скрывался в тесном, холодном закутке — единственном укромном местечке в фирме «Бумага Больбьерга», где каждый мог сбросить бремя условностей. Запершись в закутке, Исаксен облегчал душу длинным патетическим монологом, а работяги между тем толпились рядом в проходе, подталкивая друг друга плечом и корчась от смеха. О чем бедняга Исаксен, понятно, не подозревал. Минут десять спустя он выходил из закутка, одергивал пиджак, поправлял галстук, затем возвращался к своему прилавку и работал как ни в чем не бывало.
Если бы только я оставил Исаксена на прежнем месте, несчастья наверняка бы не случилось. Но, как всякий молодой человек, пришедший служить в старую фирму, я горел жаждой преобразований. И я оторвал Исаксена от его прилавка и загнал на дрейфующую льдину, которую вскоре поглотил мрачный океан…
Все началось из-за этой истории со шпагатом. Как раз в те дни я велел запечатывать свертки клейкой лентой, которая перед этим наматывалась на барабан и слегка смачивалась водой. Это нововведение в ту пору было эпохальным: оно позволяло намного ускорить упаковку товара, к тому же клейкая лента обходилась фирме много дешевле шпагата; и поначалу конторская молодежь накинулась на новое устройство, как на диковинную игрушку. Один Исаксен с первых дней недоверчиво и неприязненно косился на него. Столько лет подряд он стягивал бечевку, завязывал узелки и отрезал кончики, руки его уже сами делали всю работу — так зачем ему возиться с каким-то дурацким устройством, то и дело опрыскивающим его прилавок водой?
Спустя несколько дней он снова извлек из углового шкафа шпагат и сначала прятал его под бумагой, но скоро стал оставлять его на прилавке, уже не таясь. За другими прилавками работяги стали роптать: с чего это Исаксен строит из себя что-то особенное? Всех это раздражало. Кто-то взял на себя труд показать начальству, как шпагат Исаксена сквозь упаковку врезается в бумагу: тайком приоткрыли один из готовых свертков и, ножичком углубив бороздку, положили ко мне на стол. Я был бы рад отмахнуться от кляузы, но не посмел: престижа ради я должен был принять меры.
Я пытался научить Исаксена пользоваться новым устройством. Он внимательно смотрел, как я работаю, серое личико выражало достоинство и почтительность, но назавтра он снова вовсю орудовал шпагатом. Что было делать? Неужто и впрямь задать ему взбучку? Я ежился от одной этой мысли: Исаксен был одновременно и старцем и малым ребенком, и я испытывал к нему род робкой нежности.
Тогда я пустился на хитрость. Переложив шпагат с его прилавка на мой письменный стол, я запер шкаф так, чтобы он не мог достать оттуда новый моток. Я проделал это, когда Исаксен удалился в то самое укромное местечко, и восемь моих работяг с нетерпением ждали его возвращения и перемигивались, показывая на его прилавок, где, будто капкан для робкого зверька, высился аппарат с клейкой лентой.
Но Исаксен не попался в капкан. Он чуть-чуть постоял, опершись на прилавок руками, огляделся вокруг и, обнаружив клубок на моем стуле, смело, как маленький рыцарь без страха и упрека, пересек комнату и попросил вернуть ему шпагат. Своим простодушием он развеял в прах все хитрости и интриги. Ясное дело, мне просто понадобился шпагат, а после я забыл положить его на место. И вот человечек стоит передо мной на кривых ножках, круглая детская головка ласково и застенчиво клонится набок, он умильно поглядывает на шпагат и улыбается робкой улыбкой. Он словно бы извинялся за то, что докучает мне своей просьбой, но ведь работа не ждет, а я взял его шпагат, который должен лежать на его прилавке.
Устыдившись, я отдал ему клубок. Мне бы, откинувшись в кресле, пронзить человечка суровым взглядом, после чего ему — укрощенному и сраженному наповал — осталось бы лишь молча уползти на место, я же покорно вернул ему шпагат. И какой прок от того, что я протянул ему моток не глядя, словно был поглощен важным делом, да и не придавал всему происшествию никакого значения? Мертвая тишина, воцарившаяся в комнате, неприкрыто свидетельствовала о моем поражении. Но и самому Исаксену она ничего хорошего не сулила, а предвещала новые кляузы и тайную войну. Уж если подводит начальство, придется работягам самим взяться за дело!
С этого дня между Исаксеном и остальными рабочими поселилась вражда: прежнее добродушное подтрунивание сменилось откровенной злобой. Исаксен стал мишенью беспрерывных козней, а его царство превратилось в осажденную крепость, и весь день над ней звенел его пронзительный голосок, словно меч, отражающий натиск врагов. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Как-то раз ученик уронил на его прилавок банку с клеем, в другой раз Исаксен вдруг обнаружил зазубрину на своем ножике, который столько лет любовно берег, — удар пришелся в самое сердце бедняги, и он так и не оправился от него. Все громче и громче звучали его монологи в проходе между полками, все чаще и чаще приходилось ему успокаивать нервы сигаретой в темном маленьком закутке, который окрестили «кабинетом Исаксена». Крошка Исаксен совсем не понимал, какому риску подвергает себя: другие ведь тоже предъявляли права на укромное место и, если кто-то задерживался там слишком долго, его тотчас засекали. Как-то раз, когда Исаксен вылезал из своего «кабинета» и за ним потянулось оттуда легкое облачко табачного дыма, в проходе, точно хищная щука, подстерег его Феддерсен. Он ничего не сказал, только глянул на Исаксена, только звякнул цепочкой от часов, словно сыщик — наручниками. Исаксен взвизгнул, как насмерть перепуганный поросенок, серое личико его побелело, и судорожным, неловким галопом он умчался во тьму подвала. Длительность отправления его естественных нужд отныне была взята на заметку: в мозгу Феддерсена засветилось еще одно табло с красными и зелеными огоньками.
Узнав об этом случае, работяги откровенно злорадствовали; заспорили, кому достанется прилавок Исаксена, его шкафчик и нож, словом, спешили ковать железо, пока оно горячо. Когда в тот же день после недолгой отлучки в город я вернулся в контору, на складе уже вовсю бурлили страсти. Рассказывали, будто Исаксен вдруг взбесился и метнул ножик в ученика; по счастью, мальчик успел пригнуться, а не то дело кончилось бы скверно. А ведь Исаксена никто не трогал — просто он совсем спятил, впору смирительную рубашку надеть. Работяги рассказывали мне все это, срываясь на крик и перебивая друг друга, а преступник метался в лабиринте полок, точно раненый зверь. Было слышно, как он в панике скачет по коридору, одну за другой передвигает стремянки и отчаянно суетится без всякого толку.
Еще долго после того, как все стихло в фирме «Бумага Больбьерга», я с тяжелым сердцем сидел за своим столом. Само собой, Исаксен не мог метнуть ножик в ученика; должно быть, он лишь в раздражении, с силой швырнул его на прилавок, откуда ножик скатился на пол. Но что толку с того, что я это понимал? Легенда про Исаксена-злоумышленника неминуемо расползется по всему дому фирмы — от подвала до чердака, — и все примут ее на веру. И она займет свое место в мозгу Феддерсена, а уж тот в нужный момент не преминет выложить ее хозяину фирмы. Надо немедля спасать серенького человечка.
Тщательно все обдумав, я на другое утро пришел к Исаксену с предложением. В самом отдаленном углу дома было пустое подвальное помещение, где хранились образцы наших товаров за много лет. Никто до сей поры не пытался разложить их по полкам согласно номерам каталога. Эту работу, большую и сложную, нельзя было доверить кому попало, она словно ждала, когда за нее примется Исаксен. Я заманивал его, как только мог: он будет «руководить» хранением образцов, «персонально отвечать» за него, — короче, я пустил в ход все приманки, столь высоко ценившиеся в фирме «Бумага Больбьерга». Мне и впрямь удалось зажечь искру восторга в грустных, недоверчивых глазках Исаксена, и он тут же переселился в склад со своим ножиком, чернильным карандашом и шпагатом. Весело и беспечно, как рыбка, идущая в сеть, перекочевал он в этот подвал, где принял верховную власть над площадью в двенадцать квадратных метров с прилавками и полками. Первые дни, пока он наводил там образцовый порядок, пролетели для него как дым; каждый вечер, после работы, Исаксен водил меня в свой подвал — посмотреть, как много он успел сделать, и в душе я уже поздравлял себя с удачей. Разве не я мудрой рукой пересадил Исаксена на тихую, уединенную грядку, где он мог спокойно расправить свои лепестки и благоденствовать?
Но, как только порядок был наведен, Исаксену уже не хватало работы на весь день, и благоденствие кончилось. Гнетущее одиночество обступило его, словно стылый туман. Можно было вплотную к нему подойти, и он тебя не заметит, а попросишь его что-нибудь принести — иной раз притащит совсем не то. Случалось, он надолго замирал как мышь, лишь еле заметно вздрагивали серые усики, а затем внезапно устремлялся в проход и, вцепившись в огромный рулон бумаги, без всякой надобности и смысла перетаскивал его с места на место.
Когда же наступила предрождественская пора с ее радостной суетой и сверху долетал к нему оживленный гомон, серого человечка вконец одолела тоска. Крадучись поднимался он наверх и, прячась в полутьме между полками, с грустью оглядывал свой прилавок, загроможденный разного рода хламом, грудами свертков, отныне не имеющих к нему никакого касательства.
И Исаксен стал быстро сдавать. Дважды он ошибался, выполняя задание самого хозяина фирмы: приносил ему не те образцы, какие были затребованы. Феддерсен сказал мне об этом словно бы невзначай, но в его записной книжке уже значились номера образцов и дата «чрезвычайного происшествия». В тот день я понял, что все мои усилия тщетны. Исаксен погиб безвозвратно.
Как это часто бывало в фирме «Бумага Больбьерга», роковую роль сыграл ничтожнейший случай. Исаксен обнаружил, что можно доставать образцы с верхней полки без помощи стремянки: для этого достаточно встать на одну из нижних. И вот как-то раз на мой стол лег лист дорогой бумаги, на котором отчетливо отпечатался ботинок Исаксена. Сам Феддерсен положил этот лист на мой стол с непреклонным видом, как смертный приговор, который я просто обязан был подписать. Он впился в меня змеиным взглядом и не отпускал: плод созрел — его надо было сорвать.
— Что вы намерены предпринять?
Кровь бросилась мне в лицо, руки обмякли и взмокли, от потных пальцев остался на бумаге влажный след. О я несчастный идиот — в решающую минуту я вечно теряю голову! Что мне было делать? Передо мной, мрачный и непреклонный, восседал Феддерсен, и тут же за прилавками стояли мои работяги, притворяясь, будто ничего не видят и не слышат. Кто только дал Феддерсену этот лист? Откуда моим работягам это знать? В нынешней предрождественской суете они весь день перетаскивали огромные свертки, разрезали шпагат, разматывали оберточную бумагу, трудились не разгибая спины. А внизу, в хранилище образцов, торчит этот Исаксен, шуршит бумагой, упрямо подрагивая серыми усиками, и не желает внять голосу разума. Мало, что ли, у меня было неприятностей из-за него? Вся моя яростная досада сосредоточилась вдруг на этом белом листе бумаги с грязным следом крошечного ботинка. Схватив листок, я бешено хлопнул дверью и стремглав вылетел на лестницу. Сколько можно терпеть, в конце концов!
Исаксен молча выслушал мою гневную речь. Но на его сереньком личике проступила смертельная ненависть, и, как только я кончил, он в свою очередь накинулся на меня.
Как он ругал меня! Он весь трясся, все, что копилось у него в глубине души, теперь распирало его, и казалось, он вот-вот взорвется. Наконец-то он нашел виновника всех своих бед, того, кто его травил и преследовал, кто с самого первого дня расставлял ему сети! Как смею я его упрекать? На себя бы посмотрел! Зачем, спрашивается, я загнал его в этот подвал, оторвал от прежней работы? Нет, нет и еще раз нет, не станет он меня слушать, не о чем ему со мной говорить! Он давно разгадал мои происки. Но правда на его стороне, и правда восторжествует, хотя бы ему пришлось ради этого пойти к самому хозяину фирмы!
Я слушал его разинув рот, пока наконец не догадался круто повернуться и уйти. Прочь отсюда! Старик и вправду спятил. Как еще мог я поступить? Нельзя же, в самом деле, допускать, чтобы подчиненный орал на тебя…
Но на узкой лестнице, ведущей из подвала наверх, стоял Феддерсен, и он слышал все. Спокойно и властно он взял меня под руку:
— Надеюсь, теперь вы убедились, что дальше так продолжаться не может?
Спустя пять минут мы уже сидели в кабинете самого Больбьерга и делили между собой жалованье Исаксена. Как раз перед этим я ходатайствовал о прибавке, и мне положили двенадцать крон из шестидесяти, что он получал; остальные 48 крон взяла себе фирма, а вся слава от успешно осуществленной операции досталась Феддерсену. Владелец фирмы небрежно поиграл ножичком для бумаги: подумаешь, дело обычное.
— Что ж, пришлите сюда этого Исаксена!
Я часто представляю себе, как Исаксен стоял перед хозяином фирмы— серенький, безгласный осколок, случайно заброшенный в этот роскошный кабинет. Должно быть, все завертелось у него в глазах; быть может, отпечатки его пальцев до сих пор не стерлись со спинки стула, за который он ухватился. Золотые рамы картин, будто лезвия сабель, угрожающе целились в него со всех стен; ковер болотной трясиной засасывал его ноги; мягкие кресла наступали на него, как разъяренные быки. И ему не дали сказать в свое оправдание ни слова. Ни слова о своей горькой обиде, о травле и повседневных издевательствах… Ничего.
На другой день Исаксен не пришел в контору к девяти утра. В первый раз не пришел за все годы службы в фирме «Бумага Больбьерга», и работяги строили скорбные лица и разговаривали друг с другом вполголоса, словно он уже умер. Когда часы пробили девять, Феддерсен, оторвавшись от своих бумаг, поднял голову и огляделся кругом. Затем он обернулся ко мне:
— А что, Исаксен?…
Я пожал плечами, и мы обменялись воровской улыбкой. В то утро мы были добрыми друзьями — два сообщника после удачного дела.
Однако в десять часов позвонили из Фредриксбергского парка: там заприметили маленького человечка, который сидел на скамейке и разговаривал сам с собой. Судя по всему, он просидел в парке всю ночь, но добиться, чтобы он назвал свое имя, адрес да и вообще сказал хоть что-нибудь связное, не удалось. Расслышали лишь одно — название нашей фирмы, которое то и дело повторялось в его речах. Приметы не вызывали сомнений: конечно же, это Исаксен!
Мы с Феддерсеном сразу взяли такси и поехали в парк. Дул ветер, аллеи были пусты, и мы еще издали увидали Исаксена. Он сидел на скамейке в окружении двух-трех служащих парка и походил на крошечную больную канарейку, которая вылетела из клетки и обреченно забилась под куст среди обступившей ее враждебной природы. Высокие голые деревья раскачивались над его круглой седой головкой, будто над могильным холмиком, а он сидел на скамье, подрагивал усиками и что-то бормотал невнятно и кротко и казался в одно и то же время старцем, постигшим высшую мудрость, и малым ребенком, потерявшим мать.
Но когда он еще издали заметил меня, то встрепенулся всем своим крохотным, иззябшим тельцем, личико его вспыхнуло неукротимой ненавистью, и он встретил меня резким, сердитым окриком:
— Что вам здесь угодно? Ступайте прочь! Вы не имели права меня оговаривать! Я разгадал ваши козни — так и знайте! Давно разгадал!
Феддерсен сразу же остановился и рукой, будто полицейский дубинкой, преградил мне дорогу.
— Вам лучше уйти. Вернетесь назад на трамвае. Я сам справлюсь с ним.
Я украдкой свернул в боковую аллею, а он подошел к Исаксену и, добродушно хлопнув его по плечу, произнес:
— Ну что ж, приятель, пошли домой греться…
Исаксен оглянулся вокруг — он должен был убедиться, что поблизости нет меня, — и покорно позволил себя отвезти в палату номер шесть местной больницы.
ИНГЕБОРГ
Когда Рут вернулась со двора домой, на круглом обеденном столе стояла зажженная свечка, а возле ее тарелки лежали коробка цветных карандашей и альбом с картинками для раскрашивания, хотя было еще только двадцать третье декабря.
— Мама! — крикнула Рут и запрыгала. — Мама, мама, мама!
В альбоме было множество нарисованных тонкими линиями картинок, которые девочка могла сама раскрасить. Рут села и начала перелистывать альбом. Глядя на кролика с длинными ушами, она подумала, что кролик должен быть коричневым с беленьким коротким хвостиком, с белыми лапками и с блестящими черными глазками. А вот кукла! У куклы будут, как и у Ингеборг, светлые волосы, нежно-розовые щечки, глазки словно незабудки и красное платье.
— Кушай, — сказала мать.
Но Рут никак не могла оторваться от альбома: в нем было, наверное, сто картинок. А еще ей подарили восемь цветных карандашей. Девочка наполовину вытянула их из коробки, сосчитала и стала разглядывать: есть и коричневый, и черный, и зеленый, и синий, и желтый, и фиолетовый, и темно-красный, и ярко-алый…
— Мама, — спросила Рут, — сколько часов еще осталось до Сочельника?
— Немного, — ответила мать, — кушай да ложись-ка спать, вот время скорее и пройдет.
Но Рут почти не могла есть, а уж уснуть и подавно не сможет — это она знала. Осталось еще так много-много часов. Девочка болтала ногами и никак не могла успокоиться. У нее даже живот заболел от нетерпения. Подумать только, как много часов еще осталось!
— Ма-а-ма, ма-а-ма, ма-а-ма, — затянула она и чуть не заплакала. Все-таки Рут согласилась пораньше лечь в постель. Хорошо лежать в темной комнате и думать. В темноте лучше думается.
— Мама, — спросила она, когда мать наклонилась над ее кроватью, — мы пойдем завтра на площадь Ратуши посмотреть большую елку?
— Наверно, пойдем, — ответила мать, — если успеем. Мне нужно дошить платье, оно должно быть готово к Рождеству.
— А ты не можешь шить его ночью, мама?
— Конечно, могу. — Мать улыбнулась, и Рут поняла, что они успеют. К матери приходили такие сердитые дамы, и она никогда не знала, успеет ли кончить работу, но всегда успевала. Она просто сидела по ночам и успевала.
— Мама! — Рут подпрыгнула на кровати, притянула к себе голову матери и потерлась о ее лоб, нос, щеки. Ощутила запах комнаты, запах тепла и всевозможных платьев. Она любила этот запах.
Было почти совсем темно, только из-под двери пробивалась полоска желтого света. Мать сидела в другой комнате за большой ножной машиной. Рут нравилось лежать в темноте и слушать шум швейной машины. Машина пожужжит-пожужжит и остановится, потом опять жужжит. Вот там стало темно, мать держала что-то перед лампой, потом она начала потихоньку напевать тем удивительным голосом, который у нее появлялся, когда она шила по ночам. Значит, мама думает, что Рут заснула, — девочка беззвучно рассмеялась, — а ведь она не спит и все слышит. Она нырнула под перину и смеялась так, что чуть не задохнулась.
— Завтра Сочельник, — прошептала девочка.
Очень хотелось поболтать ногами, пришлось подтянуть колени к самому подбородку и обхватить ноги руками. Нет, больше она не может выдержать. Ей нужно с кем-нибудь поговорить. Она нащупала в темноте Ингеборг, лежавшую на стуле возле кровати, потрогала ее голову, нос, твердые фарфоровые локоны и положила куклу к себе под перину.
— Послушай, завтра Сочельник, — начала Рут и все-таки заболтала ногами.
Это Ингеборг прекрасно знала. Она лежала тихо и, не открывая рта, задала лишь один вопрос. Спросила о елке.
— Да, у нас есть елка, — ответила Рут. — Знаешь, я не думала, что она будет такая большая. Мы ее купили совсем маленькую, другие елки были в два раза выше. А теперь у нас в комнате она стала такая большая, и когда стоишь под ней, то кажется, будто она поднимается до самого потолка. Но ты увидишь ее только завтра, когда на ней будут свечи, двадцать свечей, сто… — шептала Рут, болтая ногами.
Ингеборг лежала тихо.
— Расскажи еще, — не открывая рта, сказала она.
— О чем же еще, о большой посылке от родственников из Ютландии? Мне кажется, я знаю, что там есть для тебя. Но не скажу. В прошлом году тебе подарили кровать, а в этом году подарят что-то другое — никогда не угадаешь! Это нужно для того, чтобы есть. Нет, не скажу. Попробуй угадай!
Ингеборг почти догадалась, и девочке пришлось зажать ей рот пальцем.
— Молчи! Знаешь, большая елка на площади Ратуши поднимается до самого неба. На ней сто тысяч миллионов свечей! Завтра мы пойдем туда смотреть на нее. Только нужно, чтобы пошел снег, чтобы завтра везде был снег и лед на окнах, цветочки и елочки изо льда. И нужно лежать, не спать и думать об этом, а то ничего не будет. Нужно не спать всю ночь…
Но, наверно, Рут заснула, потому что все вокруг изменилось. Снова стало темно, Рождество уже прошло, а мама ее не разбудила. Все прошло, дверь закрыта, и никакого Рождества нет.
— Мама! — закричала Рут, вскочила с постели, рванула дверь и остановилась, ослепленная светом лампы, и заплакала. Мама сидит и шьет. Никакого Рождества нет…
Мать подошла и приподняла ее.
— Что ты, Рут, еще не утро, всего три часа. Спи. Слышишь?
— Но, мама, разве Сочельник будет только завтра?
— Конечно, только завтра. А это еще не скоро. Спи.
Рут снова легла в постель и погрузилась глубоко в сонную мглу. Девочка улыбалась, ей опять стало весело, только она как будто очень устала. Она была веселой и усталой.
— Елка, мама, большая елка…
— Да, — сказал голос, — а теперь спи.
Но Рут не могла заснуть. Ей стало еще веселее, но двигаться не хотелось. Она лежала совсем тихо и смотрела на желтую полоску света, которая пробивалась сквозь щелку под дверью. Вскоре она увидела другой свет, слабый, сероватый, за оконными шторами. Рут окончательно проснулась, она знала, что это утро, утро Сочельника. Ее сердце так и запрыгало.
— Мама, — закричала она, — мама!
Мама вошла и подняла шторы. Шел дождь, на окне не было никаких ледяных узоров. Рут сидела в постели и никак не могла поверить, что сегодня Сочельник, — кругом было так тихо. Девочка одевалась медленно и торжественно, руки едва двигались. Она села за стол, начала есть, но ей казалось, что каша разбухает у нее во рту.
— Мама, я больше не могу, — сказала она.
— Ну так не ешь, — ответила мать.
Рут посидела еще немного, было очень тихо. За маленьким столиком сидела мать и все еще шила.
— Мама, не будь такой.
— Какой?
— Такой сердитой.
— А я вовсе не сердитая, мне просто некогда.
Лицо у матери было совсем серое, как дождь за окном. Рут подошла и обняла ее за шею.
— Мама!
— Оставь меня, Рут, мне нужно закончить платье. Раскрашивай свой альбом.
— Нет, я не хочу раскрашивать до Рождества. Пока не начнется настоящее Рождество.
— Тогда займись чем-нибудь другим.
Но девочка никак не могла ничем заняться. Она сидела у окна и смотрела на улицу, там было тихо и мокро. Она слонялась по комнате, глядя воспаленными глазами на разбросанные всюду кусочки материи, на стучащую машину.
— Дождь перестал, — заметила мать, — пойди посмотри на витрину. Рут надела пальто и пошла на угол улицы к витрине. Там лежала посыпанная блестками вата, карлики катались с горки на санях, а дальше виднелась церковь с освещенными окнами. Но все было совсем не так, как вчера и в другие дни. И картонные листы, из которых можно вырезать кукол и платья для них, те самые, о которых она мечтала, были не такие, как раньше. Они стали совсем неинтересными. Все было таким будничным, и люди, которые шли мимо, — тоже будничные. Тихо и мокро, и совсем не похоже на Сочельник. Может быть, когда стемнеет… Но до вечера оставалось еще много часов, а мать все сидела и шила.
Девочку охватила тревога, она отправилась дальше и пошла по Конгенсгаде. Рут знала, что на этой улице где-то есть большая витрина с игрушками, только это, наверно, не близко, а она и так забрела далеко от дома, нужно бы вернуться. И все-таки она продолжала идти дальше. Ей стало страшно, все было здесь другое, совсем не то, к чему она привыкла, — и дома, и магазины, и люди. Они могли сразу догадаться, что она не с этой улицы. Рут не была уверена, что найдет дорогу домой. Вот сейчас она повернет назад… Но она все шла дальше. Витрины с игрушками не было.
И вдруг она очутилась перед этой витриной. Рут так и застыла, забыв обо всем на свете, — вот уж никогда она не думала, что в мире может быть так много игрушек, и, наверно, каждая стоит сто крон. Тут была кукла в коляске — совсем как настоящий ребенок в настоящей детской коляске. Рут даже не поверила, что это просто кукла. И кукольный дом, совсем как настоящий большой дом, из кирпича, с крышей, а внутри четыре комнаты с настоящими столами, стульями, кроватями и картинами на стенах… Рут представила себе, что она живет в этом доме, ест за этим столом, спит на этой кровати.
Но вдруг кто-то остановился возле нее, и в ту же минуту девочка увидела в стекле свое лицо, непокрытую голову, нос, крепко прижатый к стеклу, совсем побелевший и расплющенный. Она быстро отошла от витрины— наверно, не разрешается смотреть на нее, к тому же сразу заметно, что Рут не с этой улицы. Около нее стояли два мальчика, очень похожие на кукол в витрине, да она-то не похожа на все эти прекрасные, блестящие игрушки за сто крон… Девочке захотелось домой, она только хотела повернуться и бежать, как вдруг из магазина кто-то вышел и окликнул ее. Это была Аннелисе со своей мамой фру Сейделин. Рут их знала. Мама шила им платья, и они иногда приходили к ней.
— Рут! — еще раз закричала Аннелисе, но Рут бежала без оглядки. Тогда фру Сейделин тоже позвала ее, и девочке пришлось подойти.
Она шла медленно, ведь они наверняка понимают, что ей не следовало здесь быть. Но фру Сейделин только поздоровалась и спросила, как она поживает и как поживает мама, и еще спросила, рада ли она, что наступил Сочельник. Рут потупилась, сделала книксен и ответила, что, конечно, рада. Она не решалась взглянуть на фру Сейделин, а та стояла прямо перед ней в серой меховой шубе, похожая на серого шипящего лебедя. И шея ее, и голова были тоже как у лебедя, который смотрит на тебя сверху вниз. А рядом с ней была Аннелисе в светло-голубой шапочке и шубке с белым меховым воротником и белой оторочкой на подоле и рукавах. Из всего этого белого и голубого выглядывало личико Аннелисе. Она смеялась и не отрываясь смотрела на Рут.
— До свидания, — сказала Рут и снова присела.
— Подожди, — остановила ее фру Сейделин. — Мне нужно кое-что купить. А вы с Аннелисе пока побудьте здесь.
И снова Рут стояла перед витриной, теперь вместе с Аннелисе. Она не решалась даже взглянуть на все это белое и голубое, не решалась теперь смотреть и на выставленные игрушки. У нее внутри как будто все застыло, и она не могла выговорить ни слова. А ноги были готовы бежать — домой, домой…
— Чего тебе хочется? — спросила Аннелисе.
Рут не знала. Она ничего не знала. Ей ничего не хотелось.
— А я хочу куклу и вон ту коляску, — сказала Аннелисе. — И кукольный дом. Хотя нет, у меня уже есть такой. Этот, может быть, немного покрасивее. Нет, мой красивее. И я знаю, что мне подарят лыжи и лыжный костюм. Мы завтра поедем в Норвегию и будем там кататься на лыжах. Нет, не завтра, а послезавтра. Завтра у нас будут гости и мне опять всего надарят. А у вас будут гости?
— Не знаю, — ответила Рут. — Наверно, нет.
— Что же вы, и будете только вдвоем с мамой?
Рут поняла, что ей надо что-то сказать, долго говорить. Она быстро подняла руку и показала пальцем на что-то в окне — что-то там двигалось. Высоко над всеми игрушками, над всеми этими великолепными вещами стоял дед-мороз. У него было строгое лицо и белая борода, он все время кивал, кивал медленно и строго.
— Посмотри нанего, — сказала Рут, — он как Господь Бог… — И замолчала. Она поняла, что было глупо говорить о Господе Боге.
— Кто? — спросила Аннелисе. — Этот? Вот уж не нахожу. Подумаешь — все время кивает. У меня есть вещи поинтереснее, целый шкаф всяких занятных штук. Чучела настоящих зверей и много всего другого. Приходи как-нибудь посмотреть. Да пойдем теперь. Давай? Прямо сейчас.
— Я не могу, — ответила Рут. — Мне нужно домой, кушать.
— Покушаешь у нас. Сейчас придет мама, и я скажу ей, хорошо?
Фру Сейделин вышла из магазина. У нее в руках был пакет — большая коробка, завернутая в специальную рождественскую бумагу.
— А это кому? — спросила Аннелисе. — Опять мне?
— Нет, — ответила фру Сейделин. — Это для Рут.
— Мама, а разве это не… ты ведь знаешь, что мне хочется?
— Может быть, — ответила фру Сейделин. — Но у тебя так много всего, и мне кажется, что ее надо подарить Рут. Пожалуйста, возьми, Рут. Но только не развертывай до вечера.
Фру Сейделин была такая большая и шумная в своей серой шубе. Она изгибала шею и улыбалась откуда-то сверху, как лебедь, если только лебедь умеет улыбаться…
Рут хотела поблагодарить. Но из горла ее вырвался только какой-то неопределенный звук. Девочка откашлялась.
— Большое спасибо, — наконец выговорила она и присела. Но этого было мало, следовало сказать еще что-то. Девочка держала большую коробку и думала: лучше было бы не получать этого подарка, лучше было бы совсем не встречаться с ними. — До свидания, большое спасибо, — повторила она и присела.
Домой, домой, с коробкой, домой, бегом…
Но Аннелисе и фру Сейделин было по пути с Рут — они жили на Бредгаде. Пришлось часть пути идти вместе с ними. И Рут шла с коробкой в руках.
— А я хорошо знаю, что там, — сказала Аннелисе. — Ее мне должны были подарить. Но это неважно, пусть будет тебе.
Она посмотрела на мать, и фру Сейделин, изогнув шею, улыбнулась ей сверху. Рут несла коробку, но, в сущности, это была не ее коробка, а коробка Аннелисе.
— Мама, — спросила Аннелисе, — а можно Рут пойдет к нам и покушает с нами?
— В Сочельник-то! — сказала фру Сейделин. — Я думаю, что ее маме это не понравится.
— А завтра?
— Завтра у нас будет полон дом гостей. Но в какой-нибудь другой день Рут, пожалуй, может прийти. Подумаем, когда вернемся с отдыха…
Рут шла с коробкой и радовалась, что ей не нужно идти к Аннелисе, это было бы ужасно. Наконец они остановились у перекрестка, где им предстояло расстаться.
— До свидания, Рут, передай привет маме. Счастливого Рождества… Пойдем, Аннелисе.
Но Аннелисе не пошла за матерью. Голубая варежка крепко держала Рут за руку.
— Пока, пока, пока! — кричала Аннелисе и прыгала вокруг Рут, глаза ее тоже прыгали и сверкали из белого и голубого. И вдруг Аннелисе очутилась где-то далеко на улице и кричала что-то о том, что Рут должна прийти и они будут играть. Рут не отвечала ей и бежала во всю прыть. В коробке что-то постукивало. Может быть, это всего-навсего пара ботинок. Но, добежав до своего угла, Рут вдруг поняла, что это такое. Девочке показалось, что ее толкнули в грудь, и она остановилась, чтобы отдышаться. «Ой, нет», — выдохнула она, но знала: в коробке кукла.
— Мама! — закричала она, прежде чем открылась дверь. — Мама, посмотри! — И Рут была уже в комнате и рассказывала залпом обо всем — о магазине, об Аннелисе, о фру Сейделин, о том, что она должна прийти к ним в гости, кушать и играть. — Ты разрешишь, мама?
— Конечно, — согласилась мать. Она все еще сидела за машиной, блестящее колесо вертелось.
— Мама, я знаю, что это кукла, я знаю. Потому что Аннелисе хотелось куклу, но куклу подарили не ей, а мне. Я знаю.
— Вот как, — сказала мать, следя глазами за узким швом, бежавшим из-под иголки.
— Мама, да ты не слушаешь?
— Нет, я слушаю, Рут, я только немного устала.
— Мама, ты не должна уставать, не должна!
— Не должна? Нет, конечно, это я только так говорю, я совсем не устала. — Глаза матери не отрываясь следили за швом.
Рут прокралась в спальню и закрыла за собой дверь, ей хотелось остаться наедине с коробкой. Если взять острые ножницы и проделать маленькую дырочку? Нет, коробку нельзя портить, ее надо хранить вечно, и бумагу, и бечевку тоже.
Но узел не такой тугой, нельзя ли… Да. Нет… Но узел развязался сам собой, бумага соскользнула в сторону. А крышка приоткрылась как раз настолько, что туда можно было просунуть палец. Сверху лежала мягкая вата. Рут подсунула палец под нее и нащупала куклу, ее волосы. Это были настоящие волосы, а не нарисованные на фарфоре, как у Ингеборг. Теперь коробка совсем открылась и можно было видеть всю куклу. Рут стояла почти не дыша. Она не могла дышать. Она стояла тихо-тихо, не решаясь пошевельнуться. Кукла лежала с закрытыми глазами, но, когда Рут очень осторожно поставила коробку стоймя, кукла открыла глаза, медленно открыла свои голубые-голубые глаза… Нет, это было уж слишком. Рут не отважилась еще раз взглянуть на куклу и положила коробку — пусть кукла спит. На ней было голубое платье, голубые чулки и башмаки, у нее были светлые настоящие волосы, как у человека. Ее звали Аннелисе. Аннелисе Сейделин — вот как ее звали. Ей не нужно было придумывать имя. Оно у нее уже было. Рут боялась закричать и поэтому не смотрела на куклу. Она быстро положила розовую вату сверху, закрыла коробку крышкой, обернула бумагой, стараясь складывать ее так, как она была сложена раньше. И таким же узлом завязала бечевку. Теперь никто не заметит, что она открывала коробку.
За обедом Рут чуть не рассказала маме об Аннелисе, Аннелисе Сейделин, ее имя так и вертелось у нее на языке; Рут ерзала на стуле и смеялась про себя: вот мама сидит, как всегда, и ничего не знает.
Посуда была убрана, и Рут, видя, что мать надевает шляпу, спросила:
— Мама, а теперь мы пойдем смотреть большую елку?
— Сначала мне нужно отнести платье, а когда я вернусь, мы пойдем.
— А мне можно сейчас пойти с тобой, мама?
— Нет, я поеду на трамвае, мне надо торопиться. Ты пока побудь одна…
Мать уже спускалась с лестницы; в парадном хлопнула дверь.
Немного погодя Рут вошла в маленькую комнату, там под елкой лежала теперь коробка… Пожалуй, не следовало бы заходить туда, ведь, если она сейчас все увидит, никакого праздника не будет. Как жаль, что мама не взяла ее с собой, тогда она не смогла бы этого сделать. А теперь сделала. Рут расстроилась, на душе у нее стало тяжело. Да и елка-то не такая уж высокая и на ней совсем не так много украшений. Здесь самая замечательная вещь — коробка. Только она совсем не на месте возле этой елки и других вещей, она напоминает о большом магазине, об Аннелисе и фру Сейделин. «Ее хотели подарить мне…» Да, конечно, ей положено быть у Аннелисе. У Аннелисе Сейделин. Рут не хотелось снова открывать коробку, и она пошла к Ингеборг.
— Ингеборг! — позвала она и прижала голову куклы к щеке.
И вдруг Рут поняла: ей жалко Ингеборг. Она больше не будет спать на своей кроватке, теперь это кровать Аннелисе, Аннелисе Сейделин. А Ингеборг можно будет укладывать в коробку с розовой ватой. Да, но раньше-то у Ингеборг была своя кровать, а теперь Ингеборг будет сидеть и смотреть, как Рут играет с Аннелисе, раздевает и одевает ее, укладывает в постель. И она будет видеть это всегда, она ведь не спит, потому что не может закрывать глаза. Ингеборг будет всегда сидеть с открытыми глазами и видеть все.
Это ужасно, но Рут ничего не может сделать. Девочка раскачивалась взад и вперед, прижимаясь щекой к Ингеборг, к ее твердым фарфоровым кудрям. Ведь у нее не было настоящих волос, как у людей, как у Аннелисе. Аннелисе была Аннелисе Сейделин. А Ингеборг уже не была больше Ингеборг…
И вдруг Рут поняла, что надо сделать. И сразу повеселела. Она встала на колени перед кухонным шкафом, нашла пустую коробку из-под ботинок, бечевку, большой кусок розовой папиросной бумаги. Рут не смотрела на Ингеборг, даже как будто не замечала ее, так она торопилась. Бумаги было слишком много, она мялась, и Рут запихивала ее под бечевку. Потом взяла карандаш и написала… Да, но как писать «Аннелисе» — в одно или в два слова? Рут также не знала, как пишется фамилия «Сейделин». Она написала: «Счастливого Рождества! Рут».
Девочка надела пальто, спустилась по лестнице и выбежала на улицу. Ей казалось, что это не она бежит, а кто-то другой. Рут было страшно и весело, грустно и весело. Рут бежала и чувствовала, как мечется в коробке Ингеборг. Тогда она пошла медленно, осторожно держа коробку.
— У тебя будет коляска, — сказала она, — настоящая коляска с одеялом из белого меха, и будет настоящий дом с настоящим столом и стульями, с настоящей кроватью, с картинами на стенах. У тебя все будет.
Девочка говорила про себя, не открывая рта, как это делала Ингеборг. Так они всегда беседовали…
Но вот уже и Бредгаде. Рут боялась, что не найдет дома, она ведь была здесь всего один раз, и то с мамой. Все-таки девочка нашла его почти сразу, даже слишком быстро. Там были большие ворота, за ними другие — маленькие, за стеклянной дверью стоял человек, на лестнице лежал толстый красный ковер, прикрепленный к ступенькам золотыми прутьями, на нее выходили большие великолепные двери. На золотой табличке было написано: «Сейделин». Рут немного помедлила. Бумага на коробке снова развернулась. Рут сначала запихала ее под бечевку, а уж потом позвонила. Вышел человек во фраке.
— Пожалуйста, передайте это Аннелисе, — сказала Рут, сделав книксен.
Человек что-то говорил ей, но она уже быстро бежала вниз, по красной лестнице с золотыми палочками на ступеньках. А вдруг Аннелисе или фру Сейделин выйдут и увидят ее? Рут почувствовала себя в безопасности, только когда домчалась до Конгенсгаде, тут она остановилась, чтобы перевести дыхание. Конец пути она шла очень медленно.
Когда стало темнеть, Рут с матерью пошли смотреть большую елку на площади Ратуши. Девочка стояла притихшая и думала: вот такая елка, наверно, у Аннелисе — упирается верхушкой в небо, и на ней тысяча миллионов свечей.
На обратном пути она молча сидела в трамвае и все думала об этом.
Был праздник, но не совсем настоящий, он не стал настоящим, даже когда сели за стол и зажгли все свечи, и даже когда девочке попалась миндалина в пироге, и даже когда зажгли елку и Рут с матерью запели песню и начали распаковывать подарки. Тут были картонные листы, из которых можно было вырезать кукол и платья для них, и книга, и кукольная плита с кастрюлями, чашками, тарелками для Ингеборг. А теперь из них будет кушать Аннелисе, Аннелисе Сейделин. Рут не очень-то внимательно разглядывала все эти игрушки и совсем не смотрела на Аннелисе. Она была рада, но не очень.
— А где же Ингеборг? — спросила мать. — Разве ты не принесешь ее сюда?
Но Рут не ответила и начала что-то говорить про кукол из картона.
— Иди сюда, мама, мама! Мы будем их вырезать!
И вот они сидят у стола и вырезают кукол. Рут все время болтает, примеряя на них платья, болтает только для того, чтобы мама опять не спросила про Ингеборг.
Ложась в постель, Рут сама потушила свет и уже в темноте обняла маму и пожелала ей спокойной ночи. Рут сказала, что ей очень хочется спать, а сама лежала в темноте и все думала. Да, это Сочельник, но все почему-то не совсем так, как должно быть. На стуле рядом с ее кроватью лежала Аннелисе Сейделин и спала по-настоящему, с закрытыми глазами.
Утром, как только Рут проснулась, она сразу почувствовала: сегодня что-то случится. Однако ничего не случилось, пока на всех церквах не зазвонили большие колокола и мама не ушла. Девочка сказала, что ей не хочется идти в церковь. Она лучше побудет дома и поиграет. Но играть она не стала, а примостилась на коленях на стуле и смотрела на улицу. Ни о чем особенном она не думала, просто ей было скучно и грустно, и она знала, что обязательно что-то случится. И когда у двери позвонили, ей показалось, будто она все время ждала этого звонка.
Рут открыла дверь и увидела светло-голубую шапочку и светло-голубую шубку с белым мехом на воротнике и рукавах. И среди этого белого и голубого она увидела личико Аннелисе Сейделин.
— Вот, возьми! — сказала Аннелисе и протянула ей что-то.
Рут не ответила. Она взяла то, что ей дали, и держала в руках. Это была большая коробка в розовой бумаге.
— Мне не позволяют ее брать, — продолжала Аннелисе. — Да к тому же она мне совсем не нравится. Безобразная кукла! У нее только голова настоящая, а вся она из тряпья. С такими куклами теперь никто не играет. И потом, это старая кукла, одного уха у нее нет. Мама говорит, если я подарила тебе куклу, то это не значит, что ты тоже должна дарить мне куклу.
Рут стояла с коробкой в руках. Бумага с одной стороны торчала, и она засунула ее под бечевку. И все стояла и все засовывала бумагу.
— Ну а что ты получила на Рождество? — спросила Аннелисе. — Знаешь, что я получила? — Девочка начала перечислять и перечисляла, перечисляла без конца.
Кто-то позвал ее с улицы: «Аннелисе!»
— Иду! — крикнула Аннелисе. — Это моя няня, — пояснила девочка. — Она ждет меня внизу. Ну, до свидания. Приходи, когда мы вернемся домой…
Аннелисе направилась к лестнице. Исчезла и опять появилась на повороте, исчезла и появилась, легкая, бело-голубая. Рут стояла и смотрела на нее.
— Приходи! — в последний раз крикнула Аннелисе откуда-то снизу, и дверь захлопнулась.
Рут долго сидела, опустив коробку на колени и придерживая ее руками. Как странно, ей казалось, что у нее нет пальцев. Наконец бумага развернулась, бечевка развязалась, крышка поднялась. В коробке лежала Ингеборг. Кукла, которую она назвала когда-то Ингеборг, безобразная кукла, старая. У нее только голова как у настоящей куклы, а все остальное из тряпья. А в спальне лежала Аннелисе с настоящими руками и ногами, которые могут сгибаться в локтях и коленях, с настоящими волосами, как у людей, с настоящими глазами, которые закрываются, когда ее укладывают, и открываются, когда ее поднимают. Аннелисе Сейделин.
Рут медленно подошла к кукле, взяла ее, поднесла к открытому окну.
Она долго стояла у окна и смотрела, как падает что-то светло-голубое. Она услышала, как кукла упала на серый асфальт там внизу. Теперь бледно-голубое лежало неподвижно, а вокруг валялись осколки. Было так странно, она и видела, и не видела куклу.
Там внизу лежала Аннелисе Сейделин. Настоящая Аннелисе Сейделин.
И тогда Рут заплакала.
ДАМА С КАМЕЛИЯМИ
Весь мокрый от пота режиссер Бертельсен вошел в свою уборную за сценой, чтобы переодеться к первому акту. Он играл графа. Закрыв дверь, он сел. На сцене еще продолжали ставить кулисы, большая треугольная тень проскользнула за дверным стеклом. «Осторожно, черт подери!» — крикнул машинист сцены. Бертельсен дернулся было, но тут же откинулся назад и грузно осел на стуле. Попробовал насвистывать, но свист прозвучал нелепо. Посмотрел на свои пропотевшие полуботинки, сбросил их. Стало немного легче. Но пот по-прежнему выступал изо всех пор, у корней волос, на ладонях. Порошки не помогли. Ему было очень плохо.
Дурнота подступила внезапно. Днем все шло как обычно. Он приехал в театр на крыше театрального автобуса, посреди кулис, потом стоял, широко расставив ноги, на сцене и проверял список реквизита вместе с костюмершей, командовал рабочими, пока все не переругались. А потом все уселись вокруг ящика с пивом; покончив с ним, распили три бутылки портвейна, и он выложил все свои рассказы о Леопольде Хардере. Тогда он ничего не заметил и почувствовал себя плохо, только вернувшись домой. В театрах маленьких городишек никогда нет ничего, что нужно для спектаклей, ему приходилось бегать по всему городу и выпрашивать необходимые вещи. Пальто он продал, ходил в одном костюме, но тут пошел дождь, и в гостиницу он вернулся насквозь промокшим. Вот тогда-то это и началось. Он еле смог снять пиджак и брюки, бросился на кровать и рванул ворот рубашки с такой силой, что отлетели все пуговицы. Лежал, извиваясь, как белопузая рыба на песке, пока комната снова не вернулась к нему: окно со скрипучим крючком, дождь и ветер на улице, круглый стол, покрытый плюшевой скатертью, и три письма на нем. Одно от девушки, второе от адвоката и длинное синее с полицейским штемпелем. Он лежал, устремив на них взгляд еще до того, как вновь обрел власть над своим зрением, а встав на ноги, сразу же бросил их в печь. Читать все равно бессмысленно. Он взял семьсот крон аванса, ему грозит увольнение. Вообще-то он не боялся, что его уволят, потому что Хардер обычно на другой же день остывал и все оставалось по-старому. Но на этот раз прошло уже четыре дня. Когда боль отпустила, Бертельсен начал рыться во всех ящиках, нашел два-три порошка и высыпал их себе в рот.
Но это не помогло, и вот до поднятия занавеса остается четверть часа, а он сидит в своей уборной и чувствует себя по-прежнему чертовски плохо. Живот пучит, во рту кислый вкус порошков. Он схватил стоявшую на столе бутылку с зеленой жидкостью для волос и сделал глоток. Толстый, неповоротливый язык горел как в огне, жидкость отдавала жиром и духами. Это все оттого, что он немного посидел, нельзя ему сидеть. Он вскочил, резким движением снял рубашку через голову, сбросил брюки, манишку надел прямо на потную шерстяную нижнюю рубашку. Стоя перед зеркалом, завязал на шее белый галстук, манишка колом стояла над его огромным животом с белой нездоровой кожей. Холодная, вялая кожа, а под ней словно огонь. Он сделал еще глоток из пахнущей духами бутылки, вылил остаток на волосы, на лицо, на тело, чтобы отбить запах пота, надел фрачные брюки, белую жилетку, фрак с шелковыми отворотами и, наконец, лаковые ботинки. Готово! С лестницы послышался сиплый голос Леопольда Хардера: «Бертельсен! Бертельсен здесь?» «Здесь!» — отозвался Бертельсен и вышел, щуря глаза от слепящего освещения на сцене. Он шел, как бык, выставив вперед голову на толстой шее. Нет, он взял авансом не семь, а девять сотен. Письма накапливались и кусали его, как паразиты, — письма об алиментах, письма из судебных инстанций: «Вам надлежит явиться…» Где-то промелькнул, блеснул на свету шлем пожарного. Может быть, двое полицейских будут ждать его у выхода после спектакля, как это уже было в Раннерсе. Тогда Хардер его выручил, а теперь что? Неизбежное подступало все ближе. Раньше он всегда знал, что у него еще несколько дней в запасе, а теперь с ужасом ждал, что будет, когда опустится занавес. Порылся в карманах, ища список реквизита, вытащил какие-то бумажки, записку. Прошло несколько секунд, пока вспомнил, что это какая-то девушка в Коллинге дала ему средство от пота ног.
Леопольд Хардер, директор театра, стоял на верхней ступеньке в позе принца из пьесы «Это было однажды». Увидев Бертельсена, он стал медленно спускаться, очень медленно, не сгибаясь: он носил корсет. Собственно, без особой нужды, у него была обычная фигура, но ему нравилось ощущение подтянутости. Его тонкая талия и широкие бедра, выступавшие из разреза фрака, как бы говорили: «Voilа!»[46] Ему льстило, что многие считали его двуполым. Он сам намекнул на это всего несколько часов назад, сидя в купе с Ларсеном Победителем и фру Андре. Он сказал об одном молодом человеке, которого звали Вилли Спет: «Он прекрасен, как мечта!», — сказал, закрыв глаза и как бы наслаждаясь вкусом слова, подобно тому как подлинный ценитель смакует вино. После этой фразы в купе воцарилось неловкое молчание. На полу несколько обгоревших спичек и кучка пепла от сигарет подпрыгивали в такт движению поезда. Стояла удушающая жара: окно было закрыто, его закрыл Леопольд Хардер, ссылаясь на простуду. Ларсен Победитель и фру Андре надеялись побыть в купе вдвоем, но он навязал им свое присутствие, закрыл окно и сказал: «Он прекрасен, как мечта!»
А теперь он спускался по лестнице, изнеженный, затянутый в корсет, и все-таки именно он командовал быком Бертельсеном, который стоял внизу на сцене, выставив вперед голову, словно для удара. От Бертельсена пахло потом, вульгарными женщинами, дешевыми духами, он олицетворял мужскую силу.
Хардер прошелся с ним по сцене, говоря одобрительно, подчеркнуто одобрительно:
— Мило… прелестно… Вы знаете свое дело, Бертельсен. Жаль, что нам придется расстаться, Бертельсен… Но раз вы не можете бросить пить, Бертельсен…
Бертельсен промямлил, что он бросит, он обещает. Но Хардер уже стоял у щелочки в занавесе спиной к нему и говорил:
— Нет, милый Бертельсен, я на вас уже поставил крест.
Он произнес это дружелюбно, легко, но почувствовал ненависть Бертельсена — как щекочущее прикосновение к спине, как ожидание, что в него вонзится пара бычьих рогов. Но рога не вонзились. Бертельсен не сказал ничего такого, что он обычно говорил в запальчивости. Леопольд Хардер улыбался и ждал ответа. Ответа не последовало, и он был доволен. Он даже забыл о Бертельсене, глядя в зрительный зал.
Вилли Спета там не было, и это, пожалуй, тоже было хорошо. Ведь словами «Он прекрасен, как мечта» совсем не все было сказано. Хардер и не считал, что Вилли прекрасен, как мечта, все было гораздо сложнее. Много дней Вилли Спет следовал за труппой из города в город, но Хардер упорно отказывался его принять. И только вчера после спектакля они встретились в гостинице. Началось с того, что Вилли расхвалил спектакль и Леопольда Хардера в роли Гастона. Это было изумительно, гениально. Громкие слова. А эти громкие слова перешли в другие громкие слова: «Я плачу кровавыми слезами, думая о том, как ты со мной поступаешь». Вилли прокричал это среди ночи в номере гостиницы, и Леопольд Хардер не остановил его, хотя вентиляция в стене выходила в комнату фру Андре. И только когда Вилли заговорил о двухстах кронах, он отвел его подальше от этой стены и попросил говорить потише. Они шепотом торговались, а когда Вилли вскоре ушел, Хардер закрыл дверь тихонько, и Вилли крался по коридору к выходу на цыпочках. Никто не должен был слышать его шагов. Сцена разыгралась сильная, и зачем людям знать, что речь идет всего-навсего о двухстах кронах. Сам Леопольд Хардер не хотел так думать. После ухода Вилли он взял французскую пьесу и начал читать ее вслух на разные голоса, а сегодня в купе говорил намеками и, прикрыв глаза, объявил, что Вилли прекрасен, как мечта.
Вилли Спет получил не двести, а сто крон и исчез. Сегодня в театре его не было. Это и удача, и нет. Леопольд Хардер все же был, пожалуй, несколько разочарован. Во всяком случае, он с ненавистью смотрел на молодую пару в одном из первых рядов. Он никогда раньше не видел этих молодых людей и никогда больше их не увидит, но он ненавидел их в это короткое мгновение за то, что они сидели с таким идиотским влюбленным видом и строили друг другу глазки.
В то же самое мгновение молодая девушка бросила взгляд на щелочку в занавесе и увидела таинственно блестевший глаз. Может быть, глаз Армана? «Посмотри», — шепнула она своему спутнику, она хихикала и шептала ему что-то, а потом сделала насмешливую гримаску, резким движением сняла кольцо и постучала пальцами по своему круглому колену, чтобы он видел, что кольца нет. Он неуклюже надел ей кольцо на палец. Кольцо он купил сегодня, двадцать восьмого ноября. Четыре дня они были в ссоре, а сегодня он вдруг принес кольца с красиво выгравированными именами — Кис и Йорген. Когда он пришел, она была дома одна, сначала она плакала, а когда ее мать вернулась, у обоих были на руках кольца, а у девушки — большое красное пятно на шее. Других отметин не было видно, и прическа была в порядке.
Скоро потушат свет, и его рука тихонько обнимет ее, она взглянет на него строго, сознавая свою власть над ним. Но при свете руки и ноги Девушки беспрестанно двигались, она не могла сидеть спокойно. «Послушай!»— сказала она и опять прыснула от смеха, на этот раз из-за того, что говорили сзади.
А сзади сидели муж с женой, девушке показалось смешным, что он говорил о венском кренделе. Они пошли на «Даму с камелиями», потому что видели эту пьесу четырнадцать лет назад. Тогда жена плакала, да и муж едва удержался от слез. Но теперь оба сидели как палку проглотили, выставив вперед сытые животы, говорили сухо, отрывисто, не глядя друг на друга. Она купила крендель к вечернему кофе, а он считал, что нужно было купить после спектакля, чтобы крендель был горячим. Она утверждала, что не успела бы, а он тыкал пальцем в программку — спектакль кончается примерно в десять сорок пять, а кондитерская закрывается в одиннадцать. Он вдруг вышел из себя и раскапризничался, как маленький мальчик. «Ну, Ханс, я разогрею его в духовке». — «Ладно». Он успокоился, не стоит больше об этом говорить. Его рука легла на ее руку. Но он не смотрел на нее. Прямо перед ним сидела молодая девушка с матово-белой спиной, покрытой легким светлым пушком, под кожей проступали позвонки, девушка была в беспрестанном движении. Он ощущал сухость и горький вкус во рту, и зачем только он дал затащить себя на «Даму с камелиями»? Но тут жена положила ему в руку пакетик, красный пакетик с леденцами. Он сунул несколько леденцов в рот, стал жадно сосать, настроение поднялось. «Слушай!» — шепнула жена и кивнула на сцену, грызя леденцы. Он кивнул в ответ. За занавесом послышался долгий дребезжащий звонок, сигнал. Свет потух.
Сигнал дал Бертельсен, он долго нажимал на кнопку, приглашая актеров на сцену. Леопольд Хардер все стоял у щелочки, спиной к сцене.
— Можете ли вы понять, Бертельсен, почему «Дама с камелиями» не имеет успеха в провинции? В Копенгагене она шла два месяца!
Бертельсен не ответил, но это и говорилось не ему, а фру Вилли Андре, которая в это мгновение спускалась из своей уборной. (Можете ли вы объяснить, фру Андре, почему «Дама с камелиями» не имеет успеха в провинции? В Копенгагене она шла два месяца. Правда, с другой актрисой.) Фру Андре шла, как бы распространяя вокруг тишину, делая маленькие шажки в своих остроносых туфлях, поддерживая одной рукой шлейф, без страха спускалась она по лестнице на пыльную сцену, пропахшую хищными зверями. Леопольд Хардер вдруг повернулся, его затянутая в корсет фигура изобразила удивление. Он сказал что-то любезное по-французски. Они под руку прошлись немного взад-вперед, разговаривая по-французски, у него в петлице белая гвоздика, у нее на груди — цветок камелии. Фалды его фрака развевались, а ее подбитый горностаем шлейф, подрагивая, волочился по полу. Рабочий сцены подмигнул Бертельсену, тот скорчил гримасу. Леопольд Хардер прищурил глаза и смотрел на шею фру Андре. Шея уже не молодая, в мелких складках, и грим не может скрыть двух синеватых рубцов.
Много лет назад муж фру Андре ворвался к ней в уборную и выстрелил в нее из дробовика. А потом схватил зеркало, сорвал со стены китайские веера, открытки, разные сувениры — подарки зрителей, сбросил все на пол и начал топтать ногами. Газеты много писали об этом, и во время процесса выяснились вещи, которые не пошли на пользу никому. Дробинки из шеи фру Андре вынули, она скоро оправилась, но возвратиться на сцену и не мечтала. И когда осенью Леопольд Хардер уговорил ее поехать в турне по провинции, играя свою былую коронную роль Маргариты Готье, она заранее знала, что возвращение не состоится. С сухими, широко раскрытыми глазами она каждый вечер шла навстречу своему поражению, подавала реплики жестко и холодно, а там, во мраке зрительного зала, царила враждебная тишина. Кое-кто в сцене смерти вынимал платок, но даже самые неискушенные уходили из театра с обиженным выражением лица, как обманутые дети. «Нас обманули, мы не получили ожидаемого потрясения», — писала провинциальная пресса. Леопольд тоже чувствовал себя обманутым и мстил. Фру Андре с каждым спектаклем становилась все суше и жестче, похожая на маленького черного жука. — Вы отдохнули? — спросил Леопольд Хардер. — Поспали немного? Да, спасибо, она отдохнула, поспала. На руке у нее черная шелковая сумочка, а в сумочке разорванный серый конверт, и в конверте листы серой бумаги. Три страницы, исписанные пустыми словами, и только на четвертой говорится о двухстах кронах, они ему нужны не позже среды. На каждом шагу сумочка с письмом ударяла по бедру, так что на этом месте сама кожа у нее стала серой и покрылась пупырышками. Про себя она давно сказала «нет», но он продолжал писать письма. Откуда взять двести крон, ведь всего неделю назад она посылала ему деньги. Вообще-то ей все уже было безразлично. Широко раскрытые глаза горели, сцена плыла под нотами.
Ее не слишком задели слова Леопольда Хардера, похожего на смешное бесполое насекомое с раздувшейся задней частью. Может быть, именно теперь, когда ей все равно, она и одержит победу. Скоро начнется спектакль, и Ларсен Победитель выйдет в роли Армана, она будет подавать реплики только ему и забудет о черной холодной яме за рампой. «Скажи, что это не ответ!» Она возьмет его за обе руки: здравствуй, мой друг, и прощай! Ты добрый, хороший человек, я люблю тебя, мой мальчик, но ты не в силах помочь мне освободиться от Поуля. Мы можем смеяться, говорить, строить планы, но потом приходит письмо, я смотрю на конверт и знаю, что ничего нельзя сделать. И ты больше никогда меня не увидишь. Ты должен вырваться отсюда, ты сможешь. Ты слишком хорош для такой жизни. Подойди, дай я взъерошу тебе волосы, ты выбьешься, должен выбиться! Ты слишком хорош для такой жизни.
Где-то вдали прозвенел второй звонок. Леопольд Хардер выпустил руку фру Андре, на сцене появилось теперь много новых лиц. Французские аристократы в костюмах, взятых напрокат. Расмуссен, дирижер, старый холостяк с обвисшими щеками и большим животом. Сергиус, директор летнего театра, игравший благородных отцов. Густав, ученик театрального училища, девятнадцати лет, с большой светлой бородой, приклеенной к румяному детскому лицу. Франсина, похожая на поросеночка, и Нишет, маленькая миловидная Нишет, которая надеялась выбиться благодаря своим большим испуганным птичьим глазам и небольшому высокому птичьему голоску, хотя она была замужем и отдала больного ребенка на воспитание тетке. И наконец, Арман — Ларсен Победитель, он именно хотел победить, а не выбиться. Он был слишком хорош для такой жизни. Фру Андре быстро направилась к нему, она хотела взять его за обе руки, но, когда она к нему подошла, ее руки опустились, и они заговорили о будничных вещах. Ларсен Победитель не слышал и половины из того, что она говорила, он стоял, напрягшись всем телом, Дергая головой, белки его глаз сверкали, как у норовистой лошади. Он сжимал кулаки, готовясь к победе.
Дирижер Расмуссен быстро прошел через сцену, чтобы Леопольд Хардер его не заметил. Он обещал ему сшить себе новый пиджак, но ограничился тем, что попросил портного вставить клин на спине старого. Пиджак не стал новее, был по-прежнему узковат, тянул, но раньше это сходило, сойдет и сегодня. Он незаметно проскользнул в маленькую дверцу в оркестровую яму, к трем музыкантам. Это были новички, они взволнованно шептались. Он подал им толстую теплую руку и сказал, что все будет хорошо. Но его глаза на мясистом лице смахивали на глаза испуганного кролика. Репетиция днем прошла плохо, контрабас все время отставал. Может быть, в зале сидит критик и напишет об этом. Вчера вдруг на столе Расмуссена оказалась вырезка, последняя фраза в ней была подчеркнута красным: Только дирижер не справился со своей задачей. Подчеркнул Леопольд Хардер. Расмуссен ненавидел театр, он мечтал о табачном магазине на тихой улочке в провинциальном городке. Поэтому он жил не в гостинице, а в школьном общежитии и копил деньги. Но Герда не разделяла его мечтаний, ей хотелось иметь шелковые чулки, шелковое белье. «Другие мужчины делают подарки своим возлюбленным, а ты1 Тьфу ты!» Да и была ли Герда по-прежнему его возлюбленной? Во Фредерисии произошла сцена, весь вечер она ломала комедию, говорила, что он ей надоел, что у нее есть другой. В конце концов он схватил стул и ударил им об пол: «Нужен я тебе или не нужен?» — «Не нужен». — «Прекрасно!» Он надел шляпу и вышел. А теперь каждый день ждет письма, но письма нет. Вчера вечером он купил кусок торта, четыре марципана, бутылку сельтерской воды с сиропом и нажрался, лежа в постели. Вообще-то он решил не есть пирожных и шоколада, но раз она с ним так… Наелся до тошноты, заснул, не потушив света, и ему снились кошмары.
Третий звонок. Музыканты настроили инструменты и уставились на него. Он сел за рояль с выражением ужаса в глазах. Табачный магазин исчез. Герда тоже. Начинаем. Он сделал движение головой и высоко поднял руки, призывая музыкантов к вниманию. Четыре инструмента лихорадочно заиграли увертюру к «Паяцам».
А на сцене под звуки оркестра голоса перебивали друг друга. Рабочий опрокинул бутылку «вина», Бертельсен ругался. В бутылке был всего лишь холодный чай, но на ковре в гостиной Маргариты Готье расплылось большое темное пятно. Его будет видно из зрительного зала. Через пять минут поднимется занавес.
— Черт бы тебя побрал, свинья ты этакая, поганая, грязная свинья!
— Будь человеком, Бертельсен, — сказал рабочий, он стоял на коленях и тер пятно сухой тряпкой. Но Бертельсен не был человеком, он вынужден не отрываясь смотреть на пятно и ругаться, если он присядет хоть на мгновение, его вырвет.
Леопольд Хардер находился в другом углу сцены, он заметил коричневое пятно на манишке Сергиуса, игравшего благородного отца. Остальные актеры не понимали, почему Хардер вечно цепляется к Сергиусу, ведь Сергиус никогда ему спуску не дает. Мускулистый и широкоплечий, он был на голову выше директора, его губы двигались быстро, выбрасывая грубые слова:
— Я свое дело знаю и отрабатываю те гроши, которые вы мне платите, так что катитесь вы…
— Сергиус! Сергиус!
Затянутая в корсет фигура Хардера отступала задом, выставив перед собой руки с широко растопыренными пальцами — жест, который должен был означать крайнюю степень испуга. А широкоплечий Сергиус стоял на месте как скала.
Фру Андре следила за ними, стоя рядом, она качала головой и устало закрывала глаза, давая понять, как ей все это надоело. Веки у нее были сильно накрашены синим. Ларсен Победитель сжимал губы, чтобы не сказать того, что ему хотелось. О, дай он себе волю, из его уст вырвался бы львиный рык. Все это сборище бездарностей, этот жалкий театришко не для него. Он им всем докажет. Фру Андре снова что-то сказала, он ответил «да». Может быть, нужно было ответить «нет», у нее в глазах появилось разочарование. Ей не следует так смотреть на него. Она единственная здесь ровня ему, они сторонились остальных, смеялись и издевались над ними. Ему нравилось ее остроумие, ее короткие меткие замечания, ее смешные пародии. Другим следовало бы опасаться ее, ведь она великая комедийная актриса. Но вчера она вдруг начала говорить о нем самом. И он сразу насторожился. Пусть не думает, что у него не было другого выхода, кроме как поехать в провинцию, его приглашали в один копенгагенский театр. Но у него есть время подождать лучшего предложения. «Будущее молодого Ларсена Победителя так же обеспечено, как государственная облигация», — писал о нем критик после дебюта в Королевском театре. Это было семь лет назад, но он еще молод, у него есть время ждать. И прежде всего он не нуждается в соболезнованиях и добрых советах. Со вчерашнего дня он чуть-чуть охладел к фру Андре.
Она стояла возле него, маленькая, в черном и такая настойчивая. Он же смотрел поверх нее, дергая шеей, как лошадь. Пыль сцены щекотала ноздри.
— Мне кажется, нам нужно… — сказал он и снял ее руку со своей. — Сейчас поднимется занавес. Ты бы лучше…
Пусть не думает.
А в самой глубине, за лестницей, стояли маленькая фру Кнудсен, игравшая Нишет, и юноша, игравший Густава. Она привыкла скрывать свои испуганные птичьи глаза и свою маленькую грациозную фигурку, он же прятался потому, что сегодня впервые играл с бородой. Ему было девятнадцать лет, а борода делала его еще моложе. В начале второго акта он подавал реплику: «А мы счастливы, не правда ли, Нишет?» Говоря это, он обнимал Нишет за талию и улыбался, а зрители смеялись. Это произошло уже на премьере в Хельсингёре. Он видел, как зрители в первых рядах тряслись от смеха, слышал, как смех становился громче и громче, и понял, что все погибло. Он словно умер в ту минуту, его сердце сделало скачок и остановилось. На другой день Леопольд Хардер позанимался с ним отдельно и заставлял его снова и снова повторять: «А мы счастливы, не правда ли, Нишет?» Не помогло. Смех раздавался на каждом спектакле, в каждом городе. Одна газета написала об этом. Леопольд Хар-Дер подчеркнул фразу красным карандашом и положил газету ему на стол. «Но Густав испортил спектакль. Он слишком молод. Замените его!» «Замените его!» — читал он в глазах людей и слышал в их молчании. «Замените его! Замените его!» — выстукивали колеса поездов, когда они переезжали из города в город, от смерти к смерти. И каждый вечер в начале второго акта Леопольд Хардер стоял в кулисе, наблюдая за его смертью, а вчера придумал новую забавную смерть: светлую бороду во все лицо. «Эту роль нужно играть с бородой», — сказал Леопольд Хар-дер. Сегодня вечером юноша надел бороду впервые и ждал своего выхода, прячась за лестницей. А рядом с ним стояла маленькая фру Кнудсен.
Она смотрела на него своими добрыми глазами, ее голосок звучал птичьей трелью, ей так хотелось помочь ему. Ее собственное горе несколько утихло, сегодня она получила письмо от тетки, температура у сына упала. Какое счастье, температура упала! Она поплакала над письмом, слезы принесли облегчение, и она испытывала нежность к юноше, как будто он был ее сыном. Она будет ему матерью, когда они выйдут на сцену и настанет страшный момент. Она возьмет его за руки, чтобы у него не появилось безумное выражение глаз и чтобы он не задрожал всем телом. Ему не нужно улыбаться и обнимать ее за талию. Он должен сказать свою реплику серьезно, как что-то очень естественное: «А мы счастливы, не правда ли, Нишет?» И зрители не будут смеяться. Но как объяснить ему? Она несколько раз порывалась, но это не так легко.
Юноша был рад, что она стоит рядом. Она напоминала ему родной дом и чувство защищенности, которое он там испытывал, и он думал, насколько все было бы проще, если бы его возлюбленной была она. Но его возлюбленная — Хердис, играющая роль Франсины. Серьезно слушая фру Кнудсен, рассказывавшую о том, что ее сыну стало легче, он искал взглядом Хердис с ее желтыми глазами, тяжелым подбородком и толстыми бедрами. Вначале она внушала ему страх и отвращение. Но с того вечера для него началась новая, хотя отнюдь не счастливая жизнь. Много раз по ночам он рыдал и бился головой о стену, много раз по утрам стоял, застыв у окна, глядя, как занимается новый, страшный — не Судный ли? — день над провинциальными колокольнями и идиллическими красными крышами. Он с детства вел дневник, записывал красивым изящным почерком и изящными словами свои переживания. И вдруг в дневнике появились жестокие слова: «Между Хердис и мной все кончено, кончено навсегда. Никогда больше я не напишу ее имени в этой тетради!» А на следующий день: «Я люблю, люблю, люблю ее! Мы обо всем переговорили сегодня. Все недоразумения исчезли, их унесло, как паутину ветром! Она любит меня, и я люблю ее!» А еще через неделю: «Все кончено. Сегодня я вынес приговор самому себе. После того, что случилось, я не могу больше жить». Но он жил и умирал каждый день, а в номере гостиницы лежал дневник. Сегодня перед уходом в театр он написал: «Мне все равно! Пусть это будет моим девизом: мне все равно!» Но ему не было все равно, он дрожал от страха перед репликой во втором акте: «А мы счастливы, не правда ли, Нишет?»
Там, за занавесом, инструменты неистовствовали, приближаясь к финалу.
— Освободить сцену! — крикнул Бертельсен, широкими движениями рук выгоняя посторонних. — Освободить сцену!
Один из рабочих поднялся с перевернутого ящика из-под пива и встал у занавеса. Бертельсен стоял, нагнувшись вперед, с полуоткрытым ртом, слушая музыку. Она замолкла, надо начинать! Но Леопольд Хардер замахал всеми десятью растопыренными пальцами: подождите!
В зале погас свет. Молодой человек тихонько обнял свою подругу. Она взглянула на него в темноте строго и лукаво. Сзади толстяк протянул к жене руку ладонью вверх, она сразу же поняла и сунула в руку пакетик с леденцами.
По одну сторону занавеса Расмуссен расстегнул пиджак и верхнюю пуговицу на брюках. По другую — Леопольд Хардер дал новый сигнал движением руки, и Бертельсен подбежал к рабочему:
— Открывай! Но ровно, ровно, черт подери.
Занавес со свистом взвился к потолку. Холодное дуновение мрака и молчание воцарились в гостиной Маргариты Готье.
А потом в ней зазвучали совсем другие голоса.
ДУША ШУКО
Итак, Шуко должен покинуть этот мир. Такова воля высших сил, и изменить ее нельзя, остается лишь скорбеть о нем и искать утешения в воспоминаниях о прожитой им жизни. А смерть… что ж, в конце концов, это хорошая смерть, спокойная, легкая кончина — вспомните-ка Шуко Первого, которого и не узнать было, когда его принесли с улицы, он умер, истекая кровью, объятый ужасом… А у этого — ни царапинки на шкуре, лишь тихая возня да тяжелое сопение слышатся из-за печки, где, отгороженный от всего мира, лежит в своей корзинке наш славный дружок и где он заснет вечным сном, окруженный заботой и лаской.
К тому же смерть — наилучший выход для Шуко, так сказал сам Хюбш-ман, ветеринар Хюбшман в белом халате и с сумкой, набитой всяческими учеными премудростями, который вовремя успел снять ответственность с их слабых плеч. Ах, никогда не забыть им той минуты, когда, затаив дыхание, они наблюдали за склонившимся над корзиной доктором, никогда не забыть его рук, которые осторожно накрыли Шуко белым шерстяным одеялом, накрыли его целиком, с головой; высшая воля уже отметила Шуко своей печатью, и противопоставлять этому врачебное искусство было бы тщеславием и суетностью — об этом свидетельствовали руки ветеринара, об этом свидетельствовало молчаливое покачивание головы. И таким прекрасным и умиротворяющим было это мгновенье, что и у фрёкен Лунд, и у фрёкен Микельсен выступили на глазах слезы, хотя ничего другого они и не ждали. Посудите сами: у Шуко отнялись задние ноги, выпали все зубы, он ослеп и оглох. Хюбшману вовсе ни к чему было надевать белый халат, ему все стало ясно, как только он вошел в комнату: собаку до смерти замучили жизнью, ничего общего не имевшей с инстинктами животного, жизнью, наполненной заботливой любовью и пирожными, но без опасностей, без драк и плотских утех. Однако в задачу Хюбшмана отнюдь не входило бросать подобного рода жестокие истины в лицо двум старым дамам, которые были виноваты только в том, что любовь их превышала всякие разумные пределы. Да и, кроме того, он, как вообще большинство врачей, привык считать себя чем-то вроде Господа Бога. Поэтому он надел белый халат и некоторое время продержал их в неведении, прежде чем объявил свой приговор:
— Дорогие мои, не требуйте от меня, чтобы я вернул к жизни вашего Дружочка, ибо ни вам, ни ему это радости не принесет. Единственно, чем я могу помочь ему, — безболезненно освободить его маленькую душу…
Да, именно так он и сказал, и в его словах, как это обычно бывает у большинства врачей, крылась легкая ирония, но ни фрёкен Лунд, ни фрёкен Микельсен этого знать не могли и приняли его слова за чистую монету, и слова эти согрели их сердца, несмотря на то, что доктор вынес Шуко смертный приговор.
Как ни странно, но прежде всего их мысли обратились не к Шуко, а к директору дома призрения Йенсену и его вчерашнему утреннему визиту.
— Жалко собаку, — сказал Йенсен, увидев мучения Шуко. — Вам бы следовало ее усыпить.
Брошенное мимоходом замечание, но после ухода директора оно словно бы повисло в воздухе, потом облетело весь дом призрения и в конце концов изменилось до неузнаваемости.
— Пристрелить надо эту тварь, — якобы сказал директор, да таким тоном, что мороз по коже подирал, и добавлялось, что в этих словах — весь директор Йенсен, для которого собака — четвероногая тварь, и только, бах, спустил курок, и готово! И вот сейчас слова ветеринара «дружочек» и «маленькая душа» восстановили справедливость, недаром их произнес ученый человек, доктор. Что же до директора с его чрезмерным усердием, то тут ни у фрёкен Лунд, ни у фрёкен Микельсен сомнений не было, и они понимающе переглянулись за спиной ветеринара: Шуко ничем не отличался от человека, у него, как у всех, была душа, о нем можно не беспокоиться, а вот как обстоит дело с душой у директора Йенсена — это еще вопрос!
Впрочем, оказалось, что ветеринар Хюбшман, говоря об освобождении души Шуко, имел в виду вовсе не то, что они думали, а что-то, связанное с мешком и хлороформом. Это вызвало некоторое недоумение, легкие запинки и отчуждение с обеих сторон, но потом все сгладилось и было предано забвению. Боже упаси, у Хюбшмана и в мыслях не было увозить Шуко из дома, разве можно допустить, чтобы он умер в лечебнице неестественной смертью! Дорогие мои, как вам могло прийти в голову такое! Само собой разумеется, Шуко должен испустить свой последний вздох здесь, на глазах у тех, кто заботился о нем всю жизнь. Доктор собрал свои вещи и, уже держась за ручку двери, дал последние указания:
— Прежде всего покой и тишина. Подогретое масло тоже не повредит, но, как я сказал, самое главное — покой и тишина. Прощайте!
Что касается смерти, то она каждый месяц въезжала и выезжала из ворот дома призрения на черных лошадях, запряженных в черный катафалк, она хозяйничала в сердцах и почках, похищала зрение, короче говоря, была непостижимо всемогущей. Уединившись в своих каморках, старые дети сочиняли про нее притчи, сказки и небылицы, пытаясь постичь смерть так же, как маленькие дети в своих играх постигают жизнь. Спиритические сеансы-шесть человек, растопырив пальцы, сидят вокруг стола: стуки-сигналы с вестью от мертвых, мистика и мрак, свечи и пение псалмов. Фрёкен Лунд и фрёкен Микельсен дружили с детства, когда-то, маленькими девочками, они катали в кукольной коляске за-пеленутого, как младенец, щенка, нянчить детей им не пришлось, и вот теперь они играли, неся последнее дежурство у корзины с парализованной собакой. Нет, они своего не упустят: ни последнего вздоха, ни последней судороги; с жадным детским любопытством вели они игру до ее горького конца. Главное — покой и тишина, безусловно, тем не менее фрёкен Микельсен все время ходила на цыпочках вокруг корзины Шуко, то поправляла одеяло, то растирала собаку подогретым маслом, ну просто не могла оставить ее в покое. А фрёкен Лунд была не в силах усидеть в комнате, ее грузная фигура мелькала в разных концах дома призрения, она появлялась ненадолго то тут, то там, мрачная и молчаливая, и сердце ее переполняли скорбь и блаженство.
— Как дела?
— Спасибо, неважно. Остается только уповать на скорый конец.
Да, то были хорошие дни, дни, которые можно будет вспоминать, когда сотрутся из памяти некоторые подробности, и сейчас, чтобы игра стала реальностью, недостает лишь знака от самого Шуко — прощального взгляда, легкого благодарного вздоха. Фрёкен Микельсен называла пса самыми нежными именами, а фрёкен Лунд совала размоченное печенье прямо в его черный нос, но, увы, Шуко не желал участвовать в их игре, он по-прежнему лежал, свернувшись, в своей корзине, неподвижный, похожий на туго набитую, перевязанную с обоих концов колбасу. И только когда тело его сводило судорогой, он подавал признаки жизни, но то был не прощальный благодарный вздох — на морде у него выступала пена и беззубая пасть кусала воздух. На смертном одре в Шуко проснулся зверь, дикий зверь, попавший в западню и окруженный врагами, которым доставляло особую радость тормошить и мучить его, растягивая его жизнь в длинную, тонкую кишку. Но наконец он улучил мгновение, когда за ним никто не наблюдал, и вырвался на свободу, жизнь и тепло коварно вытекли наружу и разлились по вселенной. Прощайте, любовь и подогретое масло!
Это случилось вечером четвертого дня, в дежурство фрёкен Микельсен. Она дремала в кресле и, лишь поднявшись, чтобы подложить дров в печку, почувствовала, что по комнате прокатилась волна тишины. Наверное, Шуко умер, подумала фрёкен Микельсен, спросонья опустилась на колени и склонилась над корзиной — белое лицо и две белые руки, шарившие в темноте. На это ей еще хватило слепого любопытства, игра продолжалась лишь до этого предела, но не дальше. Ибо фрёкен Микельсен искала что-то теплое, хорошо знакомое, а обнаружила нечто страшное, какого-то холодного червя, змею, и рука ее отдернулась и сжалась, точно испуганный кролик. Безудержный страх охватил фрёкен Микельсен, руки и ноги у нее судорожно задергались. Жалко было смотреть, как она взмахивала своими худыми руками, словно крыльями, — хлоп, хлоп! Она махала ими, будто собиралась взлететь. Но фрёкен Микельсен разучилась летать много тысячелетий назад и потому смогла лишь несколько раз подпрыгнуть, птица скакала по четырехугольной клетке, опрокинула стул, вырвала шнур из розетки. И тогда на нее впервые по-настоящему обрушился мрак, мохнатый черный паук из детства, с горящими глазами и длинными страшными ногами.
— А-а, помогите! А-а-а, Дора! Дора!
И Дора пришла, шаркая войлочными туфлями, пришла молчаливая и всемогущая, как мать для ребенка, пришла со своей верой и старинными ритуалами и вернула миру порядок. Дора зажгла свет. Дора остановила часы. Дора подняла штору и приоткрыла окно, и все сразу вдруг обрело устойчивость и гармонию, а душа Шуко вылетела наружу — словно дыхание, словно трепещущее дуновение ветра в звездном небе. Фрё-Кен Микельсен, почувствовав под ногами твердую почву, начала говорить; ее истерика выплеснулась потоком слов и слез. Слова неслись наперегонки, фрёкен Микельсен не позволяла себе перевести дух, так она спешила сотворить легенду и спрятаться за нее от собственного страха, от пустоты и поражения. Вон там она сидела, склонившись над Шуко, была рядом с ним в его последней тяжкой битве, и Шуко смотрел на нее таким неописуемым взглядом. Но это еще не все, это только начало… Фрёкен Лунд, большая, грузная, молча слушала, сперва она сказала себе, что вся история — чистейшая фантазия, но рассказывать Андреа умела, этого у нее не отнимешь — как будто слышишь самого Шуко, говорящего человеческим голосом! Постепенно рассказ захватил фрёкен Лунд, руки ее беспокойно задвигались, она стала перебивать Андреа. И вот уже игра увела их прочь от реальности, за черту, отделяющую жизнь от смерти, и в конце концов они погасили свет и сидели в темноте, держась за руки. Что это там за звук, похожий на царапанье собачьих когтей по паркету? Погляди-ка, вокруг корзины в углу какое-то сияние, какой-то фосфоресцирующий свет! Подобной ночи у них еще никогда не было: дрожащие голоса, экстаз, знамения, сулящие вечную жизнь. И, уже лежа в постелях, они все говорили и говорили, превратив ночь в день, а мрак — в свет, и даже представить себе не могли, что когда-нибудь наступит утро.
Но утро наступило, наступил и день — день, когда хоронили Шуко. Церемония происходила в одном из уголков сада, принадлежавшего дому призрения, и хотя даже небо серыми тучами и моросящим дождичком способствовало созданию нужного настроения, она получилась довольно жалкой, вовсе не такой, о какой они мечтали. Фрёкен Лунд пригласила друзей Шуко на четверть второго, в это время директор Йенсен обычно спал после обеда, а его присутствия надо было во что бы то ни стало избежать. Разумеется, не в его власти было запретить церемонию, но он вполне мог ее испортить одним своим взглядом. Поэтому о настоящей похоронной процессии и речи быть не могло, приглашенные пробрались в сад поодиночке и встретились у могилы, приветствуя друг друга легким кивком и незаметным пожатием руки. Да, начало было достойное — заговоры и масонские тайны всегда поднимали у них настроение, тяжелые юбки прикрыли, точно ширмой, садовника Тённесена, когда он опускал гроб с телом Шуко в могилу, и если бы и потом все продолжалось так же молчаливо и просто, то эти минуты преисполнились бы прекрасным и глубоким смыслом.
Но фрёкен Микельсен не могла удержаться, чтобы не сделать из похорон спектакля, никто и глазом не успел моргнуть, как она очутилась в центре кружка, бледная и взволнованная. Да, теперь пришла пора открыть всем, что она прошептала Шуко на прощание. Петь нельзя, имя Господа поминать не годится, но спасибо вам всем… и спасибо тебе, дорогой Шуко… Спасибо тебе за твою любовь… твою любовь… твою любовь… Фрёкен Микельсен сжимала и разжимала руки, сжимала и разжимала, на этом и закончилась ее речь, которую она готовила про себя все утро. Ах, эта речь, она должна была увенчать церемонию, стать просветленным, объединяющим души завершением, а вместо этого шлепнулась оземь, разрушила атмосферу, скорбная группа превратилась в восемь сконфуженных старух, собравшихся вокруг деревянного ящика с дохлой собакой. Вдобавок фрёкен Микельсен не сдержалась и нашла прибежище в слезах, что только усугубило неловкость, — упаси нас господи плакать над дохлой собакой! Отзвуки ночной истерики слышались в этом рыдании, которое разнеслось далеко вокруг и заставило участников церемонии съежиться, словно от ударов бича. Никто из них не осмелился повернуть голову, но они чувствовали, что им в затылки уставились все окна дома призрения, две дамы, обменявшись многозначительными взглядами, объявили, что они выходят из заговора, а одна отвратительно ухмыльнулась. Зато почтенная фрёкен Халлинг с благородным бледным лицом не слышала ни рыданий фрёкен Микельсен, ни глухого стука земли о дерево, мысли ее блуждали далеко отсюда, она уже сидела перед большим блюдом с пирожными из кондитерской. Утром она видела в окно, как фрёкен Лунд возвращалась домой с коробками от кондитера: две большие коробки, в каждой не меньше дюжины пирожных, всего двадцать четыре штуки, а здесь их шесть… семь… восемь дам, хватит по три штуки на каждую. Да такими вот расчетами занималась фрё-кен Халлинг, пока засыпали землей могилу Шуко, и ничего плохого в этом не было, ибо мысль о пирожных как-то удивительно сливалась с грустью, сопутствующей смерти, а душа взмывала ввысь, согретая и обогащенная. Фрёкен Халлинг могла заплакать в любую минуту.
Впрочем, и остальные испытывали примерно те же чувства, усевшись за накрытый стол. Там, в саду, остались вырытая ямка, могила, которую вообще-то и нельзя было назвать настоящей могилой, стук земли о дерево да брошенные сверху цветы — игра превратилась в ничто, потеряла смысл и была им уже больше не нужна. А сейчас в комнату вплывает фрёкен Лунд, держа в руках полное доверху блюдо с пирожными, и ставит его точно посередине стола — вы только поглядите, это истинное чудо кулинарной архитектуры в три этажа: мрамор и слоновая кость, сахарная лепнина, плетеные кружева из марципана, башенка из взбитых сливок, увенчанная похожей на маленькое ядро виноградиной! И если у могилы возникло некоторое недовольство и раздражение, то сейчас эти чувства испарились как дым, гости смыкают свои ряды, отгородившись от всего мира, свечи на столе отражаются в восьми парах глаз, слышится восхищенное кудахтанье. Фрёкен Лунд стучит ложечкой по чашке:
— Нам бы очень хотелось пригласить побольше народу, но комната так мала, кроме того, мы знаем, что Шуко особенно любил вас, и вы тоже были добры к нему, за что вам большое спасибо!
Всего несколько слов, но они произвели хорошее впечатление, потому что были отмечены заслуги каждого, а если бы гостей приветствовала Андреа, результат был бы плачевный! Поэтому фрёкен Лунд поспешила начать сама — уж она-то знала меру, увидев, что дело плохо, она даже траурную вуаль сняла, от ее глаз ничего не укрылось: кофе, сахар, сливки, фрёкен Халлинг, приступайте, пожалуйста!
И фрёкен Халлинг приступила. Она уже давно сжимала в руке лопаточку, аппетит почему-то пропал, она не решалась начать первой, и вот теперь лопаточка скользнула за шпиль и гирлянды и выудила небольшое, невзрачное на вид пирожное. Самое маленькое из всех, зато плотное, как кирпичик, и начиненное всем чем только можно, восхитительно вкусное, и таких было всего два! Удивительная легкость воцарилась за столом, взгляды перебегали с одного предмета на другой, с потолка на тарелки, ни на чем подолгу не задерживались, они уже приметили и петушиный гребешок, и наполеон. Башня шла по кругу, уменьшаясь по дороге, она была так искусно сделана, что рушить ее было одно удовольствие, как Детские замки из песка. Толстая фрёкен Торсен накинулась на угощение с присущей ей жадностью, опрокинула одно пирожное, разрушила шпиль на другом. Резкий голос с другого конца стола посоветовал ей взять сразу два.
— Нет, благодарю, выше меры и конь не скачет.
Фрёкен Торсен приняла это предложение за шутку, но то была вовсе не шутка, беседа замолкла, перестали стучать вилки, все повернулись в одну сторону. Там сидела Андреа Микельсен, несчастная, с суровым личиком, перед пустой тарелкой. Сегодня ночью она владела королевством, а днем поняла, что ее предали все, даже Дора; она замкнулась в своей скорби, как бы отгородилась от всех, пропустила блюдо с пирожными и демонстративно сидела перед пустой тарелкой. Что и говорить, фрёкен Микельсен и впрямь окутывало облако молчания после того, как она своей речью у могилы испортила всю игру, но сейчас на столе горели свечи, в воздухе витал запах сдобы, и они вдруг увидели, какая она маленькая и трогательная в своем горе; их лица с перемазанными кремом губами вспыхнули.
— Андреа, ты должна поесть, слышишь! Ты очень плохо выглядишь!
И Андреа неохотно позволяет втянуть себя в их кружок, она отнекивается направо и налево, но чашка ее уже наполнена, пирожное ложится на тарелку, чей-то голос отвлекает ее вопросом:
— А сколько же лет было Шуко? Семь лет и восемь месяцев.
— Господи, как летит время! Кажется, всего год назад он еще резвился во дворе, эдакий бутуз. Помнишь, Клара, как он погнался за мячом и запутался в собственных лапах? Просто невозможно было удержаться от смеха…
Клара все помнила. Помнила и Дора, которая добавила к рассказу кое-какие подробности о том, как их милый малыш впервые встал на ножки. Лучшей приманки для фрёкен Микельсен они выдумать не могли: ее опустевшие материнские руки пришли в движение, все ее тельце проснулось к жизни, затрепетало.
— Тебе хорошо говорить, Дора, можно подумать, ты занималась им, когда он был маленький! Ты, разумеется, могла поиграть с ним минут пять, а на ком лежали все заботы? Кто ухаживал за ним, когда он болел?
— Но, Андреа, милая, неужели ты думаешь, будто я хочу умалить твои заслуги?
Фрёкен Лунд облегченно вздохнула и великодушно признала, что была стервозой, ужасной эгоисткой! Ах, она призналась бы в чем угодно ради улыбки, засиявшей в глазах подруги.
— Но знаете, когда у тебя есть и другие дела и ты любишь чистоту и порядок… А этот поросенок… Не отрицай, Андреа, ты его избаловала! Если он делал на полу лужу и я собиралась его отшлепать, мне это не разрешалось. Ты предпочитала ползать на коленях с тряпкой в руках с утра до вечера. Оставь ребенка в покое — вот что ты обычно говорила, или — ребенок не виноват. А этот ребенок перепортил целую корзину белья! Да, Андреа, ты была слишком снисходительна.
Фрёкен Микельсен отрешенно улыбнулась и ничего не возразила: конечно, она была снисходительна.
— Знаешь, когда его бранили, а он подходил, тыкался головой мне в колени и ласкался… нет, Дора, ты бы тоже не смогла… Наш малыш! Какой он был неуклюжий…
— Да-да, а как он носился по комнате, натыкаясь на все углы и ножки стульев, а потом садился и начинал выть! Или укладывался на диван и нечаянно падал на пол — вот ужас-то был! Нет, я предпочитаю собак в том возрасте, когда они становятся более смышлеными, начинают понимать… Понимать, ха! Как будто Шуко и Андреа не понимали друг друга с первого дня! Когда она входила утром в комнату и шторы были еще задернуты, он говорил «виф, виф», и это означало «свет, свет», а «ваф, ваф» означало «мам, мам». Надо было только понять его язык.
— Ты не обращала на него внимания, не следила за его развитием, как я. Такой крохотуля, такое беспомощное существо, ах, мне все казалось, что он слишком быстро вырос и перестал нуждаться в моей опеке! Помнишь, как мы в первый раз выпустили его погулять в саду? Ему ведь тогда было не больше месяца?
Фрёкен Хансен подняла палец, желая вступить в разговор, этот эпизод она тоже помнила. Вообще-то фрёкен Хансен была весьма незаметная особа и в их кружке ничего не значила, но при этом эпизоде она присутствовала, она первая увидела Шуко. Он обнюхивал землю и слабо попискивал. А на шее у него был большой голубой шелковый бант…
Ох господи, этот бант, ему очень скоро пришел конец. Наш песик вообще любил насвинячить!
— Помнишь, Андреа, какой он был в переходном возрасте? Я даже и говорить про это сейчас не хочу, вот был кошмар!
Андреа серьезно кивает головой: что правда, то правда, в переходном возрасте он доводил их обеих прямо-таки до отчаяния. Таскал грязь на ковер, пачкал мебель, был неуправляемый, необузданный, его просто нельзя было держать в комнате. А уж сколько вещей он погрыз, сколько посуды разбил!
— В то время он был вовсе не ласковый, он был озорной, непослушный грубиян! Нет уж, давай лучше не будем вспоминать про это.
— Кажется, он однажды убежал с молочником? — это спросила фрёкен Керндруп, сидевшая на противоположном конце стола.
Еще бы! Дамы разволновались, заговорили все разом: той весной опрашивали половину богадельни. Шуко убегал, стоило лишь приоткрыть дверь, убегал с булочником, с молочником, да с любым фургоном, заезжавшим во двор! Но вот голос фрёкен Керндруп снова прорывается сквозь общий гомон, и наконец выясняется, почему она задала этот вопрос: однажды на центральной улице, Гаммель-Конгевей, она встретила Шуко в обществе самых отпетых дворняг, ну и видик у него был, точно он в сточной канаве вывалялся, а то и где похуже! Одному богу известно, чем бы все это кончилось, если бы ей не удалось схватить его за ошейник и привести домой, — так отчаянно он шнырял между машинами и трамваями! Фрёкен Керндруп весьма красноречиво расписала собственный подвиг, и фрёкен Микельсен сочла уместным вступиться за Шуко:
— Он по природе был добрый пес, но у него были плохие друзья. Особенно один отвратительный пудель, который каждое утро сманивал Шуко из дому…
Да, этого пуделя помнили многие, дамы даже заерзали, вспомнив, какой он был блохастый. На что только он не подбивал Шуко: как-то утром Шуко приполз домой с разорванным ухом!
— Вот именно утром! Потому что зачастую он и вовсе не ночевал Дома…
Фрёкен Микельсен попыталась знаками и гримасами остановить подругу. Но фрёкен Лунд уже прорвало, она набрала в легкие воздуха и закудахтала:
— Не хватало еще, чтобы мы не могли говорить о таких естественных вещах!
И, кроме того, все прекрасно знали историю про рантье Эльмквиста который однажды во всеуслышание объявил Шуко отцом четырех щенков, родившихся у его жесткошерстной Катанки.
— Представьте себе, он еще осмелился заикнуться о возмещении за испорченную родословную! Ха, как будто у Шуко не было родословной когда мы получили его от помещика! Уж если ты завел себе суку, так изволь следить за ней, всем известно, какие нынче нравы у молодежи. Шуко тоже не был образцом добродетели, бог свидетель. Он не пропустил ни одной сучки отсюда и до Гаммель-Конгевей.
Свободомыслие фрёкен Лунд отнюдь не вызвало осуждения, напротив, раздались смешки, ее намеки были понятны с полуслова, пробудив внимание и благосклонность аудитории. Но фрёкен Микельсен все-таки непременно хотелось замять столь щекотливый вопрос, и поэтому она через весь стол обратилась к фрёкен Халлинг:
— Знаете, у меня прямо камень с души свалился, когда вы переехали сюда со своей Беллой. Они с Шуко стали такой неразлучной парой, точно состояли в браке!
С этим утверждением все единодушно согласились — именно в браке, и брак этот был счастливее многих других. Как они играли, как делились каждым куском, не ворча и не кусаясь! Шуко изменился во всех отношениях. Раньше его нельзя было никакими силами заставить поесть вовремя, худой как щепка, он предпочитал рыться в мусорных кучах, зато теперь! Теперь это был аристократ, наслаждавшийся правилами хорошего тона. И вообще жизнь его упорядочилась: ночью он спал свои десять часов, потом выходил гулять, после обеда спал два часа, заметно округлился, да, в положительном влиянии Беллы сомневаться не приходится — фрёкен Халлинг совсем голову потеряла от всего этого фимиама.
Брак этот продолжался пять лет, то было счастливое, благословенное время. Правда, не столь богатое событиями, о которых стоило бы рассказывать, с ночными проделками в пору течки и с драками было покончено; интерес к разговору явно иссякал, хотя фрёкен Микельсен могла бы еще много добрых слов сказать о Шуко как о личности, о его взглядах на мир, о его отношении к жизни и людям. А какие привычки и причуды появились у него на склоне дней! Типичная мужская тирания, фрёкен Микельсен даже улыбнулась, вспомнив это:
— Думаете, он когда-нибудь ел с газеты? Ни за что, у него была своя тарелка с нарисованной на донышке собачьей головой, и если ему подавали еду на другой тарелке, он к ней не прикасался. Как-то на Рождество Дора подарила ему латунную цепочку, и с этого дня мы уже больше не пользовались его старым поводком, Шуко не желал появляться на нем во дворе. Господи, а помнишь, как ему взбрело в голову спать после обеда только в кресле, пол его уже не устраивал. Гав! — говорил он, — сойди с моего кресла! И рычал, если в него усаживался кто-нибудь чужой.
Да, в молодости Шуко был бродягой и радикалом, убегал с извозчиками, водился с уличными дворняжками, а потом оброс жирком и остепенился. И поверите ли, не выносил никаких перемен, никаких новшеств в комнате, будь то даже новая диванная подушка: он подозрительно обнюхивал ее и рычал. Он научился разбираться в людях — среди прилично одетых людей и воспитанных разговоров он чувствовал себя как дома, кое-как терпел всяких там молочников и булочников, зато на безработных лаял, стоило ему лишь заслышать на лестнице их шаги. А как он лаял на почтальона! Господи, да он однажды укусил его за ногу!
Дамы оживленно заклохтали, упомянутое событие в свое время взбудоражило умы и разделило обитателей богадельни на два лагеря. Почтальон был такой милый человек, но Шуко не выносил красного цвета, и ведь почтальона предупреждали об этом!
— А помнишь, Дора, как к нам приезжал помещик?
Ах, этот визит! Голоса стали тише, свечи мягко освещали стол. Он зашел в эту самую комнату, помещик, приславший им Шуко крошечным щенком, а теперь приехавший с подарками к Рождеству. Он надел на Шуко ошейник с серебряной пластинкой. Вы, может, думаете, что Шуко залаял? Как бы не так — он завилял хвостом, лизнул помещику руку и вообше ласкался как щенок! Потому что Шуко научился разбираться в людях, понимал их сущность.
Приезд помещика стал для Шуко венцом его жизни, с того дня для него начался закат: обмороки, потеря аппетита, несварение желудка, он тиранил своих хозяек сверх всякой меры, стал в тягость и самому себе, и окружающим. Так по крайней мере считала фрёкен Лунд:
— Пищу приходилось размачивать и обязательно подслащивать и все время придумывать какое-нибудь новенькое блюдо. Шуко почти ослеп, натыкался на все углы, а потом его парализовало, и он не мог больше соблюдать чистоплотность… Честно говоря, Андреа, это было мученье…
Но Андреа мягко качает головой, она не согласна с подругой:
— Мне кажется, я никогда так не любила его, как в этот последний год, разве что когда он был совсем крошкой. В нем появилось что-то… какая-то мягкость… он был признателен за любой пустяк. Когда я сидела у его корзины и разговаривала с ним, как он вздыхал и жаловался тоненьким голоском! А выражение, которое появлялось в его слепых глазах… Поверьте, у него было много мыслей, о которых мы даже не подозревали… Он многое знал — может быть, больше, чем мы!.. А сегодня ночью… Сегодня ночью, перед самой смертью…
Больше она ничего не сказала. Губы у фрёкен Микельсен задрожали, лицо судорожно задергалось, присутствующие завертелись перед ней колесом и слились в одно — она разрыдалась и закрыла глаза руками. Фрёкен Микельсен никогда не была замужем, не имела детей, но она была женщиной и поэтому должна была о ком-нибудь заботиться. И она заботилась о собаках, растила их, согревалась возле них, создавала себе мир, полный любви. Но вот последняя из них умерла и покоится в земле, а сама она состарилась, и руки ее по-прежнему пусты…
Это был припадок, настоящий припадок. Маленькая седая головка сотрясалась от истерических рыданий. За столом воцарилось смущение, глаза перебегали с потолка на тарелки. Взгляд фрёкен Халлинг случайно скользнул по блюду, там оставалось одно пирожное, круглое, облитое желтой глазурью, с квадратиком варенья посередине. Кстати, Не ей одной хотелось бы заполучить его, но оно было последнее, и потому никто не осмеливался его взять.
СКОРО НАС НЕ БУДЕТ
По дорожкам между виллами в ноябрьскую непогодь бродил человек. Он бродил долго и не заметил, как подкрались сумерки, ему казалось, будто на него рассердилась буря. Деревья поднимались к небу, словно клубы дыма, они раскачивались и хлестали его, когда он проходил мимо, большая черная ветка спланировала вниз и, ударясь о плиты, разлетелась на три части как раз перед ним. Руки человек спрятал в карманы своего непромокаемого плаща, пальцы нащупали там клочок бумаги и скатали его в шарик, они рылись в кармане, будто червяки, а буря тем временем проносилась у него над головой.
Немного погодя человек остановился и глянул поверх живой изгороди. За изгородью так же метались кроны деревьев, похожие на клубы дыма, но на земле под деревьями здесь лежало множество всевозможных камней: пузатые серые камни в железной ограде, белые, отмытые дождем мраморные плиты и черные, полированные, гранитные, с золотыми буквами. На многих сидели белые голубки, одни склонив головку набок, другие — опустив, некоторые с распростертыми крыльями, точно буря загнала в сумерках стаю белых голубей под неспокойные деревья. Была здесь и красная кирпичная часовня, а в часовню вели окованные железом двери.
Человек долго стоял и глядел на эти двери, он вспоминал, что однажды видел, как они распахнулись и восемь мужчин медленно вынесли под ноябрьское небо гроб. Они все шли отклонясь от гроба, и каждый держал в свободной руке свою шляпу, а за плечами у них горело множество свеч и слышны были последние звуки из «Вы будете землей вожделенною». Тогда тоже водрузили камень, а на камень — белого голубя, казалось, будто детская ручонка осторожно усадила голубя и огладила его по крыльям и по спинке. И еще казалось, будто детская рука забрала камень железной оградой и ласково заровняла землю вокруг лопаткой, а на камне выбила надпись: «Консул Т. Шредер, 1862–1934. Память о тебе храним с любовью». Рука дитяти, которое еще ничего не знает о смерти, и ничего о покойном, да и о себе самом тоже ничего.
А покуда здесь стоит камень с золотой надписью, консул Т. Шредер витает далеко от тех, кто пребывает в любви и в ненависти. Как раз на днях сын его оставил свою жену, об этом теперь говорит весь город, возможно, она сидит теперь в темноте и думает об этом. В доме у нее нет света, но где-то осталось незакрытым окно, а она сидит за окном, она не замечает, как надвигается холод и мрак, не слышит даже, как хлопает на ветру окно. Она забыла его закрыть, она просто сидит. Вбегает светловолосый мальчик и кладет голову ей на колени, так и кажется, будто это прикатилось золотое, наливное яблочко, но она отталкивает мальчика и сурово ему отвечает. И тогда у него тоже делается суровое лицо, и он садится поодаль, в темноте. Может быть, через тридцать лет настанет день, когда он покинет свою жену и своего ребенка, считая, будто с ним тогда-то или тогда-то обошлись несправедливо. Но консулу Т. Шредеру доводилось много раз улыбаться, возможно, и внук его предпочтет улыбнуться в эту минуту и тем докажет истинность надписи на камне. То ли день, то ли два надпись будет истиной. Хотя возникла она просто оттого, что кто-то вполне посторонний полистал сборник надгробных текстов и по чистой случайности предложил именно такой.
Не зная всего этого, человек вошел за изгородь и остановился перед могильным камнем консула Т. Шредера, он снял шляпу, и буря подхватила его волосы. Волосы у человека были длинные, неухоженные, лицо в сумерках казалось белым, впалыми — щеки и обвисшими — уголки рта, он стоял, забывшись, погруженный в свои мысли. Зайдя в мыслях так далеко, что дальше пути не было, он с улыбкой отряхнул их и вдруг услышал, как буря идет верхами в кронах деревьев, гулко и глухо гудит в низких, колючих кустиках вокруг многочисленных камней. Еще одна ветка упала откуда-то сверху и с треском сломалась о плиты дорожки, а куски разлетелись далеко по сторонам. Человек провожал их глазами, покуда они разлетались, и вдруг его властно потянуло домой. Но если я сейчас вернусь домой, подумал он, мне нечего будет сказать, и я не смогу сидеть на стуле, не смогу читать газету, ибо все там написанное покажется мне лишенным смысла. Вот почему мне надо идти все дальше, и дальше, и дальше.
Человек уже изрядно устал, у него начали подгибаться колени, изгороди качались вверх и вниз, дома качались вверх и вниз, там и сям зажигались огни и качались вверх и вниз, взад и вперед между изгородями и домами. Вот я направляю свою ладью взад и вперед, в море и к берегу, подумал он, а кругом лежат дома, словно корабли, которые бросили якорь из-за бури. Утром они поднимут паруса и поплывут дальше, но ночью они для безопасности стали на якорь, и люди обходят их и проверяют, выдержат ли канаты и все ли обстоит так, как должно быть. Один из домов-кораблей называется «Вилла Эмма». У него красивая оснастка с маленькой башенкой, он украшен деревянной резьбой, и даже название «Вилла Эмма» до сих пор ясно выписано готическими буквами, хотя солнце и дождь немало потрудились над ним. Можно представить себе, что название написали однажды утром, когда у Эммы был день рождения, муж пришел к ней и с таинственным видом повел ее в сад, чтобы она сама увидела. Они постояли на лужайке, обнявшись, и вместе глядели на дом и на надпись, они были женаты семь лет, а теперь вот сподобились заиметь собственный дом. Немного спустя они отпраздновали на «Вилле Эмма» медную свадьбу; множество людей сидело молча и напряженно вокруг большого стола, а немного погодя все разом заговорили, перебивая друг друга. Один мужчина басом выкрикнул что-то, заглушая остальные голоса, в ответ раздался истошный женский визг. После стола все мужчины собрались в кучку и смеялись над чем-то, что рассказывал им муж Эммы, но на сей раз они смеялись приглушенно и озирались по сторонам. Только одного из гостей-мужчин не было рядом, он стоял в передней вместе с Эммой. «Не понимаю, о чем ты, — сказала она. — У меня самый лучший муж на свете». «Бесспорно, лучший на свете, — ответил тот. — И все же». — «Что все же?» — «Ничего, я просто сказал: „все же“…» Какое-то время они с улыбкой глядели друг на друга, потом она покачала головой. «Пойдем, — сказала она, — присоединимся к остальным». Немного спустя торжество кончилось, но в одном из окон «Виллы Эмма» всю ночь горел свет.
С тех пор уже миновало много лет, и вот в ноябрьскую бурю человек в непромокаемом плаще проходит случайно мимо «Виллы Эмма». Она так нарядно выглядит со своей трогательной башенкой, в палисаднике сметена и закопана вокруг розовых кустов опавшая листва. В гостиной горит свет, но занавеси не задернуты, и можно заглянуть внутрь. Эммин муж там один, он даже не заметил, что за окном стемнело, поэтому его можно разглядывать в упор. Он сидит в углу, перед глазами держит газету, пиджака на нем нет, из-под нижнего края газеты выглядывает живот, потому что он расстегнул жилетку. Он сидит в некрасивой позе, широко раздвинув колени. На стене за его спиной висят картины, на них изображены деревья, и животные, и река, все очень тщательно выписано, совсем как в жизни, но, если спросить его, что нарисовано на картинах, он навряд ли вспомнит. Через десять минут он не сможет вспомнить, что читал в газете. А завтра он уходит в море.
Человек в дождевике даже и не подумал о том, что его занесло в чужой сад, но вдруг он услышал собачий лай и поторопился выйти из сада на дорожку. С дорожки он увидел, как в освещенную комнату проворно вошла Эмма. Платье на ней висело мешком, она была маленькая и сухощавая. Лицо у нее тоже было маленькое и сухощавое, и на лице — круглые, выпученные глаза. Она приблизила глаза вплотную к окну, так рыба в аквариуме подплывает вплотную к стеклу и ударяется об него, потому что ничего за ним не различает. Последнее, что увидел человек, была рука Эммы, задергивающая гардины. Она сделала это в уверенной и резкой манере, словно знала, что за стеклом ничего нет. Но ведь за оградой вполне может оказаться чужой человек, и по манере, с какой Эмма задернула гардины и с какой сидит на стуле муж Эммы, человек за оградой может догадаться об очень многом, чего они даже сами не знают.
Вот почему он позволил зрелищу увлечь себя и улыбнулся. Ибо в это мгновение началось что-то новое, в это мгновение она, возможно, подошла к мужу и сказала: «Пойдем, Роберт, пора ужинать, я поджарила бифштекс в точности как ты любишь». И он отложил газету в сторону, взглянул на нее и улыбнулся. Скоро они сыграют серебряную свадьбу. Если кому-нибудь доведется и тогда стоять за окном, он снова увидит множество людей, молча и напряженно сидящих вокруг большого стола, потом эти люди разом заговорят, перебивая друг друга, кто-то из них поднимется с места и будет стоять, уставившись в скатерть, поднимет глаза и снова уставится в скатерть. А пальцами он между тем скатает хлебные крошки в небольшой шарик. Все сплошь обычные вещи. Обычные, как название «Вилла Эмма» или башенка на крыше. Если ребенок выстроит дом, он непременно увенчает постройку башенкой — чтоб стояла на крыше, и увенчает очень осторожно, чтобы башенка не свалилась. А потом ребенок отойдет в сторону и полюбуется на дело рук своих.
Были и другие дома с другими незанавешенными окнами, у одного окна сидел студент и читал учебник. Он был медик и занимался большую часть суток, потому что вскоре ему предстоял первый экзамен. Покуда он так сидел, вошла его мать, внесла кофе и печенье на подносе. Поднос она поставила перед ним и слегка помешкала — это печенье он особенно любил. Сын даже не поднял глаз от книги, он взял красный карандаш и подчеркнул какую-то фразу, хотя при этом, медленно улыбнулся, вытянул левую руку и похлопал мать по плечу. Она еще немного постояла, она хотела, чтобы он позволил себе хоть минутный отдых, но он продолжал улыбаться и глядеть в книгу. Лишь когда она ушла, он поднял взгляд и принялся уписывать печенье, с прежней улыбочкой. Улыбка эта появилась у него, еще когда он был маленьким мальчиком, пришел в школу, и там выяснилось, что он единственный из всего класса умеет считать до ста. Семи лет он улыбался в Сочельник, когда остальные дети водили хоровод вокруг елки и пели, а он не пел. Он и по воскресеньям улыбался, когда вся семья была в сборе, а он сидел как бы особняком, он улыбался в аудитории, когда его спрашивал профессор, после того как кто-то другой не сумел ответить на вопрос. А скоро он станет доктором в провинциальном городке и, так же улыбаясь, будет рассуждать о том, как ему стыдно за других местных врачей, которые ставят ошибочные диагнозы и норовят переманить его пациентов. В то время мать нечасто будет наслаждаться его обществом, у него от силы сыщется минута, чтобы раз в месяц черкнуть ей несколько слов. Но однажды зимней ночью ему придется проехать много километров по опасным, обледенелым дорогам, чтобы посмотреть больного ребенка, и он спасет этого ребенка от смерти, хотя впоследствии ни спасенный, ни его родители, ни он сам и думать не будут, что ребенок жив лишь потому, что он тогда приехал. И возможно, его улыбка, и все, что он говорит и делает, и его самомнение — все это лишь нагромождение пустяков, заслоняющее одну простую истину, а истина заключается в том, что зимней ночью он поехал к больному ребенку. Далее можно представить себе, что и та ночь в свою очередь напрямую связана с ноябрьским вечером много лет назад, когда мать принесла ему кофе на подносе, пусть даже он не поднял глаз от своей книги.
На ходу человек в дождевике лишь мельком сумел углядеть студента с книгой и его мать с подносом, но, не успев довести до конца свою мысль, он уже поднялся на железнодорожный мост, остановился и поглядел вниз. Станция была совсем близко, и железнодорожное полотно в этом месте было довольно широким, со множеством сбегающихся и разбегающихся путей. Наверху буря раскачивала на столбе дуговой фонарь, внизу свет и тени беспокойно догоняли друг друга, перебрасывая отблеск с рельсы на рельсу. Покуда человек стоял на мосту, к перрону с противоположной стороны подошел поезд, остановился на мгновение, снова тронулся и медленно проплыл под мостом. Человек прижался к перилам, чтобы заглянуть в освещенные окна. В одном из первых друг против друга сидели мужчина и молодая женщина, мужчина читал газету, женщина праздно сложила руки на коленях. Мужчина и женщина были год как женаты, и первые месяцы он не читал никаких газет, когда они вместе ехали домой. Потом настало время, когда он сначала предлагал газету ей. «Ты не хочешь? Возьми, пожалуйста». Но она не хотела, и тогда он сам просматривал газету, немного просматривал и немного разговаривал с женой. А теперь уже само собой разумелось, что он достанет газету, едва войдя в купе. Лучше бы ему, конечно, не читать в поезде, ведь хотя они год как поженились, она так и не стала женщиной или дамой, она оставалась девочкой. Это было видно и по тому, как она сидит, и по тому, как наклоняет головку, и по тому, как держит руки на коленях. Лицо мужчины было закрыто газетой, но в своей праздности она разглядывала его руки, держащие газету, и его ботинки, и пробор на его голове, и пальто, и шарф, которые висели у окна и слегка покачивались в такт движению поезда. Немного погодя он опустил газету и устремил взгляд во тьму. «Ну, — сказал он и вздохнул, — вот мы и дома». «Да», — ответила она. «Я немного устал, а ты?» — «Да», — сказала она. Поезд остановился, они встали. «Не забудь газету», — сказала она. Он оставил ее на сиденье. «Да-да!» И он взял газету. Он не до конца ее дочитал. Оба встали.
Множество освещенных окон с читателями газет медленно проплыло мимо, лишь в одном из последних вагонов мимо проплыли молодые люди, их было пятеро, трое юношей и две девушки, которые не читали газет. Они были в спортивных костюмах боевой раскраски, еще у них были рюкзаки и вокруг разбросано много всякой мелочи. Хотя поезд уже набрал скорость, когда их вагон проезжал мимо, можно было увидеть, что четверо прямо корчатся от хохота над тем, что сказал пятый. Кроме них в купе находился один пожилой читатель газет. На нем было черное пальто, белое кашне, а на носу — очки в золотой оправе. Он долго сидел и злился на этот шум, потом опустил газету и глянул на молодежь поверх очков. «Нельзя ли потише, чтобы человек мог спокойно почитать газету?» — спросил он. Один из юношей набрался храбрости и ответил: «А почему бы вам не перейти в другой вагон? Вагонов в поезде хватает». Четверо беззвучно рассмеялись, особенно одна из девушек, она прямо клокотала от радости и от гордости за того, кто так ответил. «Если вы такой нахальный, молодой человек, — произнес читатель газеты, — я попрошу вмешаться проводника. Советую вам говорить тоном ниже». И они стали говорить тоном ниже.
Поезд становился все меньше и меньше, сближались красные хвостовые огни, ветер перебросил облачко белого пара и последний обрывок протяжного свистка через колею и раскидал по садам, где раскачивались деревья. Люди, вышедшие на станции, начали появляться на мосту по дороге домой. Одной из первых прошла маленькая женщина, сегодня утром мать этой женщины достала ее зимнее пальто из шкафа, где оно висело в мешке для одежды. Это было нарядное пальто, отороченное мехом, под ним проворно и уверенно двигались ее ножки, под мышкой она зажала папку, она возвращалась с курсов. Об этом можно было догадаться и по ее папке, и по ее походке. Скоро ее мать воскликнет в передней: «Ну быстрей же, Эрна, не напусти холоду, да не забудь переобуться». Эрна немного постоит перед зеркалом, прихорашиваясь, потом зайдет в комнату, выдохнет в протяжном, удовлетворенном вздохе последние остатки бури, достанет из папки новые нарядные книжки и расскажет, как прошел день и что говорили тот и другой преподаватель. За столом они продолжат разговор на эту тему, отец и мать Эрны знают про курсы и про учителей, и какие они все, не хуже, чем сама Эрна. На другой день мать Эрны звана на чай вместе с тремя другими дамами, она будет сидеть с отсутствующим, равнодушным видом до той минуты, когда сможет завести речь про Эрну. Дамы выслушают ее с большим интересом, но, едва мать Эрны откланяется, они вместе решат, что Эрна так никогда и не выйдет замуж, потому что вечно возвращается домой к папе и к маме.
Но Эрна уже давно исчезла, и появились муж с женой, оба невеселые. Очень даже невеселые. Она нарочно встречала его с поезда, чтобы услышать, чем все кончилось. А кончилось не очень хорошо. Он шел, безвольно опустив плечи, и ей приходилось его утешать, хотя дело касалось ее в такой же мере, как и мужа. «Вот увидишь, — сказала она, — если ты через несколько дней еще раз сходишь к нему…» «Нет, — ответил муж, — к нему я больше не пойду, пойми, ведь должна быть у человека своя гордость». Да-да, она понимает, но все же… «Ничего, вот увидишь, мы найдем какой-нибудь выход», — нащупывает почву она. Но при слове «выход» он вдруг заартачился и вообще остановился, на сей раз никакого выхода нет. Конечно, конечно, никакого. Она решила до поры до времени оставить попытки. Когда они пришли домой и стояли на свету в подъезде, один бледней другого, по лестнице сбежал шестилетний мальчуган и обхватил отца руками. «Папа, ты мне чего принес?» «Потом, — сказал отец, — потом, Джон». «Иди в комнаты, Джон, — сказала мать, — папа очень устал». И немного погодя, уже с раздражением: «Джон, ты слышишь, что тебе говорят?» Джон ушел в комнату. Эти двое вечно очень устали! Играть не играют, сидят и разговаривают, разговаривают, и всегда очень устали.
Новые люди появились на мосту, они шли целеустремленно, перед ними там и сям между деревьями зажигались огни — матовый стеклянный шар над каменной лестницей, кусок выложенной плитами дорожки, светящийся куб с цифрой, круглое оконце в двери. Все они зажигались и потом гасли. Три-четыре человека одновременно снимали красивые перчатки и вешали пальто на плечики, а из кухни доносился отрадный запах жаркого. Далеко впереди поезд уже отошел от следующей станции.
Человек остался стоять на мосту, стоял согнувшись, спиной — к ограде, упершись руками в колени; он очень устал. Он взглянул на себя как бы со стороны: ботинки у него были грубые и грязные, дождевик казался совсем изношенным, хотя был почти новый, руки красные, воспаленные вокруг ногтей. И без перчаток. Куда подевались все перчатки, которые он носил на своем веку? Он забывал их в поезде, и в трамвае, и в парке на скамье. Так случалось со всеми принадлежащими ему вещами. Еще когда он был ребенком, его игрушки оставались в саду, пропадали под дождем и листопадом. И покуда он стоял, согнувшись в три погибели, и размышлял, почему все так складывается, внезапный порыв ветра сорвал шляпу у него с головы, шляпа черной тенью пролетела сквозь всполохи света, через железнодорожное полотно и исчезла в темноте. Человек стоял растерянный, он даже подумывал пройтись вдоль по рельсам и поискать. Он некоторым образом дорожил этой шляпой. Потом он все-таки отказался от своего намерения и зашагал в противоположную сторону, к городу, который был защищен от ветра и подмигивал своими огоньками.
Он дошел до первой лавки, бросавшей на дорогу свой свет из витрины, это была лавка зеленщика, там стояла старушка, она покупала салату на десять эре. Старушка была очень маленькая и дряхлая, и салату ей было нужно самая малость, и не обязательно отборного. Она стояла, протягивая свою монетку, как ребенок, которого послали за покупками, и ручка ее медленно и цепко ухватила салатные листья, как детская рука ухватывает пробку или обрывок бечевки. Старушка была исполнена своеобразного лукавства, она проворно шмыгнула вдоль ряда домов, юркнула в подворотню, наверно, дома ее ждала большая радость, к которой можно приобщиться, если последовать за старушкой и зайти к ней. Первым делом речь зайдет об ее изразцовой печи. Вы только взгляните на эту гадкую печку, она просто не способна нагреть комнату. «Да, да, я уж вижу». Но старуха лукавит, потому что ее печка очень даже способна нагреть комнату, она с легкостью обогревает обе комнаты в самый лютый мороз. И старушка подойдет к печке, и откроет дверцу, и покажет, как эта печка топится, и как она топилась целый месяц подряд и ни на одну ночь не погасла. Невозможно себе представить — и старушка развеселится от таких слов. Ну конечно, эту печку надо хорошо знать, тут есть свои секреты, ей надо в определенные промежутки времени получать свою пищу, все равно как младенцу в колыбельке. И мало-помалу старушка преисполнится доверия и покажет нечто, чего поначалу вовсе не собиралась показывать, — черепаху, для которой и предназначался салат, черепахе совершенно необходим салат, потому что на дворе буря и вообще плохая погода. Обычно в это время года черепахам полагается спать, вот почему надо долго сидеть и подсвистывать, но потом черепаха осторожно высунет из-под панциря свою змеиную головку и покажет маленькие круглые моргучие глазки, затянутые кожистой пленкой, а если немножко почесать ей шейку, она и вся выползет, потому что любит, когда ей щекочут шейку. Главное, чтобы она все время немножко ела и немножко двигалась, потому что, если она впадет в спячку, ей зиму не выдержать.
Время шло к закрытию магазинов, и на главной улице было мало народу, но перед одним из магазинов стояла молоденькая девушка и закладывала всевозможные предметы в ячейки автомата. Она заложила туда кофе и разные шоколадки в станиолевой обертке, и карамель, и лакричные леденцы в зеленых и красных пакетиках. Она все время приплясывала, чтобы не замерзнуть, потому что на ней был в эту бурю всего лишь белый халатик, но щеки у нее были румяные и глаза бойкие, а лицо улыбалось. Восемнадцатилетний паренек остановил свой велосипед у края тротуара и заговорил с ней. «Тебе надо вступить в лигу», — сказал он. «Нет, — ответила она и засмеялась, — мне не надо вступать в лигу». — «Все равно ты у нас будешь в лиге». — «Да не хочу я ни в какую лигу». — «Ты должна». — «Нет, не вступлю. Мне дела нет до вашей политики». — «Тебе нет дела до политики?» — «Да, до той политики, которой занимаетесь вы». Немного погодя он исчез на своем велосипеде, а она вернулась в магазин, и на улице остался только автомат с пакетиками и огоньками за стеклом. Человек в плаще остановился перед ним, он стоял и думал, что рано или поздно она все-таки вступит в лигу. Хотя лично он предпочел бы, чтобы она не вступала. И не начинала маршировать. В мире и без того слишком много маршируют. Еще он вспомнил ее приплясывающие ноги. Нет, ей маршировать незачем.
Потом он забыл про нее, потому что из одного магазина поспешно вышел перекупщик и тут же перешел в другой. Под мышкой у него было зажато несколько пакетов, из карманов тоже торчали пакеты, он вернулся домой из Копенгагена, имея двадцать пять крон наличными. Торговцу скобяным товаром он рассказал, как все получилось. «Он мне говорит: „Нет и нет, не нужна мне ваша картина. У меня и без того весь чердак заставлен картинами. Но двадцать пять крон я вам дам“. И тут на свет является бумажник. Я все время стоял и не сводил глаз с того места, где, как я знал, он держит бумажник. Сейчас появится бумажник, подумал я. Вот он и появился. Такова моя система, я верю в передачу мыслей на расстоянии». Вообще-то перекупщик зашел в лавку купить поезд с рельсами, который стоял в витрине и стоил пять крон. Поезд ему нужен для Мортена. Не в такие благоприятные дни они с Мортеном много раз стояли перед витриной, держась за руки, и глядели на этот поезд, вот пусть теперь Мортен получит свой поезд. Он расплатился последней бумажкой, но в брючном кармане у него еще сохранилось несколько монет по одной и по две кроны. Сколько их там, он толком не знал, но знал, что много. Когда он пришел домой, Мортен начал прыгать как лягушонок и повис на нем, обхватив руками и ногами. Лицо у Мортена было красное и опухшее от слез. Он много часов провел один, и ему было страшно. «А где мама?»— спросил он. «Не знаю, мой мальчик, не могу тебе сказать, где она находится в данную минуту, ты лучше вот на что погляди…» И он распаковал поезд и рельсы и собрал их, и Мортен забыл, что его матери нет дома. Забыл и не вспоминал, пока поезд не начал заваливаться набок. «Ты ведь обещал привести маму домой», — вдруг раздался голос с пола. «Подожди, Мортен, — ответил перекупщик, — я покажу тебе, как надо играть. Пусть у каждого будет своя станция. У тебя пусть Копенгаген, а у меня Роскилле. Понял? Поезд отправляется! А теперь ты отправь его назад. Алло, алло, у нас в Роскилле нет спичек». Некоторое время они так играли, перекупщику стало жарко, и он снял куртку. «Отправляй же поезд». Но Мортен не отправлял, он сидел и прислушивался к чему-то на улице. «Да ты, должно быть, проголодался, мальчик, — сказал перекупщик, — смотри, я принес бутерброды. И медовую коврижку, ты ведь ее любишь, и еще ты у меня получишь лимонад». Какое-то время они сидели за столом друг против друга, с бутербродами на бумаге, а между ними лежала медовая коврижка и стояла бутылка лимонада. Вдруг, откусив от коврижки, Мортен перестал жевать, рот у него растянулся и кулачки приблизились к глазам. «Значит, так, — сказал перекупщик, — значит, так, Мортен, ну, Мортен же, черт подери!» Но Мортен рыдал все неудержимей, прозрачные струйки слюны дрожали у него между губами, а на языке еще оставался кусок медовой коврижки. Внизу, на полу лежал поезд, всеми колесами кверху. Перекупщик совсем растерялся, он не знал, что еще придумать. Рука его зарылась в брючный карман и скатала в маленький твердый шарик клочок бумаги, этот клочок был обрывком хлебного пакета, на котором было что-то написано карандашом. Вчера этот клочок лежал на кухонном столе, и с тех пор они больше ни разу не видели мать Мортена.
Было уже поздно, когда человек в плаще вернулся домой, но из одного окна наверху еще струился неяркий желтый свет. Неяркий, желтый, легкий как шелк, и несколько беспокойных черных веток перед окном раскачивались, то попадая в свет, то уходя из него. Он остановился поглядеть и уже не мог сделать больше ни шагу, у него перехватило дыхание от этого зрелища. Там, где он стоял, буря не чувствовалась, но зато она завывала наверху, в кронах деревьев, словно служила заупокойную мессу по всему, что умрет этой ночью, и по всему, чего уже нет. Но она-то покамест жива, подумал человек с невольным благоговением, жива и бодрствует.
Тут в мире родился новый звук, еле слышный поворот ключа в дверном замке. Этот звук объединял двоих — того, кто пришел издалека и теперь хочет войти, и ту,' что лежала без сна и прислушивалась. Он на цыпочках поднялся по лестнице и вошел к ней. Она лежала, и неяркий желтый свет падал на ее волосы и плечи, а глаза провожали каждое его движение, с той минуты, как он возник в дверях, и не выпускали его. Он подсел к ней на край постели, они поздоровались, и на какое-то время оба смолкли. Но она улыбнулась и покачала головой. Из-под одеяла выглянула ее рука и легонько прикоснулась к нему, к его плечу, его колену, потеребила пуговицу у него на плаще. Он все еще был окутан ветром и холодом, поэтому ее рука не сразу с ним освоилась.
— Ты где ночевал? — спросила она.
— Первую ночь в гостинице. Не могу толком вспомнить в какой. Я сразу расплатился и взял ключ у портье. А утром положил ключ на конторку и ушел.
— А вторую ночь?
— А вторую я вообще не спал. Я бродил.
— А ел где?
— Вчера я ел у одного художника. Мы вместе сидели у него в мастерской и завтракали и пили пиво.
— О чем он говорил?
— Он хочет войны. «Беда, если войны так и не будет, — сказал он. — Лучше бы начать войну. Теперь повсюду чувствуется усиление консерватизма». У него не взяли на выставку одну картину, потому что это была экспериментальная картина, а в отборочной комиссии сидит человек, который не любит экспериментов. Это связано с политикой. Политика сейчас во всем.
— А что с тобой еще было? Расскажи.
— Ничего особенного. В городе я видел перекупщика. Я вернулся дневным поездом и с тех самых пор все бродил по дорогам. Я не смел пойти домой. Я боялся.
— Чего же ты боялся?
— Не знаю. Тебя боялся и смерти. И боялся бури. И того, что кругом одна политика, и боялся войны, которая все никак не начнется. Порой я не могу спокойно усидеть на стуле: мне чудится, как вдали марширует множество ног. Их становится все больше и больше, они топают все громче и громче, подходят все ближе и ближе. И все маршируют, все маршируют. Но, может, это простая трусость. Я боюсь, что люди меня увидят. «А, вот он идет», — скажут они, завидев меня. Или боюсь, что дома случилось что-нибудь ужасное. Даже когда отлично знаю, что ничего не случилось. Правда, ведь ничего?
— Конечно, ничего. Да, заходил твой брат.
— И что он тебе сказал?
— Он сказал, что ты ненормальный.
— Так это ж правда. Мы с ним оба ненормальные, только каждый на свой лад. Почти все люди хоть самую малость да ненормальные. Если не считать тебя, ты у нас нормальная. Ты единственный нормальный человек из всех, кого я знаю.
— Почему же ты не пришел домой, ко мне? Зачем тебе понадобилось чувствовать себя несчастным и слоняться по дорогам, когда у тебя есть я, а я вполне нормальная?
— Я вовсе не несчастный. Не по-настоящему несчастный. Мое несчастье не назовешь серьезным. Как, вообще-то говоря, не назовешь серьезным очень и очень многое. Вот слушаешь иногда, как двое толкуют о политике, и диву даешься, до чего это все несерьезно. Или бродишь по дорогам и заглядываешь к людям в окна и видишь, что люди принимают всерьез вещи, которые сами по себе не имеют никакого значения. В этом заключается ненормальность большинства людей: они не знают, как мало на свете такого, что имеет значение. Вот смерть — это серьезно, но мы спешим найти для нее имя и место и приступить к ней с лопатой и граблями.
А у нас с тобой все очень серьезно. Я знаю, что лишь одно короткое мгновение мне дано держать тебя в объятиях. И тогда я слышу, как твоя кровь кричит моей, что скоро нас не будет, а моя собственная кровь кричит в ответ, что скоро нас не будет. И тогда счастье становится для меня непосильной ношей, и мне хочется уйти от него своей дорогой и почувствовать себя несчастным и втянуть в свое несчастье других людей. Я должен побыть маленьким ребенком в темноте, чтобы снова его оценить, чтобы эта ноша снова оказалась мне по силам. Серьезно только мое счастье, а не мое несчастье. Только то серьезно, что мы еще молоды и еще немного поживем.
Она склонилась к нему, и он положил руки ей на спину и почувствовал, что спина эта изогнута и напряжена будто для прыжка. Глаза ее оказались совсем близко к его глазам, но он не узнавал их, и попытка определить их цвет и выражение ни к чему не привела, потому что они меняли и выражение, и цвет, покуда он в них глядел.
— Держи меня крепче, — сказала она, — очень тебя прошу, держи меня крепче.
МАЛЬЧИК И МЫШОНОК
Ни одна мать на свете не могла так гордиться своим ребенком, как мать четырехлетнего Бёрге. Беленький, румяненький, он напоминал не просто наливное яблочко, а яблочко из марципана — такие румяные марципановые яблочки, расписанные фруктовыми красителями, обычно украшают рождественские витрины магазинов. Бёрге выглядел до того сладеньким, что у взрослых при виде него текли слюнки, но куснуть его не разрешалось, зато можно было подкидывать в воздух или душить в объятиях. У-тю-тю! — и Бёрге взлетал высоко-высоко, дрыгая толстенькими марципановыми ножками, от него пахло молоком, и его удивленные небесно-голубые глаза становились совсем круглыми. Иным делалось даже грустно, словно они заглянули в свое собственное детство. О, наш утраченный рай чистоты и невинности!
Но все это доставляло удовольствие только взрослым. Бёрге еще не утратил рая, по которому мог бы тосковать, он не знал, что такое невинность, и не испытывал никакой радости, когда взлетал в воздух. А он непременно взлетал, если в доме появлялся великан по имени дядя Фредерик — дядя Фредерик вечно обращался с Бёрге так, будто тот был не мальчиком, а маленьким легким мячом. Лицо у дяди Фредерика заросло огромной, страшной бородой, в дебрях которой прятался большой черный рот, противно пахнущий дымом. При этом дядя Фредерик всегда выпячивал нижнюю челюсть, словно доврский тролль, почуявший человечину. У женщин руки были нежнее, они ласково обнимали Бёрге, но куда было деваться от их глупых вопросов и бессмысленного сюсюканья. У Бёрге начинало сосать под ложечкой, когда наступал воскресный вечер и в гостиной, где собрались родственники, становилось шумно; развалившись в креслах, гости пускали к потолку клубы дыма и были похожи на стадо китов, которые все время толкают и задевают друг друга, оттого что они такие большие. Бёрге охватывал панический страх, и ноги сами уносили его прочь в какое-нибудь укромное местечко.
Аист еще не принес маленькому Бёрге ни братика, ни сестрички, а потому жизнь его была полна тайн, которые с возрастом незаметно уходят издетских воспоминаний. Счастливее всего он чувствовал себя в своих укромных местечках, где его никто не видел. Там он мог подолгу сидеть на корточках, обхватив руками щиколотки и спрятав лицо в колени, он не замечал ни гусеницы, забравшейся к нему в волосы, ни отряда муравьев, которые, завоевав его башмаки, основали там свою спокойно и безжалостно взирала на мальчика, как на птенца, слишком рано выпорхнувшего из гнезда. Но взрослые ничего этого не замечали оттого, что щечки у Бёрге были пухлые и румяные, а взгляд — ясный и доверчивый.
Самым безопасным местом Бёрге считал чердак. Больше всего он любил сидеть там, когда на крышу обрушивался дождь с ветром и все предметы за окном сливались в грязно-белые пятна, которым уже никогда не суждено было снова стать деревьями или домами. Бёрге уютно раскачивался под монотонную музыку дождя, свернувшись клубочком, будто в утробе матери. Приятно было сознавать, что он в надежном укрытии и весь мир про него забыл, никто не мог видеть, как он сидит тут, отколупывая от стены кусочки штукатурки, или дремлет в своем гнездышке среди старых зимних пальто. Все покрывала пушистая пыль, на которой можно было рисовать, а если дунуть на нее, она взвивалась облачками в серой пустыне, набивалась в нос, в рот, и у нее был вкус чулана и одиночества. Чего только тут не было! Ящик с книгами в белых переплетах, а в книгах — картинки, на которых нарисованы сражения и солдаты. И корабли с пушками, извергавшими черный дым; солдаты со свирепыми лицами шли на приступ, и, рассыпая вокруг искры, катилось огненное колесо, похожее на рождественский бенгальский огонь, только гораздо больше. А высоко над землей летели обломки домов и мостов — удивительные, должно быть, истории рассказывались в этих книгах! На одной картинке было нарисовано множество солдат, они неподвижно лежали на поле, изрытом большими ямами. Была ночь, светила луна, и с первого взгляда казалось, будто не солдаты, а большие белые камни усеяли поле. Но стоило присмотреться, и каждый камень превращался в лицо с дырами вместо глаз, и у всех были туловища, но какие-то черные, почти слившиеся с землей. Как только Бёрге брал в руки книгу с этой картинкой, у него начинало учащенно биться сердце, ему вовсе и не хотелось смотреть ее, к горлу подкатывал ком, но он знал, что все равно будет листать книгу, пока не найдет картинку. Может быть, солдаты умерли, так же как дедушка, которого однажды вдруг не стало? Но ведь дедушку забрал к себе Бог, там был большой зал, ярко горели огромные свечи, было много цветов и все люди почему-то молчали. Говорил один только дядя Эмиль, он был в длинном черном сюртуке, и голос у него был чудной, совсем не такой, как обычно… Когда умер дедушка, все было очень красиво, но если человек умирает лунной ночью в поле и никто об этом не знает? И где взять столько цветов и свечей, чтобы хватило на всех? Но самое главное — дедушка умер не по-настоящему, он только погостит у Бога и вернется — так сказали и мама и Гокке. В один прекрасный день в дверь позвонят, и Бёрге увидит дедушку в широкополой шляпе и со свертками под мышкой… Под мышкой — да, но ведь у многих солдат на картинке нет ни рук, ни ног. Как же вернутся они? Или Бог любит только такие души, у которых все цело? Наверно, души, как и люди, делятся на два рода. Одних Бог помещает в большой зал, среди цветов и свечей, а других так и забывает на поле, где они постепенно смешиваются с землей… Конечно, можно было бы спросить об этом у мамы или Гокке, но, кто знает, вдруг они сами пристанут к нему с расспросами и все кончится тем, что ящик с книгами в белых переплетах исчезнет.
Но однажды солдаты скрылись в земле. Прямо на глазах у Бёрге они внезапно превратились в белые и черные пятна на бумаге, их просто не стало. Это произошло в считанные секунды, они уже не вернулись обратно в ящик; пухлая ручонка положила книгу на пол и никогда больше к ней не прикасалась. Что за чудо? Бёрге широко раскрыл глаза, вытаращились в изумлении мутные чердачные окна, и садовый столик, валявшийся на чердаке, вылупил свой круглый белый глаз. Бёрге затаил дыхание, замер весь чердак, дождь с ветром тоже стихли и прислушались. В целом мире раздавался сейчас один-единственный звук — это маленький мышонок проворно сновал среди старой садовой мебели. Не какой-нибудь сахарный мышонок или белая мышь с красными глазами, а настоящий серый дикий мышонок с черными блестящими глазками!
Бёрге случалось видеть мышей и раньше. Однажды дядя Эмиль даже подарил ему мышку, она могла бегать по ковру совсем как живая, и мама с дядей Эмилем смеялись, глядя на нее. Но когда Бёрге взял мышку в руки, оказалось, что она крашеная, твердая и внутри у нее колесико. Бёрге не мог полюбить такую мышку, он нарочно забыл ее в саду, и она потерялась. Потом он видел двух белых мышей в витрине магазина в Копенгагене. Гокке даже остановилась возле витрины, чтобы доставить Бёрге удовольствие, но разве это удовольствие! Посреди витрины стояла клетка, а в клетке был устроен проволочный барабан, в котором сидели две мышки, мышки надеялись убежать из своего барабана, из клетки, из витрины, но убежать не получалось, они только напрасно перебирали лапками и крутили барабан. А перед витриной толпились взрослые и смеялись точно так же, как мама с дядей Эмилем смеялись над заводной мышкой. Все это мгновенно пронеслось в памяти Бёрге и показалось жалким и ненужным по сравнению с тем, что было у него теперь — ведь у него появился настоящий, живой серый мышонок, который бегал без всякого колесика и куда ему вздумается, со временем этот мышонок станет ручным и будет есть у него с ладони!
А пока что… У Бёрге даже защекотало внутри от этого дивного зрелища. Мама, Гокке, все-все, бегите скорей сюда, смотрите, мышонок ест! Он сидит на задних лапках, опираясь на хвост, как будто за настоящим столом, накрытым белой скатертью, и теребит что-то передними лапками с крохотными коготками, словно выколупывает ядрышки из орешков, мордочка у негр подрагивает, и все тельце подрагивает, и круглые ушки восхитительно торчат над головкой. Каждой жилкой Бёрге ощущает радость, ему хочется подкрасться поближе и прикоснуться к мышонку, очень нежно, одним пальчиком, погладить ему спинку. Осторожно-осторожно, широко раскинув руки, Бёрге выпрямляется. Теперь всего один шаг, крохотный шажок на цыпочках и… Руки Бёрге разочарованно опускаются, бурлящая радость угасает. Мышонок сбежал! Раз, и нет его!
Однако не все потеряно! Мышонок живет здесь, на чердаке, чердачная пыль пропитана его запахом. И если Бёрге каждый день будет подолгу наблюдать за ним, не пытаясь его потрогать, в конце концов мышонок начнет есть у него из рук.
Когда Бёрге спускался по лестнице, ему рисовались заманчивые картины: у мышонка на чердаке есть норка, в которой полно мышат, они все тоже станут ручными, будут прибегать на свист Берге и по очереди есть у него с ладони. Он принесет им хлеба, сыру и ваты для норки, а в цветочный горшок нальет молока! Просто непостижимо, сколько у него вдруг появилось дел и забот. В прихожей он остановился и прислушался.
Ara! В столовой звенят ножи и вилки — Гокке накрывает стол к обеду, значит, путь на кухню свободен! Через минуту он, запыхавшись, уже взбежал на чердак с куском французской булки и коркой от сыра. Теперь только нужно было найти место, где мышонок ел в прошлый раз, и скорее вниз, чтобы снова не спугнуть его. Переполненный жгучей радостью, Бёрге прикрывает дверь своей тайны и спускается в сад. Дождь прекратился, воздух прозрачен, и ноги Бёрге подпрыгивают помимо его воли. Железный обруч тоже катится сам по себе. Он вихляет из стороны в сторону и падает прямо посреди лужи. И нет с ним никакого сладу.
Вечером Бёрге не может уснуть. В нем все бурлит и клокочет от радостной тайны, руками и ногами он высоко поднимает перину и держит ее, словно мост на четырех столбах. Наконец он спрыгивает с кровати на пол. Он задумал нешуточное дело, его обнимает тьма, а по углам что-то чернеет, это не может быть просто воздухом. На лестнице под короткую рубашонку забирается ледяной холод, лампочка горит так тускло, что можно не щурясь смотреть на раскаленные нити, перед чердачной дверью светится небольшой желтый круг, а дальше темнеет туловище огромного мохнатого зверя. Бёрге до последнего мгновения не отпускает перила — эту единственную связь с землей, а потом белым комком летит в темноту и присаживается на корточки. Ура! Мышонок нашел хлеб и выгрыз всю середину, оставив большую дырку, сквозь которую можно смотреть. Ах ты, привереда, не любишь корки! Счастье захлестывает Бёрге; обеими руками он подносит хлеб к носу — хлеб пахнет мышонком, Бёрге кажется, будто мышонок уже шевелится у него в ладонях, щекочет их. Он предвкушает этот миг, радость пронизывает его, он сидит, натянув рубашку на колени, сопит от восторга, и на темном чердаке становится светлее. Привидений и след простыл. А мохнатый зверь съежился от стыда, повернулся к Бёрге спиной и оказался просто-напросто старым диваном…
Прошла неделя. На тихом, сумрачном чердаке бледным ростком, таящимся от яркого света, выросла дружба между мальчиком и мышонком. Бёрге подолгу сидит, спрятав подбородок в воротник свитера и прислушиваясь к голосам и хлопанью дверей, доносящимся снизу, а вокруг медленно опускается пыль, и вещи громоздятся на чердаке, подобно безмолвным горам. Где-то здесь прячется мышонок, из каждого угла за Бёрге наблюдают черные угольки-глазки, вслушиваются настороженные ушки — мышонок всюду и нигде… Но вдруг зашуршит газета, мелькнет из-за ящика кончик хвоста, и перед немигающим взглядом Бёрге непостижимо близко покажется весь мышонок — с глазками, хвостиком и трепещущей шерсткой. Берге назвал мышонка Петером, теперь, когда он произносил шепотом: «Петер!» — и тихонько свистел, мышонок уже не убегал, а, напротив, как будто даже подходил поближе. И вот наступил день, когда Петер приблизился настолько, что Бёрге мог бы протянуть руку и коснуться пальцем его хвоста! Но Бёрге не сделал этого, наоборот, он втянул руки в рукава и лишь после того, как мышонок шмыгнул в свой угол, вздохнул свободно. В голове у него все смешалось, ноги обмякли.
Иные невероятные события нужно осмыслить погодя, только так поймешь их истинное значение. Лишь вечером, уже лежа в постели, Берге наконец осознал случившееся: он свистнул, Петер прибежал, сел напротив и уставился на него. Потом Бёрге протянул ладонь, на которой лежал кусочек хлеба, Петер взбежал ему на руку и начал есть. Он стал ручным!
То, что у Бёрге был собственный ручной мышонок, который ел с его ладони, для которого он добывал французскую булку и молоко, никого не касалось, и говорить об этом никому не следовало. Душу Бёрге переполняло счастье, иногда прорывавшееся ликующим смехом, а мама и Гокке сидели за столом со скучными лицами и ни о чем не догадывались. Но Бёрге не мог долго молчать и однажды на кухне проговорился. Он сидел на плетеной корзине, а Гокке большими красными руками мыла посуду.
— А ты не знаешь, что у меня есть! У меня есть мышонок, настоящий, живой мышонок!
— Что-что, милый? — Руки замерли в тазу с посудой. — Живой мышонок? Откуда он у тебя?
И Бёрге все рассказал. И про глазки, и про носик, и про мордочку. Он вовсе не собирался об этом рассказывать, ему хотелось только чуть-чуть приоткрыть свою тайну и снова спрятать ее, но он не рассчитал своих сил, и тайна вырвалась наружу. Он размахивал руками, колотил пятками о корзину, он мчался вперед закусив удила. Желаемое выдавалось за действительное, еще не сбывшиеся мечты и ночные фантазии — все закружилось и понеслось. Чердак кишел мышами, которые появлялись, стоило ему свистнуть, они следовали за ним по пятам, ели у него из рук, кругом были норки с розовыми мышатами, и старый самец с поседевшим кончиком хвоста был мышиным королем. Ничего удивительного, что Гокке так и загорелось немедленно увидеть все своими глазами — чашки и тарелки могут подождать! Бёрге уже тянул ее за передник. Пошли! Он первый бросился на чердак.
Но посреди крутой лестницы пухлые ножки в носочках вдруг остановились. Ничего особенного там на чердаке нет. Да и время сейчас неподходящее, мышата приходят, только когда стемнеет. К тому же они слушаются одного Берге, потому что его они не боятся. Кто знает, как будет при посторонних…
Однако Гокке ничего особенного и не ждала. Она лишь взглянула на кусочек хлеба, выеденный посередине, и сморщила нос на черные продолговатые зернышки, которые в изобилии валялись вокруг. Вот и все. Потом она прошлась по чердаку, шаркая большими плоскими ступнями, накрыла газетами несколько стульев и внимательно все оглядела, отвечая Бёрге односложно и невпопад.
В тот же вечер и произошли неожиданные и роковые события, неизбежные, когда в дело вмешиваются взрослые. День Бёрге уже завершился вечерней молитвой, и на лестнице стихли шаги матери, как вдруг прямо у него над головой раздался грохот, будто кто-то уронил груду кубиков. Перина взметнулась, точно земля, выброшенная кротом, охваченный отчаянием Бёрге уставился в темноту. Грохот сменился странным скрежетом, а потом наступила тишина, которая все знала и молчала.
— Петер! — громко позвал Бёрге и обнаружил, что его ноги действуют сами по себе: раз — он сел на постели, два — спрыгнул на пол, три — бегом на лестницу, дверь сама захлопнулась за ним. На лестнице он упал и ушиб ногу, но даже не заметил этого — в ушах все еще слышался страшный грохот. На чердаке он увидел какую-то четырехугольную дощечку, на ней застыл Петер.
Глаза у Бёрге стали совсем темными и большими. Взгляд был прикован к спинке Петера… такой неподвижной. Задние лапки были поджаты и не доставали до пола, хвостик безжизненно свешивался с дощечки. Бёрге нежно подул на мышонка, тонкие серые волоски шевельнулись, обнажив белый подшерсток, но сам Петер не двинулся. Тогда робкий палец скользнул по спинке Петера, и опять — неподвижность и безмолвие. Нет! Не может быть! Страшная догадка осенила Бёрге, он потянул Петера за хвост. Дощечка двинулась вместе с мышонком. Петер был зажат намертво.
Больше Бёрге уже ничего не видел. Рот у него раскрылся, губы беззвучно дрожали, и наконец он закричал, он кричал все громче и громче, пока крик его не заполнил весь дом. Ма-ма! Ма-ма! Он схватил дощечку и стал ее трясти. Петер безжизненно колотился о руку Бёрге. Ма-ма! Ма-моч-ка!
Гостиная была залита теплым, мягким светом, мать шила, Гокке читала вслух. Когда хлопнула дверь и на лестнице что-то грохнуло, обе вскочили. В гостиную, не помня себя, ворвался Бёрге, в короткой рубашке, по щекам у него текли слезы. А в руках… Господи! В руках он держал мышеловку с дохлой мышью.
Гокке издала вопль. Глупо визжа, словно ей щекотали пятки, она бросилась к окну. Однако строгий взгляд матери заставил ее вернуться на место. Следовало запереть чердак: подобные переживания вредны для ребенка. Мать вынула мышеловку из ручки Бёрге и, повернувшись к нему спиной, нажала пружину и высвободила мышонка. Петер лежал на всемогущей руке матери такой хорошенький, такой целенький, правда, он лежал неподвижно, но был живой. Конечно, он был живой! Бёрге сидел на коленях у матери, его приласкали, приголубили, вытерли глазки и носик.
— Ну будет, будет! Гокке вовсе не хотела причинить зло мышонку, она устроила ему домик, но домик оказался маловат, и бедного мышонка прищемило дверью. Разве она виновата?
Мать порылась в своих ящиках и нашла коробку с красивой розовой ватой, в которой когда-то лежала серебряная ложечка.
— Сейчас мы осторожненько положим мышонка на вату, а другой ваткой укроем его, как одеяльцем. Видишь? Теперь давай поставим коробку к теплой печке, за ночь мышонок поправится, а рано утром мы отнесем его обратно на чердак. Вот он обрадуется…
Вяло и неохотно Бёрге позволил уговорить себя. Голос у матери был сладкий и золотистый, как мед, ее взрослые, всемогущие руки все уладили, все устроили, проводили его в детскую, уложили в постельку, подоткнули перину. Бёрге и мать снова прочли вечернюю молитву, их слившиеся голоса поднимались над детской кроваткой к доброму Боженьке, прося его позаботиться о мышонке и возвратить ему здоровье. Все неприятности остались позади…
Однако утром Бёрге проснулся намного раньше обычного и никак не мог понять, рад он или нет. Мир как будто опрокинулся. Прежде Бёрге часами сидел на чердаке, прислушивался, ждал и этого ему было довольно. К нему прибегал Петер, с круглыми ушками и маленькими блестящими глазками, вокруг царило одиночество, пахло пылью, и крышу сотрясали удары ветра… Но вот в дело вмешались взрослые. Гокке притащила на чердак свою дощечку, раз! — и Петер уже сидел на ней, поджав задние лапки, а хвостик его безжизненно свисал на пол, и уже не было слышно его легкого попискиванья, зато вместо него раздался истошный визг Гокке. И взрослые мамины руки вертели Петера так и сяк, точно он вещь, а потом уложили его в коробку с розовой ватой. И все это время Петер лежал скрюченный и неподвижный, словно ни розовая вата, ни кафельная печка, ни мамины руки ничем не могли ему помочь. Нет, больше уже никогда не будет так, как было…
Вопреки обыкновению Бёрге не позвал мать, он сам встал и оделся. Он тяжело дышал, его томили недобрые предчувствия. Пока он спал, часто что-нибудь случалось… То птичьи гнезда оказались разоренными… То маленькие светлые рыбешки из речки, которые накануне вечером еще резвились в лохани, похожие на серебристые молнии, в такое же погожее утро, с круглым красноватым солнцем и пронзительно-свежим воздухом, всплыли кверху брюшком… Бёрге замер, натянув чулок до половины, — он вспомнил, как сидел на корточках перед лоханью и дул на рыбок, чтобы оживить их, но они не оживали, глядя куда-то круглыми желтыми глазами и безжизненно покачиваясь на воде… Дедушка гостит у Бога, он еще вернется домой, а бедных маленьких рыбок выплеснули в помойное ведро и закрыли ведро крышкой — они уже никогда не вернутся…
Это воспоминание еще больше насторожило Бёрге. На цыпочках, чтобы не шуметь, он спустился вниз и, приоткрыв дверь, заглянул в гостиную. Окна были распахнуты, ковер свернут, вместо ящика для золы у печки зияла черная, холодная пустота. Коробка с розовой ватой стояла на прежнем месте — на стуле возле печки. Но Петера в ней не было. Петер исчез. Его поглотило утро, принадлежавшее взрослым, с его бренчанием ведер, плеском воды и суетливой половой щеткой, сметающей все подряд… За стеклянной дверью орудовала Гокке, руки у нее были красные, и голова повязана платком.
Ни о чем не спрашивать! Скорее в сад! И никому не попасться на глаза!
Бёрге крался по дому, как вдруг дверь отворилась и на пороге появилась мать. Оба вздрогнули, одно мгновение это были вовсе не мама и ее маленький Бёрге, а взрослая женщина и четырехлетний ребенок, которые неожиданно увидели друг друга и испугались. Но вот мать подошла к Бёрге и прижала его голову к своему переднику, шея мальчика была не очень податлива, а рука матери не такая нежная, как обычно.
— Ты только подумай! Сегодня утром, когда я спустилась вниз, наш мышонок был уже совсем здоров и сказал, что ему хочется вернуться на чердак. Тогда мы с Гокке отнесли его наверх, и теперь он там вместе со всеми мышами и мышатами. На прощание он просил передать привет маленькому Бёрге и сказать ему, чтобы он больше не приходил на чердак — там очень грязно да и мышки не хотят, чтобы им мешали…
Сказав это, мать нежно погладила Бёрге по головке. Он ни о чем не спросил, только кивнул, не поднимая глаз, и осторожно высвободился из ее объятий. Скорее в сад! Зачем мама обманывает его? Ведь она знает, что мыши не умеют разговаривать. Они могут прибежать, если ты посвистишь, могут смотреть на тебя. Но говорить они не умеют.
Бёрге несколько раз обошел вокруг дома. Он брел не спеша, постукивая длинной палкой, как будто ничего не случилось. В саду он остановился и быстро взглянул на окна, чтобы убедиться, что за ним никто не наблюдает. А потом подбежал к помойке и поднял крышку мусорного бака.
О нет, он нисколько не удивился. И не заплакал. Ведь он уже знал. Но все-таки у него так сдавило грудь, что стало трудно дышать. Как странно! Он держал Петера в руке и ничего не ощущал. Его руки и ноги как будто онемели.
Петер лежал на спинке, вверх белым брюшком, лапки были согнуты. Изо рта торчали длинные передние зубы, совсем как у дяди Эмиля, когда тот улыбался. Шкурка Петера была испачкана в золе. Бёрге подул, чтобы зола слетела. Он подул Петеру на глазки, но они так и остались чуть-чуть прикрытыми. Их уже затянуло пленкой, и они ничего не видели. Петер был мертв. Мертв. Теперь Бёрге знал, что это такое.
Все утро Бёрге просидел в своей ямке под живой изгородью, уткнувшись лицом в колени. Ему хотелось бы просидеть так всю жизнь и никогда не вылезать отсюда. Но когда Гокке позвала его, он все-таки вылез, и щечки у него были, как всегда, пухленькие, и выглядел он как ни в чем не бывало. Мамин сладкий поросеночек и нянин ненаглядный королевич…
КОРАБЛЬ
Отец умер, когда мне было двенадцать лет. Они много раз говорили с матерью, что надо бы ему лечь в больницу, но всякий раз что-нибудь мешало, не одно, так другое, то времени нет, то денег. По воскресеньям отец вообще не вставал с постели, да и по будням, приходя домой, сразу укладывался на диван в маленькой комнате и укрывал ноги одеялом. Потом он глубоко и с явным облегчением вздыхал, потому что лежать ему было удобно и хорошо. Обед ему подавали на подносе, а мы, дети, сидели в столовой все четверо и не смели ничего сказать, хотя и не понимали, почему отец вечно лежит только из-за того, что у него болит живот. Это мать нам так объяснила, когда мы спросили: у него боли в желудке. Объяснение показалось нам смешным, помнится, мы про себя решили, что отец нарочно выдумал свою болезнь, чтобы побольше лежать и поменьше работать. По утрам он вставал с трудом, а перед тем как встать, долго лежал на спине, совсем тихо, и глядел в окно. Едва ли он много чего там видел, он был очень близорукий, а его пенсне лежало на тумбочке возле постели. Когда он снимал пенсне, мы, дети, старались не смотреть ему в глаза, они у него были такие подслеповатые и с красными веками. И все же, как я теперь припоминаю, он провел не одно утро, лежа и глядя в окно. Мать обычно поднималась в шесть, чтобы прибраться, после восьми она заходила в спальню, на ней был большой фартук, и она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу.
— Вильхельм, я только хотела спросить: ты собираешься вставать или останешься в постели? А то, если ты сейчас же не поднимешься, тебе уже не поспеть в контору.
Отец всегда послушно вставал, но одевался долго-долго, а мы, дети, знали эту уловку по собственному опыту, мы так же вели себя, когда не хотели идти в школу. Хотя вообще-то смешно, если так ведет себя взрослый человек. А может, мы чувствовали отношение матери, хотя она никогда не говорила с нами ни об отце, ни о его болезни.
Заболел он осенью, в ту пору, когда рано темнеет, и в сумерках мы четверо иногда заходили к нему и сидели, пока не зажгут лампу. Он любил расспрашивать, как у нас дела в школе и чем мы вообще занимаемся. Мы же терпеть не могли об этом рассказывать. А от того, что он все время силился погладить нас и говорил торжественным тоном, нам легче не становилось. Голос у него то и дело срывался, словно он вот-вот заплачет. Мы знали, что это вполне может случиться, он уже не раз плакал при нас. Поэтому мы держались с ним боязливо и настороженно, почти ничего не говорили и мечтали только об одном: как бы поскорей уйти. И все же я хорошо помню, как мы сидели в сумерках перед постелью отца, как лицо и руки у него постепенно делались совсем белые, а все предметы в комнате — серые, неясные и под конец сливались воедино с наступавшей темнотой.
Однажды, воротясь домой из школы, мы увидели на дверях записку, что отец с матерью поехали в больницу и чтоб мы шли к тетке и остались у нее. Мы очень обрадовались этой записке: почти всякий раз, когда будни выбивались из привычной колеи, мы воспринимали это как праздник. Еще я помню, что тетка напекла нам блинов, что мать так и не пришла и что мы заночевали у тетки. Она уложила всех четверых в одной комнате, мы разговаривали и смеялись в темноте и заснули гораздо позже обычного. А на другой день мы не пошли в школу, и тетка прямо с утра отвезла нас всех четверых на машине в больницу. Мы первый раз ехали в автомобиле, мы во все тыкали пальцами, кричали и ерзали на сиденьях. Но в больнице мы сразу притихли от странного запаха, длинных-предлинных коридоров и от того, что все кругом такое белое. Мы старались держаться поближе друг к другу, боязливо стискивая в руках шапки.
Мы вошли в большую комнату, где вместе с другими людьми лежал отец. Все лежали на белых железных кроватях под красными одеялами. Я испугался и оцепенел от ужаса при виде красных одеял, я решил, что красное — это кровь, что люди просто истекают кровью под своими одеялами. Матери там не было, а отца мы увидели не сразу, но под конец все-таки увидели и подошли к окну, возле которого стояла его кровать. Прижавшись друг к другу, мы остановились чуть поодаль, тетка же прошла вперед и наклонилась к нему, а немного спустя он чуть оторвал голову от подушки, заулыбался, закивал, и тогда мы осторожно подошли поближе и обступили кроваво-красное одеяло. Оно гладко стелилось по кровати, словно под ним не было никакого тела, а нос у отца вдруг стал большой-пребольшой, а рот — длинный-предлинный, и губы обтягивали его так плотно, что, даже когда рот был закрыт, сквозь них все равно проступали зубы. Отец пытался что-то сказать, но со страху мы ничего не разобрали, и тогда он замолчал и только молча улыбался. Но его улыбка тоже пугала нас, потому что зубы у него стали куда длинней, чем раньше, и напоминали лошадиные. Нам не терпелось поскорей уйти. Его рука выползла из-под одеяла и начала что-то искать. Пришлось нам, каждому по очереди, подойти и пожать ее. Но я даже не помню, как пожимал, потому что вообще ничего не чувствовал от страха. Голос к отцу вернулся, и он начал бормотать что-то невнятное, насколько я мог разобрать, он бубнил свое обычное: как у нас когда-нибудь все будет хорошо, и про дом, который у нас будет на берегу Фуресё, и про парусную лодку, и про козлика для меня. Он столько раз нам все это обещал, но мы давно уже перестали его слушать, мы уже знали, что ничего этого не будет. Покуда он так бормотал, глаза у него сами собой закрылись, потом и рот закрылся, и под губами выступили очертания зубов. Тетка поспешила нас увести. Но отец, должно быть, все-таки заметил, как мы уходим, потому что у самой двери мы увидели, как он снова оторвал голову от подушки и начал кивать нам и улыбаться, скаля длинные зубы.
А к концу дня отец умер. Узнали мы об этом лишь назавтра и сразу притихли и как-то смутились. До сих пор мы, честно говоря, думали, что он преувеличивает свою болезнь, да и как вообще можно умереть от того, что у тебя болит живот? Нам объяснили, что это называется рак. Целую неделю мы прожили в доме у дяди, за городом, нам даже разрешили не ходить в школу, но на душе у нас было как-то неспокойно, и мы старались держаться поближе друг к другу из-за этой страшной болезни, которая называется рак. Мы стояли все четверо в уголке сада и говорили о ней, а сестра подняла с земли яблоко и показала на нем твердое коричневое пятно, она думала, что это и есть рак. А у человека может быть внутри такое затвердение? Наверно, оно бывает у того, кто ест много яблок? Нет, не то, и мы отшвырнули яблоко, потому что все равно ничего не поняли.
Впрочем, мы скоро забыли про отца и про то, как он умер: слишком много нового произошло за эти дни. Дядя всем нам справил новое платье и новые ботинки, брат получил вдобавок велосипед, а я козла на колесиках. Мы понимали, что нам дарят все это, потому что у нас умер отец. Когда отец был жив, он много раз обещал купить мне живого козлика, но так и не выполнил свое обещание, а когда он умер, я получил козла на колесиках; у козла была настоящая шерсть, и настоящие рога, и настоящие желтые глаза, и в каждом глазу — по черной полоске. Я хорошо помню все подробности, я помню, как проснулся в первое утро и увидел, что он стоит на привязи подле моей постели. Вот что было для меня важней всего, важней, чем смерть отца. И желтые козлиные глаза я до сих пор помню куда лучше, чем глаза родного отца. А какие у него были глаза? Я хорошо помню стекла пенсне, которые сверкали и отражали свет, но, когда отец снимал его, я пугался при виде этих подслеповатых глаз с красными веками. Да и вообще я только в последнее время начал по-настоящему вспоминать отца: на рассвете я лежу порой без сна и пытаюсь представить себе, каким же он все-таки был. Я делаю это отчасти против воли и, может быть, несколько преувеличиваю. Утренние часы — не лучшее время для воспоминаний.
Мой отец был из породы неудачников. Лишь теперь, став взрослым, я могу понять, что в жизни у него с самого начала все шло наперекосяк. В молодости он мечтал стать моряком, но спустя год или два мой дед заставил его расстаться с морем и пустил по таможенной части. Когда же отец женился, моя мать при активном содействии своей родни заставила отца бросить таможню и вложить деньги в собственное дело. Дело это заключалось в снабжении судов провиантом, для чего у отца был в гавани оборудован склад, и, когда приходили иностранные суда, он выезжал им навстречу и продавал припасы. Я тогда был еще совсем маленький. Жили мы на Хавнегаде в большой квартире с длинными белыми кружевными гардинами и старинной мебелью красного дерева — мать принесла эту мебель в приданое, когда-то она стояла в доме у ее родителей. Отец поджидал корабли, держал при себе списки всех кораблей, о кораблях ему докладывали по телефону, мне кажется, что отец был готов в любую минуту надеть форму, чтобы затем подняться на борт. Форма у него была не настоящая капитанская, он ведь и не дослужился до капитана, но пуговицы с якорем на синем сукне и фуражка-капитанка делали ее похожей на капитанскую. Отец уходил в своей форме, потом возвращался, что-то записывая, хлопотал над своими списками и таблицами. Вот только хлопоты, возможно, были пустые, почем мне знать, хотя все время казалось, будто мы стоим на пороге важных событий: вот он побывал на одном корабле, вот он с уверенностью предсказывает сделку с другим и третьим. Мать, судя по всему, не желала вместе с ним пересчитывать его корабли, и, когда он, сидя за столом, заводил о них речь, мать иногда резко обрывала его замечанием, что лучше бы он не брал столько мяса. Отец поспешно перекладывал уже взятый кусок обратно на блюдо, и на лице у него появлялось какое-то странное выражение. Вообще лицо у него было большое, темное, все в глубоких морщинах и складках, потому что он вечно гримасничал, а тут складки вдруг становились глубже и словно обвисали, и в глазах, когда он клал мясо обратно, вспыхивал испуг. Он больше не рассказывал про корабли, и все мы какое-то время сидели молча, а моя старшая сестра прямо вся багровела, и казалось, она вот-вот фыркнет. Но, конечно, не фыркала, она боялась матери. Мало-помалу и мы трое пришли к выводу, что, когда отец, гримасничая, с торжественным видом рассказывает про свои корабли или когда мать вдруг скажет что-нибудь такое, от чего отец того и гляди расплачется, это очень смешно. Мы не понимали, что обидного в ее словах, но однажды он встал из-за стола и ушел в другую комнату; его тарелка с вилкой и с едой так и осталась на столе, а вот салфетку он зажал в руке, и мы представляли себе, как он там сидит, прижимая салфетку к глазам. Мать продолжала есть как ни в чем не бывало, но мы четверо только потому и удерживались от смеха, что избегали глядеть друг на друга. Вот какой был у меня отец, на редкость мягкий и несдержанный. Мы никогда не могли угадать, с чего он вдруг зальется слезами или впадет в торжественный тон. Мог он также громко рассмеяться, когда мы не находили ни малейшего повода для смеха, а мог и вспылить без всякой видимой причины и задать нам взбучку. Он ни разу никого из нас не ударил больно, но потом всякий раз так бурно раскаивался и сажал нас на колени, что это было еще хуже, чем побои. Мы и смеялись над отцовскими кораблями, гримасами, чувствительностью, и немного стыдились его.
Может, я зря говорю «мы», ведь это остальные смеялись или стыдились всякий раз, когда он делал что-нибудь не так. Я был много их младше, я почти ничего в этом не смыслил, я просто смеялся, когда смеялись они, я просто соглашался с ними. А на деле я вел себя как двурушник, потому что в глубине души восхищался отцом и его морской формой и любил слушать, как он рассказывает про корабли. Просто я не смел в этом признаться. Когда трое старших уходили в школу, я, чуть приоткрыв дверь, заглядывал в большую угловую комнату, где он сидел над своими списками и таблицами. Мать строго-настрого запретила мне так делать, но я все равно заглядывал, когда ее не было дома, поскольку Давно уже смекнул, что отец не очень-то и занят. Чаще он вовсе не работал, а сидел у окна со своей подзорной трубой или с толстой книгой, где было нарисовано много всяких кораблей. И когда я, бывало, немного постою так, прильнув глазом к дверной щели, он почти всегда окликал Меня и сажал к себе на колени и показывал корабли, нарисованные в книге, и объяснял их устройство, но я предпочитал сидеть вместе с ним у окна, глядеть в подзорную трубу на гавань, и на море, и на корабли, которые заходили в гавань и выходили из нее. Отец знал, какие это корабли, Даже когда они были совсем далеко и в подзорную трубу казались совсем крошечными, нередко он знал также, как они называются и из какой страны прибыли. Я сидел у него на коленях и глядел снизу вверх на его большое, темное лицо с глубокими морщинами, на глаза, прищуренные, чтобы лучше видеть, на волосы с пробором посередине, так что они поднимались, словно крылья, по обе стороны головы. Я слышал, как изливается на меня его голос, иногда голос был низкий, иногда — пронзительный и срывающийся. Срывался он, когда отец входил в раж, а входил он часто, ведь внизу, в гавани, сновали взад и вперед маленькие буксирные суденышки и тянули за собой большие корабли с палубой и каютами — будто один дом поставили на другой, — с красными и черными трубами на самом верху, а на стенах у отца висели изображения кораблей, а в шкафу было полно книг про корабли и папок с картами, до того большими, что их приходилось расстилать на полу. Мы не всегда слышали, как мать поворачивает ключ в замке входной двери, иногда она успевала зайти в комнату и заставала нас за этим занятием. Не припомню, чтобы она когда-нибудь рассердилась на меня за то, что я сижу у отца, она просто стояла в пальто и спрашивала отца, не забыл ли он сделать то, не забыл ли это. Оказывается, отец действительно забыл то и это, и вот он уже сидел за столом и шуршал бумагами, а я спешил улизнуть. И хотя мать не подавала виду, я после этого по нескольку дней не смел заглянуть к отцу.
Мне было девять лет, когда мы переехали с Хавнегаде в другую квартиру, много меньше прежней, впрочем, я давно уже предчувствовал такие перемены. Началось с того, что нам четверым пришлось освободить нашу общую комнату и туда вселился какой-то незнакомый студент, который стал есть с нами за одним столом. Звали его Пансионер. Поначалу на отца нападала разговорчивость, он без умолку рассказывал о кораблях, но Пансионер давал на все односложные ответы, а потом мать начинала посылать отцу многозначительные взгляды, и он затихал. Трапезы у нас стали гораздо изысканней, чем прежде, мать глазами рассылала приказы, Пансионер получал самые лучшие и самые большие куски, а мы четверо довольствовались чуть ли не одной картошкой. Но мать и на нас смотрела многозначительным взглядом, передавая нам тарелки, и поэтому мы помалкивали, хотя не могли понять, на кой он нам сдался, этот Пансионер. Нам не разрешали шуметь, потому что он занимается, мать кружила по квартире и тоже молчала; даже когда мы с ней выбирались в город, она и на улице смотрела прямо перед собой и не слушала, что я говорю. Она хоть и отвечала «да» и «нет», но все равно не слушала.
А вечерами иногда приходил наш дядя Эрик и разговаривал с отцом в большой угловой комнате. Дверь тогда плотно закрывалась, но мы все-таки слышали, что они там считают и шуршат бумагами. Дядя Эрик все задавал вопросы, а мой отец невнятно ему отвечал, и тогда дядя Эрик повторял вопрос более резко. Точно так же вел себя наш учитель. Потом дядя Эрик долго шептался с матерью за закрытой дверью, а вечером, лежа в темноте, мы с братом могли слышать, как разговаривают отец с матерью, причем мать лишь изредка тихо произносила несколько слов, и мы представляли себе, как она переступает с ноги на ногу, а отец ходит по комнате взад и вперед и все говорит, говорит. Голос у него был низкий и хриплый, но порой делался высокий и пронзительный, словно вот-вот сорвется на плач. Однажды вечером мы услышали, как он взаправду плакал, но слезы ему, кажется, не очень помогли. «Вильхельм, — только и сказала мать, — возьми себя в руки». На другой день мы вчетвером обсудили это событие в подворотне, и старшая сестра сказала, что она знает, в чем дело, только сказать нам не может. «А все отец, — завершила она свои слова, — ух, как я его ненавижу!» Она прямо глазами сверкала от злости, а я никак не мог понять, в чем провинился отец, за что его так ненавидят, но остальные делали вид, будто им все понятно, и я не посмел ничего сказать.
Короче, кончилось тем, что мы переехали с Хавнегаде в Нюхавн, а там было всего три маленькие комнатушки и еще одна каморка как раз над воротами. Для всей нашей мебели и других вещей здесь бы места не хватило, но часть заблаговременно увезли: к нам приходили два человека в фуражках и с портфелями и все у нас переписали. Мать водила их, показывала им наши вещи, чтоб они могли все разглядеть, под конец они прошли в угловую комнату отца и осмотрели все, что у него есть. Отец тем временем бродил взад и вперед по нашей столовой, где играл я, но я не пытался заговорить с ним, у него было такое странное лицо. Через несколько дней приехали с фургоном и забрали наши вещи, а отец стоял у окна и глядел, как их выносят. Вынесли толстые книги с рисунками кораблей и большие папки с листами и картами. Я понял все происходящее так, что отцу они больше не нужны, раз склад в гавани все равно продан, и теперь у отца не будет больше своей конторы, а займется он совсем новым делом и будет называться учетчик рыболовных судов. По-моему, это звучало очень изысканно.
Едва мы переехали на новую квартиру, отец сразу развеселился, глядя на все эти перемены, и начал говорить без умолку, и строил планы, а каморку над воротами обставили так, что она стала похожа на взаправдашнюю каюту, и подвесили к потолку зеленый корабельный фонарь. Там он сидел в свободное время, как и прежде, занимаясь списками кораблей и их курсов, ведь он затеял издавать новый навигационный справочник и поставил себе целью, чтоб им пользовались все, кто ходит в море. Поэтому мы живем здесь только временно, а едва его замысел со справочником вполне осуществится, он купит дом, который уже давно присмотрел, дом на берегу Фуресё с причалом и парусной лодкой. Мать перебивала его почти всякий раз, когда он заводил речь про дом и про лодку, а брат и сестры упрямо молчали, словно не верили ни единому слову. Но я после обеда частенько сиживал в отцовской каюте и слушал его рассказы про парусную лодку: мы вдвоем сами ее оснастим и она будет такая-то и такая-то. Он вынимал лист бумаги, чтобы начертить, какая она будет, но через некоторое время лодка под его рукой превращалась в настоящий корабль, трехмачтовый, с великим множеством разных парусов, с полным такелажем, и отец называл мне каждую Деталь в отдельности и объяснял, как она устроена. Сперва я слушал отца, а потом заводил речь про обещанного мне козлика, и конечно же, конечно, у меня будет козлик, и сарай для него, и тележка, которую он будет возить. Отец даже рисовал козлика, и тележку, и меня в той тележке. Но разговор неизменно возвращался к кораблю. Иногда в наш корабль вторгалась мать, и тогда отец поспешно хватался за свой справочник либо начинал куда-то звонить по телефону. Брат и сестры насмехались надо мной, потому что я верил в дом на озере, и тогда я начинал делать вид, будто тоже не верю. Но втайне я все-таки ждал, что у нас будет новый дом или, на худой конец, у меня будет козлик.
Жили мы в старом доме, стены там все покосились, потолок был низкий, пол покатый, коридоры узкие и множество темных углов, где хорошо играть в прятки. Из окна в отцовской каюте мы теперь не могли видеть большие корабли, входящие в гавань, зато мы видели, как длинными рядами выстраиваются вдоль пристани шхуны. Порой за окном висел туман, тогда мы только слышали шаги и голоса и еще могли видеть целый лес мачт, еле различимых в тумане. А когда за окном сияло солнце, мы видели на потолке длинные полосы света, отраженные водой, они трепетали и колыхались, как волны, и, если какое-то время поглядеть на них, казалось, будто ты сидишь в самой настоящей каюте на борту плывущего корабля. Словом, я считал, что мы живем в отличном месте. Но брат и сестры сердились, они начали шушукаться по углам, меня в свои тайны не посвящали, но я все равно знал, что они злятся и обвиняют во всем отца. Брат как-то сказал за обедом, что не хочет приглашать к себе товарищей на день рождения. Причин он не объяснил: не хочет, и все тут. Но у отца сразу проступили все складки на лице и голос сделался надтреснутый, а через несколько минут он поднялся из-за стола и ушел к себе в каюту, как всегда прихватив салфетку. Мать, казалось, ничего не заметила и вопросов задавать не стала, но она, конечно же, поняла, что мой брат не желает, чтобы к нам приходили его друзья, так как стыдится нашей квартиры. Вдобавок в соседнем доме был трактир с музыкой, по вечерам там сильно шумели, отчего мать не могла заснуть. Правда, она никогда не жаловалась, но мы все равно об этом знали, и старшие очень на меня сердились, если я не сразу делал, как она велит. Получалось так: раз мать не спит по ночам, мы должны помогать ей изо всех сил. А однажды вечером старшая сестра прибежала домой вся в слезах, потому что какой-то мужчина чего-то ей сказал в подворотне. Моей сестре исполнилось четырнадцать лет, она была высокая и толстая, и я никак не мог понять, что от нее убудет, если какой-то мужчина чего-то ей скажет в подворотне, но сестра все рыдала и рыдала в спальне у матери и все никак не могла успокоиться. Отец тем временем сновал из угла в угол по своей каюте, а потом мать долго с ним разговаривала, и после этого разговора несколько дней подряд он был ужасно занят своим справочником и сердито отмахивался, если я к нему заглядывал.
Но и затея со справочником ни к чему не привела, и дяде Эрику опять пришлось вмешаться. Как-то днем он внезапно возник у нас, по-моему, он заранее уговорился с матерью, потому что я слышал, как они шепчутся в передней, перед тем как ему пройти к отцу. В каюте сразу зазвучали громкие, сердитые голоса, можно было подумать, что они там подрались, и лишь после вмешательства моей матери они снова занялись бумагами и цифрами, как прошлый раз на Хавнегаде. На этом все и кончилось. Я понял случившееся так, что отец собирался издавать справочник в компании с другим человеком, а другой человек его обманул и мы задолжали уйму денег владельцу типографии.
После истории со справочником мы долгое время были совсем бедные, это время сохранилось у меня в памяти как бесконечная зима с дождем и мокрыми улицами; после уроков мы в сумерках садились за стол и ели кашу либо суп из пахтанья. Мать почему-то держалась как-то отчужденно и только подавала еду, а отец не говорил больше о кораблях, он вообще молчал и торопился встать из-за стола и уйти к себе. Родственники матери дарили нам ношенные вещи, мать их перешивала, а три раза в неделю она ходила на вечерние курсы, чтобы научиться шить на людей за деньги. В эту пору мы не сразу открывали дверь, когда позвонят, а сперва глядели в щелочку между гардинами, чтобы узнать, кто там: очень часто звонили посыльные из магазинов, а то и вовсе человек в фуражке. Мы отлично знали, что они приходят со счетами, и моя старшая сестра злилась, почему отец сам не выйдет поговорить с ними, но отец никогда не выходил, он сидел у себя в каюте и делал красным карандашом пометки на больших листах, покрытых печатными буквами. Листы назывались корректура. Корректура — это была новая работа, которую родня матери для него подыскала, возни с ней было много, отец даже запирался, чтобы ему не мешали. И все равно нам звонили и спрашивали, когда он ее наконец сдаст, после чего он совсем терял голову, и в последнюю минуту ему на выручку приходила мать. Но я прекрасно понимал, почему отец сам не справляется: он вовсе не читал корректуру, когда запирался от домашних на ключ. Он мастерил корабль.
Уж и не помню, как я об этом узнал, помню только, что не сразу: когда я увидел корабль в первый раз, он был уже наполовину готов. Словом, я его увидел, и отец знал, что я его увидел, и некоторое время он принадлежал нам обоим. Отец взял с меня клятву никому ничего не рассказывать, ни матери, ни остальным, чтоб для них получился сюрприз, когда все будет готово, но всякий раз, когда мы с ним оставались дома одни, он разрешал мне зайти к нему и глядеть, как он работает. Длиной корабль был в один локоть, отец строил его точно по чертежу настоящего корабля, он сделал три мачты и весь сложный такелаж, на снасти он брал тонкую леску и продергивал ее через крохотные тали. Постройка корабля заняла всю зиму, бесконечно долгую зиму, у меня так и стоит перед глазами круг света от лампы на столе и руки отца с тоненькими ниточками либо кусочками дерева. В этих руках мне чудилось что-то больное, кожа вокруг ногтей была потрескавшаяся и воспаленная. Эти руки так неуверенно брали крошечные детальки, что поминутно роняли их, и приходилось все начинать сначала. Тогда в круг лампы попадало его лицо, я видел острый взгляд из-под пенсне и волосы словно белые крылья чайки — раньше волосы у него были черные, но этой зимой я вдруг обнаружил, что они совсем белые, а когда они успели побелеть, я не заметил. Потом мне было позволено подавать ему мелкие детали, но, если что-то не сразу получалось, он раздражался и начинал бранить меня, корабль и себя самого. Правда, он сразу умолкал и тревожно оглядывался по сторонам, и, даже когда дома больше никого не было, мы начинали говорить шепотом, а дверь на всякий случай запирали, чтоб остальные не узнали о корабле, пока он не будет совсем готов.
Но даже эта надежда отца не сбылась, и не сбылась она по моей вине. По мере того как дни делались длинней, терпение мое шло на убыль, мне начало казаться, что отец так никогда и не кончит свою работу. Я мечтал пускать корабль на озере Сортедам, но у отца были на него другие виды. Он просто хотел иметь корабль, чтоб стоял у него как украшение и был похож на настоящий. К тому же под конец корабль стал такой сложный и хрупкий, что его опасно было взять в руки, того и гляди что-нибудь сломается. Я уже не стремился принимать участие в строительстве, мне все это начало казаться дурацкой затеей. Я успел подрасти за этот год, я уже понимал, о чем говорят старшие, понимал, что такое деньги и что означает суровое молчание матери; я бывал у одноклассников, я видел, что отцы у них совсем не такие, как мой, их отцы обо всем заботились, всем распоряжались, все решали, когда мои одноклассники говорили отец, видно было, что они гордятся своими отцами, но в то же время немножко их побаиваются.
В школе у других были карманные деньги, и новое платье, и новые книги в новых ранцах, у меня же только старое платье, перешитое матерью, истрепанные учебники, доставшиеся мне от старших, и старая сумка, над которой все потешались. А все потому, что у меня был такой непутевый, несерьезный отец, он сидел забавлялся щепочками, да еще делал при этом вид, будто читает корректуру и зарабатывает деньги. Разумеется, мы любим друг друга и добрые друзья и прочая слащавая муть, которую он то и дело повторял, но я предпочел бы гордиться своим отцом и немножко его побаиваться. Словом, весной я перестал приходить в отцовскую каюту и начал шушукаться по углам вместе с остальными. Порой меня так и подмывало рассказать им про корабль, но я держался до тех пор, пока не случилась история с копилками.
День рождения, мой и моего брата, приходился на одно и то же число в мае, у каждого из нас была красная копилка, в которой мы копили деньги, чтобы купить себе, что мы хотим. Я собирал деньги на аквариум с рыбками, а брат — на велосипед, он уже давно собирал, и его копилка была почти полная. В этом году он уже мог купить велосипед, мы с ним несколько раз ходили на Стуре Конгенсгаде и разглядывали велосипед в витрине. Но накануне дня рождения мать позвала нас обоих к себе в спальню, и мы узнали, что она вынуждена забрать все, что мы накопили, нам на одежду и плату за обучение. Мать сказала, что надеялась обойтись без этого, что ей и самой очень грустно, но иначе не получается. В нашем положении мы все должны ей помогать.
Мы со Свеном стояли и глядели друг на друга, меня душили застрявшие в горле рыдания, но мой брат Свен только засунул руки в карманы, помотал головой и нехорошо выругался. Тогда и я попробовал напустить на себя равнодушный вид и выругаться, как он.
— Мать жалко, — сказал он, — она не виновата, черт подери.
— Да, жалко, — поддержал я, — она ни черта не виновата. Но я знаю, в чем дело, — продолжал я, копируя сестру, — просто я не хотел вам рассказывать.
В покрове тайны была пробита первая брешь, а немного спустя я уже завел Свена в каюту и открыл ящик письменного стола, где хранился корабль. Я знал, что ключик спрятан в пустой чернильнице.
Потом я водрузил корабль на подставку посреди стола, этот корабль обошелся нам в аквариум и в велосипед и даже еще дороже. Теперь он был почти готов. Даже название отец выписал карандашом, он выбрал для него имя Ида — имя моей матери. Помню, мы долго глядели на корабль, как завороженные, прошло много времени, а мы все стояли и глядели.
— Вот, значит, как, — наконец произнес Свен. — Значит, над этой дрянью он просиживает целые дни.
Свен грозно набычился, засунул руки в карманы, глаза у него стали как щелочки и какие-то странные. А ведь это я показал ему корабль, ведь это я чуть не забыл из-за корабля про свой аквариум. Меня охватило какое-то странное возбуждение, в котором смешались отчаяние, и злоба, и гордость, я снял корабль со штатива и начал водить его по воздуху.
Свен стоял чуть поодаль и наблюдал за мной. Э-ге-гей, на море разыгралась буря, заходили высокие волны, корабль накренился, закачался, ушел носом в волну, поднялся вновь, и все паруса затрепетали от ужаса. А Свен стоял чуть поодаль и наблюдал с таким видом, словно ни отец, ни корабль, ни сам я ничего для него не значим. И оттого, что он так смотрел, корабль все яростней одолевали волны, я даже залез с ним на стул и поднял его высоко над головой, так что грот-мачта уткнулась в потолок.
— Гляди, — сказал я, — сейчас он ка-ак упадет. Мой брат Свен стоял, засунув руки в карманы.
— Слабо тебе, — ответил он.
— А вот и не слабо!
— А вот слабо.
И корабль упал. Не знаю, в самом деле я его бросил или он просто выскользнул из моей руки, знаю только, что я отчаянно пытался подхватить его на лету. Ничего не получилось, я только хуже его подтолкнул, и он упал кверху килем, и две мачты хрустнули. У меня сердце замерло от ужаса. Ой-ой-ой! Но корабль уже лежал на полу среди груды треснувших планок и оборванных нитей, корабль сломался, совсем, сломался такелаж, все сломалось. Боже, боже! Свен стоял поодаль и наблюдал.
— Ну, достанется тебе на орехи! — услышал я голос Свена. — Он тебя убьет.
Да, он меня убьет. У меня не оставалось другого выхода, кроме как принять неизбежное. Я упал навзничь, я лежал на полу, я кашлял и смеялся до слез. Э-ге-гей! И я снова повел потерпевший крушение корабль по бурным волнам и размозжил бушприт о край письменного стола, я доломал последнюю мачту и дорвал снасти. Я икал, смеялся и плакал одновременно. Дальше помню, как мы оба услышали голос матери, она звала нас из кухни. Мой брат Свен помог мне в два счета водворить корабль на прежнее место, обломки, куски — словом, все. Ящик — на замок, ключ — в чернильницу.
— Теперь смотри помалкивай! — шепнул Свен и первым вышел из каюты, невозмутимый и равнодушный, показав мне свою короткую толстую шею. А ведь это он погубил корабль. Он увидел корабль и погубил. И вдруг во мне вспыхнула ненависть к моему брату Свену.
Отец позвонил, что придет поздно вечером, его задержала в конторе срочная работа. Весь день я не чувствовал ни рук, ни ног. Я окаменел от страха и мечтал только, чтобы все скорей кончилось, чтобы он пришел и наконец избил меня. За обедом кусок не шел мне в горло, я сидел, давился и не мог проглотить ни крошки.
— Что с тобой, Йоханнес? — спрашивала мать. — Ты не заболел?
А я и в самом деле заболел, я думал об одном: поскорей добраться до постели. Раздеваясь, я поглядел на себя в зеркало — лицо у меня было совсем бледное, может, я и в самом деле заболел, может, умру от своей болезни. Я лег лицом к стене, укрылся с головой и приготовился умирать. Нет и нет. Господи, умереть бы скорей.
Вечер был ясный, мало-помалу я начал различать отблески воды, игравшие на потолке. Бесконечно долго я созерцал эти отблески и вдруг услышал в соседней комнате голос отца. Я не слышал, как он вернулся, но это был его голос и его шаги взад-вперед. Я лежал скрючившись, в оцепенении и ждал, когда шаги переместятся в каюту, когда он сядет и ножки стула царапнут по полу. Ничего подобного. Он все говорил, говорил в соседней комнате низким, хриплым голосом. Слов я не различал. Может, он вообще туда не пойдет, может, он забыл про корабль и про все на свете, может, он так никогда и не войдет в каюту?
Но нет, вошел. Много, много спустя, когда угомонилась игра волн на потолке и густые сумерки хлынули с улицы сквозь белую гардину, я услышал, как он входит в каюту. Не знаю, сквозь сон или наяву, но я слышал все: шаги, царапанье ножек по полу и поворот ключа в замке. Но дальше ничего не произошло. Там по-прежнему стояла тишина, долгое время стояла полная тишина. А потом опять раздались шаги, нескончаемые шаги взад-вперед.
Проснулся я оттого, что отец сидел возле моей постели. Я и во сне сознавал, что он здесь сидит, но боролся как мог, чтобы не проснуться. И, даже проснувшись, я не подал виду, я лежал, подтянув колени к подбородку, и что есть силы сжимал веки.
— Йоханнес… Йоханнес, ты спишь?
Да, я спал. Но чуть погодя его рука как-то неуверенно коснулась моего затылка, моих волос, и тогда во мне словно лопнул обруч, и я вскочил так резко, что перина упала на пол.
— Папа!
— Йоханнес, сынок!
У меня уже был готов план: от всего отпираться, но, когда он сидел вот так рядом, большой, расплывающийся в сумерках, большой и неотвратимый, весь мой план разлетелся на куски, как разлетелись деревянные планки, все, все разлетелось. Плачь, приказал я себе и заплакал, будто меня хлестнули кнутом.
— Папа, я не виноват… я его уронил… я не нарочно…
Его рука все еще поглаживала мой затылок, мои волосы так неуверенно… Я готов был закричать от этой ласки, я плакал, чтобы не кричать. Он не побил меня, думал я, не переставая плакать, и плакал все сильней, чтобы он меня не бил.
— Прости! — выдохнул я сквозь слезы. — Прости, папа.
Но от слова «прости» слезы потекли еще сильней, я был вне себя от горя, я был безутешен. Пусть делает со мной что хочет.
А его рука продвигалась все ближе, словно искала что-то и не могла найти, а его голос опять пробился ко мне, срывающийся, хриплый, время от времени отец прокашливался и замолкал.
— Ты не должен просить у меня прощения, Йоханнес. Я все знаю. Это я должен просить у тебя прощения. Ведь не ты же… Потом, может быть… Не думай про этот дурацкий корабль. Стоит ли нам с тобой огорчаться из-за такой чепухи. Правильно я говорю, Йоханнес, нам с тобой? Но остальным мы ничего не скажем. Какое им дело? Это был наш корабль, твой и мой, мы с тобой сохраним нашу тайну, договорились? Верно я говорю, Йоханнес, мы с тобой?
И он все твердил «мы с тобой» да «мы с тобой» и что мы будем держаться вместе, и любить друг друга, и дружить. А немного спустя он снова завел речь про козлика и тележку, которые он обещал мне купить и непременно купит, пусть я не думаю, будто он забыл про свое обещание. Вот когда у меня будет следующий день рождения, тогда… Но про парусную лодку и про причал он больше ничего не говорил. А под конец он принес мне подарок, который и взаправду купил, это был флажок, датский флаг на подставке, я еще мог различить сквозь сумерки белый крест и позолоченный верх древка. Он поместил флажок в ногах моей постели, чтобы я сразу увидел его, как только проснусь.
Когда он наконец ушел, я ощутил внутри какую-то странную пустоту, какое-то смущение и неуверенность, я ничего не мог понять. Отцы моих друзей всыпали бы им за такое дело по первое число, но тем бы все и кончилось. Мои друзья говорили отец, испытывая при этом гордость и немножко, самую малость, страх. А я?
Отец так и не начал отстраивать корабль заново. После этого случая я помню только, как он заболел и в конце концов умер. Но на рассвете я лежу порой без сна и пытаюсь представить себе, каким же он все-таки был, мой отец. Я делаю это отчасти против воли и всякий раз останавливаюсь, дойдя до корабля. После этого мне бывает очень трудно снова заснуть. Впрочем, я уже говорил, что, может быть, несколько преувеличиваю. Утренние часы — не лучшее время для воспоминаний.
ТРИ МУШКЕТЕРА
В большом заглохшем саду Йохана была у нас пещера, и как-то раз мартовским днем сидели мы там внизу и раскладывали между собой роли. Наверху колюче чернели в дымке дождя мокрые фруктовые деревья, кусты, и всем нам троим, забившимся в яму, куда мы прихватили с собой спиртовку и кастрюльку с тремя яйцами, резко бил в ноздри запах сырой земли и прелых листьев. Йохан восседал на деревянном ящике, нам же с Торбеном пришлось довольствоваться клочком голой земли.
Само собой, Атос достался Йохану.
Втайне и Торбен и я мечтали о роли Атоса, но не смели на нее притязать. Потому что Йохан уже был Атосом, как и Атос воплотился для нас в Йохане. Еще и сегодня благородный граф де Ла Фер видится мне рыжим тринадцатилетним мальчишкой с белесыми бровями и узкими светлыми глазками, чуть ли не альбиносом. Он молча шагает мне навстречу на толстых кривых ногах, затянутый в красные гольфы. «En garde[47], господа!» — возглашает он, сжав в руках шпагу, а стоит только произнести при нем слово «Миледи», и глаза его вспыхнут грозным зеленым пламенем. Подобно Атосу, Йохан ненавидел женщин, и, подобно Атосу, имел на то веские тайные причины.
Путем долгих расспросов мы выпытали у него, что некогда была в его жизни женщина, которую звали Мадлен, но проникнуть в тайну его До конца нам не удалось. Мы узнали только, что Йохан страстно жаждет смерти и лишь чувство чести и мечта об отмщении заставляют его жить. Как-то раз взялся он доказать нам научно, что женщина не человек. Мы расселись вокруг стола с зеленым сукном, на котором стояли графин с водой и стакан. Я был противником Йохана в словесном турнире, а Торбен — арбитром.
— Вот мои доводы, — с каменным лицом возгласил Йохан. — А какие Доводы у тебя?
Помню еще и сегодня, как он и вправду доказал, что женщина не человек.
Потом мы с Торбеном заспорили, кому играть д'Артаньяна, но и в этот наш спор властно вмешался Йохан и объявил Торбена Портосом. Торбен долго отказывался, но в конце концов смирился и начал балагурить.
Толстый косоглазый мальчик, единственный сын богатых родителей, он много раньше нас стал щеголять в сорочках с отложным воротником и нарядной куртке с ремнем и пряжкой. Обычно он шутовски похвалялся своей толщиной и косоглазием, шумел и паясничал, но случалось, из-за самого невинного намека впадал в ярость, рыдал, скрежетал зубами и иной раз даже набрасывался на нас с палкой. Когда на него находило, я старался держаться от него подальше, но Йохан, с тем же каменным лицом, бросался его укрощать и, уложив Торбена на обе лопатки, садился на него верхом. Торбен вопил, брыкался, стремясь сбросить с себя седока, и вдруг, еще опухший от слез, с грязными подтеками на лице, весь расплывался в улыбке и обращал все происшествие в шутку. Такой вот человек был Торбен. В общем, многое говорило за то, что ему надлежало играть Портоса, даже имя его звучало похоже.
— Итак, — сказал Йохан, глядя на меня своими светлыми беспощадными глазками, — итак, д'Артаньяном будешь ты.
Итак, д'Артаньяном стал я.
Я был в ту пору бледным тонконогим подростком с оттопыренными ушами и белой, как лен, и гладкой, как яйцо, головой — боюсь, что я мало походил на отважного гасконца. Но зато велосипед подо мной не уступал в резвости чистокровному рысаку, и еще я был мастер насыщать тайной любой пустяк, и всюду мерещились мне похищенные красавицы и переодетые злодеи. Неизменно влюбленный в кого-нибудь, я то и дело, пришпорив свой велосипед, летел на нем в лес «ястреба буйным полетом», а вернувшись назад, загадочно намекал на свидание, на котором будто бы побывал. Другие двое пытались угадать имя избранницы и называли одно за другим — само собой, у такого завзятого донжуана, как я, любовниц не сосчитать. Другие двое отлично знали, что на самом деле донжуанством тут и не пахло, и я знал, что они это знают, а все же они принимали мою игру: сидя в пещере, мы говорили и говорили, и от разговоров этих нас бросало в жар. Торбен пыжился, стараясь казаться еще толще, и еще отчаяннее косил да наперебой сыпал словечками — такими, что, услышь его родители, они не поверили бы своим ушам, а Йохан, человек с окаменевшим сердцем, лишь улыбался горькой улыбкой, предрекая мне все напасти мира. Так что в конечном счете в роли д'Артанья-на я был не так уж и плох.
Время от времени мы проверяли, не закипает ли в кастрюльке вода, но она никак не нагревалась, и в конце концов мы просто продырявили яйца и выпили их сырыми. А потом, чокнувшись скорлупками, прокричали: «Один за всех, и все за одного!» — и с той минуты стали говорить друг другу «вы» и «милостивый государь». Наконец мы выбрались наверх, в мглистую морось, вытащили из ножен шпаги и, скрестив над головами клинки, скрепили наш союз клятвой.
Атос, Портос, д'Артаньян.
Поначалу никаких особых происшествий не было. Каждый день мушкетеры встречались в школе, в углу площадки для игр, и украдкой обменивались записками. Тайнописью сообщался в них новый пароль и указывалось место встречи, иной раз можно было прочитать: «Опасность близка» или: «Берегитесь, нас предали!» Ведь где-то притаился кардинал Ришелье, повсюду рассылавший своих переодетых шпионов. Вечерами мы околачивались на просеках возле коттеджей, перекликались и пересвистывались в густеющих сумерках и поочередно крались за прохожими, своей повадкой напоминавшими шпиков. Затем мы вновь сходились и докладывали друг другу о том, что нам удалось выведать. Задыхаясь, рассказывали мы все, что видели, и при этом размахивали шпагами — кровь властно бурлила в нас. Но в другие дни мы сидели в нашей пещере и говорили без конца о дуэлях и путешествии в Англию, о похищении красоток и о застенках Бастилии, где узников подвергают пыткам. Мы говорили, говорили, пока отчаяние не накрывало нас с головой, а иной раз воскресными днями в безлюдье и дождь мы далеко уходили в поля и здесь тоже, подавленные безнадежностью, говорили о порочной, но жестоко прекрасной Миледи. Портос непристойно прохаживался насчет всего женского пола и отчаянно гоготал при этом, пока не нападали на него икота и кашель. У Атоса глаза загорались зеленым пламенем, он готов был четвертовать ее заживо. А юный герой д'Артаньян повсюду носил с собой тоску, как камень в груди, и тешил себя вымышленными любовными встречами с красавицей в лесу у старого дуба…
Графиня де Ла Фер, она же Миледи, кареглазая, с длинными змеями локонов, прикрывала свое порочное и преступное прошлое простым датским именем Мюссе Мортенсен. Когда-то Атос про себя звал ее «Мадлен», но скоро стал называть ее «второй Миледи» — и все три имени начинались с буквы «М». Долгое время это «М» служило нам паролем. «Эм!»— всякий раз восклицали мы при встрече, Четырнадцать лет было нашей Миледи, и в школе она опередила нас с Портосом на два класса, так что мы, можно считать, для нее все равно что не существовали. Она дарила своим вниманием только старшеклассников — гимназистов. На переменах мы молча стояли в углу двора и смотрели, как Миледи их обольщает; они обхаживали ее буйно и грубо, даже, случалось, таскали за волосы. Да что там, говорил Атос, это все ее женские уловки. И парни эти давно уже барахтаются у нее в сетях. Возвращаясь из школы, мы всякий раз на изрядном расстоянии следовали за ней и видели, как они всей стаей кружили вокруг нее, наперебой оглушая ее велосипедными звонками и то и дело стараясь столкнуть друг друга в канаву — опять же из-за нее. А она шествовала по тротуару, улыбаясь, как подобает Миледи, и этой своей улыбкой завлекала их прямиком в адское пекло.
Ее надо обезвредить, говорил Атос, вынуждая и нас повторять то же; сидя в пещере, мы измышляли способ, как похитить и заклеймить ее позорным клеймом. Атос сказал, что собственноручно приложит раскаленное железо к ее плечу. Но все это были одни лишь слова и грезы, и порой от всех этих разговоров на нас накатывали хандра и хворь. Какая-то сила гнала нас из пещеры, мы растягивались на спине в бледной, колеблемой ветром весенней траве и, запрокинув голову, глядели на облака и снова говорили, говорили все о том же. И снова Портос паясничал с отчаяния — ведь Миледи даже не замечала нас! Мы маленькие и ничтожные, никто нас не замечает. А где-то сидит невидимый, но всесильный кардинал и держит в руках нити всего происходящего, и даже сама Миледи — лишь пешка в его игре, Я глядел на облака, и тоска камнем ложилась мне на сердце.
Портос скакал по-кроличьи и лаял по-собачьи. Но Атос, с багровым лицом солдафона, недвижно лежал в траве и твердил, что надо обезвредить Миледи. Катона Старшего напоминал он нам.
Наконец мы выставили стражу у ее дома. Она жила в большом доме с большим садом, за которым тянулось поле; мы вырыли в этом поле яму и по очереди стерегли Миледи. «Эм!»-торжественно восклицали мы, заступив на стражу и отчеканивая рапорт. А рапортовать о чем только не приходилось: «Эм» каталась на велосипеде, потом вернулась назад. К дому ее подъезжал автомобиль. Почтальон принес письмо в большом желтом конверте. «Эм» вдвоем с подругой выходила в сад. «Эм» зажгла у себя в комнате свет и задернула занавески. Из ямы в соседнем поле за всем следила пара горящих мушкетерских глаз, любое происшествие заносилось в записные книжки, которые мы прятали в нашей пещере, в ящике из-под сигар. Временами случались важные события: однажды вечером видели, как «Эм» помахала кому-то из окна шелковым белым платочком — может, любовнику, прячущемуся в саду. В другой раз, прокравшись к самому дому, мы нашли клочок бумаги, на котором что-то было нацарапано карандашом. Дождь смыл почти все слова, но записка вдохновила нас на многие затеи.
Как-то раз в воскресенье мушкетеры держали совет. Мы извлекли из ящика с сигарами наши записи и принялись разгадывать их тайный смысл. Атос растолковал нам скрытую подоплеку событий:
— Итак, вот мои доводы, господа! А каковы ваши?
И мы начали судить и рядить, пока от споров и толков не стала раскалываться голова и буйство и ярость совсем не захлестнули нас.
— По коням, друзья! — вскричал я, д'Артаньян, и, вскочив на наших чистокровных рысаков, мы помчались в лес.
Стоял апрель, ветреный и переменчивый; мы взобрались на самое высокое дерево, и буря бушевала вокруг и, казалось, уносила нас в небо. И с верхушки дерева юный герой д'Артаньян намеренно выронил из кармана белую визитную карточку, которая упорхнула вниз, кружась между стволами деревьев, и застряла в ветках куста.
— Проклятье! — оглушительно крикнул я и ринулся вниз — поймать бумажный клочок, но Атос первым схватил его. Изящным косым шрифтом было выведено на нем имя Мюссе Мортенсен — я выкрал визитную карточку из ее велосипедной сумки. На обороте красными чернилами читались слова: «В семь часов вечера у большого дуба. М.».
— Несчастный д'Артаньян! — воскликнул Атос, словно читая вслух из какой-то книги. — Я давно уже подозревал, что вы угодили в сети этой женщины!
— Милостивый государь, — отвечал юный герой д'Артаньян, напрашиваясь на ссору, — вы не имели права читать мое письмо! Извольте немедленно вернуть его мне — не то нам придется скрестить шпаги!
— Портос, ко мне! Разоружим его! — вскричал благородный Атос. — Эта чертовка уже вскружила ему голову, он не в своем уме!
Долго и яростно топтали жухлую траву три пары ног под треск сухих ветвей, и в конце концов юный герой д'Артаньян остался без шпаги.
— Сударь, — сказал ему благородный Атос, — я вынужден объявить вас нашим пленником. А теперь марш к большому дубу!
Здесь самые худшие подозрения благородного Атоса подтвердились: на стволе большого дуба было вырезано сердце, пронзенное стрелой, а внутри сердца он увидел инициалы Миледи и д'Артаньяна.
Тут же состоялось судилище; скрестив на груди руки, Атос шагал под деревом взад-вперед.
— Обстоятельства вынуждают нас действовать быстро, — сказал он, как всегда выражаясь по-книжному. — Но у женщины этой слишком могущественные покровители, и вряд ли удастся исполнить наш замысел и заклеймить ее позорным клеймом, как она того заслужила. Посему предлагаю ограничиться вот чем: давайте отрежем ей локоны! Хоть на какое-то время это помешает ей обольщать достойных мужей и тем обрекать их на гибель. А вы что думаете, господа?
Портос думал то же, что и Атос, а я был пленник и к тому же не в своем уме от страсти, и, стало быть, мое мнение в расчет не шло.
— Приговор утвержден, — торжественно объявил Атос. — А раз так — пора перейти к делу. Пункт первый: кто приведет в исполнение приговор? Пункт второй: где, когда и каким образом должен он быть исполнен?
По первому пункту Атос с Портосом бросили жребий. Самая длинная соломинка досталась Портосу, а вместе с ней — и честь собственноручно отрезать локоны у Миледи. По крайней мере так истолковал итог жеребьевки Атос. Правда, Портос уверял, будто длинная соломинка, наоборот, освобождает его от тягостного поручения, но Атос был неумолим.
— Жребий пал на вас, — сказал он. — Законы мушкетеров непререкаемы.
Экзекуцию назначили на среду вечером — в этот час Миледи обычно одна возвращалась на велосипеде домой с урока танцев в школе, и, уступив нажиму, я согласился взять на себя роль предателя: на последнем безлюдном отрезке пути к дому Миледи я должен был догнать ее на моем скакуне и завести с ней разговор. Когда мы подъедем к ее калитке, из засады выскочит в маске Портос и ножницами отхватит у нее кудри. А я для виду должен ее защищать.
Сам же Атос станет втайне наблюдать за ходом дела из канавы напротив и вмешается лишь в случае острой надобности. Под конец я не меньше других увлекся этой затеей, и мне возвратили мое оружие; мы встали, скрестили шпаги и громко прокричали: «Эм!» — и еще: «Один за всех, и все за одного!»
В среду вечером, неподалеку от дома жестокой «Эм», я сидел на своем велосипеде, дожидаясь ее. Одинокий, всеми покинутый, торчал я у тротуара, и от страха лихорадочно билась в жилах кровь. Атос с Порто-сом засели каждый в назначенном месте. «Эм» вынырнула из-за поворота вдвоем с подругой, они расстались на углу и вдогонку прокричали друг другу: «До завтра!» И вот уже она едет сюда. Кровь, казалось, теперь стучала у меня в глазах, и с каждым новым толчком их словно застилала пляшущая пленка, усеянная белыми пятнышками; она едет, это едет она! И вот уже она проносится мимо, я вижу ее неприступный профиль, на меня она не взглянула, не узнала меня. Да мне и перемолвиться с ней ни разу не доводилось! Все-то я сочинил, и надпись на визитной карточке, и свидания у дуба, и даже юного героя д'Артаньяна! Я съежился на велосипеде в жалкий комочек. И все же я как-то заставил себя тронуть с места и скоро поравнялся с жарким облаком, из которого сверкали эти испепеляющие глаза. Я выдавил из себя:
— Привет, Мюссе!
— Привет! — равнодушно отвечала она.
Молчание. Два звонких велосипедных колеса и неприступный профиль.
— Ты была на танцах?
— Да.
У меня судорога в пальцах ног.
— А сейчас едешь домой?
Этот последний вопрос она не сочла достойным ответа, потому что уже была дома.
Соскочив с велосипеда, она отперла калитку. В голове у меня словно открылась воронка, все завертелось вихрем и унеслось в нее: рябь штакетника — Мюссе-Миледи-Атос-Портос-д'Артаньян — и ножницы. Я уцепился за соломинку:
— Послушай, Мюссе, Йохана Бертельсена знаешь?
Придерживая велосипед, Миледи взглянула на меня с холодным удивлением.
— Нет, — сказала она. — Не знаю.
— Да знаешь ты его! — отчаянно настаивал я. — Знаешь, длинный такой, рыжий, из нашей школы?
— Нет, — повторила Миледи. — Не знаю.
— Так слушай: он не в своем уме. Он знаешь кто? Женоненавистник!
— Да ладно уж…
— Нет, правда, он совсем спятил, разгуливает повсюду с ножницами в руках и всех девчонок норовит остричь. Я просто предупредить тебя хотел.
— Да ладно уж, — сказала Миледи, — мне пора домой, всего.
И тут же скрылась во тьме; лишь кружок света от велосипедного фонарика вспыхнул раз-другой на усыпанной гравием дорожке и пропал. Мертвая тишина опустилась на землю. Тут Атос выбрался из канавы и грозно зашагал через дорогу ко мне на своих кривых, негнущихся ногах, затянутых в красные гольфы.
— Так-так, милостивый государь! — сказал он. — Так-то сдержали вы свою клятву! Что ж, теперь все пропало! Выходи, мой добрый Портос, смелей! — добавил он, обернувшись к высоким кустам, черневшим позади штакетника. — Все пропало!
В кустах послышался шорох, кто-то невидимый глухо давился кашлем, но Портос не выходил. В конце концов Атос проник в сад и отыскал его. Портос, скрючившись, лежал в кустах и уже весь посинел от судорожного смеха.
— Ох-ха-ха-ха! — выдавил из себя он. — Как это ты сказал: «Да знаешь ты его — длинный такой, рыжий, из…» Ох-ха-ха-ха!
Пришлось помочь ему подняться с земли и вытащить из-под кустов на дорогу. А он все давился от хохота и икал.
— Заткнись! — прикрикнул на него Атос, потому что тут как раз вспыхнул свет в окне Миледи. — Ты лучше скажи, отчего ты не исполнил свой долг?
— А ты что, не слышал, что он сказал… ик!.. «Длинный такой, рыжий… ик!.. он совсем спятил!..»
— Заткнись! — повторил Атос. — Измена д'Артаньяна нисколько не оправдывает твоей. Оба вы — жалкие предатели!
Медленно поплелись мы прочь от места преступления.
— Кстати, она солгала, уверяя, что не знает меня, — вдруг заявил Атос. — Заведомая ложь! Я располагаю многими доказательствами обратного…
И всю дорогу рассказывал нам, как недавно подслушал разговор Миледи с подругой.
Поначалу он никому не хотел этого открывать, но уж, коль скоро мы оба попались в сети к этой дьяволице… Да и, так или иначе, все пропало теперь. Мы с Портосом искоса поглядывали на него, а он твердо шагал на своих негнущихся ногах и сухо, по-солдатски, излагал факты: как-то раз Миледи с подругой сидели на взгорке в ее саду, он же, Атос, прятался за штакетником и слышал весь их разговор. Сначала, правда недолго, они говорили о Портосе. Он просто шут какой-то, сказала Миледи, толстый балбес. Его вообще не стоит принимать в расчет…
— Врешь! — крикнул Портос.
— Не хочешь — не верь, твое дело, — невозмутимо отвечал Атос. — Ты только что изменил слову мушкетера, но я-то, по счастью, чести своей не ронял. Словом, потом подруги взялись за д'Артаньяна: он очень мил, сказала Миледи, с таким не грех слегка поиграть. А в общем — безобидный малыш…
Мы с Портосом ободрили друг друга взглядом и робко улыбнулись.
— А ты? — недоверчиво спросил Портос. — О тебе-то они что сказали?
— Да в этом-то вся загвоздка, — заявил Атос. — Обо мне они говорили долго. Похоже, Миледи за что-то ненавидит меня. Она не сказала обо мне ничего дурного, совсем напротив. Но все равно она ненавидит меня. И не успокоится, пока не отомстит мне, сказала она. Но причину ненависти не выдала.
— Не иначе, это просто любовь, — сказал Портос, подмигивая мне. — Ясное дело, она в тебя влюблена!
Атос пожал плечами:
— Возможно!
Мы долго стояли под фонарем у калитки Атоса и все говорили и говорили об одном. Я не хотел отказываться от чести по-прежнему слыть любовником Миледи: визитная карточка, сердце на дубовой коре — всего этого не сбросишь со счета, да и говорить с ней из всех нас довелось мне одному. А все же это не доказательство, твердил Атос. Подразумевалось, что истинное доказательство любви Миледи у него в руках, но он его не откроет; попробуйте-ка угадать, сказал он. И мы наперебой стали гадать и фантазировать; и долго еще, бледные и до смерти усталые, стояли мы в зеленом свете фонаря. Но прекратить этот разговор мы были не в силах. Портос исступленно вращал белками глаз; обняв фонарный столб, он изображал, будто целует Миледи; под конец он прутом нарисовал что-то на тротуаре и ржал при этом как лошадь. Тут в доме распахнулось окно, и отец Атоса крикнул: «Вы что, не знаете, что скоро Десять?» Мы правда не знали, что уже так поздно, — в ужасе переглянувшись, мы бегом ринулись по домам, а сердце, казалось, колотится в горле.
На другой день Атос был мрачнее тучи. На большой перемене он молча сидел на мусорном баке в углу двора и хмуро жевал свой завтрак, а вечером, когда мы зашли за ним, не хотел идти с нами. Ни в пещеру, ни стоять на страже у дома Миледи — ничего он не хотел. Он опустил штору на своем окне и сидел на плюшевом зеленом диване, поджав ноги и обхватив руками лодыжки, о чем-то размышляя. Временами его одолевала усталость, и он насилу удерживался, чтобы не уснуть. Мы с Портосом сразу смекнули, что все это из-за Миледи, должно быть, опять что-то такое стряслось, но нам пришлось долго перешептываться в полутьме за спущенной шторой, прежде чем мы вытянули из него правду: он проглотил семена желтой акации, оставшиеся с прошлого года. Проглотил их потому, что хотел умереть смертью стоика. Ведь случилось самое страшное, что только могло случиться: он сам — наш Атос — дрогнул. Чаровница пустила в ход новые дьявольские ухищрения, чтобы околдовать его, и отныне он уже сам за себя не отвечает. А раз так, то, как человеку чести, ему оставалось одно — слопать желтую акацию. Только вот, судя по всему, семена не оказали должного действия — видно, высшие силы не склонны избавить его от ада любовных мук. Что ж, в таком случае он до дна осушит чашу страданий и даже покажет нам, что увидал нынче утром по пути в школу.
Оседлав велосипеды, мы медленно покатили к улице Стенгаде: впереди — Атос, за ним — Портос и я. На углу той улицы, у самого рынка, жил фотограф — здесь Атос остановился и прислонил велосипед к тумбе у обочины тротуара. Он ничего не сказал, да ничего и не надо было говорить. Потому что на самой середине фотовитрины висела Миледи. Два длинных локона змеились у нее на груди, даже отдельные волоски и те можно было различить. И еще можно было различить круглую ямочку на шее, и мягкие очертания чуть запрокинутой головы, и темные кудряшки на лбу, и ох! — эти испепеляющие карие глаза, насквозь пронзавшие нас, отважных храбрецов — Атоса, Портоса и д'Артаньяна.
У каждого из нас упало сердце, грудь налилась свинцом, нечем стало дышать. Лицо Портоса расплылось в дурацкой улыбке, Атос прокашлялся и стиснул зубы.
— По коням, друзья! — в конце концов крикнул я, и, оторвавшись от жуткого зрелища, мы вскочили на наших породистых скакунов и бешеным галопом унеслись домой, к нашей пещере. Мы с Портосом совершенно раскисли и решили допить початую бутылку плодового вина, которую давно здесь прятали.
— Мы погибли, друзья! — вскричал я. — Все трое мы любим ее! Так вкусим же смерть от багряного испанского вина, умрем за нашу прекрасную жестокую Миледи!
Но Атос опустил свой кубок.
— Нет! — твердо произнес он. — Честь мушкетеров повелевает нам биться до последнего! Вспомните обо всех неокрепших душах, которые погубит эта дьяволица своим портретом! Выход один — мы должны этой же ночью похитить и уничтожить портрет!
Мы с Портосом прокричали в хмельном восторге:
— Ура! Пьем за похищение Миледи!
Но тут же вспыхнул яростный спор из-за права на этот портрет — Атос хотел запереться наедине с ним и собственноручно сжечь его, на нас с Портосом он не полагался.
А мы не полагались на него. Каждый из нас хотел заполучить портрет. «Что ж, потом скрестим из-за него шпаги», — решил Атос и в мельчайших подробностях стал излагать план похищения, включавший пункт первый, второй и третий. Пункт первый: Портос вскрывает витрину ломиком. Второй: я перочинным ножом вырезаю портрет Миледи — и третий — передаю его Атосу, который должен стоять на страже чуть поодаль. Затем мы все разбегаемся в разные стороны, дабы сбить со следа агентов кардинала. Под конец Атос взял с нас клятву, что мы не выдадим нашей тайны ни при каких обстоятельствах, даже под пыткой в застенках полиции.
— Кажется, все случайности предусмотрены, — сказал он и снова задумался. — Что ж, господа, до встречи — за полчаса до полуночи…
Да, все случайности предусмотрены, но и на сей раз события разыгрались отнюдь не по плану, включавшему пункты первый, второй и третий. Вся операция с самого начала складывалась хуже некуда. Не за полчаса, а за полных три часа до полуночи выступили мушкетеры на дело, потому что Портосу как следует досталось от отца и тот запретил ему возвращаться домой позже половины десятого. Стало быть, мы подошли к витрине фотографа и приступили к осуществлению операции почти при дневном свете. Полным-полно было людей на рыночной площади, а напротив рынка располагалась стоянка автомобилей, да еще, пока мы ждали, чтобы хоть немного сгустились сумерки, прямо над нашими головами засветилась большая дуговая лампа.
— За дело! — сказал Атос.
И все же, при всей нелепой его дерзновенности, похищение, возможно, даже удалось бы, не возись мы так долго. Но как только затрещало стекло витрины, Портос совсем ошалел от страха: спрятав ломик под курткой, он бросился в ближайшую подворотню. Минут пять мы все трое стояли там и тряслись, затем решились вновь попытать счастья. И снова повторилось то же самое. На третьей попытке из-за угла вдруг вынырнули двое полицейских. Они были уже в трех шагах от нас, когда мы их заметили. Атос, стоявший на страже, оцепенел от ужаса и даже не пикнул.
— Вы что тут делаете? — спросил полицейский.
Атос ответил:
— Ничего.
Но Портос посерел лицом, губы у него задрожали, да и ломик в его руках всем был виден.
— Дай-ка лучше эту штуку сюда, дружок, — сказал один из полицейских и отобрал у Портоса ломик.
На всем пути к участку полицейские держались с нами весьма приветливо и миролюбиво. Один из них шагал между Атосом и мной, другой шел впереди, дружески опираясь на плечо Портоса. Может, они сочли его самым опасным из всей троицы — в конце концов, он ведь орудовал ломиком, да и выглядел старше нас обоих в своей щегольской куртке. Всю дорогу ни мы, ни полицейские не раскрывали рта, но я с ужасом думал о том, что же будет с нашим обетом молчания.
Ничего хорошего и не было: еще только завидев зеленый фонарь полицейского участка, Портос разрыдался, а уж сидевший наготове внутри, за барьером, дежурный сержант — человек с густыми, как барсучья шерсть, волосами, — взглянув на него сквозь очки в золотой оправе, сразу же понял, что его надо допросить первым. Нам же с Атосом не позволили при сем присутствовать, а отвели нас в пустое белое помещение с кожаными нарами у стены. Мы тотчас прильнули ухом к двери, и нам многое удалось расслышать из того, что говорилось в соседней комнате. Мы слышали стук пишущей машинки и рыдания Портоса, которые то стихали, то возобновлялись с новой силой, и сержант сказал ему: хватит, успокойся. Ничего тебе не будет, только чистосердечно во всем признайся…
— Да я же не ви-ви-виноват, — прорыдал Портос, — это все Йохан…Йохан Бертельсен… да-да, тот рыжий… Он сказал, что хочет сжечь портрет… Да-а-а, потому что он в нее втрескался… Не знаю, зачем сжигать, у него не все дома. Вообразил, будто он Атос… Да-да, Атос из «Трех мушкетеров»…
Мы с Атосом переглянулись.
— Вот, значит, как обстоит дело! — прошептал он. — Раз так, лучше уж и нам во всем сознаться. Как ни крути — все пропало.
Но и сознаваться нам почти ни в чем не пришлось: должно быть, сержанта вполне удовлетворил рассказ Портоса. Он спросил лишь, как нас зовут, сколько нам лет и кто наши отцы, затем, чуть отодвинув стул, окинул нас взглядом. Мы обвиняемся во взломе и в попытке совершения кражи, заявил он, по сути, нам место в исправительном доме. В данный момент, однако, полиция воздержится от каких-либо мер по отношению к нам, разве что направит письмо отцу Йохана, коль скоро его сын выступал в нашем деле зачинщиком. Но наши имена занесены в полицейскую картотеку, и если когда-либо нам случится вновь преступить закон, дело тотчас извлекут из архива и дадут ему ход. И уж тогда мы дорого заплатим за свой проступок…
Он говорил все это, грозно сверкая очками в золотой оправе, и в заключение спросил Йохана, правда ли, что тот хотел сжечь фотографию девушки.
— Да, правда, — сказал Йохан.
— Но зачем? — удивился сержант. — Ты хотел украсть фотографию — это, пожалуй, еще можно понять. Но зачем ее жечь? Какой в этом смысл?
Атос прокашлялся.
— Я хотел помешать этой женщине губить неокрепшие души, — сказал он.
Странная тишина наступила после этих слов. Молодой полицейский, сидевший за пишущей машинкой, вдруг перестал печатать и быстро прошел за дверь, которая вела в караульное помещение. А наш сержант, встав с места, налег двумя руками на барьер; лицо у него сморщилось.
— Что-что? — переспросил он.
— Я хотел помешать этой женщине… — снова начал Атос.
— М-да, — буркнул сержант. Повернувшись к нам спиной, он вынул носовой платок и начал сморкаться. — Минуточку! — сказал он.
И тут же скользнул за дверь, туда, где уже был молодой. Должно быть, что-то стряслось там, в караулке, откуда донесся оглушающий кашель. Потом нам крикнули:
— Ступайте домой! Поставим на этом точку!
Полиция и правда поставила на этом точку, даже письма к отцу Атоса не послали. Но, вернувшись домой, Портос все равно во всем открылся родителям. Воображаю, как он каялся в своих прегрешениях и после, в потемках, долго ревел в постели, так что под конец родителям пришлось утешать его и даже посулить ему новый велосипед, который он давно уже у них клянчил. Во всяком случае, через несколько дней он появился верхом на новехоньком, со свободным ходом, ослепительно сверкающем никелем велосипеде, но даже не остановился показать его нам с Атосом, а, наоборот, еще крепче нажал на педали и, проезжая мимо, лишь коротко, без улыбки, кивнул нам. Если не ошибаюсь, с тех пор он вообще больше с нами не разговаривал. Может, дал обещание не водиться с нами — в обмен на велосипед.
Мы же с Атосом еще какое-то время говорили друг другу «вы» и «милостивый государь». Но потом нам это наскучило, и союз мушкетеров распался.
А нынче уже двадцать лет спустя…
ТРУБКА
Который был час, когда она вышла из больницы, она не имела представления, вероятно, уже всходило солнце, потому что неожиданно оказалось очень светло. Впрочем, возможно, это был свет все той же белой лампы, которая горела там, в больнице. Он немилосердно резал ей глаза, и даже если она закрывала их, острые белые лучи все равно проникали сквозь сомкнутые веки, и казалось, что душа отрывается от тела и никогда уже больше не вернется.
Ей ужасно хотелось, чтобы эта белая лампа погасла, хотя она прекрасно знала, что отныне лампа никогда уже не погаснет. Она знала это еще там, в больнице, когда сидела, опустив глаза, уставясь на свои коричневые туфли и коричневый линолеум пола. Туфли были стоптанные, с прилипшими комочками земли, старые туфли для работы в саду, она даже не сменила их. Линолеум был гладкий, чисто вымытый, но на нем было много темных царапинок, и если долго смотришь в одну точку, возникают разные фигуры: вот плывет рыба, там человеческий профиль: нос, подбородок, мохнатая шапка. Но долго эти фигуры не живут, исчезают, сменяются другими, а потом вдруг все расплывается, куда-то пропадает, и ты обнаруживаешь, что сидишь на стуле, рядом стол, а впереди, в некотором отдалении, плотно закрытая дверь. Сидишь и ждешь, вот она отворится, но она по-прежнему плотно закрыта. Она белая, эта дверь, и белый свет бьет откуда-то сверху. Хоть бы они погасили этот свет, думала она, хоть бы на минуточку стало темно. Может, и в самом деле на какие-то мгновенья стало темно, потому что она, кажется, лежала и слышала над собой приглушенные голоса. Но, во всяком случае, это длилось какой-то миг, и теперь уже снова был свет, такой яркий свет, что ей пришлось остановиться и перевести дух. А может быть, это от птичьего гомона и напоенного ароматами воздуха у нее перехватило дыхание, ведь на дворе был май, и всходило солнце, и в больничном саду росло столько деревьев.
Она почувствовала, что ее снова подхватили под руки, с обеих сторон подошли и подхватили под руки. Ей очень хотелось вырвать руки, освободиться, но ведь тогда они только крепче вцепились бы в нее. Справа шел один из братьев мужа, слева — ее собственный брат Вильхельм, только он так жестко берет под руку. На минуту ее мысли задержались на Вильхельме, который сейчас шагал рядом и крепко держал ее, как и положено брату; неожиданно вспомнилось, как однажды, еще детьми, они вырыли в земле яму, потом присели возле нее на корточки с зажженной свечкой и что-то такое тихонько бормотали. Вильхельм старше всего на год, и детьми они были, можно сказать, неразлучны, но мало-помалу так получилось, что они почти перестали видеться и лишь изредка встречались, здороваясь и прощаясь за руку, как чужие. Ей впервые сейчас пришло это в голову, но никакой горечи она не ощутила, напротив, она словно бы успокоилась и даже почувствовала дружеское расположение к этому постороннему человеку по имени Вильхельм и, когда проходили под аркой, где было темновато и холодно, сильнее прижала к себе его руку. Но там, за аркой, ее ждало все то же ослепительно белое утро, а поодаль стояла машина с включенным мотором. Шофер читал газету, но тут же отложил ее, вышел из машины и распахнул дверцу. Когда они подошли, он отвернулся. Ей хотелось встретиться с ним глазами, но он упорно глядел в сторону. Надо сказать им, сейчас же сказать, чувствовала она, но сумела выдавить из себя лишь одно:
— Не надо!
Никто ей не ответил. Они стояли возле машины, все четверо. Шофер держал дверцу, но смотрел по-прежнему в сторону. Стоять так дальше было бессмысленно, и она наконец влезла в машину и села.
— Не надо! — повторила она, уже сидя в машине, и сделала движение руками, будто отталкивая их, но они вполголоса переговаривались между собой, потом заговорили с шофером, что-то объясняя ему. Мотор между тем уже работал, и машина дрожала мелкой дрожью. Наконец шофер занял свое место, Вильхельм зашел с другой стороны и уселся рядом с ним. Она нагнулась, громко постучала в стекло и сказала: «Не надо!», но Вильхельм даже не обернулся. Пока машина выбиралась на проезжую часть, Вильхельм снял шляпу и положил себе на колени, обнажив круглую голову, слегка оттопыренные уши и затылок, упрямо возвышавшийся перед стеклом. И ей вспомнилось, что еще в те времена, когда они были детьми, эти его оттопыренные уши и упрямый затылок вечно маячили У нее перед глазами, и она подумала, что отныне Вильхельм только таким для нее и останется — уши и затылок, стоит ей только подумать о нем, сразу же в памяти возникнут уши и затылок и ей станет противно. Он, конечно, тут не виноват, но почему он считает своим долгом сопровождать ее, когда ей так хочется остаться одной?
Она попробовала откинуться на спинку и закрыть глаза, и все равно его затылок маячил перед ней сквозь мерцание белой и красной дымки, пока глаза ее не превратились в два мертвых слепых шарика. Душа снова рванулась покинуть тело, и она поспешила открыть глаза и, прижавшись лбом к стеклу, стала смотреть на дорогу, пытаясь понять, куда ее везут. Но ведь она и так уж очень далеко и все равно не нашла бы пути назад, и, наверное, отныне каждый шаг, каждое слово будут только уводить ее все дальше и дальше. Через какой-нибудь месяц она уже сможет разговаривать с людьми и улыбаться, через год стряхнет с себя путы и погрузится в будничную суету, а лет через пять-шесть станет понемногу забывать. Самым ужасным, ужаснее всего на свете казалось ей сейчас, что она забудет! Она сильнее уперлась лбом в стекло, у нее было сейчас одно Желание: чтобы время остановилось, чтобы его вовсе не было, тогда в этом вакууме она найдет себе пристанище, она будет сидеть там не шевелясь, глядя в пустоту сухими глазами. Но, даже в полном отчаянии, она сознавала, что такого пристанища ей не найти. Многие верят в существование ада, но они ошибаются, никакого ада нет. Есть только Время и Забвение, и властен над ними один Господь Бог.
Машина ехала по улице. Свет утреннего солнца, тенистая зелень деревьев и высокие стены домов, мелькая перед глазами, сливались в сплошную полосу. На стенах ряд за рядом мелькали окна, темные, незрячие, а за окнами спали люди, наверное, им вовсе не хочется просыпаться, ведь им так уютно, обнявшись, в мягком тепле постели, но вскоре им придется все-таки разомкнуть объятия, и они вынырнут, устремятся к поверхности, словно воздушные пузырьки со дна стакана, и их глазам предстанет все то, что они называют действительностью. С утра до вечера они будут беспорядочно кружиться в суете повседневных дел и забот, пытаясь что-то ухватить, на что-то больно натыкаясь и плача, но иной раз им повезет, и они будут плутовато улыбаться. А когда однажды ночью настоящая реальная действительность нагрянет к ним, они ее не признают. Она-то ведь тоже ее не признала, когда та неожиданно предстала перед ней: она стиснула руки, не видя ничего вокруг, не слыша и не понимая, что ей говорят. Теперь все это позади, она снова понимает слова, чувствует, что берет в руки, а со временем и белый слепящий свет наполнится живыми оттенками — и все станет таким же, каким было прежде. В конце концов она совсем позабудет, что когда-то столкнулась с реальной де йствительностью.
Машина свернула с улицы в переулок, и она, к своему удивлению, увидела кое-что знакомое: вот витрина булочника со спущенными жалюзи, а чуть дальше перекресток и четыре высоких тополя. Попыталась угадать, бывала ли она здесь в детстве или еще когда-нибудь, и лишь потом сообразила: да это же тот самый переулок, где она живет. Поняла она это, когда машина замедлила ход и остановилась у низенькой изгороди перед калиткой, где на табличке был указан номер дома. Значит, здесь я живу, подумала она. У нее снова перехватило дыхание, и она замерла, тупо глядя на табличку с номером дома. Потом калитку загородила спина, спина Вильхельма. Он вышел из машины и стал рассчитываться с шофером. Сначала пересчитал мелочь, но оказалось недостаточно, пришлось вынуть из бумажника купюру, он аккуратно разгладил ее и лишь после этого решился выпустить из рук. Шофер слегка приподнял фуражку и открыл для нее дверцу, по-прежнему отвернувшись в сторону. Вильхельм протянул было руку, чтобы помочь ей, но она уже сама вышла из машины.
— А вы подождите немного, — попросила она шофера.
— Но… как же… — Вильхельм растерянно остановился.
— Не надо! — сказала она, тоже не двигаясь с места.
И шофер стоял, не закрывая дверцу. Так они и стояли, все трое, возле машины.
— Пошли, — сказала наконец она, взяла Вильхельма под руку и повела. Он хотел было открыть калитку, но она провела его мимо, там, чуть дальше, стоял фонарный столб, у него она остановилась и оперлась о него спиной. — А теперь уезжай, Вильхельм, — сказала она.
— Но… как же, разве тебе не нужно помочь?
Он даже в лице изменился, обиженно надутые губы придавали ему глуповатый вид.
— Как же так? — повторил он.
— Не надо! Уезжай.
— Неужели я ничем не могу тебе помочь? — снова спросил он. — Может, тебе что-нибудь нужно? — Спохватившись, он вытащил бумажник. — Деньги-то у тебя есть? Нет ведь, наверное, денег. Бери же, у меня есть деньги.
Она даже улыбнулась. Ей вдруг жаль стало этого постороннего человека по имени Вильхельм. Но слышать, как он твердит: «Деньги, деньги», и видеть, как он теребит этот свой бумажник, было невыносимо. Она взяла у него бумажник и сунула ему в карман. Он не пытался возражать, но теперь, когда она отказалась от денег, ему здесь вроде бы совсем уж нечего было делать, и он вдруг заплакал, бедняга. По его побледневшему лицу градом хлынули слезы. Губы дрожали, точно у малого дитяти.
— Сестренка! — всхлипнул он и зарыдал еще сильнее. — Сестра, о-о-о, сестренка!
Она взяла его под руку и повела обратно к машине, он не противился и только плакал и повторял:
— Сестренка! О-о-о, сестренка!
И неуклюже забираясь в машину, и потом, уже в машине, протягивая к ней руки, все твердил:
— О-о-о, сестренка!
Шофер, глядя в сторону, придерживал дверцу.
— Ну езжай же, — сказала она. — Поезжай!
Наконец машина рывком тронулась с места, Вильхельм было приподнялся на сиденье, пытаясь что-то еще сказать через заднее стекло, но от рывка плюхнулся обратно, и последнее, что она видела, были его вцепившиеся в спинку руки. Она постояла, глядя, как машина проехала мимо четырех тополей и скрылась за поворотом, подождала еще, чтобы убедиться, что он больше не вернется. И вот она осталась совсем одна. Где-то в саду запела птица, ее не было видно среди ветвей, но казалось, вместе с ликующими звуками из ее горлышка струится свет, он становился все ярче и ярче, и все вокруг стало до ужаса, до безумия ярким. Надо скорее войти в дом, там, наверное, пение птицы не будет слышно так громко. Рука сама нашла и открыла калитку. Далеко внизу из-под ног убегала к дому усыпанная гравием дорожка — серые и белые камешки, маленькие вершинки и расселины между ними. А дом стоял и смотрел на нее. Если бы гардины были спущены, она тоже могла бы взглянуть на него, но она знала, что гардины не спущены, что дом не спит и смотрит на нее своими квадратными мушиными глазками. Поэтому она тихонько обошла его сбоку и поднялась по трем ступенькам к двери. Машинально сунула руку в сумку и вынула ключ. Осознала это, лишь увидев, как ключ пытается попасть в замочную скважину. Он вилял у нее в руке, звякая по металлической накладке; так клацаешь зубами, когда продрогнешь, подумала она. Но наконец все же она очутилась дома, и сразу настала тьма, она постояла, привыкая, и из темноты проступил кусок линолеума. Узор на Нем повторялся и повторялся до одурения, потом вдруг бешено закружился, стираясь, исчезая из виду…
Сейчас упаду, подумала она. Но она не упала и не подняла взгляда, потому что знала, что рядом висит пальто и ждет ее. И трость ждет ее, и шляпа. Ведь дом был полон вещей, которые молча ждали ее. Правда, слева была дверь в маленькую комнату, куда муж почти не заглядывал, может быть, хоть там ничего такого нет. Собравшись с духом, она робко вошла, подошла к окну, где должно было стоять кресло, чуть позже она обнаружила, что сидит в нем. Предметы все еще плыли вокруг, но все медленнее и наконец застыли на месте. И свет раннего солнца, казалось, тоже застыл в неподвижности и словно бы материализовался, включив в себя и узорчатые тени деревьев, и сияющий зеленью газон, и ограду, и серо-белую дорожку. Все это она видела отраженным в полированной столешнице красного дерева, и ее собственное лицо было частью этой картины. Но поверх всего лежал темный, таивший неясную опасность предмет, и, хоть он не двигался, казалось, он плывет, точно лодка по лесному озеру. И, глядя на него, она вдруг поняла, что зря она плакала, отказывалась верить, пыталась укрыться от действительности, ведь все это время он лежал и ждал ее и ей суждено было прийти сюда и найти его. Эта мысль принесла ей огромное облегчение, наконец-то все встало на свое место, и ей нечего было больше бояться.
Предметом этим была трубка.
Она взяла ее, устроила поудобнее в ладони, чувствуя, какая она гладкая и холодная. Но страха не было, она осмелилась даже приложить ее к лицу и ощутить щекой ее прохладу, осмелилась даже вдохнуть ее запах. От трубки сильно пахло табаком, просто одуряюще сильно, никогда в жизни она не слышала такого могучего запаха, разве только в детстве, когда она, бывало, валяясь на лужайке, уткнется лицом в траву. И вот, пока она так сидела, держа ее в ладони, вдыхая ее запах, рассматривая узор на чашечке, она вдруг почувствовала, что у нее словно открылись глаза, весь мир предстал перед ней в новом свете. Раньше она и вообразить не могла бы, что такая маленькая вещица вмещает в себе столь огромное богатство. Годы ее жизни ушли бы, вздумай она рассказать обо всем, что с нею связано. Объяснить ее суть и значение. А все то, что вобрал в себя ее запах, все виденное и пережитое — нет, никогда в жизни не сумеет она рассказать и ни одна живая душа никогда в жизни этого не поймет! Она будет, она должна быть единственной, кто знает о трубке все и знает, как она прекрасна.
Трубка сильно потемнела от времени, стала почти черной, но и теперь еще на ней отчетливо прослеживался древесный узор. Новой она была золотисто-коричневая, но по ее поверхности так же бежали красивые прожилки, и был какой-то особый смысл в том, что их рисунок напоминал узор на лепестке ириса. Именно поэтому муж сразу ее приметил и остановил на ней свой выбор. Он углядел ее как-то в витрине, по дороге на службу, и, наверное, с того дня всякий раз, проходя мимо, останавливался перед витриной табачной лавки. Трубка лежала там на коричневой бархатной подушечке, а на улице стоял он, не в силах оторвать взгляд от дивного узора, и как же ему хотелось заполучить ее. Однажды она встречала его у конторы, и по пути домой он остановился возле витрины и показал ей вожделенную трубку. На ней была указана цена. Она стоила пятнадцать крон, и это еще дешево для такой вещи, сказал он. Она не поняла, почему пятнадцать крон — это дешево, тогда он очень горячо стал объяснять ей, какая это замечательная трубка, и в конце концов она прониклась его чувствами и ей тоже стало казаться, что пятнадцать крон и в самом деле дешево. Но когда она хотела зайти в магазин, чтобы купить ему эту трубку, он ее остановил. Нет-нет, она его не поняла, он вовсе не собирается ее покупать. Потому что хотя пятнадцать крон за такую вещь, конечно, дешево, но все-таки она дорогая. И не так уж она ему нужна. Во всяком случае, он вполне может без нее обойтись.
Так они стояли и спорили, дважды она порывалась зайти в лавку, а он хватал ее за руку и удерживал, но наконец ей удалось открыть дверь, колокольчик звякнул, так что отступать было уже поздно. Он не зашел вместе с ней, остался на улице перед витриной, и она видела, как он там стоял, пока владелец табачной лавки заворачивал покупку. А потом они ехали в трамвае. Он развернул трубку, вертел ее так и этак, ощупывал большим пальцем и снова перечислял все ее необыкновенные достоинства. Глаза у него в тот день были ясные, как у мальчишки, и всякий раз, как взгляд его переходил от трубки к ней и обратно, в уголках глаз вспыхивали искорки. Упаковка от трубки — коробка, кусок шпагата и шелковый мешочек — лежала у него на коленях, и говорил он так громко и увлеченно, что все пассажиры только на него и смотрели, а когда вошел контролер, он никак не мог найти билет, стал рыться в карманах, коробка полетела на пол, мужчина, сидевший напротив, поднял ее и подал ему. Мужчина улыбался, да и все в трамвае смотрели на него и улыбались. Так живо ей все это помнится, они как раз проезжали мост Королевы Луизы, в трамвайные окна били солнечные лучи, блестела освещенная солнцем водная гладь, стая чаек вихрем пронеслась мимо, сверкая белыми крыльями. И все в трамвае улыбались, а на ней в тот день была шляпа с широкими полями и летнее платье в синюю и белую клетку. Был, наверное, субботний день — ведь она встречала его только по субботам, когда контора закрывалась рано, — и скорее всего, было начало лета. И ветер, и белые крылья чаек, и солнце в каждом окне — да, конечно, это было в начале лета.
Она попыталась припомнить, который тогда был год. Нет, точно она не могла бы сказать, помнила только, что то было удивительное лето, когда дни были так похожи один на другой, когда у них в доме целыми днями играли солнечные пятна, они перемещались, изменяли форму, но не исчезали до самого вечера. Закрыв глаза, она вспоминала то лето и видела, как солнечные пятна, блуждая по комнате, подбираются к столу красного дерева, в его полированной крышке они отразились так ярко, что ей пришлось открыть глаза. Вот и в тот день было ясно, но очень ветрено, и солнечные пятна рисовали на полу беспокойные фигуры, а он ходил взад и вперед и курил свою новую трубку, и она спросила его из кухни, как она на вкус. Он ответил, что вкус у нее кошмарный, как у всякой новой трубки, и заявил это так торжествующе, будто кошмарный вкус был высочайшим ее достоинством. И она смеялась и смотрела, как он ходит взад и вперед по комнате. Вид у него был серьезный, истовый, а дым из трубки беспокойно колебался в воздухе, то попадая в луч света, то уходя в тень. Она вспомнила, что вдруг почувствовала легкий укол непонятной тревоги, ведь момент-то был такой забавный, такой счастливый и такое у него было лицо с трубкой во рту, когда он произнес это слово: «кошмарный»…
И поздно вечером он вышел из ванной тоже с трубкой во рту, на этот раз, правда, не зажженной, а ночью трубка лежала на столике возле его кровати, а рано утром он уже сидел у нее в ногах и курил, а поднос с завтраком стоял между ними, и солнце посылало длинные ласковые лучи на стены и потолок. Табачный дым тоже ласково поднимался вверх, извиваясь голубой змейкой, а голос мужа, как обычно по утрам, был мягкий; умиротворенный.
А днем они сидели на скамейке где-то в парке, лучи солнца пробивались сквозь листву, и, когда он вытащил и стал набивать трубку, маленькие, круглые солнечные пятнышки бегали по его лицу и рукам. Ее рассмешило, что он так и держит новую трубку в шелковом мешочке, но он сказал, что иначе она может поцарапаться или засориться, а он намерен беречь ее, чтобы она служила ему до конца жизни. Так он говорил, а сам тем временем в своей обычной неторопливой манере набивал трубку, потом крепко умял табак большим пальцем и наконец зажег. Пламя спички, попав в солнечный луч, стало совсем невидимым. День, вероятно, уже клонился к вечеру, потому что, как ей помнится, свет был мягкий и нежный, а глаза у мужа грустные, как часто бывало в это время дня. Пытаясь восстановить в памяти дальнейшие события в какой-то последовательности, она поняла, что многое забылось. Ну, например, долго ли хранился у него шелковый мешочек, в который он поначалу убирал трубку? Вряд ли так уж долго, потому что, закрывая глаза, она не видела больше мешочка, только его руку, как она берет трубку и набивает ее табаком, спокойно, неторопливо. Трубка в воспоминаниях была теперь более темной, но светлые прожилки на дереве проступали даже отчетливее, чем прежде, а однажды он ей сказал, что именно поэтому ему так хотелось иметь совсем светлую трубку. Не потому, что светлая красивее, новой она была даже довольно безобразна, зато какое удовольствие наблюдать, как она постепенно становится все темнее, а прожилки на дереве проступают все ярче. Эта трубка стала даже красивее, чем он ожидал, она уже теперь гораздо красивее всех его трубок, и ни одна из них не имеет такого вкуса. Можно покупать трубки уже обкуренные, ему самому случилось однажды обзавестись такой, но у нее никогда не было настоящего вкуса, и он ее давно забросил. Хочешь — верь, хочешь — нет, но у каждой трубки свой неповторимый вкус, и даже если покупаешь две совершенно одинаковые, вкус у них все равно окажется разный. Трубка приобретает вкус тех мест, где бывал человек, который ее курит, тех мыслей, что он передумал, тех дел, которыми он занимался.
— А у этой знаешь какой вкус? Твой, — сказал он под конец. — Ты мне ее подарила, в этом все дело. Когда я курю ее на службе, я вижу, как ты хлопочешь по дому. Вспоминаю твои волосы, твои губы и какие у тебя глаза, когда ты мне что-то рассказываешь, вспоминаю запах в шкафу, где висят твои платья…
Так он говорил, и она помнила, что это было в поезде, они возвращались из-за границы. Они ехали навстречу ночи, за окном быстро темнело, сумерки опускались на бескрайнюю равнину, где жили незнакомые люди, говорившие на своем незнакомом языке. Свет в купе еще не зажигали. Немного погодя она спросила, соскучился ли он по детям.
— Нет, — сказал он. — А ты?
— Нет, — сказала она. — Ни разу о них не вспомнила.
Тут он чиркнул спичкой, чтобы закурить трубку, и она увидела его лицо и руки, выступившие из темноты. Он ничего не сказал, только улыбнулся и покачал головой. И она вновь почувствовала легкий укол тревоги оттого, что вот она ничуть не соскучилась по детям, и оттого, что ничего ей сейчас больше не нужно, нечего больше желать. Она сидела и следила взглядом, как при каждой затяжке разгорался жар в чашечке его трубки и тут же исчезал, скрываясь под слоем серого пепла. А вскоре и все исчезло.
Было ли это в нынешнем году или в прошлом? Или это происходило пять, семь, десять лет назад? Нет, не удавалось ей связать события во времени, ведь наиболее живо и близко казалось то, что происходило много лет назад, а дни вчерашний и позавчерашний и последние недели и месяцы вплоть до того, что случилось вчера, терялись в каком-то страшном далеком и нереальном прошлом. Смутно вспоминалось, как она стояла у окна и ждала, когда подъедет и остановится у калитки машина, как он вошел, подошел к ней и сел в кресло, в котором сейчас сидит она. И вспомнилось это словно в сумерках, в черно-белом цвете, впрочем, белым было только одно — его лицо и руки. Но его ли это было лицо — с заострившимся носом и запавшим ртом? А руки? Разве его это были руки? Он пытался раскурить трубку, но у него ничего не получалось. Он вытаскивал спичку за спичкой, они чиркали с каким-то странным сухим треском, и пламя неуверенно прыгало над чашечкой.
Вкус у нее все-таки отменный, сказал он. Он снова ощущает вкус табака, значит, самое страшное позади.
— А операцию, что ж, пусть сделают на всякий случай, — добавил он, расправил плечи и затянулся. И еще раз прыгающей спичкой зажег трубку и еще раз пояснил, операция, мол, такая, что и говорить-то не стоит.
Тут подъехала машина и остановилась у калитки, и, увидев ее, он сразу же встал и вышел в переднюю. Но когда они оба уже оделись, он вдруг вернулся, сказав, что кое-что позабыл. Ничего он не забыл, просто прошел по всем четырем комнатам и, конечно, постоял, посмотрел в окно и тут-то, наверное, и положил трубку на стол, совершенно машинально…
Там она и лежала и ждала ее. В ней еще оставалось немного пепла, он не выколотил ее, как обычно делал. В остальном же все было как прежде — след от его зубов на мундштуке и углубление от острого клыка, какое оставалось на всех его трубках. Это была его трубка. Вчера он ее сюда положил. Она принадлежала ему. Она была его. Его!
А сам он мертв.
Эта мысль подспудно все время была с ней, но теперь она могла думать об этом и даже произнести это вслух без отчаяния, да и вообще ничего не чувствуя. Потому что теперь она знала, что ее жизнь тоже кончилась. Там, в больнице, она рыдала, ломала руки, объятая ужасом, пыталась ускользнуть от действительности, спрятаться в скорлупу молчания, потому что где-то внутри, наверное, теплилась надежда, что ей еще осталась какая-то жизнь. Но маленькая вещица лежала и терпеливо ждала ее, чтобы сказать ей, что ее жизнь тоже кончена. А таких вещей и вещиц еще тысячи, десятки тысяч, вещей, которые раз и навсегда отмечены прикосновением его рук, на которых отпечатался его взгляд. Эти вещи теперь закрыты для других. Отныне она единственная будет знать их, понимать их значение, цель ее теперь сближаться с ними все больше и больше и в конце концов слиться с ними воедино. Помимо этого, ей оставалось только стариться, а ее детям предстоит взрослеть, у них будут свои дети, и она отдаст им все, что у нее есть. И это будет не так уж мало.
А ее жизнь кончена.
Немного погодя она выглянула в окно и обнаружила, что солнце поднялось немножко выше. Она стала думать о детях, они ночевали у ее сестры. Надо пойти привести их домой. Они небось давно уж проснулись. И она с радостью подумала о том, как увидит их этим белым утром, услышит их милые сонные голоса.
ОГНЕННЫЕ КОНИ НА БЕЛОМ СНЕГУ
Когда стало темнеть, он решил уйти и побрел один через лесок к дому, чтобы спокойно поразмыслить о том, что с ним произошло. Пока он взбирался с санками на холм, еще отчетливо слышались голоса ребят, смех и протяжное «Береги-и-сь!» летящих вниз саночников. Но едва он очутился на противоположном склоне, едва за ним сомкнулась частая решетка стволов, он перестал различать голоса и выкрики, они слились в монотонный гул прибоя, бьющегося на обширной ложбине, белевшей меж холмов. Он то и дело останавливался, прислушиваясь к себе, весь погруженный в воспоминания об этом, о сегодняшнем, тихонько встряхивал головой, оно было словно пожар, испепеляющий все на своем пути, горел даже снег, к утру здесь не останется ничего, кроме черной растрескавшейся земли.
Несколько раз ему показалось, будто его окликнули снизу: «Ни-и-льс!» Наверно, просто послышалось или звали какого-нибудь другого Нильса. Он ушел тайком, ни с кем не простившись, ему хотелось побыть с этим наедине, обдумать это. Нет, еще не сейчас, еще рано, надо отойти подальше, туда, где никто не увидит и не услышит его. Нет-нет, еще не сейчас, задыхаясь, внушал он себе, поминутно оступаясь на скользком склоне; он пошел быстрее, но споткнулся и кубарем скатился вниз вместе с санками. Некоторое время он лежал, распластавшись на снегу, и так смеялся, что потемнело в глазах, — он больше не ощущал себя живым человеком, он превратился в неодушевленный предмет, ему уже не подняться, он так и будет лежать на спине, уставившись на луну. Смеясь, он вспомнил, как смотрел на луну днем: пока они стояли на вершине и ждали своей очереди, он с отчаянием взглянул на ее диск, будто помолился ей перед спуском, такой далекой и бледной на дневном небе. И потом луна снова промелькнула перед его глазами — в тот раз, когда ей вздумалось самой править санками и они опрокинулись, — падая в снег и чувствуя на себе ее тяжесть, он увидел, как плясала луна, то ли высоко в небе, то ли в глубокой бездне, увидел это сквозь пелену ее волос или за снежной башней, взметнувшейся ввысь в то мгновенье. Потом он больше не видел луну. Сейчас, в сумерках, она разбухла, налилась светом и стала медленно спускаться прямо к нему, а он все лежал, глядя на ее холодные мертвые горы, на плывущий под ней свод из черных застывших веток, под которым, распластавшись на белой земле, плыл и он сам. Он ждал, когда луна спустится с неба и раздавит его. Вернее, раздавит лишь пустую оболочку, оставшуюся от него, ведь он уже не человек, не мальчишка, глядящий на луну, а неодушевленный предмет. Он умер в тот миг, когда они вместе упали в снег, когда она…
Чуть погодя он с трудом поднялся на ноги, об этом еще нельзя было думать, особенно о том мгновении. Но все-таки он стоял и думал, не замечая, как стынут от холода щеки, его пухлые губы беззвучно шевелились. Он тихонько покачал головой, о господи, нет, это непостижимо. Все произошло как во сне, просто ему приснился таинственный, непонятный сон, после которого он был как в дурмане, не чувствовал ни рук ни ног, о господи. Он прислушался к мелодичному звону где-то там, за припорошенными стволами, похожему на звон бубенцов; там вдалеке звенели бубенцы на упряжках, развевались белые полсти, летели по ветру гривы коней, проносившихся мимо него по кругу. Он представил себе ее: вот и ее легкие сани с огненным конем мчатся мимо, вот они уже на дороге, первые в этом звенящем хоре. Ее брат правит стоя, она сидит у его ног, освещая полумрак своим взглядом, она сняла шапку, и ветер играет ее черными волосами — как на запомнившейся ему картине, где женщина плыла в бурю на лодке, и ветер играл ее черными волосами, и сияла на небе луна… Увидев, что он еще там, наверху, она что-то весело крикнет, остальные тоже что-то ему прокричат и звонким вихрем промчатся мимо на своих огненных конях, а он так и будет стоять, весь в снегу, — неказистый парень в нелепых сапогах, с нелепыми санками, унылый нелепый увалень… они умчались, а он все стоит и смотрит им вслед, сознавая собственное ничтожество, сознавая, что его с ней полет сквозь снежные облака, сквозь снежные солнца и звезды не значили ровно ничего, ничего не значило и то, что они лежали, укрытые снегом, и она…
Нет, больше она его не увидит, больше его никто не увидит: он погиб окончательно, ему только и осталось отыскать укромное место, где в полном одиночестве он позволит этому острому сладкому жалу вонзиться глубоко-глубоко и медленно умрет от блаженства. На минуту он стряхнул с себя дурман — надвигается опасность: в сумерках ясно слышались голоса, вдалеке скользил лыжник, упруго пригнувшись, он ловко огибал стволы, и вслед ему скользила длинная шелковистая лыжня, снег скрипел у него под ногами, словно заколдованный этой ночью и чародейкой луной. И снова вдали послышался гул голосов, он бросился прочь, будто зверь, спасающийся от лесного пожара, а навстречу ему неслись высокие деревья, похожие на зеленых гренадеров, — теперь, когда он стал мертвым, он мог слышать, как деревья переговариваются, увидел, как шагают вперед их поющие шеренги, устремляясь навстречу гибели. Вот та самая тропинка, настолько утоптанная множеством ног, что сквозь неглубокий снег' проступили красные листья, будто кровавые следы на этой тропинке, и его сердце тоже истекало здесь кровью, когда он вез ее на санках. Днем снега на тропинке почти не было, он вез ее прямо по красным листьям, ему было тяжело, но он и не представлял себе, что к кому-то можно испытывать такую глубокую, острую до боли нежность. С каждым шагом он все сильнее истекал кровью. Он уже знал, что должно произойти. Знал, что она…
Нет, отныне никого и никогда не должен он встречать на этой тропинке! Он перескочил через канаву и пошел прямо по сугробам, в сапоги набился снег, он с трудом поднимал ноги и тяжело дышал. И вот наконец он там, куда еще никто не добирался. Вокруг, насколько хватал глаз, последние лучи нежно ласкали снег, будто это был не снег, а кожа, которую с бесконечной нежностью ласкала рука… Нет, не вспоминать о коже, об этом нежно белевшем горле, об этой ямочке на ее шее, в которой так отчаянно бился пульс… Сердце у него неистово билось, тоже где-то у горла, билось в глазах, в кончиках пальцев, билось там, на снегу, и лучи, ласкающие снег, вздрагивали от ударов пульса… Пришлось остановиться и перевести дух, пришлось тяжело опуститься на санки. Он обхватил руками колени и сидел неподвижно, весь сжавшись, пережидая, пока утихнет сердце, рассеется туман в глазах и он снова увидит снег. Маленький клочок земли, покрытый снегом. Снова увидит свои руки, рукава куртки, меховые варежки с синим рисунком и голенища сапог, почерневших и заскорузлых от талой воды. Он вдруг заметил, что у него промокли ноги, что пот холодит спину, что он весь задубел и стал похож на черную промерзшую колоду; он был в отчаянии, пленник этих нелепых сапог, нелепых санок, этого обличья невзрачного, нелепого парня. Для всех он просто невзрачный и нелепый пятнадцатилетний парень. И для нее тоже. О господи, если б она только знала!
Холод пробирал все сильнее, а он сидел, отдавшись одиночеству, разглядывая птичьи следы. Их тут было полно, этих птичьих следов, они виднелись повсюду, пересекались, кружили, покрывая снег тончайшими письменами. Он решил, что это следы черного дрозда, на белом снегу дрозд кажется особенно черным; в ветвях послышался легкий, по-зимнему сухой шорох: из сумерек на него внимательно смотрел блестящий черный глазок. Внимательные глаза со всех сторон смотрели на него из темноты, и он почувствовал, что птицы понимают его, и он тоже их понимал, их незатейливые снежные лабиринты и деловитую возню в кустах. Он и сам такой же, он похож на того черного дрозда, который жил у него недолго, когда он был маленьким. Ранним утром он нашел этого дрозденка у ограды: тот сидел, спрятав голову под крыло, в лучах холодного багрового солнца. Птенец был большой, уже оперившийся, но даже не попытался скрыться, поймать его ничего не стоило. Наверно, что-то у него было повреждено, хотя Нильс ничего не заметил. Птенец весь день пробыл у него в комнате, вечером он уложил его в коробку с мягкой травой, однако рано утром дрозденок непонятно как выбрался из дома и снова уселся под оградой в лучах холодного багрового солнца. На том же самом месте, где сидел накануне. Несколько дней он выхаживал дрозденка, давал ему подслащенную воду и хлебный мякиш, но птенец ни к чему не притрагивался, однако каждое утро ухитрялся выбираться к ограде и, прижавшись к ней, прятал голову под крыло. В конце концов дрозденок исчез. Нильса пытались утешить, убеждали, что птенец вернулся к своей маме, к братишкам и сестренкам, но он-то знал, что дрозденок умер. Все эти дни птенец хотел лишь смерти. Тогда, в детстве, он этого не понимал — ведь птенец выглядел совсем здоровым, только сейчас ему пришло в голову, что, может быть, птенца закогтил ястреб, унес его далеко от родного гнезда, от мамы, братьев и сестер, ведь, даже если ястреб и выпустил его, дрозденок уже не мог вернуться домой и все равно что умер. Бесполезно было отогревать и кормить его, ему хотелось только сидеть, спрятав голову под крыло, и снова плыть в когтях у ястреба все дальше и дальше, в головокружительную высь. Он хотел смерти, одной только смерти…
Уже много лет Нильс не вспоминал про дрозденка, а сейчас вдруг понял его. Он ведь и сам как тот дрозденок. Где-то далеко-далеко его дом, родители, братья, сестры, там тепло и уютно, да что толку? Станет ли для него этот дом снова домом? Неужели это он сидел когда-то за столом у окна над уроками? Неужели это он, мучительно боясь опоздать, мчался в школу? Неужели это он, лежа вечером в постели, так радовался, что завтра воскресенье, или его день рождения, и его ждут подарки у кровати, или Сочельник, и все будут танцевать вокруг сияющей огнями елки и петь «Зеленей, сияй во славу»? Он невольно усмехнулся и покачал головой — всего месяц назад он вместе со всеми танцевал и пел у елки, ему подарили оловянных солдатиков, он отнес их в школу и отдал Хенрику. Нарочно при ней отдал. Хенрик растерялся:
— Чего это ты вдруг?
— Бери, бери, мне они больше не нужны, — сказал он, специально чтобы она слышала.
Дома никак не могли понять, почему он стал таким бледным и молчаливым, равнодушным ко всему, спрашивали, что с ним случилось, но лучше умереть, чем откровенничать со взрослыми. Ох эти взрослые, вечно они торчат за столом, сидят, жиреют, без конца едят да болтают, развалившись с сигаретой на мягких креслах; осунувшийся, бледный, он молча проходил мимо них к себе в комнату и садился читать — листал одну книгу, потом брал другую, ее тоже откладывал и подходил к окну.
А ночью вставал с кровати и снова подходил к окошку, поглядеть на луну, на звезды, или одевался и тихонько шел на улицу и брел туда, где живет она, к ее белому домику с обнесенным высокой изгородью садом, к деревьям у края поля, там он садился и замирал, не сводя глаз с ее окошка. Снова и снова приходил он туда, бродил по глухим тропкам и зимой и ранней весной, под ее колючим, будто ледяные иголки, дождем, под молодым круторогим месяцем среди бегущих облаков; словно тень бродил он там белыми летними ночами и поздней осенью по багряной шелестящей листве. А теперь он погиб окончательно, то, что случилось, останется в нем до самой смерти, и не хочется думать об этом, но все равно думается, все равно он умирает опять и опять… О господи, единственный раз он не уследил за санками, когда ей вздумалось править самой, но у нее ничего не вышло: они съехали с колеи и понеслись по крутому склону сквозь частую решетку стволов, и высоко взметнулся снег — разобьемся! — нет, они не разбились, но только закружились перед глазами деревья, и склон, и темные фигурки наверху, бледная дневная луна заплясала то ли высоко в небе, то ли в глубокой бездне, а они вдруг очутились в снежной могиле, и все исчезло, и она упала на него. Он ничего не видел из-за снежной пелены — или это были ее волосы? — но слышал, как она хохотала ему в ухо и никак не могла перестать, хотя санки уже остановились, и лишь звонкое смеющееся эхо нарушало тишину; внезапно он ощутил на глазах ее волосы, ее лицо приблизилось к его лицу, и ее губы медленно нашли его губы. Она поцеловала его, когда они лежали там, погребенные под снегом. Она поцеловала его…
Он встал. Только не думать об этом, о господи, он не мог усидеть на месте, но идти тоже не мог, потому что дрожали ноги. У первого же дерева он опустился на корточки и прислонился спиной к стволу, дожидаясь, когда остынет кровь и легче будет дышать. Ведь он не хотел думать об этом. Ее поцелуй был совсем не похож на те, о которых мечтают или читают в книгах. Он длился одно мгновение, не больше, но как медленно приближалось ее лицо, как долго он ощущал на глазах ее волосы, и все это время он словно летел в бездну. Он запомнил лишь обжигающее дыхание ее губ. Какие они были, горячие или холодные, нежные-нежные или чуть шершавые?..
Нет, лучше не думать об этом, лучше вспомнить по порядку весь сегодняшний день. Утром им сказали, что они всем классом пойдут кататься на санках, встретиться решили на горке, неожиданно к нему подошла она и спросила:
— Нильс, а ты пойдешь кататься?
Он сразу ответил «да» или вообще ничего не ответил и зачем-то полез в парту. Она постояла, словно ждала ответа, но он, покраснев до ушей, прятался за крышкой; а все ребята в классе радостно галдели и прыгали через парты, предвкушая прогулку. Никто не услышал, как она спросила:
— Нильс, а ты пойдешь кататься? Давай с тобой встретимся. Нет, она сказала не так, а просто: «Встретимся».
Они встретились по дороге. Он вспомнил, как шагал вдоль полей, какой он был сильный в ожидании этой встречи, тропинка убегала у него из-под ног, вдали синела кромка леса, похожая на мерно покачивающийся далекий синий берег, и он почувствовал себя капитаном, и корабль его несся по ослепительному океану счастья. Или будто он летел галопом на бешеной тройке, и кнут со свистом рассекал воздух, и поля вокруг тоже были счастьем, необъятным, как Сибирь.
Взобравшись наконец на пригорок, он увидел ее на мостике через Мельничный ручей. Она оперлась на перила и смотрела в воду, рядом стояли ее лыжи. Он медленно спустился, едва сдержав крик внезапно охватившей его муки, настолько сильной, что ему захотелось убежать или незаметно пройти мимо; но он подходил все ближе и ненавидел себя за нелепую куртку, за нелепые сапоги и нелепые санки, он знал наверное, что она заметила его еще издалека, хотя продолжала с притворным равнодушием смотреть на воду. Сам ли он подошел к ней или она, вдруг обернувшись, окликнула его? Этого он не помнил, помнил только, как они стояли у перил и смотрели на воду, он задыхался и не мог вымолвить ни слова, потому что рука его касалась ее руки… помнил, как яростно бурлила под мостом черная вода, и теперь, стоило ему закрыть глаза, он видел бесчисленные водовороты и летящие вверх брызги и слышал, как хрустально звенела кромка льда вдоль берега, звенела, словно тысячи колокольчиков. Они долго стояли рядом, глядя на бурлившую черную воду, прежде чем он успокоился и стал слышать, что она ему говорила. Вернее, успокоился он уже в лесу, она с лыжами сидела на санках, он вез ее, а она все жалела, что мало снега. Утром ей показалось, что снега много: весь сад был в сугробах, — а здесь, в лесу, его почти не видно, полозья царапали землю. Он помнил каждое ее слово и как она произносила их. Не зная, о чем говорить, он пустился бегом и так запыхался, что уже и не мог ничего сказать. Местами снега совсем не было, только красные листья, он тащил санки по этим листьям, замирая от ощущения ее тяжести, он даже не представлял себе, что можно испытывать такую глубокую, до боли острую нежность. Наконец они достигли огромной белой ложбины, на которой чернела длинная очередь саночников, и окунулись в гул голосов. К ним подбежали двое парней, приятели ее братьев, у них были настоящие сани, с рулем, и он тут же отошел в сторону: конечно, она захочет кататься с ними. Однако у них что-то стряслось с рулем, она не захотела ждать, пока его исправят, и вернулась к нему, предложив кататься вдвоем.
— Давай прокатимся вдвоем? — сказала она.
Потом они стояли бок о бок на вершине и ждали своей очереди, он мельком взглянул на бледную, почти прозрачную луну, повисшую над ложбиной, и поклялся скорей умереть, чем опрокинуться теперь вместе с нею. Они действительно не опрокинулись, проехали далеко по тропинке, оставив позади толпу зрителей. Она сказала, что так далеко еще никто не заезжал, что у него замечательные санки. Он возразил — слишком тяжелые. Но она уверяла, что это-то и хорошо. Они все сидели в санках, обсуждая их, и он заметил, что голос у нее какой-то незнакомый, срывающийся и чуть напряженный, и она сказала:
— Еще разок.
И они катались еще и еще, они почти не разговаривали, но каждый раз, когда они летели вниз, она смеялась и вскрикивала этим незнакомым, напряженным голосом. Их дважды приглашали на большие сани, но ей хотелось кататься с ним; в конце концов она решила править сама, но у нее ничего не получилось: их санки понеслись под откос, он упал, и она упала на него — он замер, всем телом ощутив ее тяжесть, и ее волосы закрыли ему глаза, и ее лицо медленно приблизилось к его лицу…
Нет-нет, не надо об этом. Теперь надо вспомнить о том, как она потеряла при спуске шапку, ему пришлось искать ее, он брел как в чаду, но шапку нашел, а когда вернулся, все уже собрались уезжать: внизу на дороге выстроилась вереница упряжек, впереди — ее брат на санях, запряженных огненно-рыжим конем. Она уже сидела в санях и, пока он нес ей шапку, не сводила с него глаз, но он не хотел думать о ней, об ее глазах. Ему хотелось думать об огненном коне, как он похлопал его по влажной, горячей шее, а конь нетерпеливо бил копытом по снегу, вскидывал голову, и с удил летела белая пена, а глаза метали молнии — тпру, тпру! — это был очень молодой, еще пугливый конь, которого впервые запрягли в сани. Он все думал об огненном коне, и ему почудилось, что снежную белизну заполонили огненные кони; закрыв глаза, он видел, как они вихрем мчатся вдали, окружив его необъятным огненным кольцом, слышал мелодичный звон колокольчиков на их сбруе. Но может, это были не огненные кони, а бурлящая черная вода, что звенела под мостом, задевая кромку льда у берега, звенела, словно тысячи колокольцев. Бурлящая черная вода, вихрем летящие огненные кони, но стоило ему открыть глаза, и уже не на снежной белизне, а в его собственной крови звенели тысячи колокольчиков, он прекрасно понимал, что на самом деле только и думал о той минуте, когда ее волосы закрыли его глаза, и ее лицо медленно приблизилось к его лицу, и губы ее коснулись его губ…
Больше он уже не мог сидеть здесь, под деревом, он встал и пошел домой. Дома он тоже не будет находить себе места, но куда-то ведь нужно идти. Он шел очень медленно, тяжело ступая, санки тащились за ним по снегу, а он ничего не замечал.
ПЕРВОЕ УТРО
Нет, это был не сон, он и вправду лежал на спине и смотрел, как маленькие светлячки исчезают в ночном море. Он уже ничего не желал, ничего не боялся, и тело его сливалось с потоком мрака. Но теперь он почувствовал, что снова обретает весомость и поднимается к свету. Прохладное дуновение коснулось его лба, и красные лучи заиграли, как пальцы, по векам. Но просыпаться не хотелось, не хотелось проснуться и понять, чья рука лежит на его груди, ее или его собственная, и чья это нога, которую он ощущает где-то на краю света, — ее или его. Что-то шелковистое щекотало его щеку, он улыбнулся в полусне — ведь, может быть, это ее волосы и, может быть, пульс ее бьется так сильно, что светится красным. Ему не хотелось проснуться и понять, что он слышит ее дыхание, различить, где он и где она. Но постепенно его дыхание отделилось от ее, он открыл глаза, и мысль приплыла издалека вместе с солнечным лучом: первое утро…
И сразу эта мысль стала удивительно ясной, как будто он знал и понимал в ней все. Но вдруг налетело облачко, как, бывает, облако заслоняет солнце, и она от него скрылась. Он попытался вызвать эту мысль снова, но уже не мог больше осознать, что проснулся в это первое утро вместе с любимой. Не мог понять, что он больше не один.
Лежа неподвижно лицом к солнечному лучу, он заметил, что ее голова соскользнула с его плеча на подушку, ее рука, обвивавшая его, разжалась, она стремилась уйти от его пробудившейся тревоги, глубже погрузиться в сон. Он ощутил острую боль от этой разлуки с ней, как будто там, где раньше покоилась ее рука, открылась и кровоточила огромная, во всю грудь, рана. Он уже не мог лежать спокойно, соскользнул с кровати, постоял, чуть дрожа от утренней прохлады, глядя на любимую и снова пытаясь додумать до конца мысль о том, что отныне он никогда не будет один. Но понять это никак не мог. Стремясь понять и снова стать самим собой, он глубоко вдохнул воздух и поднял обе руки над головой. Он смотрел на круглые румяные щеки, обрамленные двумя потоками белокурых волос, на голубую жилку, трепетавшую под кожей, на мягкую ямку под мышкой, покрытую легким светлым пушком. Смотрел с благоговением, видя во всем этом вечную тайну и в то же время нечто родное, как будто любимая была плотью и кровью от его плоти и крови. Как будто это он сам лежал и спал, освещенный утренним солнцем.
Он ждал, что она проснется и заговорит с ним. Но она не просыпалась, а только улыбалась во сне. И эта сонная ее улыбка вызвала в нем воспоминание о ночи, он вспомнил все: жертвенный мрак, черноту крови, боли и страха. Она не кричала и не сетовала, он только ощутил, как повлажнели ее волосы от страха и слезы беззвучно катились по лицу. Он не видел этого в темноте, он ощущал это руками, пытался что-то шептать ей, но она не отвечала. И каждый из них был одинок в этом мраке отчуждения, между ними стояло его немое желание, ее немая боль и страх. Он был не властен ей помочь, его слова не достигали ее, он мог только причинять ей боль. Он чувствовал себя потерянным, бесконечно одиноким во мраке. Но теперь было утро, и с изумлением он увидел, что все это неправда, об этом говорила ему улыбка спящей возлюбленной. Он не одинок и никогда более не будет одинок, от мрака и смерти этой ночи осталась только улыбка, легкая загадочная усмешка ее губ. И он понял, что любимая вечно будет властвовать над ним с помощью этой улыбки, как будто она сама родила его в боли и страхе из мрака на свет, как будто он заново родился из ее лона. Что-то в нем восстало против этой улыбки, с помощью которой любимая хотела владеть и повелевать им, он стоял и ждал, чтобы она исчезла. Но она не исчезала, а искрилась, распространялась по всему лицу, вот уже улыбались и брови, и смеженные ресницы, и лоб, и волосы. Белокурые пряди улыбались, раскинувшись по подушке, освещенные солнцем, как будто немного подсмеиваясь, чуть-чуть издеваясь. И он понял: она — женщина и потому вечна, а он — мужчина и преходящ. Чуть ли не с горечью подумал о том, что, когда он умрет, и умрут все его мужские мысли, и исчезнет все, содеянное его руками в мире, не оставив следа, эта щедрая улыбка спящей женщины будет жить в раннем утре единственным воспоминанием о нем, единственным залогом его бессмертия.
Он подошел к окну. Оно было на верхнем этаже высокого дома и выходило на восток. Он видел, как утренний свет потоком струится по крышам, видел, как из-за утесов поднимается солнце — огромное и красное, видел крепость на горе. Вспомнил, что нынче Пасха. Воскресение, подумал он, и от одного этого слова все стало удивительно ясным. Теперь он знал, что Бог есть, что чудо воскресения и в самом деле свершилось, что в этом чистом, ярком свете нет ничего невозможного. Где-то далеко, в восточной стране, было вот такое же утро, и женщины пришли к гробу, высеченному в скале, чтобы обмыть покойника, но мертвеца там не было, камень был отвален от гроба, и на нем сидел ангел, видом подобный молнии, в белых как снег одеждах. Он слышал этот рассказ в детстве, позже читал его в Библии, но не понимал, что это — правда, ибо до сегодняшнего дня никогда не видел такого чистого, яркого утреннего света. Он стоял, озаренный этим светом, видел, как он, подобно красному пламени, играет на легкой белой занавеске. Ему стало стыдно: он прожил много лет, не веря в Бога и в чудо воскресения. Лицо его исказилось, и он заплакал. Но, заметив, что плачет, он подавил слезы, в нем проснулось упрямство. Я плачу, подумал он, а если она проснется и спросит почему, я не смогу ответить. Не могу же я толковать ей о Боге и о чуде. Не могу сказать: мое счастье так велико, что похоже на смерть. Она этого не поймет. Для нее смерть всего лишь слово, она женщина и живет настоящим. Даже во сне она улыбается и живет настоящим. Она — мое вечное настоящее. Она не должна видеть, что я плачу. Пойду к себе, чтобы она, проснувшись, не увидела моих слез.
Он осторожно открыл дверь и прошел по коридору гостиницы в свою комнату. Комнатка была маленькая, она выходила на запад, в ней не было солнца, царили тень и холод. Он постоял и, глубоко вздохнув, ощутил запах, который был когда-то его запахом. Почему никогда раньше он не замечал этого тяжелого, застойного запаха, сопутствовавшего ему много лет? Теперь, войдя как посторонний, он ощутил последний слабый след человека, жившего другой жизнью, называвшейся «вчера», наполнявшего эту тесную комнату своим потом, своими мыслями, своим унынием и страхом. Он улыбнулся и вдохнул в себя этот запах, поняв, как тщетно и не нужно было все, что он делал до сих пор. В течение многих лет он боролся с самим собой в маленькой темной комнате, но борьба ни к чему не приводила, и только женщина чудом родила его к новой жизни. Он улыбнулся, заметив свою одежду, висевшую на спинке стула, серый зимний костюм, морщивший в спине и рукавах. Вот как, значит, выглядел тот чужой человек из вчерашнего дня, вот как он держал голову и плечи, так шел и стоял, такой у него был затылок и спина. Он никогда не знал этого прежде, хотя много раз смотрелся в зеркало. Но тот, кого он видел в зеркале, был отнюдь не он. Ему стало неловко при мысли о том, что другие люди видели его таким, каким он был в действительности. Одни эти морщинки на спине и рукавах должны были поведать им многое о его мире, его надеждах и мечтах, его вечной борьбе с самим собой. Он был далеким от жизни монахом, заключенным в маленькую темную келью, которая называлась «я».
Он вспомнил, что о нем говорили. «Замкнут, всегда занят собой» — так считал один из его учителей. «Спит на ходу, — это были слова другого учителя, — так и хочется его встряхнуть». «Он страшно скучный», — сказала одна девушка. «По нему сразу видно, что он не знал женщины», — заявил один из его однокашников. И все это было правдой, все это было видно по пустой спине пиджака, висевшего на стуле.
А посреди комнаты стояла пара ботинок. Вид у них был такой, как будто они всю жизнь топали по унылым, мокрым улицам. На вешалке висели пальто и шляпа, на полке над умывальником лежали гребенка, щетка и бритвенный прибор — старые, изношенные вещи, вдруг вырванные из обычной связи, жалкие вещи, как бы поднявшие многоголосый плач по покойнику, вспоминая его одиночество и плен. У стены стояла разобранная постель — алтарь его одинокого «я», куда он так и не взошел, его душа улетела. Он не мог сдержать улыбку, глядя на эту кровать с откинутой периной, ждавшую того, кто так и не явился. Посмеялся и над блестящими четырехугольными часами, стоящими на столике у кровати. Взял их в руки: что это, как не идол, маленькое бессильное изображение божества времени. Они тикали так, будто вот-вот разорвутся, старались любой ценой привлечь к себе внимание и, заикаясь, тараторили, как в бреду, о том, чего совсем и не существует. Он видел циферблат, похожий на белое лицо, на котором цифры и деления образовали удивительные морщины, человеческое лицо, слепо взиравшее на свое божество, увядавшее и старившееся от страха перед временем, которого не существовало. Время умерло, думал он, старое мрачное время умерло! Эта мысль привела его в восторг, он распахнул окно, чтобы выгнать старое время, и время исчезло в утреннем свете далеко за заливом, тенью растаяло на солнце. Он облокотился на подоконник и высунулся из окна, чтобы напиться крепкого прохладного воздуха. Он дышал и жил, он был на свете… Оказывается, все эти годы только и нужно было, что распахнуть окно.
Внизу лежала тень, глубокая и тихая тень над улицами, над гаванью с таможней и складами, а где-то далеко два мола стремились навстречу солнцу, похожие на длинные руки, раскрывшиеся в объятиях, чтобы принять первый утренний паром. А тот как бы застыл в заливе, и крылья чаек застыли в воздухе над ним, и волны, сверкая на солнце, застыли вокруг него. Молы казались ему двумя женскими руками, светлыми руками любимой, поднятыми над головой, ждавшими, чтобы его душа, подобно кораблю, вернулась и они могли бы заключить в объятья и защитить ее. Все, что он видел, было только отражением любимой, вся эта крошечная частица мира обретет жизнь и станет действительной только через нее. Скоро ее глаза откроются навстречу утру, скоро для них засверкают волны и мелькнут крылья чаек, похожие на белые тени. «Смотри, чайки», — скажет она, и лишь тогда чайки оживут и смогут умчаться в своем совершенном полете. «Смотри, корабль!» — скажет она, и лишь тогда корабль действительно поплывет. Но пока мир еще ждал, пока все было застывшим и рельефным, как будто нарисованным на полотне, и сам он неподвижно лежал, высунувшись, на подоконнике. Ему было холодно в тонкой пижаме, его охватывала блаженная дрожь ожидания, кровь стыла от восторга. И молы по-прежнему раскрывали объятья, а далеко в солнечном свете корабль, и волны, и крылья чаек торопились, торопились, но так и не сдвигались с места.
Он посмотрел на берег Зеландии с его мягкими очертаниями заливов и мысов, исчезавший далеко за лесистым перешейком. Вся сущность этого берега заключалась в том, чтобы выступать и отступать, уходить и возвращаться, все время уходить и все время возвращаться. И такова же была его собственная сущность. Он стоял на другом берегу и озирал свою жизнь. Там, в Зеландии, прошло его детство, упоительно счастливое и полное отчаяния. Там были у него отец и мать, братья и сестры, друзья, там был его дом. Он закрыл глаза и увидел дом, где жил, тополя в саду, и поле за ним, и ручеек, в котором он мальчишкой ловил рыбу. Ручеек тоже петлял, образуя заливчики и мысы, он вспомнил их и проследил взором течение ручья. А вот он сам лежит навзничь в траве, смотрит, как красный поплавок прыгает на освещенной солнцем воде.
Он вспомнил весну: долгие бледные сумерки, и дорогу вдоль живой изгороди, и свой красно-синий волчок, как он вертелся и жужжал и как под конец опрокидывался в дорожную пыль. Он вспомнил освещенную солнцем стену дома, он сидит на корточках и пускает свои шарики, они катятся и ударяются о стену, он вдыхает ее тепло и запахи черной жирной земли.
Ему вспомнилась осень — он бежит, бежит по жесткой стерне, где-то далеко слышится крик, уносимый ветром, а он держит в руках натянутую веревку, уходящую куда-то в небо, а бумажный змей поднимается все выше и выше…
И зима. Санки летят по длинному лесистому склону, откуда-то снизу доносятся голоса, похожие на шум прибоя. Он и сам кричит, кричит в лесу, а снег летит, летят и по-зимнему черные стволы, и где-то далеко среди всей этой белизны горит костер…
Однажды августовской ночью он вернулся домой, несомый и радостью и отчаянием, как двумя черными крыльями, он не мог спать, не мог войти в дом, лег на спину в сырой траве и увидел, как падает звезда…
Но вот он ощутил поющий прерывистый ритм — время приблизилось, он сидел в поезде напротив нее. Они остались одни, последние лица и голоса исчезли. Всю дорогу они избегали смотреть друг на друга, выглядывали в окно, наблюдали за другими людьми. Но наконец взгляды их все же встретились, застенчивые и быстрые, он заметил, что она бледна. Она и сама это почувствовала и поспешила скрыть это, спросив его о чем-то безразличном, кажется о чемодане. Но голос ее изменился, стал тихим и бледным, как ее лицо. Она говорила так, как говорят в церкви, а он поспешно ответил, чтобы окружающие этого не заметили. Он наклонился, уперся руками в колени и смотрел вниз, на пол, увидел, что и она смотрит вниз. На полу лежали спичка и кучка пепла от сигареты, их слегка потряхивало в такт движению поезда. Он все смотрел вниз и знал: пока он жив, он никогда не забудет этой спички и кучки пепла. В окно прорвалось солнце — низкое, багровое солнце над горами облаков на западе. Только что прошел дождь, на наружной стороне окна висели светлые капли и дрожали от ветра. Он выглянул в окно и увидел человека, копавшегося в саду. «Посмотри», — вырвалось у него, и она ответила тихо: «Да».
Она сразу поняла, что он хотел показать ей этого человека, старого человека в синей фуфайке. Старик шагал сгорбившись, перевертывал пласты черной земли и даже не взглянул на проходящий поезд, он и не слышал его. Он уже отрешился от внешнего мира, и для него существовало лишь низкое багровое солнце, и голубые горы облаков на западе, и темная земля, к которой он так грузно наклонялся. Скоро его закопают в нее и накроют ею, как простыней. Оба они смотрели на старика и его вечную землю, пролетая мимо в собственном времени с его постоянной гонкой и ощущая путешествие как что-то ненастоящее. Тем более что они видели себя двумя бесплотными тенями в оконном стекле.
Тени летели в сумерках, призраками проносились сквозь мокрые черные леса, бежали рябью по прошлогодней листве, тонули между насыпями и ненадолго исчезали во тьме под мостом. И снова выныривали на другой стороне, окутанные облаками клубящегося пара, приближались к берегу, бежали по воде… Оба долго молча следили за своими бегущими тенями, не осмеливаясь взглянуть друг на друга. К ночи поднялся ветер, высокие деревья качались, стекла окон звенели. В домах стали зажигаться огоньки, сначала один, потом все больше и больше, и вот уже бесчисленное множество маленьких мерцающих огоньков улетают назад, в бурю и мрак. Вскоре и в поезде зажгли свет, мрак встал черными стенами за окнами, теперь уже им трудно было не глядеть друг на друга. Свет был такой бледный, вокруг — бледные лица, склонившиеся над газетами, и головы и газеты качались в такт движению поезда. Серый табачный дым поднимался кверху. Бледные, серые люди были похожи на курильщиков опиума, погруженных в забытье. Они как бы пережевывали умерший день с его странными черными значками, а сами мчались в неизвестность между двумя ревущими стенами мрака. Один пассажир спал в своем углу, большое уродливое тело полностью вручило себя хаосу, оно качалось, тряслось и металось, отдавшись движению поезда… Он смотрел на полуоткрытый рот спящего, и его ужаснуло, что из этого черного провала слышалось дыхание, что спящий был человеком, наделенным способностью говорить, что спящий мог слышать и видеть, хотя давно был мертв. Как будто он заглянул в ад…
Но в эту минуту она наклонилась быстрым и легким движением, исполненным такого очарования, что у него замерло сердце.
— Послушай, — сказала она, взяв его за руку и улыбнувшись.
Он ответил улыбкой, и его охватило такое острое ощущение жизни, что ему стало больно. Он жил мягким шорохом ее платья, легким ее дыханием и движениями, жил потому, что она улыбалась и касалась его, потому что груди ее были двумя нежными, хрупкими птицами, на минуту нашедшими убежище у него. Она сказала что-то о том, что ему следует уложить вещи — ведь они уже подъезжают. Он кивнул, поняв ее, и встал. Руки причудливо вытягивались, плыли в бледном свете купе, среди мертвых и спящих. Вечность звенела в ушах.
Поезд остановился, и они зашагали по мокрому черному асфальту перрона, в котором отражались фонари. Прошли через вокзал и вышли на портовую площадь. В заливе бушевал черный шторм, их уже ожидал паром, сиявший, рядами огней. Чемодан был тяжелый, он на минуту поставил его.
— Мне холодно, — сказала она и взяла его под руку. — Меня укачает. Он ответил, что по морю придется плыть недолго, скоро они пойдут под прикрытием шведского берега.
— Тебе надо выпить, чтобы согреться, — сказал он. — Хорошо бы и поесть тоже.
А сам думал: еще не поздно повернуть назад — и знал, что и она думает то же. Они беспрерывно говорили, чтобы скрыть свои мысли.
Взойдя на паром, они спустились в ресторан выпить по рюмке портвейна. Но когда пол и стены задрожали и повернуть назад было уже невозможно, они поспешно поднялись по узкому крутому трапу на верхнюю палубу. Сидели там, тесно прижавшись друг к другу, в самом сердце шторма, под ними был паром, где-то звонил колокол, за ними сверкали огни Зеландии, глубоко внизу с шумом расплывались во мраке белые пятна пены. Ее лицо в эту штормовую погоду казалось белым и изможденным, глаза были большие и черные, далекие огни отражались в них фосфорическим светом.
— Мне холодно, — сказала она, хотя они сидели, прижавшись друг к другу; он снял с себя пальто и плотно накрыл им ее и себя.
Теперь они уже не могли видеть друг друга в этом густом, мохнатом мраке, похожем на пещеру, но могли разговаривать.
— Я такая старая, — сказала она, — слишком старая для тебя. Он засмеялся так, что пещера задрожала.
— Да, — настаивала она, — мы почти ровесники, и я уже старая дева. Скоро у меня появятся седые волосы, я поседею, постарею, не успеешь оглянуться, как я буду сухой, сморщенной старухой…
Ее пальцы приютились под его пиджаком, и он почувствовал, какая она маленькая и хрупкая, маленькая и старая. Он засмеялся от чудесного слова «старая».
— Да, — ответил он, — ты старая. Старше всех, легче всех, меньше всех. — Его обуяло чувство невообразимого счастья при мысли о том, что они вместе состарятся, вместе умрут, он сжал ее и поцеловал где-то под ухом, где у нее была крохотная коричневая родинка. У него голова кружилась при мысли об этой маленькой родинке, которую он всегда будет находить на том же месте, даже тогда, когда она состарится. — Спи, — сказал он. — Скоро мы приедем, закрой глаза и спи.
Но они по-прежнему сидели рядом и слушали, как бушевало море внизу. Они знали, что возврата нет.
Они сошли на берег, миновали тесную таможню, пересекли площадь, следуя за рассыльным из гостиницы, который нес их чемодан. Шли порознь и молчали. Он поглядывал на нее искоса, а она смотрела прямо перед собой, шла бесшумно, скользящим шагом, с удивительной уверенностью, которой он не замечал у нее раньше. Он знал, что рядом с ним шла его жизнь и смерть, быстрая, легкая, молчаливая.
Он не слышал, как она вошла, но, обернувшись, увидел, что она стоит в дверях в длинной золотистой ночной рубашке. Она подняла руки, зевнула и потянулась, откинув голову и заложив за нее руки.
— Как тут у тебя темно и неуютно, — сказала она.
Он подошел к ней и обнял ее за талию. Она по-прежнему держала руки на затылке, это делало ее высокой и тонкой, он мог бы пальцами рук обхватить ее вокруг талии. Голова у него закружилась, казалось, что он близок к смерти. Одна золотистая бретелька скользнула ей на руку, она бросила на нее взгляд и улыбнулась.
— Кто разрешил тебе просыпаться так рано? Что ты тут делаешь раздетый? Тебе ведь холодно. Ты заболеешь.
— Нет, — ответил он, — мне не холодно.
А сам дрожал от холода, дрожал от ее улыбки, от того, что она говорит с ним так, как будто она его властительница. Еще немного, и у него зубы застучат. Черт возьми, думал он в отчаянии. Она властвует надо мной потому, что она слабее, нежнее, меньше, светлее и легче меня…
— На что ты там смотришь? — спросила она, подходя ближе. Исполненная шутливой подозрительности, она улыбалась своей загадочной улыбкой, и в уголке ее рта еще прятался кусочек ночного мрака. Она была его матерью, его совсем юной всеведущей матерью, поймавшей его на запретных мечтаниях. Они стояли у окна и смотрели, как паром скользит меж двух рук — молов. — Мы на нем приплыли сюда, — сказала она.
— А может быть, и на другом, — ответил он. — Они все одинаковые.
— Но я его узнаю.
— Возможно.
— Нет, не «возможно», а это именно тот паром.
— Хорошо, значит, тот.
Он посмотрел на нее сбоку. Глаза у нее были увлеченные, как у играющего ребенка, она переводила их с одного предмета на другой. Она создавала мир. Вот только что создала четыре дерева там, на площади, темные кроны их поднимались к небу, как дым, похожие на кроны тех деревьев, которые рисуют дети, четырьмя криками поднимались они в светлое утро. А люди торопились, машины с огромными ящиками катились по улицам, с пристани они забирали бидоны с молоком, бочки с блестящей сельдью. Все это свершалось в ее глазах, все это было поймано в одну сеть вместе с небом и ветром, вместе с солнцем на воде, это было чудесным отражением мира, мгновением, которое вот-вот взорвется и исчезнет.
Она отвела глаза.
— Я ужасно голодна, — сказала она, и весь мир исчез, взорванный селедкой, ароматным кофе и хрустящим свежим хлебом.
Он захохотал, взорванный счастьем.
— Что ты смеешься? — спросила она, подняв на него свои животворящие глаза.
А он все смеялся и смеялся.
— Ты ненормальный. Который час? — в одно мгновение она перевела взгляд на часы. Глаза ее знали, где стоят часы, они знали все. И сразу же родилось время. — Торопись, — сказала она, — я хочу позавтракать в ресторане. Мы пройдемся немного. Магазины открыты, здесь их не закрывают в праздник. Я хочу купить туфли. Оденься поскорей, ты так мешкаешь.
Она прыгнула в его раскрытую постель, длинная светлая ночная рубашка потухла под периной.
— Ух, здесь как в леднике, — сказала она, болтая ногами. — Я полежу здесь, а то они догадаются, что здесь никто не спал. Что ты опять смеешься?
— Ты такая практичная, думаешь обо всем.
— А ты ни о чем. Мне приходится думать за двоих.
Он намыливал лицо, глаза его следили за нею в зеркале над умывальником. Она удобно устроилась и лежала, положив руку под щеку. Притаилась, как будто подкарауливала кого-то. Но ее груди, бедра, колени под периной как будто сознавали свое могущество, и все ее тело улыба-лось. Она закрыла глаза и заснула, невинная, с округлыми щеками. Она грешила против закона, но осторожно, так, что этого никто не видел. Она Думала за них обоих, она обладала женской мудростью. Это нежное, золотистое существо под периной скрывало свою женскую мудрость. Она выучилась ей от своей матери, а та в свою очередь от своей матери…
При резком звуке электрической бритвы, коснувшейся его темной бороды, она снова открыла глаза. Он заметил, что она смотрит на него. Видя свой обнаженный торс в зеркале, он выпятил грудь и напряг мускулы. Черт, подумал он, я бахвалюсь и кажусь ей смешным. Но не мог не стараться выглядеть сильным — ведь она смотрела, как он бреется.
Наконец она встала и подошла к нему, стояла рядом и смотрела на него большими глазами.
— Хочешь верь, хочешь нет, но я никогда раньше не видела, как мужчина бреется, — сказала она. — Отец при мне никогда не брился. Я помню его всегда в белом накрахмаленном воротничке. Никогда не думала, что у мужчин есть шея. Ходи всегда без воротничка, чтобы люди видели твою шею. — Она говорила тонким голоском, застенчиво. Пальчики ее осторожно касались его.
— Оставь, — сказал он.
— Это забавно, — сказала она, — я думала, что ты твердый на ощупь, а у тебя кожа совсем мягкая. Когда я касаюсь тебя, то это как будто я касаюсь себя самой. Мне так хочется трогать тебя…
— Перестань! — повторил он.
— Ты порезался, — сказала она, когда он смыл мыло с лица. — Стой смирно.
Царапина была на шее. Она вытерла кровь и кончиком пальца наложила мазь. Ранка чесалась, горела, щекотала. Ее глаза с застывшими черными зрачками были совсем близко.
— Ты совсем не такой, как отец, — говорила она застенчиво, тонким голоском. — Я его, собственно, и не видела как следует, он умер, когда я была маленькой. Я видела других мужчин, и всегда думала, что все они похожи на него. Но ты не такой… Дай мне посмотреть твою руку. Я верю, что по руке можно читать. Вот эта линия, которая начинается у запястья, — это линия жизни, да? Она у тебя широкая. Прямо как река. А вот еще одна и кончается в том же месте. Две широкие линии. Но обе короткие. Похоже на то, что ты не состаришься… У тебя очень отчетливые линии. Наверно, по твоей руке легко читать, кто умеет. Но я не умею…
Ее мизинец был похож на лодку, плывущую по рекам его руки мимо гор и долин и широких открытых равнин. На блестящем выпуклом ногте было белое пятнышко — как луна над течением реки, белая дневная луна ее беспечности над ландшафтом его жизни. Он видел равнины и леса своей жизни, видел постель, на которой родился, видел где-то свою могилу, и надо всем этим светилась ее беспечность. Она была прошлым и будущим, молодостью и старостью, стояла, согнувшись, как старая ворожея, заколдовавшая его руку.
— Мне хочется сказать тебе что-то необыкновенное, — сказал он.
— Скажи.
— Но это, наверно, глупо.
— Все равно скажи. Скажи все необыкновенное и глупое, что тебе хочется. Скажи.
— В детстве у меня был волчок, знаешь, волчок, который мог высоко взлететь в воздух, и я не знал, где он опустится, я бежал, чтобы схватить его, прежде чем он упадет. Мне казалось тогда, что волчок умирает, и я бежал как сумасшедший, чтобы он не умер. Но когда я долго смотрел, как он вертится и летает, у меня начинала кружиться голова и я терял его из виду. Ты похожа на него. И у меня был змей, белый-белый змей. Когда он взлетал высоко, я ложился на спину и смотрел на него до тех пор, пока у меня не начинала кружиться голова. Тогда мне чудилось, что я лечу, лежу на поле и лечу. Ты похожа на него. И был ручеек, в котором я ловил рыбу, текущий ручеек, стрекозы висели над ним неподвижно в воздухе и звенели прозрачными крыльями, по воде бежала, поблескивая, мелкая рябь. От этого кружилась голова. Посмотрев на все это немного, я вынужден был закрывать глаза. Ты похожа и на ручеек, и на стрекоз. Когда-то мы с тобой вместе играли у ручейка и перекликались через воду. И качались вместе на моих качелях, ты сидела, а я стоял и раскачивал тебя, ты взлетала высоко над крышей дома, к самому небу, и кричала, потому что мне хотелось так раскачать качели, чтобы они совершили полный круг. Помнишь?
— Перестань, — сказала она. — Перестань говорить глупости. И вовсе я не похожа на все это, а ты просто сумасшедший. И конечно же, мы не играли вместе — мы же знаем друг друга всего месяц. Я не хочу больше слушать эту чепуху! Пойду к себе и приведу себя в порядок.
— Неужели ты не понимаешь? — говорил он, идя за ней по коридору в ее комнату, где плясал солнечный луч. — Ты похожа на то, во что я играл, когда был мальчишкой. Действительность — чепуха, а игра — это действительность. Мы будем играть вместе, для этого мы встретились. Мир полон людей, разучившихся играть. Мир полон мертвых взрослых. Мир полон до ужаса серьезных взрослых…
— И ты — один из них, — сказала она, выталкивая его за дверь. — Иди оденься.
Но вскоре она снова приоткрыла дверь и крикнула:
— Нет, иди сюда. — В щель двери он видел только ее нос и глаза. — Ты слишком много говоришь. Не говори столько чепухи. Мне становится страшно. Тогда мне кажется, что ты покинешь меня. Ты ведь останешься со мной навсегда?
— Да, — ответил он, — навсегда.
После завтрака они вышли на площадь и сели в большой синий автобус. В дороге они оживленно болтали, остальные пассажиры сидели молча, глядя на них и спрашивая про себя, кто эти незнакомые люди. Наконец и они замолчали. Солнце скрылось. Они ехали в городок под названием Хэганес — Высокий мыс. Им казалось, что он должен находиться где-то высоко и оттуда открывается вид во все стороны. Но их ссадили в маленьком обыкновенном городке с обыкновенными домами и безлюдной площадью, а за городом простирались голые пустыри и большая каменоломня. Было холодно и туманно, по небу ползли низкие белые облака. Они посмеялись над своей неудачей. Вернуться обратно можно было только через час, и они не знали, что им делать целый долгий час. Наконец зашли на кладбище, это было единственное место, где росли высокие деревья. Сразу же за железными воротами они увидели доску с объявлением и остановились прочитать его. На нем было написано: «Помни, как коротки наши дни. Не нарушай покоя мертвых, не кричи и не шуми, учи этому и детей и не сори бумагой».
— Пойдем, — сказал он и хотел идти дальше, но она все стояла и читала. Потом улыбнулась.
— Разве не удивительно? — сказала она. — Вот мы стоим здесь, читаем надпись и будем помнить ее, пока живы. Мы прочтем много книг и забудем их, побываем во многих местах мира и забудем их, но вот это мы будем помнить всегда. Потому что мы здесь уже были и придем сюда еще раз. Может быть, когда состаримся или в какой-то новой жизни. Я знаю только, что мы уже были здесь и снова придем…
Говоря это, она все смотрела на доску, и лицо у нее было бледное и спокойное. Легкая прядка волос выбилась из-под шляпы, и на ней сверкали мелкие прозрачные капли. Ему хотелось сказать ей, что она права, что и он чувствует то же самое. Но это казалось ненужным, ведь все было уже сказано.
— Пойдем, — повторил он, и они пошли дальше под высокими голыми деревьями, подобными черным теням в тумане.
Солнце было невидимо, скрыто скользящими белыми облаками. Они пошли прямо навстречу ему, шли все дальше и дальше, Их лица становились все более похожими, они были уже как бы одним существом, шли, держась за руки, как брат и сестра.
СУПРУЖЕСТВО
В первый день я почти не думал о моей беде, а просто шагал по дорогам, вцепившись взглядом в собственные ботинки, и только слышал скрип мокрого гравия под каблуками. Но вот в одном из поселков, в витрине булочника, я увидал, как мимо бредет мое тело, согбенное под тяжестью рюкзака. Страх охватил меня, я споткнулся и бросился бежать. Скорей, приказывал я себе. Но мало-помалу, убаюканный монотонной трусцой, я снова впал в забытье. Смеркалось, я сильно устал, но ноги еще долго двигались, как заведенные, пока я не набрел на постоялый двор, где мне отвели комнату. Есть я не мог и сразу же забрался в постель. Спать, говорил я себе. Но спать я тоже не мог. Тогда я перевернулся на спину, чтобы обдумать беду. Но думать о ней я не мог. И всю ночь я думал о другом.
Чуть только рассвело, я встал с постели, оделся. Увидел в зеркале свое лицо — и снова накатил страх. Беги, сказал я себе, скорей прочь отсюда. Ныли ноги, одеревенелые, стертые до крови, но утренний воздух взбодрил меня, я задышал глубже, смакуя сырые запахи поздней осени, умиротворенно обнимая взглядом бурую пашню. Вот теперь я обдумаю все, сказал я себе. Буду шагать, оглядывая поля, и спокойно обдумаю все. Господи, в самом деле, не конец же света настал, в первый раз, что ли, двое расходятся, к тому же мы ведь и не решили еще, словом, еще есть время подумать… Для того и пустился я в путь, чтобы все обдумать. Я громко разговаривал сам с собой, шагая мощеной дорогой, и палка моя в такт шагам постукивала по камням. Вот, шагаю и думаю о разводе, сказал я себе. Смотрите, я уже в силах шагать и думать об этом.
Но безмолвие вновь обступило меня, и снова меня захлестнул страх, оттого что я видел безмолвие. Видел, как всякий раз смыкался за мной строй деревьев — два нескончаемых ряда немых стволов тянулись у меня по бокам; видел, как пашня обращалась в море окаменелых волн и волна за волной уходила от меня к горизонту; видел рассветное солнце — желтое безумное око безмолвия. Мне негде было спрятаться и некуда было идти. Я замедлил шаг, потом остановился. Поплачь, сказал я себе. Но рыдания застряли у меня в горле, я стоял и с дурацкой ухмылкой разглядывал одеревенелые ноги. Как же все это случилось? — спрашивал я себя. Всего лишь мгновением раньше я был другим существом — легким, женоподобным, светлым; как могло статься, что я вдруг очнулся здесь взрослым сорокалетним мужчиной? Бреду по дороге и думаю о разводе. Последняя большая беда уже настигла меня, теперь я шагаю навстречу поре ничтожнейших огорчений, навстречу холодным звездам, навстречу созвездию Рыб, вся жизнь моя отныне пойдет под знаком Рыб. Так как же все это случилось?
Дорога сделала виток, и чуть поодаль я вдруг увидал лес, а ведь этот лес все время был у меня перед глазами. И снова прервалась нить моих мыслей. Я вступил под сень леса и, сойдя с дороги, опустился на пень, посидел немного, передохнул, и здесь, в кольце спящих деревьев, среди чар поздней осени, я снова впал в забытье. В сухой листве под кустами зашуршал черный дрозд, он вспугнул меня, и я заспешил дальше. Он живой, говорил я себе. Быстрый, теплый, живой. Его блестящие черные глазки преследовали меня неотступно, я никак не мог их забыть.
Весь день я шел лесом и только в сумерках вышел на тропку, огибавшую озеро. Развиднелось; тихий и ясный воздух дышал предзимьем, и вдалеке на западе плыли по небу багровые тучи. Я пошел навстречу багровым тучам, и в бездонном просторе за каждой далью открывалась мне новая даль. Там, на горизонте, былое сливалось с грядущим. И если уйти совсем далеко, там уже не будет развода.
Выглянула молодая луна, а над черной каймой леса уже давно тлели звезды, когда тропа вывела меня к знакомому постоялому двору. Как-то раз мы с женой ночевали здесь. А этой ночью меня сразу сморила усталость, и я уснул, но под утро мне вновь приснилось, будто я учусь в школе. Сон этот и прежде не раз снился мне, я узнал его и сквозь дрему приветствовал кивком: я снова вместе с малышами учусь в первом классе, хоть сам я уже взрослый; с трудом протискиваюсь я за низкую парту и втайне всего этого стыжусь. А малышам тоже за меня стыдно, они дивятся, что я, такой большой и старый, ни писать не умею, ни считать, даже учитель и тот старается не глядеть на меня. И тут вдруг звенит звонок…
На другое утро я уже твердо знал, что навещу родной город. Увижу дом, в котором жил, и все те места, где играл ребенком, и, конечно же, непременно зайду в мою школу. Я думал: может, потом легче будет принять решение насчет развода.
Назад я шел лесом, день был ясный и солнечный, трава сверкала росой, но к полудню на небо набежали тучи, мягкая дымка заволокла простор, а ближе к вечеру зарядил дождь. Я обрадовался дождю, я видел, как он плотными струями сечет по полям, и казалось, мое лицо заливают слезы. Только о дожде я и думал теперь, а он шипел, булькал, плескал. Под конец он уже падал такой густой стеной, что я ничего не различал вокруг, но мои ноги знали дорогу домой. Я шел туда с тайной надеждой в сердце, словно прятал под пальто огонек, способный рассеять тьму.
В мокрых зеркальных сумерках я вышел к городку и, миновав виадук, стал спускаться к вокзалу. От парка надо было свернуть влево. Но я дошел только до угловой лавки — и замер. Так уютно ложился на улицу свет витрины, я сразу узнал его и узнал витрину со всем, что было в ней выставлено. Потянуло войти в лавку, купить что-нибудь.
Затренькал дверной звонок — и колдовство свершилось: я снова школьник, мальчишка. Долго брел я в сумерках под дождем и вдруг ввалился в лавку, в слепящий блеск ее света, в пряный пар ее запахов. На мне ранец, я продел пальцы под ремни и сразу ощутил у себя за спиной груз учебников и пенала. При всем том я отлично помнил, что я взрослый человек и женат. Обе ипостаси мои мирно уживались друг с другом, знание же это было иного рода, приметой иного времени. Ведь сколько лет я пропадал на чужбине. Только сейчас наконец я нашел дорогу домой — и вот стою на пороге лавки, оглядываю себя. Ботинки в грязи, пальто окостенело от влаги. Мне стыдно шагнуть от порога: в лавке толпятся люди и за прилавком прежний хозяин— старик. Нет, оплошал я, за прилавком— молодой хозяин, сын прежнего, узнаю давнюю его привычку: мигом вытащив из-за уха карандаш, торопливо записывать что-то, потом, быстро взглянув на клиента, снова писать, писать… Просто он выглядит стариком. Хорошо, что молодой за прилавком, старый хозяин был любитель брюзжать и клиента заставлял мигом решать, что он хочет купить. А я ничего еще не решил. Онемевшими пальцами я расстегнул пальто и зашарил по карманам в поисках денег. Я надумал купить шоколадных конфет — большую коробку с этаким шелковым бантом. И отвезти конфеты домой. В углу лавки был застекленный прилавок, где лежал шоколад, — я подался туда.
В том конце лавки, чуть поодаль от прилавка, как и я, стоял человек. Внезапно я узнал его: это же мой учитель истории! Удирать было поздно: он заметил меня. Да и теперь я уже не боялся его.
— Здравствуйте, господин Брёндум, — сказал я и поклонился ему.
Он вздрогнул, попятился — ведь стоял, напряженно размышляя о чем-то. Лицо его, серое, как школьный ластик, странно подергивалось. Он завел глаза к потолку, выкатил белки.
— Что? — выкрикнул он. — Вы кто такой?
— Я — Йоханнес, — ответил я. — Вы не узнали меня, господин Брёндум?
— Йоханнес? — Он уставился на меня, серые складки лица заколыхались. — И правда Йоханнес! Теперь я узнал тебя. Конечно, Йоханнес. Здравствуй, Йоханнес, как поживаешь?
И подал мне руку. Я неловко схватил ее — не ожидал этого жеста. И снова отвесил ему поклон. А рука у него была мясистая, вялая. Будто мертвая.
— Ты где живешь теперь, а, Йоханнес? Да что ты говоришь — в Копенгагене? — (Словно Копенгаген — самая отдаленная точка земного шара!) — Так как же ты сюда-то попал?
— Пешком пришел.
— Пешком! Но ведь матушка твоя здесь уже не живет.
— Моя мать умерла.
— Умерла?
Серое лицо его погасло. Он покачал головой, еле заметно.
Стоит человек в лавке, в ослепительном свете лампы, и качает головой оттого, что прошлое рассыпалось и пропало, а перед ним— ученик, который сбежал из дома и так долго околачивался на чужбине, что за это время его мать умерла…
— Стало быть, ты живешь в Копенгагене совсем один?
— Нет, не один, я женат.
— Женат! — Брёндум теперь уже сильнее затряс головой: супружество, мол, еще хуже смерти. Перед ним его ученик, женатый школьник, который, хоть он и женат, в сумерках, под дождем, с рюкзаком на спине бродил один-одинешенек по дорогам и вымок до нитки.
— Господи, Йоханнес, детка, неужто ты вправду женат? Голос его рассыпался, как ком земли.
— Вам то же, что и всегда, господин Брёндум?
Засунув за ухо карандаш, старый молодой хозяин в буром рабочем халате двумя руками оперся на прилавок.
Брёндум угрюмо кивнул, и хозяин протянул ему бутылку в оберточной бумаге. Она уже давно дожидалась его. Брёндум сунул бутылку во внутренний карман пальто и застегнул пуговицы. Он долго возился с этим, все время опасливо озираясь по сторонам, но теперь в лавке уже не было никого, кроме одной-единственной девчушки. Стоя на цыпочках, она тщетно силилась заглянуть через край прилавка.
— Это крошка Биргит, — сказал Брёндум. — Живет по соседству со мной. Что, Биргит, будешь сегодня мятные леденцы покупать?
— Нет, — звонким детским голоском ответила Биргит. И показала листок, на котором мать записала ей, что надо купить.
— Раз так, я сам куплю мятные леденцы, — сказал Брёндум. — Дайте-ка мне леденцов на двадцать пять эре!
Втроем мы смотрели, как хозяин взвешивает товар. Потом Брёндум спрятал красный бумажный кулек в карман пальто. Биргит робко поглядывала то на карман, то на лицо учителя, но тот, словно уйдя в свои мысли, хмуро глядел в одну точку. Вдруг он хмыкнул злорадно:
— Хе, хе, думаешь, я купил леденцы для тебя? Глупая девчонка! Нет уж, сначала мы Йоханнеса угостим, он постарше тебя!
Биргит глядела, как он угощал меня леденцами. Затем и ей тоже выдали леденец. После этого Брёндум снова спрятал кулек. Биргит следила за движением моих губ, и я смотрел, как она работает ртом.
— Ты грызешь свой леденец, — сказала она, — а я нет. Вот, гляди, мой совсем еще целый! Видишь? — Она вынула изо рта леденец, потом быстро сунула его назад.
— Это еще что? — неожиданно вскрикнул Брёндум. — Куда подевались мои леденцы? — Он поискал в карманах, но так и не нащупал кулька. В конце концов он отыскал его в корзинке у Биргит. — Это еще что за новости? Никак, ты забрала мои леденцы?
Девочка рассмеялась:
— Да не брала я их. Ты сам подбросил их ко мне в корзинку.
— Какая нахальная девчонка! Ладно, раз уж ты отняла у меня кулек, так оставь себе. А у меня теперь, значит, ничего нет…
Голос его затих, он стоял, как нищий.
— Что ты, — сказала Биргит, протягивая ему кулек. — Да не брала я у тебя леденцы! На, возьми. Они же твои.
— Нет! — сурово отрезал он. — Теперь я их не возьму. И слушать не хочу. Оставь их себе.
Но девочка обхватила его руками и прижалась щечкой к его пальто.
— Ох ты, — сказала она, — всегда ты даришь мне леденцы! За что ты мне их даришь?
И опять он грозно выкатил белки, как взбесившаяся кобыла.
— Пусти! — сказал он. — Отстань! — Брёндум оттолкнул девочку. Отряхнул пальто. — Возьми свои леденцы и убирайся.
Биргит перепугалась, личико ее задергалось.
— Плакать-то к чему? — сказал Брёндум. — Совершенно незачем плакать.
— А я вовсе и не плачу! — упрямо возразила девчушка.
Мы молча постояли у прилавка. Хозяин складывал покупки в корзинку Биргит. Кулек с леденцами оказался сверху. Мы смотрели, как снуют руки лавочника. Приняв от него корзинку, Биргит быстрым движением отбросила красный кулек назад на прилавок.
— А ну возьми леденцы! — приказал Брёндум.
— Нет, — сказала девочка. — Не возьму.
Брёндум скрипнул ботинками. Занес над головой ребенка грозную длань.
— Возьми леденцы, я сказал!
Биргит пригнулась, ожидая удара, но удара не последовало. Грозная длань, однако, по-прежнему висела над ней. Девочка медленно сморщила личико и зарыдала. С громким ревом сдернула она с прилавка кулек и, испуганно втянув голову в плечи, худенькая, тонконогая, выбежала из лавки.
— До свиданья, Биргит, — сказал Брёндум, но она не ответила, лишь прощально затренькал дверной звонок. Тоненькая фигурка с высоко поднятыми остренькими плечиками нырнула во тьму. — Ха! — сказал Брёндум. — Вот шальная девчонка.
Но теперь он снова смотрел кротко и, казалось, не мог даже пошевельнуться в своем тяжелом черном пальто, оттопыренном на животе поверх бутылки.
— Нда, — наконец спохватился он, — мне, пожалуй, пора… — Но все так же не уходил и смотрел, как я покупаю коробку шоколадных конфет, большую белую коробку с голубым шелковым бантом. Он стоял, разглядывая коробку.
— Ты что, домой ее повезешь, Йоханнес? — спросил он.
— Да, — сказал я. — Я отвезу ее домой.
Он вновь покачал головой, отрешенно и безнадежно. Было ясно: я веду себя все глупей и глупей, заваливаю по глупости тот экзамен, где он, увы, бессилен мне помочь. Что такое коробка с голубым шелковым бантом, как не ошибочный, жалкий, нелепый ответ на очень трудный вопрос? Я и сам это понимал. Торопливо уложив конфеты в рюкзак, я завязал его.
— Как ты думаешь добираться домой? — спросил Брёндум. — Уже последний поезд ушел.
— Придется в гостинице заночевать, — ответил я.
Он задумался над моим ответом, а я тем временем расплачивался за покупку. Я заметил, что он оглядывает меня с головы до ног.
— В таком виде тебе нельзя в гостиницу, — сказал он, — ты же промок насквозь. Лучше уж пойдем ко мне, у меня и просушишь одежду.
— Спасибо, — сказал я и снова поклонился ему, — с удовольствием. Я все ему расскажу, думал я, расскажу ему про развод. Надо же мне хоть с кем-то об этом поговорить. Наверно, он ужас как рассердится на меня, но ничего, пусть сердится…
Такие мысли проносились у меня в голове, когда мы вдвоем выходили из лавки под треньканье звонка. Но Брёндум тут же повернул назад и захлопнул дверь.
— Это Йоханнес, — сказал он хозяину про меня, — представляете, он женат и живет теперь в Копенгагене. Вы помните, конечно, Йоханнеса?
— Нет, — сказал хозяин, — господина этого я не помню.
— Господин, говорите вы! — воскликнул Брёндум. — Какой он господин — просто глупый мальчишка. Он же у меня в школе учился — когда еще под стол пешком ходил!
И показал рукой, какой я был маленький.
— Понятно, — сказал хозяин лавки.
Брёндум снова распахнул дверь, и звонок затренькал. Учитель замешкался у порога, уйдя в свои мысли, а звонок дребезжал, дребезжал…
— Представляете, — гнул свое Брёндум, — мальчишка этот, Йоханнес, пешком сюда пришел. Под проливным дождем. А сейчас он пойдет ко мне — просушит у меня одежду.
— Понятно, — сказал хозяин.
Когда мы вошли в парк, дождь почти совсем перестал, и в макушках высоких черных деревьев гудел ветер. Я узнал этот долгий, протяжный гул, созвучный необузданным моим надеждам; гул летел через моря, через все города и страны, созвучный грядущим моим летам, победоносным летам мужчины. Казалось, лишь мгновение назад слушал я этот гул — и вот сорокалетним школьником семеню за учителем, этакий пай-мальчик в свой чуть ли не смертный час.
Я все ему расскажу, снова подумал я, расскажу, что с недавних пор вместо людей вижу рыб. Хожу по улицам и везде вижу рыбьи глаза, в гостях сижу и смотрю в свой бокал, гляжу, как со дна поднимаются пузырьки, слышу, как позвякивают кусочки льда, и сквозь стекло мой взгляд проникает в рыбий мир: здесь черные рыбины и белые, полосатая рыба-тигр, здесь плавает, извиваясь, рыба-телескоп с выпученными глазищами, — теперь и у меня самого кожа белая, как рыбье брюшко.
А по утрам мы с женой оба молчим. Прежде мы болтали и смеялись, смеялись, а теперь вот молчим. Так у нас теперь повелось. И в разгаре дня мы все так же молчим, сидим вдвоем за столом и не пророним ни слова, а встретимся взглядами — будто искра безумия полыхнет, но ведь когда-то в наших жилах бурлила кровь и мы с ней были одно. Но теперь у нас зашла речь о разводе. Развестись ли мне, господин Брёндум? Или обратиться в рыбу и говорить по-рыбьи и по-рыбьи смеяться и поедать других рыб?
— А ну, Йоханнес, — вдруг заговорил учитель, — назови-ка мне годы правления Вальдемара Победоносного!
— Не помню, — признался я. — Мы так давно это проходили. Но я непременно все выучу, господин Брёндум!
— Ладно уж, Йоханнес, — отозвался учитель, — ты и прежде был не из шустрых, хоть и славный парнишка. Потому-то я всегда защищал тебя на наших учительских советах. «Йоханнес совсем не глуп, — говорил я, бывало, — просто он думает не спеша. Я его классный наставник, мне ли его не знать». Запомни, Йоханнес: я всегда тебя защищал.
— А я и так помню, — сказал я. — Помню, в самый первый раз когда пришел в школу, я не смел войти в зал, где ученики хором пели псалмы. Я остался за дверью, совсем один. Но тут появились вы, вы взяли меня за руку и ввели в зал. И все время, пока другие пели, вы стояли рядом и держали меня за руку. Помните?
— Правда? — удивился он. — Нет, этого я не помню. Совсем-совсем не помню. Значит, говоришь, я за руку тебя держал?
Он добродушно бубнил, казалось, рядом со мной бредет во тьме косматый медведь и под лапами его шуршат сухие листья. Он рос у меня на глазах, раздавался и вширь и вверх, а я смотрел на него, закинув голову, смотрел на серое его лицо. Как тогда за утренней молитвой. Я и теперь с радостью уцепился бы за его руку, только не смел.
Парк поредел, вдали за стволами деревьев мерцал красноватый отсвет. Это догорало мое детство, неизжитое, но уже далекое. Снова меня сморила усталость. Из тьмы выступил черный силуэт школы. Господин Брёндум жил прямо напротив школы, и тихим проулком мы прошли к его дому. Старый домик этот весь зарос плющом, и на фронтоне серым крестом среди черных квадратов виднелось глухое окно. Однажды в новогоднюю ночь под этим самым окном нас собралось трое мальчишек, мы долго шушукались: затеяли снять с петель калитки в садах и утопить их в парковом озере, но, как дошло до дела, среди нас не нашлось охотника снять калитку учителя Брёндума. Мы долго шепотом препирались во тьме, но так и не исполнили своей затеи. Все это разом вспомнилось мне, когда я вошел в ту самую калитку и свет уличного фонаря выхватил из мрака глухое окно.
Брёндум долго перебирал связку ключей, отыскивая тот, который был ему нужен. Я не понимал, зачем ему столько ключей. Потом мы вошли в кромешный мрак коридора. Не зажигая света, Брёндум звякнул ключом у очередной двери.
— Входи, — сказал он.
— Но как же с ботинками — они грязные!
— А, наплевать, заходи.
Он зажег свет. Поспешно втолкнув меня в комнату, запер дверь. Затем поставил на стол бутылку, подошел к кафельной печи и, опустившись на колени, присосался к ней взглядом. Снова в глазах его блеснула белая ярость.
— Чертовка! — прошипел он, и кочерга заходила в его руках. — Чертовка проклятая!
Лампочка, свисавшая с потолка, резким холодным светом поливала четыре совершенно голых стены. Прежде на них были картины: на выцветших обоях там и сям виднелись темные прямоугольники. В углу, точно понурая кляча с торчащими из-под кожи ребрами и костями, стояла старая кушетка. Из-под кушетки выглядывал ящик с постельным бельем — стало быть, ночь за ночью господин Брёндум спал на спине этой тощей клячи. А за столом, в холодном свете лампы, он ел и работал: здесь лежали книги и школьные тетрадки и здесь же стояли грязные чашки и грязная тарелка и валялись объедки; вся столешница была в чернильных пятнах. А на стульях, вверху на большом шкафу и повсюду вокруг на полу кипами громоздились книги, старые газеты, вещи в тюках, перевязанных шпагатом, покрытых плотными ватными клочьями пыли. В мрачной духоте комнаты они жили своей затхлой мохнатой жизнью, ползали по полу без лапок…
— Чертовка! — снова воскликнул Брёндум, обращаясь к закопченной кафельной печи. — На полчаса и то от тебя не уйти!
В наказание он вторгся в ее утробу, казнил ее кочергой, выгреб на пол золу. Внезапно он замер, так и не поднявшись с колен.
— Тсс! — прошипел он.
Еле слышное шарканье донеслось сверху, потом вдруг сразу стало подозрительно тихо, словно кто-то, затаив дыхание, подслушивал наш разговор.
Брёндум прыснул и вроде бы снова повеселел. Вмиг зажег он дрова, и в узких квадратных глазницах печи взметнулось красное пламя.
— Ну что, дурища, — сказал он и похлопал по кафелю, — ничего, ты у меня еще молодцом.
Небрежно отряхнув пальто, он тут же снял его. Я сразу же узнал старый синий костюм, который он носил еще в мою школьную пору, только ткань лоснилась теперь еще больше. Да и галстук с вечным узлом был все тот же, и те же были белая манишка и негнущиеся манжеты, они срывались с рук и летели в класс, стоило ему распалиться гневом. Все было прежнее, только еще больше обносилось и обтрепалось.
— Ну, Йоханнес, — начал он, — язык у тебя, что ли, отнялся? Давай-ка сюда пальто! Да, пожалуй, и ботинки сними.
— А они сухие внутри, — сказал я.
Я уже не решался их снять. Меня снова обуял страх. Я жалел, что пошел к Брёндуму. Жалел, что вообще встретил его.
Брёндум пододвинул к печке стул и развесил на нем для просушки мое пальто, потом стал перекладывать книги, чтобы можно было усесться на стулья, освободил край стола. Затем он снял с бутылки обертку.
— Мне нечем как следует угостить тебя, — сказал он, — но мы можем согреться рюмкой портвейна. Брр, уже зима на дворе! Непременно надо по маленькой пропустить, не то закоченеем.
Он ввинтил в пробку штопор и коленями стиснул бутылку. Пробка вылетела с громким хлопком.
— Тсс! — прошептал он — да так и застыл в этой позе, с бутылкой между колен.
Снова послышалось то же мягкое шарканье; потом нависла напряженная тишина.
Брёндум злорадно ухмыльнулся.
— Дверь она приоткрыла, — зашептал он, — стоит на лестнице, подслушивает. Она не знает, что и думать: у меня ведь никогда не бывает гостей.
— Кто подслушивает? — спросил я. — Кто там?
— Спрашиваешь, кто там? — Серая рука медленно опустила бутылку на стол. — Господи, Йоханнес, неужто ты не знаешь, что у меня есть жена?
— Я знал, конечно, что вы были женаты. Но, если честно, я полагал, что…
— Что полагал? Говори!
— Я думал, жена ваша давно умерла.
Мгновение я боялся, что он меня ударит. Он снова яростно вывернул белки глаз и, кажется, уже занес руку. Но тут же вновь обрел благодушие и осел этакой благодушной серой громадой.
— Как мог ты такое подумать, Йоханнес? Умерла — как бы не так! Кто только тебе такое наплел? Да не умирала она! Где уж там — такая же живая, как мы с тобой!
— Да, но…
— Погоди!
Он подкрался к двери, приложил к ней ухо.
— Ну вот, теперь она ушла к себе… Так… так… может, и ты винишь меня во всем, что случилось? Неправда, нет на мне вины. Я все ей отдаю, что положено. Половину жалованья отдаю да еще пенсию. И весь дом ее, кроме вот этой комнаты. Так, значит, и до тебя дошел слух, будто я ее угробил?
— Ничего такого я не слыхал, — сказал я. — Никто ничего мне не говорил.
— Уж я-то знаю: толкуют, будто я голодом ее морю. Только отвернусь — люди за моей спиной шепчутся. А стоит войти в учительскую… Вот почему я ни с кем не разговариваю. И ни с кем не вожу компании. Правда, сейчас ты у меня сидишь, но ты-то другое дело. Твое здоровье, Йоханнес!
Он наполнил обе рюмки, мы чокнулись и выпили. У портвейна оказался резкий вкус спирта.
— Так ты, значит, слыхал, будто она умерла? Нет, уж будь спокоен: она жива. Она вообще никогда не умрет. И уж наверняка надолго переживет меня. Хоть люди и думают, что я голодом ее морю. А что знают люди? Когда она носится по городу и мелет языком, по ней ведь не видно, что она… Ладно уж, не будем об этом говорить.
Он снова наполнил рюмки.
— Твое здоровье, Йоханнес! Что ж ты вино не допил? Давай, мальчик, пей до дна! Нам с тобой согреться надо.
Брёндум шагнул к печке, подбросил в нее дров. Вернулся к столу и снова наполнил рюмки.
— Подумать только, как ты вырос, Йоханнес! А в школе ты был маленький, робкий парнишка. Нелегко давалось тебе ученье, а все же ты был славный мальчонка. И я всегда тебя защищал. Твое здоровье, Йоханнес! Понимаешь, ты на сына моего похож, на Якоба моего. Нет, нет, ты не знаешь его, он теперь в Америке. Но ребенком он был такой же, как ты. И я ребенком был такой же, как ты. Узнаю себя в тебе. В былое время и меня вроде тебя угораздило бы бродить по дорогам! В молодости я мечтал о собственной школе для детей, которым трудно дается ученье. Других учеников я и не стал бы принимать. Потому что — ты уж поверь мне — я в детях и вправду души не чаял.
Откуда-то из недр дома донесся протяжный вой. Вой нарастал, казалось, из трубы дымовым столбом рвется отчаяние, но столь же внезапно все стихло.
Брёндум взглянул на часы.
— Это она себе воду вскипятила для чая, — пояснил он. — Раз по десять на дню кипятит воду. То же и по ночам. Каждую ночь она будит меня этим воем. А после пьет чай с сухарями. В чай окунает их, чтобы размочить. О настоящей пище она и думать забыла. Не моя в том вина, я ей столько денег даю, что на жизнь с лихвой хватит. Но она все на книжку кладет, для сына. Думает, придет день — и он вернется домой, нищий, голодный, а ведь он там, в Америке, совсем неплохо устроен. И помощницу по дому себе брать не хочет, сама со всем управляется. Изо дня в день встает в пять утра и начинает хлопотать по хозяйству, слышно, как шлепанцами шаркает. Представляешь? Огромные костлявые ступни в разношенных шлепанцах, шарк-шарк. И шваброй тычет туда-сюда: бум-бум! А я из-за этого лежу без сна и будто вижу ее — эти выпученные глаза, эти синие зубы, эти длинные тощие ноги в узелках вен, брр! А вены у нее такие оттого, что она весь день мечется как угорелая. Стоит ей присесть хоть на пять минут, как она сразу начинает слезы ронять. Потому-то она такая тощая. Я-то тут при чем? Вроде бы и работы по дому не так уж много, но она днями напролет мечется как безумная. В комнатах прибирает или посуду моет. Даже чистую посуду и то всякий раз заново перемывает. Я к ней на кухню и зайти не смею. Сам видишь, как мне устроиться пришлось. А в гостиной даже книги нельзя оставить — еще заладит каждый день их с полки снимать и выбивать из них пыль, постукивая одной об другую. И за одеждой моей я тоже сам должен смотреть, не то она и одежду мою испоганит. К чему бы она ни прикоснулась — больше я этой вещью не пользуюсь. Вот и приходится мне, уходя из дома, свою дверь на ключ запирать: если хоть раз она войдет в комнату, я больше здесь жить не смогу. Придется куда-нибудь отсюда переселяться. А куда переселяться? Да и ей одной без меня не прожить… Ладно, хватит об этом. Твое здоровье, Йоханнес! Что-то ты бледный какой. Надеюсь, не захворал?
— Я просто устал, — сказал я. — Я очень долго шел сюда. И ничего не ел.
— Срам, конечно, что мне нечем как следует тебя угостить. Но, боюсь, в кухне, кроме сухарей, все равно ничего нет. Да я и не смею туда войти. Она если увидит, что я туда заходил, так сразу в слезы. Так вот она и держится со мной: чуть что — в слезы… Но ты лучше о себе расскажи. Чем ты занимаешься теперь?
— Я же книги пишу, — сказал я. — Вы совсем не знаете моих книг?
— Нет. Я ни одной из них не читал. И не слыхал о них. Вообще-то я совсем перестал книги читать. Я даже не припомню, чтобы мне попадалась на глаза твоя фамилия. А ты не печатаешься в газетах?
— Бывает, — отвечал я. — Да только редко.
— Ах вот как? А то ведь у меня все газеты есть. Вот, гляди, у меня собраны они здесь за много лет. Я, знаешь, люблю старые газеты читать. Вот где можно набраться ума. Хочешь в будущее заглянуть — читай старые газеты. Там-то все и узнаешь. Кстати, скажи-ка мне, Йоханнес, что ты думаешь насчет войны? Будет она?
— Не знаю, — сказал я. — Но боюсь, что будет.
— Ха, а я точно знаю: война будет. И даже знаю, когда. Все можно вычитать из старых газет. Но мыслимо ли понять это? Никогда! Подумай только: убить человека! Погляди на меня — я и мыши убить не в силах. Даже паука ботинком раздавить — и то не смогу. И ты точно такой же, знаю, знаю. Мы с тобой одного поля ягода. Но неужто все остальные люди по-другому устроены? А война все равно будет. Понимай как можешь!
Он бережно разлил по рюмкам остаток спиртного, даже бурый осадок и тот разделил поровну. Я послушно выпил, хотя меня чуть не вырвало. Боялся, что он опять выкатит белки. Скорей, думал я, скорей бы уйти отсюда. Но если встану — меня вырвет. Все время я глядел на Брёндума, боясь отвести глаза: вдруг начнется головокружение… Я увидел прореху у него на рукаве, он собственноручно кое-как ее залатал. Я увидел, что он потучнел и раздулся, нависая надо мной как гора, страшной громадой лежал на столешнице его разбухший живот. Я медленно умирал, а могильщик Брёндум сыпал словами, будто пригоршнями черной земли — на мой гроб. Он снова заговорил о сыне.
— Мой сын Якоб… — начал он. — Я сам велел ему уехать. Что хорошего могло ждать его дома? Скажи, Йоханнес, разве я не был прав? А теперь я уже много лет его не видал. Но у меня есть снимки. Хочешь посмотреть на последний снимок, который он мне прислал?
Он порылся во внутреннем кармане и отыскал снимок. В руках у меня оказалась маленькая фотография: молодой человек у автомобиля. Обыкновенный молодой человек у обыкновенного автомобиля на обыкновенном проселке где-то далеко-далеко отсюда, в Америке.
— Это его собственная машина. Что, каково? А она-то себе в голову вбила, будто он там голодает. Без конца пишет и пишет ему, чтобы он вернулся домой. Я писем ее не читал, но знаю: она зовет его домой. И доводы знаю, какие она приводит. Но я-то не могу правду ему написать. Я только пишу: не вздумай срываться с места! Как бы тебе там ни приходилось, домой не приезжай!
— Почему? — спросил я. — И какая она — правда?
— Да ты что, Йоханнес, детка! Не могу же я написать сыну, что его мать свихнулась! Знаю ведь: именно это она пишет ему про меня. Вернись домой, Якоб, пишет она, твой отец помешался… Да, да, мне все известно. Мало того что она сыну такое пишет — она твердит это всем, кто только готов ее слушать. И они верят ей, Йоханнес, боже правый, они ей верят! Понимаешь, когда она толкует с людьми, по ней не видно, что она не в своем уме, кажется, будто она в столь же здравом рассудке, как, к примеру, ты или я. Вроде бы все складно у нее выходит. Но люди же не слышат, как она ночами по дому шныряет, громко разговаривая сама с собой, один я лежу без сна и все слышу. Вот они и принимают ее слова на веру. Весь город верит, что я рехнулся, даже дети. Прежде я хоть с детишками мог поговорить, теперь они боятся меня. Видел ведь ты, как вела себя крошка Биргит… А сам я ничего не смею сказать, каждое мое слово она тут же обернет против меня. Уж я знаю: она только и ждет такого, что можно против меня обернуть. Лучше уж мне ничего не говорить. Ни слова не говорить, никому! Хоть у меня нет и минуты покоя. Хоть я и вынужден ночь за ночью прятать под подушку письма сына, не то она проберется сюда и выкрадет их!
— Выкрадет письма?
— Тсс! Погоди!
Мы умолкли и стали прислушиваться. Мягкое шарканье теперь было еле слышно, но раза два на лестнице скрипнули ступеньки и заскреблось что-то, зашуршало. Потом все звуки пропали. И тихо закрылась дверь.
— Она только что спускалась сюда, — зашептал Брёндум. — Ей страсть как хочется подслушать наш разговор. Должно быть, решила, что ты к нам прямиком из Америки. Вот, понимаешь, что она вообразила. У меня ведь никогда не бывает гостей. Вот она и думает: не иначе, кто-то из приятелей Якоба приехал. Ну и пусть думает. Пусть думает сколько душе угодно…
От смеха он затрясся на своем стуле. Один глаз его скрылся в серой складке лица. Другой вздулся и побелел — белый рыбий глаз смотрел на меня.
— Прошу прощения, — сказал я, — но, кажется, мне пора.
— Она даже не тронула дверную ручку: знает, что я всегда запираю дверь. Вот ключ! — Он разжал руку и показал мне ключ. — Я всегда теперь запираю комнату на ночь и перед сном прячу письма сына под подушку. Должен же я сберечь его старые письма, не то она и их тоже выкрадет у меня. Понимаешь, Йоханнес, я давно смекнул, что она ворует письма Якоба. Раньше их всегда приносили в полдень, когда я в школе, и она брала их себе. Но в прежние времена она, бывало, как прочтет письмо, так сразу и оставит для меня внизу, а потом она перестала это делать, теперь она просто втихую прячет от меня письма. Я обо всем догадался, потолковав с почтальоном. Но, само собой, ни слова не сказал ему про наши дела, можешь не сомневаться! Ни слова — никому! Просто по утрам я взял привычку делать крюк и заходить на почту и всякий раз сам забирал письма сына. Вот гляди, здесь у меня четыре письма…
Он быстро вытащил их из внутреннего кармана, дал мне мельком на них взглянуть и так же быстро снова спрятал их.
— Но, понимаешь ли, она знает, что они у меня. Она пробралась ко мне в комнату, искала их. Поэтому я никогда с ними не расстаюсь. Ночью я кладу их к себе под подушку. И всякий раз перечитываю их перед сном. Ты даже не представляешь, как я счастлив, что письма эти не лежали у нее на кухонном столе, рядом с ее чашкой чая, что она не мусолила их пальцами и не окропляла слезами. Это мои письма, Йоханнес, и только мои! Правда, теперь это уже давнишние письма, сын летом их прислал. А после, понимаешь, она на новые уловки пустилась. На почту ходила, с почтмейстером шушукалась. Все, все я знаю. Теперь на почте мне всегда говорят, что писем нет. Но я-то знаю, что письма есть. Почтари переглядываются, посмеиваются, думают, я не вижу. «Ну-ну, — сказал я им, — только не забывайте: есть еще в Копенгагене Главный почтамт!» Вот туда-то я и написал. Но мне не ответили. Почему — яснее ясного: почтмейстер женину сторону держит. Словом, хочу спросить тебя, Йоханнес… Ты человек приезжий, скажи: ты-то, надеюсь, не веришь, что я не в своем уме? Неужто веришь?
Он грузно налег на столешницу. Глаза его сверлили меня. Я растерялся. «Не знаю», — хотелось мне ответить. Или еще: что вообще все люди чуть-чуть тронутые. А может, и так: «Да я и сам боюсь, как бы не свихнуться». Но меня пугали его глаза, белая ярость в них.
— Разумеется, вы в своем уме, господин Брёндум, — проговорил я.
Грузное тело рывком откинулось назад, к спинке стула.
— Слава богу, — сказал он. — Я боялся, может, и тебе уже что-нибудь наплели. Или, может, она и тебя на свою сторону перетянула… Послушай, Йоханнес, окажи-ка ты мне услугу. Я напишу сыну, чтобы отныне он слал письма тебе, на твой копенгагенский адрес. Конечно, я не открою ему всей правды, уж я найду какую-нибудь причину, вполне вразумительную. А ты запечатаешь его письма в конверт и перешлешь мне заказной почтой. А в углу напишешь: такому-то в собственные руки. Тут уж, сколько бы ни старалась старуха, почтарям придется мне их отдать. Потому что так положено по закону. Сделаешь для меня это, Йоханнес?
Он снова навалился на стол, настороженно сверля меня взглядом: огромный, страшный, он грозно дышал мне в лицо. Я оцепенел от страха, я помертвел и в предсмертном озарении увидел его. Увидел его с гребнем и плавниками, увидел, что он весь оброс мхом. Свет падал ему в глаза, высвечивал пасть, а серая дымка вокруг была точно мгла аквариума, и где-то далеко позади мерцали стеклянные стенки. Повсюду вокруг множилось его отражение, и со всех концов плыла на меня его тень. Брёндум-рыба, обезумевший карп, свирепо сверлил меня взглядом и все жевал, жевал: он уже пожирал меня. Я отчаянно трепыхался, силясь хоть на миг отсрочить конец.
— Отчего вы не попробуете поговорить с женой? — спросил я.
— Поговорить? Йоханнес, детка, никак ты сказал — поговорить? Да ты знаешь ли, что мы перестали с ней разговаривать, когда я еще был в твоих годах? С той самой поры мы не перемолвились ни единым словом. А ты хочешь, чтобы я с ней поговорил! Да я лучше язык себе отрежу…
— Хотите, я сам с ней поговорю? — спросил я. — Мне, как постороннему, может, легче…
— Хе, хе! Значит, тебе все же что-то наплели! Так ведь, Йоханнес? Да я уж и так об этом догадывался… Значит, и ты тоже думаешь, что я спятил? Лучше уж признайся: ты так думаешь!
— Нет, — сказал я, — я так не думаю.
— Тогда… согласен ты мне помочь?
— Да, рад буду помочь. Правда, не таким способом, как вы просите. Этого я не могу. Но зато я с удовольствием попытаюсь… Нет уж, теперь вы помолчите! Дайте же мне сказать!
Он с грохотом отодвинул стул и встал. И я тоже встал.
— Да, да, помолчите! — крикнул я ему. — Вы что, не знаете, зачем мужчина и женщина посланы друг другу? Чтобы мы не свихнулись от одиночества!
Он вскинул руку.
— Вон! — крикнул он. — Вон отсюда сейчас же!
Я попятился и опрокинул стул, схватил пальто, но никак не мог попасть в рукава. Брёндум уронил руку, он стоял рядом и глухо бубнил:
— Это еще что такое… Что за вздор ты несешь… По-моему, ты спятил, Йоханнес. Совсем, совсем спятил…
Я надел на плечи рюкзак. Брёндум лязгнул ключом в замке первой двери и сразу же вслед — второй. Звякнули и загремели цепочки. Я вышел во тьму.
— Прощай, Йоханнес! — крикнул он мне вдогонку, но я не успел ответить, так быстро захлопнулась дверь.
Первым же утренним поездом уехал я в Копенгаген, расположился в углу купе и уснул. Потом я стоял в проходе, глядя, как из багровых туч встает солнце. Защищаясь от буйства света, я смежил веки: усталость ножами искромсала тело, усталость страшная, но живая. За окном торопливо убегали от меня дома, поля.
— Не покидай меня, — шептал я, прижимаясь губами к стеклу, влажному от росы, — только не покидай меня.
В КОНЦЕ АВГУСТА
Мы приехали в Париж в середине августа и хотели пробыть здесь недолго. А потом собирались на юг Франции и в Пиренеи, мы мечтали увидеть горы. Этим летом исполнилось ровно десять лет с тех пор, как мы поженились, и за все это время мы ни разу не видели настоящих гор. Мы решили отыскать какое-нибудь глухое местечко в Пиренеях и провести там месяц. Мы не говорили на эту тему, но, мне кажется, мы оба стремились в горы, потому что в тех краях надеялись вновь обрести то, что исчезло из нашей жизни. Мы растеряли это как-то незаметно в течение прошедших десяти лет, разменяли в разговорах и в работе. Растратили за сидением в креслах и за чтением газет, за едой и питьем в обществе людей, с которыми у нас, собственно говоря, не было ничего общего, и мы сами не могли бы объяснить, почему с ними встречаемся. Ничтожные, случайные мелочи пластами наслаивались на то, что исчезало из нашей жизни, и теперь мы не могли даже в точности вспомнить, что же это такое было. Просто мы вдруг заметили: это исчезло. Может статься, вдвоем мы сумели бы вспомнить, что это такое, но мы никогда не заговаривали на эту тему: мы оба стыдились, что это так бесследно стерлось в нашей памяти. А ведь прежде это было что-то очень важное, может быть, даже самое важное на свете.
Мы решили осмотреть в Париже как можно больше достопримечательностей и в первые дни действительно кое-что посмотрели. Мы побывали в Лувре, поднимались на Триумфальную арку и входили под Триумфальную арку, где горит огонь на могиле Неизвестного солдата. А однажды отправились к Эйфелевой башне, но не стали подниматься наверх, а зашли в ресторан напротив, дорогой ресторан с паркетным полом, и, сидя там, смотрели на башню сквозь зеркальное окно. Августовское небо над Эйфелевой башней таяло в знойном мареве, мы изнывали от жары и слегка скучали.
Мало-помалу мы перестали бродить по городу, осматривая достопримечательности, и большую часть времени проводили в том квартале, где остановились, сидя за легкими металлическими столиками под полосатым тентом. В конце концов жара сделалась настолько нестерпимой, что мы вообще уже выходили только по утрам и вечерам, а весь день проводили в гостинице в маленьком переулке, выходящем на бульвар Сен-Жермен. Наша комната как две капли воды походила на другие комнаты в дешевых парижских гостиницах: обои в крупных цветах, мебель, обитая красным плюшем. Возвращаясь домой, мы раздевались почти догола, опускали ноги в таз с холодной водой и так сидели некоторое время, а потом ложились поверх одеяла на кровать, которая занимала почти половину нашей комнаты.
Вначале мы читали книги, которые привезли из дому, потом перестали и читать. Мы просто лежали каждый на своем краю постели, а время текло мимо нас. Время и звуки, которые доносились с улицы, и громкий ликующий гул, который долетал со стороны бульвара.
Мы не вели долгих, волнующих разговоров, к которым подсознательно готовились вначале, а только время от времени поддразнивали друг друга. Я говорил Винни:
— Завтра мы опять отправимся в Лувр. Ты обойдешь все залы классического искусства, о котором наслышалась еще на школьной скамье. Представляешь: огромные батальные полотна Давида и его «Коронация Наполеона» из учебника истории. Тебе придется высказать вслух свое мнение о каждой картине. И вот ты услышишь, как твой собственный голос произносит, что Рембрандт — величайший из всех виденных тобой художников.
— А послезавтра мы пойдем на Блошиный рынок, — говорила Винни. — Мы пойдем туда в полдень, когда мозги плавятся от жары и мутит от запаха прогорклого масла. И ты увидишь улицы, сплошь заваленные старой мебелью, ветошью и всякими безделушками прошлого столетия. Представляешь, уйма безделушек, вся улица в розовых безделушках…
— А послепослезавтра мы пойдем осматривать могилу Наполеона, — решительно заявлял я.
Винни покачивала ногой над спинкой кровати, вертела ступней во все стороны, разглядывала ее.
— А вечером мы поднимемся на Монмартр, — говорила она. — Ты пойдешь в какое-нибудь безнравственное заведение для туристов. Представляешь: выходят обнаженный мужчина и женщина, тело которой покрыто слоем серебряной краски. Они появляются из люка в полу и принимают позы разных известных скульптур. Но зрители видят, как под слоем серебра морщинками собирается кожа.
Так мы лежали и соблазняли друг друга развлечениями, которые каждый из нас ненавидел больше всего на свете. На самом деле нас совсем не тянуло осматривать эти достопримечательности, мы вообще ничего больше не хотели осматривать. Время замерло. Мы лежали на спине и чувствовали: да, мы действительно в Париже. Что-то начало осторожно пробиваться наружу, но это было совсем не то, ради чего мы сюда приехали. Мы сами не знали, что это такое. О горах мы почти не вспоминали. Мы вообще не знали теперь, зачем собирались ехать на юг, мы вообще ничего больше не знали.
Когда жара спадала, мы усаживались перед открытым окном. Улочка была очень узкая, мы заглядывали прямо в открытые окна домов на другой стороне и видели все, что там происходит. А люди, жившие на другой стороне, видели все, что происходит у нас. В комнате прямо против нашей вся семья обедала за столом, накрытым у самого окна, они напоминали маленькую патриархальную общину. Мы видели все, что стоит на столе: лангусты, ломтики сочного мяса и в маленьких мисочках салат различных сортов, они размешивали их и заправляли оливковым маслом и пряностями. А на десерт они ели большую огненно-желтую дыню.
Глядя на них, мы тоже почувствовали голод. Я спустился на улицу, купил деревенского вина и фруктов. Я кивал и улыбался всем торговцам с нашей улицы, и они кивали и улыбались мне в ответ. Казалось, мы давно знакомы друг с другом, всю жизнь живем на одной улице и никто из нас никогда отсюда не выезжал. Я почти не знал французского языка, не мог даже прочитать газету, но мы великолепно обходились без слов. Хозяин винного погребка, в темно-синей блузе и кожаном фартуке, держался степенно и невозмутимо, и все заражались этой степенностью и невозмутимостью, попадая в прохладный полутемный погребок, уставленный бочками и бутылками. Хозяин записывал цифры мелом на прилавке, а потом складывал их, я кивал и был уверен, что он меня не обсчитает. Меня убеждала в этом его степенная невозмутимость. А хозяйка фруктовой лавки все время улыбалась и тараторила, но, когда я пытался отвечать на ломаном французском языке, она жестом отклоняла мою попытку. Словно хотела сказать, что мы и без того отлично понимаем друг друга. Она сама знает, за какими фруктами я пришел, какие фрукты в этот день ест вся наша улица.
Когда я вернулся, Винни уже накрыла стол у окна, и мы принялись за фрукты и вино. Теперь у нас на столе тоже появилась огненно-желтая дыня, и соседи с другой стороны улицы увидели ее и поняли, что нам захотелось ее купить, глядя на них. И они улыбались нам. А у открытого окна на втором этаже стояла высокая девушка и глядела в сторону бульвара, поджидая своего возлюбленного, у которого были блестящие черные волосы и бронзовое, загорелое лицо. Перед этим девушка долго сидела у зеркала, причесывалась, подкрашивала губы и пудрилась, но теперь она уже начала терять терпение. Он запаздывал. Он запаздывал каждый день. Но вот он показался в конце улицы — мы еще не могли его разглядеть, но поняли, что он идет, потому что девушка отступила на шаг в глубину комнаты и приняла равнодушный вид. Разгуливает по комнате, напевает и как будто ни о чем не беспокоится. Взглянула в зеркало, поправила прическу, а потом села с каким-то шитьем, словно так и просидела все время и вовсе никого не ждала. Мы видим, как они встретились в глубине комнаты и высокая девушка, улыбаясь, прижалась к нему, как это умеют делать только французские девушки: каждая частица ее тела прикасается к каждой частице его тела и только лицо чуть-чуть отстраняется, дразнит улыбкой, но не дается ему.
Но мало-помалу они отступают все дальше в полумрак, и теперь нам видны только ее пальцы, погрузившиеся в его густые черные волосы, и полоска бронзовой кожи на его шее. А потом она быстро подходит к окну и опускает жалюзи, точно подарив нам прощальный привет перед тем, как исчезнуть.
Тогда и мы опускаем жалюзи.
Письма мы получали редко и, прочитав, тотчас о них забывали. Но в одном оказались такие слова: «Когда вы вернетесь домой? Ведь теперь вы, конечно, не поедете в Пиренеи». Мы как-то не поняли, почему, собственно, мы должны отменить поездку. Вообще, мы действительно раздумали ехать в Пиренеи, мы даже не решались заговорить о них друг с другом, мечта о горах стала казаться глуповатой. Но как мог проведать об этом отправитель письма?
Через два дня мы получили еще одно письмо, оно было от матери Винни. «Возвращайтесь домой как можно скорее. Мы не успокоимся, пока не увидим вас». Тогда мы поняли, что дело, по-видимому, в политической обстановке. Нам стало смешно, что они беспокоятся, находясь за тридевять земель от Парижа, а мы живем как раз там, где эта обстановка складывается, и меж тем никакой обстановки не замечаем.
— Да, но ведь мы не читаем газет, — сказала Винни. — По-французски мы все равно не поймем. Придется пойти в кафе «Дом» и прочитать датские газеты.
— Ноги моей не будет в кафе «Дом», — заявил я. — Давай лучше пройдемся по бульвару и посмотрим, что творится вокруг.
Но мы ничего особенного не заметили. Обычный ликующий гул, похожий на бурный детский восторг в ярмарочный день. В ослепительных просветах солнца между деревьями машины выпускали голубоватые облачка дыма, полицейский-регулировщик с изяществом тореадора размахивал своим жезлом. Может быть, только чуть больше людей, чем обычно, покупали газеты в маленьком зеленом киоске, и, прежде чем сунуть газету в карман, каждый бегло просматривал первую страницу. Но никто не разворачивал газет и не читал их на улице. Да и шапки были набраны обычным шрифтом.
— Беспокоиться нечего, пока заголовки не заняли всю первую страницу, — сказал я Винни. — А тогда у нас будет время подумать о политической обстановке.
Вечером мы снова взглянули на заголовки: они были обычными. На следующий день тоже. Но на третий день мы оба, точно сговорившись, проснулись очень рано. И несколько минут лежали, прислушиваясь к гулу, доносившемуся с бульвара.
— Ты слышишь? — сказала вдруг Винни. — Он звучит по-другому. У меня как раз мелькнула та же мысль. Не то чтобы я слышал эту перемену, но я ощущал ее нервами. Весь Париж звучал по-другому. Мы мигом оделись и вышли на бульвар.
Заголовки и в этот день были набраны обычным шрифтом, но у маленького зеленого киоска все время толпилось пять-шесть человек, и очередной покупатель, получив газету, тут же разворачивал ее и погружался в чтение, продолжая свой путь по улице. Мы видели, как от киоска по тротуару в обе стороны расходятся газеты о двух ногах, белые, колеблющиеся газетные листы. Мы пили кофе в баре, стоя рядом с другими посетителями, и видели, как мимо нас по улице проходят газеты. Мы видели зеленый автобус, задняя площадка которого белела развернутыми газетами. Мы видели, как полицейский поднял жезл и остановил поток пеших газет. Потом опустил его, и газеты двинулись дальше.
— Они напоминают муравьев. Растревоженных муравьев, которые выползли на солнечный свет с белыми личинками во рту, — сказал я Винни.
— Скорее, белых микробов, — сказала Винни. — Болезнетворных белых микробов в главной артерии. Кровяные тельца набрасываются на них, пожирают их, но не успеют справиться с одними, как образуются новые.
Я взглянул на Винни — такие слова не в ее характере. Она взяла с блюда рогалик и обмакнула его в чашку с черным кофе. Ее узкая загорелая рука слегка дрожала, широко раскрытые глаза блестели, она говорила короткими, отрывистыми фразами. Все это не в ее характере. И я тоже вдруг почувствовал какую-то странную тревогу. До самого обеда мы кружили по улицам и всюду видели, как кровяные тельца борются с белыми микробами. Они пожирали, переваривали их, и те валялись повсюду, как белые испражнения. Но вместо них возникали все новые и новые бактерии. На каждой улице шли газеты о двух ногах. Мы сидели под тентом и смотрели на них.
— Но все-таки это еще ничего не означает, — сказал я. — Иначе заголовки были бы набраны крупным шрифтом. А люди собирались бы кучками и кричали. Не забудь, это французы.
— Было бы лучше, если бы они кричали, — сказала Винни. — Но они не говорят ни слова. Разве ты не слышишь, они не говорят ни слова!
И верно, я сам это заметил. На улице раздавался только непрерывный шум движения. Ни смеха, ни возгласов, ни ругательств. Даже в открытом летнем кафе люди сидели вокруг нас, не говоря ни слова. Сидели и читали газеты.
Но когда мы вернулись на свою улицу, мы снова успокоились: здесь все было как обычно. Семья из дома напротив обедала у открытого окна, высокая девушка ждала своего возлюбленного. Он пришел позднее обычного и оставался недолго. Они даже не опустили жалюзи. Но в остальном все было как обычно.
На следующий день большая артерия по-прежнему неустанно боролась с белыми микробами. Но появились еще новые симптомы болезни: военные мундиры. Голубые и бурые мундиры. Солдат почти не было, в основном офицеры. Казалось, они появились по условному сигналу. Они куда-то входили и откуда-то выходили, несли какие-то папки, и лица их под кокардой с дубовыми листками были замкнуты и многозначительны. Встречные оглядывали их и уступали дорогу. Кроме того, на улицах стало больше полиции. Молчание как бы подчинило себе и уличное движение. Машины по-прежнему катили по улице с шумом и грохотом, но внутри у них притаилось глухое молчание. Мы ощущали его нервами.
— И все-таки я не верю, чтобы дело было совсем плохо, — сказал я Винни. — Тогда появились бы толпы. Начались бы демонстрации, речи и драматические сцены. И все выглядело бы по-другому.
Она не ответила, она уже долго шла молча, о чем-то думая.
— Поедем на другой берег, — сказала она вдруг. — Быть может, нам удастся что-нибудь узнать в скандинавском туристическом бюро.
Мы спустились в метро у театра Одеон. Поезд был набит битком, пассажиры, стоя, читали газеты. Целый поезд вздрагивающих, трепещущих газет несся по длинному черному туннелю. Глаза поглощали строку за строкой, словно челюсти, пережевывающие бацилл. Но когда на площади Оперы мы снова вышли на солнечный свет, мир еще раз изменился, показался более приветливым и надежным. Рдели красные тенты, струился говорливый поток пешеходов. На террасе «Кафе де ла Пэ» оживленно беседовали хорошо одетые люди. Казалось, весь правый берег Сены еще продолжал говорить.
Мы спустились по авеню Оперы к туристическому бюро. Там тоже еще говорили, множество людей говорили на датском и шведском языках.
Датский чиновник стоял, опершись обеими руками о конторку, и объяснял двум дамам, что войны не будет.
— Да я же вам говорю, что войны не будет, — долетел до нас его голос. — Поверьте моему слову. Все это ложная тревога, такая же, как в сентябре. Газеты? Не обращайте на них внимания. Во всяком случае, у вас есть время обдумать ваше решение. Приходите послезавтра, а еще лучше на будущей неделе. Торопиться некуда.
Потом он повернулся к какой-то шведской даме и повторил ей то же самое на шведском языке. Потом повторил это в третий, в четвертый раз; он стоял, опершись обеими руками о край конторки, и пытался сдержать волну общей паники. Мы с Винни не стали дожидаться своей очереди и вышли на улицу.
— Вот видишь, — сказал я. — Ничего страшного.
Рдели красные тенты, улица была нарядная и широкая, в воздухе жужжала многоязычная речь. Представители всех наций мира шли по улице и пока еще разговаривали друг с другом. Подростки в синих форменных тужурках выкрикивали названия свежих газет, их голоса звенели пронзительно и ободряюще. Я уже начал посмеиваться над военными страхами Винни. Но на углу одного переулка мы остановились: там что-то происходило. У стеклянной двери какого-то дома стояла небольшая очередь. Стоявшие не выказывали признаков возбуждения, они даже не разговаривали между собой, а терпеливо и спокойно ждали, когда настанет их очередь исчезнуть за дверью. Когда позже они выходили на улицу из другой двери, у каждого на руке висела круглая металлическая коробка. Повидимому, противогаз.
— Простая мера предосторожности, — сказал я Винни. — Сама по себе она еще ничего не означает.
Мы немного посидели на углу, на террасе «Кафе де ла Пэ», разглядывая посетителей. Здесь были мужчины в белых жилетах с моноклями и дамы с лорнетками и шелковистыми пуделями на поводках. Мы посмеивались над ними, но возле них чувствовали себя в безопасности. Не могло быть и речи о войне, покуда эти люди сидят здесь. Накануне войны люди не могут сидеть вот так и иметь такой вот вид.
Мы все время оживленно болтали, мы как-то внутренне встрепенулись. К нам словно вернулось утерянное счастье. Мы вдруг вспомнили маленький ресторан, в котором побывали почти десять лет назад, солнечный свет там приглушали клетчатые занавески, и кормили там вкусно, как нигде. Мы тут же пустились в путь, решив немедля найти ресторанчик, если он еще сохранился. Идти было далеко, мы долго блуждали по улицам, но наконец все-таки разыскали его — он ничуть не изменился. Даже хозяин и хозяйка были прежние. Солнечный свет приглушали клетчатые занавески, мы сидели за столиком, и нас обслуживали так, что нам и впрямь поверилось: мы только что познакомились и вовсе не женаты, и У каждого из нас единственная в жизни роль — Любящая Женщина и Любящий Мужчина. Хозяин угостил нас коньяком, и я заказал коньяк на всех, и мы заверили друг друга на трех языках, что войны не будет. Хозяева улыбались так, точно война совершенно невозможна в том мире, где существуем мы двое. Как могла начаться война в мире, где только что родилась любовь? «Pas de guerre, kein Krieg, no war…»[48]
В этом настроении мы прожили целый день и поздно ночью решили, что не поедем домой. У нас была впереди по крайней мере неделя, и мы решили провести ее как можно лучше. Мы условились не заговаривать о войне и даже не думать о ней.
На следующий день все стены домов и заборы расцвели белыми плакатами: «Мобилизация». Мы не говорили о плакатах, но они всюду попадались нам на глаза. В больной артерии возникли новые симптомы: появились солдаты. Вначале они ходили поодиночке, выделяясь маленькими бурыми пятнами, затем стали скапливаться в отряды, потом — в длинные колонны. У них были спокойные лица, и люди проходили мимо них с такими же спокойными лицами и не говорили о них. Великое молчание распространялось все дальше и дальше, но в этом молчании возникли новые звуки: цоканье копыт и грохот тяжелых колес. По ночам, лежа в постели, мы прислушивались к этим звукам, доносившимся с бульвара. Мы не говорили о них, мы молча лежали и ждали, когда они прекратятся. Но шум не умолкал всю ночь.
Болезнь с каждым часом вступала в новые фазы, вокруг нас менялось все. Однажды после обеда, сидя на берегу Сены, мы увидели, что по одному из мостов тянется вереница зеленых автобусов, — это все парижские автобусы, словно мираж, исчезали из наших глаз. В другой раз мы сидели у вокзала Сен-Лазар и наблюдали, как к платформам одна за другой подкатывают машины. Маленькие подтянутые офицеры на ходу выскакивали из них с походными чемоданчиками в руках и быстро направлялись к поездам. Посередине вокзала плотной суконной массой теснились рядовые, а чуть поодаль стояли женщины в будничной одежде с будничными лицами. Ни слез, ни объятий — они стояли с каким-то странно равнодушным видом, точно не имели никакого отношения друг к другу. Точно великое молчание разъединило мужчин и женщин.
Мы бродили по улицам, присаживаясь то в одном, то в другом месте, но нигде не оставались подолгу. Вокруг нас всегда возникало свободное пространство. Мы начали ощущать себя каким-то инородным телом в крови Парижа. В конце концов мы стали проводить большую часть времени на нашей родной улице. Но теперь она была уже не родная. Жители все так же кивали нам при встрече, но больше не улыбались, они словно не видели нас. Когда мы приходили в лавку, нам механически подавали то, что мы просили, но смотрели мимо нас. Семья в доме напротив по-прежнему обедала у открытого окна, но никто из домочадцев ни разу не взглянул на нас. Высокая девушка по-прежнему ждала своего возлюбленного. Однажды он явился в солдатской форме. Он совершенно преобразился: волосы были коротко острижены, бронзовая шея исчезла под воротничком. Они постояли рядом у окна, казалось, почти не разговаривая друг с другом, и больше он не появлялся.
Мало-помалу мы перестали подходить к окну: у нас было такое чувство, точно мы не имеем на это права. Наш мир был ограничен той половиной комнаты, где стояла кровать. Мы лежали на ней темными жаркими августовскими ночами и прислушивались к звукам, доносившимся извне. Они с каждым часом менялись, мы ощущали это нервами. Однажды ночью была полицейская облава: мы слышали на улице крики и топот бегущих ног. Потом грохнули два револьверных выстрела. Мы не испугались, но какой-то толчок в крови заставил нас невольно придвинуться друг к другу, точно каждый старался заслонить другого своим телом. Во тьме, сказанные шепотом, прозвучали удивительные слова. Между нами не было такого уже много лет.
Однажды, когда я спускался по лестнице, меня остановил хозяин. Он хотел знать, когда мы уедем. На своем ломаном немецком языке он объяснил, что владельцам гостиниц запретили сдавать номера иностранцам. Правда, его гостиница очень маленькая, и, возможно, его не будут проверять. Но мы здесь единственные иностранцы. Поэтому, на всякий случай…
Я вернулся наверх в комнату.
— Нам больше нельзя здесь оставаться, — сказал я Винни. — Париж хочет отделаться от нас.
— Тогда поедем на юг, — сказала Винни. — Мы ведь решили не возвращаться домой. Поедем в Пиренеи, как собирались раньше. Это ведь они не могут нам запретить?
— Ты права, — сказал я. — Так мы и сделаем. Пойдем сейчас же закажем билеты.
Мы тут же собрались. При этом мы все время быстро и возбужденно говорили о наших планах. Мы продолжали говорить о них на улице. И в метро. И на площади Оперы. Но мы обратили внимание, что молчание перекинулось уже и на правый берег Сены. Рдели красные тенты, по улице сплошным потоком шли люди, но они молчали. На террасе «Кафе де ла Пэ» сидели прежние клиенты, и вид у них был прежний, но они молчали. Когда мы подошли к туристическому бюро, Винни вдруг остановилась. Она не захотела войти внутрь. По той или другой причине не захотела.
— Пойди один, ты можешь сам все уладить.
Через минуту я вернулся. Я еще ничего не уладил.
— Ты не передумала? — спросил я Винни. — Дело в том, что сейчас надо решить окончательно. Я слышал, как служащий сказал, что завтра вечером отходит последний пароход из Антверпена в Эсбьерг. Сегодня закрыли немецкую границу. Если мы решим ехать домой, остается только антверпенский поезд, который отходит завтра рано утром.
Мы постояли немного. Мы ничего не говорили, только смотрели друг на друга. Молчание настигло и нас Я взял Винни под руку, мы прошли несколько шагов. Рдели красные тенты. На террасе «Кафе де ла Пэ» сидели прежние люди, и вид у них был тот же, что и прежде. Они сидели безмолвные, как мумии, и сквозь лорнетки и монокли вглядывались в мир, который умер много веков назад. А в переулке опять стояли люди в такой же точно очереди перед стеклянной дверью. Они стояли молча, терпеливо дожидаясь, когда их впустят внутрь, и потом выходили из другой двери с круглыми коробками в руках.
Винни тихо стояла, глядя на них. Ее лицо медленно серело, и вдруг она расплакалась. Она плакала громко и неудержимо.
— Я не могу, — сказала она сквозь слезы. — Не могу. Не могу.
Она продолжала плакать, твердя эти слова. Молчаливые чужие люди, проходя мимо, окидывали ее беглым взглядом. Они словно удивлялись, отчего она стоит здесь и плачет.
Я вошел в бюро и купил два билета на последний пароход, отплывающий из Антверпена.
В этот вечер Париж был наполовину затемнен, мы бродили по Монмартру, поднимались по всем лесенкам, ведущим к церкви Сакре-Кёр, чтобы взглянуть на город. Мы долго стояли на вершине холма, не говоря ни слова. Где-то внизу тлели маленькие, затерянные огоньки, а дальше вся равнина была окутана плотным иссиня-черным мраком.
— Так мы и не попали в горы, — сказал я.
В темноте лицо Винни было стертым и белым.
— Не все ли равно, — устало сказала она. — Не все ли теперь равно, увидим мы с тобой горы или нет.
ДВЕ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ
Шофер вел машину слишком быстро и проехал мимо калитки, а когда тормоза заскрежетали, Тидемана швырнуло вперед, и он вынужден был ухватиться за сиденье, шляпа съехала ему на лоб. От внезапного движения все съеденное и выпитое за обильным ланчем подступило к горлу; с минуту он сидел, нагнувшись вперед, чувствуя, что лоб его покрылся холодным потом, и тупо глядя на пепельницу, в которой слабо тлела недокуренная толстая сигара. Но пока машина задним ходом подъезжала к калитке, он немного пришел в себя, встряхнулся, как полудохлый жук, который едва двигает лапками и усиками, вспомнил, что надо поправить шляпу и застегнуть пальто. Вылезая из такси, он машинально достал из заднего кармана бумажник и дал шоферу деньги. Он знал, что дает слишком много, но ему не хотелось ждать сдачи — ведь его могли увидеть из окон. Он поднес указательный палец к шляпе в знак того, что они в расчете, и круто повернул к калитке, но шофер догнал его:
— Вы забыли вот это, — и он протянул ему желтый портфель.
Тидеман раздраженно ответил:
— А, спасибо.
Его же могли видеть из окон. В доме, наверное, уже собралось много народу, ведь прошел целый час, пока служащие разыскали его. Но тут же он подумал, что если они что-либо и заметили, то сочли, что это от потрясения, да, собственно, так оно и было — ведь выпил-то он не больше, чем обычно.
Идя по выложенной каменными плитами дорожке, он машинально нащупывал ключи в кармане. Но они оказались не нужны: дверь открылась, и он увидел Лисбет в черном платье и белом переднике. Лицо у нее покраснело и распухло от слез. Тидеман с раздражением подумал: ей-то чего горевать? Но ее скорбь оказалась заразительной: у него самого лицо исказилось и слова застряли в горле, так что он ограничился кивком, отдавая ей пальто и шляпу и проходя дальше в переднюю. Да, он не ошибся: кто-то уже шел ему навстречу из гостиной— слава богу, всего-навсего Эльсе, его сестра, остроносая, с опечаленным лицом. Она протянула к нему руки:
— Аксель!
Он обнял ее за плечи и поцеловал в щеку, задерживая дыхание, чтобы она не почувствовала запаха вина.
— Не надо ничего говорить, — сказал он, — я все знаю, — и двинулся дальше. — Посиди там, в гостиной, — продолжал он, поднимаясь по лестнице, — я приду немного погодя.
Он поднимался медленно, все время глядя на серую ковровую дорожку, и заметил, что она во многих местах протерлась. Теперь, когда прекратилась эта вечная беготня по лестнице, надо будет купить новую дорожку. Тут он снова чуть было не потерял власти над своим лицом и подумал, что все оказалось иначе и гораздо хуже, чем он себе представлял, хотя он уже давно ожидал этого и почти хотел, чтобы это случилось. Но надо же, чтобы это случилось именно сегодня, когда он давал ланч трем деловым партнерам, так что его нашли в баре. Виноваты во всем, конечно, некие таинственные силы — судьба, а может быть, Бог… На площадке он остановился, держась за перила, и перевел дух, а на последних ступеньках лестницы почувствовал, что ему необходимо справить малую нужду, а может быть, и сунуть два пальца в глотку. Повернув было налево, к ванной комнате, он остановился в нерешительности. Ведь в доме так тихо — внизу, в гостиной, услышат, когда он будет спускать воду. И он повернул направо, в свою спальню; шел неуверенно, как в чужом доме, бросил растерянный взгляд на собственную кровать и подумал: заснуть, заснуть бы хоть ненадолго и обо всем забыть! Но впереди были свидетельство о смерти, объявление в газете, гробовщик, похороны, церковь и священник. И хотя он думал об этом множество раз и уже выбрал псалмы, которые будут петь, в действительности все получилось иначе и словно ошеломило его.
Он очутился в гардеробной, где в запертых шкафах длинными рядами на вешалках висели ее платья, пальто и стояло пар пятьдесят туфель, а также находилось бесконечное множество других ее вещей. В голове у него промелькнуло, что все это надо спрятать и тайком продать, но он постарался отогнать эту мысль и уставился на ковер, лежавший у него под ногами и пестревший ярко-синими узорами на красном фоне, бесконечным, продолжавшимся и за порогом чередованием красного и синего. Он переступил порог и вошел в спальню Рагны, встретившую его мраком, спущенными гардинами и знакомым запахом. Белая фигурка поспешно встала со стула.
— Можете идти вниз, фрекен Якобсен, — сказал он. — Я хочу побыть один.
Не успел он договорить, как лицо его снова исказилось. Фрекен Якобсен быстро подошла к окну, подняла гардину, открыла дверь на балкон и заложила ее на крючок. Он отметил, что она делает все это спокойно и уверенно. На какой-то миг ему захотелось, чтобы она осталась с ним, но она уже исчезла. Он сел в низкое кресло около кровати. Легкие шаги затихли внизу, наступила полная тишина.
Умерла, подумал он, Рагна умерла. Но когда он рискнул взглянуть на кровать, где под шелковым одеялом лежало нечто длинное и неподвижное, со сложенными на груди руками и запрокинутой назад головой, в глазах у него потемнело, к горлу опять подступила тошнота. Подбородок у Рагны был подвязан чем-то белым, и, хотя он не разглядел как следует, а только скользнул глазами, он понял, что сделано это для того, чтобы не отваливалась нижняя челюсть и не открылся рот, и подумал: труп может издавать звуки, мертвый рот может что-то сказать.
Он снова уставился на красный и синий узор ковра, сгорбившись и обеими руками вцепившись в колени, силясь преодолеть тошноту. Поси-Дев так некоторое время, он вынул носовой платок и вытер пот со лба, Потом расстегнул жилетку и верхний крючок на брюках, который так Нестерпимо давил на желудок, осмотрел себя, попробовал втянуть живот и подумал: нет, не скроешь, я растолстел, нужно поменьше есть и пить.
Но что делать, если ты только что продал недвижимость вдвое дороже ее стоимости и все знают, что ты заработал на этом тринадцать, а то и четырнадцать тысяч? Машинально он начал высчитывать, сколько у него останется чистыми, вычел даже расходы на сегодняшний ланч, но спохватился и подумал: Рагна умерла, это Рагна лежит на кровати, она умерла. Я не могу оставаться тут долго, нужно пойти к ним — к остальным. Заплакать бы, думал он чуть ли не в панике, заплакать.
Но плакать он не мог, и ему было стыдно, стыдно еще и оттого, что он сидит вот так, в расстегнутом костюме. Ему не хотелось смотреть на себя, думать о себе, взгляд его растерянно скользил по комнате, по вещам Рагны, по мертвым и безмолвным вещам Рагны, и остановился на большом туалетном зеркале. Оно напомнило ему бар, такой же полукруглый и весь в зеркалах. Янус рассказывал об одной из своих подружек, а он, Тидеман, только что рассказал о Катрин. Густав за стойкой с шумом встряхивал наколотый лед в шейкере и понимающе улыбался. Вошел один из официантов и сказал, что господина Тидемана кто-то спрашивает по телефону. Друзья рассмеялись, подумав, что звонит Катрин, и потребовали, чтобы он сразу же послал за ней машину. Янус крикнул, что, если Катрин придет, он пригласит их на обед. И, даже когда он вышел из телефонной будки, приятели продолжали дурачиться. Один из них помог ему надеть пальто, дернув сначала сильно вверх, а потом вниз, второй нахлобучил на него шляпу. Когда Тидемана увозила машина, они стояли на улице и махали руками. Это было всего несколько минут назад, ему казалось, что они все еще стоят и машут. Сквозь стекло машины он видел, как открывались и закрывались их рты. Да и сам он не мог еще по-настоящему воспринять смерть, ему казалось, что произошло что-то странное, непонятное и даже несколько смешное. Он никак не мог отделаться от этой мысли и все возвращался к ней, пока она не потеряла всякий смысл. Ему казалось, что он все еще едет в машине, а улицы плывут, изгибаясь, мимо, он видел дома, трамваи, лошадей и людей где-то далеко, такими крошечными, — и в то же время совсем близко, невероятно большими. Непрерывная вереница машин, и в каждой сидит он в шляпе, то сползающей на лоб, то сдвинутой на затылок, и думает: смерть, смерть, смерть. Ему хотелось засмеяться, но он не смел, боясь каких-то таинственных сил — может быть, судьбы, а может быть, Бога. И вот он поднимается по лестнице и входит в свою спальню, проходит через гардеробную в комнату Рагны; он все идет и идет — и воздух как зеркало, в котором он видит тысячи своих лиц и ног, и думает: сейчас меня вырвет. И: все получилось совсем иначе, не так, как я ожидал. И: заплакать бы, мне нужно заплакать! И: я посижу тут всего минутку. Я должен думать не о себе, а о Рагне!
Он сидел и ждал, чтобы отпустила тошнота, и оторвал взгляд от узора на ковре, ища чего-нибудь, что помогло бы ему думать о Рагне. И увидел вуаль, красную вуаль на маленьком столике у кровати, протянул руку и взял ее. Она была такая тонкая и легкая, что пальцы почти не ощутили ее. Он поднял вуаль к лицу и посмотрел сквозь нее. От нее слабо пахло духами, она казалась красным дуновением, легким колебанием паутины. Тидеману показалось, что он видит Рагну в красном платье, он вспомнил ее такой, какой она была много лет назад. И в то же время он отчетливо сознавал, что хочет думать совсем не о Рагне, а о вчерашнем вечере, о Катрин, о Катрин в красной ночной рубашке. Он отчаянно сопротивлялся этому и все же видел, как она ведет его к зеркалу, видел, как он обнимает ее своими большими руками, а она берет его за подбородок и говорит: «Вот как здорово, я вроде не совсем голая — и все же ты можешь видеть и грудь мою и живот. Смотри на меня, смотри!»
Он видел ее в зеркале, видел ее грудь и живот за вуалью из танцующих красных мушек. Его лицо исказилось от муки. Это не вчера они стояли так, а сейчас, именно сейчас, и будут стоять завтра и послезавтра. Нет, подумал он, я порву с ней. Теперь, когда Рагна умерла, я порву с ней. И в то же время он знал, что не сможет этого сделать. Он сжал маленькую красную вуаль в комок, отер ею пот с рук и лба и отбросил ее от себя. Но она никуда не исчезла и была не только красная, но и желтая, и зеленая, и лиловая, она плыла, подобно радуге, перед глазами, и он снова подумал: сейчас меня вырвет! И: это гораздо хуже, чем я думал. И: мне пора идти. И: там лежит Рагна, она умерла. И: я не трус, я не боюсь посмотреть на нее, я не трус…
Белое запрокинутое лицо словно отодвинулось куда-то вдаль, он смотрел на длинное неподвижное тело под шелковым одеялом и думал: Рагна? Неужели я не знаю Рагну? Разве мы не прожили вместе четырнадцать лет?
Он увидел руки, длинные застывшие руки, сложенные на груди, и плоское обручальное кольцо на пальце. Он смотрел на кольцо, и ему казалось, что похороны уже кончились, они сидят за столом, он поднимается среди всеобщего молчания: «Умер человек, который делил со мной радость и печаль».
Он смог наконец заплакать, лицо его сморщилось, однако он знал, что плачет не о Рагне, а только о самом себе, растроганный собственными словами и блеском собственных глаз, которые бессмысленно отражают пламя свечей за столом, плачет о маленьком плоском кольце на пальце, которое расплылось и превратилось во множество колец. Он перестал плакать и сидел молча, мигая глазами. Что-то в нем рванулось наружу, к Par-не, к мертвой Рагне, но он не мог ничего вспомнить, только долгие звонки, раздававшиеся в доме, вечные звонки из ее спальни, и Лисбет, носившуюся вверх и вниз по лестнице, Лисбет в черном платье и белом переднике; только подносы с нетронутой едой и запах, ощутимый, несмотря на цветы и одеколон. Он заходил к ней лишь на минутку, задерживая дыхание. А теперь вот мрак, спущенные гардины, осторожные шаги, приглушенные голоса. Хоть бы поскорее все это кончилось. Но оно все продолжалось. Нет, этим путем он никуда не придет. Он попытался вспомнить тот день, когда врач сказал: «По-моему, это рак».
Слово «рак» прозвучало тогда в первый раз, он, услышав его впервые, согнулся под его тяжестью и уставился в ковер, чтобы никто не видел его отчаяния. Но он-то знал, что испытывает вовсе не отчаяние, а торжество, неслыханное торжество: свобода! Наконец-то совсем свободен, сам себе господин! Никто больше не знает, каким я был ничтожным и бедным, никто не будет, глядя мне в лицо, вспоминать об окольных до-Рогах, о черных ходах, о неблаговидных поступках, мелком плутовстве, о том, каким образом мне удалось открыть собственную маклерскую контору и втереться в круг Трока и его друзей. Он вспомнил, как они были в гостях, как Рагна и Трок исчезли и долго не появлялись и все делали вид, что ничего не замечают. И вдруг они вошли: Карл Трок держал Рагну под руку, и она, неестественно смеясь, сказала: «Аксель, подойди сюда и выпей с Калле на брудершафт. Мы с Калле выпили на брудершафт!»
В ту минуту он понял, что они с Рагной наконец выбились в люди, и закрыл глаза на то, что произошло, нет, не закрыл, он знал, он отчетливо видел это, да, закрыл глаза и ничего не знал. Ведь он ни о чем не спросил, и они никогда об этом не говорили. Теперь он наконец вспомнил Рагну и услышал, как она говорит, говорит оглушительно громко, увидел, как она улыбается своими белыми волчьими зубами, как она взглядом шарит везде и всюду, как она командует рабочими, перевозившими мебель, столярами, малярами, когда они перебирались из квартирки в маленький домик, из маленького домика-в большой дом, как она переставляет мебель, суетится вокруг торшеров, ковров, гардин, в магазинах перебирает куски материи, щупает ее, задает вопросы, торгуется, как она стоит в передней, принимая гостей, берет их под руки и знакомит, а потом сидит во главе стола у зажженных свечей и говорит, говорит, обращаясь то направо, то налево, и замечает каждую мелочь. И властвует, скаля белые волчьи зубы. Все это как бы происходило сейчас перед ним, оглушало, приводило в растерянность, а он сидел и видел только вещи, ее вещи, ее взгляд, устремленный на вещи, руки, передвигающие вещи, и слышал голос, по-волчьи властный голос, за вещами, внутри вещей. Снова возникла мысль, что она наконец умерла, что он свободен, сам себе господин. Он чувствовал, что так думать нельзя, его за это покарают некие таинственные силы — может быть, судьба, может быть, Бог. И знал, что это неправда, не вся правда, что должно быть что-то другое, что-то такое, за что можно ухватиться и держаться. Его словно кто-то заставил подняться с кресла и подойти к изголовью кровати. Он смотрел на белое запрокинутое лицо, но не испытывал ничего, кроме страха. Почувствовал себя маленьким мальчиком, тем самым мальчиком, который однажды оступился и покатился с крутого берега в реку. И сейчас он катился вниз, хватаясь руками за комья земли, пучки травы, они не удерживали его, и он все катился вниз, а снизу поднималось что-то ледяное и черное и хватало его. Наконец страх исчез, осталось только молчание.
Нет, он не знал ее. Он не знал, кто она. То, что он считал ею, были только гримасы, игра света и тени, круги на воде, легкая пыль, поднятая ветром, а может быть, и того меньше — просто ненужные безделушки, вуаль с танцующими на ней мушками. Теперь все это растворилось, пропало, мелкие морщинки и глубокие складки разгладились, последний след ее мыслей давно исчез с лица, и другое лицо, ломая скорлупу, медленно и неотвратимо пробивалось на свет, и вот оно перед ним и живет своей незнакомой, непонятной жизнью. Он не мог теперь дотронуться до него, не смел смотреть на него — так недоступно оно было, такое малое отношение имело к нему, Тидеману, и тому, что он думал о жене. Ему показалось, что он сам умирает, уходит в другой мир, а она идет навстречу и говорит: «Кто ты? Видела ли я тебя когда-нибудь раньше?» Ведь она не знала его, а он не знал ее, и все же они словно вопрошали друг друга о чем-то, словно вместе искали что-то ощупью в темноте-А может быть, они и встречались раньше, только это было так давно, что никто из них этого не помнил. Он долго стоял раздумывая, но все никак не мог припомнить, где он видел это незнакомое лицо, это молодое лицо, лежащее перед ним в вечном покое смерти. Потом он решил, что взгляд его оскорбляет это лицо, он отошел от кровати, заглянул в зеркало и отшатнулся в ужасе: в нем он снова увидел ее с морщинками на лбу, с кругами вокруг глаз, с двумя резкими складками от носа ко рту, к волчьему рту…
Она — это я, думал он растерянно, то, что мне казалось ею, это я, я сам! Или я стал ею и буду носить ее в себе до самой смерти. Неужели это я, с волчьими зубами, с голодными волчьими глазами? Он беспомощно оглянулся и увидел, что не только у лица в зеркале, но и у самого зеркала, у всех вещей в комнате те же голодные глаза, волчьи глаза окружали его, волчьи глаза и зубы подстерегали его…
Он откинул крючок с балконной двери и, выйдя на свежий воздух, застонал. Его снова окружила тишина, безмолвие далеких лугов. Он заметил, что наступила весна, проследил путь легкого бесшумного ветерка по садам, пока тот не затерялся среди больших далеких деревьев. Тидеман подумал, что за деревьями берег моря, и там он встретил ее впервые много лет назад, когда он был всего-навсего юношей, а она всего-навсего дочерью рыбака… Они мало говорили, она была тогда очень застенчива и всегда молчала, он немного боялся ее, а она его. И все же она каждый день приходила к его палатке, садилась, поджав под себя ноги, и смотрела на воду и на облака. Да, они почти не разговаривали, когда встретились там, ветер играл в траве у моря, и медленно проплывали огромные белые облака, а солнце и тени чередовались на песке. Он лежал на спине, и прислушивался к шуму волн, и смотрел на белые облака, не думая ни о чем, а неподалеку сидела на корточках она, молчала и писала что-то палочкой на песке. Он спросил, что она пишет, но она не захотела ответить, а когда он подошел посмотреть, она быстро и смущенно стерла все, а потом вдруг крепко обняла его за шею и посмотрела ему в глаза. А облака плыли, плыли, и на песке рябило от их теней. Так юноша и девушка сблизились без слов: все, что надо было сказать, она написала на песке и стерла, и он этого не узнал…
Что-то черное и длинное вдруг вторглось в его размышления, бесшумно, подобно тени акулы над светлым песчаным дном. Он не сразу заметил это черное, он все смотрел на палочку, что-то писавшую на песке, пытался разгадать буквы, пока Рагна их не стерла. Но внезапно его мысли заметались, словно перед надвигающейся опасностью, он в ужасе очнулся и увидел, что черное — это машина, длинный блестящий автомобиль, остановившийся перед калиткой. Шофер в ливрее уже открыл дверцу, и из нее не торопясь вышел высокий человек в черном, Карл Трок, владелец фирмы «Текстиль Трока», перед ним открыли калитку, и по выложенной каменными плитами дорожке он медленно направился к дому.
Тидеман не стал дожидаться звонка. Он был уже в ванной комнате, быстро вымыл руки и лицо, поправил галстук, причесал волосы, застегнул жилет и пиджак и в последний раз взглянул на себя в зеркало, но совсем мимоходом, ибо все его мысли уже были в будущем; потом он бросился вниз по лестнице, навстречу Троку. Он схватил его за обе руки и, с трудом овладев своим лицом, сумел растроганно произнести:
— Спасибо, Карл, что ты пришел. Ты не представляешь, как важно Для меня, что именно ты — первый человек, которого я увидел после того, как Рагна… Рагна… после того, как Рагна умерла.
СТРАХ
Еще не совсем проснувшись, я тянусь за часами. Светящиеся стрелки показывают два — как и в прошлую ночь, как и во все другие ночи. Я опять осужден на бессонницу: осужден лежать четыре часа, прислушиваясь к лаю собаки, к приближающемуся шуму автомобиля, к шагам и голосам на улице. Четыре часа мой собственный дом кажется мне мышеловкой.
Окно открыто, легкий ветерок колышет ветви деревьев; я закрываю глаза и стараюсь представить себе широкие покойные пейзажи: поля, лес, бесконечно извивающуюся речку. Таким образом раньше мне удавалось снова уснуть. Но только не сегодня. Пейзаж исчезает, вместо него я вижу длинные коридоры, ряды запертых дверей, а за дверьми лежат на нарах люди; они тоже лежат без сна, как и я в своей постели, и, как я, вслушиваются в темноту. Им слышится тяжелая поступь сапог по каменным плитам коридора, бренчание ключей, отрывистые слова команды. И вот — что это? Крик? Я, как они, явственно слышу его. Но я не хочу его слышать, хочу думать о другом, о том, что помогает уснуть: пытаюсь представить себе идущий поезд, я сижу и смотрю в окно. Нет, это не окно, это— фонарь в углу товарного вагона, раздвижная дверь заперта, вагон раскачивает и трясет, на полу — солома; и теперь я вижу: вагон битком набит людьми, которых увозят во тьму. Куда их везут? В концлагерь, окруженный колючей проволокой и охраняемый людьми в черных мундирах. Я вижу одного из них, вижу, как он поводит автоматом, вижу эмблему смерти на его фуражке.
Теперь я потерял надежду уснуть, я окончательно проснулся, и в сознании ярко полыхает страх. Я встаю с кровати, закрываю окно и опускаю штору светомаскировки, потом включаю ночник, перебираю книги на столе — хочу найти что-нибудь легкое, что помогло бы мне уснуть, что-нибудь, что может полностью завладеть вниманием, помешать думать. Я нахожу детектив и начинаю читать.
Таинственные следы и знаки, крадущиеся шаги в темноте, неизвестный убийца — нагромождение невероятностей, от которых сладко содрогаются благополучные тупицы. Мне стыдно за автора, и я откладываю детектив, ищу что-нибудь из настоящей литературы. Вот книга, которую я люблю; раньше она помогала мне: я успокаивался и засыпал. Но сегодня значение слов не доходит до меня, я читаю, но не понимаю смысла. Душой я там, за опущенной шторой. Что сообщают по радио?… Каждую ночь производится много арестов. Все, кто опасается, что их могут взять как заложников, вынуждены покинуть свои дома… Книга еще лежит у меня перед глазами, но я уже не читаю. В конце концов я сдаюсь. Снова гашу лампу, поднимаю штору и открываю окно. Ложусь на спину и пытаюсь ни о чем не думать. Я — предмет, тяжелый, неподвижный предмет. Мои руки и ноги как камни. Скоро я усну. Я не думаю, не думаю…
По улице едет машина и резко тормозит прямо перед домом. И снова я у окна: вижу свет фар, слышу, как хлопает дверца. Это они! Они пришли за мной! Одежду под мышку — и через черный ход!.. Но нет, это просто соседи вернулись с вечеринки. Они слегка навеселе, я слышу это по голосам. Теперь многие возвращаются домой с вечеринок поздно и навеселе, случается, и я тоже. Но от этого мне не становится легче, пожалуй, даже хуже.
Все же голоса внизу немного успокоили меня, и я остаюсь у окна, чтобы подышать ночным воздухом. Ночь душная, и я постепенно покрываюсь испариной. Машина отъезжает, отворяется и захлопывается дверь подъезда, на асфальт ложится и тут же исчезает полоса света. И снова все тихо. Ни дуновения ветерка в черных кронах деревьев, ни звука.
Не надо бояться, звучит в моей голове чей-то голос, успокойся, пусть уляжется всколыхнувшийся в тебе черный осадок страха. Дыши глубоко и постарайся трезво мыслить. Ты чуть не стал жертвой пропаганды страха — главного оружия твоего врага. Или ты забыл, что у тебя есть враг и что победить его — твой долг? Ты можешь сказать, что не хочешь вмешиваться в политику, что у тебя иные задачи; но, как бы там ни было, за эти годы ты понял: в мире существует добро и зло, и человек приходит в мир, чтобы познать их. Так неужели ты позволишь злу проникнуть в тебя и укорениться в тебе?
Подумай! Ты имеешь дело с врагом, который хорошо знает все отрицательные качества человека. Суеверие, трусость, невежество, лживость, злорадство, жажда разрушения и сенсаций, слепой эгоизм — враг знает, эти качества присущи всем нам, и его власть основана на них. Ведь и ты, сам того не сознавая, поддержал врага и помог ему; без твоего участия его победа была бы невозможной. Ты помог ему своим молчанием и бездействием, склонностью сеять вокруг себя сомнение и неуверенность, безучастностью к чужим страданиям. Даже сейчас ты помогаешь ему, отравляя воздух своим страхом.
Враг слился в твоем представлении со страхом смерти и боязнью темноты, издревле свойственными человеку. Ты веришь, что враг способен видеть сквозь стены, слышишь в темноте его крадущиеся шаги. Его шпионы и доносчики следят за тобой, он располагает тайными сведениями о каждом твоем шаге, он прослушивает твой телефон, следит за тобой, куда бы ты ни пошел, и, когда сочтет нужным, набросится на тебя, как кошка на мышь, может быть, через месяц, а может — в следующую секунду. Он — рыбак, а ты — рыба, уже проглотившая крючок; он — господин, а ты — раб. Наяву ты отвергаешь это, но сейчас, ночью, в одиночестве, ты вынужден признаться в этом самому себе. Покоряясь своему страху, ты покоряешься врагу. А он в свою очередь постоянно запугивает тебя своими угрозами: арестами, депортациями, убийствами из-за угла, пытками в темных подвалах… Это может случиться с тобой так же, как и с любым другим. От этого никто не застрахован. Никто не может спать спокойно. Но возьми же себя в руки. Оцени по достоинству все его позерство: «арийскую» осанку и «пронзительный орлиный взор», — отнесись трезво к этому реквизиту, который он унаследовал от былых эпох страха. И когда ты увидишь своего врага таким, каков он есть на самом деле, твой страх исчезнет и даже ненависть утратит свою остроту; ты испытаешь презрительную жалость к нему и к его жалким бутафорским символам бесплодия, уничтожения и смерти, к его пиратским флагам с зигзагами молний, к черным мундирам с черепами и скрещенными костями, к автомату, висящему у него на боку. Взгляни на его лицо ничтожества с узким, жестоким ртом и холодными, бездушными глазами, проследи за путаницей и сумбуром его мыслей, разоблачи его ложь, бахвальство и звериную жестокость, которые говорят только о внутренней слабости. Насколько же ты сильнее, свободнее и счастливее, чем он, загнанный в угол собственными преступлениями, ополчившийся против всего мира и самого себя, этот «сверхчеловек», уже осажденный неприятелем. Не надо так бояться его, не надо его и ненавидеть столь страстно. Подумай, может быть, ты будешь одним из тех, кто поможет ему снова стать человеком, когда оружие смерти будет вырвано из его рук и злобное безумие потеряет свою власть над ним…
Тишина. Ночной ветер бродит среди больших спокойных деревьев, которые стоят здесь уже двадцать лет и простоят еще двадцать. Я вновь слышу голос: Да, я предвижу твои возражения. Я знаю, ты скажешь: «Все это так, но я все равно боюсь. Боюсь за свою единственную жизнь. Я понимаю, ты прав, но страх все равно подтачивает мои силы, а испарина всякий раз покрывает лоб. Если б я еще верил в единство народа, в Данию или в какую-нибудь политическую систему. Или верил бы в Бога, о котором говорят в церкви, или верил бы в слово и его вечное могущество. Но я вырос в эпоху неверия и знаю, что высокими словами слишком часто злоупотребляли. Это они сделали меня робким и несчастным. Теперь у меня нет ничего, кроме слабой веры в человека и в его силы. Я — один из тех, кого пренебрежительно называют гуманистами».
Позволь мне ответить и на это, продолжает голос. Было время, когда учили, что человеческая жизнь священна. Это и верно и неверно. Человек является человеком лишь тогда, когда он одухотворен идеей, и его жизнь священна лишь как носительница этой идеи. Называй ее правдой, свободой, справедливостью, называй ее любым из этих чудесных и пугающих имен — в сущности, все они означают одно и то же. Эта идея связывает тебя с Богом — да позволено мне будет употребить это слово, — связывает твое краткое существование с вечной жизнью. Без нее ты — ничто. Сейчас ты призван на ее защиту, и в этой борьбе ты должен поставить на карту свое существование. Если ты этого не сделаешь, человечеству грозит опасность. Враг никогда не сможет убить идею; и он знает: причина его поражения в том, что он неверно оценивал человека, считая его всего лишь зверем. Пойми, ты не должен перелагать на чужие плечи защиту человека в себе самом.
Твое оружие слабо и немногого стоит, но оно твое. Возьми же его и действуй. Пробил последний час, но еще не поздно. Примкни ко всем, у кого тот же враг, что и у тебя. И к тебе вернется спокойствие. Ты увидишь, что твой враг достоин сожаления, ибо в своем бессилии он не имеет иного оружия, кроме тюрьмы и убийства. И тогда ты поймешь, что тебе нечего бояться.
ПИСАТЕЛЬ И ДЕВУШКА
Писатель хотел написать книгу, но, прежде чем взяться за перо, он должен был узнать смысл всего, что происходит вокруг него и в нем самом: извечный смысл всего сущего. Пытаясь сперва постичь его разумом, он непрерывно думал, расхаживая взад и вперед по меблированной комнате, которую снял на зиму, но так ничего и не понял. Стены комнаты были увешаны старыми фотографиями, оставленными здесь хозяйкой дома: ей не хотелось держать их у себя. Его взгляд постоянно сталкивался с их пристальным взглядом, и это мешало ему думать — он не знал, кто были эти люди, никогда их не видел и не увидит. Он посмотрел в окно: деревья и поля — блеклая картина в крестообразной раме; этот край казался ему чужим, здесь он никогда не бывал и никогда не будет.
Он пошел в библиотеку, вернулся домой со стопкой книг и сел читать и обдумывать то, что прочел. Он нашел в книгах много интересного, но того извечного смысла всего сущего, который он искал, там не было; постепенно буквы стали расползаться в каракули, и послышался многоголосый, разноязыкий гомон. Тогда, перестав думать, писатель закрыл глаза и отдался во власть своих грез: прошлое и будущее проплывали перед ним подобно радужной пелене, а ветер на улице, шаги и голоса за окном вплетались в эту пелену, как нити. И, открывая глаза, писатель всякий раз ощущал слабость и головокружение; он чувствовал себя мертвым и обреченным на неподвижность, как врытый в землю столб. Наконец он разделся и лег в постель.
Он пролежал много дней и ночей и почти все время спал, лишь иногда просыпаясь, чтобы съесть то, что приносила ему хозяйка. Но когда она пыталась заговорить с ним, он не отвечал — лежал лицом к стене, свернувшись калачиком, не думал, не грезил, лежал как мертвый.
Однажды утром он заметил, что свет в окне чудесно преобразился, и это заставило его встать и одеться. Он был слаб и едва держался на ногах, яркий свет утра ослепил его, и все же он вышел из дома и пошел сам не зная куда. У него не было никакой определенной цели. Он уже не был в отчаянии, но ничему и не радовался — он ничего не чувствовал, ни о чем не думал, ни о чем не мечтал. Придя в лес, он срезал ветку вместо посоха, но, когда взял ее в руку, почувствовал, что ветка ожила и теперь ведет его, указывая путь; она стучала по деревьям, касалась травы и рисовала на земле все время один и тот же знак. Писатель остановился и долго с удивлением рассматривал этот знак.
И тут он увидел ее. Чуть дальше, там, где тропинка выходила на поляну, мелькнула фигура девушки и сразу же исчезла в гуще деревьев. Она появилась и пропала, подобно образу, сотканному из солнечных лучей, и если бы писатель не знал ее раньше, то никогда бы не поверил, что она живая и он видит ее наяву. Но он был знаком с нею и знал, как ее зовут. — Кора, — сказал он и заметил, что солнце, ветер и посох у него в руке мгновенно замерли; сердце его тоже перестало биться, оно наполнилось ослепительным сиянием и взмыло ввысь. Ведь это была Кора — та, которую он любил и о которой мечтал еще мальчишкой; волосы, глаза — все в ней было знакомо ему до мельчайших подробностей. Конечно, она изменилась, стала взрослой, но ведь и сам он тоже изменился и потому не нашел в этом ничего странного. — Кора, — повторил он, и сердце у него забилось так сильно, что свет в глазах померк, и он присел на тропинку, держась за посох.
И чувства захлестнули его с такой силой, что он не смог сдержаться — из груди его вырвался громкий крик. И тут только он заметил, что его посох усеян маленькими зелеными ростками, услышал пение множества птиц, вдохнул запах трав и теплой земли. Но думал он только о Коре, все, что происходило вокруг, было лишь частью ее существа. Казалось, он уже знал ее лучше, чем кого бы то ни было на свете: аромат ее волос и светлые тона ее платья, ее голос и легкую походку. Он сидел, не отрывая глаз от тех деревьев, за которыми она исчезла, и в нем росло желание вскочить и броситься за нею вслед. Но он не осмеливался — боялся спугнуть ее, ему хотелось как можно дольше пребывать в состоянии блаженного ожидания, когда все вокруг смотрит на него ее глазами и говорит с ним ее голосом. И куда было спешить? Ведь он знал, что непременно встретит ее снова.
Весь день писатель бродил по лесу, думая о Коре, и узнавал о ней все больше и больше. Наконец, боясь что-нибудь позабыть, он остановился, чтобы записать все на клочках бумаги, отыскавшихся в кармане. А когда пришел вечер, он сел на поезд и отправился в город, надеясь найти ее там. Он долго бродил по улицам, запруженным людьми, и все время чувствовал, как она играет с ним, манит его: вот она ждет его за углом, исчезает и появляется вновь. Он видел ее отражение в оконном стекле, видел, как она машет рукой, слышал ее смех и ощущал на своем лице ее дыхание, и тогда он останавливался, одурманенный, терял ее след, а потом вновь находил его и терял снова. И лишь поздно ночью, когда улицы опустели, а сам он смертельно устал и голова казалась пустой, как у лунатика (ни единой мысли), он вдруг обнаружил, что она идет рядом с ним. Давно ли она сопровождала его — этого он не знал; ее легкие движения вторили его шагам. Он набрал воздуху в легкие: хотелось высказать все сразу, все узнать, все понять. Но язык не слушался его. Наконец он спросил:
— Где ты теперь живешь?
Но она лишь улыбнулась и покачала головой, словно спрашивать об этом было бессмысленно. И они еще долго шли так, молча, он даже не решался взглянуть на нее, лишь ощущал ее присутствие. Пусть она сама ведет меня, думал он, тогда мы, верно, придем к ее дому. И они продолжали идти, минуя улицу за улицей, а когда наконец остановились перед каким-то зданием, он вдруг увидел, что здесь живет он сам. Он не осмелился предложить ей подняться, хотя она как будто ждала этого, а на прощание он лишь притянул ее к себе и поцеловал в лоб. Она улыбнулась чуть разочарованно, будто надеялась, что он поцелует ее в губы, но он не решился.
— Когда я снова увижу тебя? — спросил он, отпуская ее, но она не ответила и скрылась в темноте.
Он долго стоял и смотрел ей вслед; теперь он уже горько раскаивался, что не удержал ее. Он чувствовал себя одиноким и беспомощным, сильно озяб и едва держался на ногах. А когда поднялся в свою комнату, у него даже не хватило сил раздеться; он упал на кровать и заснул долгим, тяжелым сном.
В следующие дни он часто встречал ее, и почти всегда когда меньше всего ждал этого. Бывало, он остановится на углу поговорить со знакомым, как вдруг знакомый исчезает и оказывается, что он говорит с нею. Или в театре в разгар представления он замечал, что не может следить за тем, что происходит на сцене, а когда зажигался свет, он видел ее затылок в переднем ряду. Или в читальне он работал за столом в тихом просторном зале и вдруг чувствовал, что она стоит за его спиной, заглядывая через плечо в книгу. И тут же слова на страницах теряли свое значение, он сдавал книгу и отправлялся с девушкой в одно из тех долгих молчаливых странствий, которые стали теперь бесконечно ему дороги. Но чаще всего он встречал ее во время прогулок по лесу, особенно там, где бродил еще юношей, вырезая на деревьях ее имя, — здесь, случалось, она заговаривала с ним; правда, это были отрывочные, неясные фразы, смысл которых он не совсем понимал. Но, придя домой, он записывал и мысленно повторял их, добавляя к ним новые, и приходил в восторг потому, что они раскрывали то, что человек не может выразить словами.
Так прошло две-три недели, а может, месяц; чувство великого ожидания переполняло его, хотя в этом вовсе не было юношеского нетерпения, мечты о том дне, когда она придет, чтобы остаться с ним навсегда. И все же он понимал, что отдалить этот день не в его власти, и поэтому нисколько не удивился, когда, проснувшись однажды утром, увидел, что она сидит у его постели. На ней было уже не яркое платье, а обычный серый костюм, и вообще она выглядела более земной, чем ему представлялось раньше. Он лежал и смотрел, как она вынимает из дорожной сумки и раскладывает по его шкафам и ящикам все свои женские вещички; она принесла с собой много полевых цветов, которые, должно быть, собрала по дороге, и он улыбался, глядя, как она перебирает их ловкими пальцами и ставит в вазу на письменном столе.
— Какой у тебя беспорядок, — сказала она и стала вытирать пыль, сложив стопкой на полке все его книги и бумаги.
— Не трогай их, — сказал он, — это моя работа.
— У тебя не должно быть никакой работы, кроме меня, — ответила она. Несколько минут он лежал молча, размышляя над ее словами.
— Да, но я же должен зарабатывать деньги, — сказал он наконец, — я не могу жить одной тобой.
— Деньги! — презрительно повторила она. — Какое мне дело до твоих денег! Если я останусь с тобой, ты будешь давать мне все, что мне нужно.
— Так ты обещаешь остаться со мной навсегда? — спросил он и тут же пожалел об этом, ибо хорошо знал, что после такого вопроса она может уйти.
Но она лишь снисходительно рассмеялась.
— Да, обещаю, — сказала она, — обещаю остаться с тобой на всю твою жизнь, и на вечность в придачу. И между прочим, я уже здесь! Сейчас. А ну-ка вставай!
— Подожди немного, — сказал он. — Время терпит, у нас его довольно. Подойди сюда и расскажи мне о себе. Где и с кем ты была все это время? У тебя были другие мужчины?
— Глупый вопрос, любимый, — сказала она и присела на край его постели. — Разумеется, у меня никогда не было и не будет никого, кроме тебя. Ты доволен? Обними же меня, посмотри мне в глаза.
Но ее озорные серые глаза говорили ему:
«Что бы мы с тобой, дружок, делали, если б у меня не было других?»
Он понял это, и она показалась ему еще красивее и умнее; в нем уже начала просыпаться ревность. Они долго смотрели друг другу в глаза, выжидая, кто первый не выдержит и опустит взгляд.
«Я сильнее, — говорили его глаза, — никто не знает тебя так, как я».
«Докажи!» — отвечали ее глаза.
Он вскочил с постели и стал искать клочки бумаги, на которых писал о ней. Это заняло много времени, так как бумажки были рассованы по разным карманам. Наконец он собрал их и положил ей на колени.
— Прочти это, — сказал он.
Она углубилась в чтение, а он напряженно вглядывался в ее лицо: она часто улыбалась, покачивая головой, но иногда вдруг становилась серьезной. Окончив чтение, она некоторое время сидела молча, собираясь с мыслями.
— Кое-что здесь верно, — сказала она, — кое-что нет. В твоих записях больше смысла, чем я думала. Но это далеко не вся правда.
— Что же тогда вся правда? — спросил он.
— Ты не решишься выслушать ее, — отвечала она.
— Нет, я хочу знать все, — сказал он. — Расскажи мне всю правду.
— Тогда обещай не прерывать меня.
— Обещаю, — сказал он. — А теперь рассказывай.
Сперва он лежал спокойно и улыбался, слушая ее рассказ, но вскоре уже с трудом сдерживался, чтобы не прервать ее. Невозможно, чтобы все, что она говорила, было правдой, она не такая, это не вязалось с ее лицом, голосом, со всем ее существом. Его охватило чувство глубокого отчаяния, и он отвернулся, чтобы скрыть слезы. Потом отчаяние перешло в слепое бешенство, от ненависти к ней он сжимал кулаки: когда она кончит свой рассказ, он палкой выгонит ее из своего дома и никогда больше не увидит. Однако вскоре ярость остыла, и в нем не осталось ничего, кроме безразличия и презрения: почему бы не относиться к ней как к обычной потаскухе? Таковы мужчины и женщины, таков и он сам. Да, таковы все люди. Но, продолжая вслушиваться в ее мелодичный голос, прерываемый короткими лукавыми паузами, он преисполнился изумления и вновь взглянул на нее. И едва не рассмеялся с облегчением, ибо лишь теперь понял, о чем она говорила, и осознал, что это-то и есть настоящая правда. Он сам ошибся: думал, что правда едина, а она, оказывается, многолика. Он думал, что она постоянна и неизменна, а она — мимолетна, как мираж. Он думал, что правда бывает либо белой, либо черной, но она не сводилась к какому-то одному цвету. Она сияла и переливалась, как радуга.
Ее рассказ был бесконечен. И когда она замолчала, в наступившей тишине все еще продолжалось его плавное течение. Они взглянули друг на друга и от души рассмеялись.
— Видимо, — сказал он, — я не должен принимать все так уж всерьез.
— Долго ж ты не мог этого понять, — отвечала она.
— Скорей! — вскричал он, вскакивая с кровати. — Надо все, все записать, пока мы не забыли. Ты должна мне помочь.
Он сел за письменный стол, и рука его заскользила по бумаге. Но девушка зевнула и потянулась, казалось, все это ей уже начало надоедать.
— У меня нет времени, — сказала она. — Мне надо в город за покупками.
Он удивленно повернулся на стуле: она стояла перед зеркалом и надевала шляпку.
— Я должна сходить на примерку, — объяснила она, не глядя на него. — Кроме того, я записана к парикмахеру. Мне хочется перекрасить волосы…
— Это может подождать! — с отчаянием крикнул он. — Это все мелочи, их можно сделать в другой раз. А сейчас ты должна помочь мне. Именно сейчас!
— Время терпит, у нас его довольно, — сказала она и ушла.
Он ходил взад и вперед по комнате, пытаясь вспомнить, о чем она рассказывала, но в памяти всплывали лишь обрывки; они умирали прежде, чем он успевал их записать. Вконец расстроившись, полный неясной тревоги, он думал о будущем, о своих новых обязанностях, о плате за квартиру, которую он еще не внес. Он обшарил все свои тайники, но не нашел ни гроша — вероятно, Кора унесла с собой все деньги; может, это и было истинной целью ее визита и теперь он больше никогда ее не увидит? В его душе толчками поднимался страх; он выбежал из дома и поехал в город, чтобы раздобыть денег, весь остаток дня он не решался вернуться домой. Он бродил по кабакам, стараясь в вине почерпнуть мужество, заходил к друзьям и рассказывал им о девушке. Он понимал, что это предательство, но не мог удержаться; он рассказывал и искал в их глазах подтверждения, он преувеличивал свою власть над ней и врал, хвастаясь, что обладал ею. Лишь поздно вечером очутился он перед своей дверью и стоял, не решаясь отпереть, затаив дыхание, уверенный, что ее нет. Но она была дома, он увидел это сразу же, как только тихонько приоткрыл дверь, — она спала в кресле, закутавшись в его халат.
— Где ты был? — спросила она, щурясь от света.
— Я принес контракт, — поспешно сказал он, извлекая документ из кармана и гордо разворачивая его у нее на коленях. — Подписанный контракт, вон сколько тут пунктов.
Но она лишь небрежно пробежала бумагу глазами, нашла свое собственное имя и зябко передернула плечами.
— Возьми, — сказала она. — Я очень хочу спать. И вообще — терпеть не могу контрактов. А больше ты мне ничего не принес?
— Принес, — отвечал он. — Деньги. Смотри, сколько денег! Я кладу их в твою сумку.
— Хорошо. — Она снова стала нежной и сонной. — А теперь отнеси меня в постель.
— В постель? — испуганно повторил он.
— Ну да, — сказала она. — Не кажется ли тебе, что уже настало время?
Когда он поднял ее на руки, халат распахнулся, и он увидел, что, кроме халата, на девушке ничего нет. У него в глазах потемнело, он едва не уронил ее.
— Неужели я такая тяжелая? — шепнула она и сонно улыбнулась.
Он задохнулся и не смог ответить, он вдруг понял, что тяжелее ноши и быть не может.
Медовый месяц не принес писателю ничего, кроме разочарований: он никак не мог постичь свою любимую. Сперва она была молчалива, так молчалива, что он уже не верил, что в то первое утро она беседовала с ним и открывала ему глаза на мир. Теперь же он не слышал от нее ничего, кроме пустых, ничего не значащих фраз, а если он проявлял настойчивость, она лишь улыбалась своей непостижимой улыбкой, доводившей его до безумия. Он догадывался, что скрывается за этой улыбкой.
— Поговори же со мной, — взмолился он однажды, — или я задушу тебя!
— Что я могу тебе сказать? — спросила она. — Взгляни в окно, видишь, как синеет небо, как зеленеет трава.
— Кора! — вскричал он, падая перед ней на колени и зарываясь лицом в складки ее платья. — Поговори со мной, или я умру.
— Ты помнешь мое новое платье, — ответила она. — Между прочим, ты еще не сказал, нравится ли оно тебе. Оно очень дорогое, любимый, придется тебе поскорее раздобыть еще денег…
В отчаянии он кинулся вон из дома и вернулся лишь наутро.
— Ну и вид! — сказала она, когда он распахнул дверь в комнату. — Где ты был? Похоже, ты неплохо повеселился.
Костюм его был помят и испачкан, а глаза налились кровью.
— Да, повеселился, — ответил он. — Я напился пьяным и, если хочешь знать, изменил тебе.
— В добрый час, — сказала она. — И как это тебе понравилось, любимый?
Он набросился на нее с кулаками и повалил на кровать.
— Будешь ты со мной разговаривать? — кричал он. — Или я убью тебя!
— Пощади, — простонала она. — Я буду говорить! Я тебе расскажу все, что захочешь, только отпусти меня. Садись за стол, я буду тебе диктовать.
Опьяненный победой, он, пошатываясь, подошел к столу и сел спиной к ней; в ушах у него раздавалась ликующая музыка, слова так быстро слетали с ее губ, что он не поспевал за ними; наконец все смешалось.
— Погоди, — сказал он, — я не уловил смысла последней фразы. О чем ты говорила?
Но она не ответила, в комнате царила необычная тишина. Он медленно обернулся и увидел, что ее нет: она выскользнула за дверь так тихо, что он даже не заметил. Полный недобрых предчувствий, он стал перечитывать то, что записал; как он и боялся, все это были лишь пустые, бессвязные слова. Он изорвал записи в клочки и сжег их в печке, потом лег и забылся тяжелым сном — надо избавиться от этого отчаяния, лучше всего не просыпаться вовсе, ведь ясно, что она больше никогда не вернется к нему.
Но когда он проснулся, она лежала рядом, улыбаясь своей тихой и сонной улыбкой. Он невольно потянулся к ней, поцеловал ее в затылок и нежно, едва касаясь, провел пальцами вдоль позвоночника. Вдруг она открыла глаза и стала говорить, как будто во сне.
— Я люблю тебя, — шептала она. — Слышишь, я твоя. Только поверь мне, и тогда можешь требовать все, что пожелаешь. Требуй от меня что угодно, любимый, я буду только счастлива. Хочешь, я исчезну и стану тобой? Растворюсь в тебе, буду смотреть твоими глазами, говорить твоими устами?
— Да, — прошептал он в ответ. — Я требую этого. Слышишь, твой господин этого требует.
И он почувствовал, что перед ним раскрылся мир, он огляделся по сторонам и преисполнился удивления; ему показалось, будто он спал долгие годы, спал с самого своего детства, и вот теперь наконец проснулся. Он вспомнил все, что рассказала ему Кора в то первое утро, все вспомнил и все понял, он уже сидел и писал. Он улыбался — как все просто. Он думал, что все так сложно и серьезно, а в действительности это оказалось похожим на игру — все равно что катать обруч, крутить волчок или спускать на воду камышовый кораблик, доверив его ветру. Он играл так много часов, но потом ему надоело. Тогда он разбудил Кору.
— Вставай, — сказал он. — Мне скучно, и я голоден.
Теперь они уже не расставались. Их жизнь вошла в определенную колею. Каждый день в одно и то же время они ели, спали, каждый день совершали прогулки по одному и тому же маршруту, сторонясь случайных прохожих, они говорили только друг с другом или вместе молчали. Этого им было вполне достаточно. Но она уже не была для него такой новой и необычной. Теперь ему иногда бывало с ней скучно. Он не хотел признаться в этом даже самому себе, но все же скучал и потому становился ворчливым и раздражительным.
— Что за пошлую чепуху ты несешь? — сказал он. — И, кстати, вчера ты говорила совершенно другое. Я думал, что ты умная, а ты, оказывается, глупая. Глупая и пустая.
Она обиделась и умолкла, но он все обратил в шутку:
— Неужели ты не понимаешь, я не то хотел сказать! Ведь я бы не смог жить без тебя, я бы превратился в свою тень…
Но через несколько недель, когда она потребовала у него денег, он снова вышел из себя.
— У меня нет денег! — отрезал он. — И я совершенно не знаю, где их взять. Авансов мне больше не дают. Что прикажешь теперь делать?
Но она не отвечала, она сидела в углу, уставясь в пол, как будто стыдясь за него. Он пришел в исступление; меря шагами комнату, он бросал ей в лицо самые обидные слова, которые только мог придумать:
— Я и так уже истратил на тебя слишком много денег. Бог знает зачем я это делаю, ведь, в сущности, ты и сама понимаешь, что не пара мне. И не строй из себя обиженную, это тебя не красит. Ты уже не так молода, можешь мне поверить, и похожа на старую деву. Думаешь, приятно месяц за месяцем торчать с тобой наедине? Мне просто необходима какая-то перемена.
Теперь он мог позволить себе так говорить, ибо знал, что она слишком зависит от него, чтобы уйти. И все же сердце его обливалось кровью, ведь на самом деле он все еще любил ее и ненавидел лишь самого себя. Он неистовствовал так довольно долго, казалось, весь мир рушится и превращается в сплошную кровоточащую рану. Наконец он бросился перед ней на колени.
— Прости меня, — умолял он, — я сам не знаю, что говорю. Я не могу без тебя, слышишь? Останься со мной! Поговори со мной! — Он уткнулся лицом в ее колени, она погладила его по волосам и простила его.
Однажды он ушел в город без нее, ушел потихоньку, пока она еще спала. Весь день он без цели бродил по улицам; совесть у него была нечиста, но ему нужно было побыть одному, посмотреть на других людей, услышать их речь. Он долго стоял у бюро путешествий и разглядывал пестрые плакаты с видами дальних стран, как вдруг на пустынной площади увидел юную девушку в голубом платье. Ее глаза, тоже голубые, были затуманены тоской. Ему показалось, что когда-то он был с нею знаком и знал, как ее зовут, только никак не мог вспомнить ее имени, хотя долго стоял и смотрел ей вслед. Она моложе Коры, отметил он про себя, гораздо моложе и красивее.
Он думал, что дома его ждут бесконечные упреки, но, к его удивлению, она спокойно сидела за его столом и листала пухлую рукопись.
— Все уже почти готово, — сказал он, — не хватает только конца. Весь день я пытался его придумать.
Он не решался взглянуть ей в глаза, ведь это была ложь: весь день он думал о девушке в голубом платье. Кора не ответила ему, продолжая читать. В раздражении он забегал взад-вперед по комнате.
— Я знаю, что ты думаешь. Тебе кажется, что книга мне не удалась, и ты, наверное, хочешь, чтобы я все переделал. Но я не буду. Просто припишу конец и отправлю. Нам, видимо, лучше расстаться, ты только мешаешь мне. Пока ты здесь, я не могу закончить книгу…
Она продолжала читать, не поднимая головы, переворачивая страницу за страницей, и не глядела на него. Он даже не был уверен, что она слышала его слова. Она никогда не уйдет от меня, подумал он и сжал кулаки в карманах. Я не избавлюсь от нее до конца жизни.
Но на следующее утро она исчезла. Едва он открыл глаза, ему стало ясно: она сложила свои вещи и ушла, даже не разбудив его. Он встал с постели, чтобы посмотреть, не оставила ли она какой-нибудь записки, но она исчезла без следа. Он подошел к окну, посмотрел на поля, на лес; достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что и там тоже ее нет. Она уехала куда-то далеко, туда, где он никогда не был и не будет.
Он долго стоял обескураженный. Как он ждал этой минуты, ведь она была для него и смертью, и возрождением, и вот теперь, когда эта минута наконец наступила, он ничего не чувствовал. Ни боли, ни облегчения — ничего, кроме пустоты. Оставалось лишь запечатать рукопись и надписать на конверте адрес, но даже эта малость казалась непреодолимо трудной: чтобы сделать это, ему понадобилось несколько часов. Потом он лег в постель и снова уснул.
Спустя несколько месяцев он ходил взад-вперед по другой меблированной комнате, которую снял на зиму в другом городе. Он размышлял о многом, иногда и о Коре. А ведь все могло быть так хорошо, думал он, если б я только сумел в этом разобраться. Если бы я тогда знал женщин так, как знаю сейчас. Мне уже не вернуть ее, она для меня потеряна навеки. Но может быть, в следующий раз…
С этими мыслями он остановился у окна и взглянул на улицу. Это была широкая улица, по которой нескончаемым потоком шли люди, и вдруг в гуще потока мелькнуло голубое платье. Оно исчезло прежде, чем он сумел понять, что это, и если бы он не знал ее раньше, то никогда бы не поверил, что она — живая и он видит ее наяву. Но он был знаком с ней и знал, как ее зовут. Ведь это была она — та, которую он любил и о которой мечтал еще мальчишкой…
ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
Выехав на длинный причал, мы облегченно перевели дух, пароход еще не ушел; в парижском бюро путешествий не были в этом вполне уверены. Впрочем, вот уже три дня, как никто ни в чем не был уверен. Но пароход — вот он, рядом, — солидно стоит у причала и, как кажется, не собирается отходить. Только поднявшись на борт, мы почувствовали, как горячка спешки и напряжение покидают нас, оставляя за собой неприятное ощущение пустоты. Мы стояли на верхней палубе и обозревали с нее Антверпен. За спиной слышались степенные шаги датчан и звуки степенной датской речи. Мы снова оказались в Дании. Стоило шагнуть с тверди Европы на качающийся датский островок — и куда делись все события нашего бегства? Как будто и не было ни бесконечно марширующих солдатских сапог, ни басовитого громыхания на ночных улицах, ни газетной шумихи, паники, борьбы не на жизнь, а на смерть перед переполненными вагонами. За три дня мы вконец измучились, нас истязали страх, отчаяние, какое-то сладкое предчувствие гибели. И вот мы здесь, на пароходе.
— Сойдем вниз, распакуем чемоданы, — предложила Астрид. — Наверно, скоро ужин.
Мы разложили в каюте вещи и переоделись, устроили на трех метрах площади некое подобие датского уюта. Зашла горничная, чтобы отметить нас в списке, и я спросил ее, скоро ли мы отправляемся. Она не знала. Она не знала и того, много ли еще пассажиров прибыло после нас. Наконец Астрид напрямик спросила у нее, будет ли война.
— Не знаю, — опять сказала девушка, — а разве она должна быть?
По выговору мы догадались, что горничная родом с Фюна. Рядом, в соседней каюте, вполголоса и весьма страстно ссорилась из-за пустяка пожилая супружеская пара. Мы с Астрид переглянулись и засмеялись. Войны не было, мы больше не верили в нее.
Прозвучал гонг, за столом было свободно, подавали настоящие датские блюда, и мы немного — тоже по-датски — переели за ужином. После мы пошли в курительный салон и выпили кофе с коньяком. По вкусу кофе совсем не отличался от настоящего датского. Мы заглянули мельком в английскую газету и улыбнулись, прочитав заголовок «Denmark will send us food»[49], но быстро отложили газету в сторону: она была старая, вышла еще вчера, когда миру угрожала война. Потом, задолго до сна, нас одолела зевота.
— Сегодня я буду спать сном младенца, — сказала Астрид.
Но спали мы ночью плохо: нас мучила духота. Днем жара была незаметна, а по ночам, несмотря на то что близился сентябрь, она становилась душной и угнетающей. По тишине в каюте я понял, что Астрид тоже не спит, но решил не тревожить ее и лежал сам по себе в жаркой темноте, обливаясь потом и прислушиваясь, как между бортом и причалом, клокоча и хлюпая, поднималась приливная вода. Уже совсем под утро завыла сирена, и немного погодя вся антверпенская гавань загрохотала, как одна гигантская кузница. Покоя все равно не было, я встал и в темноте оделся. В одиночестве мысль о войне мало-помалу перестала казаться невероятной. Ночью на пароход продолжали прибывать пассажиры, с десяток их, отставив в сторону багаж, столпились у трапа и, очевидно, ждали распоряжений судового начальства. Я заметил их все еще неровное, беспомощное дыхание и затравленное выражение покрасневших от бессонницы глаз; глаза задавали все тот же вопрос о войне — как старожилу на корабле мне полагалось бы знать, будет она или нет, — но я обошел пассажиров стороной и поднялся на верхнюю палубу. Глубоко вдохнув воздух, я оглядел панораму порта. Вдоль причала тянулась длинная цепочка электрических огней, сейчас, в утреннем полумраке, они уже побледнели; под навесом пристани двигались, как привидения, серые тени рабочих. Ночью в порт прибыло большое польское судно, и погрузка его шла полным ходом: на юте ослепительным и неровным светом горел фонарь, вырывавший из темноты круг пространства, ящик за ящиком вплывали в него, ложились на лес рук, уравновешивались и, громыхая, пропадали в черной могиле трюма.
Пока я наблюдал за погрузкой, вслушиваясь в выкрики на французском и польском языках, на палубу вышла Астрид и встала рядом. Ей Удалось поговорить с кем-то из экипажа: оказывается, мы отплываем через час. Мы нашли два шезлонга, уселись и стали ждать. Цепочка огней на причале погасла, небо на востоке заалело, мы закрыли глаза, и нас, покачивая, медленно понесло в новый солнечный, жаркий день, в новое безветренное затишье где-то между войной и миром. Прошел час, но мы не отплывали, мы как будто и не думали никуда отплывать. На палубе появилась молодая пара, муж с женой, их по-утреннему звонкие голоса были хорошо слышны — я сидел с закрытыми глазами и прислушивался: они думают, что все еще куда-то направляются, что время принесет с собой войну или мир. Они не чувствуют, что попали в замкнутое безветренное затишье, в область вне времени, где никогда не было мира и не может быть войны.
Мы немного прошлись по палубе взад и вперед. Потом встали, наблюдая за медленно подъезжавшей к нам по причалу машиной, из нее выбрались четверо мужчин: скованные, неловкие движения делали их похожими на полумертвых насекомых. Мы настороженно следили за ними, когда они поднимались на пароход: как знать, может быть, они привезли с собой вести о войне? Но эти люди почти не разговаривали, их погасшие лица не выражали ничего, кроме безразличия и усталости, было видно: ехали они очень долго и очень быстро. Стрела крана с нашего парохода подхватила их машину и поставила на корму. Владелец долго еще возился с ней и напоследок завел — мотор заработал, потом чихнул вхолостую и замер: сила и весомость машины растаяли. Она стояла теперь в красноватых отблесках солнца тонкой и хрупкой скорлупкой, присыпанной сверху белой пылью бельгийских дорог.
К двенадцати дня пароход, казалось, насытился пассажирами сполна. Люди приезжали из Дюнкерка на машинах группами по четверо и пятеро, тянулись длинным караваном с последнего поезда из Франции. Еще много беженцев застряло за закрытой немецкой границей, и пронесся слух, что пройдет не один день, прежде чем мы тронемся в путь. В полдень уже сам корабль как будто отчаялся когда-нибудь отплыть, незаметно, как море между приливом и отливом, он начал меняться: глубже оседал в воде, становился шире, срастался с твердью причала. Мы стали гражданами страны, существующей вне времени и европейских границ, привидениями погибшей цивилизации, чьи законы и предрассудки продолжали жить в нас. Высоко в зените проплыл самолет — летчику оттуда судно должно было казаться системой плоских геометрических фигур, по которым в хаотическом беспорядке ползают муравьи, он не мог знать, что мы, подчиняясь безошибочному инстинкту, уже строили настоящее классовое общество, разделенное на господ, средний класс и пролетариат. Мы с Аст-рид обнаружили классовые различия за завтраком в переполненном ресторане, где по ошибке заняли почетные места рядом с господами: супружеской парой буржуа из Копенгагена с двумя прелестными и как дзе капли воды похожими дочерьми, финансистом-космополитом, случайно оказавшимся по рождению датчанином, но вообще-то принадлежавшим всем столицам Европы, и молодыми супругами — образцовыми представителями jeunesse dorée[50], — совершавшими свое свадебное путешествие. Не прошло и двух минут, как все они перезнакомились, для этого понадобилось немного: многозначительный кивок поверх бокала с красным вином, два-три слова об общих знакомьте. Красное вино, которое мы пили, было отрекомендовано финансистом-космополитом как единственное стоящее на этой датской посудине, господа набирали его в рот, смаковали, обсуждали марку и выдержку на столь профессиональном жаргоне, что становилось ясно — это были знатоки и коллекционеры, обладатели фамильных поместий с прилагаемыми к ним винными погребами. У нас с Астрид не было фамильного поместья, мы не разбирались в винах, и мы ни секунды не сомневались, что наши сотрапезники прекрасно знают об этом. Официант тоже был с нами чуть менее любезен и чуть более небрежен, чем с остальными. Он определенно не сознавал этого, но подчинялся социальному инстинкту. В следующий раз они будут знать свое место — эта невысказанная мысль уверенно и утонченно излучалась самой атмосферой ресторана, она неслышно звучала в неслышном пении изысканно ограненного хрусталя. Мы с Астрид сидели за столом, как пара чужаков-художников, по ошибке попавшая на пир феодалов.
— К чему собирать коллекции вин, если Гитлер все равно начнет войну? — озабоченно сказал копенгагенский буржуа, а космополит снисходительно улыбнулся ему и объяснил, что Гитлер действительно начнет войну и даже, по всей видимости, выиграет ее, С минуту понаслаждавшись произведенным эффектом и протестами собеседников, космополит добавил:
— Подбирайте вина! Какая вам, в сущности, разница, если вы будете покупать их у Гитлера? Все эти потрясения — одна видимость, мир останется таким же.
Он покрутил ножку бокала и тонко улыбнулся: он знал Париж, Берлин, Лондон. Господа снова запротестовали, но не всерьез, как будто играли в невинную светскую игру, jeunesse dorйe рассмеялась своим светлым смехом, а прелестные дочери буржуа в голубино-сизого цвета прогулочных костюмах приветливо заворковали. Астрид быстро взглянула на меня, и я снова подумал: они считают, что куда-то направляются, они не чувствуют, что уже стали привидениями, выходцами с давным-давно погибшего света. Наверное, смерть как раз такова: это раскинувшееся до бескрайности безветренное затишье, одна-единственная точка в самом центре катастрофы, в которой катастрофа не ощущается…
Зато в курительном салоне, наверху, нам достались места по соседству с двумя пожилыми господами, которые не верили в войну Гитлера. Они пили кофе с коньяком и доказывали друг другу, что вся эта пресловутая военная угроза — один блеф. Пушки Гитлера не стреляют, его танки сделаны из папье-маше, а траншеи линии Зигфрида давно залиты дождями. С этим голубчиком кончено, говорили они, он просто не в состоянии вести войну и знает об этом. Он — пленник своей собственной игры. Генералы отказались от него, они не выступят. Война, можно сказать, кончилась, не начавшись… Так эти домашние стратеги взвешивали мировую ситуацию за чашечкой кофе, а далеко в Германии, глядя сквозь заволакивающий глаза красный туман, Гитлер исступленно вещал и вещал, не обращая внимания ни на что, в то время как по коридорам Национального собрания прохаживались два ответственных государственных деятеля и шептались, жестикулируя, поясняя друг другу интригу — превосходную, кристально чистую, классическую интригу, — и не видели перед собой ничего, ничего, кроме нее, а в Лондоне, в старинном зале, сидел Чемберлен и все рассчитывал и рассчитывал, рассчитывал неверно, а минуты уходили, минуты уходили, и безумие росло, как расширяющийся от страха, ненависти и восторженного отчаяния огромный рыбий глаз, и над нами в солнечном безветренном затишье парил прозрачный, готовый разорваться волдырь, вздувшийся на слепой внушаемости, сомнении, вере, стремлении к самоуничтожению со стороны миллионов и миллионов людей. Мы, граждане страны вне времени и границ, не заметили, как он возник и вырос — господа, что сидели в шезлонгах на верхней палубе, были слишком погружены в чтение газет, мы пробирались между ними и тут и там прочитывали заголовки: NO WAR THIS YEAR[51] — LE COUP EST COMP-LET[52] — СЕРЬЕЗНОЕ УХУДШЕНИЕ… Заголовки сливались в густое неразборчивое мычание, но оно продолжалось уже много дней и недель и воспринималось теперь просто как эрзац тишины. В этой тишине головы лениво кивали, взгляд угасал, листы газет выпадали из рук — господа забывались в дреме черного неслышимого мычания. Ниже, на палубе, принадлежащей среднему классу, устроился небольшой клан мелких буржуа. Перебивая друг друга, они возбужденно толковали о том, как им повезло, как удачно, что война начнется только сейчас, после отпуска, когда им все равно ехать домой. Клан сгрудился, рассматривая альбом с цветными открытками, они вели себя так, как будто все еще сидели в туристском автобусе и ехали по улицам Парижа, приоткрыв от удивления рты и впиваясь взглядом в своего руководителя, объявляющего через микрофон: «С правой стороны, дорогие дамы и господа, вы видите Триумфальную арку и могилу Неизвестного солдата, а с левой — войну…» Теперь буржуа направляются домой; может быть, в придачу ко всему им удастся рассказать домашним еще и о войне?… На нижней палубе, принадлежащей пролетариям, в пропахшей машинным маслом полутьме, между штабелями ящиков и тюков, я встретил эмигранта в рубашке с обтрепанным воротом и в черном, уже обошедшем всю Европу, залоснившемся костюме. Он и здесь не мог усидеть на месте и беспокойно бегал взад и вперед, не щадя своих стертых подошв, тщетно измеряя ими страну вне времени и границ, страну, где не было ни войны, ни мира. Может быть, он единственный что-то по-настоящему знал, но глаза его не видели меня, а я побоялся остановить его и расспросить.
Вечером мы продали свою каюту супружеской паре из класса господ: нам нужны были деньги на пропитание. Теперь мы жили над антверпенским портом, на верхней палубе, в шезлонгах, раскладывавшихся для нас на ночь, и лишь несколько раз в сутки спускались вниз, чтобы поесть. Порт грохотал без устали, горы ящиков и тюков на пристани росли, суда разгружались, солдаты охраняли объекты, мокрая стенка причала попеременно то уходила вниз, то вырастала, дыша, согласно закону прилива и отлива, надеждой и отчаянием, а мы все это время продолжали жить в нашей особой стране без дня, ночи и сна. Мы лежали, вытянувшись на спине, и смотрели, как лихорадочно качаются в темноте красные и зеленые фонари, осторожно поднимались и проходили между длинными рядами тел, одинаково застывших в одном и том же вытянутом положении и одинаково встречавших нас одним и тем же взглядом покрасневших глаз. С утренней зари до поздних сумерек мы плыли, не двигаясь с места, под одним и тем же кристально чистым небом. Иногда, когда мы стояли на палубе, нас знобило на ярком солнце от низкого рева приближавшихся к нам по широкой морской дороге кораблей-мастодонтов. Многоэтажные громадины — дом на доме — медленно скользили мимо с развевающимися в клубах дыма и в солнечной дымке флагами: британским Юнион Джеком, американскими Звездами и полосами, угрожающей свастикой Гитлера на красном поле и раскаленным ядром Японии на белом. Корабли утюжили морские волны, мы чувствовали себя перед ними бескровными тенями, маленькими и легкими, невесомыми, как птичьи перья. Единственное, что утешало, — это голландская самоходная речная баржа, пришвартованная к борту нашего парохода. Ее палубная надстройка была похожа на маленький нарядный домик с накрахмаленными занавесками на окнах и с комнатными цветами на подоконниках. На добела отмытой палубе баржи играли дети и собаки, а шкипер со шваброй наперевес стоял, мрачно наблюдая, как всего в нескольких шагах от его релинга в море бьет струя сточной воды с нашего парохода. Это был кусочек жизни, принадлежащий миру и будням, глядя на него, мы ощущали себя живыми людьми.
Утром третьего дня все слои нашего общества взбудоражила новая волна нетерпения: отправление было назначено на полдень. И снова корабль, как одушевленное существо, преобразился: казалось, он знал об отправлении — его линии выпрямились и устремились вперед, лица людей стали замкнутыми и озабоченными, а шаги твердыми и частыми, пассажиры перекликались с палубы на палубу, женщины ходили с лихорадочно возбужденным взглядом, сзывали детей. Корма парохода была уже сплошь заставлена автомашинами и ящиками, и рабочие начали разбирать судовой подъемный кран, когда у сходней резко затормозил и остановился последний, запоздавший автомобиль. Это был старинный, похожий на картонную коробку «форд» с высокими и узкими колесами, но его владелец был скорее согласен расстаться с жизнью, чем потерять свое сокровище. Он как чего-то само собой разумеющегося потребовал, чтобы машину подняли на борт, а получив отказ, встал в позу и начал угрожать. Угрозы сменились жалобами и мольбами, а когда и это не помогло, он заплакал. Его жена и двое детей, побледнев, стояли рядом и наблюдали за этой сценой. Появившийся начальник в фуражке с золотым околышем прервал переговоры: пассажир либо останется со своим «фордом», либо поднимется на борт — пароход отправляется. Началось последнее странствие чемоданов, ковров и баулов по сходням, а агенту на причале были вверены ключи и бумаги — да-да, он, конечно же, сбережет автомобиль и защитит его от войны Гитлера, определенно и вне всякого сомнения, машина будет отправлена первым же рейсом, когда сообщение восстановится. Но и отдав все указания, человек не покинул своего' «форда», он возился с ним до последней минуты, пока не стали убирать сходни. Оказавшись на палубе, он по-прежнему неотрывно смотрел на «форд». Он больше не плакал, но, когда жена осторожно попыталась обнять его, грубо оттолкнул ее. Он не хотел знать ни жены, ни детей, ни семьи, без своей автомашины это был не человек. Над его головой оглушительно заревел гудок, вокруг хлопали в ладоши и кричали «ура», глубоко внизу, за бортом, возник и стал расширяться клин вспененной воды. Он ничего не слышал и не видел. Он медленно умирал на причале в черном гробу, который становился все меньше и меньше, пока совсем не пропал из виду и не исчез, но даже тогда привидение, стоявшее рядом с нами, не отрываясь смотрело в одну и ту же точку.
Так мы отправились домой, где нас ожидала война.
БЕРЕГОМ РЕКИ
Владелец книжной лавки в южногерманском городке долго разыскивал карту пешеходных маршрутов по Дунайской долине.
— У нас в Германии пешком больше не путешествуют, — сказал он, совсем потерявшись среди множества своих ящичков и полок. — Сейчас им подавай автомобиль или мотоцикл. Все торопятся, спешат, никому не хочется терять время.
Мы принуждены были согласиться с ним. Хотя это касается не только Германии, как все же возразил я, то же происходит у нас дома и во всех других странах, которые мы посетили за последние годы, повсюду в Западной Европе. Книготорговец тем не менее стоял на своем: хуже всего дела обстоят именно в Германии. Люди снялись с места и никак не могут остановиться, во всех немецких городах, на всех немецких дорогах движение растет из месяца в месяц. Скоро ходить пешком станет совсем невозможно.
Немного погодя мы уже были далеко от его лавки, за городом, мы стояли на высоком мосту и смотрели с него на воду. Оба были немного озадачены. Неужели это Дунай, вторая по величине река Европы? Он был не шире обычной датской речки и несообразно мал для высокого и длинного моста. Но нет, конечно же, весной мы застали бы здесь совсем другую картину, объяснил я, а сейчас, сейчас конец лета, и к тому же давно стоит засуха. Дунай в этом месте только начинается, он будет мало-помалу расти и ниже по течению оправдает свою репутацию мощной водной артерии Европы. Стоит пройти вдоль него совсем немного, и мы сами увидим, как он превратится в довольно-таки приличную реку.
Рассуждая подобным образом, мы шли по дороге мимо заливных лугов, на которых паслись пестрые коровы, и мимо разбросанных там и сям последних домиков, пока не приблизились к большому лесу, где дорога разветвлялась на множество тропинок, впадая в лес настоящей дельтой. Найти маршрут, который я наметил на карте, не составило труда: все туристские тропы в Южной Германии заботливо размечены разноцветными полосками, кружочками и треугольниками, метки эти непременно повторяются через равные промежутки пути и хорошо видны, потому что за ними хорошо следят, хотя, как говорил книготорговец, в Германии больше и не путешествуют пешком и люди в общем редко посещают места, где им делать нечего.
Несколько дней мы послушно следовали всем капризам течения Дуная. Но река была видна не всегда: красные и синие метки на стволах деревьев часто уводили в сторону. Мы всходили на одетые лесами холмы, останавливались и обозревали с них дали — череду других одетых лесами холмов — или же смотрели вниз на долины, где белые от пыли ленты дорог вились к далеким черепичным крышам швабских деревень. Иногда мы выходили из лесов на возделанные поля и теряли наши метки, но потом неизменно встречали их чуть дальше или чуть позже на камне или на телефонном столбе. Порой тропа выводила нас на широкие равнины, устланные прекрасной мягкой травой, где до горизонта тянулись тронутые желтизной сады; мы ложились на спину в мягкую траву и дремали часок-другой. Приветливые уголки встречали нас повсюду. Конечно, рано или поздно тропа снова уводила через лес обратно к Дунаю, который то разливался широко и привольно, как подобает настоящей реке, то становился узким, напоминая видом датскую речушку, то пропадал вовсе, разбиваясь на множество ручьев, бегущих по каменистому ложу. Мы шли часами, лишь изредка встречая занятых работой местных жителей, мы говорили им обычное «Grüss Gott»[53], и они, как заведено, отвечали нам тем же «Grüss Gott». Несколько дней нам не встречался больше никто. После полудня мы часто и подолгу отдыхали, хотя редко чувствовали настоящую усталость. Нам некуда было спешить. Мы не стремились к какой-то цели, нам просто хотелось пройти по этому краю, вдоль этой реки, и мы находили здесь все новые и новые привлекательные уголки. Довольно часто мы останавливались и удивлялись тому, что все здесь казалось знакомым, а ведь мы никогда не видели этих мест и никогда здесь не бывали. Один раз мы залезли на раздвоенный, нависший над рекой сук, сняли туфли и носки и опустили ноги в воду. Вода была ледяная, мы сразу же замерзли, хотя стояла жара. Сила течения тоже очень удивила нас. Что-то сразу же защекотало и закололо кожу, засновало по ногам невидимым рыбьим косяком, несмотря на то что зеркало воды оставалось спокойным и невозмутимым. Самое удивительное — пока мы сидели на суку, опустив в воду ноги, нам все время казалось, что все это с нами уже было, и было именно здесь. Потом мы расположились в тени большого одинокого дерева, мы лежали и разговаривали просто так, ни о чем. Мы закрыли глаза и подремали, потом проснулись и заговорили снова. Я нашел в рюкзаке апельсин, очистил его и разделил на две половинки. Затем пошел к реке и выловил из воды бутылку с вишневкой, которую до этого поставил охладиться. Мы выпили то, что в ней оставалось, и я зашвырнул пустую бутылку далеко в реку. Мы легли на спину и стали глядеть на темную недвижную листву и сквозь нее — на глубокое синее небо. Время клонилось к вечеру, было тихо и тепло, стоял сентябрь, месяц молодого вина. Легко и грациозно переворачиваясь в воздухе, поплыл к земле желтый лист. Мы проводили его взглядом. Когда-то мы уже переживали точно такое же мгновение, здесь на этом самом месте, хотя, казалось, это было невозможно. Нам одновременно пришла в голову эта мысль. Когда долго живешь вместе, нет необходимости обозначать все словами. Мы, конечно, уже сказали друг другу все обязательное: что лучшей погоды нельзя и ждать, что наше путешествие протекает превосходно, в точности как мы задумывали его с самого начала. Нам только и оставалось, что наслаждаться, никаких других забот не было. Все последние месяцы меня преследовало необъяснимое, просто-таки настораживающее везение. Сбылись, хотя и в разумных пределах, мечты об успехе. Теперь я могу спокойно отдохнуть от работы, могу вернуться к ней тогда, когда захочу. Мы долго разговаривали на эту тему. Я курил трубку, удивляясь, какой горький у нее вкус. Потом отложил трубку в траву. Мы вздремнули.
— Если хочешь, мы могли бы остаться здесь на несколько месяцев, — услышал я ее голос. — Здесь легко найти дешевое жилье, туристы сюда не приезжают. Я была бы не против. Место не хуже любого другого. Если ты сможешь здесь работать…
Я задумался над предложением. Оно выглядело разумным, но все-таки было неосуществимо. Я не понимал причины, но знал, что работать здесь не смог бы.
— Тебе кажется, что это слишком далеко от моря? — снова послышался ее голос, хотя я совсем не говорил о море и даже не вспомнил о нем.
«Море» — слово, которое я избегаю и в разговоре, и когда пишу. Но она была права: в следующий раз я буду жить у моря. Оно должно быть у меня перед глазами, когда я снова сяду за работу. Это смешно, претенциозно, может быть, совершенно бессмысленно, но это так. И я не могу сказать почему. Я лежал и раздумывал над этим, а ее голос продолжал: — Может быть… Воздух здесь давит. Он словно не движется. Но дома, в Дании, мы тоже живем не у моря. Разве Эресунн — море? Подыщем другое местечко на настоящем морском побережье. Поедем за границу. Там полным-полно чудесных мест у моря…
И мы начали перечислять все места, куда могли бы поехать. Говорили о Корнуолле, где пожили совсем немного, и еще о небольшом городке Порт-Исаак на Атлантическом побережье и о его диких утесах. Говорили о юге Франции и о Сицилии, о каком-то никому не ведомом, забытом богом острове в каком-то море. В мире оставалось еще много нетронутых или забытых мест, чего стоят, например, роскошные необитаемые острова, а моя писательская работа невесома, я повсюду могу возить ее с собой. Нет причин, почему нам непременно нужно оставаться в Дании, необходимо только отделаться от игрушечного домика в пригороде Копенгагена, нашего только формально, нас с ним ничто не связывало. Тем более что, у нас и не было никаких конкретных планов на будущее. Я даже не знал, о чем теперь буду писать, и мне вовсе не хотелось об этом думать. Что-то мешало, с чем-то я должен был разделаться до того, как взяться за новую работу, это становилось для меня все яснее и яснее, но каждый раз при одной мысли о будущей работе я почти физически страдал, ощущая в себе что-то болезненное, что-то обреченное на смерть. Как будто обязательно что-то должно было умереть, чтобы дать выжить другому, но что должно было выжить, я не знал. Конечно, думать так о собственной писательской работе смешно и претенциозно, все это чистейшее самовнушение. Мне последнее время везло, мои вещи имели успех, я был почти уверен, что везение и успех будут сопутствовать мне и дальше. И все-таки думать о будущей работе мне не хотелось.
Мы беседовали и о другом, о том, что пережили в прошлом. Мы согласились между собой, что находимся сейчас примерно в таком же положении, как в 1939 году, когда сожгли за собой все мосты и уехали на время за границу. Нам хотелось посмотреть горы, и мы намеревались устроиться где-нибудь в Пиренеях. Наше тогдашнее неведение вызывало теперь улыбку, стоял уже август, и мы успели доехать только до Парижа. Оттуда нас выгнали домой Гитлер и его война. Но мы не стали вспоминать о Гитлере и тем более о войне, мы опустили их и сосредоточились на наших новых путешествиях в последние годы. Мы снова и снова возвращались к ним, мы говорили о Париже, который остался все тем же. Мы жили в том же самом дешевом номере с широкой кроватью и цветастыми обоями. Те же терпеливые рыбаки стояли на набережных Сены, и те же потрепанные книги лежали на лотках букинистов. Нас окружали те же парки и бульвары, каштаны и платаны, и все теми же были Триумфальная арка и вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. Богатые иностранцы по-прежнему сидели на террасе «Кафе де ла Пэ». Мы, как и прежде, бродили ночами по старым улицам на левом берегу, и встречали утро во все тех же гостиничных вестибюлях, и так же пили коньяк, перно и амер пикон. Нам сопутствовала все та же легкая беззаботность, и попадали мы в такие же смешные ситуации — до такой степени такие же, что мы поймали себя на том, что приписываем последним годам события, на самом деле случившиеся до войны. Подумав как следует, мы поняли: все относящееся к последнему времени выгорело дотла, все, что мы помнили, принадлежало тем давним годам, когда мы были молоды. Конечно, тогда мы были свободнее и легче на подъем, но никто не может отрицать, что и сегодня Париж остался Парижем. То же касается других городов и стран, которые мы посетили, Англии и Голландии, — да, даже Германия все более напоминает Германию довоенную. Мы побывали и в Гамбурге, и во Франкфурте, и в Штутгарте, и в Мюнхене и везде удивлялись свершившемуся чуду. Конечно, многие новые помпезные фасады — всего лишь наспех сколоченные кулисы, за которыми скрывается временная кирпичная кладка, но жизнь в городах бурлит, может быть, даже сильнее, чем прежде. Потоки новых автомобилей сверкают на новых широких улицах, поток и хорошо одетых людей растекаются по новым большим магазинам, покупая все, чем богат свет. Теперь в магазинах можно купить практически любую вещь, цены в Германии даже ниже, чем в других странах, во всяком случае, они не выше. Если подумать хорошенько, цены сейчас одинаковы во всей Западной Европе. Мы еще немного поговорили на эту тему, а потом снова замолчали, глядя на темную неподвижную листву и на синее небо. Только ли нас осенял такой неестественно тихий и теплый сентябрь, или погода была одинаковой везде в Западной Европе? Мы сошлись на том, что осень была одинаковой везде. Разомлев от тепла и тишины, мы несколько раз потянулись и зевнули, хотя до вечера было еще далеко и настоящей усталости не чувствовалось. Мы поднялись и пошли дальше.
Река изгибалась широкой дугой, постепенно набирала силу, становилась большой и полноводной. Местность вокруг тоже переменилась: далеко впереди в кристально чистом небе выросла крутая гора. На ее вершине виднелись руины — не современные, а настоящие древние руины. Их мы и избрали своей целью. Мы шли молча, следуя всем изгибам реки; гора с руинами замка то пропадала, уходя в сторону, то снова появлялась впереди, с каждым разом становясь больше и ближе. Мы перешли мост и стали взбираться по крутой тропе на вершину, прошли через ворота и двор замка к башне, продолжили восхождение по темной винтовой лестнице со стертыми ступеньками и неожиданно оказались в очень большом романтическом зале. Нас окружала настоящая готика. Мы сидели за готическим столом у готического окна с восхитительным видом на реку, поля и рощи и пили рейнское вино из зеленых бокалов на высокой ножке. Сзади расположилась вокруг своего экскурсовода группа туристов. Нас немного раздражало, как они галдели, толпились у окон, раскладывали карты, делали пометки в путеводителях. Еще более раздражало радио со своими спортивными новостями и танцевальной музыкой. Все это было слишком знакомо по другим странам, по другим кафе и гостиницам, в которых по радио тоже передавались все те же вечные спортивные новости и танцевальная музыка. Они, как проклятие, преследовали нас повсюду, куда бы мы ни попадали, но хуже всего было в Германии, потому что здесь играли старые мелодии — музыку из времен до Гитлера, до войны, из нашей далекой и немного смешной юности, когда девушки ходили в шляпках колоколом и прямых платьях-балахонах. «Ich küsse Ihre Hand, Madame… Was machst du mit dem Knie, kleiner Hans…»[54]
Ничто так не будит воспоминаний, как старые банальные мелодии, под которые ты некогда танцевал; услышав их теперь, в этом зале, мы как-то смутились и расстроились. Подозвав официанта, мы расплатились и ушли. Вино нагоняло только усталость и сон. Раньше, в молодости, от него становилось веселее, мы болтали и смеялись, чувствовали себя легче и свободнее; теперь, безучастные ко всему на свете, мы шли, ощущая лишь тупую тяжесть в голове и ногах. И все равно пьем мы теперь больше. Таковы были наши невеселые мысли, но все время, пока мы спускались по винтовой лестнице и проходили через ворота, мы оба молчали: в таком состоянии легко сказать то, чего не думаешь, легко затеять ссору, повторяя сказанное и упорствуя в нем именно потому, что так совсем не думаешь. Мы знали об этом. И потому предпочитали разговаривать на нейтральные темы, пока переходили мост и когда снова пошли по берегу реки. Наступили сумерки, пора было позаботиться о ночлеге, и мы свернули от реки на проезжую дорогу, которая привела нас в деревню. Мы снова заговорили о местах, где еще не бывали: об Афинах и Риме. Я вспомнил, что сказал один из моих норвежских друзей: в Париж нужно ехать, когда ты молод. И никогда не поздно съездить в Рим.
Мы переночевали в гостинице, которая стояла на деревенской площади. Украшенная высоким остроконечным фронтоном и цветами в ящиках под окнами, она выглядела привлекательно, но, должно быть, подверглась после войны полной перестройке: внутренняя отделка и меблировка, несмотря на весь их старонемецкий стиль, были совсем новенькие, комнаты необжитые, а стены настолько тонкие, что было слышно едва ли не все, что происходило в доме. Была суббота, и в гостинице царило веселье. Мы лежали и слушали топот ног снизу, из зала прямо под нами. «Ich küsse Ihre Hand, Madame… Heute Nacht oder nie… Ich glaub nie mehr an eine Frau…»[55] Танцевальная музыка прерывалась речами, взрывами аплодисментов и патриотическими песнями. Мы прислушивались к шуму, знали, что оба не спим, но не разговаривали. Мы хотели одного — заснуть. Я стал вспоминать другие гостиницы в Южной Германии, особенно ту, где нас застало объявление войны в Корее. Хозяином гостиницы был бывший эсэсовец, во времена Гитлера он держал в страхе весь городок. После войны его посадили. Потом он вышел из тюрьмы, получил обратно и модернизировал свою гостиницу, установил в ней центральное отопление и ванные комнаты в номерах. Он был отличный хозяин. Мы ничего не знали о его прошлом, но, когда по радио объявили о Корее, он открыто заявил о себе: подошел к моему столу и призвал меня к ответу, ведь я был иностранец:
— Вы слышали? Вот когда бы пригодились немецкие дивизии, а где они теперь? Теперь вы поняли, кто был прав? Через восемь дней в Европе начнется война, а где наши немецкие дивизии?
Я вспомнил его саркастическую улыбку, его крепкие, белые зубы, руку, твердо лежавшую на столешнице. Я вспомнил и страх, охвативший весь городок: люди прятали друг от друга глаза и говорили звенящими и срывающимися голосами. Все было как в том августе много лет назад. Мы выехали из мирного немецкого городка на следующий же день, но не домой, как тогда, в тридцать девятом, а через Страсбург в Париж, оттуда отправились через Ла-Манш в Лондон, из Лондона в Корнуолл, из Корнуолла обратно в Лондон и из Лондона обратно в Париж. В проливе нас застал шторм, корабль был переполнен, пассажиры тесно столпились на палубе, их мутило, и они то и дело пользовались резиновыми мешочками, которые раздали матросы. Вся эта картина отчетливо всплыла в моей памяти. Я даже снова ощутил тот запах. Я вспомнил француженку, лежавшую в неестественной позе прямо посередине трапа. Я хотел осторожно перешагнуть через нее, но она схватилась обеими руками за мою ногу и ни за что на свете не хотела отпускать ее. Я отнес женщину на палубу и уложил на скамью. До этого мне казалось, что она молодая, но впечатление обманывало: это была довольно-таки пожилая женщина, я видел это теперь, когда морская болезнь заставила ее забыть о гриме, пудре и украшениях. Я вспомнил ее погасший взгляд, ее бледное, как чешуя рыбы, измученное лицо под размазанным макияжем. Я вспомнил и негритянку, что бросилась на колени у самого борта и дикими языческими выкриками взывала к своему христианскому богу; неожиданно она вскочила и хотела броситься за борт, но ее удержали. Все это время я стоял неподалеку и, наблюдая за происходящим, разговаривал с англичанином, студентом из Оксфорда. В какой-то момент студент выбил золу из трубки, сказал «извините» и небрежно схв-а-тил резиновый мешочек. Пока его рвало, он прикрывал рот другой рукой, потом повторил свое «извините» и продолжил прерванную на полуслове речь. Я до сих пор не могу понять, почему тогда не стошнило меня: раньше я чувствовал позывы морской болезни при одном взгляде на корабль. Я вспомнил все это очень отчетливо, включая момент, когда на судне едва не началась паника. Ничего страшного все же не произошло, мы в целости и сохранности добрались до порта. Не дошло тогда и до войны в Европе. Тем не менее мне совсем не хотелось вспоминать о хозяине гостиницы из мирного городка, в котором нас застало известие о войне в Корее. И мне не хотелось лежать в темноте и слушать мелодии своего прошлого с их призрачной веселостью, топот множества ног, взрывы аплодисментов и голоса, хором скандирующие что-то после очередной песни. Я уже был готов тут же предложить уехать отсюда, может быть, даже в Рим, где мы никогда не бывали, но промолчал, отложив все до утра, потому что сейчас самым главным было заснуть.
В конце концов это удалось. Я задремал на какое-то время и снова увидел сон о войне, который часто посещает меня в последние годы. Сон этот неприятный, не просто сон, а кошмар, где-то на грани сновидения и реальности. Война в нем тоже не настоящая война, она совершенно беззвучна и бесстрастна, в ней есть что-то отрешенное, что происходит, может быть, оттого, что в мире не осталось места надежде и потому нет причин ни для ненависти, ни для страха. Но все-таки это война, всеохватывающая и всеразрушительная, она идет по своим неумолимым и не зависящим от людей законам, никто не хочет ее, и никто не может остановить. Во сне я обычно брожу по улицам большого города и думаю обо всем этом совершенно равнодушно, потому что давно к войне привык. В воздухе висит гарь, день походит на сумерки, многие дома стоят в развалинах, другие медленно и беззвучно рушатся на глазах. Нигде не видно огня, не слышно ни взрывов, ни орудийных выстрелов, ни людских криков. Время от времени мне встречаются солдаты, я не знаю, кто они, наши или вражеские, да и солдаты ли они вообще, поскольку все носят одинаковую серую форму и, как кажется, безоружны. Впрочем, это меня не удивляет, потому что я знаю причину. В этой войне нет того, что называется линией фронта, у врага есть агенты повсюду — шпионы, диверсанты, провокаторы. Именно поэтому обе враждующие стороны ввели у себя одинаковую серую военную форму без знаков различия, ее должны носить все, в том числе и гражданское население, включая женщин и детей. И невозможно отличить друга от врага, своих узнают по паролю, который ежедневно меняется, а так как обе стороны довольно часто используют одни и те же слова, нередко происходят стычки своих со своими. Сам я забыл назначенный на сегодня пароль или, может быть, вообще не знал его. Но я не боюсь одетых в форму людей, а только отворачиваюсь от них и гляжу себе под ноги. И тут же соображаю, что обут не в форменные сапоги, а в обычные коричневые ботинки, на мне обычный штатский костюм. Это немного тревожит: нарушение формы одежды карается смертной казнью, но я сразу же забываю о тревоге. У меня другие заботы— надо смотреть под ноги, чтобы не споткнуться: там и тут на асфальте лежат трупы. Я иду медленно и осторожно, чтобы не наступить на них. Вполне возможно, что это не настоящие трупы, а живые люди, только притворяющиеся мертвыми или спящие: я нигде не вижу крови или других следов насилия, у всех спокойные лица, и я пробираюсь среди них в таком же мертвенном спокойствии, словно и для меня тоже не остается ни надежды, ни страха. Такова атмосфера этого сна. В момент пробуждения я на краткий миг ощущаю прилив настоящего ужаса — возможно, потому, что мне совсем не страшно во сне. Наверное, я ужасаюсь собственному моральному падению.
После такого сна легко поверить, что война до сих пор продолжается. Вот и в ту ночь я мысленно вернулся к ее событиям, хотя очень старался думать о чем-нибудь другом. Я сосредоточил свое внимание на тиканье часов, думал о том, что, должно быть, уже глубокая ночь. В доме царила полная тишина, в комнате было жарко и душно. Я решил, что надо бы приоткрыть окно, но не смог превозмочь оцепенение и встать. Еще я решил, что надо бы зажечь свет и разбудить Астрид, — я так решил и ничего не стал делать. Я очень редко вспоминал о войне, и мы почти не говорили о ней. Никто не хотел возвращаться к ней. Но я хорошо помнил, что во время войны очень часто испытывал чувство страха, хотя на то не было особых причин — во всяком случае, более веских, чем у других людей. Я не пускался в какие-то опасные предприятия, я просто слонялся без дела, и меня почти постоянно мучил страх. Поэтому я искал общества себе подобных, мы чувствовали себя уверенней, когда были вместе. Мы ели и ночевали друг у друга, засиживались в гостях допоздна, рассуждая о военных действиях. Мы следили за всеми событиями и знали, что должно произойти на следующей неделе или через месяц. Конечно, всегда происходило что-то другое, не то, что мы предполагали, но мы не обращали на это внимания, убеждая себя, что именно это и предвидели. Когда мы уставали гадать, то говорили о том, чего не могли купить в магазинах и что доставали на черном рынке, — о кофе, сигаретах, вине. Мы много курили и пили во время войны. Я не испытывал особой нужды, мне везло, мои произведения начинали пользоваться успехом, а имя приобретало известность…
Нет, все-таки вспоминать о том времени было неприятно, хотя я жил и вел себя тогда не хуже большинства других. По правде сказать, я и мало что помнил. Наверное, это и было самое худшее — я просто ничего не помнил. Я попытался думать о другом: о настоящем, о текущем времени, мне ведь снова везло, мои произведения снова имели успех, я стал известен. И у меня были все основания полагать, что успех мой только упрочится. Когда забрезжило утро, я стал думать о работе: в следующий раз я напишу что-нибудь совершенно новое, это будет и правда, и вымысел, а может быть, и не вымысел, и не правда. Но я тут же почувствовал какую-то смертную тяжесть в теле, тут же понял, что мои мысли и планы ничего не стоят, что мои победы и поражения заранее, как легкая паутинка, сметены дыханием чего-то неизвестного, приближающегося из дальнего далека, чего-то огромного и неизбежного, медленно надвигающегося на меня, как тяжелые тучи, закрывающие ясное небо после долгой засухи. В этом не было ни грана мистики, ничего от Бога или веры, это была сама реальность, гора невыдуманной реальности, которая незаметно выросла и теперь нависала надо мной. Я не страшился ее и больше не думал бежать, но чувствовал: она для меня такая же чужая и неодолимая, как смерть.
Утром мы снялись с места и продолжили свое путешествие вдоль реки. Погода по-прежнему была такая же тихая и теплая. Воздух по-прежнему кристально чист, отчетливо были видны даже отдаленные предметы. Мы в этот день нашли много чудных уголков на берегу, в лесу, на холмах. И нам по-прежнему казалось, что мы бывали здесь раньше, ели те же фрукты, пили то же вино, говорили те же слова. Понемногу ощущение чего-то уже пережитого стало тяготить, однако мы решили не обращать на это внимания, более того, мы все время заверяли друг друга, что все идет, как мы надеялись и ожидали: никогда еще не стояла такая прекрасная погода, никогда еще мы не наслаждались столь чудесной природой, хотя за последние годы попутешествовали и повидали немало. Ненароком мы забыли следить за красными и синими метками на деревьях и заблудились. Мы потеряли реку и лес и шли тропинкой меж полей до тех пор, пока она не привела нас к крестьянской усадьбе. Здесь в огромной навозной куче копошилось стадо черно-белых свиней, а на куче орудовал вилами невысокий старичок. Я окликнул его и спросил дорогу, но мы не разобрали, что он ответил, и вынуждены были удовольствоваться общим направлением, которое старичок, по-видимому, наугад указал своими вилами. Мы так и не нашли тропинки, пересекли свекольное поле, перелезли через изгородь и с трудом продрались через густой кустарник. Потом уж и старичок с его непонятным швабским диалектом, и вся эта маленькая неудача показались нам смешными. Заблудиться здесь всерьез было невозможно: нужно просто-напросто идти вниз, и рано или поздно выйдешь к реке. Очень скоро мы сами убедились в этом.
Следующая ночь прошла в затерянном среди холмов городке вокруг католического монастыря. Нас немного удивило, что это известное место паломничества казалось почти вымершим: повсюду было тихо и пустынно, только в монастырском саду работали несколько монахов. Утром мы первый раз за все путешествие увидели густой туман. Мы немного погуляли по окутанному туманом городку и, услышав колокольный звон, пошли на звук. Церковная дверь была широко открыта, внутри горело много свечей, но было пусто, ни души. Церковь отпугнула нас своей строгой тишиной, к тому же у самой двери мы обнаружили табличку с надписью, извещавшей, что вход разрешается только жаждущим помолиться католикам. Не заходя в церковь, мы вышли из городка и спустились по склону горы обратно к реке. В долине туман уже рассеялся, и все стало как прежде.
В этот день мы шли долго и не отдыхая, хотя жара угнетала сильнее, чем во все прошедшие дни. Воздух был недвижен, на небе — ни облачка, в листве — ни ветерка. Лето и, по-видимому, само наше время были на исходе. После обеда нас вдруг стала одолевать жажда. С каждой минутой она усиливалась, превращаясь в жгучее, нестерпимое желание, и мы просто закричали от восторга, увидев, как перед нами точно из-под земли, там, где мы совсем не ожидали ее найти, выросла гостиница. Дом стоял на берегу, отражаясь в реке высокой красной крышей и причудливым рисунком каркасных решеток; позади него с горы сбегал ручей и слышалось бормотание работающей водяной мельницы. Мы тут же решили, что нигде еще не видели столь приятного местечка и что были бы не прочь остаться здесь на день-другой.
Но когда мы вошли в дом, нас снова охватило странное ощущение, будто мы уже здесь были. И оно было много сильнее, чем прежде. В большой прихожей царили почти вечерние сумерки, хотя над рекой в это время светило яркое солнце. Здесь не было никого, и мы несколько раз позвали хозяев, но никто не откликнулся. Никто не вышел, хотя откуда-то явственно доносились голоса. В ожидании мы сели, всей кожей ощущая, что непрошено вторглись сюда, что кто-то следит за нами из-за занавесок и только дожидается, чтобы мы ушли. Это было неприятно. Хотелось тотчас же подняться и уйти. Но мы, может быть из чувства противоречия, остались: должен же кто-то к нам выйти, мы отчетливо слышали раздававшиеся за стенкой голоса. Мы сидели и ждали. Когда глаза привыкли к полутьме, мы увидели то, что — мы и раньше это знали — должны были здесь увидеть. И странно, что не увидели сразу.
Портрет фюрера висел на стене как раз перед нами. В раме, задрапированной траурным крепом. Над верхней планкой рамы черная лента была завита в декоративную петлю с бантом, а в центре петли сидела серебряная свастика. Ниже стоял он сам в коричневой форме и смотрел в будущее. Все было как прежде. Мы уже когда-то сидели на этом же самом месте и смотрели на него.
Я сказал себе: это невозможно. Мы никогда не бывали в этих краях. Но, конечно же, я узнал портрет: во время оккупации я часто видел его в витрине книжной лавки в Копенгагене. Этот самый портрет. В том, что мы обнаружили его здесь, не было никакой мистики. По чистой случайности мы набрели на сумасшедший дом или на дом сумасшедшего. Только и всего. Сумасшедших много во всех странах. Что еще можно к этому прибавить? Не стоит придавать значение подобным эпизодам. И все же он стоял здесь, перед нами, под свастикой и прозревал стальными геройскими глазами свое тысячелетнее царство. И это мы сидели здесь тысячу лет назад и смотрели на него. И мы же будем сидеть здесь через тысячу лет, не в силах подняться и уйти, пошевелить хотя бы пальцем.
Все эти чувства и мысли промелькнули в один миг. Через минуту мы уже стояли у реки, и нам ярко светило солнце. Мы ничего друг другу не сказали, только переглянулись и покачали головой. Хотелось обратить этот эпизод в шутку.
Почти не разговаривая, мы двинулись дальше. Жара и жажда сделали нас раздражительными. Сказывалась усталость. Еще ничего не обсудив, мы уже согласно решили, что откажемся от путешествия в Рим. Добравшись до Зигмарингена, мы сядем на первый же поезд, направляющийся на север.
ИГРЫ У МОРЯ
Она уже давно скрылась из виду, а он все стоял не шевелясь, не сводя глаз с того места, где она исчезла. Спокойно, сказал он себе и, круто повернувшись, зашагал прочь, а ну спокойно. Потому что идти страх как опасно, но сейчас он еще не одинок, он повсюду видит ее. Медленно пробирался он просекой среди жестких трав, и она все время была с ним и солнечными зрачками следила за ним с неба и цветочными зрачками — с земли, и теперь только бы выбраться из леса, и увидеть море, и тронуть куст шиповника на откосе, и ничего уже не будет, можно спрятаться в пещеру и лежать, дожидаясь ее, никто не нагрянет туда, не найдет его. Но сейчас страх как опасно идти, так опасно, что он не смеет смотреть ни вперед, ни по сторонам, ведь из черного сосняка за ним следят другие глаза и громадный серый чертополох в солнечной полосе тянет к нему змеиные головки, а чуть поодаль, в крапивном рву, притаился враг. Ужасом налита тишина.
— Хелла, — позвал он и не хотел разлучаться с ней, но не было иного пути, и он пришпорил коня и поскакал вперед, увлекая за собой солдат. — В атаку! — крикнул он и хотел перепрыгнуть ров, но не допрыгнул и приземлился в самой гуще вражеского стана, и крапива обожгла ему ноги. — К чертям! — сказал он и от боли и ярости заскрежетал зубами — ведь он не маленький, взрослый, и время детских забав и фантазий для него уже позади, все уже позади. — Навсегда, — сказал он и хотел задуматься о своей беде, но беда была слишком большая и страшная: будто в самом нутре его разверзлась сосущая бездна.
Он вышел к откосу и потрогал яркий цветок шиповника на склоне. Но цветок утратил былую силу, чары рассеялись.
— Море, — сказал он и взглядом унесся вдаль, — «в море, в море мы уйдем, в море вечное…».
На миг он вновь погрузился в мечты: кругом море, и буря, и мрак, он стоит на носу корабля и зорко всматривается в ночь. «Земля! Неведомая земля!» Но он не смел громко выкрикнуть эти слова: там, в заливе, рыбачья лодка, двое рыбаков снимают садки, и так тихо вокруг, что по воде долетают сюда их голоса. Может, они даже видят его. Но его никто сейчас не должен ни видеть, ни слышать — он отпрянул от склона и спрятал обе руки в карманы и тут же отдернул их, как ужаленный, оттого что прикоснулся к письму, и снова разверзлась в нем черная бездна, и сосущая боль поползла от ног к самому сердцу. Хорошо бы порвать письмо на мелкие клочки или просто смять в комок и бросить в море, но ведь ему надо узнать, что там написано, не то беда станет еще страшней, а он только и успел выхватить взглядом три первых слова: «Ваш сын Андреас…» Когда Хелла вернется, они вдвоем прочитают письмо, но сейчас он даже не смеет вынуть его из кармана, даже взглянуть на него, и он ничком растянулся в траве и спрятал в нее лицо. Сейчас он песчинка, затерявшаяся в зеленой мгле; мимо него, сквозь джунгли, бегут диковинные звери, а сам он охотник и с луком и стрелами в руках крадется за ними или дикарь — рубит деревья и вдвоем с Хеллой строит дом, и никому вовек не добраться сюда, не отыскать их. Но… «Ваш сын Андре-ас…». Он перевернулся на спину и уставился в пустое небо и сказал:
— Пустота, умереть и уйти в пустоту.
Но и это он зря сказал, оттого что вверху было Око, а с моря доносился грозный гул и громовой голос произнес: «Фантазер… Ваш сын Андреас — фантазер, нет, того хуже — лгун, лгун и обманщик, он прогулял школу и подделал на записке отцовскую подпись…» «Не пытайся лгать — тебя видели, — продолжал голос, — за подлог наказывают, за это сажают в тюрьму». «Полиция», — сказал все тот же голос — письмо заклеили, сунули Андреасу в руку, и он медленно, на ватных ногах спустился по лестнице и вышел из ворот, вконец опустошенный, безжизненный, как во сне, но было все это наяву, и он всегда знал, что так оно и кончится. Он не посмел сразу пойти домой, а долго слонялся по улицам, пока не кончились уроки, и от этого делалось только хуже и хуже, и, увидев наконец лицо отца, он тоже не посмел отдать ему письмо — нет, только не сейчас, лучше уж после обеда. Но когда встали из-за стола, отдать письмо было и вовсе невмоготу, да и сперва надо поговорить с Хеллой, ведь и она замешана в той затее, это она подделала подпись отца на записке.
Но Хелла и бровью не повела: пустяки, бросила она и лишь рассмеялась, услыхав про тюрьму и полицию, ничему этому она не верила. Они только грозят тюрьмой и полицией, сказала она, полиция ничего не может нам сделать, пока нам нет восемнадцати лет. И тогда он чуть-чуть позабыл о своей беде. Но тут вдруг завечерело, стало смеркаться, и уже по пути домой он знал, что теперь и вовсе невозможно отдать письмо, надо ждать до утра, ничего ведь не скажешь отцу, пока кругом ночь. Но рано поутру, когда в комнату заглянуло солнце, он взял школьную сумку и вышел из дома, так и кс сказав никому ни слова, и долго стоял, прячась за изгородью, пока не увидел Хеллу. Теперь она уже не смеялась, а глядела печально и строго, и на лбу ее обозначилась резкая складка. Идем, сказала она, и вдвоем они спустились к болоту, туда, где над черной топью висел утренний туман и стояла плотная тишина, и Хелла доверху набила обе школьные сумки землей и галькой и потом закинула в воду — далеко-далеко. Это конец. Он услыхал всплеск и понял, что это конец — нет больше школы, нет ни отца, ни братьев, даже кровати нет. Только Хелла есть у него. И только пещера в лесу.
Они крались туда поодиночке, выбирая длинные кружные пути, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза, и все утро ушло на то, чтобы расширить и утеплить пещеру: они наносили веток из леса, потом Хелла вдруг пропала куда-то, но скоро вернулась с большими бумажными мешками в руках, и ножом они нарезали дерну и соорудили крышу. Работали оба бесшумно, быстро, как одержимые. Им и прежде случалось, играя, строить настоящую пещеру, чтобы в ней жить; сколько раз говорили они между собой, мол, хорошо бы сбежать из дома и спрятаться в лесу, но нынче, когда мечта обернулась явью, они уже не говорили об этом, а если случалось им обронить слово, не глядели друг на друга. Но когда солнце поднялось высоко в небе, им не осталось работы. Пещера стояла готовая, только рано было в нее залезать, но и податься некуда, на берег и то нельзя — вдруг увидят их те двое в лодке, да у них и еды нет с собой и нечего будет на себя надеть, когда спустится вечер и похолодает. Тут они и решили, что Хелла одна сходит домой и принесет все что надо. Вместе они просекой поднялись вверх и молча расстались у лесной тропки, но он еще долго глядел ей вслед, долго-долго после того, как она скрылась за деревьями в своем красном платье, с волосами, белыми от солнца, и длинными голыми ногами в сандалиях.
Она не вернется. Он лежал один в пещере и знал, что она не вернется. Должно быть, он ненадолго заснул — сейчас на дворе уже вечер: по свету видно и слышно по тишине. А она не вернется — сколько часов теперь уже прошло с той минуты, как оттуда позвонили отцу, а отец позвонил в полицию… Они подстерегли ее у дома и схватили. Но она ничего не скажет. Даже если поколотят ее и бросят в тюрьму, все равно не добьются от нее ни слова. В этом он был уверен. И видел как наяву ее непокорные глаза, рот, который ничего им не скажет, ее строгое лицо с маленькой складкой между бровями. Он знал Хеллу. Он знал ее всю жизнь. Но нынче она другая — как взрослая. И все другое теперь. Он закрыл глаза и подумал: да, все другое. Вернуться домой и сдаться полицейским нельзя; даже если Хеллу поймали и игра безнадежно проиграна, все равно уходить нельзя: он должен остаться здесь, ждать ее.
Потому что так или иначе она убежит от них и вернется сюда, и самое страшное будет, если Хелла вернется и не застанет его на месте. Страшнее письма, страшнее отцовского гнева, страшнее полиции. Стало быть, он должен ждать ее весь вечер, а может, и всю ночь напролет, и это ужасно, но нет смысла притворяться, будто все это не взаправду, а понарошку — игра, мол, такая или сон. Потому что все это взаправду.
Он выбрался из чащобы сквозь пролом в густых, сплетенных ветвях кустарника и, застыв на краю откоса, уже набрал воздуха в легкие, чтобы в отчаянной своей тоске выкрикнуть хоть мольбу, хоть имя чье-то. Но мир объяла слишком плотная тишина. Лодка с двумя рыбаками уплыла, и белая-белая морская гладь сливалась с небом; море уже не дышит, и из леса тоже не слышно ни звука, ни шелеста. Он протянул руку — тронуть куст шиповника, но и тот притаился, да к тому же обзавелся глазами: он что-то высматривая, подслушивал, выжидал. Да и все вокруг притаилось, слушало, выжидало. И он нырнул в небытие и растворился в природе — рухнул в траву, на землю, и понял вдруг, что уже поздно, что настал конец, от земли струился мрак, и ноги пронизывал ледяной холод, и не стало больше ни глаз, ни рук. Навсегда. Но все же он не совсем умер, не совсем ушел в небытие — земля под ногами раскачивалась еле слышно, чуть вперед, чуть назад, все сильнее и сильнее, пока снова не проснулось море и не забормотало где-то глубоко внизу между скалами. И ветер снова задул, еще издали слышал он свист ветра и ощущал его дыхание на своем лице; он открыл глаза и видел, как заструилось, замелькало в траве и зашуршало в кустах, и ветер помчался дальше и вдохнул жизнь в большой ясень, который могучей громадой высился над сосняком, — и ясень зашумел, расправил крылья и воспарил в небо. Тогда и ему не осталось ничего другого, как встать, и раскинуть руки, и взмыть в дальнюю высь, и он разом оглядел все вокруг — весь край с его огненными полями, дорогами и садами, со сверкающей зеленой дымкой яблонь и алым пожаром рябин, и пожар охватил его самого, проник в него до самых кончиков пальцев, до самых корней волос, и сердце его раздулось и уже не умещалось в груди, оттого что в той головокружительной дали, в могучем сиянии света над морем и сушей вспыхнула вдруг крошечная алая точка.
— Хелла! — воскликнул он и закружился в пляске, замахал руками, но она была еще слишком далеко — еле заметная искорка на краю неба, где море сходилось с высоким, желтым, как глина, откосом, но искорка мигала, двигалась, приближалась к нему. — Иди же, иди сюда! — крикнул он, и восторг судорогой пробежал по телу. — О Хелла! Хелла! Хелла! — И все вернулось при звуке ее имени: зной лета и зимняя стужа, ветер и круженье птиц, и он почуял запах земли и солнца и сладкую горечь диких лесных ягод. — Хелла! — сказал он и увидел большой каштан, на который как-то раз они влезли и прятались под кроной, когда отец запретил ему играть с Хеллой, но он все равно играл с ней, они всегда были вместе, даже когда были врозь, и он увидел иву с большим дуплом, где они прятали записки, и увидел потайное место у топи, где они складывали лучины и соломинки условным способом, только им двоим понятным. Он разом увидел все это — и правда, нет ничего, чего бы он о ней не знал. — Хелла, — снова позвал он, — Хелла, Хелла…
Да что за пытка: Хелла почти не приближается, алое платье ее порхает взад-вперед между морем и скатом, а порой она и вовсе замирает на месте. Наконец она увидела его и замахала ему, вроде бы даже сердито, показывая, чтобы он скорей бежал к ней, и он побежал, полетел, скатился с крутого склона и во весь дух помчался ей навстречу, чтобы нагнать ее, обнять, задушить в объятьях и все-все сказать ей, о Хелла, Хелла, Хелла! Но она снова остановилась, и только теперь он заметил, что она тащит огромный мешок; опустив ношу, она застыла чуть ли не в грозной позе, а у него уже заплетались и подгибались ноги, оттого что Хелла была такая, какой он увидал ее издали, такая, какой он всегда ее знал, и все равно совсем-совсем другая вблизи.
— Чего стоишь, глаза пялишь? — крикнула она. — Ступай скорей сюда и помоги мне узел тащить!
И уже ничего не скажешь… он застыл на месте, уставившись на мешок, только, оказывается, это вовсе и не мешок, а старое шерстяное одеяло, стянутое по углам веревкой.
— Ух до чего тяжело, — сказала она, отирая со лба пот, — отчего ты не вышел мне навстречу?
Но ведь он никак не ожидал, что она пойдет берегом, сколько раз он поднимался в лес и там высматривал ее и даже подумал было, что она никогда уже не придет, и тут увидел ее… Он хотел все-все сказать ей и не мог.
— Не знаю, — выговорил он, — я думал… Мне казалось… Тебя так долго не было.
— Еще бы, — сказала Хелла, — мне ведь пришлось дожидаться, когда они уйдут, раньше ведь нельзя было зайти за вещами. Иди же сюда и берись за узел, отчего ты чудной какой-то?
— Чудной? Почему чудной?
— Нет, правда чудной!
Вдвоем они поволокли узел по склону. Она карабкалась вверх и тянула за собой ношу, а он лез по скату следом за ней и подталкивал. И длинные загорелые ноги ее под короткой юбчонкой были видны ему до самых бедер. Хелла сбросила сандалии, должно быть, раньше шла морем, потому что ноги у нее были мокрые и в песке, да и вся она была в песке, а мокрые волосы слиплись. Он чувствовал запах ее волос и кожи, запах влажный и буйный. Он знал этот запах, он и прежде не раз ощущал его, только не так, как сейчас, — так чудно, так странно…
— Обожди, — выдохнул он и отпустил узел: он должен постоять, выждать, чтобы это прошло.
— Что с тобой? — спросила она сверху, а он ответил ей «ничего», разве мог он сказать ей правду, уж легче умереть, а она рассмеялась и обрушила на него облако песка — песок в глаза и песок в рот, он задохнулся, закашлялся и совсем ослеп, но сквозь слепоту все время видел ее узкие сверкающие глаза. Зеленые. Прежде он никогда не задумывался о цвете ее глаз, но они были зеленые.
Узел то и дело застревал в непролазной чаще терновника и дубовой поросли, но в конце концов его все же благополучно втащили в пещеру, и Хелла перерезала ножом веревку.
— Спасибо тебе! — проговорил Андреас, глядя на нее с восторгом и страхом: чего только не было в том узле — и сковорода, и котелок, и кастрюля, и дыня размером с футбольный мяч, и хлеб, и яйца, и сыр, и еще много-много всякой снеди. — Ты спятила, — сказал Андреас, — ведь они скоро хватятся своего добра и все поймут.
— Еще бы! — сказала Хелла. — И пусть поймут. Я и записку написала, что домой больше не вернусь.
— Не вернешься домой? Ну, знаешь…
Он онемел. Она ли это? Сидит перед ним загорелая, в красном платье, будто мерцающий огонек в полутьме пещеры, и тонкий лучик солнца, проникший сквозь щель, лег на ее лицо, на это лицо с гневным ртом, с яростным взглядом, — а у ног ее груда вещей, которые она выкрала из дома. Полиция… они сообщат в полицию, и за нами придут и схватят нас. Но он ничего не сказал, знал ведь, что ей наплевать — она всех их ненавидит и не ставит ни в грош, даже полицию, а сейчас от нее каких угодно слов можно ждать: дурень, мол, в штаны наложил от страха, да еще и того похуже скажет.
— Что же ты написала им? — глухо спросил он. — Куда вроде ты подалась?
— В Копенгаген, — ответила Хелла. — В Копенгаген, к моему Генри. Нам все равно придется туда податься, здесь нам нельзя долго быть. Я знаю, где мастерская Генри, а они — нет, но даже если они разыщут нас, ничего не смогут нам сделать. Генри поможет нам.
Но Андреас с сомнением взглянул на нее — странное дело с этим Генри. Сколько он помнит, Хелла всегда рассказывала о нем, и сначала Генри был просто мальчик, только что богатырской стати, из силачей силач, одной рукой любого мог уложить, но потом он сделался моряком и плавал по всем морям вокруг света, затем держал ферму в Америке, и Хелла лишь ждала, когда ей можно будет к нему уехать, а теперь вдруг оказалось, у него своя мастерская в Копенгагене. Андреас не знал, что и думать на этот счет. Хорошо бы она перестала твердить про этого Генри.
— До Копенгагена слишком далеко, — сказал он, — пешком нам туда не дойти, а на поезд у нас нет денег.
Хелла ничего не ответила, только засунула руку к себе под юбку, и он с ужасом увидел у нее на ладони четыре смятые десятикроновые бумажки.
— Ты что? Где ты стащила их?
— Стащила? Еще чего, это мои деньги! Отец каждый месяц присылает мне деньги, но мать все берет себе. Я отлично знаю, где она их прячет — в ящике под бельем. Но это мои деньги, и пусть только попробует пикнуть — уж я выложу все, что знаю.
Но Андреас ни слова не сказал ей в ответ и только думал: хоть бы она больше не заговаривала о своем отце — ведь он никакой ей не отец, она даже не знает, кто ее настоящий отец, только сейчас у матери другой мужчина, они и не женаты вовсе, а в то утро, когда Хелла вошла к ним в комнату, они лежали вдвоем в постели и оба были пьяны и несли всякую похабщину, а мать, грузная, толстая, сплошь и рядом разгуливает по дому в ночной рубашке, к тому же совсем прозрачной, и курит сигареты, пачкая их губной помадой, а уж нынешний ухажер ее — самый мерзкий из всех, какие только бывали в доме, и Хелла ненавидит его лютой ненавистью.
«Ты бы только посмотрел, как он улыбается всеми своими гнилыми зубами, — говорила она, — да и весь он грязный и гнилой, что внутри, что снаружи, и пусть они не воображают, будто я не знаю, чем они занимаются: столько раз я из соседней комнатки все слышала…»
Гневное лицо Хеллы жестко белело во тьме, она рьяно сдирала кору и молодые отростки с длинной сосновой ветки, но Андреас уже не смотрел на нее и не слышал ее… Это было совсем в другом месте и очень давно — из большой черной отцовской бороды вылетели слова «женщина легкого поведения», и вроде бы из-за этого Андреасу нельзя играть с Хеллой. Но он не понимал смысла этих слов, он ничего не знал про такие дела, зато Хелла знала и веткой нарисовала на земле все как есть. Так, мол, и так. Но он не желал этому верить, он затопал ногами, заплакал, а Хелла обозвала его «сосунком», и они подрались, но она взяла верх, и он крикнул ей в своей слепой ярости: это только мамаша твоя такая, потому что она женщина легкого поведения, а Хелла сказала: твой отец — надутый святоша, и после они долго были в ссоре.
— О чем ты задумался? — донесся до него ее голос. — Почему молчишь, может, струсил? Если так, я просто отправлюсь туда одна, и притом нынче же вечером, не хочу в воспитательный дом, так и знай!
— Это еще что — воспитательный дом? Зачем? — Он онемел от изумления, снова разверзлась в душе черная бездна, а Хелла, сощурив узкие злые глазки, сказала:
— А затем, что ты непременно туда угодишь, оба мы туда угодим, если они найдут нас здесь вдвоем; пусть даже мы ничего такого не сделали, люди все равно будут думать свое — они ведь только об этом и думают.
— Что значит «ничего такого не сделали»? — недоуменно спросил он, но она лишь рассмеялась и защекотала его по лицу кончиком сосновой ветки, и он уже знал, что сейчас она это скажет, самое-самое страшное:
— Крошка Андреас, трусишка, пай-мальчик! Самое время тебе побежать домой с ревом и попросить у папочки прощения и, по обыкновению, свалить всю вину на меня; беги, мне-то что, я с тобой и водиться-то не желаю, а уж если когда-нибудь сделаю то самое, так уж с настоящим парнем вроде Генри, а не с сопливым мальчишкой, который всего боится и только и умеет бродить, мечтая о чем-то, и разговаривает вслух сам с собой…
Ярость захлестнула его.
— Прикуси язык, дура! — сказал он и сжал кулаки, сейчас он легко одолел бы ее. Но она не пошевельнулась, она сидела недвижно, вся гладкая и грозная, удерживая его одним только взглядом.
— Что ж, бей, — сказала она, — бей меня, раз уж ничего другого с девчонкой не смеешь.
Но, конечно, он не мог ударить ее, а лишь яростно пнул ногой груду лакомств на одеяле и, шатаясь, выбежал из пещеры и прорвался сквозь колючую, ранящую рать кустов к солнечному пятну у откоса.
— Дура! — крикнул он так громко, что она там, в пещере, должна была это слышать. — Дура проклятая!
Он постоял немного, подождал — из пещеры ни звука.
— Я ухожу! — крикнул он и сделал несколько шагов в сторону леса, зная, что не уйдет: не мог он ни ударить ее, ни сбежать, разве что топнуть ногой и обломать ветку с кустов и ненавидеть и проклинать все вокруг.
Опустившись на корточки в траву, он с тоской уставился на море, боль раздирала грудь, но он подавлял ее — нет, Хелла не увидит его слез, и рыдает он сейчас последний раз в жизни, и вообще… улыбка никогда не тронет его уста. Он чуть-чуть не сказал это вслух, но вовремя осекся — опять мечты! — а он нынче навсегда разделался с мечтами, со всем разделался навсегда. Пусть приходит полиция и схватит Хеллу, и Андреаса схватит, пусть пошлют их в воспитательный дом, хоть между ними и не было этого. Теперь, оставшись один, он понял, что она имела в виду; закрыв глаза, он перенесся в то утро на школьном дворе, когда кто-то из старшеклассников за велосипедным навесом показывал такие картинки, тогда он всего лишь бегло взглянул на них, но этого было довольно — ужас какой, — и неужели кто-то мог думать, будто он с ней… Неужели кто-то мог заподозрить их? Нет, лучше уж смерть. Прижавшись лицом к коленям, он медленно умирал; поблекли и умирали медленной смертью земля и небо, и далеко-далеко на западе багровое солнце смерти зависло над грозной иссиня-черной горой туч, и ветер, прошелестев по траве, тоже умер, и куст шиповника, умирая, сверкал бледными всевидящими очами, и в последний раз вспыхнули ярким пламенем алые ягоды бузины, прежде чем погрузиться в смертный мрак. И тут у Андреаса вырвался вопль ужаса — потому что его вдруг настигли, подкрались к нему сзади и схватили, жесткие ладони закрыли ему глаза, а он отбивался отчаянно и кричал: «Хелла! Хелла!»-и услыхал ее смех, потому что это была она, всего лишь она. Сердце его разрывалось от счастья и ярости, они покатились по траве, и смеялись, и хохотали, и дрались не на жизнь, а на смерть, и он уже не знал, где она, а где — он, локоть в живот, ногой — в лицо, а в рот лезут волосы и трава, и вдруг удар коленом в грудь, так что у него занялся дух, он скрючился, но тут же стал отбиваться, бешено рваться на волю и скорей бегом, скорей прочь от нее, потому что то самое снова нашло на него, он чувствовал уже, что нашло.
— Что с тобой? — крикнула она и, смеясь, помчалась за ним. — Что такое? — Но он лишь засмеялся еще громче, смеялся как одержимый и бежал все дальше и дальше, не оборачиваясь. — Ты что, сдурел? — услышал он ее голос, а он уже подбежал к самому краю откоса и спрыгнул с него в самом опасном месте, где бугор круто нависал над скатом, и надолго замер в воздухе, пока навстречу не взметнулась земля и не стукнула его так, что потемнело в глазах; он чуть не разбился насмерть, но даже этого не заметил, он бежал вдоль моря по водорослям, по песку, по гальке, но Хелла уже снова гналась за ним по пятам, и он ринулся прямо в воду. — Ботинки сбрось! — крикнула она вдогонку, но ему было наплевать, что он вымокнет, — только бы не повернуться к ней, пока не пройдет это. — Ты что, рехнулся, — сказала Хелла, когда он наконец-то возвратился, — с чего ты вдруг бросился бежать?
И тут же все было забыто.
— Я голодна как собака, — сказала Хелла, и Андреас тотчас тоже ощутил голод, и волна счастья вновь захлестнула его — никогда еще не был он так голоден. В азарте сновали они по пляжу, собирая деревяшки, выброшенные на берег, и на открытом месте над скатом соорудили очаг, и Андреас еще слазил в чащобу за ветками и хворостом. Но тут на него снова накатил страх, потому что Хелла вдруг пропала куда-то, он звал и звал ее, но она не откликалась, а когда наконец воротилась назад, то несла в подоле груду выпачканных в земле картошек, которые накопала в огороде у лесника. Опять воровство! — он стоял, бессильно уронив руки, и смотрел, как она раскладывает костер и мастерит треножник из ивовых сучьев.
— Скорей воду неси, — сказала она, и он помчался прочь от своего страха; он мчался и несся с откоса к морю за водой, а после они лежали ничком в траве и все дули и дули в костер, пока совсем не ослепли и чуть не задохнулись от дыма. Вдруг кверху взметнулось ясное, стройное пламя. Скрестив по-турецки ноги, они молча сидели у костра, прислушиваясь к треску огня и глядя, как полыхает пламя, и Андреас вновь унесся куда-то в мечтах: вот он, костер, огонь в сердце мира, и все это в первый раз, но при том словно было всегда — будто они всегда сидели вдвоем у опушки над склоном, глядя в огонь, вдыхая запах смолы, а вокруг догорал день, с каждым мигом сникая, и чем ближе к вечеру, тем больше светился золотом; и желтые склоны в дальней дали тоже вздымались, как пламя, и дыханием пламени веяло в траве, и руки огня летели над плотной чащей кустов, и сияли в самом сердце пожара белые волосы и красное платье Хеллы.
— Хелла, — сказал он, и она спросила:
— Чего тебе?
Но всего было слишком много, было все сразу, он только и мог твердить: «Хелла! Хелла!», и она одарила его беглой улыбкой, а руки ее мелькали, подбрасывали в огонь хворост, колдовали над котелком, который висел на треножнике и посылал ей прямо в лицо облака пара, так что ей то и дело приходилось откидывать волосы со лба.
Вынув из кастрюли яйцо, она опустила его в холодную воду, затем подержала в руке, будто взвешивая, и Андреасу вновь показалось, что однажды он уже видел все это, только он чувствовал, что нынче она другая, совсем другая, чем прежде, не отчаянная, отпетая, злая, а какая-то притихшая и взрослая — взрослей самих взрослых, — и казалось, она все знает и все умеет. Посмотреть хотя бы, как она держит яйцо, и он уже набрал воздуха в легкие, чтобы ей это сказать, но только и мог выговорить, что яйца очень красивые и вообще-то жалко их поедать. Но Хелла ответила: еще жальче убивать живых зверей и съедать их, ведь звери лучше людей. Она угрюмо смотрела прямо перед собой, на лбу у нее вновь прорезалась прежняя складка, но руки ее проворно счистили скорлупу и протянули ему яйцо. Оно варилось так долго, что желток затвердел и позеленел, и к яйцам не было даже соли, только черствый хлеб, но Андреас сказал, что так оно даже лучше, сроду не ел он такой вкусноты. Потом яйца кончились, и руки Хеллы соскребли грязь с картофелин. Картошку ели с кожурой, на зубах поскрипывала земля, и Андреас снова сказал:
— Вот уж не думал, что может быть так вкусно.
Он не сводил глаз с ее рук, а они без устали хлопотали и заботились решительно обо всем, а после те же руки разрезали пополам дыню, разделив на золотистые дольки, похожие на лунный серп; рот наполнился соком, и сок стекал вниз по пальцам, и казалось, будто ешь зараз все плоды, какие только бывают на свете. Наконец оба насытились и растянулись в траве. Хелла сказала: чудно, что им ни разу не доводилось вместе поесть, сколько лет уж они знакомы, вроде чуть ли не все уже перепробовали, да только ни разу не ели и не спали вдвоем, и он согласился, что и правда чудно, впрочем, нынче и все чудно.
— Что значит «чудно»? — спросила она как-то в воздух, но он не мог объяснить: чудно — и все тут.
Они полежали чуть-чуть, не шевелясь, прислушиваясь к отдаленным вечерним шумам и глядя, как догорает костер и весь сверкавший золотом и зеленью осенний день угасает, догорая вокруг них; столпы и ворота солнечной крепости пошатнулись и рухнули, из-за склона приползла мгла, и хлипкая, бледная дневная луна у них над головой досыта насосалась холодного белого пламени. Еще ближе придвинулись кусты, черными зрачками глядели на них и жили своей черной потаенной жизнью, казалось, они подслушивают каждое слово и чего-то ждут, и Хелла сказала, что, уж верно, ближе к ночи пойдет дождь.
— Но это к лучшему, — сказала она, — значит, мы дольше будем одни, никто не придет сюда, и мы будем лежать в пещере и слушать ливень.
Тут он вспомнил опять про полицию и про письмо со словами «Ваш сын Андреас…», но все это словно уплыло куда-то и отдалилось в прошлое, и была сейчас только тьма, только тишина, и трава стояла в росе и пахла так сильно, что почти невмоготу было дышать, и глаза закрывались сами собой, и очнулся он оттого, что Хелла укутывала его одеялом.
— Ты озяб, — прошептала она и сама растянулась рядом, — усни, усни же скорей.
Но Андреас мгновенно вскочил — ведь он никак теперь не мог уснуть, да и не озяб нисколько, совсем нисколечко, сказал он, а сам стучал зубами и метался взад и вперед, и Хелла тихо засмеялась и повторила:
— Конечно же, озяб, иди скорей ко мне, отчего же ты не идешь?
И тогда он вернулся к ней и улегся под одеяло, да только с самого краю, и старался изо всех сил дышать ровно, чтобы Хелла не заметила, что он мерзнет, но она все равно заметила и придвинулась к нему, чтобы его согреть. Оба теперь лежали не шевелясь, и оба притворялись, будто спят, но уснуть никак не могли, оттого что теперь Хелла снова была другая, не тоненькая и жилистая, как всегда, а вся мягкая, нежная, большая даже, он и не подозревал, что она такая, и волосы ее щекотали ему лицо, и лежит она так близко к нему, что непременно заметит, если вновь найдет на него го самое. Он боролся с собой, стараясь не допускать этого до себя, пытался подавить наваждение мыслями о всем том страшном, что грозило ему, о полиции, которая нагрянет сюда с собаками, о тюрьме и воспитательном доме, но то самое было сильнее, оно уже начиналось, и в своем отчаянии он вытащил из кармана письмо — может, хоть это поможет…
— Что это у тебя? — вдруг послышался голос Хеллы, и он ответил:
— Да просто это письмо из школы.
— А что в нем написано?
— Не знаю, — отвечал он, — я его не открывал.
Она выхватила у него письмо, смяла и кинула в тлеющие угольки костра. Андреас хотел вскочить, метнуться к костру, спасти письмо, но она удержала его, и теперь уже было поздно, письмо вспыхнуло, а он лежал недвижимо, глядя, как оно горит, и думал, что ему никогда не узнать, что в нем было, и это-то и есть самое страшное, страшнее и самого преступления, и наказания.
Чуть-чуть стало легче от этих мыслей, да только ненадолго, и снова началось то самое, еще сильнее прежнего, так сильно, что даже больно стало, и он поспешно перевернулся на спину и сказал:
— Смотри, луна какая, скоро полная будет, и вон там — смотри — одна-единственная звезда на небе, значит, можно желание загадать!
Но Хелла сказала: ничему этому она не верит, сколько раз она загадывала, но желания никогда не сбывались.
— А что ты загадывала? — спросил он, но она не хотела говорить — лежала рядом и как-то странно глядела на него, и он сказал: может, на звезде той люди живут, может, там, вверху, все в точности такое же, как здесь, такие же дома и деревья, и в эту минуту и там тоже лежат рядом двое, как мы с тобой, и говорят в точности то же, что и мы…
Он увлекся и продолжал говорить, но Хелла сказала:
— Перестань, люди не могут обитать на звездах, ведь там такая жара, что враз сгоришь, или холод такой, что замерзнешь, и там ничего даже расти не может, оттого что на звездах нет почвы. Там вообще ничего нет. Это мне Генри сказал.
Но Андреас не хотел слушать про Генри, он лежал не шевелясь и глядел на луну, пытаясь представить себе, как это там ничего нет, только холодный камень да горы и ни единой травинки. От этих мыслей он и сам омертвел, словно обратясь в тяжелый холодный камень, и Хелла заговорила снова:
— А ты веришь, что после смерти мы перенесемся куда-то?
Он уклончиво отвечал: сам не знаю, может, верю, а может, нет. Но от нее не так просто было отделаться.
— Ты потому так говоришь, что боишься правду сказать. Но я-то знаю, что никуда мы вовсе не попадем. Просто нам стараются это внушить. После смерти нет ничего, мне сам Генри сказал.
Но Андреас молчал: вообразить, что ничего нет, он не мог, а что до этого самого Генри — все, что связано с ним, чуждо и неприятно Андреасу. Хорошо бы, подумалось ему на миг, хорошо бы сейчас лежать дома в кровати или же сидеть с братьями за столом и чтобы отец, сложив молитвенно руки и уставившись в скатерть, забормотал: «Отче наш, иже еси…» Но нет больше ни отца, ни братьев, даже Бога и того больше нет, и луна вдруг пропала, ее закрыла голова Хеллы, и глаза ее придвинулись к его глазам. Сейчас опять начнет насмехаться. Но лицо у нее сейчас белое-белое и торжественное до жути, и глаза уже не прежние — узкие, светлые, — а черные-пречерные и полные боли. Долго глядели друг на друга без слов Андреас и Хелла, наконец лицо ее вплотную придвинулось к нему, нежные густые волосы низверглись струей, скрыв обоих, и близко-близко у его лица задышал ищущий рот. Рот долго искал его губы и наконец нашел, и это не был поцелуй, Андреас ничего почти не почувствовал, но задрожал всем телом, словно вокруг стояла суровая зима и рот его коснулся чего-то настолько холодного, что оно обожгло его, как огонь. Но и Хеллу тоже била дрожь, и долго-долго они лежали, так тесно прильнув друг к другу, как только могли, и тряслись от холода или, может, не от холода, а от страха, потому что ему было очень страшно, но он заметил, что ей и того страшней, ведь в эти мгновения она узнала его тело, а он узнал — ее. Ни звука не проронили они и не пытались даже поцеловаться, только еще сильней прижимались друг к другу, так сильно, что обоих пронзила боль, и когда они наконец отпустили друг друга, она склонилась над ним и заглянула ему в глаза, и ее голос тоже дрожал от холода:
— Теперь ты мой. Теперь ты никуда от меня не денешься.
И он кивнул ей, зная: да, это правда, теперь им никуда не деться друг от друга.
Они лежали на спине и глядели на звезды. Звезд было уже так много, что и не сосчитать, даже вообразить такое несчетное число и то нельзя. Упала звезда, прочертив над ними сверкающую дугу, он успел загадать желание, прежде чем светило погасло, и торопливо покосился на Хеллу — не загадала ли и она то же самое. Но с нее уже схлынула и взрослость, и торжественность: сложив губы трубочкой, она тихо насвистывала что-то, и казалось, она пляшет и смеется про себя, и тут и его захлестнула радость и заполнила собой весь мир — заплясали звезды, заблестела, засмеялась мокрая трава, белые лунные птахи замелькали в деревьях, в кустах, порхая над светлыми островками зелени, над ямами леденящего мрака. Защекотало в руках, в ногах, сбросив с себя одеяло, они разом вскочили, платье ее встрепенулось, будто алое крыло птицы, и выпорхнуло в лунный пейзаж — алое платье Хеллы, — и он увидел сверканье пяток и услыхал ее зов:
— За мной! Лови меня, поймай меня, ну, скорей же!..
Просекой мчалась она вверх, и по рвам, по кочкам пробушевала погоня, а после Хелла долго вихрем носилась вокруг одного и того же могучего дерева, а он все гнался за ней, и лунно-белая грива ее волос то вспыхивала во мраке на миг, то пропадала — вот сейчас я тебя, сейчас… вихрь раскрутился, дерево отшвырнуло их от себя, и они помчались назад, сквозь чертополох, сквозь крапиву, и он застонал — да постой же ты! подожди! — он оступился, упал, из глаз посыпались искры, но она не стала ждать, она уже снова была на краю ската, и алое платье и лунная грива спрыгнули вниз и пропали. И вот они уже стоят, притихшие, на берегу — прямо у ног их блестит лунный мост, убегая глубоко-глубоко вдаль, в самую глубь темного неба, и Хелла сказала:
— Пошли! Мы с тобой оба озябли! Скорей в воду!
Она уже стащила через голову платье. Теплей от купанья не станет, сказал Андреас и чуть-чуть замешкался в нерешительности, но она, уже сбросив с себя все, напевая и брызгаясь напропалую, вбежала в море. Тогда он зашел за скалу и там разделся. Вода была такая холодная, что пробрало до костей, но он вбежал в море так быстро, как только мог, а чуть подальше лег на живот и по-собачьи поплыл на глубину.
— Где ты там пропадаешь, иди сюда, — окликнула его Хелла, потому что он держался от нее в стороне и не глядел на нее.
Но, должно быть, она все забыла, она звала его и смеялась своим обычным купальным голосом, и, когда он взглянул на нее, она оказалась в точности такой, как всегда, какой он привык ее видеть, тоненькой и отчаянной девчонкой с длинными ногами и веснушками на плечах. И как ни в чем не бывало взялись они за свои прежние морские игры. Брызгали друг в друга водой, и брались за руки и скакали — десять, двадцать, тридцать… сто раз, а вот сейчас они крабы, рыбешки, дельфины, подпрыгивают высоко-высоко, и ныряют, и снова встречаются под водой. Андреас вплыл в арку ее широко расставленных ног, поднял ее к себе на плечи и сбросил в воду, но, когда он снова хотел проделать то же самое, она стиснула его шею ногами и удержала его в воде, так что он чуть не задохнулся и еле вырвался от нее с брызгами, шумом и вне себя от гнева, и они сцепились не на жизнь, а на смерть, но он взял над ней верх и согнул ее так, что ей пришлось сдаться и запросить пощады. А вода сделалась вдруг совсем ледяная, и, стуча зубами, они вперегонки помчались к берегу, но воздух оказался еще холодней воды, а им и вытереться было нечем — только набегавшись, могли они разогреться.
— Луна, на луну погляди, — вскрикнула она на бегу, потому что луна скакала вверх-вниз и все время следовала за ними, холодный свет искрился в глазах Хеллы, сверкал на ее зубах, и длинные-предлинные тени мчались по берегу и, переломившись, взбегали на склон — призрачные Он и Она на нескончаемо длинных ногах, и тени ловили друг друга, плясали и сливались в одно.
Потом они принялись вдруг играть, будто они еще дети и, как в былые дни, сидят у болота, и Хелла сказала: наш корабль затонул, никто не уцелел, кроме нас, мы с тобой доплыли до берега где-то в жарких краях, а на берегу в джунглях бродят дикие звери и людоеды. Но для жарких стран было слишком холодно, и Андреас сказал: нет, пусть будет Северный полюс, мы первые люди на Северном полюсе… и они бежали и бежали за собачьей упряжкой по льдам, по вечной мерзлоте, где еще не ступала— нога человека. Наконец Хелла сдалась, она вдруг остановилась и проговорила умирающим голосом: нет больше сил идти, мы скоро замерзнем в снегу, да что там — мы уже умерли и перенеслись на остывшую звезду, где ничего нет, совсем ничего и никого, кроме нас с тобой. Тут Андреас вспомнил про Генри и торопливо крикнул: нет, нет, мы где были, там и останемся, а Северный полюс — вон за тем камнем, а ну, кто первый добежит? Но с игрой покончено, они не маленькие, а Хелла стоит нагая, закрывшись руками, и твердит: бррр, собачий холод, до чего же я озябла, скорей бы одеться, да и голод опять одолел.
Они наспех перекусили холодной картошкой и хлебом с сыром, потом убрали все следы ужина и сквозь толщу кустов проползли в пещеру. Андреас слегка помедлил у входа: казалось, там еще холодней, чем на воле, да и темно как в могиле. Вдвоем нестерпимо тесно в пещере, Хелла то и дело толкала его ногами, локтями, коленками, а в лицо лезли мокрые пряди ее волос, но в конце концов оба улеглись на ложе из сосновых веток и травы, и Хелла сказала: прижмись ко мне, нам надо согреться. И опять все было другое — и голос ее, и вообще все-все, он прижался к ней под одеялом и подумал: чудно все это, ведь там, в море, при свете луны она тоненькая, жилистая, а сейчас, в потемках, когда они лежат в пещере, она снова нежная, мягкая, большая.
— Обними меня, — сказала она, и он обнял ее и подставил свои ноги под ее ступни. Сразу прихлынуло тепло. — Теперь мы славно лежим, — вздрогнув, сказала она, — давай-ка уснем.
Они лежали тихо-тихо, глубоко дыша, тепло струилось от нее к нему и от него к ней, и ритм дыхания был у них один, но сон не шел к Андреасу, да и к Хелле тоже: каждый чувствовал, что другой не спит.
— Хелла…
— Ты что? Страшно тебе?
— Да нет. А тебе страшно?
— Чуть-чуть. Правда, сейчас не очень, ведь им нипочем не найти нас. Этой ночью они нас не найдут. А вот завтра найдут непременно.
— Завтра мы будем уже далеко. В самом Копенгагене.
Она помолчала, потом вдруг покачала головой:
— Нет, только не в Копенгагене. Не хочу я туда.
— Но ты же говорила, что Генри…
— Генри? Да я просто его выдумала, когда маленькая была. Нет никакого Генри. В Копенгагене живет мой отец, а к нему нам нечего соваться — он мигом выставит нас за дверь. Как-то раз, давно, я написала ему. Раздобыла его адрес и написала всю правду, какие у нас дома дела. Я спрашивала, нельзя ли мне перебраться к нему. А он даже не ответил — просто переслал письмо матери, и она ревела, читая его, и обещала, что отныне все переменится. Уж сколько раз обещала, но все болтовня, потому что ей на меня наплевать. Она только и думает что о своих поганых мужиках. Знал бы ты, как они порой ко мне лезут. И она это прекрасно знает, оттого-то ей не терпится отделаться от меня. Да они все бы рады отделаться от меня. Но мне сейчас все равно, только бы ты был со мной. Только бы я нравилась тебе.
Она вся подалась к нему, порывисто и застенчиво, пряча от него лицо, а он привлек ее к себе, и все нахлынуло разом — и жар какой-то, и мощь, восторг и ужас… о Хелла, Хелла, нет, никогда, никогда, он никогда не отпустит ее, ведь отныне он знает все, и нет никакого Генри, а Хелла плачет, и только со мной она хочет быть и одного меня любит, и пусть кто угодно теперь придет, я все равно не отпущу тебя, потому что… «только бы ты был со мной», о Хелла, Хелла, Хелла…
— Я не знала, что ты нравишься мне и в таком смысле тоже, — зашептала она, — конечно, ты всегда нравился мне, да только не в этом смысле, так по крайней мере мне казалось. Просто я думала: все это противно. Но с тобой мне ничего не противно. С тобой я на все согласна. Только с тобой. Но нам лучше подождать с этим, потому что нам еще рано или, может, мне еще рано, я не могу. Потому что тебе не рано. Ты можешь…
Он хотел ответить, хотел сказать ей… сказать ей все, но у него захватило дух и казалось, он умер, потому что она вдруг протянула руку, не спеша, спокойно и смело, и стала его ласкать, и глаза ее тоже смотрели спокойно и были темнее тьмы. Они не отпускали его, они неотрывно глядели в его глаза, пока не кончилось все, и это было ужасно, а все же нет, не ужасно, потому что они вместе. Ведь это Хелла, это ее руки.
— Злишься на меня теперь? — прошептала она, но где там, как можно злиться? О Хелла, Хелла… Нет, ничего не выговорил он, и долго-долго они лежали так, и каждый прятался в объятиях у другого.
Но прошло время, и во тьме проснулись их голоса, совсем не похожие на прежние, и оба совсем спокойно заговорили о том, как же им теперь быть, коль скоро никакого Генри нет и в помине, и некуда им идти, и кругом одни лишь враги. Никуда тут не денешься.
— Нельзя, чтобы они застали нас здесь вдвоем, — сказала Хелла. — Мне-то что, я их не боюсь, да им из меня и слова не вытянуть, а вот с тобой дело хуже. Ты же боишься своего отца. А я уж и так знаю, что он про меня скажет: мол, я такая же, как мамаша моя. Он мамашу мою ненавидит, а она — его. Любую гадость могут про нас сказать, так пусть уж лучше не знают, что мы здесь вдвоем были. Как рассветет, я одна пойду домой, а ты оставайся здесь. Хорошо бы ты дождался, когда они сами сюда придут, да только вряд ли ты сможешь. Так что уж хотя бы подожди, сколько вытерпишь. Только обещай, что ничего не скажешь им про меня. Нам ничего нельзя рассказывать друг про друга. Никому из них — ни слова.
И он поклялся: ни слова никому, и сказал, что будет ждать ее всю жизнь, пока они оба не вырастут и не смогут распоряжаться собой, и он будет писать ей письма и прятать в их прежних условных местах.
Но она сказала: уж верно, меня упекут в какой-нибудь воспитательный дом. И они снова смолкли, тьма сомкнулась вокруг, и навалилось отчаяние. Андреас сказал, хорошо бы никогда не наступило утро, хорошо бы им вместе сейчас уснуть и больше уже не проснуться. А Хелла сказала: она видела у матери пузырек с такими пилюлями, что, если много проглотишь их, сразу уснешь и больше уже не очнешься, и, коли все пойдет прахом и ей не суждено будет свидеться с ним, она так и сделает. И Андреас поклялся, что сделает то же самое. Они еще немного потолковали о том, что же тогда будет и куда они потом попадут, но это-то ведь не ведомо никому, зато уж куда он попадет, туда, стало быть, и она, и за разговором оба уснули.
Посреди ночи Андреас проснулся, объятый ужасом: вдали гремел гром, словно дальний глас божий, и где-то совсем близко лаяла собака. Хелла тоже проснулась от шума, но сказала: не бойся, это еще не полиция, а просто собака лесничего, а Андреас заверил ее, что вовсе и не боится, нисколечко не боится. Но дрожал он так сильно, что голос его тоже дрожал, и он сказал, что все это только от холода.
— Сейчас я согрею тебя, — шепнула Хелла и прижалась к нему, будто периной накрыла.
И вот уже утро, слабый серый свет вполз к ним в пещеру, и Андреас сел и начал обуваться. От соленой воды ботинки набрякли, и тщетно омертвелые пальцы силились их застегнуть.
Стоя на коленях, Хелла складывала вещи в одеяло. Казалось, этому не будет конца, но спустя минуту все было кончено, и никто из них даже не разжал губ. Ночью, должно быть, прошел дождь — выйдя на волю, они сразу заметили, что трава мокрая и гранеными каплями сверкают в сыром резком воздухе цветки шиповника. Долгим безмолвным взглядом оглядели они друг друга, потом Хелла повернулась и с узлом на спине стала спускаться со склона. Ни разу не обернулась она назад и скоро пошла берегом, она быстро-быстро удалялась от него под серым утренним небом. И вот она всего-навсего крошечная алая точка. Но даже теперь, когда он больше не мог видеть ее, он все так же стоял не шевелясь, не сводя глаз с того места, где она скрылась.
АРИЭЛЬ
Он очнулся от сна и в первый миг не мог понять, где он. Распахнул глаза в такую густую тьму, что в ней ничего нельзя было различить, а когда привычно потянулся к выключателю, рука повисла в пустоте, и его пронзил ужас. Ослеп, в отчаянии подумал он и будто рухнул сквозь все взрослые годы в детство, в детский страх перед тьмой: ослеп и брошен в чужом краю и вокруг — неведомая опасность.
Спустя мгновение он уже пришел в себя и посмеялся над своим глупым страхом. И тьма не чужая, и он в ней не один. Осторожно перевернулся он на бок, чтобы услышать сонное дыхание рядом, и протянул руку, стремясь нащупать ее плечо, найти ее, опознать. Но дыхания он не услышал, и рука встретила в перине пустую вмятину. Значит, она украдкой выбралась из кровати, пока он спал. Но с тех пор не могло пройти много времени: подушка еще хранила тепло ее тела, отпечаток ее щеки, запах ее волос. Он приподнялся на локте, стараясь не дышать, но кругом не было никаких звуков — только тихий шепот дождя над дерновой крышей и чуть подальше — мрачный свист ветра в верхушках сосен. Он не стал, однако, тревожиться о женщине. Подобравшись поближе к стенке, он нырнул в теплый мрак под ее одеялом и спокойно принялся ждать. Конечно, она только-только ушла и, видно, сразу заспешила назад: все ближе и ближе к дому ее шаги. Ему даже не надо прислушиваться — легкими толчками отдаются они в его жилах, волнуя кровь: шаги летят вверх по склону, бегут мимо окна, спешат по террасе к двери, и вот — сердце на миг перестало биться — кто-то неслышно толкнул и притворил дверь, и тут же раздался тихий, бесповоротный щелчок ключа, повернутого в замке. Он улыбнулся в своем полусне и словно бы видел руку, смертельно твердую руку женщины, покорной чужой странной воле. Покорной самой природе, подумал он, смежив веки, природе, не ведающей стыда, но свершающей свои таинства во мраке и в тишине.
И вот она уже в комнате, снует босая взад и вперед почти без звука, разве что скрипнет половица или пискнет на петлях печная дверца. Женщина поворошила золу, чтобы вспыхнули угли, и добавила в печку дров. Он лежал, широко раскрытыми глазами следя за ее работой, и видел, как, встав на колени и вся подавшись вперед в красноватом отблеске пламени, она стерегла огонь. Он хотел сомкнуть веки, бежать от этой картины, хотел вырваться из этого сна наяву, снова вернуться во мрак, в небытие, а не то стряхнуть с себя сон и развеять чары, но было уже поздно: он услышал треск пламени, дрова занялись и жаркие струи света хлынули на нее, схватили и вырвали из мрака нагое тело — и водопад волос, скрывавших ее лицо, и склоненную шею, и беззащитно обнаженные плечи, руки и грудь, всю нежную красоту женщины, лишь венчавшую ее необоримую сущность, непреложную правду — могучие своды бедер вокруг ее лона. Он лежал не шевелясь и глядел на нее словно бы и во сне, и въяве, растянутый на дыбе безвременья между мукой и сладострастием: ни пошевельнуть рукой, ни подумать о чем бы то ни было. Но при том он знал нерушимо, что образ женщины, на коленях стерегущей огонь, никогда не исчезнет из памяти, а пребудет с ним до конца его дней, до провала в смертную мглу.
В последний раз попытался он сбросить оковы сна, подать ей знак, окликнуть ее по имени, но не было сил разбить немоту тела, и женщина встала с колен, медленно, как сомнамбула, пересекла комнату, и вот она уже рядом — обхватила его, налегла на него убийственным грузом. Густые черные волосы накрыли его смертоносной волной — волосы, мокрые от дождя, пахнущие землей, травой и хвоей; влажный холод ее волос, рук и ног одолел сухой жар его тела, всосал его в себя, поглотил его, в ознобе лежал он рядом с ней, дрожа от всевластного холода, настолько сильного, что изнутри жег его пламенем, и он чувствовал, что вот-вот умрет. Но он не умер и не воспрянул от сна, а лишь все глубже увязал в джунглях желания и уже перестал быть самим собой, а был ею, женщиной, той, что бежала от него в ночь, в ливень, босая мчалась по песку, ломилась сквозь мрак сосняка, сквозь хруст сосновых сучьев и, исхлестанная ветвями, вырвалась на скат против моря и упала в траву, распласталась в мокрой траве под дождем и жадно глотала дождь, падавший с неба. Ее глазами смотрел он, осязал ее кожей, ее слухом ловил близкий шум моря и чувствовал в то же время, хмелея от счастья, что и она отринула свою женскую суть и вселилась в него, женской властью своей околдовав его жесткие спокойные руки, и, мягкая, нежная, стлалась под ними, тяжело оседая на ложе, и руки наконец пригвоздили ее к нему, готовую принять в себя мужчину. Медленно погружался он в пучину женского тела, и медленно подкатывали волны, морские волны: то возносили их обоих на гребень, то опускали вниз, то ласково и неспешно, то так, что захватит дух, а после покажется, что сейчас засосет в бездну, и наконец их настигла последняя злая волна, во тьме занесла над ними белый пенистый завиток и замерла, долго-долго не опадая, спаяв их в одно и испепелив. Все это время он прижимался лицом к плечу жен-шины, хороня его в черных, гладких ее волосах с их влажным, соленым запахом моря, и только в самый последний миг она властно обхватила и приподняла его голову, чтобы встретиться с ним глазами. Он увидел, как что-то дрогнуло в ее зрачках, лицо ее исказилось, сделалось безобразным и рот раскрылся в беззвучном крике. Но когда все было уже позади и он вновь потянулся к ней, чтобы, разбив молчание, приласкать ее, снова привлечь к себе, она рукой закрыла ему рот, покачав головой, отвернулась и легла лицом к стенке.
Он улыбнулся про себя и подумал: а ведь она права — что еще могут они теперь сказать друг другу, слова бессильны что-либо отнять или добавить.
Никогда прежде не знал он такой упоительной легкости и покоя, такой блаженной опустошенности и утомления. Он с силой потянулся и почувствовал, как к нему подкрадывается дремота: медленно завладевала она его телом, медленно пронизывала его вплоть до кончиков пальцев. Уже и веки сомкнулись, и с вещей слетели маски, и мысли сбросили чинный наряд, отсеченные от места и времени, но по-прежнему неуверенно-робко мешкали на пороге. Слуха его коснулось смутное грохотанье: то ли с воли доносилось оно, то ли из тесной комнаты, где кругами разливалось тепло, и он сказал себе, что надо бы встать и захлопнуть печную дверцу. Но теперь уже поздно было вставать, идти через всю комнату к печке, поздно, да и без смысла — все, что могло случиться, уже случилось, и ничего уже не изменишь, нечего бояться, и нечего ждать, и только одно осталось: видение женщины на коленях перед огнем.
И в пропасти сонной мглы его подстерегал этот образ — вечное, неизбывное, долгожданное воплощение давней мечты. Мечта была с ним всегда, но зримый облик ее пришел к нему на излете детства, в пору, когда он впервые почуял дыхание смерти и ощутил ее близость. Теперь же он достиг середины пути, не стар, но и не молод, хоть и пребывал в гуще жизни: все желания уже сбылись, а смерть глубоко затаилась в нем и в то же время надолго отодвинулась от него. Он знал все это — и спал. Очнулась мысль и стала биться об скорлупу сна, сковавшего его, но он не допустил ее до себя и вновь извергнул в пространство, где она скрылась, как метеор, прочертивший свой короткий и светлый путь в ночном небе.
В самом разгаре сна на него вдруг нашла тревога; он повернулся к чужому, далекому существу рядом с собой, протянул к нему руки и в потемках стал искать ту, что недавно была с ним, но какой чужой и далекой казалась она теперь… хоть и она тоже повернулась к нему и обняла его и оба сонных дыхания слились во мраке в единый ровный напев.
Когда он очнулся вновь, дрова в печи давно уже прогорели. Пройдя сквозь стены, морской воздух наполнил низкую комнату влажным холодом, за тонкой занавеской серым и недвижным пологом стояла рассветная мгла. Убрав голову с плеча, женщины, он высвободился из ее объятий, тихо, не смея дышать из страха ее разбудить, ступил в чем мать родила на деревянный пол, пошатываясь на слабых, неверных ногах, словно бы разучившихся ходить. Ощупью начал он пробираться сквозь тьму, сквозь лабиринт разных предметов, дивясь в то же время тому, что слабый отсвет зари не вплывает в окошко, а, напротив, вроде бы отодвигается вдаль. Где ты? — спросил он себя. Зачем ты здесь? И тут вдруг светлый квадрат прыгнул ему навстречу; он споткнулся, стал падать, но успел ухватиться за что-то и устоял на ногах, держась двумя руками за подоконник.
Он приподнял занавеску и выглянул в рассветную мглу. Стайка песчаных тропок убегала от дома в щетинистый мрак вересковой чащи, теряясь в роще молодых сосенок ростом с человека, а за черной межой сосняка горбились, то взмывая вверх, то срываясь вниз, простыни голых песков, но чуть подальше, взметнувшись ввысь и слившись в одну гряду, вдруг скрывались в белой пучине. Там кончался мир. Он удивился: ведь дом построен на высоком взгорке и вчера отсюда отчетливо было видно море; даже когда стемнело, они, стоя вдвоем на террасе, провожали глазами большой корабль, весь в огнях, который медленно проплывал мимо, а после, глубокой ночью, долго лежали без сна, слушая, как где-то, совсем уж неподалеку, хлюпают на воде, стукаясь друг о друга, рыбачьи лодки. Но нынче вокруг не слышно ни звука, ничто не пошевельнется в окаменевшем черно-белом пейзаже, даже птицы не парят в поднебесье и не повеет ветерком с незримого моря, только и есть что память о шествии моря в застывших волнах песка и следы буйства ветра в полегших ветвях сосны.
Он сказал себе: это обман зрения, не мог же за ночь так обезлюдеть берег, кругом, среди скал, есть и другие дачи, и пусть нынче поздняя осень и дачи стоят пустые, все же они не исчезли с лица земли; должно быть, они по-прежнему прячутся среди скал, с их крышами, трубами, с их маленькими веселыми окнами, а чуть повыше прорезает пейзаж приморская улица, вьется среди усадеб, лавок и мастерских, — не могла ведь за ночь вымереть вся округа, должна же прийти откуда-то живая весть. Он напряженно вслушивался в тишину, надеясь услышать человеческие голоса, тарахтенье моторов, шум проносящихся мимо машин, но не было ничего, кроме плотной стены безмолвия, а когда он вновь устремился взглядом в прибрежный простор, не было уже и песчаных волн и совершенно стерлась черная межа сосняка, зато прямо у него на глазах белая мгла пожирала одно дерево за другим.
Туман, сказал он, просто туман ползет с моря, за ночь переменилась погода, похолодало, и, стало быть, нечему удивляться и нечего, право, страшиться. Но ужас уже захлестнул его, и холод стиснул ледяными тисками, он застучал зубами, затрясся всем телом: еще только миг, и его самого тоже, подобно деревьям, истребит и поглотит туман. Опустив занавеску, он отошел от окна — вновь окунуться во мрак, в забытье рядом с сильной и жаркой женщиной под куполом одеял, но вдруг споткнулся обо что-то твердое и замер, прислушиваясь, не встрепенется ли спящая. Как и прежде, она дышала глубоко, ровно, и все же он уловил перемену, словно, проснувшись от шума, она затаилась и с этой минуты только ждала, когда же он оставит ее одну. Рассеянно принялся он собирать свои вещи. Он долго одевался, потому что одежда его валялась по всей комнате, и, собирая ее, он старался не шуметь. С ботинками в руках он крадучись приблизился к кровати. Уже рассвело настолько, что на подушке виднелась голова женщины, лежавшей к нему спиной, и виднелись черные реки волос на белой перине. Нет, женщина не спит, в этом он уверен, она, как зверь, притаилась в своей норе, слушая, как он возится с одеждой, такая чужая, далекая, что он даже не смеет прошептать ее имя, не смеет, склонившись над ней, проститься с ней поцелуем. Уйти своей дорогой без лишних слов — лучшее, что он может сделать.
В сенях он присел на лавку, обулся, причесался у зеркала и с вешалки снял свой плащ. Теперь можно идти. Уже нажав ладонью дверную ручку, он обернулся, оглядел тесную комнату с низко нависающим потолком, комнату, выдвинутую из мрака в застылость рассвета: мертвая пепельно-серая дымка стояла над тростниковой циновкой, разостланной на полу, льнула к некрашеным доскам потолка, стен, застилала слепой глаз зеркала, сундук с выгнутой крышкой, тьму случайных вещиц и предметов, которые женщина подобрала у моря, — колючие морские звезды, раковины морских животных, табличку с названием лодки и спасательный круг, выброшенные морем на берег, старую рыбачью сеть с круглыми зелеными поплавками, заменившую на окне занавеску.
Он потянул воздух ноздрями, и запах моря и водорослей опалил его воспоминанием — он стоял, закрыв глаза, и видел, как она, ни разу не обернувшись, удаляется вдоль пустынного взморья, постепенно становясь все меньше и меньше, и наконец исчезает за дальним мысом… и лишь в прибрежном песке легкие, летящие следы ее ног.
Смертельная усталость охватила его, он улыбнулся при мысли, что тщетно пытаться бежать от своей страсти: он знал, что отныне рок неизбежно будет гнать их назад, его и ее, к месту, которое оба рады бы обойти.
Мгновение помедлил он у порога, вдыхая белесый пар тумана, потом тихо закрыл дверь снаружи, быстро прошел террасу и зашагал по узкой тропинке, сквозь чащу вереска круто уводившей вниз. Когда он оглянулся, дом уже скрылся в тумане, будто его и не было никогда, и впереди, и по бокам тоже не было ничего, кроме лощины тумана, кроме серых его полотнищ, занесенных над путником, шагающим по тропинке, серых сырых полотнищ, в такт его шагам отступающих в глубь лощины. Раз за разом вдали возникал черный контур и тут же исчезал снова, и путнику даже не дано было знать, что он видел — дальний ли большой дом или мелкий ближний предмет, может, молодую сосенку или вересковую кочку, словно одним-единственным нырком с крыльца он угодил в древний языческий край тумана, не знающий ни времен года, ни внешних примет явлений. Но он ничему уже не удивлялся. Ни о чем не думая и не тревожась, спрятав обе руки в карманы, он вверил свои шаги петляющему течению тропки, но из тумана черной тенью выплыла вдруг стена — и сердце путника екнуло от испуга. Первое, что он подумал: а не вела ли его тропинка по кругу, вдруг она вновь привела его к ее жилью; но, подойдя ближе, он убедился, что перед ним — чужой и безлюдный дом. Страх погас, но в душу вонзилась боль одиночества: сонный безмолвный дом с закрытыми ставнями ранил его тоской, гнул к земле; уступив искушению сесть на землю, он прислонился спиной к стене, смежил веки, но тут же перед ним снова встал образ женщины, на коленях стерегущей огонь, — он резко вскочил с травы, и ноги понесли его прочь от дома; спотыкаясь, сбежал он с крутого взгорка и вдруг замер на месте, с радостным облегчением любуясь следами автомобильных колес. Чуть погодя узнал он и место: он вышел к проходу между холмами, куда обычно сворачивали фургоны торговцев. Здесь шофер высадил его вчера вечером — отсюда дорога сама выведет его к деревне.
Он шел понурив голову, осторожно пробираясь между застывшими колеями, ломкими пленками молочно-белого льда, пока все колеи не слились в одну, которая увела его от гряды холмов на равнину, в луга, где хрупкая короста ночной наледи взламывалась под шагами и ноги проваливались в мягкую липкую землю, а кругом висели почернелые, набрякшие от влаги полотнища тумана. Тихая морось дождя скорбью вливалась в сердце, он шел, высоко подняв воротник вокруг мокрого лица и смежив наполовину веки, и вяло следил за нескончаемой чередой столбов, с убаюкивающей размеренностью выплывавших навстречу ему сквозь туман, и только тогда очнулся, когда на проселке заскрипел под его шагами песок, и тут же надвинулся на него темный фронт леса, и отверзся ему, и снова сомкнулся вокруг него с двух сторон, будто верный солдатский полк елей и сосен, марширующих к морю.
Ему покойно было в их строю, казалось, деревья защищают его, он стал насвистывать какой-то мотив, и ноги шагали в такт свисту, и тут он решил, что пора четко и трезво обдумать все, что случилось. Что-то ведь должно было быть, сказал он себе, что-то ведь должно было быть между нами, не призрачное, а настоящее, наверно, мы что-то говорили друг другу, что-то делали вместе, — господи, мы же стояли рядом в вечернем сумраке и глядели на празднично освещенный корабль, а после весело звякали на кухне тарелки и я чувствовал пряный запах грибов, собранных ею в лесу, и мы сидели за столом в свете лампы, ели, пили и толковали о случайных предметах, о самых обыкновенных вещах. Да, так, наверно, и было, сказал он себе, зная, что иначе и не могло быть, но все это стерлось в памяти, и когда он остановился и закрыл глаза, чтобы вновь ясно увидеть ту ночь, то увидел лишь последнюю черту моря, безоглядный бросок моря навстречу ночи, и чаек: взмахи их белоснежных крыльев на фоне иссиня-черных дождевых туч, и последние одичалые лучи солнца, промчавшись по скалам, ворвались в комнату, бросив пучки тонких огненных стрел на вымытый до белизны дощатый пол, и ярко вспыхнули под ними грубые циновки, и солнечные снопы выжигали борозды в столешнице, сбитой из необструганных сосновых досок, и солнце ударило в бокалы на столе и обратилось в звук, в звон, в щемящую ноту, взмывшую за пределы слуха, и солнечный вихрь подхватил все комнатные предметы и спаял их в одно. Он чувствовал приближение вихря и в то же время шел по дороге своим путем, шагая в такт своей мелодии, негромкому беззаботному свисту, и видел, как темный строй елей и сосен, расступившись, пропускает вперед березу с ослепительно желтой листвой, а из выси выплывают багряные кроны кленов, будто отблески пожара в самом тумане… и женщина сновала по комнате взад и вперед, скользя между вещами, призрачными вещами, бывшими лишь отблеском, отражением переливчатой игры солнца на ее коже, на ее плечах, руках и лице, на ее застывшем лице с чуть приметной горькой улыбкой крупного рта.
Он увидел тропинку, извилистую тропку, которая уводила с дороги в темноту зарослей и кустов… а солнце погасло и скрылось, и хлынули волны тьмы — вспенивались от снования ее по комнате, струились от грубой ткани ее одежд, от мерного кружения юбки вокруг ее бедер и ног, текли от черного водопада волос, от каждого движения ее отяжелевшего тела. И посреди тишины, напряженно слушавшей игру мрака, поднялся ветер ее дыхания — первый знак близкой грозы, первый тяжелый порыв ветра, и он уже знал: еще миг — и ураган их накроет, и цеплялся за остатки рассудка… и подумал, что тропка наверняка выведет его к деревне, а туман, должно быть, уже поредел, потому что вокруг, будто сквозь стекло, вновь проступили деревья… но тут же — мраком во мраке — надвинулись два черных солнца глаз, еще секунда — и разгорится битва, и оба потеряют рассудок, и в страхе он взмолился: поговори со мной, хоть что-нибудь расскажи о себе, ведь я ничего о тебе не знаю, только — один-единственный раз ты рыдала во сне, шептала чье-то имя, кого же звала ты, может, мужа, а не то кого-то из детей, кстати, расскажи мне про детей, какие они из себя и что ты им говоришь, когда они будят тебя на заре, а муж твой… скажи, ты страшишься его, боишься, как бы он что-нибудь не узнал, но может, напротив, он боится тебя, боится за тебя, ведь он знает тебя и любит, и одного только не хочет знать — твоих диких забав во мраке, твоей страсти приносить себя в жертву и умирать? Он спрашивал и спрашивал, а тропинка под его ногами пропала, длинные колючие ветви кустов вцепились в него, полонили… и он замер посреди комнаты, ловя ответ женщины, но ответа не было, были все те же слова, короткие, сбивчивые, уже не слова человека, а грубый зов крови, и они схватились, как два борца, и он подчинил ее, обессиленную, своей воле, но и она подчинила его себе, и, задыхаясь в ее объятиях, он умирал, и только одно поддерживало в них жизнь, только одно мешало им потонуть, исчезнуть в пучине тьмы — единый ритм их дыхания, взлетов их и падений, слитность обоих тел в пропасти отчуждения глубже морской пучины вокруг.
И снова все позади, зачем только это было, и вновь из тумана, звеня, сочится безмолвие, и путник дивится, как он сюда попал, как забрел в гущу леса и зачем остановился под деревом, спиной прислонясь к стволу; он разжал руку и на ладони увидел горстку заиндевевших синих ягод, жестких ягод терновника, которые он сорвал, сам того не заметив, — он взял их в рот и раздавил зубами. Такие горькие были ягоды, что слезы выступили на глазах и все лицо его сморщилось в узелок; как у младенца, подумал он и вспомнил этот вкус, вяжущую эту горечь — из катакомб детства извлекла их память. Он не смог бы сказать, как случилось, что он заплутал, но когда-то ребенком он отстал от своих и в таком же тумане застыл на этом же месте, под этим же самым деревом, окруженным диким кустарником с гроздьями алых и черных ягод, он вдыхал аромат мокрой лесной листвы, внимая монотонному лепету капель из белой мглы, а под конец улегся на землю, зарывшись лицом в мягкий ядовито-зеленый мох, и видел, как из капель рождаются глаза, влажные и полные тоски, светлые и безумные, — глаза, смотрящие на него отовсюду. Потом он все это забыл. Но вот наконец он вернулся, и здесь было все то же — он вышел к тому же самому месту, полный все той же неизбывной тоски. В тот самый первый раз он рыдал, стоя в тумане. Теперь же у него не было слез. Он попытался заплакать, но не смог. Плакать он давно разучился.
Очень скоро он отыскал тропинку, и сразу все вокруг стало меняться. В лесу посветлело, он миновал вырубку, за ней — длинный красный дровяной сарай, и навстречу ему уже вышли первые дома с их нарядными палисадничками, окруженными низким штакетником, скоро он ступил на мощеную деревенскую улицу, и туман наполнился звуками раннего утра. Загремели молочные бидоны, вдалеке застучали чьи-то шаги по тротуарным плитам, из невидимых ворот донесся цокот копыт; путник остановился, прислушиваясь к голоску ребенка за окнами дома, и вдохнул у пекарни запах свежеиспеченного хлеба, глянул в окно трактира на пустые столы, дивясь, что нигде не видно ни единой живой души. Но на рыночной площади у бензоколонки мерцал одинокий глазок такси: в старомодной, с высоким корпусом, черной машине сидел, склонившись на руль, водитель и спал крепким сном.
Он уже поднял руку — постучать в окошко, — но тут же ее опустил. Человек за рулем спал, прижав к груди подбородок, с раскрытым ртом; венчик белых пушистых волос окаймлял затылок, и жалостно торчала из куртки тощая шея. Путник вдруг ощутил нежность к спящему: казалось, его родной брат сидит здесь, всеми покинутый, безраздельно отданный во власть сна, похожего на смерть. Осторожно приоткрыв дверцу, он тронул спящего за плечо. Простите, что вынужден потревожить вас, сказал он, и шофер сразу подскочил, на голове тут же оказалась фуражка, молча кивнув, он завел мотор и одновременно просунул руку назад, чтобы захлопнуть дверцу, словно перейдя из одного сна в другой — сон привычных движений. Он не спросил, куда ехать, когда же ему назвали адрес, он снова кивнул, словно заведомо знал его, знал этот дом, эту улицу в другом и далеком городе. Высокий черный автомобиль медленно пересек базарную площадь, вплыл в улицу между домами и так же медленно вырулил на проселок, где буравили мглу желтые огни фонарей, мимо которых беглыми тенями проносились быстрые, с низкой посадкой машины. А не завести ли разговор про погоду, что так резко переменилась за ночь, подумал он, или, может, спросить про ветер, не повернул ли он с южного на северный или с западного на восточный, но водитель словно окаменел за рулем, и путник не решился прервать молчание: откинувшись на потертом сиденье, он стал подсчитывать, когда, при такой скорости, он будет в городе, но запутался в цифрах, перечеркнул их в уме и погрузился в блаженный покой под верной защитой этой непреклонно немой спины, этого друга и брата, который молча вез его сквозь туман и все о нем знал: откуда он едет и куда спешит. Так вот знают друг друга мужчины, так вот говорим мы друг с другом, не спрашивая ни о чем, не ожидая ответа — ведь грех нарушать сонную тишину, да и ответов все равно нет ни на что. С этими мыслями он задремал, и сон его длился ровно столько, чтобы успеть закрыть и снова открыть глаза, но, когда он вновь подался вперед и глянул в окно, туман уже таял, клочьями проносясь над почерневшей землей, и серыми предгорьями выросли вдали первые большие дома, а по обе стороны широкого прямого шоссе вперемешку потянулись сады, новостройки, старинные домики и новые просторные кварталы — бесконечной лентой одинаковых окон, подъездов, балконов, и, устав от них, он закрыл глаза, но тут же снова раскрыл их, потому что водитель остановил машину у перекрестка уже в самом городе. Разом стряхнув с себя сон, путник уставился на застывший косяк велосипедов и товарных фургонов: все вокруг сверкало никелем, лаком; ясными голосами звенело утро, и быстрые взгляды птицами перелетали от одного к другому, а по тротуару плыла вереница мужских брюк, женских юбок, ноги прохожих в одном и том же легком ритме шагали по плитам, отражаясь в блеске витрин, а когда он, вскинув голову, глянул вверх, то увидел над крышами тонкий полог тумана, последнюю хрупкую пелену, готовую вот-вот растаять, и светлое ожидание солнца победно пронизало простор. С этой минуты он уже не знал покоя, а глядел во все глаза, готовый в любую минуту сорваться с места, охваченный пламенным нетерпением, завороженный светом, сутолокой, голосами, откликающимися на его зов.
И вот уже узкая улочка, качаясь, вьется вокруг, вот мост, вскинув его на спину, мчит его на себе ближе и ближе к площади, уже раскинувшей руки, чтобы его обнять, ближе и ближе к высоким старым домам, что ласково глядят на него, будто на старого друга, ближе и ближе к залитому солнцем углу, который молча дожидается его прихода и, затаив дыхание, ждет звука его шагов. Все гуще и гуще поток машин, не езда, а ползанье черепашье; велев водителю остановиться, он расплатился с ним и последний отрезок пути прошел пешком, пробежал, прошел сквозь грохот машин и фургонов, не отводя взгляда от раскрытых узорных ворот парка. Солнце теперь уже светило в полную силу, утренний ветер теребил кроны деревьев, обдавая его попеременно брызгами багряных и золотистых струй света; не вынеся сверканья лучей на глади канала, слепой и хмельной от солнца, он сел на скамью, задыхаясь, но тут же вскочил, выбежал из парка и прямиком понесся по мостовой на другую сторону улицы, к углу заветного дома, очертя голову мчась к нему сквозь лавину велосипедов, машин и фургонов. Но уже в подъезде он должен был остановиться, чтобы перевести дух, и после, с каждым пролетом лестницы, все больше и больше замедлял ход и наконец замер на месте. Так быстро и жестко стучало сердце, что у него зазвенело в ушах, перед глазами пошли круги, а когда он все же добрался до двери и полез в карман за ключом, то тут же оцепенел от ужаса, потому что карман был пуст: значит, он потерял этот ключ, где-то забыл его, а может, просто выбросил по ошибке. В ужасе он перерыл все карманы, твердя про себя, что это и есть самое страшное, самое непростительное из всего, что только могло случиться. Он уронил руки, бессильно разглядывая белую кнопку звонка, припал ухом к щели почтового ящика в тщетной надежде услышать чей-то голос, но нет, ни звука не донеслось из-за двери: женщина, прибиравшая у них по утрам, конечно, ушла, ведь уже одиннадцатый час И только когда, отчаявшись войти в квартиру, он было повернулся спиной к двери, ключ вдруг оказался у него в руках, и он покачал головой, не в силах вспомнить, где он его нашел.
Он окликнул ее, и голос Хелены отозвался издалека, словно откуда-то извне. Мгновение он стоял, удивляясь, что она не в постели, но, войдя в комнату, сразу увидел ее за раскрытой дверью балкона, на самом пригреве; волосы ее пламенели в лучах солнца над алой кромкой из осенних цветов.
— Иди сюда, возьми стул и посиди со мной, скорей ступай сюда, я давно тебя жду! — крикнула она ему с балкона, и легкие, светлые, быстрые звуки ее голоса были как пестрые мячики, в волшебной игре перелетающие из рук в руки и вдруг исчезающие, словно их и не было никогда; голос ее, сверкая, кружил над ним и внезапно настиг его, поймал врасплох, и он застыл посреди комнаты, будто немой, будто юродивый — ду. рачок, не разбирающий слов, понимающий только звуки. — Ступай же сюда, скорей иди ко мне, — вновь позвала она, — куда ты пропал, отчего не идешь ко мне?
И вот он уже рядом с ней, на припеке, сел, взял руки ее в свои — маленькие прозрачные ручки, покоившиеся на одеяле, которое грело ее колени, — и они потонули в его руках, худенькие, легкие, как птички.
— Что это ты выдумала, — проговорил он, стыдясь нищеты, неуклюжести своих речей, своей нищеты, оттого что не находил для нее других слов, — холод-то какой на дворе, нельзя тебе здесь сидеть, нельзя с постели вставать, слышишь, милая…
Но она, не отвечая, глядела ему в лицо, и скоро в глазах ее зажглась улыбка, разгораясь, заиграла на губах, птицей взлетела с лица и выскользнула на балкон — порхать среди алеющих в ящике цветов, с утренним ветром взмыла над стеной плюща, все выше и выше вздымаясь к свету, к солнцу, и там, в вышине, обратилась в звон, в музыку, вобравшую в себя все: пестрый гомон деревьев в осеннем парке, шум улицы глубоко внизу, хор детских голосов на дальнем дворе. Только он, немой, безгласный, сидел рядом с Хеленой, не в силах ни улыбнуться, ни выдавить из себя слово, не зная, куда спрятать руки, куда девать свое большое, грузное тело. Но она вновь улыбнулась, и притянула его к себе, и обняла за шею, и взъерошила ему волосы — так легко сновали пальцы ее в его волосах, — и этим все сказано было между ними и зачеркнуто, и больше не было уже нужды в словах.
Долго молчали они, и снова заговорила Хелена, а он слушал ее, не поднимая глаз, — застыл на месте, подавшись вперед, сцепив между коленями руки.
— Был туман, когда я проснулась, — сказала Хелена, — был туман нынче утром, и была стужа, крыши оделись инеем. Но когда совсем рассвело, стало видно, что солнце прорвется сквозь дымку, и я велела женщине помочь мне одеться и выкатить на балкон мое кресло. Только здесь могла я высидеть, дожидаясь тебя, мочи моей нет лежать в кровати, както вдруг не стало мочи лежать. Ты не подумай, что я расстроена чем-то, совсем напротив, давно уже не было так радостно на душе. Но этой ночью я не могла уснуть. А теперь я должна кое в чем признаться: конечно, зря я это рассказываю, во всяком случае — тебе, но иногда я молилась Богу. Я же не могла иначе, мне так нужно было верить в Бога, того, что когда-то творил чудеса и сказал калеке: встань и иди. И я молила Бога, чтобы он и со мной сотворил чудо. Конечно, тщетны были мои мольбы, и помочь мне нельзя — одна горечь копилась в душе. Но я не смела отступиться от Бога и молила его все о том же. И нынче ночью я получила ответ. Господь покинул наш дом: я слышала, как отдалялись звуки его шагов и наконец затихли совсем. Представляешь, милый: шаги господни, затихающие в пространстве?… Вот оно, мое чудо. Только в эту минуту я воистину поверила в Бога. И теперь я могу встать и идти. Нет, нет, ты совсем не так меня понял, я правда могу встать и пойти куда захочу, делать все, что ни пожелаю. А желаний моих, любимый, не счесть. Скорей же уйдем отсюда, возьмемся за руки и выйдем на улицу, весь город обойдем, а после уедем куда-нибудь, как делали в юности, только тогда мы видели лишь друг друга, а теперь мы станем глядеть вокруг во все глаза, и все будет нам внове: новые люди и новые места, новые дни и ночи… Нет, ты заблуждаешься на мой счет, все это я говорю всерьез; поверь, я здорова, я снова живу, и все при мне — ноги, бедра и груди, я женщина из женщин, и я хочу с тобой спать, хочу любить тебя и раствориться в тебе, в твоем нескладном, большом, тяжелом, чудесном теле. Иди же ко мне, любимый, поцелуй меня, обними…
Он не смотрел на нее, он закрыл глаза и отдался мечте, страшной, дикой мечте, отчаянной мольбе о несбыточном. Помоги мне, Боже, взмолился он про себя, и руки его вслепую зашарили под одеялом, а губы разомкнулись и приникли к ее губам. И тут же все кончилось. Острой, колючей кости коснулась его рука, и казалось, смертоносный груз вновь раздавил ее тело: белое пламя боли прожгло ее всю, губы ее раскрылись кровавой раной и слабый их поцелуй опалил его горячечным жаром. Она боролась с собой, боясь разрыдаться, но, когда у него наконец достало мужества взглянуть ей в лицо, она вновь обласкала его улыбкой и запустила пальцы в его волосы.
— Ты чуточку неловок, милый, — сказала она и снова растрепала его, — ты сделал мне больно, нет, не очень, самую малость, но какое счастье ощутить боль, снова стать живым человеком. А теперь идем. Нет, не так, милый, я не хочу ехать в кресле, хочу ходить, так возьми же меня на руки и пронеси сквозь комнаты, как, помнится, ты сделал однажды, в тот самый-самый первый раз…
Она обвила рукой его шею, и он поднял ее с кресла и, осторожно переступив порог, внес в комнату. День был в разгаре, солнце уже стояло над деревьями парка, вдали шумел ветер, и плечи ее легонько вздрагивали, плачет, подумал он, надо утешить ее, глядеть ей в глаза, говорить с ней. Но лица ее он не видел и лишь спустя мгновение с изумлением понял, что она не плакала, а смеялась, беззвучно смеялась, как солнце, которое резвилось в комнате, повсюду рассыпая мимолетные свои дары: у ног его на полу плясали блики, длинные крылья света рдели над хаосом книжных полок, над стаей книжных корешков, над огромной картиной с ее великолепием чистых красок. Странно, он впервые видел все это, странно, что прежде не знал ни вещей своих, ни книг, ни картин и только сейчас, в этот миг, они обрели в его глазах жизнь, зримый облик… и в тот же миг он почувствовал, как тает живая ноша в его руках, все легче и легче становилась она — и разняла его руки, и высвободилась из объятий, и побежала по полу, которого не было, сквозь стены, которых не было, среди отражений мертвых вещей, которые распадались на глазах, превращаясь в свет — свет, и пламя, и воздух. Он знал: мгновение — и все исчезнет, он знал, он чувствовал — снова вскипит волна и сметет эту бесплотную комнату, этот смех, эти светлые нити, протянутые над невидимыми пропастями и безднами, с тьмой примиряющие тьму, но тут же подумал: какая важность, миг этот и есть моя жизнь, моя участь. Только он это подумал, как все мертвые вещи вернулись и комната приняла прежний вид, а он стоял, где и был, шатаясь под бременем столь тяжким, что никто не в силах его снести. Он торопливо огляделся в поисках места, куда бы опуститься со своей ношей, и рухнул на стул, из последних сил — последних сил и души, и тела — стараясь спасти Хелену от боли, удержать ее на руках. Тут наконец он дал волю рыданиям.
Он рыдал, как дитя — слабое человеческое существо, пропащая, но вольная душа, — долго-долго рыдал, и Хелена, сомкнув вокруг него прозрачные руки, вознесла его к чистым, светлым высям печали.
Примечания
1
«Стой!» (нем.)
(обратно)2
Гиперестезия — повышенная кожная чувствительность. — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)3
Верю, потому что нелепо (лат.).
(обратно)4
Из ничего ничто (не происходит) (лат.).
(обратно)5
«Господи помилуй» (греч.) — одна из частей мессы.
(обратно)6
Смотритель (англ.)
(обратно)7
Вы совершенно правы, господин директор Блом. Я испортил все дело (нем.).
(обратно)8
Но вы совершенно правы, леди, нам очень скоро придется заговорить по-английски (англ.).
(обратно)9
Гитлер обречен (англ.).
(обратно)10
День Победы не за горами (англ.).
(обратно)11
«Боже, храни короля» (англ.) — гимн Великобритании.
(обратно)12
«Звезды и полосы» (англ.) — государственный флаг США, здесь: название гимна США.
(обратно)13
«День гнева» (лег.) — начало средневекового церковного гимна.
(обратно)14
«День славы настал» (франц.) — строка из «Марсельезы».
(обратно)15
Плавать по морю необходимо, жить нет необходимости (лат.) — известное латинское изречение.
(обратно)16
Злоупотребление алкоголем (лат.).
(обратно)17
Юношеское умопомешательство (лат.).
(обратно)18
Параноидное умопомешательство (лат.).
(обратно)19
Разве это не религиозное чувство? (англ.)
(обратно)20
Остановись, мгновенье, ты прекрасно (нем.) — крылатое выражение из «Фауста» И.-В. Гете.
(обратно)21
Настоящий мужчина жаждет опасности игры… (нем.) — слова из произведения Фр. Ницше «Так говорил Заратустра».
(обратно)22
Прерванного полового акта (лат.).
(обратно)23
Строка из песни на стихи Р. Киплинга «Мандалай». Перевод В. Потаповой.
(обратно)24
«3намена ввысь, ряды тесней сомкните…» (нем.) — строка из фашистской «Песни Хорста Весселя».
(обратно)25
«…в поход, в поход на Англию…» (нем.) — слова из солдатской песни.
(обратно)26
Сейчас игра слишком опасна (англ.).
(обратно)27
Я позвоню господину Мантойфелю, он мой близкий друг. Ах, вы не знаете Мантойфеля? Так вы с ним познакомитесь! Что, вы смеетесь? Скоро вы перестанете смеяться! (нем.)
(обратно)28
Ловкость рук и никакого мошенства (букв.: Никакого колдовства, одна только ловкость) (нем.) — старинная формула бродячих немецких фокусников.
(обратно)29
Настоящее выдержанное шотландское виски (англ.).
(обратно)30
Болезнь сердца (лат.).
(обратно)31
Букв.: «вода жизни», жизненная влага, живая вода. (франц.)
(обратно)32
В меру (лат,).
(обратно)33
Мне тоже нужна такая вещица (нем.).
(обратно)34
Ausweis (нем.) — удостоверение личности, пропуск.
(обратно)35
неужели вы не понимаете, что я… (нем.)
(обратно)36
Что? Не знаете… (нем.)
(обратно)37
Незнакомы… (нем.)
(обратно)38
Но это же бессмысленно, это вообще ни к чему… (нем.)
(обратно)39
Большое спасибо… ну так, в путь, поехали дальше (нем.).
(обратно)40
Понятия не имею… (нем.)
(обратно)41
Menschenschreck — страхолюд (нем.).
(обратно)42
Очень устал (нем., англ., франц.).
(обратно)43
Концлагерь в Дании в период немецкой оккупации.
(обратно)44
Мама… мама… (нем.)
(обратно)45
Тихо! (англ.)
(обратно)46
Здесъ: Вот он я! (франц.)
(обратно)47
оружию (франц.).
(обратно)48
Никакой войны нет… (франц., нем., англ.)
(обратно)49
«Дания обеспечит нас продуктами» (англ.).
(обратно)50
Золотой молодежи (франц.)
(обратно)51
в этом году война исключена (англ.).
(обратно)52
Удар подготовлен (франц.).
(обратно)53
Немецкое приветствие, соответствует русскому «Бог в помощь».
(обратно)54
Целую вашу ручку, мадам… Что ты выделываешь своим коленом, маленький Ханс… (нем.)
(обратно)55
Целую вашу ручку, мадам… Сегодня ночью или никогда… Я не верю больше ни одной женщине… (нем.)
(обратно)
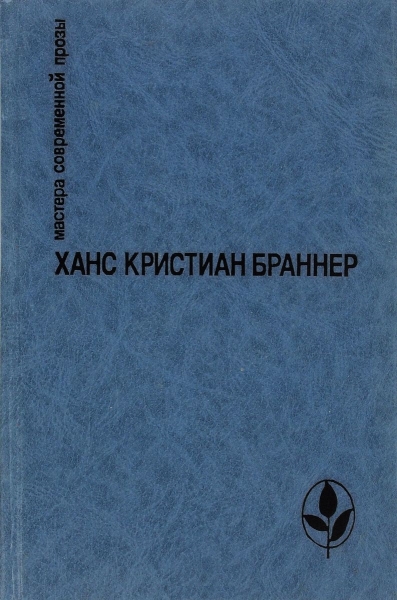
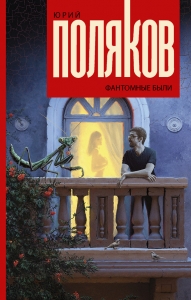
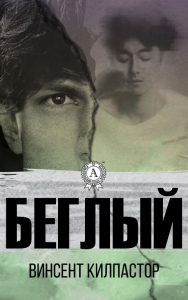




Комментарии к книге «Никто не знает ночи. Рассказы», Ханс Кристиан Браннер
Всего 0 комментариев