Ирина Кедрова Жизненный круг
© Кедрова И. Н., 2016
© Московская городская организация Союза писателей России, 2016
© НП «Литературная Республика», 2016
Вступление
Перед тобой, дорогой читатель, роман, в котором раскрывается жизнь обычной семьи, жизнь длиной в полвека и в три поколения, тесно связанная, как у всех, с событиями, которые происходили в нашей стране.
И мне очень важно, прежде чем ты, дорогой читатель, начнешь путешествие по книге, познакомить тебя с откликом на роман, данный в письме дорогого моему сердцу человека – Наума Циписа[1], который мне написал:
«Герои романа – живые люди (мне даже показалось, что многие списаны с Ваших родственников…); форма – Вам удалось осилить такой большой внутренний монолог, который и есть книга, и отсюда её приближение к читающему – Вы превратили действующих лиц в близких читателю людей.
Прекрасный – ясный выразительный язык, язык который не мешает читателю идти рядом с Вашими симпатичными героями. Вы возвращаете и возвращаете к истокам, и поворачиваете жизнь, которая проходит тяжелым и прекрасным кругом, многими гранями: мы смотрим на неё то глазами бабушки-дедушки, то дочери-зятя, то внука-внучки, то людей, пришедших в эту семью, а то и ещё не родившегося будущего героя… Это сама жизнь. И Вам удалось «уговорить» её жить на страницах этой теплой книги.
Да, откуда у москвички такое нутряное проникновение в действительность деревни? Язык, быт, поведение… А уж отношение «полов»… – по описанию этого тончайшего, а на самом деле естественнейшего «предмета-действа» можно судить о гроссмейстерском балле писателя. Тут Вы просто замечательны. И высоки, и смелы.
Много языковых находок, и немало – жизненных. У Вас богатая жизнь и хороший глаз. Чувствуете… Чувствуете, как должна, обязанная природой женщина, и женщина, «обязанная» талантом…
Теперь мне выпала карта сказать Вам читательское спасибо за ровную человеческую книгу, которую Вы сказали, нигде не ослабив напряжения и не допустив ни грана литературщины. Так редки сегодня нормальные сердечные книги. И, в частности: поклон за такое проникновение в мужскую психологию и за раскрытие некоторых тайн женской.
Поздравляю Вас с «Жизненным кругом», который Вы достойно прошли!»
Всем бедам вопреки
Нюра, женщина веселая и энергичная, переживала трудные дни. Она лежала на больничной койке в ожидании операции. Не то, чтобы боялась. Нет, она всегда доверяла врачам. Если сказали: надо делать операцию – значит, надо. Да и сама понимала: видит все хуже и хуже, на глаз наплывает белесая пелена. В сердце поселился страх: что она станет делать, коли ослепнет?
Привыкшая во всем быть самостоятельной, Нюра не позволяла себе опираться на чью-то помощь. Да и некому помогать. Она не была одинокой, но во всем надеялась лишь на себя. Сейчас же лежала на кровати и вспоминала свою жизнь.
В далеком селе, раскинувшемся на маленькой речушке под Калугой, прошло ее трудное детство. Село свое, с гордым названием Высокое, Нюра любила всем сердцем. И дом, укрытый в саду на высокой горе. И речку, бегущую под горой. Выйдешь за калитку, пробежишься с горы и плюхнешься в прохладную воду. Плывешь в быстрой реке и ощущаешь себя ее любимицей: ласкова к ней река! Только плавать некогда, детство-то проходило в военные годы. Отец на фронт ушел, да не вернулся.
Мать тащила на себе огромную семью, домашнюю нищету, колхозные неудачи. И не хватало у нее времени слово доброе сказать Нюре, не то, чтобы посидеть с ней, послушать переживания дочери, сильно нуждавшейся в любви и ласке. Мать любила ее. Конечно, любила, но сама жила, будто загнанная лошадь, не замечая дочерней тоски. Впрочем, наверное, Нюра не права. Просто ее тоска по ласке вырастала в огромные размеры и не позволяла понять мать с ее жизненными тяготами.
Как бы там ни было, к десяти годам Нюра узнала взрослый труд: мужиков-то в селе почти не осталось, а бабам не хватало рук, чтобы все колхозные дела переделать. Вот и приходилось детям стоять на подмоге: кур да коров колхозных кормить, лошадь с телегой сопровождать, даже на лесозаготовках работать. А уж домашние дела все на ней, да на старшей сестре Тамаре лежали.
Лет в шестнадцать Нюра, яркая девушка с пышными, соблазнительными формами, привлекла внимание Николая, парня с соседнего проулка. Однажды тот подхватил ее и утащил в колхозный амбар. Решительно проскочил по ее телу руками, и от этих прикосновений сквозь Нюру промчалась волнующая дрожь. Даже испугалась – что он сейчас сделает? Но и обрадовалась: Николай – видный парень, на которого все девки в селе заглядываются. Поймать его, окольцевать – многие хотели бы. А он ее, Нюру, углядел и выделил из всех.
– Ты, Нюра, запомни: моей будешь. Сейчас тебя не трону. Не хочу, чтоб имя твое порочили. Пусть по-человечески будет: законной женой в мой дом войдешь, когда из армии вернусь.
Скоро после этих слов Николай ушел в армию, оттуда писал ей письма – обстоятельные, подробные, будто дело меж ними решенное, и она ждет его как верная жена. Она и ждала, мечтала: войдет он в дом, подхватит ее на руки и пронесет через все село в свою жизнь. Разговоры по селу, конечно, велись, и всякие. Подружки завидовали: такого парня захомутала.
– Как он тебя, Нюрка, прижимал? Не сломал? – хихикала одна.
– Да разве ее сломаешь? Она сама его сломает, – подхватывала другая.
– Ну, девки, жмет он сильно. Я на себе проверила, – зло шутила третья.
Нюра молчала. Что им скажешь? Завидуют, ну и пусть. Николай-то ей пишет, ей сказал: «Женой войдешь в мой дом». Надо ждать, и работать.
А работы в колхозе много: хочешь, в поле с утра до вечера спину гни, хочешь, в коровнике грязь вози, да буренок от голода спасай. Нюра кур выбрала, птичницей стала. Раным-рано бежала к курочкам-хохлаточкам: почистить, помыть, накормить. У каждой курицы – свой характер, но каждая из них ждет-поджидает петуха. Так и Нюра ждет Николая – своего, единственного. Три года быстро проскочили, вернулся солдат из армии, поженились они и вскорости уехали из села на поиски городского счастья.
Ох, и тяжко привыкала Нюра к городу. Нет здесь огромных просторов. В селе из ее дома далеко вдаль видно: поля широкие, речка змеей извивается, лес зеленью поля окаймляет. Где-то слышатся призывные гудки паровозов, зовущие в далекие края. А здесь многоэтажные дома и тесные улицы, народ по этим улицам как заводной носится. Нет, ее бы выбор – ни за что из села не уехала б, да Николай сказал:
– Мы, Нюрок, в городе жить будем. Меня в стройконтору зовут. Руки и голова на плечах есть. Проживем. Там уборная в доме и ванна, магазины на каждой улице. В парках гулять станем, в театры ходить. Не все же колхозный навоз таскать.
– Страшно, Коля, там чужие люди живут.
– И что? Меньше сплетен будет. Здесь-то, поди, все косточки перемоют, живешь, как на улице: все о тебе знают, обо всем судят. А там тебя Анной Васильевной звать будут, уважать станут.
– Да разве меня здесь не уважают?
– Уедешь – сильнее зауважают. И вообще, кто у нас хозяин? Сказал – едем, и едем.
В городе пристроились в общежитии. Комнатка маленькая, неудобная. Одна радость – в соседних комнатах обитают такие же деревенские, как Нюра с Николаем: за городским счастьем приехали. Нюра быстро подружилась с соседями, на работу вышла в ту же стройконтору: Коля – строителем, она – учетчицей. Через три года квартиру получили – в пятиэтажке на Заречной улице. Две комнаты показались чудесным дворцом. Соседи теперь не рядом, а через лестничную клетку. Кухня своя, и ванная, и туалет.
Нюра чистила и мыла свой дворец, а скоро принесла в него Людочку. Родилась дочка, и свет внесла в дом. Помня, как не хватало ей самой материнского внимания, она окружила малышку заботой и лаской. Коля так и сказал:
– Ты теперь, Нюрок, дома сиди. Я на семью завсегда заработаю.
И, действительно, зарабатывал, ни от чего не отказывался.
Домой приходил поздно, согласный на разные смены. Бригадиром стал. Люди к нему прислушивались, уважали. А Нюра по дому хозяйничала: чисто в нем и уютно. А еще она хорошо шила, шитье давало семье дополнительные средства. Поначалу к ней только соседки приходили: кофточку, платьице простое скроить. Через них появились клиентки, побогаче соседок, любящие «современную линию моды». Пришлось основательно освоить рукоделье. Нюра на курсы пошла, научилась шить как профессиональная портниха. Однако первой заботой оставались Людочка, Коля и дом.
Дочка росла красавицей-умницей: ласковая, заботливая, покладистая, первая помощница матери. Когда родился Гена, она радостно приняла на себя роль старшей сестры. Два года между ними разницы, а кажется, что больше. Люда – ответственная, серьезная, в школе на нее не нахвалятся. Гена – капризный, поминутно требующий родительского внимания. Если игрушку не купишь, сразу на пол бросается, в магазине – дома ли, и в рев: «Купи, купи!». Перед людьми стыдно. В школе на него постоянно жаловались: неусидчивый, лентяй. Хоть туда не ходи – одни жалобы на сына. Нюра и не ходила, отправляла в школу Николая.
– Ты – отец, – убеждала мужа, – с тобой учительница спокойней говорить станет.
И тот не сопротивлялся, в школу ходил: о любимице своей, Людочке, радостно похвалу учительскую слушал, о гордости своей, Геннадии, с учителями советовался, как того дома воспитывать. А еще в свободное время с детьми играл. Во что? В домино и карты, хоть и говорили учителя, что такие игры детям не подходят. Не верил им Николай и так рассуждал:
– Я играл, и дураком не вырос.
Еще любил с детьми на лыжах побегать, да в снежки покидаться.
Летом же ездили всей семьей на родину – в село Высокое. Привозили туда городские подарки и сладости. Увозили картошку и садово-огородное богатство. Засолить, замариновать – в этом Нюре не было равных: весь год потом питались, да родительский дом добром вспоминали.
Нюра по селу ходила гордая – себя и детей показывала, рассказывала о своей жизни так, что односельчане в зависти губу прикусывали: «ишь, как Нюрка устроилась!». Только никому не говорила: ее бы воля, вернулась в село – к родной березке у дома, к речке – подружке ее детской, к лесу с высокими деревьями, с грибами и ягодами, с тайными тропами. Николай же быстро освоился в городе, считая, что выбился в люди благодаря городской жизни и своему упорству. Постепенно и Нюра смирилась, привыкла, почитая за благо летом на недельку-другую окунуться в сельскую жизнь, набраться душевных сил, чтобы снова и снова выдерживать городскую маету.
Все у них шло хорошо. Конечно, бывали неприятности. Николай – обычно спокойный и добрый, иногда загуливал с друзьями. Приходилось тогда Нюре с детьми бежать из дома, потому что пьяный муж менялся совершенно, становясь несдержанным и грубым, грозя ей и детям, что всех поставит на место, крича, что они висят у него на шее и не ценят этого, требуя, чтобы его уважали. Людочка в такие минуты кидалась на пьяного отца, стараясь прикрыть мать от его ударов своим малым тельцем. Гена затихал, в глазах его помещался страх, который потом прорывался в нервном тике в уголках губ. Нюра собирала детей и бежала из дома, бродила по улицам, смотрела на окна квартиры в надежде, что выключится свет, и тогда они смогут вернуться. Иной раз он закрывал входную дверь, и приходилось ломать дверной замок. Благо: соседи знали Николаевы причуды и, сочувствуя Нюре, помогали ей проникнуть в квартиру. На утро муж с виноватым видом чинил разбитую дверь или сломанный замок, просил прощения. Несколько дней затем старался во всем угодить жене, всем своим видом показывая, что осознал и исправился. Он и в самом деле исправлялся, долгое время не пил. Жизнь налаживалась до следующего раза.
Однажды Нюра не выдержала, собрала детей, да уехала к матери. Николай приехал за ней через неделю, просил-умолял вернуться. Мать ей тогда сказала:
– У тебя дети, одна их не подымешь. А бегать в поисках нового мужа у нас не принято. Терпи, девка, сама выбрала.
Мать ворчала и сердилась бесконечно, так что Нюра быстро поняла: пора уезжать. И вернулась домой, поразмыслив: Николай – муж хозяйственный, любит детей, о ней заботится. А что пьет иногда, так кто сейчас не пьет? Надо же мужику расслабиться от тяжкой жизни?
Так и жили, пока не пришло нежданное горе.
Как-то утром Николай не смог подняться с постели: его сильное тело не шевелилось, а потом он и вовсе потерял сознание. Вызвали «скорую», которая сразу же увезла его в больницу, где равнодушная женщина в белом халате холодно констатировала: «Инсульт».
– Жить будет? – с надеждой спросила Нюра.
– Кто знает? Может, и выкарабкается, – помолчав, добавила, – будет парализованным лежать – намаетесь.
Николая положили в конце больничного коридора, чтобы, как сказала все та же равнодушная врач, «умирающий не травмировал живых больных». Только больным все равно приходилось ходить мимо умирающего. Быстро, как от чумы, старались они проскочить мимо кровати, на которой лежал, не приходя в сознание, мужчина, мимо сидящей рядом с ним, тихо плачущей, женщины. Никто из медиков не подходил, и когда Нюра звала их, требуя спасти мужа, ей отвечали:
– Что вы, милая, не видите? У него уже пятна по телу пошли, часа через три умрет.
– Зачем вы такое при нем говорите? Он же все слышит! – непонимающе спрашивала Нюра.
– Ничего он уже не слышит, – отвечали ей. – Поймите: мы здесь бессильны.
Говорили и равнодушно уходили, не пытаясь помочь. Нюра сама бы вытащила Николая из лап смерти, только не знала, как это сделать. Лежал он, ее сильный, здоровый на вид муж под легкой простыней, голый и мокрый от испражнений. Надо было сменить белье, да никто этого делать не хотел. «Ему все равно, как лежать. Вам надо – вы и меняйте», – говорили медсестры. Людочка, отодвинув от кровати плачущую мать, взяла в руки чистую простынь:
– Сейчас сменим, мамуля, ты только помоги.
Дочь быстро, хоть и неумело, сдвинула отца, повернула его на бок, положила простынь на кровать, деловито перестелила постель. «Откуда она это умеет?» – подумала Нюра. Спустя несколько минут Николай лежал на чистой простыне. Нюре даже показалось, что он вздохнул от облегчения.
– Милый, родной, Коленька, – шептала она мужу, – не оставляй меня. Как жить я без тебя буду? Как ребят растить?
Ничего не ответил Коля, ушел из жизни, не взглянув на нее. В какой-то момент задышал так, словно не хватает ему воздуха, потом сильно вздохнул и, передернувшись, жизнь из себя вытолкнул.
– Коля, – закричала Нюра, схватила его за руку, затрясла за плечо. Обернулась и увидела испуганные глаза дочери. Людочка обняла ее:
– Мама, мамочка, не плачь! – зашептала. – Я с тобой, мама.
Слезы лились из глаз, остановить их невозможно, однако рядом стояла дочь, напуганная смертью отца. Нельзя напугать девочку еще и материнским криком. Сжалась Нюра, застыла. Пережила похороны мужа. Еще сорока ей не было, когда вдовой стала.
– Что ж? Видно, доля наша такая, – сказала ей мать. – Я пережила гибель мужа. У меня вас четверо осталось. Надо было выжить, и выжила. Ты тоже сдюжишь.
– Как жить, мама? Я без Николая душу потеряла. На что детей кормить, одевать? Им учиться надо. Я же все эти годы не работала.
– К нам возвращайся, в колхозе руки нужны. Ты работящая, здесь тебе помогут. Братья и сестра поддержат. Дом большой, в нем хозяйка нужна. Я-то старая. И могилка Колина рядом.
Конечно, Нюра бы вернулась, да дети в городе учатся. Гене школу менять нельзя: трудно ему к новым учителям и ребятам привыкать. Люда в техникуме: ее одну не оставишь. Да и село опустело: молодежь в город перебиралась, одни старики остались. Нет, нельзя уезжать с насиженного места.
Вернулась Нюра домой. Устроилась на работу – уборщицей в школу. Зарплата небольшая, да сын под присмотром. Чтобы свободного времени для тяжких мыслей не появлялось, много работала. Через полгода стала школьным завхозом. Работы невпроворот: то мебель доставай, то стекла в окна вставляй, то кабинетное оборудование приобрети. Люди хорошие рядом с ней оказались, поддерживали, помогали Гену поднимать.
После школы сын в медицинское училище поступил, за ним следом и Нюра туда завхозом устроилась. Учеба ли в училище, ранняя ли потеря отца, а может и то, и другое изменили сына. Он повзрослел, стал серьезным, по вечерам подрабатывал в «скорой помощи». «Жаль, – думала Нюра, – Коля его не видит. Он бы гордился сыном».
Вдовьи годы тянутся еле-еле, но и мчатся с огромной скоростью. Незаметно менялась жизнь. Гена в армии отслужил, вернувшись, поступил в институт.
– Хочу, мама, врачом стать, людей от смерти спасать, – сказал он ей о принятом решении.
Что ж? Дело хорошее. До сих пор Нюра помнит равнодушие тех врачей, которые мужа ее не спасли. Впрочем, вера в хороших врачей у нее сохранилась: это ей не повезло, не в ту больницу мужа отвезла, а вообще-то врачи – люди нужные. Уважение к ним усиливалось, поскольку теперь и сын учился на врача.
Людмила после техникума работала бухгалтером на заводе, замуж вышла. Ох, не нравился Нюре дочкин муж. Ненадежный какой-то: штаны узкие, волосы длинные, речи странные, к старшим никакого уважения. Однако надо считаться с выбором дочери. Побывала Люда замужем недолго – года два, и однажды вернулась в родной дом.
– Не хочу жить с ним: он о себе думает больше, чем о семье, – сухо объяснила свое возвращение.
Нюра расспрашивать не стала: пусть дочь сама решает свою судьбу. Одно ее мучило: Людочка ребенка ждала. Как без мужа дитя растить? Впрочем, сейчас женщины такие самостоятельные, не хотят терпеть обиды. А обида, видно, у дочери сильная: не может она простить мужнюю измену. Кто их, молодых, разберет?
У них с Колей измен не было. Она так воспитана: вышла замуж и все. Нравится, не нравится – терпи, приспосабливайся. Николай был мужчиной обстоятельным, гордился семьей и женой. Были женщины, глядевшие на него с интересом, а он верным оказался. «Ах, Коля, Коля! Как же мне плохо без тебя. И совет твой нужен, и поддержка. Может, смотришь на нас сверху и видишь, как трудно мне, да помочь не можешь?». Эти мысли, как ни странно, успокаивали, давали веру, что она не одна, близкий и нужный человек находится рядом, только прийти к ней не может. Все же так думать гораздо легче, чем представлять себе тело мужа, разъеденное в могиле червями. Об этом даже думать себе запрещала. С годами стала она преувеличивать достоинства мужа: вспоминала только хорошее, и в ее воспоминаниях Николай был самым лучшим, самым умным и добрым. Таких больше нет, быть не может! Понятно, почему дочь не смогла ужиться с каким-то сопливым, безответственным мальчишкой.
В маленькой двухкомнатной квартире тесновато стало. У Гены – комната. Ему, студенту, нужно отдельное пространство: и отдыхать, и к экзаменам готовиться. Иногда в доме собирались его сокурсники. Шум, смех, непонятно скрипучая музыка неслись по квартире. Нюра не мешала: надо же молодежи где-то собираться, не в подъездах же стоять. Высматривала среди Гениных подружек подходящую для него. Но нет. Они все громкоголосые, курящие, резкие. Не о такой невестке ей мечталось.
В большой комнате обитали мать и дочь. Тесно, а надо еще кроватку малыша поставить. Никак Нюра не могла придумать лучший способ размещения семьи. Может, уехать ей в Высокое? Там жила старенькая мать с Тамарой. Братья разлетелись по стране: один живет где-то на Юге, другой – в Сибири. Никогда Нюра у них не была. Хотелось бы братьев повидать, да больно далеко к ним ехать, и дорого. «Ничего, – думала, – подкоплю денег и съезжу». Только никак не могла подкопить. А в Высокое бы надо перебраться: за матерью ухаживать, сестре в хозяйстве помочь, детям квартиру освободить.
Еще она надеялась, что Люда примирится с мужем. Дмитрий последние дни звонит ей, несколько раз приходил, уговаривал вернуться. Надо бы подсказать дочери, как тяжко жить с ребенком без отца. Мужчина в семье нужен. Ой, как нужен! Отец ребенку необходим! Если она в этом дочь убедит, та вернется к мужу, и тогда решится вопрос с квартирой. Только не во вред ли это Людочке? Так думала, и мучилась, и сомневалась Нюра. С этими переживаниями подошла к новому важному событию.
– Ой, мама, – позвонила дочь ей на работу, – у меня, кажется, роды начались. Все болит.
– Ты одна дома? – волнуясь, спросила Нюра.
– А с кем же?
– Гена вернулся?
– Нет, еще не пришел.
– Позвони Мите.
– Не стану, его это не касается.
– Ладно, успокойся, я сейчас приеду. Если будет сильная боль, вызывай «скорую».
– Ой, как больно! – закричала в трубку дочь.
Нюра бросилась домой. Когда примчалась, соседка встретила ее у двери:
– Нюра, а «скорая» только что уехала. Ты не волнуйся, Люда улыбалась, сказала, что все нормально. Муж ее приехал, с ней в роддом отправился.
– Куда, не сказал?
– Сказал, что тебе позвонит.
Нюра ждала. Нервничала. Почему? Соседка ее успокаивала. Что может случиться? Все женщины рожают. Теперь от родов не умирают. Через час позвонил Дмитрий:
– Анна Васильевна, Люда во втором роддоме. Там, я слышал, врачи хорошие. Они сказали, что роды будут долгими. Будем ждать. Я вам еще позвоню.
Пришел Гена. Увидев беспокойство матери, посмеялся:
– Мамуля, ты двоих родила и не померла. Людка наша – крепкая, выдержит.
Ночью позвонил Дмитрий:
– Анна Васильевна, внук у вас родился. Большой – четыре двести. Утром поеду – все узнаю.
– Мальчик? Как хорошо! – обрадовалась Нюра и тут же вспомнила, – Митя, у Люды сегодня день рождения! Я тоже поеду. Может, увидим ее в окошко? На каком этаже она лежит, ты не знаешь?
– Она в десятой палате. Я и забыл про день рождения. Вернется – отпразднуем. Надо же: экономия какая – сразу два дня рождения справим!
Рано утром Нюра приехала в роддом. Тишина стояла в приемном покое, посетителей еще не было. С трудом дождалась, когда открылось справочное окно.
– Девушка, как Люда Воронкова из десятой палаты?
– Воронкова из десятой? – переспросила медсестра. – В десятой Воронковой нет.
– Как нет? Посмотрите внимательнее. Она вчера поступила, ночью мальчика родила.
Медсестра отвела взгляд от регистрационного журнала, подняла голову, мельком глянула на Нюру.
– Подождите немного, я сейчас узнаю, – сказала медсестра, закрыла окно и ушла.
Долго не возвращалась. Нюра с нетерпением ждала. У окошка собралась очередь.
– Справочная давно должна работать. Есть здесь кто-нибудь? – возмущались вынужденным ожиданием родственники народившихся малышей.
Наконец в приемную вышел врач и спросил:
– Кто здесь к Воронковой?
– Я – сорвалась с места Нюра.
– Пройдемте, пожалуйста, со мной, – врач показал рукой к двери, на которую все посмотрели с надеждой, а на нее, Нюру, с завистью.
– Видно, своя, сейчас ей ребенка покажут. А нам нельзя пройти? – нашелся один, молодой и веселый мужчина.
– Подождите у справочного окна. Оно скоро откроется, – строго ответил врач и слегка подтолкнул оробевшую Нюру к двери.
Они прошли в небольшой кабинет.
– Садитесь, – сказал врач, и долго молчал, перебирая на столе листы бумаги, затем продолжил, – Людмила Николаевна Воронкова. Роды были трудными, ребенок крупный. Мы старались избежать множественных разрывов. Не удалось. Пытались остановить кровотечение. К сожалению, у вашей дочери плохая свертываемость крови.
Врач замолчал. Нюра пыталась понять, что сказал врач. Тяжелые роды, крупный ребенок, у Люды кровотечение, которое трудно остановить.
– Вы его остановили? – спросила она.
– Мы сделали все, что необходимо.
– И что же?
– К сожалению, – врач громко вздохнул, – иногда медицина бессильна.
– Что с моей дочерью? – не понимала Нюра.
Врач молчал.
– Что с Людой? Я могу с ней поговорить, увидеть ее?
– Увидеть можете, только не сегодня.
– А поговорить?
– Ее больше нет, – глухо ответил врач.
– Как нет? Где она? – все еще не понимала Нюра.
– Вы одна приехали?
– Да, но сейчас придет муж Люды, он обещал.
– Как его зовут?
– Воронков Дмитрий Сергеевич.
Врач позвонил по телефону в приемный покой:
– Зиночка, нет ли среди посетителей Воронкова Дмитрия Сергеевича? Проведите его сюда.
Наступила тишина. И в этой мертвой тишине Нюра поняла, что не зря ее пригласили в кабинет и позвали дочкиного мужа. Она вспомнила: врач говорил о бессилии медицины. Все поплыло перед глазами. В кабинет вошел Дмитрий.
– Анна Васильевна, что с вами? – слегка усмехнулся он.
– Присядьте, – прервал его врач, – я должен вам сообщить, что ваша жена – Воронкова Людмила Николаевна – сегодня утром скончалась от множественных разрывов, приведших к кровотечению. Тело вы можете получить через два дня. Надо провести вскрытие, чтобы точно установить причину смерти. Я глубоко сожалею. Все необходимые документы мы подготовим. Малыш родился крепким. У него все в порядке. Его можно выписать через пять дней.
Врач замолчал. Он ничего больше не мог сказать этим людям, получившим страшное известие, омрачившее великую радость рождения в семье человека. Он знал: теперь, наверняка, родственники станут выяснять причину смерти, искать виновных, судиться с роддомом. Он лично старался помочь молодой женщине и ругал себя за беспомощность. Женщина хотела жить, терпеливо пересиливая боль, однако тяжелые роды закончились трагедией. Малыш жив. Спит сейчас, устав от сложного пути в людской мир, и не подозревает, что нет в этом мире мамы – самой нужной и любящей. Сидит перед врачом его бабушка – молодая и, по всей видимости, сильная характером, жизнестойкая женщина.
– Вам теперь внука надо поднимать. Хотите его увидеть? – спросил врач.
– Да, – автоматически, не понимая, о чем речь, ответила Нюра, – где он? Ты пойдешь? – обратилась она к Мите, будто выбираясь из глубокого и тяжелого сна.
Тот кивнул в ответ. Врач попросил их надеть белые халаты и повел на второй этаж. Утренняя тишина сменялась отдельными женскими или детскими вскриками, медсестры пробегали мимо с озабоченными или веселыми лицами. Они зашли в какой-то кабинет.
– Подождите здесь, – сказал врач и вышел.
Кабинет производил тягостное впечатление: давно не крашенные стены и потолок, в углу протечка, свидетельство нищенского существования роддома. Смотреть на это тоскливо, во всем ощущалась какая-то безнадежность. Через несколько минут в кабинет вошла медсестра с ребенком на руках и протянула Нюре живой сверток.
– Вот ваш малыш. Как его назовем?
– Женей, – ответила Нюра и, посмотрев на Митю, добавила, – Людочка это имя выбрала. Ты согласен?
– Евгений, значит, – подтвердил Митя, нагнувшись над ребенком.
– Вы не волнуйтесь, – сказала медсестра, – я за ним присмотрю. Мальчик замечательный, ест хорошо. Поглядите, как сладко спит.
Нюра взяла Женю на руки. Слезы полились из глаз. Этот малыш навсегда отобрал у нее дочь. Нет, не малыш, это смерть колдует, уже второго человека забрала у нее. Нюра внимательно разглядывала мальчика: личиком напоминает Колю, такие же упрямые губы, наморщенный лобик. Вдруг тот открыл глаза, голубые, Людины глаза, зевнул и горестно заплакал. Будто жаловался бабушке, что остался один – никому не нужный. «Ну что ты, маленький? – Нюра прижала его к себе, – я ведь с тобой, Женечка!».
Горе у нее огромное, и все же надо собрать силы, спасти малыша, не дать ему остаться одному, одинокому и ненужному. Ради него, маленького мальчика, должна она теперь жить.
Проводила Нюра в последний путь дочку, следом за ней и мать – маленькую худую старушку. Росли на сельском кладбище бугорки могил ее близких. Часто приходила к ним Нюра: здесь Коля сколько уж лет лежит, а вот свежая могилка Людочки, а вот и мамина могилка. «Ах, мама, как мало мы с тобой говорили, как редко я к тебе приезжала, мама, – корит себя Нюра. – Всегда спешила, и не находила времени с тобой вдвоем посидеть».
А еще стала Нюра в церковь ходить. Постоит перед иконой Богоматери, попросит у нее: «Помоги, дай сил беду вынести». Молчала Богородица, грустно на нее глядя. Только почему-то от этого взгляда у Нюры легче становилось на сердце. Опасалась она: вдруг знакомые увидят ее у церкви. Не принято это – в церковь ходить. Сын с ней строго поговорил, убеждая, что бога нет, а потому не поможет.
– Ну что ты злишься, Гена? Кому я плохо делаю, что в церковь хожу?
– Себе, мама. Тебе жить надо, а не богу молиться.
– Я и живу, мне так легче.
– Да что же там, мама, за облегчение? Картинки на стене висят, а ты им веришь, – возмущался сын.
– Ты, Гена, уже взрослый, умный, только душою черств. Не тронь ты меня, – оборвала она его.
Гена насупился, долго не разговаривал. Непонятно ему, почему мать в религию «ударилась». Учили его, что бога нет, и все в жизни от самого человека зависит.
Одна радость у Нюры – Женя. С ним словно в молодость вернулась: будто она – молодая мама, а мальчик – сын ее, хоть и Людочкина частичка. Дмитрий как-то самоустранился, изредка вспоминая, что он – отец. Позвонит, спросит, как дела, и пропадет надолго. Деньги, правда, исправно присылал. В остальном все на Нюрины плечи легло.
Первый год очень трудным оказался: и работать надо, и Женечку одного дома не оставишь. Помогали соседки, иногда подружки Гены, которым за радость с малышом поиграть, а устав, домой сбежать. Участковый детский врач и медсестра Таня принимали сердобольное участие в их жизни: то заглянут проверить, не заболел ли ребенок, то витамины принесут. Нюра в поликлинику почти не ходила: врачи сами ее навещали. Рос Женя крепким малышом: и зубы у него вовремя вылезли, и ходить он рано стал. Ждала Нюра с нетерпением дня рождения внука, и тот наступил.
Печаль и радость одновременно. Рано утром Нюра поплакала, перебирая дочкины фотографии. Их немного, по самым важным событиям. Вот Людочка у бабушки в саду: любила девчушка в малинник забираться. Ищут ее бабушка и тетя Тамара, мать с ног сбивается, а та тихо сидит, малинку в рот набирает, радуется, что взрослые никак ее не найдут. Посидит так немного, потом выбирается из кустов малины и весело сообщает: «А я в кустах спряталась, а вы меня не видели!». Конечно, видели, однако почему не поиграть с ребенком?
Вот Людочка в первый класс идет. Очень она фартучком нарядным гордилась, портфелем большим, как у взрослых. Она всегда стремилась взрослой казаться. В классе лучшей ученицей была, на доске почета фотографию ее не снимали все школьные годы. А Нюре постоянно грамоты вручали за хорошее воспитание дочери.
Вот Люда – взрослая девушка. На мать похожа, такая же привлекательная, как Нюра в молодости. А характером в отца – командовать любила. Да и понятно: рано оставшись первой подмогой матери, брала на себя многие материнские заботы. И Нюра в юности такой же была.
Перебирает женщина фотографии, плачет, ругает судьбу, не давшую дочери жизнью насладиться, ребенка своего покачать да вырастить.
А тут и Женя проснулся, весело из кроватки кричит: «Мама, мама». Он ее то бабой зовет, то мамой. Не понимает малец, да чувствует, что должны быть рядом с ним и мама, и бабушка. Нюра не знает, как быть: пусть сам решает, как хочет, так и называет.
– Женечка, радость моя! Вставай, будем праздничать, – вытирает она слезы и протягивает руки к внуку.
И то сказать: у мальчика сегодня день рождения, целый год прожил на земле, ее радовал, а она слезами обливается. Неправильно это: мертвым – память, живым – жить надо, радоваться жизни! Закрутилась Нюра в радостно-грустном дне, отдавая себя бабушкиному счастью, принимая на себя материнские заботы. Плакать от горя она ночью будет, чтобы не омрачать внуку праздник.
Весь день кружится Нюра вокруг Жени. Костюмчик ему примерила, который сама сшила. Шьет теперь редко: и времени нет, и видит плохо – нитку в иголку никак вставить не может. Однако первый праздничный костюм внуку сшила. Ах, какой красавец – ее мальчик! Кудри вьются светлые, как у Люды в детстве, глаза голубые, доверчивые. Лопочет что-то. Как замечательно он говорит: «Бабу лубу»! Любит, значит, и она его тоже любит. Ради этого малыша живет.
Гена-то вырос, в ней теперь не нуждается, все больше с друзьями пропадает. Девушка у него появилась. Он пока ее в дом не приводил, только фотографию на письменный стол поставил. Ничего, симпатичная, да не о ней сегодня речь. Генка на свою стипендию подарил племяннику красную пластмассовую лошадь.
– Садись, пельмень, – так он его называет, – будешь наездником!
Пока сын и внук играют, бабушка готовит обед. Может, и Женин отец заглянет? Только подумала, как раздался телефонный звонок. Это Дмитрий:
– Анна Васильевна, здравствуйте! Я обязательно заеду Женю поздравить, только не сегодня.
– А что так? – недовольно спрашивает Нюра.
– Дела, Анна Васильевна. Пока, – он вешает трубку, даже не дождавшись ответа.
Ну что скажешь? Не очень-то нужен Дмитрию Женя. Видно, у него своя жизнь, отдельная от сына. Может, и лучше? Нюра страсть как боится, что Дмитрий однажды заберет у нее мальчика. Нет, она его так просто не отдаст, она биться за него будет! Дмитрий еще женится и народит себе детей, а Женечку пусть оставит ей. Для нее внук – память об утраченной дочери, смысл ее жизни! «Не отдам!», – проговорила Нюра, убеждая себя.
Эти размышления прервал дверной звонок. «Кто это еще? – гадает она, идя к двери. – Никого мы не ждем».
– Анна Васильевна, здравствуйте! – раздается за дверью веселый голос Танюши, медсестры из поликлиники. – Я Женечку проведать пришла.
Нюра открывает дверь, за которой стоит, словно натянутая струна, тоненькая девушка. Улыбается, протягивает ей букет гвоздик и говорит:
– Это вам, Анна Васильевна. Я подумала: у вас праздник, надо зайти, поздравить. А Женечке я подарок принесла. Можно пройти?
– Заходите, Таня, конечно. К праздничному столу подоспели. Гена, – позвала сына, – помоги гостье.
Из комнаты вышел Гена, ведя с собой неуверенно шагающего карапуза, приговаривая: «К нам тетя пришла. Ах, какая тетя к нам пришла!». Потом он выпрямился и обратился к Тане:
– Ну что же вы? Проходите, мы гостей любим.
Он провел девушку в комнату. Женя потянулся к Тане как к старой знакомой, а та достала из коробки машинку «скорой помощи» и произнесла:
– Вот тебе, малыш. Вырастешь, будем вместе работать на такой машине.
Женя деловито взял в руки игрушку, уселся на полу и стал ею стучать, призывая на помощь взрослых. Нюра, глядя на Таню, Гену и Женю, охнула: могли быть у мальчика мама и папа, любили бы они его крепко, а вот сложилось так, что в день рождения рядом с ребенком дядя и малознакомая тетя, а бабушка заменяет ему родителей. И она сделает все, что может, лишь бы малышу жилось хорошо.
Год для ребенка – важный рубеж. До сих пор он был только в окружении близких, теперь же пойдет в ясли. И не отдавала бы его Нюра, своих детей сама растила, но тогда у нее опора была, теперь ее опора – Гена, да не очень сын надежен. В училище, в котором Нюра по-прежнему работала, помогли устроить мальчика в хорошие ясли. А поскольку в доме всегда толпились студенты, внук, надеялась Нюра, легко войдет в новую, наполненную самостоятельностью, жизнь.
И в самом деле, Женя быстро привык к воспитательницам и к ребятам. Правда, первое время плакал, когда бабушка передавала его в руки заботливой няни, но, видя, что тетя эта – нестрашная и веселая, быстро успокаивался. Малыш, а понимает: надо здесь побыть, пока бабушки нет. Нравилось Нюре, что в яслях с детьми занимаются, играют, учат их. Хотя, конечно, немного обидно, что Женечка не одну ее любит, к другим людям тянется. И еще ей кажется, что он видит: у других ребят мамы – молодые, красивые, а у него – старая. Ах, годы бабьи, если бы можно было годочков десять сбросить! И старается Нюра быть веселой и молодой. Не для себя, для внука.
Иногда пробирает ее бабья тоска. У всех женщин есть надежный мужчина, а она – одна-одинешенька. Как нужно ей мужское участье, сильные руки, способные поддержать! Только не встретила больше никого! Николай живет в ней и не отпускает. Кому нужна баба за сорок, и с маленьким ребенком на руках? На роду ей, должно быть, написано: так жить.
Течет, спешит время. И вот уже Женя поступил в школу. Все идет по известному кругу. Зимой школьные проблемы одолевают, летом ездят они в Высокое. Здесь, на сельских просторах мальчик чувствует себя привольно: купается в прохладной реке, плавает лучше многих ребят, собирает в лесу грибы да ягоды. Грибник он замечательный: каждый гриб аккуратно срежет, уложит в лукошко.
– Бабушка, а мы грибы солить или варить будем? – основательно спрашивает он.
– И солить, и варить, – отвечает бабушка.
– А можно я тебе помогать буду? – задает внук очередной вопрос.
– Конечно, родной.
– Бабушка, пойдем в поход в лесную глушь? – развивает Женя новую тему.
– А ты не забоишься? – проверяет Нюра внука на храбрость.
– Нет, бабуль, я сильный, всех волков и медведей победю.
– Ну, раз победишь, – смеется Нюра, – обязательно пойдем!
Так и живут день за днем на природе и свободе. Осенью возвращаются в город – надо учиться. И в учебе внук радует.
– Бабушка, я пятерку по контрольной получил.
– Молодец, внучек!
– Бабуля, я больше математику люблю.
– Замечательно, умник ты мой!
Гордится Женечка своими школьными успехами, гордится ими и бабушка, а более всего внуку радуется.
– Ты мне книжку, бабушка, почитаешь? Я люблю слушать, когда ты читаешь.
– А ты мне почитаешь? Я тоже люблю слушать, да и глаза мои плохо видят.
С годами Женя стал звать ее бабушкой. Он теперь понимал, что мамы у него нет. Подолгу рассматривал Людины фотографии и спрашивал:
– Бабушка, а мама веселая была? Она красивая! Почему она умерла?
Что ответишь ребенку, тоскующему по материнской ласке? Как заменить эту ласку? Старалась Нюра изо всех сил. В школе, где Женя учился, ее уважали, материальную помощь оказывали, оплачивали мальчику школьное питание. Только поддержка эта мизерная. Ребенку то костюм спортивный нужен, то мяч футбольный, то велосипед. Дмитрий помогал, хотя много денег не давал: у него своя семья. Между отцом и сыном отношения не сложились: Дмитрий так и не почувствовал отцовскую ответственность, а Женя затаил на него детскую обиду.
Гена поддерживал мать, однако и он семьей обзавелся. Женился не на той однокурснице, чью фотокарточку держал на столе, а на Татьяне – медсестре. Выходит, племянник составил дядино счастье, сам того не ведая. И это было настоящее счастье! Жили Гена с Татьяной дружно, детей с любовью завели – сына и дочку. У них – свой дом, свои заботы, и о Жене беспокоятся.
Бабушка и внук одни в квартире обитают. Женя – хозяйственный, по дому помочь, полы помыть, в магазин сходить всегда готов. Подошло время к пенсии, да нельзя Нюре с работы уйти, вернулась в школу, чтобы к внуку поближе. Не секрет: учителя к ребенку, у которого мать в школе работает, относятся внимательнее. Нюра – не мать, но и бабушка многое может сделать. Хотя все меньше способна она помочь в учебе: теперь так много от детей требуют.
Впрочем, Женя сам учился хорошо, в мать пошел. Помимо учебы занимался спортом: сам определился в секцию каратистов Дворца спорта. С одной стороны – хорошо: внук делом занят, на глупости у него времени нет. Трудно сейчас с молодежью, только и слышишь о наркотиках и наркоманах. Женю судьба оберегала от этой беды. С другой стороны, что за дело – бить других?
– Ну что ты волнуешься, бабуля? Мужчина себя защищать должен. Мне в армию идти, я в спецназ хочу определиться. Там сила нужна и спортивность.
– Да разве нельзя другим спортом заниматься – бегом, например? – мягко сопротивлялась Нюра его увлечению.
– Можно, бабуля, только мне это скучно.
Боялась бабушка за внука. Говорили, что в секциях этих хулиганов воспитывают, хотя Женя на хулигана не походил. Добрый по характеру и стойкий перед трудностями, он доставлял ей радость. Соседки его хвалили: «Внук у тебя, Нюра, стоумовый, хоть без отца-матери растет». Она гордилась им! И нередко мысленно говорила Людочке: «Дочка, ты видишь, как вырос наш Женечка? Трудно мне, доченька, без тебя, но я стараюсь». Желала она и боялась взросления внука: скоро школу закончит, в армию служить пойдет. В спецназ хочет. Там, в этом спецназе страшно. Фильмы посмотришь: в них смелые люди побеждают, из трудностей выбираются, дерутся легко, и легко боль пересиливают. А в жизни рассказывают, что в армии сейчас находиться опасно. Дедовщина косит молодых ребяток. Голодают они. Защитить себя не могут. А еще на войну их посылают. Чечня какая-то поднялась. Что им там не хватает?
Жить трудно, это правда. Да когда русские люди жили нетрудно? А война? Помнит Нюра ту страшную войну, на которую отец ушел и с нее не вернулся. Знает: гибли наши ребята в Афганистане. Слышит по радио, что случаются в армейской жизни несчастья, приводящие к гибели солдат. Пока это все далеко от нее, да приближается срок, когда Женю в армию заберут. Он-то горит желанием, а она боится. И чего удумали: внутри своей страны войну развернуть?
Понимает Нюра: нельзя позволить кому-то выйти из России, забрать наши земли. Хочет она, чтоб страна сильной и единой была. Только не прислушались к ее желанию, разъединили страну. Проводили какие-то референдумы о единстве, а потом объявили: нет Союза. Теперь брат ее в другой стране живет – в Украине. Так и не съездила к нему.
Да и вообще, жизнь вся перевернулась. Раньше все равны были, а теперь есть бедные и богатые. Богатые своим богатством заправляют, и все приватизируют. Вот уж слово придумали. Правильнее, по ее, Нюриному, пониманию, прихватизируют, прихватили то есть себе все, что смогли. А бедные нищают и голодают. По радио говорят: идет процесс первоначального накопления. Кто накапливает? Раньше все вместе копили богатство страны. Нюра для этого много работала, Коля ее работал, а теперь оказалось, что все, созданное ими, принадлежит не им.
Вот на пенсию она вышла – маленькая пенсия. Всю жизнь работала, детей растила, на старость не скопила. Трудно ей жить на пенсию и внука растить. Умные люди по радио да в телевизоре твердят: мы о стариках заботимся. Какая забота, если старушки милостыню у церкви просят? Еще видит она на улицах молодых инвалидов, как в далекие послевоенные годы.
Болит Нюрино сердце, и страшно ей за внука. Судьба ее суровая, двоих раньше времени забрала. Неужели и Женю возьмет? Нет, надеется она, Бог не допустит. И от этой мысли спешит в церковь, стоит перед иконами, молится, просит: «Господи, не допусти!». По ночам не спит, думает, как уберечь внука.
А Женя растет, мужает, усы уже пробиваются. Годы его жизни идут медленно и обстоятельно. Зато Нюрины мчатся словно бешеные. И не заметила, как школу парень окончил, семнадцатилетие отпраздновал. На работу определился в какую-то фирму. Вроде, товары грузит и отправляет куда-то. Сил у него хватает: высокий, плотный, широкоплечий. А Нюра против: в фирмах этих народ честный обирают, обманут мальчика. Правда, никто его не обманывает, зарплату платят исправно. Внук часть заработка ей отдает, и, надо честно признать, эта часть достаточно существенна в сравнении с ее пенсией. За что молодым такие деньги платят?
Вот и повестка пришла: призвали Воронкова Евгения Дмитриевича к выполнению гражданского долга. Другие мальчишки от армии спасаются: кто больным прикинется, кто учиться поступит, а Женя с радостью сообщил:
– Ну, бабуля, в армию ухожу!
– Да как же тебя взяли? Ты же мой единственный кормилец, – горестно запричитала Нюра.
– Бабуля, это не причина. У тебя еще сын и внуки имеются.
– Женечка, состарилась я. Доживу ль до твоего возвращения? – ищет Нюра причину, способную удержать внука.
– Обязательно доживешь, – успокаивает Женя.
– Как же я одна жить стану?
– Ты не одна: Гена с Таней помогут, Коля и Таша навещать будут. Я их предупредил, чтобы они тебя не забывали. Ты, бабуля, не отчаивайся.
Плакала Нюра. Звонила сыну, просила, чтобы тот помог вызволить внука от армии. Только Гена ее не поддержал.
– Ты что, мать, так и будешь парня у своей юбки держать? Он вырос, сам знает, что ему делать.
– А если убьют его?
– Почему его убить должны? Парень в армию хочет. Пусть идет, там он мужчиной станет.
– А ты своего сына тоже в армию направишь?
– Я не направляю, но считаю, что армия парню нужна. Я служил, и ничего со мной плохого не случилось.
– Ты, Гена, словно не на земле живешь. Послушай, что по радио говорят. В армии сейчас опасно, и ничему хорошему там не учат.
Нет, не понимает ее сын. Она же боится: вдруг отправят мальчика в Чечню?
– Не отправят, – успокаивает Геннадий, – первогодков туда не посылают.
– Как же не посылают? – горячится Нюра.
Но спорить бесполезно. Спасти своего мальчика от армии она не может, да и сам он в армию тянется. Попыталась Дмитрия убедить, тот наотрез отказался что-либо делать, «у меня, – сказал, – денег таких нет, чтоб платить военкомату за освобождение от воинской обязанности. Пусть послужит». Осталось Нюре только проводить внука и ждать с нетерпением его возвращения.
Снова жизнь вернула ее в молодые годы. Когда-то ждала Николая, теперь ждет Женю. Письма его перечитывает. В них сообщает солдат о том, чему научился, с кем сдружился, с гордостью написал о принятии присяги. Даже карточку прислал: в форме и с автоматом. Красивее и мужественнее внука Нюра никого и никогда не видела. Только кажется ей, что не обо всем тот пишет, что-то он не договаривает.
Снова спешит Нюра в святой храм. Теперь выбрала для молитв церковь Георгия за верхом, стоящую с восемнадцатого века, а значит намоленную просьбами многих людей. Один только вид бело-розовых стен чего стоит: взглянешь, и на душе легче становится. Построена церковь на средства купца Коробова. «Каков человек этот купец, – размышляет Нюра, – экую память по себе оставил!».
Просит Нюра святого Георгия – первого воина и защитника – наделить ее внука воинским уменьем, а коли придется в бою сражаться, так защитить его от погибели. Потом долго стоит перед иконой Божьей матери, чуть слышно произнося одну и ту же молитву: «Матерь Божья, спаси, защити моего мальчика. Не допусти нового горя». Мысленно просит и мужа своего Николая: «Услышь меня, помоги, Коленька, спаси нашего мальчика, замолви о нем словечко». Не понятно, перед кем Коля должен замолвить словечко, да и может ли он это сделать? Об этом Нюра не думает, она верит: муж обязательно поможет. Просит и Людочку: «Доченька моя, проводила я нашего мальчика в армию. Трудно сейчас служить, опасно. Ты там, доченька, последи, чтобы с Женей ничего худого не случилось».
В молитвах и просьбах прошел для нее первый год Жениной службы. А на второй прислали ей письмо из далекого госпиталя. Ранен Женя, операцию ему сделали, лежит и в себя не приходит. Все бросила Нюра, поехала туда. Возраст давит на нее, кости болят, глаза плохо видят, да надо внука от смерти вызволить. Поехал с ней Гена: все же врач, сам с врачами поговорит, обсудит, как к жизни племянника вернуть, мать старенькую поддержит. Татьяна ему выговорила: «Ты Женьке вместо отца. Поезжай, узнай все на месте. Привози парня домой, мы его тут выходим».
Долгим и тяжким был путь, завершившийся возвращением: привезли Женю домой. Ранение в голову тяжелое. Операцию в госпитале провели успешно, оставалось ждать, выдержит ли организм, вернется ли к нормальной жизни. Лежит Женя на кровати неподвижно, как когда-то Коля лежал. Только теперь Нюра сделает все, чтобы его поднять. Целыми днями она на медицинской вахте. Гена привлек на помощь ведущих докторов своей больницы. Таня взяла на себя полный уход за солдатом. Внуки – Коля и Таша – тоже здесь, у его постели. Никогда еще не собиралась семья полностью: сын, невестка, внуки – все рядом с Нюрой и Женей.
– Женя, – звала Нюра внука в жизнь, – очнись, посмотри, мы все рядом с тобой. Пробудись ты от сна жестокого. Пожалей меня, старую.
Просит она внука, молит Господа, мечется в несчастье. Хорошо хоть – не одна осталась. Есть, кому поддержать.
Однажды в дверь позвонили. Нюра открыла. Незнакомая девушка в джинсовом костюме, не дожидаясь вопроса, протараторила:
– Здравствуйте! Вы – баба Нюра? Я сразу догадалась, мне о вас Женя рассказывал, – при этих словах незнакомка вошла в коридор и, поставив на пол сумку, объяснила, – тяжелая, все руки оттянула.
– Здравствуй! Ты кто? – не до гостей Нюре, но все же интересно, что дальше будет.
– Я – Милка, – ответила девушка. – Мы в Туле с Женей познакомились, его часть находится в нашем городе. Встречались, когда он увольнительную получал. Потом его отправили в Чечню. Перед отъездом Женя сказал: «Жди, вернусь – поженимся». Вы мне не верите? Я понимаю, что странно выгляжу, но мне друзья его армейские написали, что он ранен и домой вернулся.
– Да вы проходите, – раздался голос Тани, вышедшей в прихожую. – Пойдемте на кухню. Мы вас чаем напоим, а вы все расскажете.
– Да нет, мне бы Женю увидеть. Где он?
Мила зарделась, внезапно осознав странность своего положения, и надеялась только на то, что сейчас выйдет Женя и все прояснит. Однако Женя не выходил.
– Женя? – переспросила Таня. – Он еще в сознание не приходил. Вы проходите. Ну что же вы, мама, не приглашаете гостью?
– Да-да, проходи, Мила. Пойдем чай пить, – Нюра растерялась не меньше девушки. – Ты из Тулы? И как же решилась, девонька, от родителей уехать невесть куда?
– Вы пока на кухне посидите, а я Женю посмотрю, поправлю ему постель, – сказала Таня и ушла в комнату.
– Почему невесть куда? – Мила прошла на кухню, присела за стол, придвинула поставленную перед ней чашку, немного отпила. – Мне Женя о вас все рассказал: какая вы добрая и заботливая. Он говорил, что после армии мы вместе жить будем. Вы мне скажите, что с ним? Он писал, писал, а потом перестал. Долго писем не было, а потом пришло от его ребят. Они пишут, что Жене помощь нужна.
– Да, – Нюра задумалась: кто эта Мила, с добром ли пришла? Посторонняя, незнакомая. Как ее в дом пустить? Но, если подумать, может, именно она нужна сейчас внуку? Надо рискнуть. – Пойдем в комнату, – позвала она гостью.
Они вошли в маленькую комнату. Мила присела у кровати, взяла Женю за руку, наклонилась и поцеловала его в щеку. В этот момент, показалось Нюре, Женина рука слегка дрогнула. «Нет, – уверяла она себя, – это показалось. Что хочется, то и видится».
– Ты, Мила, посиди с Женей, а я обед приготовлю, – сказала она девушке.
– Вот и хорошо, – подхватила Татьяна, – мне тоже отлучиться надо. Я вечером загляну.
Они обе прошли на кухню. Присели на табуретки.
– Правильно ли, что мы чужого человека в дом пустили? – обратилась Нюра к Тане.
– Ой, мама, может, эта девушка Жене больше нас нужна? – Татьяна взяла Нюрины руки в свои. – И не бойтесь вы. Нам теперь нечего бояться, все самое страшное позади. Да и помощница вам нужна. Видели, как дрогнула его рука?
– Я думала, мне показалось.
– Ничего не показалось. Женя реагировать стал. Ясно же: девушка ему хорошо знакома. Я сейчас уйду, а вечером обязательно загляну. Вы не волнуйтесь. – Таня приблизилась к сидящей свекрови, легко пожала ее плечо. – Я помню, какой Женя был маленький – смешной карапуз. Он тогда меня сразу принял. И мы должны принять его Милу.
Так в семью вошел новый человек. Трудно Нюре признать эту девушку: слишком независима и чересчур самостоятельна. «Мы такими не были, – протестует она в мыслях против каждого Милкиного поступка, – мы скромнее были». Не нравится ей, что присвоила Мила себе имя ее умершей дочери, да отказалась от красивого звучания «Людочка». Все в ней не нравится: и как легко она сдружилась с детьми сына, и как по-доброму присматривается к ней Татьяна, и даже Гена защищает ее перед матерью, говорит: «Мамуля, пойми: время сейчас другое, и молодежь другая». Она бы и поняла, если бы эта Мила не в ее доме жила, не к ее внуку приехала.
Вот что самое главное: не могла Нюра согласиться с тем, что ее Женечка, мальчик родной, ею выпестованный, кого-то полюбит сильнее, чем ее. «Надо же, первый раз вздрогнул, когда она его за руку взяла, – ревниво думала Нюра. – А как же я? Я ему всю жизнь отдала, около него ночами сидела, силы небесные молила. Почему же не к моей руке он потянулся?». И не нравится Нюре, что эта девушка заправляет в доме: убирает, готовит, в магазины ходит. Даже работать устроилась: почту по утрам разносит, чтобы в тягость не быть. От того еще больше злится Нюра: раз работает – значит, насовсем останется. Только хочет ли этого Женя? Он-то все недвижим лежит. Молчала Нюра, копила свое несогласие, и однажды не выдержала.
– Ты бы, Мила, домой ехала. Может, родители в тебе нуждаются? – начала она серьезный разговор.
– Ну что вы, баба Нюра? Я здесь нужна. Вчера Гена сказал, что из меня медсестра хорошая получится: Женю выхожу и пойду работать в больницу.
– Что-то ты его Геной зовешь? Он много тебя старше, уважаемый человек. Чай, не приятели?
– Не знаю, Женя так называл, говорил: у меня дядька замечательный, за отца мне. Кстати, а почему отец Женин не приезжает?
– Нечего ему тут делать. Он и в здоровье сына не жаловал, а теперь и вовсе мы ему не нужны.
– А я уверена, что Жене отца увидеть надо. Давайте позвоним, скажем, что сын его тяжело ранен.
– Ишь ты, скорая какая: не успела приехать, а уж раскомандовалась.
Мила пожала плечами и ушла в Женину комнату. Долго оттуда не выходила. И Нюра туда не ходила: не хотелось ей при Жене разговор неприятный вести. Честно признаться, Мила хорошей сиделкой была. Таня все реже навещала, на работу вернулась. Разве могла бы Нюра одна ухаживать за внуком: помыть, накормить, постель перестелить, уколы сделать? Соседки подсмеиваются: «Гдей-то ты, Нюра, бесплатную сиделку отыскала? Нынче хорошая сиделка дорого стоит, а твоя еще и подрабатывает». Если Мила уедет, кто за Женей смотреть станет? И самой Нюре помощь нужна: глаза-то совсем не видят, в руках прежней уверенности нет, память никудышная, постоянно подводит. И все равно Нюра не согласна с новой жиличкой. А жиличка эта дозвонилась до Дмитрия, и тот приехал.
– Что ж вы, Анна Васильевна, не сообщили? – укорил ее.
– Да я, милый, и думать про тебя забыла. Просила ведь – помоги, а ты отвернулся, – отпарировала Нюра.
– Ладно, Анна Васильевна, Жене сейчас мир нужен, в войне он уж побывал. В чем помочь теперь?
– Не нужно нам от тебя, Митя, ничего.
– Да как же не нужно? – вступила в разговор Мила. – Очень даже нужно. Во-первых, деньги большие на лекарства нужны. А еще надо с документами Жениными разобраться. Я ходила в военкомат, только меня там слушать не хотят. Вы, говорят, ему никто.
– А что с документами?
– Когда Женю из госпиталя забирали, не заметили, что в выписной справке год рождения нечетко указан: то ли восемьдесят третий, то ли восемьдесят второй. А ему теперь пособие не оформляют. Капитан говорит: «Принесете правильно заполненные бумаги, будем разговаривать». Мы уж и в госпиталь, и в часть писали, нет ответа. Видно, ехать надо. А еще надо, чтобы Женя чувствовал: мы все его любим, все рядом с ним. Приезжайте к нам почаще.
Вот уж, вредная какая! Знает, что Нюра не любит Дмитрия, а в дом его зовет. И ведь не в свой дом. Вечером опять у них состоялся неприятный разговор.
– Ты, Мила, не больно тут распоряжайся. Нечего Дмитрию к нам ездить, – недовольно бурчала Нюра.
– Баба Нюра, как вы не понимаете, у них ведь кровь одна? Им в беде рядом быть нужно.
– У тебя тоже кровь с Жениной одна? – резко оборвала Нюра, готовая к решительному бою.
– Зачем же так? – Мила закрылась руками как от удара, но потом выпрямилась и твердо произнесла, – выходим Женю, и я уеду, раз вы не хотите. А сейчас не мешайте.
– Я мешаю? Ну, ты, девка, заговорилась. Я с ним с первого дня. Он – моя кровиночка. А ты кто?
Не ответила Мила, опять ушла в комнату. Понимала Нюра, что не права, да поделать ничего не может. Болит ее обиженное сердце, не дает разуму определиться. А Милка собралась и куда-то ушла. Долго ее не было. Нюра забеспокоилась: не случилось ли что? Укол пора делать, а ее все нет. И Татьяны нет.
Вечером заглянули на огонек Гена с Таней. Нюра сразу им про беду свою рассказала, да те не поняли ее.
– Мать, ты подумай, Женьку не только поднять на ноги надо, ему придется жить дальше либо одному, либо с верным человеком. Может, это Милка, а ты ее прогоняешь, – убеждал сын.
– Да не прогоняю я. Мне не нравится, что она в доме командует.
– А кто будет командовать, если она уйдет? – сын помолчал и задал вопрос, на который Нюра сама искала ответ. – Ты сможешь ее заменить?
– Зачем нам чужой человек? – защищалась Нюра. – Разве мы сами не выходим нашего мальчика?
– Поймите, мама, Мила – не чужой человек, – поддержала мужа Таня. – Она – невеста Женина.
– Невеста? Мы ее знать не знаем, – Нюра лихорадочно искала слова, которые дали бы ей союзницу в возникшем споре. – Тебе, Татьяна, легко говорить. Вот Коля приведет в дом девчонку, тогда меня вспомнишь.
– Не о Коле речь, – снова вступил Геннадий. – Человек к тебе с добром приехал. Многие ли девчонки готовы взвалить на себя такое? Мы помогаем, чем можем. Только здесь другая помощь нужна – женская.
– А зачем она Дмитрия вызвала? – не унималась Нюра.
– И правильно сделала: он – отец.
– Какой отец? Никогда и не думал о ребенке.
– Не думал, а теперь думает, – твердо сказал Геннадий. – Мы не правы были, мама. Нельзя Дмитрия вычеркнуть из нашей жизни. Он поехал в госпиталь. Уверен я, все там сделает, раз мы проглядели. А тебе надо бы о своем здоровье подумать, – перевел он тему разговора. – Я договорился в глазной больнице, готовься к операции. К врачам сходи, анализы сдай.
– Да как же я сейчас в больницу лягу?
– Ничего. Мы здесь: Мила и Таня за Женей ухаживают, ребята помогут. Врачи наши не отказываются. Да и меня не стоит списывать. Придет Женя в сознание, а ты его здоровыми глазами увидишь.
На том и порешили. Скоро Мила вернулась. Притихшая, словно самостоятельность свою и решимость где-то растеряла.
– Баба Нюра, вы, что хотите, думайте, а я от вас не уеду. Женя поправится, тогда и решать станем, как дальше жить, – только и сказала.
«Что ж? Разумная девочка, – думала Нюра. – Может, я перегибаю, завидую ее молодости? Ах, скинуть бы годков двадцать, сил и впрямь ни на что не хватает. Верно сын говорит: нужна в доме хозяйка. Мила-то работящая и добрая».
Что ни говори, а везет Нюре на хороших людей: они всегда рядом с ней.
После операции лежала Нюра в палате и уговаривала боль уйти. Глаз ее распух, синяк покрыл лицо, в зеркало глянешь – испугаешься. Лучше ли она видит? Нет, ничего не видит, все у нее болит. Одно радует – страшная операция позади. Вставили ей немецкий хрусталик. Врач, уверенная в себе женщина, заботливо к ней отнеслась, обещала: «Операция прошла отлично. Заживет глаз, видеть будете, Анна Васильевна, лучше прежнего».
Навестить ее пришла Татьяна. Ох, и заботливая невестка. Годы превратили ее из тоненькой робкой девушки в статную красавицу, женщину хозяйственную и домовитую. По-свойски вошла в палату, оглядела всех и ободряющим голосом успокоила:
– День добрый! Как вам тут лежится?
Женщины переглянулись и стали наперебой рассказывать о больничном житье-бытье. Умеет Татьяна разговорить людей. Побеседовав со всеми, она, наконец, обратилась к свекрови:
– Мама, радость у нас большая: Женька глаза открыл. Еще ничего не говорит, но смотрит и все понимает. Милка не нарадуется: то подушку поправит, то одеяло перевернет. И, знаешь, мы с тобой правы оказались, на нее понадеявшись. Женька, мне кажется, даже улыбаться пытается. Ну а ты как? – перевела она разговор.
– Болит, Танечка, глаз, – пожаловалась Нюра: очень ей хотелось, чтобы ее пожалели.
– Ничего, мама, поболит и перестанет. Гена вам лучшего окулиста подыскал: они вместе в институте учились. Помните, вы фотокарточку ее показывали? Это ж она. Не признали?
– Да неужто, Таня? – заволновалась Нюра. – А ты не ревнуешь?
– Мама, вы своего сына совсем не знаете, – Татьяна по-девичьи взмахнула пышной копной волос и ласково продолжила. – Генка – семьянин, однолюбом оказался. Поначалу я волновалась, себя изводила, а потом поняла: мы с ним – одно целое, как вы, наверное, с вашим Николаем.
– Э, девка, что вспомнила, – в таком же кокетливом тоне ответила Нюра. – Мы с Николаем мало пожили.
– Да замуж-то больше не вышли, – в тон ей ответила невестка.
– Некогда мне было мужей искать: дети на руках.
– Вот и Гене некогда искать: семья у него большая, обо всех нас заботиться – за новыми женами не побегаешь. Кстати, Дмитрий вернулся: все сделал, в военкомате был. Назначили Жене пособие, небольшое, правда, но все же какие-то деньги. Думаю, Милка в больницу работать пойдет, в училище поступит.
– Может, она в Тулу уедет? – засомневалась Нюра в Татьяниных планах.
– И не надейтесь, мама. Привыкайте к невестке. Почему вы так недоверчивы к ней? Меня-то сразу приняли.
– Ты другая была. О Женечке беспокоилась, при Гене краснела и робела. Я сразу увидела, что вы – подходящая пара. А эта – все сама решает, обо всем суждение имеет, из брюк не вылезает.
– В брюках они все ходят. А что самостоятельная, так хорошо. Без этого сейчас не проживешь. Ташка с ней подружилась, все свои тайны ей рассказывает. Я рада: не все дочь матери сказать может, а Милка – разумный советчик.
Посидела Таня с Нюрой, успокоила ее колготное сердце, отвела думы печальные. Через несколько дней Гена забрал мать домой. По дороге все учил, как ей следует себя беречь: не наклоняться, тяжестей не поднимать, глаза не напрягать, больше на свежем воздухе гулять. Только разве это выполнимо для одинокой немолодой женщины?
– Почему одинокой? Мы с тобой, мама. И помощница у тебя хорошая, – продолжал сын свои наставления.
– Да не говори ты мне о ней. Как сговорились: хорошая, работящая, добрая – ангел ходячий в доме, – рассердилась ни с того ни с сего Нюра.
Надолго замолчала. Крутилась в ее голове одна дума: как ее Женечка? Может, уже заговорил? У сына спрашивать не стала.
Дома ждала их вся семья: Таня с Милой обед приготовили, Коля в магазин за продуктами сбегал, Таша квартиру прибрала, совершив тем самым, по ее юношескому разумению, великий подвиг.
Нюра первым делом к Жене направилась, желая самолично увидеть, как внук «глазами смотрит и все понимает». Вошла осторожно, словно боясь испугать со сна маленького ребенка. Женя спал: глаза закрыты, на губах чуть заметная улыбка таится, руки поверх одеяла лежат и слегка подрагивают. За Нюрой в комнату вошла Мила, остановилась у двери, не решаясь пройти. Чисто и светло в комнате. На небольшом столике у кровати стоят две фотографии: с одной смотрит на Женю, приветливо улыбаясь, Милка, на другой – Нюра обнимает маленького Женю – симпатичного трехлетнего карапуза.
Вспомнила Нюра, как упал малыш, больно ударившись, горько рыдал у нее на руках, а она, поглаживая его, приговаривала: «У кошки заболи, у собачки заболи, у тебя, Женечка, никогда не боли». Чем ей тогда досадили бедные кошка с собакой? Женя на нее глянул и сказал: «Не, баба, у кошки не боли, у собачки не боли».
– Женя любит смотреть на эту фотокарточку, – произнесла тихо Мила, словно поняв, что творится в Нюриной душе.
В это время Женя раскрыл глаза и тихо, еще неуверенно, произнес: «Баба Нюра, ты? Я вернулся».
Это были первые слова, которых ждали больше года все собравшиеся в доме. Это были первые слова, которые Нюра услышала от внука спустя три года после его ухода в армию. И если рука его когда-то дернулась в Милкину сторону, то первые слова он сказал ей, своей любимой бабушке. Стоит ли обижаться на Милку?
Жизнь снова налаживалась. Медленно, но неуклонно Женя шел на поправку, расцветала Мила, видя результаты своих усилий. Вслед за надеждой на выздоровление внука у Нюры появились новые заботы и переживания. Надо же помочь молодым создать свое семейное счастье! Ей уже виделось, как станет она нянчить правнука, или правнучку. И если когда-то смерть одолевала, отбирая у Нюры самых близких людей, теперь она отступила.
Жизнь, бурная и радостная, зажила в их доме полновластной хозяйкой. Кто знает, может, это сама Нюра защищает от бед и напастей свою семью?
Не мытарь свое сердце
Николай – парень веселый и неуемный, на него засматривались все заневестившиеся красавицы, молодицы с азартом дарили многообещающие слова, женщины постарше, хоть и строго себя блюли, да в бабьих мечтах не прочь покуролесить с крепким молодцем. Слава о нем разлеталась далеко за пределы села. Мужчины относились к взрослеющему конкуренту на бабьей ниве настороженно, хотя вовсе не прочь с ним выпить и о бабах погутарить. Вместе с тем, все знали: Николай работать любит. Его сильные и умелые руки могли пригодиться в любом хозяйстве, а уж тем более в таком раздолбанном, как колхозное. В этом парне одновременно уживались бесшабашное легкомыслие и строгая размеренность жизни. «Откуда? – спросите вы. Известно: все идет от родителей.
Тихая и светлая мать, лет на десять младше мужа, в первые супружеские годы бесконечно рожала. Коленька – младшенький – был у нее шестым выжившим ребенком. До него завелись в семье три дочери и два сына. Муж на первых и не глядел: ему мужики в семье нужны. «Рожай, пока сына не сделаем», – говаривал после каждых родов. Так и делали, а когда сын родился, то уж по привычке не останавливались. Так до Коли и добрались. Может, и еще кого сделали бы, да не до того стало. И этих не прокормить. На ней, Серафиме Флегонтовне, держался весь дом. Имечко у нее трудное, да на селе все звали ее Симой.
Отец Николая – Петр Никодимыч – из бывших, как говорили соседи. То есть никаким бывшим он не был. Родился в начале века в семье кузнеца, да толки шли по окрестности, будто Петруша – сын местного помещика. Очень уж он на того помещика походил. Правда ли, нет ли, кто знает? Мать его ту правду с собой в могилу унесла, а отец никогда, по своей молчаливой привычке единоличного кузнеца, о том не поминал. Пока Петруша молод был, да красив, ни одной юбки в селе не пропускал. Думали, и не женится. А тот вдруг всех удивил: женился на соседской девчонке. Однако по-прежнему односельчане видели его утренними зорями, пробиравшимся к своему забору. Ничто его не останавливало: ни мольбы молодой, вечно беременной жены, ни мужицкие угрозы и кулаки. На селе после революции всех объявили равными и свободными. Вот Петруша и осуществлял свою свободу, как хотел.
Году в тридцать седьмом, когда власти старательно доискивали врагов народа, пришли в их нищий дом люди из таинственных органов, потребовали отчитаться: отец большого семейства чей, на самом деле, сын. Сима собрала детей вокруг себя, старшей еще десяти не было, и бросилась в ноги гостям незваным, глядевшим на нее исподлобья. Дети завыли, запричитали вместе с матерью, умолявшей грозного начальника: «Не губи, добрый человек, врут все про нас. Простые мы были, простыми и помрем. Погляди, как живем, никакого богатству не имеем».
Петр, впервые, кажется, растерявшийся, уговаривал жену: «Ну что ты, Сима, распалилась? Люди правду знать хочут. Имеют право. Ты это, детей-то забери. Вон Колька разорался – не остановишь». Коля орал, что есть мочи: уж очень страшные дядьки к ним пришли, зло на всех глядят, отца к ответу требуют. Бывало такое и раньше: примчится какой-нибудь мужик соседский с отцом ругаться, но то ведь знакомый, не чужой, а тут издалека приехали.
Петра Никодимыча увезли в город на дознание на старой телеге, странным образом прилаженной к тощей лошаденке, грустно глядевшей на размытую дождями дорогу и, наверное, вовсе не желавшей везти кого бы то ни было из родного села. Через недельку-другую отец вернулся – присмиревший, позабывший свое естественное предназначение радовать баб мужицкой лаской. Потом ушел на войну, вскорости вернулся покалеченным, получил прозвище «хромой Петр» и умер, не дожив до пятидесяти лет.
Николай повзрослел рано, что редко бывает с младшими детьми. Семейные неурядицы, военное лихолетье, колхозные тяготы, несомненно, потребовали от него раннего осознания себя мужчиной. Сестры вышли замуж и перебрались в другие семьи, братья отправились на великие стройки. Николай после смерти отца стал, по сути, единственным кормильцем матери. Годы летели, оставляя в памяти тяжелую колхозную работу и неутомимое буйство юности.
Пришло время воинской службы. В последние предармейские дни углядел он соседскую девчонку – пышнотелую Нюрку и, смеха ради, а может еще почему, велел ей его дожидаться. «Все же, – размышлял Николай, – хорошо, если в родном селе тебя ждет не только старушка-мать. Письма нежные писать станет, считать с нетерпением дни разлуки». Влюбиться? Это нет, не пришло еще Николаю время. Хотя, на всякий случай, почему же не забить себе место под солнцем?
Так и отправился на службу, подготовив семейные тылы. Правда, была еще мысль – закрепить эти тылы тайной связью. Однако, осуждая легкомыслие отца и желая себе надежных семейных уз, а также уверенности в жениной верности, решил с тайным делом не спешить: никуда Нюрка не денется, к тому же, есть молодухи, способные поддержать его мужское естество. «Ты меня жди, Нюра, – велел он девушке, – вернусь, и поженимся».
Нюра смотрела на него широко раскрытыми глазами, щеки ее запунцовились ярким пожаром: то ли от стыда, то ли от радости. Выскользнула она из крепких молодецких рук, выдохнула из себя: «Ну что вы, Николай Петрович, придумали?» и ускользнула из амбара. На проводах так и не появилась, лишь занавеска на окне слегка трепетала, когда проходил он с парнями мимо ее дома. Как бы там ни было, ушел он в армию с твердой убежденностью, что поступил верно, и юная соседка станет его дожидаться.
Направили Николая служить в полк, разместившийся в небольшом военном городке под Воронежем. Командовал полком герой войны – полковник Деркачев. Артиллерист, на «катюше» воевал, как ласково называли заявившую о себе в июльские дни сорок первого реактивную установку. Полковник являлся непререкаемым авторитетом для солдат, гордившихся службой под его началом и с интересом слушавших его рассказы о войне. «Фашисты гонялись за нашей «катюшей», пытались, понимаешь ты, выведать ее устройство, потому после каждого удара мы срочно меняли дислокацию – с жаром рассказывал Деркачев. – Очень они нас боялись, но мы, понимаешь ли, умнее оказались, потому что за нами весь наш народ стоял, вся сила, понимаешь ты, советской власти нас защищала!».
Полковник вбивал в голову каждого солдата понимание величия советского народа и ее доблестного защитника – Красной армии, для чего, наверное, часто говаривал присловье «понимаешь ты». Слушая его, Николай вспоминал о тяжкой деревенской жизни, когда он, мальчишка еще, помогал фронту: хлеб убирал, картошку копал, лошадью управлял. А мать его вязала и отсылала на фронт теплые носки: мужу Петеньке и другим солдатам, ставшим ей родными, поскольку защищали они жизнь ее детей. В тяжелой борьбе добыта победа.
Теперь же, как говорил полковник, надо эту победу защищать сильной, боеспособной армией. Николай не против, только, думается ему, не поднимется сейчас против нас враг: показали мы всему миру, что сломить нас невозможно. Били мы немцев, и бить будем! Патриотические беседы с Деркачевым повышали боевой дух армейцев, которые с особым рвением занимались строевой подготовкой и изучали устройство современного оружия.
Не только повышением боевого духа занимались солдаты. Направили как-то отделение, в котором служил Николай, на строительство полковничьего дома. Там и познакомился он с Аллой Дмитриевной, женой полковника. Жила она с мужем неплохо, да детей у них не было. То ли это, то ли другая какая причина, только Алла Дмитриевна не сводила глаз с рослого солдата и завела с ним при удобном случае странный разговор.
– Хороший ты работник. И мужик, наверное, ничего? – спросила, пристально его разглядывая.
– Вы, Алла Дмитриевна, о чем это? – сделал он вид, будто не понял ее откровенного вопроса.
– Я тебе правду скажу: ребенок мне нужен. Семь лет живем, и не получается. Может, я неспособная, может, муж. Проверить надо. Долго искала, кто подойдет. Ты, кажется, не из болтливых, потому тебя и прошу, – объяснила женщина свой выбор.
Николай даже растерялся от такого предложения. Не то, чтобы он не знал, на что бабы способны, в селе у них и откровеннее говорили. Но здесь – жена командира. Тот узнает, что с ним сделает? Если же отказать, неизвестно, как эта полковничиха повернет. А женщина она интересная: кровь с молоком, высокая да крепкая, словом, красивая, еще и веселая, по всему видать – бесшабашная, коли на такое решилась.
– Мне от тебя ничего, кроме ребенка, не нужно. Муж не догадается: как своего растить станет. Ты о нас и не услышишь, Коленька, – она тихо и доверчиво прижалась к нему, провела рукой по его молодому телу, упрятанному в гимнастерку. – Прошу тебя, Коленька. Разве я не хороша и не нравлюсь тебе?
Конечно, нравилась. В части многие на нее поглядывали: он это знал, слышал. Только, говорят, строгая она к мужикам, а тут на тебе: сама ластится. И нежно так обращается, Коленькой зовет. Вроде, ничего особенного, и мать его так же называет, а звучит как-то ласково. И в глаза заглядывает, а глаза у нее бездонные. Николай молчит, согласия не дает, да тело его за него решает. И вот уже в недостроенном полковничьем доме происходит то, что бывает у мужчины с женщиной, что должно произойти в этом доме у полковника с его красивой женой, да волею судьбы завертелось у Николая. Сила его вся сюда направилась, и свободно ему в полете мужском, и думать ему вовсе не хочется о полковнике.
Со дня запретного сближения стали они тайно видеться. Нечасто, сначала в строившемся доме, потом она придумывала различные поводы для совместных выездов по делам части в город. Николай не слишком мучился совестью. Если женщина сама хочет, и к тому же неплохая женщина, почему ей не помочь? Иногда, правда, возникала мысль о полковнике, но, думал, все обойдется: хитра больно Алла Дмитриевна.
И не только хитра. Забирала она в себя всего Николая. Знал он, что грех великий – с чужой женой тайные дела делать. Знал, что полковник уничтожит обоих, прослышав про них. Знал, что ждет его в родном селе соседка Нюра, которая пишет ему добрые письма. И ничего этого не помнил, когда видел Аллу Дмитриевну и слышал ее нежное «Коленька». Может, ведьмой она была? Или опоила его зельем каким?
– Милый мой, – шептала Алла Дмитриевна, – ты – самый лучший, единственный…
– А муж как же? – уточнял он степень своей единственности.
– Что – муж? Он по обязанности, а ты – по любви. Правда ведь?
Женщина заглядывала ему в глаза, как собачонка, ждущая, что ее покормят, проводила руками по его коже, прижималась к его телу своим, словно подпитываясь от него неуемной силой. И по его телу мчались легкие уколы, приводящие к головокружению.
– За какой-такой обязанностью ты с полковником живешь? – ревниво требовал он ответа.
– Мы с Деркачевым познакомились после войны. Покорил он меня своей прочностью. Отец у меня на фронте погиб, мать умерла, я в детдоме росла. Потом телефонисткой работала, жила в общежитии у подруги. Меня там не прописывали. Так приходилось придумывать разные штуки, чтобы пропустили. Ни родных, ни дома своего. А он – герой войны, всеми уважаемый. Два года замуж уговаривал. Человек добрый, надежный. Что еще нам, бабам, надо?
– Так чего же ты тогда? – пытался Николай понять.
– Бабам не только надежность нужна. Мне вот ребенка подавай. Рожу мальчика, а может, девочку. Нет, давай мальчика сделаем. Мне девчонка не нужна.
И чтобы сделали они мальчика, применяла Алла Дмитриевна всякие бабьи ухищрения, в которых он, Николай, чувствовал себя мужиком. Да что мужиком? Ощущал он себя успешным жеребцом-производителем.
Сколько бы это продолжалось, неизвестно, только батальон, в котором числился Николай, неожиданно ночью подняли по тревоге и отправили на ученье. Ехали в теплушках, с остановками на перегонах, двое суток до Саратова, потом еще сутки до небольшого заброшенного полустанка. Солдаты переговаривались между собой: «Что за странные учения? Куда везут, непонятно».
Сначала леса сплошные, потом начались степи. Волгу переехали – огромная река, не то что в селе Высоком, и даже с Окой не сравнить. Выгрузили их и отправили маршем по степи: идти трудно, жара стоит невообразимая, пить хочется. Через какое-то время каждое отделение, по десять-пятнадцать человек, с сержантами и старшинами во главе, направилось своим маршрутом. К вечеру пришли к сплошному проволочному заграждению, у которого полуразрушенный саманный домишко стоит. Съели сухой паек, запили жидким чаем и повалились спать, поскольку сил больше не было.
Утром рассмотрели солдаты свой контрольно-пропускной пункт: куда ни глянь – степь простирается. Ненаезженная дорога проходит через пункт и упирается в горизонт. Старшина отделение построил и разъяснил: здесь они будут нести важную государственную службу, а посему обязаны никого без специального разрешения не пропускать за пределы заграждения. Да кого тут пропускать? Целый день сторожили: ни одна душа не появилась.
Дом подправили, крышу залатали. Еду сами готовили. Воду им привозили один раз в сутки, была она теплой и невкусной, с солоноватым привкусом, однако скоро к ней привыкли. От размеренной жизни в военном городке и приятных утех с женой командира попал Николай в забытый богом край. Может, это Алла Дмитриевна таким способом от него избавилась? А может, и правда, такая служба нужна сейчас Родине?
Примерно через неделю мимо пропускного пункта пошли машины с солдатами, переправляли в неизведанный край строительную технику и различный стройматериал. По всей видимости, где-то возводили важный военный объект. Потом стали прогонять скот: коров, овец, свиней, на машинах везли домашнюю птицу.
Наверное, надолго обосновываются, и кормить хорошо станут. Солдаты, дежурившие на пункте и проезжавшие мимо, перебрасывались шутками. Здесь, вдали от родного дома, встретил Николай дружка закадычного, ушедшего в армию на год раньше. На разговор у них было несколько минут.
– Далеко, Серега, едете? – спросил Николай.
– Да кто знает? – ответил тот. – Ночью по тревоге подняли, ничего не сказали.
Многое хотелось узнать, но главное, о доме родном, потому Николай и спросил:
– Дома-то как? Пишут?
– Давно весточки не было. А тебе?
– Какая весточка сюда доберется? Переживу, год служить осталось. А ты скоро домой? – спросил Николай, завидуя другу: на год раньше в родное село вернется.
– Скоро, если жив останусь.
– Ну да? Вам туда жрачку знатную гонят и стройматериалы. Никак город строить будете.
– Не знаю, только, скажу тебе, Колян, подписку с нас взяли о неразглашении. Зря такую брать не станут. Ты уж никому не говори. Если что, домой вернешься, к моим зайди, – тоска звучала в голосе Сереги.
Тоска пробиралась и в Николаево сердце, только надо эту тоску от себя прогнать, надо перевести разговор на что-то веселое.
– Да ладно тебе, – бодро произнес он, – ты раньше меня дома будешь. Смотри, соседку мою, Нюрку, не тронь. Пишет, что ждет меня. Жениться на ней хочу.
– На этой пигалице?
– Да выросла уже. Ты-то и не видел, какой девкой стала. Потому предупреждаю.
На том разговор оборвался. Говорили бы долго, да армейская служба не позволяет: прогудел Серегин грузовик на прощание и умчал его в далекую степь.
Прошел, наверное, месяц тоскливо-странной жизни, давно прекратились массовые проезды через их пункт. Николай часто вспоминал родное село, расположившееся на холме и склонах, поля и леса неохватные, меняющие цвет от белоснежного до яркой зелени, а затем золотистого и бурого окраса, извилистую речку, весело зовущую окунуться в приятно-прохладные воды. «Через год, – думал Николай, – вернусь домой и никуда больше не уеду. Негоже человеку надолго покидать родные места». Думал о встрече с односельчанами, о колхозе, который с нетерпением ждал его сильных и умелых рук. Сколько нового узнал Николай, чему только ни научился! Вернется, женится, поставит свой дом, и заживут они с Нюрой душа в душу. Не сомневался, что девушка его дождется. Ведь писала же: «В селе у нас хорошо, яблони и груши зацвели. Дух от них идет пряный. Помнишь наш яблоневый сад? Стоит он, словно невеста на выданье. Мама твоя говорит, что давно от тебя писем нет. Не забыл ли край наш милый?». О селе пишет, о яблонях, а Николай понимает: в этих строках упрятала Нюра свое нетерпеливое ожидание счастья и любви. Немного, правда, мучает его совесть, когда думает о Нюре: вроде как неверен он своей невесте. Но, успокаивает себя, мужицкое дело такое: не он это завел, не ему и менять.
Однажды стоял на посту. Вдруг вдали, там, куда уезжали люди, зажглась яркая вспышка, такая, что, даже зажмурившись, чувствуешь, как бьет по глазам. Раздался глухой раскатистый звук, затем поднялось огромное облако пыли, напомнившее гриб, похожий на те, что отыскивал он в родном лесу. Почему-то снова подумалось о доме и захотелось скорее на гражданку. «Не время об этом думать, – пронеслось в голове, – год еще служить».
Что произошло в степи, никто не знал. Через два дня отделение сменили, в полном составе отправив в саратовский госпиталь, где их внимательно обследовали врачи. Почему-то начались у солдат странные головокружения, их тошнило и рвало, есть очень хотелось, да еда дальше рта не шла. Недели две продержали Николая в госпитале. Кого-то из ребят раньше выписали, кто-то и после его отъезда остался. Отправили его дослуживать. Думал: в свою часть под Воронеж вернется, да уехал под Ярославль. Может, и хорошо: не хотелось встречаться с полковничихой, поскольку приближалось возвращение домой, где ждала его невеста.
Тошнота и рвота то отступали, то снова возвращались, порой слабели ноги и руки. Опять его отправили в госпиталь. Военврачи лишь плечами пожимали и ничего не объясняли, ставя солдату капельницы и пичкая лекарствами. Как-то лечащий врач сказал в раздумье:
– Ты, Николай, к строевой не годен больше. Комиссуем тебя по болезни.
– Какая ж у меня болезнь, доктор? Я здоров, руки-ноги на месте, а что тошнит слегка, так мужика с перепою сильнее тошнит, – нашел он утешительное объяснение.
– И давно у тебя, брат, перепой был? – грустно пошутил доктор.
– Так в октябре. После госпиталя в деревню на хозработы направили. Уж там и оторвался. Упоили местные так, что с бабой ничего не вышло. Так и ушла, сказав: «Отдохни, касатик, сил наберись». Добрая баба была. Кровь моя от нее взыграла, да что-то быстро успокоилась.
Почему он доктору об этом рассказал, Николай и сам не знал, только очень его это мучило. Кому скажешь о такой слабости? Вот доктору можно посетовать. Хороший доктор!
– Так-так, – перебил тот его размышления, – думаю, это пройдет у тебя. Время, милый, все лечит. Домой вернешься – молоко пей, воздух деревенский вдыхай. Молоко, свежий воздух и родной дом от любой напасти лечат. Тебя дома мать ждет, наверное, иль девку добрую приманил?
– Да есть там одна – соседская девчонка, теперь, поди, выросла. После армии женюсь.
– Ну, дай вам бог счастья!
Скоро после этого разговора завершилась у Николая солдатская жизнь. Так и написали в военном билете: «комиссован по болезни». Ему казалось, что никакой болезни нет. Руки-ноги целы, голова иногда гудит, но и раньше у него бывали головные боли, а слабость постепенно отступала. В общем, зря его отпустили раньше времени, хотя с другой стороны, теперь он свободен, долг перед Родиной выполнил и возвращается домой.
Возвращался Николай в радостном настроении, которое усиливалось веселым скрипом февральского снега. Зимнее солнце направляло лучи к снежному покрову, переливавшемуся яркими бликами и создававшему настроение. Пока шел по селу к родному дому, соседки его приветствовали: «Добрый день, солдат! Совсем вернулся? Вот Симе радость: сына дождалась!». Мужики обстоятельно здоровались за руку, на работу торопили: «Мужиков в колхозе мало. А с бабами что сделаешь? Юбкой мотать, да языком болтать – порты не слатать».
Дошел солдат до своего дома, что под горой притулился: домик – крошечка, в три окошечка, сени покосившиеся, ступени повыбиты. Тяжело, видно, матери хозяйство в порядке держать. Вошел, слегка пригнувшись: мал ему дверной проем, да и комнатка тесная. Мать у печи на корточках сидит. Оглянулась, увидела сына, охнула, подскочила к нему, прижалась к холодной шинели.
– Ой, Коленька, я и не ждала тебя, сердечного. Да что я говорю? Ждала, ждала, конечно; так не думала, что сейчас вернешься.
Она дрожащими руками пыталась расстегнуть солдатскую шинель.
– Ну что вы, мама? – смущенно пробурчал Николай, снимая шинель, поправляя гимнастерку. – Я сам, уж не маленький. Есть у вас квас? Пить хочу.
В горле Николая пересохло, а в душе всколыхнулась жалость к матери, резко постаревшей за время его отсутствия и сгорбившейся под тягостью деревенской жизни.
– Как вы жили, мама, одна-то?
– Так дочери навещают, Варя с мужем к нам в село перебралась. Они дом поставили за прудом, – мать торопилась рассказать сыну все наболевшее, и колготилась в неуемном старании его приветить. Побежала в сени за квасом, принесла большой ковш с питьем, пряно пахнувшим родным домом. – Нюра вот забегает, чего помочь – всегда готовая. Ты, сынок, женись на ней: хорошая девка, работящая и добрая. Да вон она бежит.
Мать махнула рукой на окно, за которым спешила к дому высокая девушка. Подбежала к калитке, остановилась, поправила головной платок, одернула короткий полушубок и медленно двинулась по саду, тихо спящему в зимнем покое. Николай глядел на Нюру – узнавал и не узнавал: шла по саду статная красавица – глаза горят яркими звездами, губы улыбаются, притягивая и завлекая. Затмила сразу мелькавшую в памяти Аллу Дмитриевну. Понял Николай: в разлуке он именно к ней, Нюре сердечной, стремился. Не зря, значит, тогда в колхозном амбаре велел его дожидаться.
– Тетя Сима, нет ли у вас соли немного? – зазвенел в сенях Нюрин голос, радостно сообщая, что спешит она к своему счастью, да не знает, прилично ли столь откровенно спешить. Вот и сама влетела в комнату и, увидев Николая, неумело соврала, – А я и не знала, тетя Сима, что сын ваш вернулся.
– Да будет уж, егоза! Небось, за тем и бежала, – с легкой усмешкой заметила Серафима. – Ты проходи, проходи, не стой в дверях. Коленька, что ж гостью не привечаешь? Ой, заболталась, мне ж в курятник надо: с утра не глядела, как мои хохлатки там.
С этими словами мать исчезла из комнаты, оставив молодых разбираться меж собой. «Надо бы скорее женить Коленьку, – подумала, – а то загуляет, как отец его покойный. Долго тот угомониться не мог». Вспомнила Сима Петра, и взгрустнулось: жизнь пролетела, муж умер, сыновья разъехались. «Если Николай на соседской девчонке женится, – размышляла, – в селе останется. И буду, даст бог, внуков нянчить. А сейчас надо по хозяйству посмотреть, к соседям заглянуть. Первая встреча – она самая важная, от нее все начнется!».
В комнате стояли двое, ощущая возникшую неловкость. Наконец, Николай произнес:
– Ты проходи, Нюра, садись, – он приставил к столу две табуретки и сам сел. – Как живешь?
– Хорошо. Спасибо, Николай Петрович! – ответила девушка, пытаясь расстегнуть полушубок. – Жарко у вас натоплено, не продохнешь.
– Что ты меня как чужого величаешь? Мы ведь женимся. Не передумала?
Уверен был, что не передумала, видел, как блестели девичьи глаза, для порядка уточнял.
– Нет, Николай Петрович, – смутилась Нюра, – не передумала. Только вы-то давно не писали. Городскую, наверное, завели?
– Никого я не завел. Городские, Нюрок, они, думаешь, лучше деревенских? Нет, – уверил он девушку. – Впрочем, ты тоже городской станешь. Поженимся и в город уедем.
И не собирался вовсе уезжать, внезапно возникла эта мысль, подгоняемая убожеством дома. Нет, не для того он по миру проехал, чтобы здесь, в нищете деревенской, загибнуть. Знает он теперь, как люди живут, не обремененные сельскими хлопотами.
– Да кто ж нас из колхоза отпустит? – прервала его размышления Нюра. – В городе паспорт нужен, а паспорт нам не выдадут.
– Выдадут, – твердо произнес Николай, так твердо, что и сам поверил. – Я добьюсь, ты об этом не думай.
– А тетя Сима одна останется? – задала Нюра вопрос, в котором проявилась вся ее надежда на то, что дело меж ними слажено, и она теперь точно невестой стала, а значит, и о свекрови думать должна.
– Не останется, – ответил Николай, – устроимся в городе и к себе заберем.
Все решил Николай. Умел он быстро решать и быстро делать. Через два дня расписались и свадьбу сыграли. Денег, конечно, не было, да односельчане принесли с собой, что могли. Им только дай повод для праздника! Чтобы молодые запомнили этот день, обрядили тройку: лошади-тяжеловозы смешно смотрелись в ярких лентах и невесть где добытых бубенчиках, сани укрыли овчинными тулупами. Сестра Варя лисью шубу для такого дела не пожалела: постелили ее на лавку, чтоб молодые в богатую жизнь въехали, с заездом в сельсовет. Председатель колхоза поздравил молодых, заметив при этом, что в колхозе работящие руки нужны: «Пару дней погуляй, осмотрись, и приходи в правление, подумаем, куда тебя определить».
Ничего тогда Николай не ответил, а через два дня пришел к председателю в город проситься. Причину вескую нашел: болен, мол, болезнью неизвестной, в город нужно к врачам хорошим. Да и не работник он здесь, поскольку силы, нет-нет, да его покидают. Врал, конечно, про болезнь расписывая, однако председателя убедил. Тот либо испугался чего, либо решил не мешаться, и отпустил болезного, поворчав для приличия.
Николай и Нюра, получив паспорта, уехали в город. С работой уладилось быстро: взяли их на стройку – жилье себе и другим строить. Сначала перебивались в общежитии, потом в квартиру перебрались. На работе Николая уважали, хотя были и такие, кто презрительно обзывал его деревенщиной. Но это кто? Мозгляки городские, работать не умеющие, за папеньками отсидеться готовые. Таких в его окружении мало было, а в основном народ работящий, многие, как и он, в город за счастьем приехали. Мужик – он везде мужик: и в деревне, и в городе. У него любое дело спорится.
По-разному катилась жизнь общежитская. Неприятности и радости жильцы вместе переживали. У Нюры подружки завелись, у Николая – приятели. Вечером на чаек друг к другу заглядывали, в праздник на общей кухне собирались. И шла гулянка до утра, только Николаю это не нравилось. Казалось, общая жизнь отнимала у него женщину, которая, по всем правилам, принадлежала только ему.
– Ты, Нюра, куда из дома бежишь? – выговаривал он жене. – Меньше с бабами трепись. У нас – своя семья, о ней заботиться надо.
– Я и забочусь, Коленька, – отвечала она. – Только не след от людей отворачиваться. Мы соседей поддержим, они – нас.
Понимал Николай, что нет у Нюры главного бабского дела: никак они ребенка не заведут, потому, наверное, все общежитские дети для нее как свои были – с одним посидит, с другим погуляет. Безотказная она к подругам, обремененным житейскими нуждами и заботами о детях. Даже когда квартиру получили и от всех отделились, Нюра, по старой памяти, к подружкам бегала в их нужде помогать.
Но и своя нужда у них имелась: временами накатывала на Николая неизвестная болезнь, снова тошнило и рвало, и силы мужские его оставляли. Через полгода после отъезда в город пришло письмо от сестры Варвары. Сообщала она о жизни сельской и о том, что похоронили друга его закадычного – Серегу. Тот вернулся из армии совсем больной – худой и бледный до синюшности, волосы на голове выпали, щеки впали. Рассказывал, что долго лежал в госпитале. После возвращения слег в больницу со страшным, в селе неизвестным, диагнозом: рак крови у него обнаружили. Откуда у здорового деревенского парня такая болезнь, никто понять не мог, а сам Серега отмалчивался. Иногда лишь, когда выпивал, кричал про страшную долю защитника Родины, про коров и собак мертвых, валявшихся на дорогах, про гриб смертельный, от которого никто не спасется. Так и усох на глазах односельчан.
Размышлял Николай о пережитом Серегой, вспоминал, как свиделись они на армейской дороге, и сказал ему друг: «Вернусь, если жив останусь». И не то чтобы Николай трусливым был, но боязнь его тогда подкосила. Этот гриб, наверное, и им с Нюрой детей не давал.
Время ли лечило, врачи ли помогли, или, как верил Николай, Нюрино старанье и терпенье повлияло, только постепенно болезнь отступила, все реже и реже напоминая о себе, а через три года в семье Людочка родилась. Нюра над ней дрожала, работу оставила, дочкой и домом вплотную занялась, чем Николай, впрочем, доволен был. Баба должна дома сидеть, за детьми глядеть, быт семейный налаживать, а строить дома, да на работу ходить – не ее это дело. Он – мужик, и способен семью обеспечить.
Скоро в семье и сын народился. Геннадием назвали, родовитым, значит. Пусть род Егоровых продолжает: не от кузнеца сельского, и не от помещика, родство не признавшего, а от Николая, твердо стоявшего на ногах. В общем, жили, детей растили, богатство копили, родственников и односельчан не забывали, летом в гости к матери ездили. Та наотрез отказалась к ним перебраться, заявив, что желает помереть в родной земле.
Словом, все у Николая с Нюрой шло, как у людей. Но было что-то, что не давало покоя. Болезнь прошлая могла вернуться. Друг погиб не пойми от чего, а скорее от той же болезни, что у Николая: Серегу она сильно зацепила, а к Николаю милостивой оказалась. Городская жизнь трудна: здесь каждый сам себе хозяин, и никто, как в селе, не поможет, не поддержит. Были у Николая приятели, с которыми иной раз душу отводил, да так, что Нюре приходилось из дому бежать. А как она хотела? Мужику трудно на земле жить, и требуется ему иной раз расслабиться. Николай, не в пример многим, не часто пил, но изредка бывало. Тогда кричал жене и детям: «Кто в доме хозяин? Я! И должны вы меня слушаться. Я вас всех пересчитаю, всех во фланг поставлю!». Стучал кулаками по столу, словно выбивал из него, а заодно из себя, свои страхи. Кричал слова бранные, такие, что в селе и на работе пролетали обычным порядком, однако дома, по уговору с женой, не говорились. В этих словах вылетала из Николая вся злость, замешанная на боязни и неуверенности.
Страх болезни и городская неразбериха изнуряли. И еще была одна тайна, о которой никому не говорил. Тайна, мучившая безмерно. Варя переслала ему телеграмму из Сочи, в которой кратко сообщалось: «Сын растет». И подпись в телеграмме стояла: «АД». Приставала к нему сестра с расспросами, похохатывала над ним, но никому больше о телеграмме не сказала. А у Николая догадка ясная: не зря, значит, они с Аллой Дмитриевной поработали, сын у нее, значит, растет. Да ведь это и его, Николая, сын. Вместе с догадкой и мука сердечная пришла. Как о том жене скажешь? Как детям о брате сообщишь? Да и как его старший сын живет? Большой уже, наверное. Надо бы съездить, повидаться. Только уговор у них был с полковничихой: никогда не встречаться больше. Да и адрес она не сообщила, почему-то телеграмма из Сочи пришла. Отдыхала ли там, живет ли? Не станешь ведь по всей стране за ней мотаться.
Оттого, что не мог он помочь своему старшому, Николай усердствовал над младшими: заботился о них нескончаемо, гоня от себя мысль о мальчишке, где-то растущем без него. Теперь бы ни за что не связался он с Аллой Дмитриевной. Зачем она ему? В его жизни такая красавица живет, все вокруг завидуют: и добра, и умна, и хозяйка хорошая. Не станет от мужа тайком бегать, не той породы. А впрочем, кто их, баб, разберет? Возникала такая мысль, и мучила она Николая тем сильнее, чем заботливей относилась к нему Нюра.
Годы мчатся в бешеном ритме. Недавно увидел, как жена седой волос с виска выдернула. Не хочет женщина стариться. Не понимает, глупая, что она – любая – ему всех дороже. Все его болезни и беды переживает, только об одной не знает: Николай никак не решится про удаль свою солдатскую поведать. Однажды решился. К слову тогда пришлось: заговорили о Генкином будущем. Пацану лет пять исполнилось, подарили ему игрушечный автомат, и малец с ним не расставался: спал с автоматом, ел с ним же. Как настоящий боец неподвижно «стоял на часах» минут по десять. Для сына это – почти подвиг: он и двух минут спокойно не посидит. Нюра смеялась:
– В батю пошел, хорошим солдатом будет.
– Солдаты не только «на часах стоят», – критически оценил отец армейскую прыть сына. – Они еще в полном обмундировании по болотам пробираются, на турнике колесо крутят.
– Это нам пока рано, – вступилась за сына мать, – ты, отец, попроще задание дай. Сам, небось, не только по болотам плутал. Рассказывал же: дома строил, машины с грузами водил.
Нюра, весело глянув на мужа, внезапно спросила:
– Наверное, и от баб отбою не было?
– А как же ты думала? – в тон ей ответил Николай. – Я парнем видным был.
– И как же ты, видный парень, ко мне вернулся?
– Лучше тебя, Нюрок, не нашел.
– А искал? – спросила жена впрямую и посмотрела на него так, словно все она знает о его прошлой жизни.
Тут бы и сказать Николаю: «Не искал, они сами меня находили. Одна – так и сына выпросила. Растет сейчас малец в Воронежских краях». А Нюра, непременно растерявшись, спросила бы: «И что же ты мне об этом не рассказал?». Он бы ответил: «К слову не приходилось. Да и неважно это». «Как неважно? – возмутилась бы Нюра. – Где-то у тебя сын растет, а я ведать о том не ведаю. Ну-ка рассказывай все». Тут бы он и рассказал. Нюра обязательно обиделась бы, детей забрала и укатила бы в село Высокое. Назад не вернулась бы. Не простит она предательства. Нет, нельзя такого допустить. Потому и ответил жене:
– Некогда мне было искать. Да и кто лучше тебя? Нет таких.
Правду ведь сказал, только не всю: о важном умолчал. Потом жалел. Больше боялся, что семья его крепкая развалится. Осудить всякий может, а понять боязнь и страдание человека – не каждому дано. Может, жена и поняла бы? Только в жизни маленькое присловье «бы» вносит неясность в людские отношения, и человек старается его обойти, не пускает в свою голову мысли с ненадежным присловьем.
А семья жила как водится. Людмила после школы в техникум учиться пошла. Отец дочерью гордится: ученой будет. Может, главным бухгалтером устроится, копейку государственную и семейную со знанием дела считать станет? Генка – неслух, целый бы день футбольный мяч во дворе гонял. Николай к нему строг: если надо и пристукнет маленько. Пора парня к делу пристраивать.
Мечтал он, что сын тоже в строители подастся. Работа тяжелая, но когда дом поставишь, и люди в него с радостью въезжают, чувствуешь свое великое значение. Рабочий человек делом гордится! И не беда, что Генка пока еще этого не понимает: сам он тоже не сразу все понял. Теперь-то люди уважительно его Николаем Петровичем величают, к советам его прислушиваются. Бригадир – он не только на работе командир, он и в личной жизни своей бригады слово имеет. Если бы ему в молодости подучиться, совсем бы другой разговор был. Однако и так есть, чем гордиться.
Про болезнь свою давешнюю вовсе забыл, хотя время от времени она о себе напоминает: то один армейский друг умер, то другой тяжело заболел. Николая болезнь не трогает. Однажды, когда дочка, готовясь к экзамену по истории, бойко рассказывала про первую советскую бомбу, вспомнил он тот ярко-жгучий свет и образ злополучного гриба. Вот ведь, он-то оказался невольным участником испытаний бомбы. Воспоминание это вызвало в нем потребность выпить чего-нибудь покрепче и рассказать жене о страшном событии. Только Нюра, занятая домашними делами и боявшаяся, что муж «уйдет в загул», слушать не стала, оборвав его словами: «Не нашего ума дело – государственные дела обсуждать. Ты бы, Коля, лучше кран на кухне починил». Пришлось ей подчиниться.
Весна наступила рано. Вместе с ней пришли новые заботы. Бригада Николая достраивала очередной дом – самый высокий в городе. Скоро появятся здесь члены приемной комиссии: будут долго присматриваться, выискивать недоделки, грозить штрафами и отсрочкой приемки. Потом посидят ладком и придут к выводу, что дом, в общем-то, готов, а город нуждается в новых квартирах. Не любил Николай эти комиссии: нервов много отбирают, даже при том, что бригада работает на совесть. Перед комиссией следовало душевных сил набраться, проверить, все ли готово, есть ли неполадки, продумать ответы на возможные вопросы.
Стоял Николай в раздумье на верхнем этаже. Устав от тяжких мыслей, любовался округой. В селе с высокой горы далеко вдаль видны просторы необъятные, а в городе такое редко бывает. Сейчас повезло, смотри в разные стороны, любуйся, как город разрастается. Центральные маленькие улочки с одно и двухэтажными деревянными и каменными домами окружены новыми районами. Много построено пятиэтажек, в основном блочных, сейчас же ставятся многоэтажные панельные дома. Квартирки в них, конечно, тесноваты для нормальной жизни, зато отдельные. По всей стране кончается время коммуналок и жилищных неудобств.
Калуга – замечательный город, более шестисот лет стоит. Может, не такой древний, как другие, а событиями богат. Здесь витал дух бунтарства со времен Ивана Болотникова, когда не захотели калужане подчиниться боярской Москве и укрыли атамана. Только крестьянский предводитель, наверное, по неразумению, ушел от них в Тулу, где и был разбит. Знала Калуга и мятежного Лжедмитрия, второго по счету, при котором горожане готовились выступить против ненавистного Шуйского, а потом и против польского королевича, вызванного на Москву. А ведь кем был, по сути, Лжедмитрий? Казацким он был царем, то есть из наших – простых людей. Мысль эта нравилась Николаю, укрепляла в нем убеждение, что простому человеку, имеющему голову на плечах и умелые руки, везде место найдется. Да вот хотя бы Константин Циолковский? Разве без него, калужского изобретателя, развилась бы отечественная космонавтика? Калужане чтят его память, дом, в котором он жил, охраняется. Небольшой домик – деревянный, а вот стоит с начала века! Будут ли через сто лет стоять дома, построенные Николаевой бригадой?
Думал Николай о городе и домах, им построенных, и к детям мысль его не раз обращалась. Что-то сегодня больше о сыне думается. Генка раньше все в космонавты метил, гордился однофамильцем Егоровым, биографию его изучал. Когда в городе открыли музей истории космонавтики, Генке семь лет было. Еще тогда малец просил: «Папа, пойдем в музей, я тоже космонавтом буду, и про меня там тоже станут рассказывать». Смешной был пацан. Сейчас поостыл в мечте своей детской. Кем станет, пока неясно.
– Николай Петрович? – услышал он от внезапно появившегося на площадке незнакомца. – Я к вам.
Перед ним стоял высокий парень лет двадцати. Куртка аккуратно застегнута на все пуговицы, рукава короткие и открывают запястья крепких рук. Брюки, слегка расклешенные, как сейчас носит молодежь. Густые светлые волосы развеваются на ветру. Непокорный взгляд выдает человека самостоятельно мыслящего и независимого.
– Кто это тебя сюда пустил? – недовольно спросил Николай, оторвавшийся от мыслей о сыне. – Нечего по недостроенному дому болтаться. Чего надо?
– Меня зовут Алексеем Михайловичем Деркачевым, – представился незнакомец.
– Ну и что? На работу к нам устраиваться пришел? Так это не здесь, а в кадры надо, – сказал и вдруг осекся, поняв, что фамилия парня ему хорошо знакома. Михаил Семенович Деркачев – полковник из-под Воронежа, и это, стало быть, сын полковника, точнее, сын Аллы Дмитриевны и его, Николая. Он даже растерялся. Однако держался твердо, лишь чуть заметное подрагивание верхней губы показало незнакомцу его состояние.
– Вы не бойтесь, я к вам домой не ходил. Мне с вами поговорить надо, – Алексей подошел близко к Николаю, и тот заметил у парня такое же легкое губное подрагивание. – Мама умерла, а перед смертью сказала, что у меня есть второй отец. Вы не думайте, мне от вас ничего не надо. Мы с отцом нормально живем. Он ничего не знает. Мне вас увидеть важно, какой вы, узнать. Мама говорила, что сильный и добрый. Если что, сказала, к нему поезжай: он поможет.
– Ну что ты мельтешишь? – оборвал Николай. – Взрослый уже, не маленький. Мать, говоришь, умерла? Хорошая была женщина. Пойдем вниз, посидим, о себе расскажешь.
Пытался он спрятать свою неловкость и растерянность. Вот пришел незнакомый парень и сказал ему: «вы – мой отец», и еще спросит: «что же ты, папа, обо мне не беспокоился?». Что ему ответить? Что не до него было? Что не хотелось беспокоить себя мыслями о сыне? Нет, не так это. И не объяснишь, что мальчик этот выросший – чужой ему человек, а дома есть у него дочь и сын. Отец примером для них должен быть. А какой он пример? Настрогал на стороне ребенка, и в кусты. Объясняй, что доброе дело малознакомой женщине сделал, и потом боялся семейный покой нарушить. Несерьезно это. «Подлец ты, Николай Петрович, и точка!» – поставил сам себе диагноз. Спускались по лестнице рядом незнакомые друг другу отец и сын, и каждый хотел понять другого, и боялся, что не поймет. Вышли из дома на улицу.
– Пойдем в столовую за углом, поговорим о жизни, – предложил Николай. – Ты к нам надолго?
Он повел неожиданного гостя на застроенную рядом с новым домом улицу, на которой разместились магазины, кафе и небольшая рабочая столовка. В эту столовку строители нередко заходили пообедать. За год, что работает в этом районе, он отлично изучил столовское меню: недорогое, однообразное, сытное. Работницы здесь – женщины простые и трудолюбивые – привлекали доброжелательностью и радушием. «О чем думаю?» – остановил свои мысли Николай, прислушиваясь к словам Алексея.
– Нет, я вечером уезжаю, – спокойно говорил тот. – Отец, наверняка, волнуется, не знает, куда я пропал. Я ведь ему сказал, что пару дней у приятеля поживу. Боюсь: завтра начнет меня разыскивать. После маминой смерти он сначала потерялся, за меня стал бояться, а сейчас ничего.
– Вы все там же живете – под Воронежем?
– Отец, когда демобилизовался, увез нас в Ярославль – к себе на родину.
– Служил я там. Ты чем занимаешься? Работаешь?
– В строительном учусь – строителем буду, как вы.
– Ну, я-то не учился. А профессию ты хорошую выбрал. – Николай помолчал и вдруг спохватился: парню же помочь надо. – Денег на жизнь хватает?
– Мы с отцом вместе живем, – неопределенно ответил сын, – нелегко, конечно, но живем.
Разговор не получался. В столовой Николай усадил сына за стол в углу у окна и направился к стойке.
– Привет, Маруся, – поздоровался он с раздатчицей, не потерявшей еще надежды встретить человека, желающего сытно пообедать. Она его накормит, и он заплатит ей горячим мужским участием, которое быстро перерастет в семейный уют. – Два обеда, да посытней.
– У нас, Петрович, все сытное, – кокетливо отозвалась раздатчица. – Гость-то твой чтой-то хмурый? Голодный, наверное?
– Это я голодный, – остановил Николай ее рассуждения.
– Так приходи после работы, накормлю, напою, спать положу.
– Угу, – ответил он, не прислушиваясь к женским словам, и затем обратился к кассирше. – Сколько с меня?
Если бы можно было этот вопрос задать сыну и быстро покончить с этим неприятным делом. Он не хотел бежать от ответственности, он не знал, как поступить, и торопливо перебирал в мозгу возможные способы разрешения ситуации. Расплатившись и завершив приветственный ритуал, понес подносы с едой к столику.
Ели молча, иногда задавая друг другу вопросы, и осторожно присматриваясь. Видел Николай: сидит перед ним выросший без него старший сын – настойчивый, по всей видимости, парень, и с сумасшедшинкой, как его мать. Взял и приехал, познакомиться с отцом решил.
– Может, по сто грамм за знакомство? – предложил он.
Алексей от выпивки отказался, сославшись, что на поезд ему скоро.
– Ну, ты как хочешь, а я пропущу стаканчик.
Он снова пошел к раздаточной стойке, долго спорил с Марусей, поскольку час был явно не для выпивона, сумел убедить ее, полагая, что иначе с возникшими обстоятельствами не справится. Вернулся со стаканом водки. Выпил и почувствовал некоторое облегчение. «Вообще, что страшного произошло? – пронеслось в голове. – Сын приехал, познакомиться хочет. Мать ему обо мне хорошие слова сказала. Права Алла Дмитриевна: он сыну обязательно поможет. Надо только понять, в чем тот нуждается».
– Так, говоришь, учишься? – задал Николай вопрос, который, надеялся, прояснит положение. – И долго учиться будешь?
– Еще год остался. Да вы не волнуйтесь, я на стройке подрабатываю.
– А девушка есть у тебя? Жениться не собираешься? – выпалил и подумал: «Что за глупый вопрос? Какое это имеет значение – женится он или нет. Главное, надо понять, простит ли он. Да за что прощать?».
– Жениться пока не хочу…
– Знаешь что? – прервал Николай. – Поедем сейчас ко мне! Я тебя с моими познакомлю. У тебя ведь сестра с братом имеются – Людка и Генка. Хорошие, ты понимаешь, ребята. Они поймут. И жена моя – она тоже поймет, она добрая.
Он решительно встал, схватил сына за руку, тот, поднявшись, руки отцовской не убрал, но твердо сказал:
– Не сейчас. Ты, отец, успокойся. Я в другой раз приеду, и обязательно к вам зайду. Мне сегодня надо было узнать, как ты меня встретишь.
– Узнал? Хорошо я тебя встречу! Я о тебе всегда думал. Не забывал. Ты прости, брат, что не искал тебя. Так вышло.
Николай говорил и говорил, пытаясь словами укрыться от вины своей отцовской. Да ведь это правда: думал, переживал, боялся и не знал, как поступить. Теперь же все встало на место. Теперь он понимает: надо было давно с сыном встретиться. И сейчас он может исправить свою ошибку. Нюра-то – не цербер какой, столько раз его прощала. Разве не простит? Долгие годы их совместной жизни убеждают: обязательно простит. И от этой мысли приобрел он уверенность, вылившуюся в слова, обращенные к сыну:
– Едем домой. Ты же – сын мой!
– Нет, отец, я должен ехать в Ярославль. Там меня тоже ждут. Но я приеду к тебе, сессию сдам и на каникулы к тебе на производственную практику приеду. Возьмешь в бригаду?
– О чем разговор? – обрадовался Николай, будто нашел, наконец, решение проблемы: сын приедет, устроится здесь на работу, и обучит его отец всем тайнам своей профессии. «Эх, Генка, не хочешь, и не надо, – думал он, – есть у меня, кому передать свой опыт».
Так решив, отправились отец с сыном на вокзал. Поезд подошел за пять минут до отхода. Крепко обнялись на прощание, затем Алексей вскочил на ступеньку тронувшегося поезда. Тут только Николай всем нутром своим почувствовал, что уезжает от него близкий, родной человек, и надо бы его немедленно вернуть, домой привезти и сказать своим: «Вот мой старший!». А поезд набирал ход, и одно лишь успел Николай крикнуть: «Приезжай, Леха, приезжай обязательно». Колеса стучали, и сквозь этот стук послышалось ему, будто сын крикнул: «Я приеду, отец, обязательно. Ты жди!».
Медленно шел Николай по уснувшему городу и размышлял о жизни своей. Зачем уехал он из села? Что его сюда поманило? Почему сам не отыскал сына? Почему не сознался Нюре? Испугался? Не поверил, что сможет она его понять? Вернулся он домой поздно, когда все уже спали. «И хорошо, – подумал, – не будут спрашивать, где был. Я сегодня ответить не могу. Но завтра обязательно расскажу».
Ночью приснилась ему Алла Дмитриевна: стояла на краю пропасти и звала к себе. Протянул он к ней руки, и не дотянулся. Рассмеялась она, крикнула: «Иди сюда, Коленька!». И пропала, растаяла, словно и не было. Потом мать пришла, погладила по голове, поцеловала в лоб и, грустно вздохнув, произнесла: «Эх, Коленька, сыночек мой!».
К утру захватила его сильнейшая боль: в тисках голова оказалась, и тиски эти сжимались до невозможности. Не мог встать, руки и ноги не двигались, тело подниматься не желало. Переполошились все в доме. Нюра не отходила, глядя на мужа испуганными глазами. Люда стояла посреди комнаты, не зная, что делать. Генка побежал за врачами. «Прости меня, Нюра», – пытался сказать Николай жене, но губы чуть двигались, а потом и вовсе стали каменными.
Постепенно уплывал Николай из комнаты, все слабее и слабее видя, что вокруг происходит. Вдруг провалился в темноту жгучую. Попытался выбраться из нее, временами сознавая, что везут его по больничному коридору, затем уложили на жесткую кровать. Голоса незнакомые слышал. Кто-то сказал: «Умирает он». Подумалось: «Кто умирает? Я? Не может быть!». И опять мгла все заполонила.
Когда приходил в себя, чувствовал: голова болит, тело окаменело, лежать неудобно. Хотел попросить помощи, да не смог. Видел жену плачущую, дочь растерянную. Их бы поддержать, успокоить, но опять тьма укутывала. Вдруг сквозь темноту прорвалась яркая вспышка, похожая на ту, что поразила Николая в давние годы. Только эта вспышка незлой была и превратилась в приятный свет, от которого лилось тепло и спокойствие. Открылся какой-то длинный коридор, и Николай двинулся навстречу неизвестному. Опомнился: не простился с женой и детьми, не рассказал им об Алексее. Хотел вернуться, да дороги назад не было.
Людочкин свет
Людочка – любимица отца и матери – доставляла многим людям огромную радость. Бабушка Клаша души в ней не чаяла и печалилась, что внучка редко у нее бывает. И когда та приезжала в село Высокое, нарадоваться бабуля на девочку не могла.
– Ягодка моя, – ласково говорила по утру, будя внучку, – пойдем курочек кормить. Рыжая Хохлатка тебя дожидается.
Людочка выбегала во двор с кружкой зерна и весело приговаривала, как бабуля: «Цып-цып, цыпочки, идите кушать, я зерна вам принесла, и водицы налила». Куры окружали ее, бурно лопоча свои куриные признания. Рыжуха, самая смелая курица, садилась к девочке на колени и пыталась клювом коснуться ее губ.
– Это она тебя целует, – смеялась бабушка.
Потом Людочка пряталась в малиннике, собирала ягоду – в кастрюлю для будущего варенья и в свой рот для настоящей радости.
– Ау, – кричала мама на весь сад, – где моя доченька прячется?
Тогда Люда замирала и ждала, когда ее отыщут. Только пес Полкан всегда выдавал: непременно подходил к кусту и громко лаял: «Вот она, наша беглянка. Я ее первый нашел».
Нередко пятилетней девочке приходилось заниматься с младшим братом. Мама усаживала малыша в песочницу, и тот приступал к изготовлению рассыпчатых песочных куличей.
– Ах, какие вкусные куличики! – выговаривала Людочка маминым голосом. – Что еще Геночка нам приготовит?
И Гена с удовольствием засовывал песок в формочку. Если же у него не получалось, то кидал совок и формочку, смешно топая при этом ножками.
– Ну-ну-ну, не злись, – воспитывала его сестра. – Надо постараться.
Сама старательно укладывала песок в формочку, долго утрамбовывала его совком, потом формочку переворачивала, устанавливая на деревянную дощечку, постукивала по дну, как учила мама, затем поднимала, и открывался детям отменный кулич, похожий на те, что пекла в праздник баба Клаша, правда, размером поменьше.
– Вот, – говорила девочка, – получился вкусный пирожок. Сейчас мы угостим мамочку.
Гена смотрел на кулич, а потом резко смахивал его рукой с доски.
– Ну что ты наделал? Зачем ты его сломал? Я же старалась, – возмущалась сестра, обиженная такими действиями брата.
Ей невдомек, что брату обижать ее вовсе не хочется. Просто интересно, как разлетается песок: был куличек, и нет его. И надо снова лепить. Процесс этой лепки его завораживал. Пообижавшись немного, Людочка снова забиралась в песочницу и учила брата строить песочные дома. Куда денешься, если надо маме помочь и за малышом приглядеть?
Несомненно, ей нравилось быть взрослой, почти мамой, у которой такой маленький и несмышленый мальчик. Впрочем, иногда это занятие утомляло, и тогда Люда бежала к маме с одним вопросом: «Когда же мы пойдем купаться?».
Днем становилось жарко, и мама вела детей на речку. Идти вниз по тропинке весело и легко, лишь в одном месте надо аккуратно обойти крапиву, чтобы не обжечься.
– Мама, зачем крапива такая вредная? Никому она не нужна, – с обидой в голосе утверждала девочка.
– Как не нужна? Очень даже нужна. На земле нет, доченька, ничего ненужного, – не соглашалась с ней мать.
– Да? – сомневалась Людочка. – А тараканы тоже нужны?
Это она вспоминала материнскую борьбу с тараканами в городе, и уверенно спорила с ней по вопросу необходимости всего, что есть на земле.
– Наверное, и тараканы для чего-то нужны, – вздыхала мать. – Только мы об этом не знаем.
Они подходили к реке. Мама стелила легкое одеяльце, аккуратно раскладывала на нем вещи, и затем, взяв Гену на руки, шла в воду. Гена замирал в испуге, однако, видя, что ничего страшного не происходит, с удовольствием бултыхался в маминых руках. Людочку же звать в реку не надо: она уже давно в ней пытается плавать, как папа.
– Мама, папа скоро приедет? – спрашивает Людочка в очередной раз.
– Надеюсь, скоро, – отвечает мама, и смышленая девочка по маминой интонации понимает, что та ждет папу ничуть не меньше, чем она.
Семья у них дружная. Папа – самый веселый папа на свете. И еще очень сильный. Он легко поднимает на руках дочь и сына, долго их кружит, словно карусель. А еще плавает далеко-далеко. Когда он приедет, непременно будет учить дочь плавать. Она уже почти умеет. Упрется руками в дно, перебирает ими и движется по воде. Никто и не догадывается, что не плывет. Папа посмотрит и скажет: «Молодец, доча, скоро мы с тобой на другой берег поплывем». Жаль только, что папа не всегда с ними живет в деревне: он работает строителем, и работу свою важную оставить никак не может. Без него не построятся дома, и все дети окажутся на улицах.
Больше всего Людочка не любила днем спать, но мама говорила, что во сне дети растут. Очень хотелось поскорее вырасти, потому дочка с мамой не спорила, ложилась в постель и ждала, когда та, усыпив брата, почитает ей сказку.
Гена капризничал, безумолку лопотал, качаясь в маминых руках. «Если бы мама меня взяла на руки, я бы давно заснула», – думала Людочка. Мама же ее на руки не брала, полагая, что дочка уже большая. Гена засыпал, и тогда мама принадлежала только ей, брала книжку, присаживалась к дочери на кровать и читала очередную сказку: про лису хитрую и злого волка, про Красную шапочку, про Серую Шейку. Эта сказка особенно нравилась девочке. «Добрая уточка, – думала, – как жаль, что у нее сломано крыло».
– Мама, – спрашивала Людочка, – а где сейчас Серая Шейка? Пусть она у нас живет, к нам лиса ни за что не придет.
– Уточка живет в доме лесника. Он всех зверушек защищает, – отвечала мама, стараясь ослабить грустные переживания дочери.
– А крыло у нее не болит больше?
– Не болит, лапушка, – успокаивала мама и уходила заниматься взрослыми делами.
Дел у мамы много: по дому, в саду, в огороде. Впрочем, как папа говорит, мама и сама работу найдет. Людочка точно знает: когда вырастет, всю мамину работу исполнять станет, а мама будет отдыхать и обязательно скажет о ней, как бабушка о своей дочке, Людочкиной маме, говорит: «Нюра, дочушка, мне с тобой полегче стало. Как ты все успеваешь?».
После дневного сна мама обычно водила детей к бабушке Симе – папиной маме, которая тоже любила внучку. Дом ее стоял под горой, недалеко от дома бабушки Клаши.
– Ой, кто пришел? – говорила бабушка, словно давно их не видела. – Чтой-то ты, Нюра, редко ко мне заходишь?
– Да дела не пускают, – оправдывалась мама в ответ. – Дом-то большой, заброшенный, никак не управлюсь по хозяйству.
– И мой тоже на ладан дышит, – вздыхает бабушка Сима, – развалится скоро, как и я, старая. Ты бы Людмилку ко мне чаще пускала.
– Да как же она одна, мама, по селу пойдет?
– А что с ей сделается? Пять лет девке, большая уж. Мне помощницей будет, – баба Сима строго смотрела на девочку, будто раздумывая, что ей можно поручить. – Николай-то скоро приедет? – переводила она разговор на сына.
Дальше слушать не хотелось: бабушка станет причитать, как тяжело жить одной, мама будет бабушку уговаривать перебраться в город. Жаль, конечно, бабулю, однако девочке переживать некогда, поскольку у бабы Симы во дворе стоит заброшенный сарай, в котором по скрипучей лестнице можно забраться на чердак: там валяются старые вещи, ненужные взрослым, да интересные детям. Людочка готова часами играть в сарае.
А еще бабушка Сима учит внучку вязать на коклюшках. Перебирает палочки, к которым приделаны нитки, и возникает нитевой узор, уложенный на специальную подушку. Получаются красивые кружевные салфетки – белые, резные, словно снежинки. Ими можно украсить весь дом, только мама говорит, что сейчас это немодно. «Почему немодно, если красиво?», – сомневается Людочка, и терпеливо, вслед за бабушкой, повторяет движение руки, создавая свой белоснежный узор.
– Ай, мастерица, – радуется бабуля, – кружевницей станешь. Я тебя научу.
Бабушка Сима знает много сказок, и пока вяжет, рассказывает внучке про наливные и молодильные яблочки, про Василису Прекрасную, злого Кощея и Серого волка. Две бабушки у девочки, и к каждой стремится ее сердце.
Лето пролетает быстро, и осенью семья возвращается в город. Дом в городе совсем другой. В нем целых пять этажей, потому нельзя, как у бабы Клаши, выйдя, сразу оказаться в саду. Надо долго спускаться по лестнице, и также долго подниматься. Сейчас Людочка – большая, по лестнице идет легко, а когда-то это было самое нелюбимое дело. Ступеньки огромные и нескончаемые, девочка плакала, приговаривая: «Мама, возьми меня на ручки». Мама тащила вверх тяжелую коляску, либо сумку, и просила: «Доченька, помоги мне, сама подымайся. Еще ступенька, еще одна. Молодец, умница моя». Так за разговорами они и поднимались на свой четвертый этаж.
Не любит Люда длинную лестницу, зато у них есть балкон, и с балкона интересно наблюдать, как люди внизу ходят. Одной на балконе стоять нельзя, а с взрослыми можно. «Папа, – весело щебечет Люда, – смотри, мы даже выше деревьев». «Просто они еще маленькие», – отвечает папа. «Ничего себе маленькие, – думает Люда, – они даже выше папы».
В доме уютно. Мама говорит, что у хорошей хозяйки все блестеть должно, потому она моет и чистит с утра до вечера, а Людочка ей помогает. Девочка тоже хочет быть хорошей хозяйкой. Игрушки сама убирает, и от Гены этого требует. Только тот – маленький, не понимает, как важен в доме порядок.
– Гена, – наставляет сестра брата, – ты почему карандаши разбросал? Я больше тебе не буду давать карандаши.
– Дай, – слышит в ответ и знает, если не дать, брат раскричится не на шутку. Такой несговорчивый и упрямый.
– Мама, – спрашивает Людочка, – почему он меня не слушает? Разве я не права?
– Права, деточка, – соглашается с ней мама, – только Гена еще маленький.
– Я тоже маленькая была, и так не поступала, – возмущается Людочка.
– И ты так поступала, – спорит с ней мать, и примирительно добавляет, – теперь ты – большая, и знаешь, как надо делать. Помоги мне, доченька.
Разве откажешь маме в просьбе? К тому же, Людочка, в самом деле, выросла. Незаметно подошла к своему семилетию, и первого сентября идет в школу.
Этот день пролетел, словно яркий праздник, в котором все ново и все непривычно. В форменном платье с белым фартуком, с большими бантами в тонких косичках Люда сама себе понравилась.
– Ах, какая школьница, – рассмеялся отец. – Портфель больше тебя! Учись, доча, ума набирайся.
Людочке очень хотелось, чтобы папа проводил ее в школу, но тот спешил, как всегда, на работу. Зато мама надела нарядное платье и отправилась с дочкой и сыном в школу. Гена даже присмирел, с завистью глядя на сестру, несущую огромный портфель и большой букет гладиолусов, который кажется намного выше ее. «Теперь, – думал брат, – Люда – совсем взрослая, у нее будет много друзей – целый класс, а у меня – только мама и сестра». Некоторые ребята ходят в детский сад. Гена видел, как весело они играют на детсадовском участке. А его туда не водят, и Людочку не водили, потому друзей у них нет.
Об этом же думала и Людочка, рассматривая ребят, которые, как и она, первый раз шли в школу: нарядные и с портфелями в руках. Мама подвела дочку к группе детей, стоявших под табличкой «1 Б». Это ее класс. Рядом стоит учительница – Татьяна Сергеевна. Строгая, наверное, даже не улыбнется, все ребят пересчитывает и переставляет. Какой-то мальчишка из другого класса подскочил к ним, приставил к голове ладони, напоминавшие то ли уши, то ли рога, и заблеял по-козлиному: «Бе-е-е, бешники».
– Ты что, Миронов, здесь делаешь? – грозно спросила Татьяна Сергеевна. – Быстро иди к своим, а то я тебя снова в первый класс возьму.
– Не возьмете, Татьяна Сергеевна, – ответил мальчишка, – я теперь у других учителей учиться буду.
– Слава богу, Миронов, что я от такого счастья избавлена.
– Я все равно приходить буду, – предупредил Миронов, – у меня брат в вашем классе учится.
– Посмотрим, Миронов, какой у тебя брат, – Татьяна Сергеевна окинула ребят взглядом, выбрала из всех вихрастого мальчишку и спросила, – ты Миронов?
Тот кивнул в ответ.
– И как тебя зовут?
– Женькой, – пробурчал вихрастый.
– Так вот, Женя, встань в пару с этой девочкой. Как тебя, девочка, зовут? – спросила учительница у Люды.
– Людмила Егорова, – деловито произнесла Люда, однако учительница уже не слушала, перейдя к другим парам.
Шумно, непонятно, по радио раздаются веселые детские песни. Родители оттеснены от детей: теперь они самостоятельные. Все построены по классам. «Надо же, как много ребят, – думает Людочка. – Какие они? Конечно, хорошие. И веселые. Вон как смеются». Только первоклассники притихшие: им все в новинку. Бывшие детсадовские встали парами. Им легче: они знакомы. И у Людочки подружка нашлась – из ее дома. Сразу веселей стало: не одной в школу идти.
Бесконечно долго говорят взрослые: директор, строители, ремонтировавшие школу, учителя. Людочке невтерпеж: когда же в класс поведут? Но вот директор объявил: «Дорогу нашим первоклассникам. В добрый путь!». Так и хочется сорваться и побежать, да сначала проходят ребята из первого А. Наконец, наступила их очередь.
– Ну, малыши, не дрейфь, – весело сказал первоклассникам мальчишка из старших.
Почему это они – малыши? Малыш – Генка. Он еще дома с мамой сидит, а она – Людмила – ученица, она стала взрослой. Татьяна Сергеевна повела ребят в класс, Людочка шла во второй паре, за руку с Женей Мироновым: вдвоем нестрашно. В классе учительница посадила ребят за парты и стала рассказывать о школе, о том, как они теперь будут жить. Людочка уверена: будут жить хорошо, и все ребята станут отличниками.
Первый школьный день пролетел в волнениях, сомнениях и радости. А потом начались школьные будни, жить в которых интересно, хотя и очень трудно.
Школьные годы, говорят, чудесные. Что ж? Встречала Людочка школьные чудеса, только они, девочка это быстро поняла, не сами по себе делаются. Разве не чудо – читать не умела, а теперь сама читает книжки интересные? Чаще всего сказки: в них чудеса разные, звери добрые, царевичи храбрые, Василисы Премудрые и Прекрасные. А еще потрясла ее книжка про Муму. Бедная собачка и бедный Герасим! Разве можно убить друга? Такое зло сотворить может только бессердечный человек.
В детском уме ужились жалость к Герасиму и обида на него, хотя и понимала: всему виной злая барыня, бездумно и жестоко расправлявшаяся с беззащитными людьми и животными. Наверное, из этих переживаний возникло у Людочки стремление защищать людей и помогать тем, кто нуждается в поддержке и помощи. И когда отец, ее любимый отец, приходил домой пьяный, она бросалась на защиту матери.
Что происходило у родителей, дочь не понимала. Жили дружно, отец много работал, а еще помогал матери по хозяйству, занимался с детьми. Самыми замечательными были дни, когда он отправлялся с ребятами на прогулку. Они уходили с ним в парк: осенью бродили по листьям, слетевшим с деревьев, и собирали из них осенние букеты, зимой катались на санках и лыжах, весною наблюдали первое появление на земле светло-зеленой травы и на деревьях нежной листвы. На лыжных прогулках определили четкий маршрут – сначала по лыжне вокруг парка, потом на горку, которой служил высокий берег пруда. Иногда к ним присоединялась мама, только Людочка предпочитала прогулки с отцом, поскольку тот давал им большую свободу и не охал над каждым детским падением.
Отец был веселым и добрым человеком, сильным и смелым. А когда, время от времени, на него накатывала болезнь, становился хмурым и всем недовольным, подолгу лежал в постели и мало ел. В такие дни Людочка старалась вести себя потише, не задавать бесконечных вопросов, не приставать с играми, в которых от отца требовалось самое живое участие. Болезнь отступала, и снова отец с дочерью наслаждались дружеским общением.
Людочка точно знала: отец ее очень любит, даже больше сына. Им он, несомненно, гордится, но любовь и гордость – не одно и то же. С обоими детьми отец бывал в меру строг, и в меру снисходителен.
Когда же он приходил домой выпившим, будто менялся. Кричал, что всех построит и приучит к порядку, что они, то есть мама и дети, живут за его счет и не ценят этого. Начинал приставать с упреками к матери, и та, обычно спокойная и добрая, отчего-то сжимала нервно губы и требовала, чтобы он проспался. Отец орал злые и грязные слова, бил кулаками по столу, швырял в мать все, что попадало под руки. В такие минуты Людочка, переживая за мать, вставала между родителями и кричала отцу: «Прекрати! Уходи от нас!». Отец стрелял в них злыми глазами, в которых метались молнии. Вдруг, увидев дочь, обмякал и уходил спать.
Бывали случаи, когда отец не успокаивался, и приходилось бежать из дома, чтобы остановить поток его злости, направленный на близких людей. Тогда они с мамой подолгу бродили по улице, мерзли в холоде, мокли под дождем, нетерпеливо дожидаясь заветного часа возвращения. Наутро отец просыпался прежним: добрым и ласковым, просил прощение, старался всем своим видом загладить вину за прошедшее буйство. Мама прощала, и дети прощали тоже. Всем казалось, что теперь, наконец, отец понял: они любят его и бесконечно ему нужны. Привычный, добром и заботливостью окрашенный быт возвращался в семью.
Школьная жизнь текла с переменными успехами и неудачами. Училась Людочка легко: ее исполнительность и ответственность давали неплохие результаты. Учителя хвалили, одноклассники ценили за доброту и надежность. В дневнике пятерки перемежались с четверками, изредка попадались тройки и двойки, что свойственно любому нормальному школьнику. Люда была неизменной старостой класса, хотя занятие это довольно трудное, поскольку быть между молотом и наковальней, между учителями и одноклассниками, принимать правильные решения, за которые тебя уважают и те, и другие, далеко не каждому удается. Ей удавалось. По всей видимости, этому способствовали природная доброта и свойственное ей чувство ответственности.
Всем казалось, что жилось Люде легко и просто, без каких-либо острых переживаний и гнетущих мыслей. А переживания и черные мысли были. Наиболее сильно потряс ее разрыв с задушевной подружкой – Танечкой Завьяловой, той самой девочкой, которую приметила Люда на сборе первоклассников первого сентября. Татьяна Сергеевна рассадила за парты мальчиков с девочками, полагая, что это наиболее разумно для учебы, поскольку первые будут меньше хулиганить, а вторые смогут на них положительно влиять. Так и сидела Люда почти все учебные годы вместе с Женькой Мироновым. Но сидеть на уроках за партами и дружить – не одно и то же. Таня и Люда были неразлучными подругами, и при любой возможности, конечно, садились за одну парту.
Таня – тонкая натура, занималась музыкой, писала стихи, много читала. Мир ее семьи был совсем другим. В отличие от простых, приехавших из деревни, Людочкиных родителей, Танины считались высокообразованными интеллигентами. Книги об искусстве, пластинки с записями классической музыки, разговоры о высокой литературе, – все это привлекало и притягивало, и на подругу Людочка смотрела, как на необыкновенную личность, всегда добровольно ей подчиняясь.
К новому году семиклассники ставили для подшефного класса сказку «Золушка». Бурно выбирали участников будущего спектакля.
– Пусть Егорова будет Золушкой, – сказал Женька, – у нее волосы светлые, и вообще она похожа на Золушку из фильма.
– Егорова похожа? – переспросила непререкаемая отличница Катя. – У тебя Миронов, беда с глазами, надень очки. Егорова вовсе не похожа на Жеймо.
– Зато похожа на Золушку, – отпарировал Миронов.
– А может Завьялова будет Золушкой? – предложила Лена, мечтавшая подружиться с Таней. – У нее и платье есть подходящее для бала.
– Правильно, пусть будет Завьялова, – раздалось несколько голосов.
– Но ведь у нее темные волосы, – отмела предложение Катя.
– Перекрасит волосы или парик наденет, – нашла выход Лена.
– Ха-ха, Золушка в парике. Давайте ее еще и обреем, – заерничал Миронов и обратился к Завьяловой. – Ты, Танька, парики часто менять станешь или одним обойдешься?
– Дурак, – этим словом Таня показала все свое презрение к Миронову. – Ты бы лучше алгебру учил, у тебя двойка в четверти.
– Парик – не выход, – продолжила обсуждение непререкаемая отличница, – у Татьяны глаза темные, их не перекрасишь.
– А кто сказал, что Золушка должна быть светлой? – спросил Серега Карасев, тайно влюбленный в Завьялову.
– Добро всегда светлое, – наставительно произнесла Екатерина. – Таня пусть играет мачеху.
– Ну, нет, – заявила та, – мачеху пусть играет кто-нибудь другой.
Разгорелся спор, в котором нельзя было ничего понять. Наверное, так и не пришли бы к общему решению, если бы не классная – учительница музыки Ольга Васильевна. Она долго слушала споривших ребят и вдруг спросила:
– Ребята, а какая она – Золушка?
И ребята стали перечислять: красивая, умная, добрая, веселая, заботливая.
– А какая главная черта ее характера? – снова задала вопрос Ольга Васильевна.
И все ответили – «доброта».
– Кто из девочек кажется вам самой доброй? – направляла учительница размышления ребят.
– Я и говорю, – внезапно среагировал Миронов, – Егорова. Она мне всегда контрольные дает списать.
Может, и не прав был Женька, но все с ним согласились. Так Людочка получила главную роль в сказке, и была счастлива, поскольку Золушка ей очень нравилась. Мачехой избрали Катю-отличницу, а Лена и Таня стали дочками мачехи. Женьке поручили роль шута, поскольку тот фокусы показывает даже на уроках. Принцем назначили Карасева. В конце концов, оказалось, что такой расклад всех устроил, и начались репетиции.
К спектаклю мама сшила красивое голубое платье – волшебное, с длинной пышной юбкой. Людочка чувствовала себя в нем настоящей принцессой. Женька смастерил из босоножек и фольги хрустальные туфельки, за что получил благодарность Ольги Васильевны: «Я всегда знала, Миронов, что у тебя светлая голова и отличные руки». Серега вдохновенно произносил на репетиции слова любви, хотя втайне мечтал их сказать не Золушке, а Завьяловой. Таня и Лена придумывали все новые и новые козни для Золушки и так в этом объединились, что последнее время Люда чувствовала себя неуютно рядом с задушевной подругой. Екатерина была по-матерински строга и всем своим видом выражала суть жестокой мачехи. Ее даже побаивались Димка Петров и Вовка Старостин, игравшие роли отца и короля. Роль волшебницы поручили Ольге Васильевне, решив, что в таком серьезном деле неплохо объединиться с любимой училкой, подходившей на эту роль еще и потому, что все школьные праздники и чудеса происходили при ее обязательном участии.
Наступил день спектакля. В актовом зале собрались ребята из начальной школы: шумные, неугомонные, счастливые в ожидании представления. Ольга Васильевна, руководившая постановкой, собрала актеров за кулисами, посмотрела на их костюмы, грим, прически и повела последние наставления:
– Не волнуйтесь, друзья мои, все будет хорошо! Роли вы знаете, слова помните. Ты, Петров, не опаздывай, на сцену выходи сразу, как поднимется занавес. Лена, не слишком картавь, а то зрители не поймут, что ты говоришь. Таня, у тебя все отлично, только в песне точно попади в ноты. Женя. Где Женя Миронов? – Ольга Васильевна взволнованно оглядела ребят, и все поняли: она страшно напряжена.
– Не бойтесь, Ольга Васильевна, я здесь, – подал голос Миронов из-за ширмы. – Я костюм поправляю.
С этими словами он вышел на сцену, и все участники спектакля расхохотались: перед ними стоял настоящий клоун, добрый шут, замечательный фокусник. В руках у клоуна то возникал, то исчезал маленький резиновый мячик.
– Вы, ребята, не волнуйтесь, – продолжил он тоном учительницы. – Я с вами.
Раздался звонок, раздвинулся занавес, и началась сказка. Все шло по намеченному плану, и вот наступил момент, когда Золушка должна показаться на балу. Людочка торопливо надела платье и увидела в зеркало, что на груди у нее красовалось огромное чернильное пятно. Платье испорчено. Как? Кем? Почему? Сердце наполнилось отчаянием. Не может Золушка выйти в волшебном платье с пятном на груди. Ольга Васильевна, увидев, ахнула, подхватила свой голубой шарф, дополнявший ее костюм, и изящно уложила его на груди Золушки, прикрыв пятно.
– Вот тебе еще один подарок волшебницы, – улыбнулась она Людочке. – Иди, ты выглядишь отлично, и тебя ждут зрители.
– Спасибо, – сквозь слезы прошептала Люда и побежала на сцену.
Она появилась легкая и воздушная, станцевала свой танец, очаровала короля, услышала признания принца и скрылась, потеряв хрустальную туфельку. Потом ее разыскивали по всему королевству, нашли, и влюбленный принц сделал ей предложение. Сказка счастливо окончилась, зрители аплодировали, учителя восторгались талантами актеров. Ольга Васильевна попросила участников спектакля задержаться.
– Ребята, у нас очень неприятное событие, испортившее праздник, – строго сказала она. – Ума не приложу, кто до этого додумался. Во время спектакля бальный наряд Золушки был испорчен.
Учительница раскрыла платье, и все увидели чернильное пятно.
– Ой, – пролепетала Лена, – она, наверное, дома пятно посадила и не заметила.
– Нет, я принесла чистое платье и повесила в классе на стуле, – тихо ответила Людочка. Она бы заплакала прямо сейчас: замечательное платье, сшитое мамой, теперь не наденешь. Только слезами ничего не изменить.
– Тот, кто это сделал, – вступила в разговор Катя, – тебе, Людмила, завидует.
– А чему тут завидовать? – переспросила Таня. – Платье – так себе, и немодное совсем. Я бы его не надела.
– Может, ты это пятно посадила? – зло спросил Женька.
– Вот еще, – пожала Таня плечами, – зачем мне это нужно?
– Ты же Золушку хотела играть, – объяснил Женька.
– Ничего я не хотела, – Таня покраснела и зло ответила, – ты, Миронов, не заговаривайся. Здесь доказательства нужны.
– Какие еще доказательства? – возмутился Миронов. – Все знают.
– Что знают? – закричала Таня.
– Постойте, ребята, – остановила спор Ольга Васильевна, – так нельзя. Платье испорчено, но мы не имеем права обвинять человека бездоказательно.
– А я считаю, что человек этот поступил подло, – утвердила непререкаемая отличница. – Он испортил нам праздник.
– А может, он случайно это сделал? – спросила Лена. – Может, он не хотел, а так получилось?
– Предлагаю не расходиться, пока не выясним, чья это работа, – заявил Вовка Старостин.
– Как мы выясним, если он не сознается? – уточнил Димка Петров.
– Почему – он? А может, это она? – вставила Катя-отличница.
– Давайте выяснять от противного, – предложил Женька. – Кому это точно не нужно?
– Давайте разойдемся по домам, – остановила Женьку Ольга Васильевна, – сейчас мы ничего не решим, а тот, кто это сделал, пусть наберется мужества и признается.
– Никто, Ольга Васильевна, не признается. В подлости не признаются, – поставил точку в споре Серега, до сих пор молчавший.
Все разошлись в скверном настроении. Людочка принесла платье домой.
– Как же это получилось? – всплеснула мама руками, но, увидев на лице дочки боль переживаний, сказала, – что-нибудь придумаем. Можно лиф перешить или, на худой конец, перекрасим в другой цвет.
Мама – замечательная, заботливая мама – всю ночь колдовала над платьем, а к утру оно висело на стуле перед кроватью дочери, без пятна. В этом платье Люда пришла на школьный вечер, и ребята восхищались ею, говоря, что на праздник к ним вернулась Золушка. Только Таня, как всегда красивая и яркая, ничего не сказала подружке, будто и не замечала ее, весело танцуя с мальчишками из восьмого класса. Одноклассники к ней не подходили, даже Серега ее сторонился, и это казалось странным, поскольку все знали: он влюблен в Татьяну.
Людочка спускалась по лестнице. Внизу раздавались голоса Сереги и Татьяны.
– Зачем ты заставила Ленку платье испортить? – прозвучал его недовольный голос.
– С чего ты решил? Мне больше заняться нечем? – нервно рассмеялась Таня. – Может, это не она вовсе, а Катька, например?
– Тань, не притворяйся. Я видел, как Ленка это сделала.
– Да? – в голосе Людиной подруги прозвучали недовольные нотки. – А что же ты не рассказал об этом? Мы бы ее пропесочили как надо.
– Она сама бы до этого не додумалась.
– А может, она из зависти это сделала?
– Тань, ты же знаешь: Ленка не завистлива.
– А кто – я завистлива? – в вопросе Татьяны прозвучала угроза.
– Наверное, раз научила ее, – жестко отрезал Сергей.
– Я ее не учила, – после некоторого молчания Татьяна продолжила, – запомни, Карасев: я никогда и никого ничему не учу. У меня своих дел полно. Так что, пока, Карасик.
По лестнице послышались шаги, бегущие вверх. Люда и Татьяна встретились на лестничном пролете.
– Это ты? Подслушиваешь? – зло произнесла Татьяна.
– Нет, – ответила Людочка и побежала от подруги вниз по лестнице. Если бы на пути разверзлась пропасть, она бы кинулась в эту пропасть, лишь бы ничего не говорить.
– Дура, – услышала вслед.
– Слушай, Егорова, – догнал ее Серега у выхода из школы, – я знаю, кто твое платье испортил.
– Я тоже знаю, и не хочу об этом говорить.
Люда бежала домой, от школы, от подруги своей задушевной, от Карасева, который, как и она, очевидно, раздавлен происшедшим. Закончилась ее дружба, длившаяся много лет. Дружба, в которой она исполняла роль второго плана, прекратилась, как только она попыталась стать первой. Говорят, друзья познаются в беде. Людочка теперь знала: они познаются и в радости. Принять радость подруги, не спугнуть ее удачу, не залить ложкой дегтя ее бочку счастья, порадоваться вместе с ней – Людочка это умела, а ее задушевная подруга на такое оказалась неспособна.
После зимних каникул Таня Завьялова в класс не пришла. Родители перевели ее в другую школу, ориентированную на эстетическое развитие учащихся. Наверное, там она могла с большей возможностью проявить свои творческие способности. В классе ее забыли быстро, только Серега и Люда остро переживали первое разочарование в людях.
Восьмиклассники гудели в преддверии выпускных экзаменов и определении своего будущего. Кто-то планировал идти в девятый класс, кто-то спешил покинуть школу и перейти в ПТУ или техникум. Когда в их класс пришел агитатор из экономического техникума, Люда подробно записала условия поступления, и твердо решила идти туда, поскольку там вместе с профессией быстрее приобретет она взрослость. Да и стипендия, пусть небольшая, совсем не помешает.
– Зачем тебе техникум? – спросил Женька. – Ты же хорошо учишься, тебя в девятый класс возьмут.
– Ты же из школы уходишь? – ответила она вопросом.
– Я – другое дело. Мне надо матери помогать. Брат в армии, вернется – женится. Буду на слесаря учиться, степуху получать, на заводе подрабатывать. Мне самостоятельность нужна. А тебе учиться надо. Ты – умная.
– И я хочу быть самостоятельной. Через четыре года приду на твой завод бухгалтером.
Женька промолчал. Не знал он, как сказать этой девушке, что она ему нравится с первого класса, с того самого дня, как посадила их Татьяна Сергеевна за одну парту. Каждый день, приходя в школу, видел ее добрые глаза и тоненькие косички. Дергал за косички, а она не понимала: так проявлял он свою детскую любовь. Списывая у Люды контрольные и диктанты, присаживался к ней близко-близко, случайно касаясь локтем и чувствуя, как исходит от нее тепло, разливается по нему и его заполняет. Сказать кому – засмеют: девчонки глупо захихикают, парни наговорят гадостей, взрослые начнут учить. И молчал он все эти годы, оберегая свое мальчишеское чувство, никого в него не пуская.
Теперь Люда уходит из его жизни навсегда: не будет больше совместных уроков и списываний, не исполнится его глупая мечта, в которой «она тонет, а он ее спасает». Иногда он провожал ее после уроков и жалел, что дом, в котором она жила, стоит всего в пяти шагах от школы. Если бы пришлось провожать через весь город, или даже страну, он шел бы за ней без оглядки. Эта девочка была строга к мальчишкам и воздушна в мыслях. Обидеть ее недобрым словом невозможно. Так думал он и молчал, глупо краснея и злясь на себя.
Люда смотрела на Женьку и тоже думала о нем. Этот мальчишка шел с ней по школьной жизни, защищая от парней, таких же несносных и неуемных сорванцов. Он таскал ее портфель, провожал до дома, закидывал снежками, сбивал на школьной лестнице. И она знала: он влюблен в нее. А еще она была убеждена, что любовь эта – глупая и детская – совсем не нужна. Какая может быть любовь у четырнадцатилетних подростков? Конечно, жили когда-то Ромео и Джульетта. В те времена четырнадцатилетние считались взрослыми людьми. Она же еще не чувствовала себя взрослой, хотя и желала ею быть. Нет, не с этим глупым сорванцом, вечно смеющимся и веселящим глупыми шутками и фокусами окружающих, станет она взрослой. Ее принц еще не встретился, и к встрече с ним она должна подготовиться – стать большой, умной, красивой.
Вот ее родители – хорошие люди, дружно живут. Наверное, любят друг друга. Не такой любви она ждет. Любовь должна звать на подвиги, переворачивать душу, а не приводить к домашним заботам. Что ее мать? Постоянно готовит и убирает. Последние годы шьет наряды местным красавицам, протыкает иголками свои пальцы, портит глаза в ночных сидениях за шитьем. Разве в этом женское счастье? Отец, конечно, старается, а зарплаты его не хватает. У Люды никогда не было модного платья, мехового пальто, красивой и удобной обуви. Все как у всех, кто не слишком удачлив в заработке.
Зато она верит: придет ее принц, нет, он приедет на белой «волге», выйдет из машины под ее балкон, протянет к ней руки, и она, не испугавшись, прямо с балкона полетит в его объятия. И увезет ее принц далеко от родных мест: может, в Москву, а может и в дальние страны. А Женька? Глупый и смешной Женька – всего лишь друг детства.
Пролетело лето в экзаменах. Даже в деревню Люда съездила только на недельку и умирала там от скуки: местные приятели больше не интересовали, а городские, приезжавшие, как и она, на лето, в этом году не появились. Генка, оказавшийся перспективным бегуном на длинные дистанции, уехал в спортивный лагерь и присылал оттуда короткие весточки, сводившиеся к нескольким словам: живу хорошо, кормят хорошо, много тренируемся. Умерла бабушка Сима, оставив внучке в наследство коклюшки и добрую по себе память. Резко состарилась бабушка Клаша. Хорошо хоть живет не одна, а с тетей Тамарой. Мама в это лето была в основном при дочери, выезжая в деревню только на выходные. Отец как всегда много работал, и все же делами дочери интересовался.
– Как экзамены в школе? – спрашивал, требуя четкого и подробного рассказа.
И Люда рассказывала ему, каким легким был диктант, она написала его без единой ошибки, какой трудной оказалась контрольная по математике, но и с контрольной она благополучно справилась.
– Молодец, доча! – гордился ею отец. – Правильно решила пойти в техникум. Люди с головой, знающие бухгалтерию везде нужны. Научишься, я тебя на стройку возьму. Только поступишь ли? Я слыхал: там конкурс большой.
Люда, конечно, волновалась, однако в глубине души знала: поступит. В августе стала студенткой техникума. В день рождения родители подарили ей золотые сережки.
– Носи, доча, – сказал отец, – это первый знак твоего богатства. Надеюсь, будут и другие.
– Только знаки или богатство ты ей тоже поднесешь? – посмеялась мама.
– Богатство она сама себе добудет, – отпарировал отец. – Я бедных бухгалтеров еще не видел.
Закружилась Люда в новых условиях. Первый курс – тяжелый. Занятий по три-четыре пары, а еще избрали ее в комитет комсомола общественные дела налаживать. То вечер отдыха организовывают, то слет ветеранов труда и войны, то отчеты о проделанной работе, то зачеты и экзамены. На занятиях по-разному: где интересно, а где тоска зеленая. Учи, например, даты первых пятилеток или количество танков в Курской битве, познавай законы органической химии с ее длинными формулами. Зачем это бухгалтеру? Преподаватели утверждают: бухгалтер должен быть человеком образованным по всем направлениям. В жизни неизвестно, что может пригодиться. По своей привычке во всем докапываться до истины, Люда терпеливо учила и впитывала в себя новые знания.
Еще одно событие изменило ее жизнь. Время от времени она встречалась с Женькой. Да-да, с тем самым Женькой, который казался ей совсем неподходящим для любви. Нечасто, правда, но не отказывалась пойти с ним в кино или на танцы. Иногда он приглашал ее в театр. Словом, ухаживал, и она позволяла ему это делать. Женька смешно рассказывал о своих успехах в ПТу, о тайнах металла и стружки. У него были замечательные руки, способные к мастерству, и к новому году он подарил ей изящную шкатулку, которую смастерил самолично.
– Это тебе для писем, – сказал Женька, протягивая подарок.
– Каких писем? – переспросила она.
– Вот в армию уйду и буду тебе письма писать, а ты их будешь складывать, – не растерялся Женька.
– Рано ты в армию собрался, – рассмеялась она.
– Ничего не рано. Через два года в тамбовское летное училище поступаю.
– А тебя примут? – засомневалась Люда.
– Обязательно, я в аэроклуб записался.
Женька повзрослел и стал серьезным. Он пошел в рост. Казалось, старая одежда пытается его удержать в прежних размерах, да ничего у нее не выходит. Плечи у парня расправились, а ноги тянули тело в небеса. Иногда он делал робкие попытки Люду поцеловать, да та уворачивалась.
– Прекрати сейчас же, – говорила грозным голосом, – иначе ты меня больше не увидишь.
– А что я такого сделал? – по-детски оправдывался Женька, и они надолго замолкали.
Шли рядом и молчали. Потом он находил предлог к разговору, и жизнь снова втекала в чудное товарищеское русло, из которого Люда выбираться не желала.
Обидевшись на какое-то слово, он надолго пропадал, и тогда Люда начинала беспокоиться: не звонит, не пишет, не ждет у подъезда. Мама интересовалась: «Что-то давно к нам Женя не заглядывал. Ты бы, дочка, поласковей к нему была. Хороший ведь парень». Внезапно хороший парень появлялся с очередным интересным предложением.
– Поедем на речном трамвайчике кататься, – пригласил ее однажды. – Два часа до острова, там пару часов, и обратно. Позагораем, шашлык поедим, отдохнем.
Впереди маячили экзамены, а жаркий майский день звал вместе с Женькой к речной прогулке, к солнечной поляне, к ничегонеделанию. Люда отпросилась у матери, взяла с собой новенький купальник, в котором мечтала покорить все местное население, точно знала, что Женьку покорит окончательно, и отправилась на встречу с природой. Оказалось, что ребята из Женькиной группы собрались на маевку, как они весело назвали свой речной выезд. Юноши встретили ее радостными возгласами.
– О, в нашем полку прибыло. Не хотите ли, леди, пивка? – соблазнительно улыбнулся ей парень с бутылкой.
– Иди отсюда, Григ, леди пиво не пьет, – нелюбезно отпарировал Женька.
– О, вы имеете власть над этой дамой? – не унимался Григ.
– Уймись, – попросил Женька, – дай человеку освоиться.
Он взял Люду за руку и отвел в сторону.
– Ты не думай, – постарался ее успокоить, – они нормальные парни. Григ – небольшой выпендрежник.
– Я и не думаю, – ответила Люда, хотя, конечно, волновалась. Как пройдет этот день в незнакомой компании? Парни вроде ничего, добродушно улыбаются, даже активный Григ не сделал ничего плохого. А девушки явно недовольны, две из них демонстративно отвернулись при ее появлении.
Вскоре подошел катерок, все дружно поднялись на палубу, уселись, как могли, и запели под гитару песни Высоцкого, бывшие тогда в большой моде у молодежи. «А у дельфина взрезано брюхо винтом», «Спасите наши души!» кричали ребята задорно, очевидно, полагая: чем громче, тем душевнее. Женя был своим среди них и желал, чтобы Люда поняла, какие они замечательные, и почувствовала себя частью этой дружной компании.
– Ты что не поешь? – спросил он девушку, и та уклончиво ответила:
– Я слушаю.
Она слушала и радовалась солнышку, все жарче припекавшему, реке бурливой, добровольно разрезаемой катерком, легкому ветерку, ласкающему кожу и лохматившему волосы. Солнце припекало, грозя обжечь, потому она накинула на себя Женькину майку, которую тот небрежно сбросил, обнажившись для загара.
Какой неизведанный мир ждал ее на острове дальнем, до которого и добраться можно лишь на катере? Высокие сосны провожали, чуть помахивая своими мохнатыми лапами, березы покачивали на слабом ветру ветвями, разродившимися молодой ярко-зеленой листвой. Наблюдая за Женькиными друзьями, Люда заметила, что в этой группе царствует давно заведенный порядок. Григ – всезнающий и многораскованный, наверное, желанный партнер для любовных девичьих надежд. Девушек всего пять, а парней девять, так что мужским вниманием девчонки не обижены. Григ «кадрит» Тамару, и довольно успешно. Лера, Тася и Надя вцепились в гитаристов и демонстрируют окружающим свое владение. Галя искоса посматривает на Виктора. У каждой из них в компании есть свой интерес, и непонятно, почему они неприязненно отнеслись к Жениной спутнице. Виктор и Петруша – любители анекдотов – беспрерывно рассказывают смешные истории и дарят друзьям острые, впрочем, достаточно дружелюбные замечания. Костя, Андрей и Глеб играют на гитарах, сменяя один другого, а то и втроем, задавая песенный тон компании. Коля и Веня – братья-близняшки трудно различимы, но Люда заметила, что у Коли мягкая улыбка и ямочки на щеках, а у Вени под губой маленькая родинка. Они, кажется, оба влюблены в Галю, а та делает вид, что их не замечает.
Кем же является здесь ее друг Женя? Девчонки проявляют к нему дружелюбие, парни уважение. В школе он был фокусником и клоуном, веселым развлекателем, теперь же стал, как Люде показалось, мягким громоотводом от бед.
Приплыли к острову, выбрались на берег, на котором раскинулась поляна, окруженная высокими соснами. Поляне не привыкать принимать приплывших гостей: в нескольких местах следы от кострищ. Расположились у одного из них. Парни занялись костром и шашлыками, девушки готовили застолье. Из сумок и рюкзаков достали шампуры, мясо, бутылки с вином, овощи и фрукты. Заливистый девичий смех призывал парней к великим свершениям на поприще застолья и любви.
– Лерочка, не суй свой нос в костер, поджарится вместе с шашлыком, – пошутил Петя, отметив шуткой, что у нее и в самом деле нос чуть длиннее, чем ей хотелось бы.
– Да ну тебя, Петька, – обиделась Лера, однако, спрятав обиду, примирительно продолжила, – аромат стоит: удержаться трудно!
– А ты не удерживайся, – поддержал разговор Виктор. – Зачем скрывать свои эмоции?
Он многозначительно придвинулся к Лере, обхватил ее за талию и прижал к себе.
– Пусти, – кокетливо вывернулась из-под его руки Лера, – люди смотрят.
– Люди! – обратился ко всем Виктор. – Не смущайте нас, пжалуста: мы хочем любить друг друга.
Ребята веселились, перекидывались шутками, наверное, добродушными и принимаемыми в их кругу, но Люде эти шутки казались пошлыми. Ей было скучно, и она ругала себя за то, что ввязалась в поездку. Девчонки давно уже заманивали ребят прелестями полуобнаженных тел, а она сарафан не сняла, не решившись оказаться в купальнике среди малознакомых людей. Женька пытался ободрить ее взглядами и словами, видя, как не вписывается она в компанию. Парни, конечно, заметили ее девичью привлекательность и старались показать ей, что они тоже ничего. Но чем больше они оказывали ей внимание, тем непримиримее становились их подружки.
Усевшись в стороне от ребят на расстеленное полотенце, Люда принялась читать детектив, который захватила с собой на всякий случай.
– Что читаем, миледи? – перед ней присел Григ, взял из ее рук книгу, прочитал, – «Смерть под парусом». Читали, – немного полистав, прочел, – «она фантастически хороша, томная грация, нервный рот, тонкие белые руки, длинные стройные ноги». О, леди, это о вас.
– Не льсти.
– Я не льщу, я вижу: девушка скучает. Хорошая девушка. Решил поговорить.
– О чем?
– О жизни. Ты, наверное, думаешь: мы – неучи, что с нас возьмешь? А знаешь, почему я в путягу пошел? Отец у меня – начальник большой, у него все есть, а я сам хочу всего добиться. После путяги на завод пойду, буду гайки крутить. Сам. А потом в институт поступлю, при заводе. Инженером стану. Не от студенческой скамьи, а от станка заводского.
В словах Грига звучала привлекательная уверенность. Людмила внимательно посмотрела на собеседника и увидела не того кривляку-болтуна, каким он до сих пор казался, а человека, убежденного в правильности намеченного жизненного плана. Минут через десять к ним подсела Тамара. Капризно сложив губы и манерно опершись на плечо Грига, спросила, придав голосу завораживающую интонацию:
– Уединяетесь? Пойдем, мой свет, к костру на трапезу, пусть девушка почитает. Не будем ей мешать.
– Сейчас, Томчик, приду. Иди, занимай лучшие места, – ответил Григ, аккуратно сняв со своего плеча ее руку. Дождавшись, когда Тамара отошла, предложил, – пойдем к костру, а то Женька буравит меня злыми глазами.
– Пойдем, – она встала и пошла к ребятам, за ней двинулся Григ, потом он опередил ее и, подбежав к костру, сел рядом с Тамарой.
Что произошло, неясно, только Люде стало интересно, и она уже полностью принимала мальчишеские шутки, ее не коробило вычурное обращение «леди», и не придавала она значения косым взглядам девчонок. Усевшись между братьями-близнецами и чувствуя себя уверенно под их добродушной защитой, она рассматривала Грига и сравнивала его с Женькой. Григ – высокий, красивый, умный, знающий, чего он хочет от жизни, – притягивал к себе. Он показался тем самым принцем, который должен приехать на «волге», и хотя никакой «волги» нет, а есть старенький катер, пыхтящий у берега грустное напоминание, что время островной жизни неумолимо идет к концу, Люда поняла: это – ее принц.
Видя грустные Женькины глаза, понимала также, что делает что-то не то, что-то совсем не нравящееся ее другу. Однако это уже было неважно. Распахнулось сердце, рванулось, застучало громко, так громко, что любой и каждый при желании мог его услышать. И Григ услышал: взглянул ей в глаза удивленно, а потом улыбнулся легко. И хотя он по-прежнему «кадрил» Тамару, Люда знала: он обязательно будет искать с ней встречи. По крайней мере, она это предполагала.
В город вернулись поздним вечером, Женька проводил девушку до подъезда, почти не разговаривая. «Обиделся? – думала Люда. – На что? Сам привел меня к ребятам. Хуже было бы, если бы я весь день букой просидела».
– Жень, ты что молчишь? – примирительно спросила она.
– Так, – ответил он. Потом долго молчал и вдруг выпалил, – Людок, давай встречаться.
– Мы и так встречаемся, – сделала она вид, что не поняла, о чем разговор.
– Не так. Я люблю тебя. А ты? – задал он глупейший вопрос, и на него надо отвечать. Да как ответить, чтобы не обидеть этого милого и доброго мальчишку?
– Жень, – потянула она просительно, – не обижайся. Ты – хороший, ты – друг. Но любовь – это другое. Может, когда-нибудь… Ты извини.
Что еще скажешь? И чего еще ждать? Он развернулся и пошел от нее.
– Женя, – крикнула Люда в темноту, но только звук удалявшихся шагов звучал ей ответом.
Через пару дней Григ встретил Люду около дома, и закружилась она в первой любви, полной надежд и переживаний. Все вокруг изменилось до неузнаваемости. Солнце смеялось, согревая теплыми лучами, когда она бежала на свидание к любимому. Дождь тосковал вместе с ней, когда его рядом не было. Да что дождь? Без Грига мир прекращал свое существование. По улицам двигались машины и спешили куда-то прохожие, в кинотеатрах герои фильмов увлекали зрителей трудовыми достижениями и боевыми подвигами, вся страна в едином порыве строила светлое будущее человечества, и в этом строительстве активно участвовали студенты экономического техникума, постигая азы бухгалтерского учета. Только все это проносилось мимо Люды, ибо она воспринимала свою теперешнюю жизнь в зависимости от встреч с единственным, неповторимым, самым умным и самым красивым Григом. Они мало говорили о любви, точнее, о ней совсем не говорили. Просто встречались, шли неважно куда, говорили обо всем, а во всех словах и действиях ощущалось одно: ты – мой, ты – моя, и мы не можем друг без друга. По крайней мере, так чувствовала Люда.
Мчались с огромной скоростью месяцы, и бесконечно длились минуты, в которые Грига не было рядом.
Однажды Люда пригласила его к себе домой. Маме хотелось увидеть молодого человека, внезапно вырвавшего дочь из-под материнской опеки, отобравшего ее у отца. Тот пришел с цветами, и с галантной учтивостью преподнес их:
– Это вам, Анна Васильевна.
– Спасибо, – выдохнула мать и закраснелась, подумав: «А ведь Коля мне цветов не дарил, и никто не дарил».
Она поставила цветы в вазу, и, смахнув слезы с глаз, ушла на кухню готовить чай. Потом пили чай, и разговаривали о жизни. Люде казалось, что мать слишком активно расспрашивает Грига о семье и взглядах на жизнь. А Григ был спокоен, с гордостью рассказывал о родителях, особенно упирая на всемогущество отца, упомянул о том, что любит музыку и старые фильмы, посмеялся с Анной Васильевной над переживаниями Люды, сетовавшей, что комитету комсомола приходится вести яростную борьбу против двоечников и прогульщиков.
– Как ты не понимаешь? – кипятилась Люда, – В наше время нельзя легкомысленно относиться к профессии. Либо учись, либо уходи, на твое место придет тот, кто хочет стать специалистом.
– Какое тебе, дело, Людок, до двоечников? – успокаивал Григ. – У них своя голова на плечах. И ваш комитет их не изменит. Общественная работа хороша, когда пользу человеку приносит.
– Она и приносит, – упорствовала Люда.
– Что она тебе принесла? Беготню за прогульщиками? Кому нужны ваши общественные сборы, встречи ветеранов? Вот Анна Васильевна семьей занимается. И дом уютный, и дети умные растут. А если бы вы, Анна Васильевна, по комитетам бегали, вырастили бы дочку такой замечательной?
– Ну, – протянула Анна Васильевна, – не знаю. У каждой женщины свой путь.
Желая прекратить спор, Люда увела Грига на улицу. И там они спорили и мирились, и снова находили предмет спора, и снова искали способ договориться.
Они присматривались, приглядывались, притирались друг к другу. Обижались, разбегались, и возвращались друг к другу, словно завороженные. Друзья не мешали. В техникуме ребята смирились, что Люда выбрала парня на стороне, и, как они полагали, неглупого парня. Девушки из училища долго отстаивали право Тамары на Грига, а поняв, что такого права нет ни у кого, злились, выражая своим видом презрение к Люде и неизменную доброжелательность к Григу. Тамара переключила внимание на Глеба, и настолько преуспела, что они решили пожениться, не дожидаясь восемнадцати лет. Только Женька, внешне спокойный и весело-неугомонный, не находил себе места. Иногда встречал Люду на улице и провожал ее до дома, иногда забегал к ней домой на минутку, спрашивая, нет ли той или иной книги, помогал ее брату с уроками или рассказывал ее отцу о занятиях в аэроклубе. В этой семье он стал своим человеком, знакомым много лет и с любовью привечаемым.
– Что же ты, дочка, к Жене равнодушна? – спрашивала мама.
– Почему равнодушна, мама? Он – мой друг, и все, – прекращала Люда затеянный матерью разговор.
– В том-то и дело, что не все, – не унималась та. – Парень хороший, добрый, надежный.
– Я другого люблю, мама! – обижалась Люда на материнскую непонятливость.
– Да что ты в нем нашла, дочка? Вертлявый какой-то, ненадежный совсем, – убеждала мать. – Разве такого мы мужа хотим для тебя?
– Мама, – снова и снова объясняла дочь, – мне Григ нравится!
– И что за имя такое – Григ? Григорий – я понимаю, это по-русски. А Григ? Тявканье какое-то, а не имя.
– Мама, есть такой композитор – Григ, и вовсе это не тявканье, – защищала Люда перед матерью любимое имя.
– Композитор… Посмотрим, что это за композитор объявился, – недовольно ворчала мать.
В отличие от матери отец ни слова не говорил о выборе дочери, не смотря на то, что Женька ему нравился больше, хотя бы потому, что тот не представлял никакой угрозы его отцовскому самолюбию. Ради Женьки дочь от него не ускользала. Это происходило из-за какого-то Грига. Впрочем, почему из-за какого-то? Отец Грига был начальником городского стройуправления, а значит, высоким руководителем его собственного дела. Породниться с таким человеком было бы неплохо. «Но это дело будущего, – мыслил отец. – Сейчас Людке рано о замужестве думать, техникум надо кончать». Он ей так и сказал:
– Ты, Людок, замуж не торопись. Это в деревне девки в шестнадцать лет бабами становятся, а городская жизнь – другая.
– Что вы все – замуж, да замуж? – возмутилась дочь. – Не собираюсь я. На четвертый курс перейду, тогда об этом думать стану.
А пока шел к завершению второй курс. Уже переписывали студенты экзаменационные билеты, началась подготовка к экзаменам. И Люда была в числе самых ответственных. Правда, мешал апрель, радовавший горожан ранним появлением листвы и припекавшим солнцем. Время от времени наступали холодные дни, быстро сменявшиеся на теплые, заставлявшие прохожих снимать пальто и облачаться в легкие короткие курточки.
Григ заканчивал ПТУ и надеялся, что отец устроит его в инструментальный цех, откуда можно быстро перебраться в конструкторское бюро и, забыв о станках и железках, окунуться в интеллектуально-творческую атмосферу заводской элиты. Он так и говорил:
– Мы войдем в среду белых воротничков, и вы, моя дорогая леди, станете гордиться своим рационализатором. А потом я стану директором завода и, возможно, министром тяжелой промышленности.
– Плох тот генерал, который не хочет стать солдатом, – разбивала Люда его наполеоновские планы легкой иронией, сознательно меняя порядок слов в известной поговорке.
Впрочем, в ее редакции у поговорки тоже был смысл: будущий генерал сегодня должен захотеть стать солдатом. Ей нравилось доходить до сути дела с самого начала, с отправной точки. И в этом она видела большое достоинство своего друга, не замечая его легкого презрения к товарищам, у которых не такие влиятельные отцы и не столь широкие возможности выбора. Без влиятельного отца жил ее старый друг Женька, одержимый мечтой о планерах и самолетах, только Люду его одержимость, как и его любовь, не трогала.
Однажды отец вернулся домой поздно. Так всегда бывало перед сдачей нового дома строгой комиссии, потому никто в семье не придал значения позднему возвращению. Каждый был убежден: жизнь идет по заведенному порядку. Однако утром отец не поднялся с постели: лежал недвижимый. Люда смотрела на отца, пытавшегося разжать губы и выдавить из себя звуки, а потом и вовсе потерявшего сознание, и испытывала состояние ужаса. Ее отец, родной, самый лучший и близкий, нуждался в помощи. Мать в растерянности металась по квартире, искала в домашней аптечке какие-то лекарства, приговаривая: «Да как же это, Колюшка? Что с тобой?». Люда, боясь, что и мать потеряет сознание, то ходила за ней с кружкой воды, то останавливалась у постели отца, надеясь, что тот очнется.
Генка помчался вызывать «скорую помощь». Молодой врач вошел в комнату, глянул на лежащего отца и сказал: «Немедленно в больницу». В больнице мать совершенно растерялась, услышав страшное слово «инсульт». Она склонилась над больничной койкой и ожидала чуда. Вместе с ней ждала чуда и Люда, не могущая смириться с надвигавшейся потерей. Долго мать и дочь сидели рядом с умирающим. Люда вспоминала детские игры, в которых отец всегда оказывался увлекательным заводилой. Мгновениями она даже чувствовала те далекие ощущения, которые возникали у нее, когда он подбрасывал девочку на руках, или бережно поднимал ее, упавшую с санок в снег. Она любила отца всем сердцем, но последние лет десять не говорила ему об этом. «Как же так? – думала Люда. – Не может папа уйти, мне столько надо ему сказать. Вот сейчас он очнется, и я обязательно скажу, как сильно его люблю!». Отец же в сознание не приходил, лежал на мокрой постели и, наверное, испытывал боль и неудобство.
– Надо сменить постельное белье, – прошептала мать.
Люда взглянула на нее и поняла: та не в состоянии даже двинуться. Она нашла сестру-хозяйку и потребовала чистое белье. Вернувшись, принялась перестилать постель, с трудом передвигая тяжелое отцовское тело с одного края кровати на другой. Впервые в жизни девушка увидела голого мужчину, наготу которого застилала пелена слез. Ей казалось неудобным, что мужчина, тело которого безжизненно лежит на кровати, – ее отец, бессознательно обнажившийся перед дочерью. Да разве стоило думать о каких-то условностях в столь трагичную минуту? Уходил из жизни, от нее уходил человек, давший жизнь ей и живший рядом с ней все эти годы. Как остаться без него, не знали ни она, ни потерявшаяся мать.
Потом были похороны, которые полностью взяли на себя строители отцовской бригады. Если бы не они, не управились бы. С особой остротой поняла Люда, насколько дорог отец не только им с матерью, но и этим людям. Прошло несколько недель, а боль от потери не унималась. Женька – верный друг – не уходил из их дома, проводя много времени с Генкой, дружески поддерживая его в несчастье, а еще бегал в магазин за продуктами, готовил еду и мыл посуду. А еще пытался, как мог, утешить Людину мать, приговаривая: «Ну что вы, тетя Нюра, плачете?». Он не знал, что еще сказать бедной женщине, и с силой потирал лоб, в котором не возникало ни одной подходящей мысли. Другой бы, наверное, и не приходил, дабы не испытывать чувства неловкости рядом с бедой, которую ослабить не можешь, а Женька ежедневно терпеливо выполнял эту непосильную работу. Только с Людой почти не говорил, очевидно, понимая, что не его слов ждет она.
Григ не появлялся: готовился к выпускным экзаменам. Присутствие Женьки в Людином доме ему не нравилось. Люде же равнодушие любимого доставляло боль, не столь острую как потеря отца, но вполне ощутимую. Она молча глядела на Женьку, и тому казалось, что в отсутствии Грига Люда обвиняет его. Он уклонялся от ее молчаливого вопроса и бурчал под нос: «Ты же знаешь, у нас экзамены, и ему сдать их надо на отлично». Наконец, Григ пришел. Люда сначала обрадовалась, только радость ее быстро исчезла, как хвост кометы, мелькнувший в небе. На конце этого хвоста возник вопрос, вырвавшийся у девушки с губ:
– Что же ты, Григ, не приходил? Мне помощь твоя нужна.
– Ну, леди, помощи у тебя навалом, – весело оправдывался любимый. – Я слышал: Женька у вас днюет и ночует. Где найти приют бедному Григу?
– Причем здесь Женька? Он – школьный товарищ. А ты?
– А у меня, извини, важные дела. Женьке все равно, как экзамены сдавать. Я же в институт поступаю. Сегодня сдал документы. Жду от вас, леди, поздравлений и похвал.
Григ был как всегда весел, обаятелен, уверен в своей неотразимости. Он попытался ее поцеловать. Она оттолкнула его, считая предательством и то равнодушие, с которым Григ отнесся к ее беде, и тот поцелуй, который показался ей неуместным. Не стоило ничего обсуждать.
– Не хочу, – сказала она. – Уходи.
– Как знаешь, – ответил Григ, всем видом показывая разочарование. – Нужен буду – звони.
Несколько дней спустя они случайно встретились. Григ шел в обнимку с незнакомой девушкой.
– Привет, – небрежно поздоровался он, – мы с Ликой вместе поступаем. Она – умница, лучше меня в задачках разбирается. Как твои дела?
– Нормально, – ответила Люда.
Раненое сердце ныло, однако надо было жить дальше, без отца и без Грига.
Беззаботная юность внезапно ушла. На летние каникулы Люда устроилась в стройуправление курьером, поскольку нищенской зарплаты матери явно не хватало. Гена, ставший девятиклассником, тоже отправился на сельхозработы в Волгоградскую область со школьным отрядом. Там, на Волге, старшеклассники могли и отдохнуть, и подзаработать денег. Женька уехал поступать в летное училище. Григ, сдав вступительные экзамены, умчался с новой подружкой на юг. Однокурсники тоже «разбежались» по разным уголкам страны. Впрочем, Люде не хотелось видеть никого.
Мать и дочь поддерживали друг друга: потеря близкого человека сблизила их. По вечерам они перебирали отцовские вещи, рассматривали семейные фотографии, говорили о дальнейшей жизни, перестраивали свою жизнь на иной лад.
В один из вечеров, когда Люда возвращалась с работы, незнакомый парень остановил ее у подъезда:
– Девушка, вы не знаете Егорова Николая Петровича?
Люда внутренне напряглась, внимательно разглядывая парня, как будто по его виду можно определить, зачем ему понадобился отец.
– Знаю, а вы кто?
Незнакомец, словно не слыша вопроса, попросил:
– Вы не могли бы его позвать? Мне с ним переговорить надо.
– Не могу, – отрезала она. – Он умер.
– Как? – воскликнул парень.
– Три месяца назад от инсульта, – проговорила она и направилась к подъезду.
Парень развернулся, подошел к лавочке, стоявшей недалеко от дома, сел и прикрыл голову руками. Он явно был ошеломлен известием. Люда подошла к нему и присела рядом.
– Вы разве не знали? – смягчилась к незнакомцу, столь сильно переживавшему смерть ее отца.
– Нет, я сегодня приехал из Ярославля. Мы договорились встретиться, и вот… – парень не мог говорить, казалось, слова застревали в горле.
– Вы кто? – спросила Люда.
– Я – сын, – ответил он.
– Чей? – уточнила она.
– Николая Петровича.
– Неправда, – вскрикнула Люда. – Я его дочь!
– Люда? Как же я не догадался? Мне Николай Петрович о вас говорил, и о Геннадии тоже.
– А мне отец о вас ничего не говорил, и быть этого не может, – утвердила Люда.
Возникла долгая пауза, в которой росла внутри Люды страшная злость. Какой-то хитрец прикрывается именем отца. Зачем? Она откровенно разглядывала парня: высокий и неловкий, длинные руки торчат из коротких рукавов, бурная шевелюра, похожая на отцовскую, и глаза такие же, похожие на ее глаза, губы сжаты точно так же, как сжимал их отец. Незнакомец походил на отца. Это сразу в глаза не бросалось, но, присмотревшись, можно заметить сходство.
– Как вас зовут? – спросила она, потому что надо же что-то говорить.
– Алексей, – парень немного помолчал, очевидно, обдумывая слова, и продолжил, – Алексей Деркачев.
А потом рассказал ей, что знал. И трудно было поверить, поскольку отец никогда, ни единым словом, ни намеком не говорил матери и детям об этом. Услышанное страшно возмутило Люду. Получалось, что отец врал им, обманывал мать, где-то без него рос сын, и он даже не интересовался им. Образ отца – самого честного и порядочного – таял. Не было такого отца, был предатель своей семьи, чужой женщины и старшего сына. Простить такое невозможно. А этот парень – сидящий перед ней брат, кажется, сводный, – уничтожил ее веру в отца.
– Ты вот что, – сказала Люда в сердцах, – к нам не ходи. Незачем маме об этом знать. Уезжай.
– Ты не думай, – ответил он. – Я уеду, только мне хотелось с вами познакомиться, помочь.
– Со мной познакомился, а Генке про тебя знать не нужно. И помощь твоя не нужна. Прощай, – жестко отрезала и пошла домой.
Впервые Людмила была не то что строга, а зла на человека. На Алексея, на отца, на мир – злой и бессердечный. Злилась она и на Грига, и на Женьку. Вспомнила Танечку Завьялову, бывшую подругу, ставшую тоже предательницей. Получалось, что предавали и обманывали все вокруг. Может, только мать не обманывала, да Женька. Но и на них росла в душе обида. Люда – одна, и жизнь ее никому не нужна. Она выглянула в окно и увидела Алексея по-прежнему сидящим на лавочке перед домом.
– Алексей, – крикнула в окно, – иди сюда, шестнадцатая квартира.
Зачем позвала? Жаль стало? А ему ее не жаль? Он уничтожил веру в отца. Хотя нет, он не виноват, и сегодня тоже оказался в беде, потому что остался один в чужом городе. И тоже нуждается в помощи.
Так в жизни Люды появился старший брат – нормальный парень, надежный и добрый. Взял на себя заботу о сестре и брате, иногда помогая денежно, и всегда словом и советом. Только не могли Люда и Гена рассказать о нем матери, боялись ранить ее измученное сердце. Получалось, что они взяли на себя отцовскую тайну и хранили ее. Непросто хранить тайны, и со временем поняла Люда, как трудно было отцу. И еще поняла: обвинять человека легко, понять же его ошибки и признать его право на них – в этом сложность, и в этом главный секрет добрых отношений.
Два долгих года не внесли в ее жизнь серьезных изменений, разве что техникум окончила и стала работать в заводской бухгалтерии. Заводской баланс, финансовые отчеты, денежные счета крепко держали ее голову, не впуская в нее никаких легкомысленных мыслей.
Изредка встречалась с однокурсниками, вспоминала друзей. Женя, окончив летное училище, улетел на своем самолете куда-то на север, иногда присылал короткие письма, в которых мало рассказывал о себе, больше о замечательных людях, живших в холодных краях. Неизменно звал к себе, обещая красоты северного сияния и белоснежной пустыни. Не манили северные земли Люду. Брат после школы поступил в медицинское училище, а потом отправился служить в армию. К тому времени он уже был знаком с армейскими порядками, раскрытыми ему Алексеем, так как и тому довелось исполнить армейский долг по окончании института.
Город разрастался, появились новые районы, которые строили люди, когда-то знавшие отца. Его не было рядом, однако Люда ощущала его присутствие. Еще она видела, как трудно, осторожно выправлялась мать после отцовой смерти. Раньше она строила свою жизнь по отцовским планам и наставлениям, не допуская в свое сердце и в свой дом посторонних людей. Теперь вышла на работу, у нее появились новые знакомые, ради которых могла она будоражить свое доброе и заботливое сердце. Именно новое окружение давало матери силы жить, да еще заботы о взрослеющих детях. Генка, по Людиной мысли, мало внимания уделял матери. Впрочем, и она тоже не слишком много, особенно последнее время.
У Люды, теперь ее чаще называли Людмилой, появился мир, наполненный женским счастьем, которое дарил Митя. Они познакомилась в автобусе. Кто-то считает неприличным знакомство в транспорте или на улице. Глупости это. Если два человека увидели и поняли, что нужны друг другу, какая разница – где это произошло?
Он был совсем не похож на ее прежних знакомых. Студент педагогического института, музыкант и художник, легкий словотворец, высокий, с длинными волосами и тонкими пальцами. В нем все было необыкновенно, даже узкие джинсы сидели на нем как-то особенно, будто с трудом удерживали в рамках дозволенного. Два года перебивались встречами у друзей или в студенческом общежитии. Зарегистрировать отношения, т. е. узаконить то, что между ними произошло, и показать родным, что имеют друг на друга полное право, они решили по окончании Митей института, когда, получив распределение, он, возможно, получит и жилплощадь, на которой они сумеют создать семейное счастье. Они, может быть, и ждали бы этого неясного срока, если бы не Людина беременность, заставившая молодых людей расписаться. Так Людочка Егорова стала Людмилой Воронковой. Беременность ее скоро привела к кровотечению и чистке, а врач тогда сказал: «Вам, милочка, следует быть осторожней. Следующая беременность может оказаться последней. Предохраняйтесь, или рожайте».
Можно быть счастливыми вне брака: встречаться тайно, бояться маминого окрика и осуждения соседей, и нестерпимо желать встреч с любимым. И можно быть несчастным в браке. Такое произошло у Людмилы. Муж полагал и часто это высказывал, что она хитростью затащила его в загс, а значит, заставила отказаться от свободы, друзей и прекрасных девушек. Людмила видела, что опять ошиблась в выборе принца. Она еще любила, еще желала иметь совместный дом, но постоянно оказывалась перед пропастью непонимания. Свобода Мите оказалась дороже дома и семьи.
Они перебивались в чужой квартире, снятой на время, часто ссорились. Внезапно муж пропадал на несколько дней. Когда же узнал, что жена снова ждет ребенка, то яростно кричал, что не хочет никакого ребенка вешать себе на шею. Наверное, он был неплохим человеком, да семейная жизнь подвернулась ему не ко времени. Поняв это, Людмила, собрала вещи и вернулась в родительский дом. Мать, как водится, приняла ее, но свое мнение высказала:
– Как же ты, дочка, одна ребенка растить станешь?
– Мамусь, – поддержал сестру брат, – Людка одна что ли растить будет? А мы на что?
– Ты, милок, не лезь в то, чего не понимаешь, – рассердилась мать. – Ребенку отец нужен.
– Ой, мамочка, – посетовала Людмила, – какой из него отец? Он сам еще ребенок.
– Что же ты за него замуж пошла? – допытывалась мать.
– Ошиблась, мама, – примирительно ответила Люда. – Что ж теперь делать? И давай не будем больше об этом.
Снова стали жить втроем: мать молча переживала дочернюю судьбу, сын учился в институте, дочь ожидала ребенка. Она старалась не встречаться с Дмитрием, он же время от времени приходил к ним домой и убеждал жену вернуться. Людмила отказывалась, полагая, что возвращаться незачем, коль сложилось у них не по-доброму.
Летом приехал в отпуск Женя – бравый летчик, повзрослевший, ставший серьезным и деловым, лишь в глазах его играли прежние бесенята. Пришел в гости с охапкой полевых цветов, от которых пахнуло запахом детства, наполненного счастливыми событиями деревенской жизни. Сидели на кухне, пили чай с вишневым вареньем, говорили о жизни. Евгений переводился на новое место службы и снова звал с собой. Людмила знала этого парня много лет, и ни разу он не предал ее. Сколько переживаний она ему принесла, не давая надежду, и почему-то он снова и снова возвращался к ней? Может, это и есть любовь? Может, Женька – единственный во всем мире мужчина, который любит ее? Только не бьется Людмилино сердце совместно с его сердцем. Странная штука – жизнь: кто тебе дорог, тот уходит по той или иной причине, кому ты дорога, к тому не тянутся твои руки, взгляды, надежды. Так и уехал преданный друг ни с чем, хотя заронил в ее голову размышления о жизни, любви и о своем к ней отношении.
Впрочем, самые главные мысли Людмилы сейчас о будущем ребенке. Она уверена: родится сын. И желает его. Не получилось у нее с мужчинами, зато сын станет крепкой опорой. Он вырастет, будет таким же добрым и заботливым как старый друг Женька. Он защитит ее от бед, будет бескорыстно любить, не требуя ничего взамен. Это обязательно будет, но сначала она станет заботиться о маленьком человечке, о своей кровинушке. Она даже шитью обучается, чтобы самой своему ребенку шить рубашки и штанишки. На работе подарили ей кроватку для малыша. Людмила подходит к кроватке, перебирает детское белье, потом кладет руку на свой огромный живот и старается почувствовать сына. Вот бьется его сердечко, а это он, наверное, ножками бьет. Футболистом станет. А сейчас, кажется, головкой толкается под самое сердце. «Расти, малыш, – думает Людмила, – скоро мы с тобой встретимся. Я возьму тебя на руки, прижму к груди, поцелую нежно».
Только страшно ей перед родами. Как они пройдут? Знающие женщины утверждают: будет больно. Нет, Людмила боли не боится, лишь бы с ребенком все было в порядке. А еще выбирает сыну имя. Можно назвать в честь отца Николаем. Николай Дмитриевич – звучит совсем неплохо. Пусть будет Коленькой. В конце концов, в ее жизни из всех мужчин, которых она знает, только отец любил ее, да еще, пожалуй, Женька. Говорят, имя определяет судьбу. Из двух любивших ее мужчин у Жени, так ей кажется, судьба более удачливая, отец-то ушел из жизни рано. Пусть лучше сын зовется Евгением, Женей. «Благородный», значит. Станет ее сын родившимся на благо.
В размышлениях о ребенке дожила Людмила до родов. Бьется, бьется малыш, все сильнее и сильнее, торопится выскочить из нее, доставляет нестерпимую боль. А дома никого нет, чтобы подсказать и помочь. Позвонила матери на работу, да нет сил разговаривать. И боязно. Что ждет впереди? Надо самой идти в больницу, помощи ждать неоткуда. Звонок в дверь прервал размышления. К счастью, пришел Митя: словно почувствовал. Теперь будет легче – не одна. Муж вызвал «скорую помощь».
– Ты не бойся, у тебя все будет хорошо, – успокаивает он жену.
«Не говорит «у нас», потому что нет нас, есть отдельно я и он, – размышляет Людмила. – Боже, дурацкие мысли! Мне не о нем думать надо – о сыне». Впрочем, как остановить мысль, влезшую в голову? Захотела и пришла. Мысли бегают в голове и прерываются только болью, растущей внизу живота. Вот и «скорая» приехала: везут Людмилу в роддом. В какой? Ей все равно, лишь бы скорее родить. Силы небесные, если вы есть, помогите!
Митя держит ее за руку, молчит, он растерян. И все же собрался с мыслями, говорит: «Родишь, и домой поедем, к нам, нечего нам раздельно жить». Наконец-то, он сказал «к нам». Людмиле сейчас очень важно знать, что она не одна ждет сына. Конечно, она поедет к мужу. Глупость какая: жить порознь. Давно следовало помириться. А боль сбивает все благие мысли. «Не о том думаю, мне родить надо», – возникает мысль в перерывах между болью.
Уже давно привезли молодую женщину в роддом, в предродовой палате она мучается несколько часов. Наконец, подошел врач, оглядел, спросил: «Будем рожать, мамочка?» и указал сестре: «Отправляйте в родовую». «Ну, все, – думает Людмила, – теперь уже скоро».
Роды оказались трудными. Малыш никак не выбирался на свет. Людмила теряла сознание, сквозь неясные блики которого слышала: будем резать, потеряем обоих, сделайте еще раз анализ крови на свертываемость, кислород принесите. Потом ей дали наркоз, и она провалилась в огромный коридор. В конце этого коридора стоит отец, Люда бежит к нему, а отец странным образом удаляется. Бежит Людмила по кругу, и снова по кругу, и опять по кругу, и не знает, как отсюда выбраться. Потом слышит неясно женский голос: «Вот и хорошо, мальчик крепенький, а уж крикливый какой!». И слышит Людмила младенческий крик и понимает: ее сын кричит, зовет мать к себе. Она выбирается из странного сна.
– Смотрите, мамочка, – говорит ей акушерка, – какой бутуз родился!
– Мальчик, – улыбается Людмила, – сынок мой, Женечка. «Вот и подарок к дню рождения. Сама себе подарки делаю», – посмеялась она над собой.
Силы совсем оставляют. Приходят врачи, качают головами, видно, не все в порядке. Перевезли в одиночную палату, зачем-то поставили капельницу. Сил все меньше и меньше, и становится ужасно холодно. Людмила думает: «Скорей бы утро, принесут Женечку. Какой он, мой мальчик? Наверное, горько плачет без мамочки». Потом она снова проваливается, и оказывается уже не в коридоре, в котором была во время родов, а в большой комнате. Сидит на стуле отец, смотрит на нее и спрашивает:
– Как дела, доча? Давно мы не виделись. Скучаю я по тебе.
– А по маме? – задает она свой вопрос.
– И по ней скучаю, но по тебе сильнее.
Людмиле не терпится отсюда уйти, она выглядывает в окно. У окна стоит мама, грустно на нее смотрит.
– Ты, Людочка, не волнуйся, все будет хорошо, – говорит она дочери.
– Конечно, хорошо, – соглашается Людмила, – ты к нам надолго?
– Нет, деточка, дел у меня много, я на минутку заскочила поглядеть на тебя.
– А что на меня глядеть? Ты на Женечку глянь, мама. Как он там?
– Чудесный малыш, – отвечает мама. – Не волнуйся.
Людмила приходит в себя и понимает, что все только что происходившее было во сне. Может, и родила она лишь во сне? Но нет, она отлично помнит крик сына, требовательный крик мальчика, нуждавшегося в маме. «Сейчас встану и пойду к нему, – решает она. – Только встать не могу. Никак. И холодно до невозможности. А еще хочется пить – холодной воды, из деревенского колодца. Ох, и вкусная та вода!». При этих мыслях Людмила снова проваливается в сон. Сон тот тяжелый, тени бегают вокруг, темень невозможная. Людмила старается разглядеть что-нибудь в темноте, и не может. Вдруг ее озаряет яркий свет, и отец тянет к ней руку.
– Идем, доча, – зовет он.
– Куда? – спрашивает она.
– Туда, где я ждал тебя. Баба Сима и баба Клаша дождаться тебя не могут. Иди, говорят, за внученькой. Пора ей к нашему берегу прибиваться.
– А Женя?
– С Женей мама останется. Не волнуйся. Все будет хорошо.
И Людочка верит отцу, соглашается: именно так должно быть. И уходит с отцом вместе.
Звенья человеческой цепи
Замечательная жизнь была у Генки до пятнадцати лет. А как умер отец, навалились трудности. Такое впечатление, что отец унес с собою его беззаботное детство.
В детские годы был он любимцем семьи: мать баловала, позволяя сыну капризничать по любому поводу, отец не замечал его мелких шалостей, а когда случались шалости большие, терпеливо внушал, что мужчине негоже вести себя безответственно, сестра покровительствовала брату, и он очень рано сообразил, как от нее можно добиться желаемого. Словом, жил в семье очаровательный маленький деспот, похожий на ангелочка со старинной картинки, и вызывавший своим видом умиление людей.
В школе учился без напряжения, чаще в футбол гонял, чем уроки делал. Потому в дневнике его дружно уживались двойки с пятерками, а более всего красовались тройки. Этаким середнячком считался в классе: способным и ленивым. Да разве школьные отметки определяют жизнь человека? Нет, конечно, и Генка был уверен, что когда вырастет, станет космонавтом. Тогда все мальчишки мечтали об этом. Или капитаном дальнего плавания, дружным с опасностями, штормами и льдинами. Фантазия увлекала его во взрослый мир, в котором он непременно был героем.
Смерть отцовскую не видел: тот умер в больнице. Но помнит ощущение страха, возникшее у него ранним утром, когда отец был еще дома. Страх разрастался не столько от отцовского неподвижно лежащего тела, сколько от безысходно мечущейся по дому матери и испуганного лица сестры. Видно, женщинам трудно переживать горе. Лично он был спокоен. Внешне. А внутри себя он будто замерз или впал в анабиоз. Хорошо помнит, как Женька Миронов, отставной ухажер сестры, пытался отвлечь от тяжких раздумий: то в футбол звал играть, то устраивал гонки на короткие дистанции, то таскал по своим приятелям. Но самое лучшее, что тот делал: приходил к ним домой, сидел рядом с Генкой, с трудом разбираясь в его домашних заданиях по алгебре. Тогда-то и понял Генка, как ошиблась сестра, выбрав вместо этого надежного парня какого-то пижона вертлявого. Стал Евгений летчиком, письма ей добрые писал, к себе звал, только не откликнулась она. «И чего женщине надо?», – злился Генка на сестру, а много позже понял, что нити судьбы не всегда соединяются там, где им суждено соединиться. Человек путает эти нити, выдергивает их из чужого клубка, и от того, наверное, жестоко страдает.
Как бы там ни было, но именно поддержка Евгения вытащила его из странного состояния равнодушия к жизни и заставила задуматься над тем, как помочь людям в трудную минуту. Эти раздумья навели на мысль, что должен он стать врачом – кардиологом или хирургом, поскольку именно во враче в первую очередь нуждался его отец, как нуждаются и другие люди.
После школы поступил в медицинское училище. Одноклассники поступали в институты, а Генка мудро рассудил: туда с троечным аттестатом вряд ли возьмут, на первом же экзамене срежут, в училище медицинском недобор, там парня с руками отхватят. И, действительно, отхватили: зачислили в группу 31-ю, то есть в первую группу третьего курса. На первый курс зачисляли ребят, поступавших после восьмилетки. Может, и Генке так следовало поступить, да мать настояла. «Учись, – сказала, – сынок, в школе. Учителя тебя знают, помогут на ноги встать». Не хотелось тогда себя утруждать сбором документов и вступительными экзаменами, потому и остался в школе, еще два года лоботрясничал.
Хотя, нет: была другая, основательная причина. Тяжело переживались им первые безотцовские годы. У других, может, и отец – не отец, а у Генки – мужик что надо. И на лыжах с сыном, и в поход с его одноклассниками, и даже ругал его по особенному: сомкнет брови, метнет «молнию» из глаз и скажет: «Ты нашу фамилию, сын, не позорь. Она до тебя громко звучала». Она и при Генке громко звучала: на каждом родительском собрании ее называли. Мать из школы придет, ругает без умолку, а отец молчит, головой качает, и качание его головы для Генки самым большим наказанием было. Лучше бы побил. Впрочем, иногда отец и за ремень брался, но больше для острастки. После отцовской смерти почва ушла из-под ног, не знал и не понимал Генка, зачем живет.
Время, говорят, лечит. Постепенно вернулся к нормальной жизни, только изменился, стал молчаливым и основательным, на отца похожим. Люди говорили: «Повзрослел». Наверное, взросление добавило Генке мозги, и выбрал он, по его разумению, правильный путь.
В начале нового учебного года познакомился с Алексеем, да дружбы у них не получилось. Пришел невесть кто, заявил, что брат, и теперь все его любить должны. Генка не так прост, как Люда. Та ему плешь проела, убеждая, что следует считаться с чувствами отца. Он и считался, только ведь отец сам их не познакомил, значит, не хотел.
– А может, хотел и не успел? – убеждала сестра.
– Значит, не судьба нам с ним знаться, – отрезал Генка.
– Как ты так можешь, бревно ты бесчувственное? Человек приехал, беспокоится, переживает, а ты на него злишься.
– Что ему переживать? – не соглашался Генка. – У него, между прочим, еще отец есть и, как я понимаю, живой.
– Ох, и жестокий ты, братец, – обиделась сестра и прекратила разговор.
Договорились о сводном брате ничего не говорить матери, будто нет его вовсе. Люда с ним тайно встречалась, переписывалась. Сообщала Генке, что Леша институт окончил, в армии отслужил, женился. «Замечательно», – реагировал на жизненные успехи брата Генка, и никаких эмоций не проявлял.
К концу третьего курса Генка устроился медбратом на станцию «скорой помощи». Работал ночами и в выходные дни, а мать волновалась.
– Смотри, сынок, сорвешься, не кончишь училище, – не раз выговаривала ему.
– Не боись, мам, мне «скорая» помогает: практика большая, – ответствовал сын. – И преподы меня понимают.
– Они не тебя, они меня понимают, – нервничала мать. – Завалишь экзамены и вылетишь.
– Не вылечу, – убеждал Генка, уверенный, что экзамены сдаст: ведь в училище не сволочи работают, видят же, как тяжело приходится его матери, и его уважают за самостоятельность.
Взрослеешь на «скорой» быстро, вырабатывая в себе ответственность за жизнь человеческую. Да и смерть нередко наяву видишь. Не все это выдерживали. Пожалуй, из его группы никто не работал столь основательно, многие сокурсники ограничились учебной практикой и летней подработкой. А Генку жизнь заставила, и он об этом не жалел.
Окружали его на «скорой» врачи, медсестры и фельдшеры, имевшие большой опыт работы, знавшие тяготы жизни не понаслышке. Все они – люди взрослые, относились к Генке как к равному коллеге, что ему, конечно, льстило. С некоторыми у него установились дружеские отношения, которые ему самому доказывали, что он тоже – взрослый человек. Хотя взрослость приобретается не только отношениями, но и делами серьезными.
Были у него такие дела, поскольку редко выдавались спокойные дежурства. Вместе с врачом Виктором Сергеевичем и медсестрой Анютой ездил на вызовы. Учился накладывать шины, измерять артериальное давление, делать уколы и внутривенное переливание. Собственно, фельдшерскую азбуку он познавал в училище, а на «скорой» закреплял. Преподаватели ставили его, быстро постигавшего азы медицины, другим в пример, и их похвала, заслуженная тяжелым и радостным трудом, дорогого стоила.
Медсестра Анюта – женщина лет на восемь его старше – относилась к нему по-матерински, или как к младшему брату. Удивительно: забота матери и сестры вызывала в нем протест, поскольку он страстно желал им доказать, что уже стал взрослым человеком. А вот участие Анюты успокаивало, рождало уверенность, что он не одинок: есть в мире женщина, которая о нем беспокоится. Иной раз искоса на нее поглядывал, недовольно бурча какие-то слова, на самом же деле рассматривал и изучал эту женщину: вроде рядом, на равных, а вроде из другого мира. Иной же раз летел к ней его открытый взгляд, и тогда он хватал Анюту за руки и кружился с ней, как в детстве кружатся парой мальчишка и девчонка, проявляя в этом круженье предчувствие будущих прекрасных отношений.
«Ты что, Генка? Кровь молодая бурлит?» – смеялась Анюта, делая вид, что недовольна детскими шалостями медбрата, однако радуясь тому, что еще молода и может бездумно отдаться кружению с милым мальчишкой, не чувствуя при этом разницы возраста. Кто знает, может, это первая юношеская любовь? У каждого она своя, у него – такая.
Жарким майским днем в «скорую» позвонили и сообщили, что в карьере завалило двух десятилетних пацанов, строивших там пещеру из песка. Пока родители хватились да нашли, прошло более часа.
Когда машина «скорой помощи» подъехала, ребят уже откопали, и сразу Виктор Сергеевич и Генка стали делать искусственное дыхание. Анюта готовила инъекции и одновременно пыталась успокоить родителей мальчишек-бедолаг.
Вокруг собрались люди, бурно обсуждавшие событие. Слышалось уверенное: «откачают» – «да нет», «спасут» – «вряд ли», «ты, браток, постарайся» – «дуй сильнее».
Генка со всей силой жал руками в области сердца доверенного ему парня, а потом вдыхал в его безжизненный рот весь воздух, набранный в легкие: шесть нажимов, два выдоха, опять шесть и два… Минут через пять почувствовал страшную усталость. На мгновение приостановился, увидел глаза стоявшей напротив него оцепеневшей женщины, наверное, матери, увидел мальчика, лежащего на песке – вихрастого, угловатого, на него в детстве похожего. Такая злость разобрала – на себя, на пацана этого глупого, на женщину, не доглядевшую за сыном, на то, что попал на этот вызов. Секунда злости вдохнула в него силу. «Нет, не умрешь, – думал он, продолжая массаж сердца, – задыши, задыши». И еще проносилось в голове беспаузное «Ешкин кот в бога душу мать не возьмешь меня хрен моржовый». Такое вот совершенно непонятное ругательство, где-то слышанное и сидевшее до поры до времени в глубине сознания, теперь придало злости и силы.
Врач перестал откачивать своего пациента, с сожалением констатируя: «Время упущено. К жизни ребят не вернешь». И велел Генке: «Прекращай, напрасно это». Но тот остановиться не мог: жал и жал, вдыхал и вдыхал. Словно бес в него вселился. Вдруг его мальчишка задышал и медленно приоткрыл глаза.
– Живой, – прошептал Генка и отвалился на песок.
Спасенного пацана повезли в больницу, а в голове у спасителя звучало: «Живой, друг ты мой, живой!».
Женщина дала ребенку жизнь, а он, Генка, сумел эту жизнь отстоять у смерти. Он спас человека. Живи, пацан, дальше!
В бригадах «скорой помощи» рассказывали о Генкином упрямстве, и после того случая перестали считать его новичком. Своим, равным в труде и в умении, стал он теперь.
Через несколько дней в училище на занятиях по оказанию помощи студенты отрабатывали технику искусственного дыхания.
– Встаньте с правой стороны от пострадавшего, – занудно объясняла преподаватель Тамара Сергеевна, – максимально запрокиньте его голову, носовым платком или салфеткой очистите рот от слизи, затем рот накройте платком. Сделайте глубокий вдох, и, прижавшись плотно губами к губам пострадавшего, зажав его нос своей щекой, энергично выдохните воздух в рот больного.
– А рот больного при этом накрыт платком? – спросил кто-то из учащихся.
– Да, – уточнила Тамара Сергеевна, – в целях соблюдения гигиены необходимо использовать при искусственном дыхании салфетку или носовой платок.
– Но тогда не будет сильной струи воздуха, – заспорил Генка, уверенный в своей правоте, основанной на недавней практике, – надо делать напрямую, без платка или салфетки.
– Ну что ж, Егоров, – ответила преподаватель, – делайте, как считаете нужным. Только умелый фельдшер и с платком отлично справится. А на зачете, предупреждаю, поставлю вам двойку за неправильное выполнение медицинской техники.
Осенью произошел случай, который заставил Генку задуматься, так ли уж ошибалась Тамара Сергеевна.
Пришли холодные дни, и вода в реке снизилась до той температуры, при которой нормальные люди не купаются. Пьяный рыболов свалился с лодки в воду, ударился о корягу головой и захлебнулся. Достали его из реки минут через сорок, а потом Генка, очистив утопленнику рот от песка и ила, еще минут сорок делал искусственное дыхание, ощущая при этом, идущий изо рта пьяницы, смешанный запах перегара и нечищеных больных зубов. «В нашей работе нельзя быть брезгливым, – вывел он собственное профессиональное правило, – однако гигиену соблюдать надо».
Не только трагичные, но и смешные случаи происходили на работе. Как-то позвонила на «скорую» женщина, сквозь ее непрерывные рыданья доносилось: «Спасите Ваську! Умирает, с ним плохо». С трудом выспросили у нее адрес, а на вопрос о том, что случилось, она истошно завопила в трубку, комкая слова. Было неясно: то ли Васька отравился, то ли его отравили.
Генкина бригада срочно отправилась на вызов. Встретила их пьяная женщина лет тридцати пяти, одетая в грязный старый халат.
– Скорей, – кричала она, – умирает Васька, отравили его! Ребятки, помогите!
Однако в комнате никого кроме женщины не было.
– Где Васька? – спросил Генка.
– Да вот он, – ответила женщина, – в углу лежит, бедненький, помирает.
В углу лежал кот, отравившийся, по всей видимости, несвежей колбасой, зеленый кусок которой валялся рядом.
– Ну, ты, мать, даешь, – только и выдохнул Генка.
– Какая я тебе мать? Ты работу свою, поганец, выполняй! – набросилась на него хозяйка кота.
– Пойдем отсюда, – резко произнес Виктор Сергеевич и вышел из комнаты.
– Миленький, – завопила женщина, схватив Генку за руку, – помоги! Христом Богом прошу! Родненький, спаси Ваську! Нет у меня никого больше. Загибнет ведь кот.
Пришлось коту сделать укол, а хозяйке не только укол, но и промывание желудка. На «скорой» долго припоминали Генке тот случай. Чуть что, так и говорили: «Спаси Ваську».
Или вот другой случай. Ночь выдалась сложнейшая: вызов за вызовом. Бригада с ног валится, а надо ехать на вызов по белой горячке.
– Сгоняй один с водителем, – попросил Генку Виктор Сергеевич. – Там лечения не требуется, надо доставить больного в психбольницу. Мы немного передохнем, а потом ты поспишь.
Так и порешили. По правилам, к психбольным всегда ездят вместе с милиционером, да в милицейском отделении в ту ночь никого, кроме дежурного, не оказалось. Поехали Генка с водителем, нарушая все инструкции.
Соседи, вызвавшие «скорую», провели Генку в пустую комнату – без мебели и вещей, со свисавшими на пол ободранными обоями, заполненную до тошноты спертым воздухом. Мужик в длинных трусах сидел на полу перед стеной, уставившись в одну точку, не замечая никого. Вдруг он стал хватать что-то невидимое на стене и запихивать в рот.
– Чем занимаешься? – спросил мужика Генка.
– Охотой, – услышал в ответ.
– На кого охотишься? – уточнил Генка.
– Да вот, зеленые человечки на шести ногах по стенке прыгают. Вку-у-сные, – мужик облизал губы и сосредоточился на ловле.
– А я знаю место, где зеленые человечки вкуснее и размером побольше, – тут же придумал Генка, надеясь уговорить мужика сесть в машину, – поедем, покажу.
И благополучно отвез больного в психушку, без всякого сопротивления с его стороны. Дядя Володя, водитель «скорой», рассказывая об этом случае, громко хохотал, бил себя по колену, приговаривая: «Повез мужика человечков зеленых ловить. Это ж надо, сообразительный парень ты, Генка!».
С четвертого курса Генка получил право ездить на перевозку рожениц. Приедут по вызову, определят, сколько времени до родов и, коли надо, везут женщину в роддом. По дороге, как правило, фельдшер просит ее, когда ласково, когда грозно, потерпеть. «Для этого, – думал Генка, – вовсе не нужно корпеть над гинекологией и акушерством». Так он думал, а жизнь – она учит.
В новогоднюю ночь вызовов почти не было: видно, люди отложили болезни на время. Работники «скорой», решив не нарушать давней традиции, накрыли праздничный стол – с домашним угощением, водой и соками. Около одиннадцати вечера на станцию позвонили с вокзала и потребовали перевезти в роддом женщину, снятую с проходящего поезда.
Ясное дело: Генка поехал на вызов один, а за рулем, как всегда, дядя Володя. Делов-то – перевезти роженицу с вокзала в роддом, он даже акушерский набор с собой не взял. На вокзале же оказалось: роды – быстротечные, у роженицы уже отошли воды и начались схватки. Быстро усадив женщину в машину, повезли, она стонала и покрикивала от боли, а через несколько минут стало ясно: ребенок «пошел».
Впервые Генка столкнулся и с родами, и с женскими колготами. Не зная, как снять колготы с роженицы, он их просто прорвал по шву. И правильно сделал, потому что как раз показалась головка младенца. На Генкину удачу, женщина оказалась опытной, третий раз рожавшей, и терпеливой.
– Милый, – просила, – помоги.
– Дышите спокойно, мамочка, не кричите, – уверенно инструктировал он, вспоминая, что читал о родах в учебнике, – берегите силы на ребенка.
А ребенок торопился в жизнь, и через двадцать минут, когда они подъезжали к роддому, вылез на свет, попав в Генкины руки, и заорал, возвещая о своем рождении. Перевязав пуповину кетгутовой нитью и ловко перерезав ее ножом, Генка завернул младенца в медицинский халат и держал его на руках, глядя на сморщенное личико, выражавшее недовольство тем, что на его рождение прислали какого-то неумелого практиканта.
В роддоме он сдал мать и ребенка дежурному врачу и вместе с дядей Володей отправился на станцию «скорой помощи». Как только отъехали от роддома, часы пробили рождение нового 1979-го года.
– Быть тебе, Генка, в этом году в дорогах разных, – предсказал водитель.
– А вам, дядя Володя, это не грозит?
– А я, брат, в дороге всегда. Мы с моей лапушкой четырехколесной и не расстаемся.
На станции веселье шло необыкновенное. Медики – такой народ: везде и всегда веселиться умеют. «Ура, – кричало станционное застолье, – в нашем полку прибыло!»
– Как управился? – спросила Анюта, рукой показывая на место рядом с собой.
– Хорошо, парень родился, – с гордостью ответил Генка.
– Да ну? Ты у нас вроде отца крестного? Ребята, – закричала она весело, – Генка сына родил.
– Как? Когда? – зашумели вокруг.
– Да по вызову, на родах, – пояснила Анюта.
– А-а, – слышалось в ответ, – по такому случаю наливай ему стакан спиртяры!
Генка взял стакан, храбро влил в себя жгучую жидкость, поперхнулся, закашлялся.
– Ты закуси, закуси, глупый, – колготилась рядом Анюта, подкладывая ему на тарелку салат и кусок мяса. – Как чувствуешь себя?
– Ничего, хорошо, – ответил Генка, удивляясь, почему поползли перед глазами стены и люди.
– Ой, набрался, – ласково пролепетала Анюта, – пойдем, уложу.
Она подхватила его и повела в хозблок, где хранилось медицинское оборудование, лежали бригадные саквояжи. Уложив захмелевшего на топчан, почему-то здесь оказавшийся, присела рядом.
– Спи, родной, – ласково прошептала, словно мама в детстве, – а я рядом посижу.
И он уснул. Сладко спалось. Снилось, что мама колыбельную поет, что в реке он с Людкой и Алексеем купается. Потом пришел отец, подозвал его и сказал:
– Взрослый ты стал, сын. С Алексеем дружи, он брат тебе. Да мать не обижай.
– Ты к нам надолго, па? – спросил он отца.
– Нет, пришел вас повидать.
Усевшись на берегу, они долго молчали. Сын внимательно рассматривал отца и ощущал своим телом тепло, от него идущее. Радостно ему стало и спокойно. Отец же наблюдал за плывущей в реке дочерью, даже позвал ее: «Люда!». Не зная почему, Генка оказался рядом с сестрой, они поплыли наперегонки. Отец постоял, посмотрел на них и растаял в облаке.
Генка проснулся от пронзительной тишины, окутавшей станцию. Кто на вызовы отправился, кто домой ушел. Его дежурство закончилось. Он потянулся, встал с топчана, принялся поправлять одежду. В эту минуту в хозблок вошла Анюта.
– Проснулся, болезный? – поинтересовалась она. – Оклемался?
– А ты? – сделал он ответный выпад.
– Что я? Я спирт не пью. – Немного помолчала, перебирая пуговицы халата. – Кто домой ушел, кто на вызов уехал. Остальные спят на топчанах вповалку.
– А ты что не с ними?
– А я, – Анюта встала совсем близко, положила руки на его плечи, подняла к нему лицо и прошептала, – я к тебе пришла, милый мой мальчик.
Нет, не мальчиком он был. Это Генка точно знал и чувствовал, и мог ей сейчас доказать. И она, умелая, все понимающая и знающая, усадила его на топчан, присела к нему на колени, обхватила руками, губами вонзилась в его губы, внося в его тело сладостную новизну. Закружилось все вокруг – и спирта не надо. Возбуждение и страсть толкнули его в неизведанное, и готов он был себя и Анюту разорвать, и прижаться к ней, слиться с ней, потому что нет его одного, и нет ее отдельной от него.
Единое общее желание прорывалось в губах, руках и телах. Он будто вбивался в нее: раз, раз, и еще раз, сильнее, сильнее, и еще сильнее. Всплеск, взрыв, жар, огонь охватили его. И она, Анюта, его Анюта, его милая и слабая женщина, бесконечно дорогая, до боли сжимаемая в руках, испытывала тот же всплеск, взрыв, жар, огонь. Он видел, как менялась женщина. А потом наступило невыразимое словами расслабление, удовлетворение и состояние счастья.
Так вот о чем пишут в книгах писатели, шепчутся мальчишки между собою, молчат родители, скрывая от детей. Они – Геннадий и Анна – лежали, сомкнув тела, и было им хорошо.
– Пора домой, – произнесла Анюта, – тебя, наверное, мама ждет.
– Давай вечером встретимся, – предложил он, губами покусывая ее ухо, – пройдемся по городу, в кино сходим.
– Нет, вечером я занята, – она поднялась и стала решительно одеваться. – Да и тебе отдохнуть надо. Увидимся на дежурстве.
Анюта подошла к топчану, склонилась, поцеловала его в щеку, и поцелуй ее был иным, не страстным, а словно говорившим: «Вернемся к прежнему».
– У меня нескоро дежурство будет. Может, раньше встретимся?
– Не могу. Я на неделю к своим еду. Пока, милый. Не скучай, – и она выпорхнула из комнаты. Генка поднялся с топчана, еще полный воспоминаний о женщине.
С этими воспоминаниями он отправился домой, где его ждали.
Через три дня Генка пришел в роддом, нашел отделение и палату, в которой лежала его привокзальная пациентка. Никто его, разумеется, не остановил, поскольку видом он был заправский медик.
– Здравствуйте! – весело сказал он.
– Ой, это вы? – женщина спряталась под одеяло, а глаза ее смотрели на него с доверием. – Я все думала, как вас разыскать. Спасибо вам! Без вас и не родила бы.
– Ну уж? – усмехнулся Генка и со знанием дела констатировал, – женщина, если ей надо, сама родит. Я-то чем вам помог?
– Не скажите, вы для нас с сыном – первый человек. Как зовут вас? – спросила она.
– Геннадий, – ответил он, чувствуя, как распирает его грудь гордость за то, что сумел помочь женщине: без него, и в самом деле, неизвестно, что получилось бы.
– Хорошее имя, – улыбнулась собеседница. – Назову я сына Геннадием. Спасибо вам!
С этого дня Генка перестал быть Генкой, он стал Геннадием – человеком взрослым и надежным.
Сданы выпускные экзамены, получен диплом, замаячила перед Геннадием Егоровым армейская жизнь. Думали: заберут его осенью, однако летом военкомат проводил допризыв, и его вызвали по повестке.
– Куда ж тебя направят? – волновалась мать, приучая себя к мысли о долгом ожидании возвращения сына.
– Далеко не пошлют, – успокаивал он. – Ты не бойся: время мирное, ничего со мною не случится.
– Отец твой тоже в мирное время служил, а больным домой вернулся, – вспомнила мать тяжкие годы, когда все силы были направлены на излечение мужа от неизвестной болезни.
Тихо плакала, пряча от сына слезы, а те лились и лились. Геннадий не знал, как мать успокоить. Да и некогда ему, поскольку самое главное, что считал он нужным сделать – это объясниться с Анютой. Странная и манящая женщина то приближала его к себе, то отдаляла. Из отдельных фраз, сказанных ею случайно, он сложил историю ее жизни. Разошлась с мужем: тот уехал на Север, а она ждет его возвращения, и ненавидит его за свое одиночество, и любит. Почему связалась с Генкой, непонятно. Легкомысленный бабский каприз, как ему говорили доброжелатели и злопыхатели. Но он-то лично думал, что съедали ее тоска и одиночество. И ему хотелось закрыть эту женщину от беды, заслонить от жестоких людей, уберечь от злых языков. Временами чувствовал себя намного сильней и старше ее, а временами понимал: мальчишка он для нее сопливый.
– Я в армию ухожу, Анюта, – доложил ей. – Ты писать будешь?
– Конечно, – ответила она, – ты сам пиши обязательно.
Он надеялся, что эта женщина будет его ждать, и понимал, что нечего на это надеяться. А она, присев рядом, гладила его волосы, ласково глядела, будто и в самом деле готова ждать его всю жизнь.
– Я люблю тебя, Анюта, – убеждал он.
– Глупый, это не любовь. Ты просто становишься взрослым.
– Я вернусь, и мы поженимся, – строил он планы.
– Ты вернись, – улыбалась она, – тогда и поговорим.
Проводы были скромными. На «скорой» в последнее дежурство пожелали будущему защитнику отечества мирной службы и подарили перьевую ручку. «Чтобы письма матери писал», – внушительно сказал Виктор Сергеевич. Однокурсники разъехались на отдых, не торопясь вступать в трудовые будни. Мать и сестра проводили его до порога, решив не идти на сборный пункт, чтобы не проливать лишних слез. Когда Геннадий подошел к месту сбора, там ждал Алексей. Он обнял брата, поначалу сопротивлявшегося, да вдруг понявшего: как бы там ни было, это родной человек, и он волнуется, приезжает, и сегодня пришел его проводить.
– Да ладно тебе, – бурчал Геннадий, испытывая неловкость.
– Ты напиши, как доедешь до места, вот мой адрес, – Алексей протянул ему записку. – Я к тебе на присягу приеду, брат, ладно?
– Валяй, коли денег не жалко, – ответил Геннадий, записку взял и положил в карман джинсовой куртки. – Ты где остановился?
– У армейского приятеля: недалеко от вашего дома живет. Вернешься – познакомлю.
Говорить им не о чем, и Геннадий обрадовался, услышав команду к построению. Новобранцев, посадив в автобусы, повезли в летний армейский лагерь, располагавшийся где-то за городом. Там их побрили наголо, отмыли в солдатской бане, заменили гражданскую одежду и обувь на ношеную армейскую форму и сапоги, распределили по командам. Через два дня приехал прапорщик из Калинина, прошелся вдоль строя третьей команды, переговорил с каждым солдатом, отобрал шестерых, а Геннадию сказал: «Будешь у нас санинструктором». В стареньком дребезжащем автобусе, тащившемся часов семь до места, ехали призывники в Калинин, где располагалась трижды орденоносная дивизия, воспитавшая, как доложил им прапорщик, более двадцати Героев Советского Союза.
Казарма, в которой располагался взвод, оказалась огромным светлым помещением, заполненным двухъярусными койками. Геннадия удивил блестящий паркет, оказалось, что ежедневно дневальные натирали его воском. Помимо красоты и яркости, паркет доставлял массу неудобства, поскольку был до невозможности скользкий, и пришлось несколько дней приспосабливаться к быстрому и благополучному передвижению по нему.
Новобранцы из разных районов страны приступили к изучению курса молодого бойца. Командовал ими все тот же прапорщик – сверхсрочник лет тридцати, почему-то особенно ревниво оберегавший звезды на своих погонах. Он постоянно натирал их то тряпочкой, то рукой, что приводило к тайным насмешкам со стороны солдат-первогодков. А в целом, прапор был мужиком добрым и незлобивым, потому странную любовь к звездочкам ему прощали.
В курс молодого бойца, рассчитанный на месяц, но изученный рекордными темпами в две недели, входило изучение оружия и Устава воинской службы, строевая подготовка, стрельба. В Ленинской комнате замполит и командир взвода проводили политзанятия, на которых от солдат требовалось отличное знание международного положения, внутренней политики партии и правительства. В дивизионном музее стояли стенды с фотографиями отличников воинской службы, а также хранились материалы по истории формирования и боевого пути дивизии, которые следовало каждому бойцу изучить досконально. Командование, очевидно, полагало, что это знание способствует росту патриотизма в боеспособной и могучей советской армии.
Через две недели жизни, трудностями насыщенной, новобранцев перевели на строительные работы: копали траншеи, строили фундамент для новой казармы, разгружали машины с кирпичом и бревнами. Руки и спину ломило, ладони покрылись кровоточащими мозолями, голова горела от палящего солнца. Отдых наступал за час до отбоя, когда можно было поболтать или написать письмо родным, только сил на это не хватало. С трудом молодые бойцы доживали до отбоя и сразу засыпали, надеясь, что завтра наступит нескоро.
К счастью, выходной, положенный солдатам, соблюдался свято, и в этот день работал клуб, где каждый мог выбрать по вкусу – библиотеку, спортзал, лекцию, впрочем, лекции были обязательными, кинофильм или концерт какой-нибудь заезжей знаменитости. Особенно нравилось солдатам, когда эта знаменитость оказывалась женского рода и выходила на сцену в коротенькой мини юбке. Работала по воскресеньям и чайная, в ней продавались сладости разные, конфеты да пирожные, а также сигареты, составлявшие для многих насущную потребность. Впрочем, Геннадий не курил, и другим не советовал, полагая, что собственное здоровье беречь каждый сам обязан.
Быстро промчался месяц, и вот настал День присяги, проводимый обычно в воскресенье. Каждый новобранец, получивший к этому дню новенькую форму и блестящие сапоги, мог пригласить своих родных. Никого из начальства не интересовало, где и как те остановятся в незнакомом городе, в часть их пускали с десяти до девятнадцати часов, а дальше ищите, наши любимые, место для ночевки или отправляйтесь восвояси. Свою работу по укреплению боевого духа ваших сынов, братьев и мужей вы провели. Спасибо вам большое!
Геннадий за этот месяц написал четыре письма: по два матери и Анюте. Первые две недели бегал на почту в ожидании ответов, потом понял: письма каждый день не приходят. Мама и сестра отвечали, Анюта не баловала. Написал им о скорой присяге и, конечно, пригласил, понимая, что вряд ли мать выберется. Алексею писать не стал, поскольку не о чем: о службе тот и так все знает. Однако этот странный человек приехал. Вроде его и не зовут, и знать не хотят, а он все равно является. И ведь в нужную минуту, поскольку тоскливо быть одному, когда к другим родные приехали.
– Бравый солдат, – отметил Алексей, поправляя у брата ремень, – ты его подтяни побольше. Как ты здесь?
– Ничего, пока живу, – ответил Геннадий, пряча за спину мозольные ладони.
– Мне Люда написала про присягу. Мама твоя приболела немного, а Люда замуж собралась.
– Жаль, был у нее отличный парень, со школы, летчиком где-то служит, – вспомнил Геннадий Женьку: как он надеялся, что одумается сестра, да не видит она, глупая, своего счастья.
Поговорили немного, и отправился Геннадий приносить присягу. Гости стояли вокруг трибун, на которых собралось командование части и особо почетные приглашенные лица. В двенадцать часов на площадь вышел полк, прошел торжественным маршем и замер в строевом ожидании. По одному вызывается к дивизионному знамени каждый новобранец. Идет по площади, чеканя шаг, мимо своих друзей-однополчан. Ему вручают папку, в которой лежит текст воинской присяги. Волнуясь, но с «металлом» в голосе, громко читает текст, чтобы все слышали, как он обязуется любить и защищать социалистическую родину. Этого доказательства мало, и он расписывается под листом присяги. Теперь этот лист станет важнейшим стимулом его верности отчизне. Но и это не все. Наступает для солдата волнительный момент. Встав на одно колено перед знаменем, пронесенным сквозь долгие годы и тяжелые битвы, целует солдат знамя. Это знак верности советскому народу и родной дивизии, к этому времени научившей новобранца стрелять, разбирать оружие, подтягиваться на турнике, пробегать километры бездорожного пути с полной солдатской выкладкой, копать окопы и траншеи.
Великое дело – произнести присягу: теперь ты лично ответственен за все, что происходит в дивизии, и за свою службу тоже! А в подарок тебе в этот праздничный день приготовлен славный обед: рис с мясом, вместо поднадоевшей перловки, овсянки, или гороховой каши, на сладкое – компот и фрукты вместо жидкого чая да киселя.
Через пару часов после обеда начались спортивные соревнования, в которых виновники торжества еще не могли продемонстрировать отличное владение телом и физическое мастерство, но могли весело болеть за других. Все знали: через год в Москве откроется всемирная олимпиада, и, может быть, на дивизионном поле готовится к будущим победам очередной олимпиец. Геннадий вспомнил школьную удаль, когда побеждал в городских соревнованиях по легкой атлетике, и легко бежал по беговой дорожке. Он немного замешкался при старте, но вот обогнал одного, другого, третьего. Победа! Пришел первым! Давно не испытывал радостное чувство победителя. Его поздравляли ребята из взвода.
– Молодец, быть тебе олимпийцем! – хлопнул брата по плечу подбежавший Алексей.
– Эй ты, зелень пузатая, – медленно, в развалку подошел к группе ликующих один из участников забега, – ты больно прыток. Я тебя научу, как дедов уважать, – и с силой ударил кулаком Геннадия по скуле.
Тот от неожиданности отшатнулся, с трудом удержавшись на ногах. Подскочили еще несколько дедов и окружили первогодков.
– Ты, парень, чтоб пупок не рвал, будешь у меня траву жевать, – продолжал хрипеть разъяренный дед, подогреваемый выкриками приятелей.
И снова взмахнул рукой, обещая молокососу-новобранцу еще один страшный удар, да внезапно, скрючившись, упал в траву. Перед ним стоял в боксерской стойке Алексей.
– Ты вот что, тронешь брата – убью, – зло сказал он деду, затем остальных, остолбеневших от неожиданного отпора, предупредил, – и вас из-под земли достану, если что. У бью!
Алексей был таким злым, со сжатыми кулаками, горящими бешеным огнем глазами, резким голосом, что все поняли: действительно, убьет. Потом он повернулся к брату и его приятелям со словами: «Пошли, Генка, дальше праздновать». Ребята дружески заулыбались и окружили Алексея.
– Не боись, – сказал он брату, – я тебе покажу несколько приемов: никто не тронет.
– Ты боксом занимался? – спросил Генка.
– Занимаюсь. Мастер спорта, а драться не люблю. В клубе, в соревновании – это одно, на улице – нет.
– А что же сейчас? – вступил в разговор один из рядом идущих солдат.
– А сейчас я брата защищал, – ответил Алексей.
– Да я сам бы мог, – возразил Геннадий, чувствуя неловкость за то, что не сам, а брат ввязался в драку.
– Еще сможешь, если до них с первого раза не дойдет. Ни к чему тебе сразу на губу попадать.
Потом Алексей провел с новобранцами краткий курс самообороны и почувствовал, как изменилось к нему братнино отношение. Только пора было прощаться, поскольку гостевое время закончилось.
После ужина, когда гости покинули дивизию, в клубе показали фильм «А зори здесь тихие», чтобы не забывали молодые бойцы, в каких страшных боях и какими силами ковалась победа в Отечественной войне. Среди девушек-зенитчиц увидел Геннадий Анюту. Ну, конечно, Анюта – это Женька Комелькова, такая же бесстрашная и неустроенная. Они даже лицом похожи, и фигурой. И вспомнил он первую с ней ночь, а потом и другие, редкие, случайные, и счастливые. Ох, не надо было вспоминать. Сердечная боль пронизала все тело.
На следующий день Геннадий направился по воинскому предписанию в дивизионную медсанчасть, занимавшую двухэтажный деревянный дом. Перед домом стояли два уазика, а на траве прикорнули водители, даже не повернувшие головы в его сторону. Пока начальник санчасти, которому следовало доложиться, не пришел, Геннадий самостоятельно занялся осмотром на местности: на первом этаже обнаружил кабинет старшего врача и еще два – для врачебного приема, за металлической дверью скрывался, как он понял по вывеске, аптечный склад. На втором этаже разместились две больничные палаты, в каждой по пять коек, благополучно пустовавших, и аптека.
– Кто здесь бродит? – услышал из-за аптечной двери, и, заглянув за нее, увидел немолодого и тучного старшину.
– Рядовой Егоров, направлен в санчасть для прохождения службы, – отчеканил Геннадий, отдав старшине, как положено, честь.
– К пустой голове руку не прикладывают. Слышал, наверно? – недовольно пробурчал старшина, видя, что солдат держит пилотку в руке. – Я в аптеке начальствую, помоги разобраться с лекарственными поступлениями. Разберешься, что куда уложить?
– Так точно, товарищ старшина, – прокричал Геннадий, помня, что ответ командиру должен быть громким и четким.
– Ты проще будь, – остановил его тот. – Зовут меня Иван Федорыч. Можно – Федорыч. Я за свою жизнь столько слышал крикливых, что уши заложило. Это ты перед дивизионным начмедом кричи и прыгай. Полковник это любит. А по мне: лучше работай.
Они принялись разбирать лекарства. Через час Геннадий спустился в кабинет начальника.
– Слушай меня внимательно, – инструктировал новичка майор медицинской службы, старший врач санчасти, одновременно перебирая какие-то бумаги, – распорядок у нас такой: в каждом полку есть старший врач и фельдшер. У нас же работают еще два врача, три вольнонаемные медсестры и три санинструктора, наверху сидит начальник аптеки. С ним, я понимаю, ты уже знаком. Тебя зачислили на должность старшего фельдшера. И денежное довольствие тебе положено, царское по сравнению с солдатским. Только тратить все равно некуда. Ну, а месяца через два отличной службы получишь звание сержанта. Понял?
– Так точно! – отчеканил Геннадий.
– Сейчас поступаешь в распоряжение к старшему лейтенанту Петрову для проведения диспансеризации во втором полку. Ясно?
– Так точно, товарищ майор!
– Раз ясно, выполняй приказание, – закончил инструктаж майор. – Иди, дружок, да помни: дамы наши, медсестры то есть, серьезные, шалостей не допускают. Так что поосторожней.
Геннадий вышел из кабинета и направился во второй полк искать Петрова. Глупый совет майора о дамах возмутил. Зачем они ему? У него есть Анюта: письмо написала – значит, ждет. В письме том в основном о ребятах со «скорой», да о Викторе Сергеевиче: он ее в кино пригласил. Дело хорошее, не сидеть же ей дома, пока Геннадий Родине служит. Хотя кошки скребли в груди, хотелось бы, чтобы у Анюты без него жизнь остановилась, чтобы уснула она, будто спящая красавица, а проснулась – он рядом.
Служба в санчасти оказалась ничуть не труднее, чем на «скорой». Больные не напрягали, страдали в основном фурункулами, разбитыми коленками, ангинами, простудами и грибком на ногах.
Через неделю направили Геннадия в сводный автобатальон, направленный для сбора урожая. Организация сформировалась большая: четыре лейтенанта в командование, сотня машин с водителями, да передвижная автомастерская с механиками, и на всех один фельдшер. Водители и механики редко нуждались в медпомощи, и все же иногда заглядывали, а с лейтенантами – беда. Изголодавшиеся по женской ласке, они гуляли напропалую ночи напролет, да все с одной и той же дамочкой, которая успешно наградила их неприятной болезнью. Как лечить триппер, если нет в фельдшерской аптечке специальных лекарств для этого дела? По неопытности и молодежной самоуверенности вкачал он в них лошадиные дозы бициллина, по три укола каждому. Прошло или нет, не знает, но за каждый укол его пациенты расплачивались бутылкой коньяка. Сам не пил, держал про запас.
Потом с автобатом направили в южные районы страны. Объездили и осчастливили шефской помощью всю ростовскую область, краснодарский и ставропольский край, вывозя зерно с полей. Потом перебрались в центральную Россию на уборку свеклы и картошки.
Геннадий вел жизнь, свободную от солдатских будней, в которых каждый шаг определяется уставом и офицером. Такая жизнь усилила в его характере свободолюбивые черты, проявлявшиеся в убеждении: я сам знаю, что мне надо, и поступаю так, как считаю нужным. Поскольку больных почти не было, он загорал, купался и читал. Одиночество не смущало: оно способствовало спокойному и основательному раздумью о жизни человеческой. Возвращение в санчасть дивизии не изменило сформировавшегося убеждения, поскольку и здесь он был значительно свободнее, чем любой другой солдат. Ему присвоили звание сержанта, платили большое довольствие, так что всегда имелись деньги, он даже матери высылал небольшую сумму. Кроме того, он был хозяином канистры спирта, выдаваемой каждые полгода на медицинские нужды, а также заработанным «подпольным» лечением коньяком, которым угощал все тех же офицеров, пострадавших в «битве за урожай».
Став завсегдатаем областной библиотеки, Геннадий читал Толстого и Достоевского, Бунина и Чехова, познавая то, что мог бы познать еще в школе, если бы не валял дурака. Увлекся поэтами серебряного века, от них перешел к современным. Потом открыл для себя психологию и психоанализ, зачитываясь Фрейдом и Юнгом. Помимо библиотеки посещал областную филармонию, в которой выступали поэты и артисты. Нравились ему добрые песни Сергея Никитина и Александра Дольского. Словом, в армейские годы он быстро и упорно строил свою независимую и основательную личность.
Юношеская влюбленность как-то сама собой прошла, и когда получил от Анюты письмо с сообщением о замужестве, то вовсе не расстроился, а порадовался за подружку. Вместе с тем, гордо отметил, по мужской своей сущности, что теперь они с Виктором Сергеевичем вроде как побратимы, вышедшие из одной постели, и он, младший по возрасту, раньше другого углядел достоинства женщины, готовой подарить себя мужчине.
Вышла замуж сестра. Только по письмам ее нельзя сказать, что она счастлива. Ну что ж? Сама виновата: не там мужа искала. Геннадий это точно знает, и не сочувствует Людмиле. А мать в каждом письме плачет, боится, что сына пошлют в Афган, откуда просачиваются грозные вести: гибнут ребята в неизведанных горах в борьбе с душманами. Соблазняли его переходом в спортроту. «Будешь, – говорили, – участвовать в окружных соревнованиях, а потом попадешь в команду министерства обороны. Ее победителей направят в олимпийскую сборную. В Москве побываешь!». Только решил Геннадий: ни к чему это, поскольку олимпийца из него не вырастить, а впустую терять время на забеги не хотелось.
К концу службы созрело у него осознанное решение – поступать в институт. Помог начмед дивизии, ценивший фельдшера за спокойный и покладистый характер: никогда никаких нареканий на него не было. «Тебе на врача учиться надо, Егоров», – говаривал начмед при встрече. Перед самым окончанием службы получил Геннадий от него направление в ленинградскую военную академию. Да не хотелось связывать себя с армией, потому отослал он свои документы, приложив и направление, в московский мединститут, мотивируя тем, что не может учиться вдали от дома, где ждет его старушка-мать. И поступил: помогли армейские льготы и большой практический опыт.
Вновь Геннадий изучал анатомию и физиологию человека, фармацевтику, педиатрию, внутренние болезни, после училища эти предметы шли легко. Философские и политические дисциплины изучались с интересом: иногда даже казалось, что не ту профессию выбрал. Порассуждать о жизни и политике партии он любил, и забивал всякого в споре. Сложно давались математика и немецкий язык: плохая школьная база подводила, хотя и с этим справился. На четвертом курсе вплотную занялся хирургией, избрав ее своей специальностью.
Только не одной учебой живет студент. Надо подрабатывать, поскольку взрослый сын не может «сидеть на плечах матери». Снова пришел в «скорую», потом перебрался в травмопункт, где получал большую ортопедическую практику и неплохой заработок.
Еще есть друзья, спорящие до хрипоты. Иногда привозил их к себе домой. Далековато, правда, зато никто не мешал: мать с радостью принимала студенческую компанию. Она поддерживала сына во всем, полагая, что лучше пусть веселятся при ней, чем запретными делами где-то заниматься станут. Ни о каких запретных делах его друзья и не помышляли, и благодарны были тете Нюре за доброе участие.
Была у него и любовь институтская – Светлана Огольцова, из родного города. Совместная дорога в Москву сдружила их. Светик – единственная дочка в семье врачей, являлась деспотом не только для родителей, но и для сокурсников, сумев подчинить себе мужскую половину курса и даже нескольких старшекурсников. Выделяла она среди всех ребят спокойного и рассудительного студента, казавшегося ей достаточно взрослым, поскольку он был старше ее на три года. Привлекательная Светлана «летела» по институту сквозь годы учебы, преподавателей, экзамены. Ей все легко давалось. Сокурсницы не очень ее любили, что придавало девушке дополнительный шарм. Она стремилась доказать заносчивым москвичкам, что не менее их способна добиваться места под солнцем. Так доказывала, что на пятом курсе внезапно выскочила замуж за доцента, подававшего большие надежды в преподавательском и медицинском мире. Через два года развелась, не удержавшись рядом с гением, вернулась в родной город и устроилась в областную глазную больницу. Иногда они перезванивались, хоть и потрепала Светка нервы Геннадию в первые студенческие годы.
– Ой, дурачок, – смеялась она, – кто в наше время по любви женится?
– А ты со мной встречаешься по любви? – выяснял он.
– Конечно, миленький, – не задумываясь, отвечала. – Кого здесь еще любить?
Ему нравилось, что она считала его лучшим из лучших, и не догадывался он, что Светлана целенаправленно проводила естественный отбор женихов, а его держала на всякий случай.
Жить в доме стало особенно трудно, когда вернулась из замужества беременная Людмила. Хотя на его маленькую комнату никто не претендовал, собираться здесь студентам стало сложнее. Сестра нуждалась в покое, и мать, волнуясь о дочери, просила сына не привозить пока институтских друзей. Кто бы из них помешал сестре выносить и родить ребенка, он не знал, но к себе больше не приглашал. А в августе, прямо в день рождения, Людмила умерла, оставив брату и матери своего сына, названного Женей. Хоть тут сестра поняла, кто мог сделать ее счастливой, только позднее это понимание судьбу ее трагичную не изменило. Сестры не стало, а в большой комнате в кроватке лежал оголец, похожий на нее и на их отца, а, может быть, было в нем что-то от его собственного папашки, так легкомысленно себя проявившего.
Геннадию в то время было не до племянника, поскольку роман со Светланой отбирал все душевные силы. Однако для поддержки физических сил матери он находил училищных однокурсниц, согласных посидеть с малышом. Даже Анюта, ставшая счастливой женой и матерью, заглядывала к ним, чтобы подсобить тете Нюре. Когда она появлялась, Геннадий слегка нервничал, жалея, что любовь их столь быстро закончилась. Но и понимал: Анюта – не его женщина, с Виктором Сергеевичем она приобрела уверенность в себе, а чувство безопасности и надежность брака превратили ее из нервной беглянки, метавшейся по жизни, в спокойную и добродетельную жену, заботливую мать двух сорванцов.
Настоящим подарком судьбы стала Геннадию медсестра из детской поликлиники. Поначалу он даже не понял, что его жизнь перевернулась. Пришла на день рождения к племяннику, порадовалась вместе с ними, посетовала, что нет у малыша матери. А потом «забралась» в его сердце, улеглась там котенком пушистым. Лежит внутри сердца, мурлычет ласково, и это мягкое мурлыканье осилило Светланину яркую стервозность. Не заметил, как сменил свой любовный интерес. Да и не интерес это вовсе. Интерес – что? Дунул – тот и растворился. Здесь же дуй – не дуй, все мысли к Танюше возвращаются, к ее милому и тихому голосу, к улыбке ее ласковой.
Год метался между «бешеной» Светланой и нежной Танечкой. Та любовь улетучилась, как и первая юношеская, а эта укреплялась. И в этой любви понял Геннадий, что не любил он раньше никого, что не хотел бы он за тех двух жизнь свою положить, и род бы с ними продолжить, гордясь своими детьми, как отец его гордился. Таня, появляясь в их доме, светом озаряла его, в доброту свою укутывала, собою его от бед закрывала.
Терпел он, терпел, да однажды, когда они вдвоем оказались, обнял девушку, вложив в объятие всю страсть мужскую, давно в нем копившуюся. И она поняла, поверила ему сразу. И хотя боялась близости, ему доверилась. С той минуты решил Геннадий, что сделает эту девушку самой счастливой женщиной в мире. Не было больше ни Анюты, ни Светланы, никого, кроме Танюши, ее теплых карих глаз, по-детски пухлых губ и нежных, мягких рук.
Летом восемьдесят пятого они поженились, и Геннадий, обитая еще в институтском общежитии, возвращался теперь из него в уютную квартирку, в которой ждали его жена и теща. Танина мама – вполне молодая женщина, немногим за сорок, приняла зятя с радостью: серьезный, в институте учится, врачом будет. И со спокойной совестью вышла замуж, передав в надежные руки заботу о дочери.
Счастливая судьба у Геннадия: получил замечательную профессию, встретил любимую женщину, построил дружную семью, в которой росли сын Николай, в честь отца названный, и дочка Ташенька, как пошутил Геннадий в день ее рождения: «Мне одной Танюши мало, пусть две светят». Рядом с его детьми рос и племянник, на котором отрабатывал Геннадий родительскую технологию. Женька его многому научил: любить беззаветно, отдавать себя и не ждать ничего взамен, терпеть детские проказы и усмирять обиды. Разумеется, жена помогала: она в жизни лучше разбиралась, знала, где строго сказать следует, а где не заметить баловства. Дом вела, детей растила, на работе ему подмогой стояла.
В тридцать четыре года стал Геннадий ведущим хирургом отделения областной клиники. Время было постперестроечное, в руководство выдвигали молодые кадры, и в их больнице также опирались на специалистов, знающих дело и еще не зараженных профессиональной усталостью и цинизмом. Назначили Геннадия заведующим отделением.
В село Высокое, где проходило беззаботное детство, он давно не ездил, предпочитая с семьей путешествовать по стране: Крым, Сочи, Селигер, Карелия. Однажды направили его на врачебную конференцию в Ярославль. Заглянул к Алексею и порадовался: живет брат в огромной квартире с женой и тремя сыновьями, на него похожими и на незнакомого им дедушку Колю. Да и сам Алексей, становясь старше, все больше походил на отца: внешностью, характером, профессией. Хотя в профессии он отца превзошел, создав свою строительную фирму: дома строил и загородные коттеджи. Поскольку фирма славилась отличным качеством и божескими ценами, проблем с продажами не было. Наезжали местные братки, да он создал собственную службу безопасности, и те беспокоить перестали.
– Большое дело разворачиваем. Мне и врач в фирме нужен, переезжай, платить будем хорошо, – предложил Алексей.
– Нет уж, я в коммерцию не вхож, – отшутился Геннадий, хотя был польщен тем, что брат признал в нем нужного специалиста. – Да и Калуга мне больше нравится: там все родное и знакомое, а у вас, хоть и древний город, да не мой.
Разговор у них шел за жизнь, на столе стояла бутылка водки, да соленья, женой приготовленные. Сама она сидела здесь же, в основном молчала, стараясь не мешать мужскому разговору. Помолчали и они, поминая Люду.
– Она ведь меня сразу приняла, – вспомнил Алексей. – Душевной была, доброй. Не уберегли мы ее. А малец-то как?
– Мальцу уже семнадцать. Здоров, силен, усы пробиваются, – расписал племянника Геннадий.
– Отец-то его помогает?
– Нет, мать помощи у него не принимает, а он не настаивает. Сволочь он.
– Ну, ты так быстро не суди. Мало ли что меж людьми случается, – примирительно произнес Алексей, вспоминая, что и его кровный отец не поддерживал, да судить его не за что.
– Меж людьми многое случиться может, только сын, я думаю, ни в чем не виноват: ему отец нужен, – спорил Геннадий, не понимая братнего милосердия.
– Пусть к нам приезжает, мы его профессии строителя обучим. Да и братья его как родного примут. Правда, Кать? – обратился он к молчавшей жене.
– Пусть приезжает, – ответила та. – Только бабушка отпустит ли внука?
– Это правда, – поддержал ее Геннадий, уже захмелевший, но способный еще рассуждать. – Разумная ты, Катя, женщина. Бабушка внука никуда не отпустит. Он ей как сын любимый. А вот вы к нам приезжайте. У нас не такие хоромы, и все же разместиться сумеем. Пора детей наших познакомить.
На том и порешили, только жизнь по-другому распорядилась. Завертелась так, что ни в гости выехать, ни знакомиться у них времени не оказалось. Коля и Таша еще в школе учились, а Евгения в армию взяли. Через полтора года привезли его из госпиталя: лежит на постели, не двигается, в себя не приходит. Мать напугана, дети притихли, только Геннадий с Татьяной относительно спокойны, поскольку приходилось им видеть коматозных больных, в их больнице такой же солдат лежит, переведенный из военного госпиталя по месту жительства.
Врачи все силы положили на оба эти случая: и практика большая, и мальчишек жаль. Только за лежащим в больнице солдатом уход попроще строился: тощий больничный бюджет не рассчитан на пациента, требующего ежеминутного ухода и дорогостоящей импортной техники. Дома тоже не было такой техники, да были любовь близких людей, заботливый уход и страстное желание осилить болезнь.
В эти трудные времена примирился Геннадий с Дмитрием. Второй раз в жизни начинал он отношения с неприязни и отчуждения. А жизнь поворачивала его мозги и душу в другом направлении. Алексей, когда-то непризнаваемый, давно стал родным и близким. Старался помочь в семейной беде: высылал деньги на лекарства, поддерживал в брате уверенность, что тот обязательно одолеет злую напасть. Однажды приехал, и Геннадий решился познакомить брата с матерью.
К тому времени Светлана Огольцова, бывшая сокурсница, а ныне кандидат наук и ведущий офтальмолог области, сделала ей глазную операцию, и мать впервые за долгие годы видела четко и ясно.
Открыв входную дверь на неожиданный звонок, увидела сына и мужчину, который, она даже охнула, похож на Николая.
– Привет, – бодро поздоровался с матерью сын, будто не замечая ее растерянности, и представил своего спутника, – это Алексей. Проходи, Леха, раздевайся.
Они сняли пальто с шапками и прошли к Жене.
– Вот наш десантник, в себя приходит, – представил он племянника. – Я вас оставлю на минутку. Мам, – закричал, выйдя из комнаты, – чай у тебя есть или чего покрепче?
Мать сидела на кухне, обдумывая встречу с человеком, странным образом походившим на мужа.
– Что ты кричишь? Я слепая, а не глухая – сердито проговорила.
– Не кокетничай, ты теперь зрячая. Что есть поесть? Леха с вокзала, голодный. Он в Ярославле живет.
Искал он к матери подход, думал, как раскрыть отцовскую тайну. Не знал, имеет ли право на это, и рассудил: ничего плохого отец матери не сделал, сам мучился всю жизнь, а правда всегда лучше, чем недомолвки.
– Мама, он брат мне сводный, родился в пятьдесят пятом, в Воронеже, где отец служил, – выпалил почти без передышки, как сбросил с себя тяжелую ношу.
– Я и вижу: похож на Колю, – спокойно ответила мать. – Хорошо, что приехал. Покорми его с дороги, а я с Женей посижу.
Надо было ей одной пережить эту весть. Внезапная? Пожалуй, нет. Ходили разговоры по селу, только Нюра им не верила, не хотела верить, и не было у нее для этого причин: Коля-то всю жизнь с ней душа в душу жил, о других не думал. А вот, оказывается, была у него зазноба в армии. Теперь и не узнаешь, кто и почему. Только к ней, к Нюре он вернулся, и про ту зазнобу не вспоминал. Значит, Нюра и дом их уютный ему важнее были. А Леха? Чем же он виноват? Нельзя его корить. Жизнь, она непростая: то так повернет, а то совсем по-другому. И Нюра подошла к тому времени, когда не злиться, а прощать и понимать всех надо. Вышла на кухню, глянула на гостя: точно, Коля ее сидит за столом, щи ест также торопливо, чуть причмокивая. Будто встретилась она с мужем любимым.
– Ты, Леша, где остановился? У Гены? – спросила. – А может, к нам переберешься? Тут спокойнее. Семья-то у тебя какая?
И пошел у них неспешный разговор о делах семейных и воспитании детей. Геннадий внутренне вздохнул: поняла все мать, приняла она, сердечная, в свое сердце еще одного сына. «Эх, отец, – подумал он, – напрасно ты мучился: мать-то мудрее тебя оказалась». Поняла она муку и мужа, и детей своих, от нее таившихся.
С Дмитрием тоже долго договориться не мог, не прощая ему сестринского одиночества и равнодушия к Жене. Да ведь мать приняла Алексея, а ей это посложнее, и примирилась она с Дмитрием, значит, и ему следует пересмотреть свое отношение. Любой человек иной раз ошибается. И он ошибался, может, не так жестоко, но, спасибо судьбе, что не кувыркала его. А Дмитрий помог со злополучной медицинской выпиской, добился в военкомате установления пенсии, и сам, по всей видимости, переживал свое неудавшееся отцовство. Да если вспомнить, не мать ли не допускала его к внуку, и не он ли, Геннадий, ее в этом поддерживал?
Так однажды и собрались вместе Дмитрий Воронков, Алексей Деркачев и Геннадий Егоров: учитель, строитель и врач. Что человеку нужно? Знание, дом и здоровье. Конечно, не обошлось без горячительного напитка, направившего их мозги к философскому обоснованию столь странного союза. Но у мужиков так всегда: они друг друга через совместно выпитое понимают. И хотя жизнь их по-разному текла, сошлись вместе, потому что являются звеньями одной человеческой цепи, разрывать которую нельзя.
Сорок с лишним лет прожил Геннадий на земле: детей нажил, семью укрепил, друзей нашел. Жизнь еще не кончается. Будет у него впереди счастливая жизнь с любимой женщиной, радости, подаренные взрослеющими детьми, путешествия по миру, которые обогатят его новыми яркими впечатлениями, творческая работа, приносящая радость и уважение окружающих. Наверное, будут и трудности, без которых, Геннадий это точно знает, жизнь скучная и пресная. «Вперед, – чуть иронично говорит он себе, – вперед, брат, к новым жизненным успехам!».
Умей с судьбой договориться
С какого времени человек себя помнит? И что он может вспомнить с материнской утробы? Такие вопросы не раз задавал себе Женя Воронков, нормальный, в общем-то, парень, только лишенный матери, и потому не раз пытавшийся представить ее себе. У дядьки – известного в городе хирурга – утащил учебник по акушерству, тщательно изучил, и понял, что было с ним лично, когда его и на свете не было. И не только понял, а вспомнил.
Например, как мама, он это теперь знает, что мама, а тогда, наверное, думал, что-то неизведанное, но очень приятное, касалась своего живота, и через оболочку кожи к нему шло доброе тепло и разливалось в нем блаженство. Слышал откуда-то: «Растешь, малыш? Будь сильным и храбрым, чтобы меня защитить». Что значит – защитить, он не знал, хотя весело бил по стенкам своего жилища, показывая, какой он храбрый и сильный. Говорила она еще: «А может ты девочка? Ничего, я и девочке рада, лапушке моей». Что такое девочка, неясно. Успокаивало то, что мама любому ему рада. «Эй-ей, – волновалась она, когда он активно переворачивался в поисках удобного места в своем маленьком мирке, – не бушуй, мне больно». Он совсем не хотел доставлять боль, поскольку это очень тяжело, знает: ему больно, когда оказывается вжатым в стенки жилища. Тогда он сердито подает знак: мне больно!
Шутят взрослые, что до трех месяцев плод боится, как бы мама его не выкинула, а после трех боится мама, как бы ребенок не вылез слишком рано. Лично он ничего не боялся, зная, что ждет его мама и любит, о чем не раз ему говаривала. Насчет папы уверен не был, поскольку голос его слышал редко, да и слышанное радости не доставляло. Когда они оказывались втроем, то есть папа, мама и он внутри, то чаще всего папа и мама ссорились: из-за того, где и на что жить, с кем встречаться, когда кому дома быть. Честно признаться, он еще смысла спора не понимал, но по маминому настрою, по тому, как поступал от нее кислород, как стучало ее сердце, чувствовал недовольство и раздражение. Когда же папы рядом не было, мама бывала удручена. Спустя какое-то время успокаивалась, пела песни – веселые и грустные, слушала музыку, и разговаривала с ним. Еще рядом с мамой жили люди, очевидно, любившие ее, поскольку тон их голосов не пугал, более того, давал понять, что ни ему, ни ей они ничего плохого не сделают.
В его темно-водяном мире было уютно, тепло, мягко, спокойно. Мелкие неприятности, приносимые извне, особенно не волновали. Разве только, у мамы падал гемоглобин, или ей не хватало кальция, но он-то, умелый добытчик, все это добывал из маминого организма, немного ее жалея. Последнее время им обоим было очень душно, мама, по всей видимости, задыхалась, и они с нетерпеньем ждали наступления вечера, когда затихнут звуки города, спадет жара, мама начнет свободно дышать, и ему тоже станет легче.
Рос он быстро, и как стало ему тесно, задумал во внешний мир перебраться. Толкнулся сильно, не поняли. Толкнулся еще раз. Надавил на низ своего жилища так, что мама вскрикнула. Что-то он, видно, сделал, поскольку его уютное жилище слегка сдвинулось, ему даже показалось: вниз куда-то полетело. Находиться в таком положении невыносимо, потому стал он биться, причем именно вниз, полагая, что выход там. Уставая, ненадолго затихал, а потом настойчиво пробирался дальше сквозь узкий и темный туннель. Особенно испугало, когда вода, которая всегда защищала от ушибов, вдруг исчезла. Что это? Как же без нее? Растерянность быстро прошла и появилась уверенность, что выбираться все-таки придется, и чем скорее он это сделает, тем лучше. На беду что-то мешало, не пускало. Может, этот длинный шнур, который связывает его с мамой? Оторвать его он не мог, да и боялся, не представляя, как без него питаться.
За волнениями не заметил, что вокруг мамы собрались чужие люди. Незнакомые голоса, очевидно, подсказывали ей, как помочь малышу выбраться. Он слышал указания: «тужься», «тужься милая, сильнее», «отдохни, не тужься». После таких слов мама напрягалась, и он чувствовал, как благодаря этому напряжению движется вперед значительно быстрее. Иногда она переставала тужиться, и он требовал: «не прекращай, я хочу выйти». Сердечко его сильно колотилось, он задыхался, и настойчиво искал выход. Потом услышал: «придется резать», «теряем обоих». Страшно испугался, присмирел, обдумывая, что там вовне происходит, и надо ли себя проявлять. Пока думал, случилось страшно интересное: какие-то руки его подхватили, подняли, стало светло, только холодно и неуютно, потому он громко закричал: «Помогите!». Слов, правда, не было, был плач, однако умные люди все понимают. Незнакомая тетя, державшая его на руках, сказала: «Раскричался. Мальчик, крепенький и крикливый. Смотрите, мамочка». Значит, эта тетя – не его мать.
Конечно, как он сразу не признал ее? Она лежит где-то внизу, видно ее плохо, только глаза, которыми смотрит на него ласково и шепчет чуть слышно: «Женечка». Вот она, его мама, от которой всегда шло тепло. «Пустите меня к ней», – кричит он. Теперь он знает, что зовут его Женечкой, и что он мальчик. Мальчик хочет к своей маме, все та же тетя несет его на что-то жесткое и укутывает в пеленки. Стало тепло, накатила усталость, и еще немного покричав в надежде, что к маме отнесут, он засыпает. Ему снится уютное жилище, с которым расстался, хочется вернуться, да, видно, не получится. Долго лежит на чем-то жестком, иногда просыпаясь и покрикивая. Спустя какое-то время проснулся в маленькой кроватке, рядом такие же, как он, младенцы покрикивают. Приходит тетя, другая, не та, что он видел при рождении. Она кажется доброй, поскольку берет его на руки, прижимает к себе, а потом что-то прикладывает ко рту и из этого что-то льется приятная белая жидкость. Оказывается, это соска с бутылочкой, наполненной молоком, необходимым младенцу. Приятно, тепло. Но где же мама?
Так ли было на самом деле, Женя доподлинно не знает. Сначала в каждой женщине выискивал черты своей мамы и бросался к ней, уверенный, что это она спешит к нему. Потом понял: бабушка у него за маму, и полюбил ее еще сильнее, потому что именно бабушка была доброй и ласковой, а голос ее знаком ему с зарождения: он был всегда.
Бабушка показывала Жене мамины фотографии, с которых смотрела на него смеющаяся девчонка, и он знал: его мама – девчонка с фотографии. Затем бабушка показывала фотографии красивой девушки и улыбающейся женщины. Значит, думал Женя, мама бывает разной: и смеющейся девчонкой, и красивой девушкой, и женщиной с добрыми глазами и улыбкой, обращенной к нему. Теперь она превратилась в бабу Нюру. С годами он понял, что живет с бабушкой, а мама умерла, и это значит: нет ее нигде. Бабушка Нюра говорит, что мама сидит на облачке, на него сверху поглядывает. Женя внимательно рассматривает облака, и никого там не видит.
– Бабушка, давай маму позовем. Пусть она спрыгнет оттуда к нам.
– Не может она, внучек. Нет у нее сил на землю вернуться.
– Я ей силы дам. Я же вон какой сильный.
– Твои силы ей не помогут.
– А что ей поможет?
– Женечка, мама может только на нас смотреть и радоваться.
Неправильно мир устроен: у других мамы с детьми живут, у него же, в маме нуждавшемся, она на облаке сидит. Да мир не изменишь. И живет Женя вдвоем с бабушкой, которая всех на свете лучше.
– Есть у нас с тобой, внучек, Гена и Таня, – напоминает бабушка.
– А у Тани ребеночек скоро будет? – спрашивает наблюдательный Женя.
– Будет.
– А меня она любить будет? – задает он вопрос, страшно его волнующий.
– Конечно, солнышко. Мы все тебя любим.
При этих словах Женя успокаивается. Он уверен: жизнь хороша только, когда тебя любят. Он и сам любит: бабушку. Она с ним играет, книжки читает, о маме рассказывает, вкусную кашу готовит. Без нее он не проживет. Любит Женя и Гену, так он по-свойски к нему обращается. Став старше, услышал, что в других семьях дети зовут родных тетями и дядями, а у них в семье теть и дядь нет: есть Гена и Таня. Так бабушка их называет, так и он привык звать.
Гена поднимает племянника высоко-высоко и кружит над головой с огромной быстротой, и Женя не боится, поскольку знает: из его рук не упадешь. Падает, когда стремится от дяди убежать; тогда ударяется и плачет от боли, а Гена хмурит брови и наставляет: «Храбрый мужчина боли не боится». Женя еще не знает, что такое храбрый мужчина, но соображает: Гена, наверное, храбрый мужчина, и потому боль ему не страшна.
Бабушка успокаивала по-другому: «У кошки заболи, у собачки заболи, а у Жени не боли». Он же с малых лет считает, что все должно быть по справедливости, потому не должно болеть ни у кого. Почему кошки с собаками за него страдать обязаны? «Нет, бабушка, – поправляет он, – пусть у них ничего не болит». От этого решения боль сама по себе исчезает, ну разве что самую малость остается, так ведь «храбрые мужчины боли не боятся».
Любит он и Таню. Она всегда что-нибудь интересное придумает, то в живой уголок их с Геной водит за медведем и рыбками наблюдать, то в кино мультфильмы смотреть. Да просто по улицам бродить с ней увлекательно. Огромные деревья кругом, дома разные, улица длинная – с горки спускается и на горку поднимается. В горку идти трудно, а с нее легко бежать: передвигаются Женины ножки быстро-быстро, заплетаются, и вот он падает, и носом в песок ударяется. Больно-о! А Таня подбежит, хохочет, будто ничего особенного не произошло, и протягивает ему конфету. Пока бумажку конфетную развернешь, в рот конфету положишь, да обсосешь, забудешь, что падал. А еще Таня его яблоками и бананами угощает. Сладкие яблоки ему нравятся больше всего. Только последнее время Таня мало с племянником гуляет: трудно ей углядеть за непоседой и поднять его она не может, поскольку стала толстая и неповоротливая. Женя тревожится. Вдруг она тоже умрет, как его мама? Успокаивает лишь то, что у других ребят мамы не умирают.
У него много друзей в детском саду, хотя иногда они ссорятся, но опять же, потому что Женя любит справедливость. Разве справедливо, что Сереже каждый день новые игрушки покупают, а другим нет? И пусть покупают. Но почему Сережа такой жадный и всегда кричит: «это мне папа купил»? Женин папа редко приходит, игрушки почти не покупает. Появится у них дома, посидит с Женей немного и опять надолго пропадет. Бабушка его соколом залетным называет и, кажется, не любит.
– Бабуля, ты почему папу моего не любишь? – как-то спросил Женя.
– Не люблю? – переспросила бабушка. – Наверное, потому что он – плохой папа.
– А почему он плохой?
– Не знаю, внучек, – бабушка задумалась, а потом выдала то, что, наверное, ее тревожит. – Вдруг он тебя у меня заберет?
– Вот и хорошо, я с папой жить буду, – ответил Женя и догадался, что бабушке эти слова не понравились. Замолчала надолго, потом обняла его, прижала и спросила:
– А как же я без тебя жить стану?
– Ты с нами жить станешь, я папе скажу, он и тебя заберет.
Долгое время понадобилось Жене, чтобы понять: папа его к себе не возьмет, не хочет. У него другая семья, другие дети. Со временем у обоих отпала надобность видеться: редко-редко позвонит отец, узнает, как сын обретается, и опять исчезнет.
На лето они с бабушкой ездят в деревню, к бабе Тамаре и бабе Варе. Вообще-то, говорят, что у него есть еще бабушки, и даже дедушки, да он их не видел, а потому они для него ничего не значат.
Баба Тамара и баба Варя часто плачут вместе с бабушкой. Как соберутся, так слезы проливают. В это время Жене разрешается хулиганить, то есть делать то, что он хочет. Например, он может разогнать всех кур у бабушки Томы: ему нравится, как они разбегаются. Тогда петух забирается на забор и кричит дурным голосом, и Женя ему помогает: орет «и-и-и-и», убежденный, что петух его понимает. У бабы Вари можно в лохань с водой камешки бросать и смотреть, насколько далеко брызги разлетаются. А если прошел дождь, то можно по лужам босиком бегать, и никто наказывать не станет, поскольку бабушки после слез добрыми становятся.
Когда Женя подрос, развлечения его другими стали. Заберется в сарае на сеновал с приятелями, и они там кувыркаются, на землю с крыши сарая прыгают, иногда дерутся, силу свою проверяют. Или убежит с ребятами на речку и пропадает там полдня. Речные развлечения разнообразны: кто быстрее проплывет, кто глубже нырнет, кто ракушку со дна достанет. Однажды утонул соседский пацан: что-то не рассчитал, о корягу, говорят, зацепился. Бабуля Женю после этого недели две на речку одного не пускала. И чего она боится? Женя же плавает лучше всех мальчишек в деревне, а она не верит.
В школе учился хорошо, бабушка говорила, что способностями в маму пошел. Показывала ему мамины дневники: там одни пятерки. Хочется Жене на маму походить, старается он и каждой пятерке радуется. Другим, может, все равно, какие оценки получать, а ему кажется, что хорошая отметка его к маме приближает. И не верит он давно, что мама с облачка глядит. Сказала как-то ребятам учительница, что когда человек умирает, его больше нигде нет, остается лишь память о нем. О хорошем человеке, сделавшем много для людей, память добрая, например, о народных героях: князьях Александре Невском и Дмитрии Донском, полководцах – Суворове и Кутузове. Но мама же не полководец, не князь, и вообще, что она сделала для народа? Получается, что нет о ней памяти. Разве можно в такое поверить? Он помнит о ней и считает, что в нем она сидит, изнутри за ним наблюдает. Конечно, он об этом никому не говорит, потому что засмеют, однако сам в том уверен.
Уверенность усилилась после разговора с дядей Женей, летчиком из соседнего дома. Когда дядя Женя приезжает со службы, а служит он очень далеко, то заходит к ним, и бабушка ему рада не меньше, чем Гене с Таней.
– Как жизнь, Женя? – спрашивает его. – Не женился?
– Нет, теть Нюр, не женился, – отвечает он. – Не встретил я еще никого.
– Зря ты это, парень, – наставляет бабушка и вздыхает. – Людочку не вернешь.
Посидят, поговорят, а потом дядя Женя с ним играет. И рассказывает про небо и самолеты, про страны разные, про людей стойких и смелых. Однажды Женя спросил у него:
– А правда, что, когда люди умирают, их больше нет?
Дядя Женя внимательно на него посмотрел и ответил:
– Каждый сам должен решить. Веришь, что нет, значит, нет. Думаешь, что рядом, только невидима, значит, рядом и невидима.
Именно этого ждал от него Женя, уверовав, что мама рядом, только он ее не видит. Учителя тоже могут ошибаться. А с дядей Женей они большие друзья, хотя встречаются редко. Был в жизни эпизод, когда казалось: дружба прекратится. Как-то на традиционный бабушкин вопрос дядя Женя смущенно ответил, что женился, показал фотки жены и малыша, только что родившегося. Бабушка внимательно их рассмотрела, похвалила: «Правильно, Женя, жить дальше надо», а когда он ушел, долго плакала, таясь от внука. Однако дядя Женя все равно к ним приходит, правда, очень и очень редко.
Когда в семье появился Коля, а следом за ним и Таша, внимание к Жене со стороны взрослых уменьшилось, а у него появились заботы – поиграть с братом-сестрой, присмотреть за ними, коляску во дворе посторожить, за питанием на молочную кухню сбегать. Кому-то это, может, и не нравится, да и Жене не очень нравилось, но ведь он – старший и должен близким помогать. Вообще, Женя покладистым парнем рос. Надо – в магазин сбегает, надо – в доме порядок наведет.
В шестом классе решил себя сам строить: записался в секцию карате. Поначалу ему нравилось как ребята, одетые в белые каратэги, в едином строю отрабатывают стойки внимания, заучивая при этом непонятные японские слова: Хейсоку-дачи, Мусуби-дачи, Хейко-дачи, Хачижи-дачи. Спортивный зал наполнялся единой энергией ребят, а тренер Роман Сергеевич, сенсей то есть, поучал: «Все тело расслаблено, но насторожено, готово к движению. У вас будто нет особых намерений, но из стойки Шизен-тай вы сможете быстро принять позицию атаки или защиты». Женя даже у школьной доски вставал в позицию бдительного расслабления.
Быстро пролетело время изучения стоек, способов передвижения, приемов удара, и начались первые спарринги. Уважая противника, партнеры обязательно приветствуют друг друга, а после магической команды «Хаджиме!» врываются в бой, в котором бьется Женя до последнего, и победить его трудно. «Ты, парень, дойдешь до черного пояса», – говорил тренер, и Женя уверен: дойдет непременно. Пояса в карате – это как школьный класс: научился – иди дальше. Бабушка как-то на соревнования пришла, охала и ахала, потом к тренеру подошла.
– Скажите, Роман Сергеевич, внуку моему, что неспособный он к борьбе этой, – попросила.
– Да что вы, Анна Васильевна? – не согласился тот. – Парень ваш очень даже способный. В нем есть злость спортивная, быстрая реакция и решительность. Еще подрастет, на российский кубок пошлем. Мастером станет.
– Не хочу я, чтобы он людей бил, – недовольно оборвала его бабушка.
– И я не хочу, Анна Васильевна. Мы с вами научим его людей защищать.
И он рассказал ей о карате. Борьба эта, убеждал, делает человека не только сильным, но и здоровым, ловким, добрым, воспитывает чувство партнера и ответственность за людскую жизнь. При таких аргументах она сдалась, и больше не запрещала внуку заниматься. Она, вообще, прогрессивная бабуля, иногда лишь чрезмерно боязливая.
Спортивные занятия, на самом деле, мобилизовали, поскольку карате, как понял Женя, – это упорный ежедневный труд, в котором до автоматизма доводятся различные комбинации ударов и защит, выбор дистанции с противником, а также вырабатывается тактическое мышление. «Вы, – говорил тренер, – должны обрести единство духа и действия». И для этого следовало четко распределить время: секция с тренировками и боями, школа с домашними заданиями, дом со всем его хозяйством, друзья.
Друзей Женя осторожно выбирал. В детском саду он любого другом называл. В первые школьные годы были товарищи, объединенные общим делом: дожить до конца трудного урока, диктант сложный написать, вечер отдыха провести, девчонок из класса защитить, очередной учебный год закончить. И все.
Раньше, рассказывал ему Гена, пионерско-комсомольская организация молодежь объединяла, внедряла в юношеские головы главный закон времени: учиться, учиться и еще раз учиться. Форма единая делала всех хотя бы внешне одинаковыми. Теперь формы нет, а учащиеся хвастаются родительскими возможностями с помощью джинсовки левисной, кроссовок адидасовских, печаток, колец да сережек золотых. Вместо бывших организаций объединяют молодежь интересы внешкольные да предки. Скажем, у меня папа – директор, и у тебя тоже, в крайнем случае, заместитель и может директором стать – значит, будем дружить, на хате твоей или моей тусоваться. У тебя есть видак, а у меня предки фильмец-эротик привезли: будем вместе глазеть и других таких же искать в компанию. Ты «тяжелый рок» уважаешь, и я от него тащусь, значит, вместе станем колбаситься. Одноклассники Жени с плеерами, магнитофонами, да видаками носятся, у одного даже сотовый телефон на поясе висит, и во время урока трезвонит, возбуждая ненависть учителей. А мотоциклы теперь тоже не предел мечтаний: есть они далеко не у каждого, но пара байкеров в школе наберется. Компьютеры появились. Даже предмет такой ввели, чем ввергли в недоумение и детей, и учителей: один компьютер на всю школу, и тот не работающий, а старшеклассникам рассказывают о широких возможностях информатики.
Ничего этого нет у Жени: на бабушкину зарплату и пенсию не разгуляешься, а просить у дяди – язык не поворачивается. Впрочем, у того дома стоит компьютер, и доступ к нему племяннику разрешен, есть там и видак, у Коляна плеер, да все это не принадлежит Жене, а он привык собственным пользоваться, от чужого отказываться. «Ничего, – успокаивал себя, – вырасту, заработаю».
Да, деньги сейчас нужны: на форму, защитную раковину, перчатки, грушу, а его финансовых возможностей разве что на скакалку хватит. С девятого класса стал подрабатывать: на почте, овощной базе, разноске объявлений. Курьером устраивался, разносчиком газет. Заработки были разовыми, однако давали ощущение самостоятельности. Он и в спортивный клуб пристроился уборщиком, чтобы заниматься в секции бесплатно. Взросление требовало все большего количества денег. То, что давали бабушка и дядя, уже не хватало. К счастью, отец про него вспомнил, позвонил, к себе позвал. Ничего об этой встрече он бабушке не сказал, полагая, что опять она излишне занервничает.
Квартирка у отца, школьного учителя, малогабаритная, из трех комнат: спальня, детская, и гостиная. Тесновато. Женя сразу прикинул: ему места нет. Отцовская жена Полина Петровна, учительница музыки, встретила его скупыми словами: «Привет, проходи, отец тебя ждет» и ушла на кухню готовить обед. Десятилетний Толик, в основном, молчал, ревниво оберегая границы своей собственности на дом и отца. Отец же, слегка сгорбленный от стеснения за свой высокий рост, худой, по всей видимости, измочаленный учащимися, сидел со старшим сыном в детской комнате и объяснял, почему столько лет не объявлялся. Из этого объяснения Женя понял, что не договорились они с бабушкой, и в битве за него именно она одержала победу.
– Понимаешь, я перед твоей бабушкой ни в чем не виноват, но чувствую: ненавидит она меня за Людочку, – смущенно объяснил отец.
– А перед мамой виноват? – задал сын жестокий вопрос.
– Наверное, только я тогда этого не понимал, – оправдывался отец. – Она светлая была, добрая, заботливая, а мне казалось, что притянуть к себе хочет, заставить жить по ее принципам.
– И чем же тебе ее принципы не подошли? – не понимал Женя.
– Нормальные принципы, только мне свобода нужна была, – отец говорил осторожно, стараясь не задеть чувств сына, и, вместе с тем, бил словами наотмашь.
– А теперь ты свободен? – зло уточнил Женя.
– Семейный человек свободным не бывает. Поймешь это, когда женишься.
Не могли они договориться. Юношеский максимализм не допускал, что можно пережив смерть любимой женщины, отыскать другую, вторично жениться и завести ребенка, забыв о первенце, при этом считать себя порядочным человеком. Полина Петровна, ПП – обозначил Женя для краткости, позвала к столу, накрытому в гостиной, маленькой, но уютной, заполненной всяческими украшательскими прибамбасами типа настенных тарелочек и полочек. За столом, чувствовал Женя, возникла неприятная напряженность. Ели молча, глядя в тарелки, смотря друг на друга лишь изредка. Толик, сидевший напротив брата, прихлебывал суп, чем вызвал недовольство матери.
– Что ты ешь так громко? – с улыбкой, достойной гремучей змеи, спросила она сына.
– Нормально я ем, – пробурчал Толик.
– Ешь тихо, а то Женя подумает, что ты – человек невоспитанный, – не унималась в воспитательном усердии ПП.
Ничего бы он не подумал, но самому есть расхотелось, с трудом суп доел.
– Спасибо, очень вкусно, – вежливо улыбнулся Женя в сторону хозяйки.
– Добавку будешь? – не заметила она неприязни гостя.
– Нет, спасибо, я вообще больше есть не хочу.
– Как так? – удивилась ПП. – У меня солянка грибная с картошкой.
– Нет, спасибо, – твердо отказался он.
ПП посмотрела на мужа, затем перевела взгляд на сына, пожала плечами и примирительно согласилась:
– Ладно. Захочешь – положу.
– Я тоже наелся, – отказался от второго отец. – Пойдем Женя, договорим.
Собственно говорить больше не о чем, и Женя засобирался домой. Провожая его, отец протянул конверт.
– Там немного денег, пока больше нет. Ты возьми, не отказывайся.
Женя обязательно отказался бы, а глаза отца умоляли, и он взял конверт. С этого дня отец подбрасывал деньжат, немного, но они выручали. Тратил их Женя на домашние нужды и на себя, хотя бабушке про них ничего не говорил. В дом к отцу предпочитал не ездить, встречались где-нибудь на улице, иногда в дешевом кафе, иногда после тренировок в спортивном клубе.
И не думал, не гадал, что придется ему, шестнадцатилетнему парню, отца выручать и брата сводного спасать. Весной это было. Женя торопился на тренировку и вдруг увидел Толика в компании патлатых великовозрастных парней, о которых ходили по городу сомнительные слухи.
– Ты что здесь делаешь? – деловито спросил он брата, близко подойдя к нему.
– Канай отсюдова, – ответил ему верзила, вставший между братьями. – Вас не приглашали.
– Я тебя спрашиваю, – отодвинув верзилу, вновь обратился Женя к Толику.
– Я так, – заюлил тот, – дела у меня.
– Какие дела? – насторожился Женя.
– Тебя сюда не просят, – встрял длинноволосый коротышка, оказавшийся сзади. – Гуляй, пока цел.
Женя отвел руку коротышки, направленную для удара, взял за плечо брата, вовсе сникшего, и отвел его в сторону.
– Так мы блоки ставим! – завопил коротышка и полез в драку. – Щас мы тебе приемчики нарисуем.
Женя оказался окруженным несколькими парнями, пытавшимися встать в боевую стойку. Смешно ему это показалось, поскольку видно: гонору у парней больше, чем умения. Проведя короткие каты с добавлением резких ударов, он раскидал агрессивную компанию и подошел к Толику, который, к его удивлению, плакал.
– Ты что? – резко спросил он. – Чего ревешь?
Брат разревелся еще больше, и жаль стало этого глупого, толстенького мальчишку, который, наверняка, и сам не рад, что попал в переделку.
– Пойдем со мной на тренировку, по дороге расскажешь.
– Нет, – всхлипывал Толик, – они меня убьют.
– Почему убьют?
– Я им деньги должен.
– За что?
– Ни за что, у нас все ребята в классе им отстегивают, а кто не даст, того бьют.
– Так ты отцу скажи, он с ними разберется.
– Нет, они его тогда убьют, – хлюпал жалостливо Толик. – Отец с ними не справится, он в милицию пойдет, а это бесполезно.
– Хорошо, пойдем со мной, что-нибудь придумаем.
Они пошли. Вдруг Женя остановился, развернулся, подошел к приходящей в себя компании и зло предупредил:
– Тронете мальца пальцем, со мной встретитесь.
– Ладно-ладно, – ответил верзила, – гуляй.
На следующий день поздним вечером его окружили в темном дворе человек десять, с ножами и кастетами. Завязалась драка, в которой Женя с трудом выстоял ценой разбитого лица, порезанной руки и ушибов ноги. Дело принимало серьезный оборот. Бабушка, увидев раны внука, запричитала:
– Это что ж за тренировки такие? Я в милицию пойду: пусть разберутся, как детей мордобою учат.
– Ну что ты, бабуля, нервничаешь? – пытался он ее успокоить. – Тренировки ни при чем: я во дворе подрался.
– Так что, ты дворовой шпане позволил себя отдубасить? – возмутилась она еще более. – Зачем же ты карате занимаешься?
– Если б не карате, мне бы вообще несдобровать, – ответил он и укрылся от бабушкиных расспросов в ванную комнату.
На следующий день Женя рассказал обо всем ребятам из секции. Обсудив ситуацию, каратисты единогласно решили выступить против распоясавшихся молодчиков, не сообщая об этом тренеру. «Сергеич запретит, – сказал один из них. – Взрослые – они все миром решать пытаются, а тут жестокий урок требуется». И все с ним согласились.
Начались тайные переговоры, а через неделю на окраинном пустыре встретились две силы: одна из которых боролась за право тиранить детей и подростков, другая – за право на уважение и спокойствие. Когда вместе собирается сорок парней, от пятнадцати до семнадцати лет, ничего хорошего не жди. Бой велся на жизнь и смерть. Скрестив на груди руки, сверкая в лунном свете ножами, сжимая кастеты и камни, неслись друг на друга в свирепом порыве две орды.
Одни отказались от бесконтактного карате: их сильные и четкие удары сбивали противника с ног, быстрые движения рук не давали противнику сообразить, что к чему, внезапные выпады и вертушки пугали. Другие, вооруженные ножами, чувствовали за собой силу шакальей стаи, и все же пришли в смятение от слабости приемов, когда-то в детстве приобретенных или виденных в американских боевиках. От трагичного конца спасло лишь появление милиции, откуда-то узнавшей о драке.
Милицейские уазики с сиренами, крики и свистки разъяренных служителей правопорядка, мелькание машинных фар, бегущие по полю люди, все это, сдобренное окутавшей окрестность темнотой, ужасало человека непривычного. Теперь перед дравшимися возникла иная задача: не битва с противником, а скорый побег отсюда, дабы не попасть в руки еще более страшного врага. Каждый знал: привод в милицию закончится исключением из школы и ПТУ, увольнением с работы, даже судом со сроками. В общем, разбежались кто куда.
И Женя тоже позорно бежал с поля боя. Успокаивало лишь отстаиваемое им право человека на самозащиту и наличие искреннего желания помочь брату, впрочем, не только ему, но и другим таким же мальчишкам, попавшим в рабскую зависимость от подонков. Иначе он своих противников, живущих за счет обирания детей, назвать не мог.
На следующий день в городе пересказывали друг другу о бойне, в которой столкнулась шпана из разных районов, делившая сферы влияния, о сотне убитых, и о том, что пора поднимать власти на борьбу с молодежной преступностью. Словом, началась очередная кампания, в которой пострадали руководители и участники боевых секций. Первых вызвали в городское милицейское управление и запретили «несанкционированное обучение молодежи боевым искусствам», вторых – распустили на время, не указав, когда это время закончится.
Через неделю после этого события Жене позвонил отец и попросил зайти. Что за радость объясняться и оправдываться в том, в чем ты не виноват? Но он давно решил нести полную ответственность за себя и пошел отвечать за то, в чем оказался невольным организатором.
– Ой, Женя, – всплеснула ПП руками, открыв входную дверь, – мы ждем тебя, проходи.
Выглянул из комнаты отец:
– Заходи, заходи. Прямо к столу давай, – пригласил он. – К ужину подоспел.
В углу на диване сидел нахохлившийся Толик, «выживший» после серьезного разговора с родителями.
– Мы все знаем, Женя, – произнесла ПП, – спасибо тебе за Толика!
– Что вы? Я ничего не делал, – попытался Женя выгородить брата, а заодно и себя.
– Сделал, сын, – прервал его отец. – Толик все рассказал. И знаешь, ведь этих парней, что ребят обирали, приструнили, одному из них колония светит. Я, конечно, не сторонник экстремальных мер, но и позволять такое нельзя. Двое из них в нашей школе учились, точнее, лоботрясничали. Матери ко мне не раз приходили, помощи просили. Время такое сложное, дети сами себе предоставлены, ни клубов, ни кружков бесплатных нет. Да и вашу секцию, я слышал, закрыли. Это жаль: не закрывать надо, а открывать, дать подросткам возможность пар агрессивный выпускать.
– Вот я и говорю: в школе кружки открывать надо, чтобы ребята в них до вечера могли заниматься: у меня в классе, например, четверо гитаристов есть, ансамбль можно создать, а инструментов нет, – горячо вступила в разговор ПП. – Школу бальных танцев хорошо бы открыть, изостудию. Только надо, чтобы профессионалы руководили, а кто за гроши согласится работать?
– Мы же работаем, – заспорил отец.
– Мы – учителя: работаем не только за гроши, и бесплатно тоже. А другие не хотят.
Спор этот показался Жене надуманным. Какая такая проблема? Надо создавать – создавайте. Денег нет – ищите. Растет в стране класс предпринимателей, способных успешно вести любое дело, только отцу, как видно, предпринимательство не светит. Права ПП: никто сейчас не станет бесплатно работать. Бабуля целый век корпела, и ничего не заработала на пенсию. В школе нянечкой устроилась: целый день метет да моет, и гроши получает. Сообразив, что ведут не о том речь, отец перевел разговор:
– Ты куда после школы собираешься?
– Не решил пока, – ответил Женя.
– А может, в институт? – предложил отец. – В педагогическом парни нужны.
Ох, уж эти взрослые, любят за других решать. Женя сам определиться должен. После того, как спортивную секцию прикрыли, у него много свободного времени, устроился в магазин помощником мастера по сборке мебели. Сам-то в ней не разбирается, мастер, дядя Паша, терпеливо обучает и подзаработать дает. Последние годы «новые русские» дома и квартиры приобретают и мебелью фирменной их обставляют, так что работы хватает, и платят хорошо. Гена только недоволен. «Я бы тебя санитаром в больницу устроил, – уговаривает он племянника, – пошел бы по медицинской линии». Но санитарам копейки платят, да и не лежит у Жени душа к медицине.
Он-то хочет в армию пойти – десантником стать, а если получится, то и в училище военное поступить. Бабушка охает, боится за внука, полагая, что в армии сейчас служить опасно. А когда было неопасно? Женя увлеченно просмотрел фильм «Офицеры», и запали в его душу слова: «Есть такая профессия – Родину защищать». И хотя армию сейчас все ругают, спорят, надо ли в ней служить, а в газетах пишут о тяжкой жизни офицеров и их семей, о распоясавшейся дедовщине, о горестях чеченской войны, забравшей жизни многих мальчишек, он лично убежден: армия нужна, и настоящие, храбрые мужчины обязаны в ней служить. Или в милиции.
Где ему служить, он пока не определил. Заканчивает школу, закручивает мебельные шурупы и обдумывает, «с кого жизнь делать». Дядя Женя летчиком стал, дядя Гена – врачом, отец – учителем, дед был строителем, еще у него есть один дядя, видел его как-то Женя, – тот в деда, строительствует. А он временно мебельщиком работает. В институт идти, чтобы еще пять лет на шее у бабули сидеть, не хочет.
Оттого он отцу ответил:
– Нет. Годик поработаю, потом в армию пойду.
Последний школьный звонок и быстро пролетевшие экзамены принесли радость освобождения от ученических буден. На выпускной вечер Женя не пошел. Во-первых, не было у него большого интереса к пляскам до утра с одноклассниками и учителями бывшими, а во-вторых, и это главное, не было денег таких, какие собирал родительский комитет, чтобы устроить своим чадам «выход во взрослую жизнь». Он в ней давно обретается. Девчонки будут кружить в зашибенных нарядах, парни хвастаться грандиозными планами – суматоха ненужная, полагает он. Хорошо тем, у кого за спиной богатые родители обретаются, а он сам себе должен дорогу прокладывать. Получил аттестат, сказал «спасибо» и ушел из школы – гордый и независимый.
После школы устроился в фирму на погрузку и отгрузку товаров. Сила для этого есть. А что фирма? Теперь любая контора себя так обзывает. Платят, и это устраивает. Мебельное дело в подработку оставил. В качалку ходит, чтобы форму спортивную не терять. Там его Роман Сергеевич и разыскал. «Приходи, – сказал, – мы восстановились, группу мальчишек из начальной школы набрали. Давай ко мне помощником тренера».
Новая работа интересной оказалась: из маленьких несмышленышей спортсменов делать. Это совсем непросто: и требовательность высокая нужна, и особый подход к детям. Видно, в нем отцовские учительские гены проснулись.
Весело ведет Женя разминку: мальчишки бегут по кругу, а он покрикивает: «не уставать, форму держать, не спать, проснись». Детей обязательно надо хвалить, и при этом заставить четко работать, потому он приговаривает: «Так, чудненько, чудненько. Плохо!», а в наказание предлагает двадцать отжиманий. Затем снова бег, плавно переходящий в ходьбу. Потом приказывает: «бег каракатицей», и мальчишки бегут, согнувшись, на ногах и руках, падают, быстро поднимаются и догоняют товарищей. Смех вызывает ходьба на карачках: толкаются, снова падают, врезаются друг в друга. Начинается свалка. Им только дай пошуметь, и они шумят, а молодой тренер, глядя на них, себя вспоминает.
Приобретение мышечной силы и гибкости тела дается в трудных упражнениях. Женя твердым голосом диктует: «Отжимаемся на передней части кулака. Встали на сейкэн, 10 отжиманий». Затем требует, чтобы мальчишки отжимались на руках, держа пальцы прямыми и упертыми в пол: на десяти пальцах, восьми, шести, и для самых выносливых – на четырех. Делать это чрезвычайно тяжело, и сразу выявляются выносливые и настойчивые. Еще он учит их прыгать через скакалку, качать пресс, подтягиваться на турнике, лазать по канату. Когда сам это делает, поскольку нет ничего сильнее примера, то чувствует свое легкое гибкое тело и радуется умению владеть им. Ученики видят радость тренера и принимают ее. Он заметил: мальчишки ему подражают. «Так чудненько, чудненько, плохо, – шутят они, – двадцать отжиманий». «Встали на расстояние вытянутой руки, – снова требует Женя, – отрабатываем каты… со счетом». «Ичи-Ни-Сан-Щчи-Го-Року-Щичи-Хачи-Кю-Джю», – весело покрикивают дети, обретая единство сплоченного коллектива. После разминки в дело вступает Роман Сергеевич, он же наблюдает за тренерской работой или переходит к собственной разминке. В голове возникает сомнение: может, его призвание именно в том, чтобы воспитывать мальчишек, создавая из них храбрых мужчин?
В увлекательном деле быстро летит время, и вот уже получена повестка в армию, собран рюкзак, сказаны слова расставания, вытерты слезы с бабушкиных глаз, и повез поезд Женю в Самарскую учебку.
Евгений двигался по пути своей мечты: его взяли в десантные войска, а оттуда прямая дорога в спецназ. Шла ему форма десантника: из-за ворота гимнастерки выглядывает тельник, на уголке воротника в петлице красуется парашют, голубой берет венчает голову, через плечо на ремне картинно держится автомат Калашникова с откидным прикладом, на поясе висит штык-нож, способный резать и колоть. Ноги обуты в штурмовые ботинки с высокой шнуровкой до середины голени: нога в них не болтается, как в сапоге, и шансов ее подвернуть значительно меньше. «В них удар несомненно сильнее, – размышляет Женя, – только каратист привык работать голой ногой, свободной в движении и точной в ударе».
Первое время новобранцы много внимания уделяли изучению курса самообороны, в котором Женя отрабатывал технику самозащиты, дополняя ее приемами карате, что давало ему большую свободу в выборе и проведении любого приема и делало его движения более опасными для противника. Знание карате не только разнообразило бой, оно оставляло противнику мало шансов предугадать его действия.
Жизнь десантников состояла из ежедневных многочасовых тренировок, от которых простой солдат сразу бы загнулся. Донельзя выматывали марш-броски на десятки километров. Полосы препятствий состояли из труднопроходимых частей огня, воды и леса. Реку преодолевали с помощью каната, покоряли стены и заграждения из колючей проволоки. Бегали по тонкому бревну на огромной высоте. Терпеливо отрабатывались навыки стрельбы изо всех видов оружия: пистолетов, минометов, гранатометов, пулеметов, автоматов; из положения сидя, лежа, стоя, бегом, со стены дома, под лестницей, из-за угла.
Учили десантников активно действовать в лесу и в городском бою, проявлять хитрость и смекалку, чтобы скрытно преодолевать большие расстояния. Однажды командир вывел их в лес, недалеко от проезжей дороги и указал:
– Задание группе: незаметно сесть в кузов проезжего грузовика и также незаметно выбраться из него через полтора километра. Жду вас там. Действуйте.
Приказ получен, и надо его выполнять. Пришлось Жене искать опасный поворот, когда водитель более сосредоточен на машине, чем на ловле непрошеного гостя.
– Молодцы, – отметил командир, – смекалка у вас работает, да навыка еще не хватает. Что-то вы, рядовой Воронков, зад свой выпячивали? Забрасываем тело легко и свободно, в секунду. И чтобы ни одна душа рассмотреть не могла ваш полет.
Майор медицинской службы отрабатывал с ними умение оказывать первую помощь при ранениях, переломах и вывихах. Здесь Женя вспомнил все книги, которые пересмотрел у Гены. Серьезно занимаясь в подростковые годы карате, он знал, что в момент реального сражения ему может понадобиться врачебная помощь, и потому тогда еще учился сам себе ее оказывать. Теперь это помогло, хотя, оказалось, что, не зная тонкостей, делал раньше Женя многое неправильно. Спасибо майору, обучил их на славу, хоть в мединститут экзамены сдавай!
Потом направили в автомобильный парк, и сбылась детская мечта, когда самым большим желанием Жени было промчаться на машине или мотоцикле с ветерком, да чтобы сам сидел за баранкой. Теперь он водил и грузовики, и легковушки, и всю армейскую технику, кроме разве танка.
С танком отношения были особыми. Довелось бы, он и его с места сдвинул, только задача состояла в том, чтобы успешно танк подбить, а для этого следовало сначала оказаться под ним, пропустить его и затем ударить гранатой по задней части. Несколько занятий посвятили психологической подготовке, позволявшей, отбросив страх перед многотонной массой и оглушительным грохотом, залечь под надвигающуюся махину.
– Закаляйте нервы, салаги, – посмеялся старшина, видя как поначалу несмело, осторожно, приноравливаясь, пытаются новички выполнить задание. – Что за балет вы тут устроили? Живо вперед, под танк марш, и не дышать там, в бога душу мать, а то главное достоинство свое потеряете.
Терять достоинство главное и неглавное никто не хотел, предпочли от зычного крика старшины укрыться под ревущей громадой. Лежишь под танком, и отделяет тебя от железного пуза каких-нибудь двадцать сантиметров, соверши неловкое движение и окажешься затянутым огромными гусеницами. А это тебе не гусеница на дереве: в бабочку не превратится и не улетит. Сожрет сразу. К счастью, такого ни с кем не случилось, видно, прошли хорошую психзащиту.
– Ну, теперь вам, салаги, ничего не страшно, – с удовлетворением отметил старшина после выполненного задания. – Кстати, в перерыве потренируемся с грузовиками: будем подкатываться к ним с разных сторон и выкатываться из-под них на ходу, а заодно вспомним, как забраться в грузовик незаметно и спрыгнуть.
Танки, машины, машины, танки – можно возненавидеть всю эту технику, но когда освоишь, наконец, приемы обращения с нею, ненависть уходит, и ты смотришь на технику как на милого друга, способного помочь в трудную минуту.
Наконец, начался курс парашютных прыжков. Сначала, как водится, десантники изучили материальную часть парашюта, потом начались прыжки с вышки. И вот наступил день, когда десантников погрузили в самолет.
Выбросился Женя из самолета, напором воздуха сразу отнесло его в сторону, потом начал он падать вниз, готовясь выдернуть кольцо парашюта. Вдруг заметил: у одного из десантников основной парашют не раскрылся, а у запасного стропы запутались, и купол не наполнился воздухом. Сгруппировавшись в свободном падении, догнал Женя бедолагу, ухватил его рукой со словами: «Держись за меня». Обрезав стропы нераскрывшегося парашюта, он выдернул кольцо своего, и тот, слава богу, раскрылся. Только теперь рассмотрел Женя страдальца, это был Васька Клюев, который умудрялся везде и всегда попадать в переделки. «Ну, браток, выручил, – сказал бледный Васька, – Я тебе по гроб жизни обязан буду». С тех пор они сдружились, а вдвоем трудности преодолевать значительно легче.
Это со стороны кажется красивым и притягательным полет в небе, приземление с парашютом на землю. В действительности, это и страх, и боль, и даже гибель. То стропы запутаются, то в твой купол врежется ретивый парашютист, и ты не успеешь открыть запасной. Разные рассказы ходили и не только рассказы. Бывали трагичные случаи, бывали смешные. Как-то выбросили их с самолета внутри БМД – боевой машины десантника. Хорошая машина, на земле очень полезная, а в воздухе все зависит от парашюта: либо не раскроется и хряпнутся, либо приведет к жесткому приземлению, так, что отобьешь себе задницу, и не только ее. Так вот их БМД опустилась на дно реки, над водой торчала только верхняя часть. «Эх, – зло среагировал водитель, – баба Маня дура, не туда пошла». Стали выбираться. «Осторожно братцы, – вспомнил Вася любимый фильм, – рыбку жалко». «Будет тебе сейчас рыбка, – отреагировал водитель, – если на дне застрянем. Полезете в воду меня вытаскивать. Ну, бедовая моя девочка, помогай!». Обошлось: выбрались на сушу. Так теперь и звали машину бедовой моей девочкой.
Зимой отрабатывали прыжки с самолета в горах, да с лыжами на ногах, да чтоб приземлиться готовыми к бою. А потом и вообще заставили бой начинать до приземления. В общем, напрыгались и в снег, и в реку, и в пустыню, и ярким днем, и во тьме ночной.
Однажды группу в пять человек выбросили в степи, без еды и воды преодолеть следовало две сотни километров и через три дня прибыть к месту назначения. Чтобы такой путь пройти, надо в основном бегом двигаться. Это был экзамен на выживание. Где найти в степи воду и пищу? Ловили живность разную: змей, черепах, тушканчиков. Деликатесом оказались кузнечики, слегка обжаренные.
– Это что, – успокаивал всех Василий, – в пустыне воды совсем никакой нет, там ее собирают за счет разницы ночной и дневной температур. Мне приятель рассказывал: они куст какой-то отыскали и накрыли его плащ-палаткой, а утром с нее капельки собирали.
Легко перекусив, чем степь послала, двинулись дальше, двигаясь по компасу и природным приметам. Бедолага Василий умудрился все-таки растянуть ногу. К счастью, отыскали небольшое дерево в степной балке, смастерили из веток нечто похожее на носилки и несли его до тех пор, пока, наконец, сам ковылять смог.
Ученье теоретическое и практическое, создававшее из простых ребят, волею судьбы попавших в десантную учебку, сильных и смелых бойцов, которым благодаря их отличной выучке сопутствует удача, завершилось через полгода, и распределили обученных десантников по разным концам родной страны. Евгения Воронкова вместе с другом его закадычным Василием Клюевым направили в знаменитую Тульскую десантную дивизию.
Жизнь в учебке оказалась раем по сравнению с той, что вели здесь солдаты. Непрерывные учения развивали умение действовать в любой обстановке. Прыжки с парашюта днем и ночью, на сушу и на воду, бег по лесам и горам, переправы через бурные реки с полной солдатской выкладкой, внезапные выезды в разные концы страны, выбросы в степи, пустыни, и в непроходимые леса вносили в жизнь остроту ощущений. Гордость переполняла сердце Евгения, поскольку знал он: нет для него преград. Когда судьба затаскивала в круговорот невыносимых условий, он умудрялся их преодолевать.
Через два месяца службы в Туле, как раз на майские праздники, отпустили его в первую увольнительную. Вот идет он по городу – стройный, гибкий, четко и твердо ступает по земле, ее хозяин и защитник. Горожане с детьми высыпали на городские улицы: позади долгие холодные дни, заполненные трудом и заботами, впереди отпуска и летние каникулы. Для всеобщей радости в городском парке играет духовой оркестр. Дети катаются на качелях и каруселях, лавочки отданы на откуп молодежи с гитарами.
У одной лавочки, замечает Женя, пьяные парни лет семнадцати окружили девчонок, а те пытаются вырваться, только ребята, заведенные винными парами и близостью девичьих обнаженных рук и ног, сжимают круг все теснее. Женя подходит и слышит, как рыженькая толстушка уговаривает парней:
– Ребята, отстаньте, мы с Милкой торопимся.
– Ой-е-ей, – отвечает один из них, – торопятся они. Ты, голуба моя, куда собралась? Гулять? Так и мы гуляем. Давай вместе.
– Не хотим мы с вами, отстаньте, дураки, – нервно кричит рыженькая, в то время как светленькая ее подружка молча смотрит огромными глазищами по сторонам, ища у прохожих поддержки. Однако гуляющие не связываются с компанией, полагая, что те сами разберутся, и девчонка сникает, вся сжавшись и став оттого совсем маленькой.
– Парни, – обращается к компании Женя. – Вы опоздали, я девушек уже час поджидаю. Милка, ты забыла о встрече у фонтана?
– У какого фонтана? – смотрит на него удивленно светленькая.
– У речного, – отвечает он ей. – Я тебя на ступеньках жду, думал не придешь.
С этими словами он протискивается сквозь круг парней, берет девчонок под руки и непринужденно говорит:
– Вы уж, парни, извините, но у солдата время ограниченное, в другой раз разберетесь.
– Ты что, сержант, ополоумел? – спрашивает его парень, приглашавший девчонок гулять, и не получив ответа, обращается к Милке, – Смирнова, это кто?
– Кто-кто? Знакомый мой, и нам пора, – набирается девушка откуда-то храбрости, и рукой освобождает проход себе, подруге и солдату.
Они выбираются из круга. Ошалелые парни почему-то их отпускают, возможно, решив не связываться с десантником, поскольку невдалеке проходили еще несколько таковых. Как только выбрались из опасной компании, Милка остановилась, убрала руку и сказала:
– Спасибо вам, выручили. Мы дальше с подружкой одни пойдем.
– А может, вместе? – говорит Женя. – у меня увольнительная до вечера, друзья разбежались, одному тоскливо.
– А мы не нанимались вас развлекать, – резко отвечает рыжеволосая.
– Не злись, Тася, человек нас спас, – успокаивает ее Милка.
– И спасибо ему, а нас ждут. Ты забыла? Вы извините, – взяла Тася инициативу на себя, – нам идти надо.
– Иди, – сказала Милка, – я не пойду. Я и не хотела туда идти. Скажи, что позже приду.
– Как хочешь! – Тася резко развернулась и пошла по аллее.
Проследив глазами за подругой и немного помолчав, Мила спросила:
– Так куда же мы направимся?
– Мне все равно, – ответил Евгений. – Давайте пройдемся по городу, вы мне о нем расскажете.
– А что о нем рассказывать? Город как город, ничего в нем особенного нет.
– Не скажите. Во-первых, древний, во-вторых, красивый, а в-третьих, я его совсем не знаю, хотя служу здесь два месяца. Женей меня зовут.
Так они и познакомились. Пошли к городскому кремлю, остановились у музея оружия.
– Такого музея больше нигде нет, в нем есть даже современное вооружение спецназовца. Только музей сегодня закрыт, – сообщила Мила, сожалея, что не может показать лучшую достопримечательность родного города.
– Придется прийти в другой раз, – нашел Женя повод для новой встречи. – Хорошо?
– Посмотрим, – неопределенно ответила девушка, хотя твердо знала, что обязательно встретится с этим парнем, от которого исходит энергия доброй силы, и с удовольствием покажет ему музей и другие удивительные городские места.
Она доверилась ему сразу. Рассказала, что пристававшие парни – из ее школы, «напились, бедолаги, вот и куражатся», Тася звала в компанию одноклассников, а ей не хотелось, от скуки пошла. Мама ее – учительница музыки, преподает в музыкальной школе, и ее научила играть, только она не любит играть при других, стесняется. Недавно мама вышла замуж, с папой они разошлись много лет назад, у него другая семья, а у нее теперь – отчим, человек неплохой и маму любит. Жаль только, что мама все больше с отчимом, раньше-то они подружками закадычными были. Девушка оказалась совсем непугливой и открытой, разговаривала с ним как со старым приятелем.
Он же говорил мало, все больше ею любовался: тоненькая, будто ниточка светящаяся, невысокая и какая-то ранимая, так и хочется ее от всех защитить. Глаза большие, голубые, словно небо, а брови темные. Пушистые волосы в модной стрижке окаймляют лицо. Милочка милая, одним словом. Можно бы сказать: лицо кукольное, да твердая складка у бровей говорит, что владелица ее совсем не кукла, а упрямая и решительная девушка. Такое вот странное сочетание ранимости с решимостью.
После майских праздников раз в неделю Женя с Милкой встречались. Гуляли в городском парке, купались в речке со смешным названием Упа, и он учил ее плавать. Странно: выросшая у реки, Милка боялась воды. Брали лодку и плыли вдоль речки, любуясь мягкой рябью водного пространства, пышно-зелеными берегами, солнечно-голубым небом. Точнее, она любовалась природой, а он любовался девушкой, наблюдая за сменой ее настроений, плавно перетекавших от тихой грусти к глубокой сосредоточенности, а затем к буйной веселости. «Какая же она разная», – удивлялся Женя, привыкший к размеренности решений и действий.
Еще они заглядывали в кофейню «Про кофий», и пили чай или кофе, сидя за уютным столиком, рассказывая друг другу о себе. Постепенно он ей многое о себе поведал. Не стал бы, да Милка так расспрашивала, что он рассказал даже то, о чем не сказал бы никому на свете. В кафе собиралась, в основном, молодежь, бывали и Милкины приятели, к ним не подходили. Казалось, невидимая граница отделяла эту пару ото всех.
Как-то Тася пригласила к себе, пожелав получше рассмотреть десантника, столь быстро одержавшего победу и уведшего от нее близкую подругу. Сидели в уютной небольшой комнате, музыку современную слушали, говорили о жизни, пили чай из тонких фарфоровых чашек с мягкими плюшками. «А мы тут плюшками балуемся», – весело, словами Карлсона из известного мультфильма, охарактеризовала Милка встречу, довольная тем, что Тася наконец-то увидела, какой замечательный парень – ее избранник. А Жене там совсем не понравилось, поскольку не хотел он тратить свободное время, столь редко ему предоставляемое, ни на кого, кроме Милы.
За месяц они сдружились. У Жени не было опыта общения с девушками. Наверное, его одноклассницы достойны внимания, только сам он подойти не осмелился, а они инициативы не предпринимали. Теперь же проснулась вся его боль по ласке женщины – тихой и доброй, и Милка такую ласку выплескивала на него.
Когда же батальон направили на учения в летний лагерь, она сама приезжала к нему в гости. Как добивалась, чтобы его вызывали на КПП и позволяли выйти за пределы части, он не знал. Много позже выяснил: отчимом Милы был начальник штаба дивизии полковник Балашев, который, желая расположить к себе девушку, помогал ей в организации кратких и редких свиданий.
Сердце Евгения открылось навстречу новым переживаниям, захватившим быстро и бурно. Может, многолетняя привычка к сдерживанию чувств подвела, а может, именно эта девушка была той юношеской мечтой, которая перерастает в мужскую любовь и не гаснет никогда? В сентябре обоим стало ясно, что встретились они в парке не зря, и что их будущая жизнь невозможна друг без друга. Не сопротивлялась и Милкина мама, почему-то сразу одобрившая выбор дочери. В общем, надо было дождаться девичьих восемнадцати лет, и тогда она с полным правом могла направиться за ним в любые края, сметая на своем пути всяческие преграды.
Женя рассказывал девушке о бабушке и уже представлял, как замечательно они заживут втроем, полагая, что Милочка будет неплохой хозяйкой, и баба Нюра, наконец, отдохнет, от домашних обязанностей. Не то, чтобы он спешил нагрузить этими обязанностями свою любимую. Он был уверен, что она сама этого страстно желает. Окончив школу, Милка устроилась библиотекарем и совсем не думала о продолжении обучения, убежденная, что теперь ее жизнь зависит от будущего мужа. Может, и обучения не нужно, поскольку женщина замуж выходит не для профессии, а для того, чтобы стать любимой женой, заботливой матерью и хорошей хозяйкой дома.
Тася удивлялась столь быстрому развитию романа, тем более что в школьные годы ее подруга такой прыти по части мальчишек не проявляла. «Может, ты, Милка, спящей красавицей была, а мы и не заметили?» – смеялась она над подругой и страшно завидовала, убежденная, что именно она более подходит для серьезного романа.
Осенние дожди принесли с собой не только тяжесть марш-бросков по размытым дорогам, они принесли грусть расставания. Среди десантников ходили слухи, что их направят в Грозный. К этому времени юношеские взгляды Евгения слегка изменились. Он по-прежнему считал, что каждый мужчина обязан защищать Родину и выполнять воинский долг, только не был уверен, что этот долг надо выполнять, направляя автоматы на своих. Он еще не разобрался, считать ли чеченцев своими или чужими. Конечно, комбат убеждал, что те выступили против единства страны, и своими действиями ослабляют ее безопасность, нарушая тем самым Российскую конституцию. Странно то, что война идет внутри страны между ее народами. Однажды вызвал Евгения в свой кабинет полковник Балашев.
– Сержант Воронков прибыл по вашему приказанию, – отрапортовал, предчувствуя сложный разговор.
– Садитесь, Воронков, – показал полковник на стул, стоящий в стороне от стола.
Тот сел. Полковник вышел из-за стола, сел рядом.
– Ты, сынок, не кипятись, – заговорил он тихим голосом. – Мне, понимаешь ли, Мила не безразлична. Запретить вам встречаться я не могу. Но и не позволю, чтобы ты ее обидел. Потому ответь прямо, – полковник долго молчал, подбирая слова, а, может, и сам не знал, на какой вопрос ждет прямого ответа. – В общем, ты думаешь серьезно или роман армейский завел?
Не стал бы Евгений обсуждать с посторонними людьми свои сердечные дела, только полковник не посторонний, к Милке хорошо относится, беспокоится за нее и ждет честного ответа. Ему же прятаться нечего, наоборот, надо отстоять право на девушку, а значит и ее право на счастье. Встал, поправил гимнастерку и четко произнес:
– Я думаю, Василий Денисович, мы с Милкой через полгода распишемся, а закончу службу, в Калугу уедем.
– А-а, – протянул полковник, – ты садись. Через полгода – это хорошо, это замечательно – через полгода. Только ведь слышал о командировке? Говорят в полку?
– Говорят.
– То-то, и полу го да у вас не будет. Ну, да ладно. Верю я тебе, парень. Не отсылал бы, но, сам понимаешь, служба, – полковник замолчал, сосредоточенно обдумывая ситуацию. – Может, перевести тебя в штаб части?
– Нет, Василий Денисович, я отслужить обязан. Куда направят, туда и поеду.
– Что ж? Вернешься, тогда и поговорим. И то верно: Милка – молода очень, ей в себе разобраться надо. Ты – служилый, от приказа зависишь. Об одном прошу, не тронь девчонку пока.
Ну, это уж совсем зря говорить. Евгений – человек обстоятельный и ответственный. Сам понимает: убить могут, и нельзя ему горе женское оставлять, да еще с ребенком. Он-то без отца-матери рос и никому такого не желает, а уж тем более сыну родному. Напрасно такой разговор полковник затеял. В обиде на него вскочил и пророкотал:
– Так точно, все ясно, товарищ полковник. Разрешите идти?
Полковник поднял на него глаза, помолчал и ответил:
– Идите, товарищ сержант. В добрый вам час.
Ночью батальон подняли по тревоге, отвезли на подмосковный аэродром, а на следующий день он уже подлетал к Назрани, откуда был направлен в Веденский район Чеченской республики.
Отделение, в котором служил Евгений Воронков, получило задание проверить опустевшее горное селение. Многие мирные жители покинули его, опасаясь разборок федеральных властей, с одной стороны, и собственных народных защитников, с другой. Дома стояли брошенными, без людей, без скота и домашней птицы. Мертвая тишина окутывала улицы и проулки. Осматривали каждый дом.
Эти дома отличаются от русских деревенских домиков. Добротные, кирпичные, двух или трехэтажные, на высоком фундаменте и с глубокими подвалами – они прочно утвердились на земле. В них, как правило, десять-пятнадцать комнат, рассчитанных на проживание больших семей. Во дворе обязательно располагаются кирпичный или каменный сарай, гараж и другие постройки. Осмотреть один такой дом – задача трудная, а в селении их несколько десятков. «Почему между нами ненависть? – размышлял Евгений, осторожно пробираясь по дому. – Народ-то, по всей видимости, работящий. Что заставляет их воевать?».
Вдруг мертвая уличная тишина прорвалась автоматной очередью из дальнего окна, обозначив собой начало боя. На окраине, в трех последних домах, засели боевики, не желавшие остановиться в братоубийственной бойне. Да если бы и остановились, что стали бы делать, разучившись решать проблемы мирными средствами?
Впервые Евгений оказался в бою. Одно дело – учеба, другое – реальное событие, требующее сосредоточенного внимания, быстроты реакции и решительных действий, что воспитано в нем с детских лет. На армейском полигоне отработал он навыки стрельбы и ножевого боя. Но впервые перед ним стоит цель – убить человека! Их учили: противник – не человек, а враг, способный уничтожить твой дом и твоих близких. Не убьешь ты – он убьет тебя. Десантники знают: побеждает тот, кто лучше просчитал ситуацию, уверен в себе, отстаивает правое дело.
В голове пронеслись картины спортивных сражений, в которых, при всем уважении к противнику, присутствует острое желание победить, отстоять право быть первым. В сознании фиксировались мелькание тел и лиц, автоматные очереди, возникающие то тут, то там, выкрики, возбуждающие ярость обеих сторон.
Евгений ворвался в калитку высокого забора и увидел перед собой чеченца, направившего автомат на Васю Клюева, славившегося своим неограниченным любопытством, а теперь готовящегося к прыжку с забора во двор. Чеченец – такой же молодой, как они, с чуть пробивающейся бородой, – сейчас убьет друга. Медлить нельзя, и Евгений выпустил автоматную очередь. Это был первый убитый им человек. Война началась для него. «Поддай, Ворон, жару! – слышит от друга. – Не туда, Женька, сзади заходи!». И он поддает, и заходит сзади, и срывается на боевиков сверху, и сам кричит: «Бей их, братва!».
А потом вдруг наступила тишина. Бой завершился. Осмотрены все дома. Вынесены на улицу четверо убитых чеченцев. Лежали они на земле совсем нестрашные. Смерть сняла с их лиц злость и ненависть. Более того, тот – первый чеченец Евгения – смотрел в небо и, казалось, спрашивал: «За что ты меня? Я ведь дом свой защищал».
– Ушли, гады, – зло констатировал Петр, старожил чеченской войны, воевавший больше года и потерявший не одного товарища, а потому ведший личный счет, отстреливая боевиков. – Кто подсчитал, сколько их было?
– Человек тринадцать, – ответил Евгений. – В первом доме трое, во втором четверо, в этом, – он показал на крайний дом, – шесть или даже семь. Как ушли?
– По задворкам и лазам, – предположил Петр. – Раненые есть?
У двоих оказались задеты ноги, у одного рука, но ранения, в общем-то, легкие. Передав по связи о выполнении задания, ждали у крайнего дома машину.
– Братцы, идите сюда, – раздался из дома голос Клюева. – Я подземный ход нашел.
Петр и Евгений вслед за ним прошли по подземелью и вышли к оврагу в полусотне метров от селения.
– Вот как они ушли, – сказал Василий. – А я думал, куда исчезли?
– Ответ ясен, – резко ответил Петр, – проворонили мы бандитов.
Они вернулись назад к дому. Сели на валявшееся у забора бревно.
– Ты, Воронков, первый раз в бою? – спросил севший рядом Петр. – Молодец. Жестко ведешь. Дома-то знают?
– Нет, бабуля умрет со страху. Не знаю, как ей написать.
– Написать-то надо. А мать, отец есть?
– Отец. Ему, пожалуй, напишу, как вернемся.
– Вот и хорошо, – Петр осмотрел местность и обратился к бойцам, – пошли, ребята, к дороге, БТР, наверно, подъехал.
Спустились по склону, сели в бронетранспортер, двинулись по дороге. Несколько человек, среди которых и Евгений, расположились сверху на броне. Говорить не хотелось. Он размышлял: выполнили задание или нет, если боевики почти все скрылись? И как они все-таки выбрались? Вдруг раздался грохот. Удар. Яркая вспышка. Машина дернулась, и сразу загорелся моторный отсек. Взрывом десантников сбросило с брони. Через несколько секунд Евгений услышал сквозь шум в ушах голос Петра: «Твою мать, напоролись на фугаску!». Это были последние слышанные им слова.
Двоих раненых, с осколочными ранениями в голову и ногу, отправили в Назрань. Василий там быстро пошел на поправку и через два месяца вернулся в строй.
Евгений же смутно сознавал, что везут его на вертушке в госпиталь, потом на каталке в операционную. Яркий свет ударил по глазам. И все, больше не было ничего. После сложнейшей операции, прошедшей, по мнению нейрохирургов, вполне удачно, он в сознание так и не пришел. Лежал в неподвижности многие дни, недели и месяцы. Что чувствует человек в состоянии комы? Слышит ли и видит ли он кого-нибудь? Об этом не могут сказать даже самые знающие врачи.
Но однажды Евгений почувствовал тепло, знакомое ему с рождения, с того дня, когда впервые после роддома привезли его домой. Увидел что-то вроде сна. Будто лежит, в пеленки завернутый, на руках у бабушки и глазенками на нее смотрит, а она улыбается и ласково говорит: «Женечка, внучек мой родненький, будем с тобою жить, маму вспоминать».
Другой сон: едет в поезде с Геной, и тот требовательно говорит: «Товарищ проводник, попросите в соседних купе, чтобы не шумели». А потом они с Геной долго бежали по лесной тропинке. Женя упал и, разбив лоб, заплакал, а Гена погладил его прохладной рукой, приговаривая: «Потерпи, потерпи, браток, боль пройдет обязательно».
Много времени после этого ни снов, ни видений не появлялось. Вдруг почувствовал он запах родного дома и ясно увидел свою комнату. Послышались бабушкины слова: «Вот, внучек, ты домой вернулся». С того сна наступило ощущение тепла и доброты. Казалось, вокруг него раскинулось море нежности, и он плавает в этом море. Только хочется ему скорее на берегу оказаться и понять, что там происходит.
В долго-нежном море однажды дотронулась до него рука – желанная, тянущаяся к нему, похожая на ту, что касалась его лица и волос, когда гулял он с любимой девушкой по лесу. «Милка, Милочка, Милушка», – возникало в голове, а где-то вдали смутно вырисовывался расплывчатый образ девушки, к которой он попытался протянуть свою руку. «Мы поженимся, скоро мы поженимся», – убеждал он женщину, стоявшую к нему спиной и не желавшую быть опознанной в его сне.
Вспоминалось дорождение, когда уютно лежал в утробе матери, и неясно слышал этот голос вместе с материнским. Рядом с этим голосом возникал другой, тоже знакомый, слышимый им в юношеские годы. Как-то возник образ отца, чуть сгорбленного, худого и измученного интеллигента, мающегося бедами родной земли.
Все эти видения не касались сознания, они появлялись на чувственном уровне. Как-то открыл глаза, и все увидел, услышал и понял, только ничего не мог сказать. К нему подошла Милка. Он вспомнил, что познакомился с ней во время службы, а потом почувствовал знакомый запах ее волос, вкус губ, касание ее ресниц. Да ведь он любил Милку! Почему любил? Он любит эту девушку! И она здесь, с ним рядом. Значит, она тоже любит. «Милочка», – хотелось сказать, да губы не двигались.
На следующий день он увидел Колю с Ташей и вспомнил, что это его брат и сестра. Сразу же возникло воспоминание о том, как растили его Гена и Таня, как помогали его взрослению. Вслед за воспоминанием появилось огромное желание увидеть обоих. «Где Таня и Гена?», – беззвучно спросил он вошедшую в комнату Милку. Она все поняла, улыбнулась ему и крикнула в дверь: «Таня, Гена, идите скорее, Женя в себя приходит!». Вошли ли они, он не знает, потому что опять наступила темнота, только не сплошная, как раньше, а со звуками и запахами.
В следующий раз, увидев у кровати Милку, он решил спросить: «Где баба Нюра?», но голос еще не вернулся к нему. Зато на столике у кровати увидел две фотографии: с одной смотрит на него Милочка, а на другой сидят, обнявшись, Нюра и маленький Женя. «Баба Нюра скоро вернется домой, – сказала Милка, – ей операцию на глаза сделали. Ты не волнуйся, у нее все хорошо. Скоро увидитесь». «Какая же она понятливая, – думает Евгений. – Замечательно, что мы с ней тогда в парке встретились».
Наконец, наступил день, когда в комнату вошла баба Нюра, а за нею Милка. В дверях же стояли Гена и Таня, а из другой комнаты доносились голоса Таши и Коли. Это его семья, и он ощутил себя способным встать и обнять их всех, надо только еще немного сил набраться. А пока он только смотрел на всех. Тихо произнес: «Баба Нюра, ты? Я вернулся».
С этого дня началось выздоровление. Шло оно, разумеется, нелегко, с болью и трудностями. Трудно было первый раз встать и сделать шаг. Стыдно было, что здоровый и крепкий, а нуждаешься в постоянном уходе. Бабушка колготилась рядом, незаметно, как она полагала, утирая слезы с глаз. Татьяна постепенно сократила свою помощь до перестилания постели и подачи еды. Гена, в основном, проводил медицинский осмотр и вел разнообразные беседы, чаще о ходе выздоровления. Забегали Коля и Таша: брат мучился периодом взросления и почитал его за опытного советчика, сестра же неприкрыто им гордилась и с нетерпением ждала, когда тот пройдется с ней по улице, и все увидят, какой он герой. Основную же заботу о нем приняла на себя Мила: лекарства, уколы, обиход ежедневный. Без нее он не мыслил теперь ни минуты жизни.
– Как же ты догадалась к нам приехать? – спросил ее однажды.
– Писем твоих ждала, даже обиделась, что не пишешь. А потом Вася сообщил, что ты, тяжело раненный, с ним в госпитале лежал. Я, писал, обратно в часть отправился, а он там остался. От тебя все нет и нет вестей, я и поехала к вам. Боялась, конечно, – она замолчала, очевидно, вспоминая то время, когда жила в неуверенности и страхе за свою любовь.
– Чего боялась? – подтолкнул ее Женя к дальнейшему рассказу.
– Чего? Думала: приеду, а ты дома с молодой женой чай пьешь.
– Ты что, Милка, так мне не веришь?
– Как верить, если ты молчишь, а все кругом говорят, что развлекся солдат и забыл?
– Кто же так говорит? – Женя взял ее руку в свои, поднес тыльную сторону маленькой ладошки к губам и поцеловал. В этом тихом поцелуе собралась вся его нежность к девушке, измучившейся сначала сомнениями, а потом ожиданием его возвращения к нормальной жизни. – Не верь, Милочка, никому. Я из-за тебя в жизнь вернулся. Жить мы с тобой будем долго и счастливо!
Постепенно стал он ходить по дому, выполнять мелкую домашнюю работу, все меньше времени проводя в постели. Однажды проснулся и понял: есть у него силы, и вернулось к нему желание, возникшее много месяцев назад, когда гуляли они с Милкой в лесу. Тогда он вдруг понял, что необходимо ему обнять ее крепко и так, чтобы между ними ни сантиметра расстояния не было, чтобы стали они одним целым, чтобы произошло между ними то, что происходит между любящими и желающими друг друга мужчиной и женщиной. Тогда он это страстное желание унял, теперь же не мог и не хотел откладывать на потом. Милая Мила – жизнь его, его спасение, опора и поддержка, нужна была ему вся, до самой маленькой клеточки ее тоненького тела!
Он встал и отправился на разведку: в доме никого не оказалось. Внезапно открылась входная дверь и вошла Мила. Они посмотрели друг на друга, и оба рванулись навстречу. И почувствовал он, что девушка тоже ждала его объятий, нуждалась в его ласках, желала стать с ним единым целым. «Милушка», – выдохнул он. «Милый, родной, любимый», – шептала она.
А дальше скрипела кровать, приспособленная для лежачего больного, и незнакомая со страстными движениями тел. Наверное, она тоже была удивлена буйством двух молодых людей, никогда ранее не выказывавших себя таким образом. Да что кровать? Пело зеркало из шкафа напротив. «Я знало, что этим кончится», – объявляло оно комнатной мебели. Коврик у кровати обнюхивал одежду, брошенную на него, и радовался, будто сам получил возможность интимного единения. Фотографии на столике переживали неудобство от виденного, особенно та, с которой смотрели в мир бабушка и внук; она терпела стыдливо, а потом свалилась на пол. К счастью, не разбилась, попав на тот же коврик с одеждой.
А за окном светило зимнее солнце и голубело небо, когда-то подарившее частичку себя Милкиным глазам. Мир радовался счастью двух молодых людей, прошедших вместе тяжкие испытания и теперь способных преодолеть самые трудные трудности, сложные сложности, потому что они вдвоем и любят друг друга.
Все поняла бабушка, и уже не сопротивлялась, справедливо полагая: без Милки Женя так быстро не возвратился бы к нормальной жизни. Она старалась им не мешать, проводя время в доме сына. Гена и Таня, глядя на них, вспоминали свою молодость. Сбросить бы им годков двадцать! Хотя нет, не откажутся они от пройденного пути, от детей своих, в любви нажитых.
После новогодних праздников Женя и Милочка расписались. Свадьбу праздновали в семейном кругу. Правда, круг этот оказался широким: пришли поздравить молодых отец Жени с Полиной Петровной и Толиком, приехал из Ярославля Алексей с детьми и супругой, а из далекой Чечни прорвался Вася Клюев.
И радостной, и грустной была встреча фронтовых друзей, вспоминали ребят, выживших и погибших в чеченской мясорубке. За два дня до дембеля погиб Петр. Василий вернулся живой, но не может отойти от войны: свист птицы кажется ему свистом пули, скрип снега напоминает крадущегося к блокпосту боевика, плач ребенка вызывает в памяти образы чеченских детей, измученных «играми» взрослых. «Нет, друг, никогда мы не забудем войну эту», – подвел Василий горький итог.
И Евгений знал: не забудет, война осколком засела в его голове, и хотя осколок вынули, остался от него глубокий след на всей его судьбе. Сейчас он старается замести след, женился на девушке, взявшей на себя великий труд совместного проживания с человеком, видевшим смерть. И это стоит отпраздновать самым веселым способом, чтобы задобрить судьбу. Ждали на свадьбу Милкину маму, но та прислала поздравительную телеграмму, пообещав навестить их на рождение первого внука.
Вскоре Милка устроилась санитаркой в больницу: работа через два дня ее вполне устраивала, поскольку, считала она, необходимо больше времени проводить с мужем. Упорной она оказалась, не смотря на беременность, сдала экзамены в медучилище, и зачислили ее на медсестринское отделение.
Евгений возобновил тренировки, поначалу с небольшими нагрузками, восстанавливая силу, резкость и пластику. Затем отправился в спортивный клуб, надеясь встретиться с Романом Сергеевичем и договориться о возможности занятий.
– Разумеется, – сразу согласился тренер. – Героя мы всегда примем. Только осторожней восстанавливай физику. С сентября возьмешь школьников тренировать, подзаработаешь.
Так и договорились, а тут в школе у отца учитель физкультуры понадобился, и он пошел работать в школу, поскольку надо же что-то начинать.
Евгений стремился управлять своей судьбой. Даже когда она подносила ему неприятные сюрпризы, он, затихнув на время, опять ей диктовал: «Дорогая, будем с тобой жить так, как я считаю нужным». Он умел договариваться с судьбой, и она к нему прислушивалась.
Эпилог
Бегут годы жизни, ни на минуту не давая расслабиться. Вот уже шестьдесят шесть лет – огромное расстояние, на котором встречалась Нюра с хорошими людьми, детей растила, дом от бед оберегала. Болят немолодые косточки, предательски слезятся иной раз глаза, седина полностью укрыла ее голову.
Только она совсем еще не старая: бьется в груди молодое сердце, внутри нее живет шестнадцатилетняя девчонка, встретившаяся когда-то тайно с Колей в колхозном амбаре, а потом с нетерпением ждавшая его из армии, чтобы провести с ним долгую и счастливую жизнь.
Если вдуматься, то и провела, даже когда без него осталась – с ним, с его памятью жила. Только что отметила день рождения внука, Колиного внука, похожего на него, но и от нее взявшего черты настойчивости и жизнестойкости. Приехали и пришли к ней в этот радостный день все близкие и даже те, кто, казалось бы, и близким не являлся, а навсегда поселился в ее сердце: Алексей и Дмитрий со своими семьями, Евгений, залетевший с далекого севера. Младшие внуки, дети сына, хоть и считают ее отставшей от современных порядков, однако терпеливо выслушивают бабулины наставления. Женя – внук и сын в одном лице, заменивший ей Людочку, переживает трудное время, но и он себя определил – учителем стал, что тоже неплохо, поскольку мир, думает Нюра, нуждается в хороших врачах и учителях. Они – корень благополучного общества.
А больше всего сегодня болит ее душа за Милочку. Девчонка совсем, и такую ношу на себя взвалила. Как она успевает за домом присматривать, ребенка под сердцем носить, подрабатывать в больнице, да еще и учиться пошла? Нынешние девки, видать, покрепче будут, чем она когда-то. Даже имя ее теперь Нюре нравится: вроде как Людмилочка, дочка ее, а вроде и совсем другой человек, но такой же родной. Сейчас Милка в роддоме лежит. Тоже забота немалая. Помнит Нюра, как дочка ее туда уехала, да не вернулась, молит Бога, да надеется: одно горе на семью дважды не валится. В таких раздумьях застал ее Женя, вернувшийся из роддома.
– Ну что? – нетерпеливо спрашивает Нюра.
– Дочка у нас родилась, бабуля, – гордо рассказывает внук. – Пятьдесят два сантиметра, три двести весит. Это много?
– Это нормально. Милка-то как: без разрывов, или резали ее?
– Сама родила. Я боялся: она, бабуль, такая тоненькая, маленькая. А вот справилась.
Собирают они правнучкино приданое – пеленки, распашонки, чепчики. Снова надо место для кроватки искать. Опять планирует Нюра, как семье разместиться. Был бы Коля, он бы дом хороший поставил в селе, вернулись бы они на деревенское приволье.
И вот настал день возвращения Милки. В роддом за ней Женя отправился один. «Вы, – говорит, – дома нас ждите». Гена и Таня вместе с нею нетерпеливо ожидают приезда маленького человечка. Таня обед готовит праздничный, Гена ведет с матерью обстоятельный разговор.
– Надо бы помочь Милке. Таня с Ташей готовы, когда надо, с малышкой посидеть. В училище я договорился, чтоб без академки училась. На тебе, мама, основная помощь.
– На мне всегда, сын, основная помощь, – то ли с горечью, то ли с гордостью отвечает она.
– А как же нам без тебя, нашего вечного двигателя? – смеется сын.
– Да уж пора бы подумать, как жить без меня.
– Ты что это, мам? Разговоры эти прекрати. Рано еще.
– Нет, Гена, пора мне. С папой увижусь, о вас ему расскажу.
В это время в квартире раздается радостный звонок. Таня открывает дверь, и из прихожей слышатся веселые голоса. В комнату входит Женя с малышкой на руках и передает Нюре живой сверток:
– На, бабуля, любуйся нашей Нюрочкой.
Она берет малышку, завернутую в легкий конверт новорожденного, и смотрит на личико, напоминающее Людочку. Да-да, дочь ее в девочке возродилась. Девчушка открыла небесно-голубые глаза и уставилась на Нюру. Вот для чего жила она последнее время: ждала встречи с правнучкой, похожей на ее малышку-дочку. «Нюрочка», – ласково шепчет она девочке, и уже хочется ей поскорее вынуть малышку из конверта, взять за маленькую ручку, поцеловать крошечные пальчики, погладить по головке с редкими волосинками. «Девочка моя замечательная, – думает Нюра, – мы с тобой еще поживем. Рано, скажи, бабка, на тот свет собралась. Здесь такое чудо народилось. Нюрочка, ягодка моя, пусть твоя жизнь будет лучше нашей. Уж я постараюсь, отведу от тебя все беды. Видишь, Людочка, – обращается она мысленно к дочери, – какая внученька у тебя родилась? Скажи там папе, что не время мне к нему выбираться. Пусть, болезный, немного подождет».
Она уходит с малышкой в Женину комнату, усаживается на кровать, рядом кладет правнучку, медленно распеленывает ее и любуется девочкой, которая смешно покрякивает, словно сообщает бабушке, что она, в общем-то, встречей довольна. Потом внезапно засыпает, и спит себе, чуть подрагивая ручкой и сжимая губки, совсем как ее мама.
Спокойно и уютно девчушке, поскольку пришла она в мир, где ее с нетерпением ждали и сразу полюбили. «Все у тебя будет хорошо, ягодка моя!» – обещает правнучке Нюра, набираясь сил для новых свершений на семейной ниве, богатой разнообразными событиями.
Весна 2003 г.
Примечания
1
Наум Фроимович Ципис (1935–2014) – белорусский прозаик. Родился на Украине. Окончил Курский педагогический институт. Жил и работал в Минске – учителем, журналистом. Член СП Беларуси с 1994 г. Последние годы жизни провел в Германии – в Бремене.
(обратно)




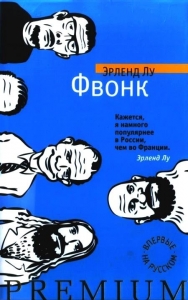





Комментарии к книге «Жизненный круг», Ирина Николаевна Кедрова
Всего 0 комментариев