Вячеслав Чиркин Северные были
© Чиркин В. П., 2016
© Хейлик О. Н., 2016
© Издательский дом «Сказочная дорога», оформление, 2016
* * *
Наш север любимый
Некоторые люди опасаются селиться и жить на Севере. Дескать, у вас зимой день с гулькин нос. На улицах многоснежно. Ночами лютоморозно. Летом мошки, комарья несчитано. Осенью дожди затяжные, нудные… Отчасти это так, но!..
…А вы знаете, что снег у нас ослепительно-белый, искристый, лёгкий и пушистый. Будто лебединый пух. Наша детвора и в мороз в снегу с хохотом порхается, «плавает» и барахтается. Не хуже, чем в тёпломорских волнах!
А в оттепель ребятишки снеговиков катают, в снежки играют. Подморозит – с угоров на санках с визгом катаются, по лесу на лыжах бегают, меж сосен аукаются. Такие удовольствия южанам и не снились!
А кто не бывал в оснеженном северном лесу, не видал его сказочную красу – тот настоящих чудес не знает!
Зимой строгие ёлки одеваются в богатые шубы с кружевной бахромой. От низа до верха обвешиваются изумрудными шишками.
На ветвях у них ажурные накидки из узорчатого инея наброшены. На вершинках серебристо-белые шапочки с алмазными искрами красуются. Будто ёлки к свадьбе готовятся.
В приданое зима дарит им пуховые одеяла, пышные подушки, мягкие простыни, голубовато-белые покрывала.
Щедро наряжены и ёлкины подружки: сосны и березки, ручейки и полянки, ольха и осинки. Кто хоть раз в заснеженном лесу побывал – всю жизнь вспоминать и восхищаться будет!
А с ледоходом на северной реке знакомы?
Силу и могущество воды видали?
Весной река со вздохами просыпается, спиной выгибается и с гулким треском от зимних оков освобождается.
Она ломает лёд на огромные ледяные пластины.
А эти льдины, как живые, неуклюже ворочаются, лбами, будто быки в стаде, глухо стукаются, боками друг о друга шуршат-трутся, ледяную мелкоту топят и раздвигают, проламывая дорогу в неведомое море Белое.
Река же, разродившись льдом, по лугам привольно разливается, бойкими ручьями по ложбинкам растекается, давая пойменным цветам и травам жизненную влагу, а домашнему скоту – летний корм и осеннюю отаву.
А летом дни у нас круглосуточные: заря с зарёй сходится, заря зарёй любуется. А ночи – светлые и прозрачные. Книги без подсветки читать можно! Стихи о любви сочинять хочется!
А слыхали, что опытный рыбак, отправляясь летом в заветные места к устью лесной речушки, берёт с собой комнатные тапки?
Подходя к сосновому бору, он стаскивает сапоги и переобувается. По белому хрусткому мху, как по домашнему ковру, в тапках идти легко, весело и для души приятно.
Походя можно стронуть с лёжки сонного зайца. Вспугнуть с брусничника беззаботных рябков. Прогнать с муравейника деловитого глухаря.
Загнать на дерево хлопотливую белку. Передразнить любопытную сороку.
Шугануть с земли сварливую сойку.
В сосновом бору у нас летом – лесной уют и стерильная чистота!
Всей грудью, до всхлипа душевного, вдыхаешь острый терпкий запах живой хвои, свежей живицы, космического озона.
С трепетом и восторгом, как детскую колыбельную, сердцем внимаешь нежному ласковому гудению золотистых сосен.
Ловишь ухом дробный перестук дятла. Улыбаешься озорному посвисту весёлой синички. Дышишь – и не насытишься неповторимыми ароматами родного леса. А на душе легко и благостно от простого человеческого счастья…
А в бабье лето в лесу у нас тепло и сухо, спокойно и торжественно. Как в Божьем храме перед службой. Озолоченный лиственный лес на фоне леса хвойного – красоты неописуемой!
Осенью на северных моховых болотах, из которых все реки России чистой водой пополняются, как на праздничной скатерти щедро рассыпаны темно-красные шарики клюквы.
Угощайтесь, гости дорогие, человек и птица! На высоких кочках теснятся рубиновые пучки брусники. Просятся в рот янтарно-жёлтые ягоды северного «ананаса» – морошки.
Предлагают полакомиться голубовато-сизыми ягодами кустики голубики.
А ещё северный лес богат черникой и смородиной, малиной и шиповником, калиной и жимолостью. Ранним летом поляны и просеки порадуют путника духовитой земляникой.
Есть и самая щедрая лесная красавица – рябина. Она свои увесистые кисти с ярко-красными ягодами не таит, не прячет, птицам и зверушкам предлагает: не ленитесь клевать и лакомиться, сил набираться, витаминами к зиме обогащаться!
Полноценно богат и урожаен северный овощной огород. С удовольствием растут картофель и капустка, ароматная зелень и пупырчатые огурчики, кудрявая морковь и борщовая свеколка, клубника и салаты.
В приусадебных садах зреют вишни и терносливы, яблочки и кустовые ягоды – всё, что для здоровой жизни требуется.
Ну а без винограда и арбузов, груш и персиков никто не умер, их с югов в изобилии привозят.
Велика Россия, а такой красоты девушек, статных парней, приветливых и доброжелательных жителей не везде найдешь и не сразу отыщешь!
А слышали про фантастическое изобилие и разнообразие грибов в осеннем северном лесу? «Хоть косой коси!» – это про наши края.
Разве мимо равнодушно пройдёшь!? Непременно корзину лесных красавцев наберёшь.
Дома грибовницу сваришь, с молодой картошечкой грибы пожаришь.
Нет! Ни на какие хвалёные юга я наш Север родимый не променяю!
И в обиду не дам!
Находясь в лесу, на лугу или у реки, в любое время года можно достойно оценить неповторимую красоту, бескорыстную щедрость и уникальность северной природы.
Хочется вскинуть к небу руки и на весь мир прокричать:
– Я люблю тебя, Россия!!!
Медвежатник
Лето в тот год урожайным выдалось: белые грибы в лесу толпами стояли, любителей ждали. Ягода черника в разнолесье сплошным ковром землю покрывала. Не пройдёшь, не ступишь, чтобы сапоги не вычернить. Разве дома усидишь?
Колхозный пенсионер Герман Смородинов проводил в стадо корову с овцами, тайком от жены Глафиры достал с повети лёгкую щепную корзину, свистнул лайку Рынду и вдоль огородных прясел, чтобы глазастые соседки не засекли и жене не доложили, удрал в лес.
– Всю работу по дому не переделаешь, а солёных грибочков с картошечкой на закуску после баньки ой как хочется! – оправдывал свое бегство мужик.
К тому же рассчитывал грибами супругу задобрить: что-то она его часто «точить» стала, а ночами носом к стенке отворачивается…
Наши предки умели выбирать места для поселения, потому светлый сосновый бор, с редкими берёзами в низинах и ёлками-монашками вдоль игривого ручья, раскинулся прямо за поскотиной на песчаном взгорке.
Время было раннее. Роса холодна и обильна. Воздух чист, свеж и для души приятен. Кроха синичка радостно приветствовала гостя нежным твиньканьем, а вот сварливой сойке он не поглянулся. Птица сразу улетела в чащу, ржаво скрипя противным голосом. Её поддержала сорока-тараторка, и вскоре весь лес знал, где ходит и чем занят человек.
Зорко оглядывая укрытую белым мхом землю, Герман уходил вглубь, часто кланяясь то белопузому обабку в коричневой шапке, то форсистому красноголовику с алой шляпкой. Других грибов он не брал, но корзина заметно тяжелела.
Не теряла даром времени и Рында. Она подняла на крыло и рассадила по деревьям выводок рябков, кормившихся на черничнике. Чуть было не выдрала хвост зазевавшемуся глухарю, старательно разгребавшему муравейник в березняке.
Долго рылась и с досадой фыркала у гнилой колоды, под которую, озорно свистнув, юркнул знакомый бурундучок.
Виделась с ним Рында часто, а вот ближе познакомиться не удавалось. Затем вытропила и загнала на сосну по-летнему рыжую белку. Та страшно возмутилась и сердито цокала, бегая винтом вокруг ствола.
Рында в ответ принялась её весело облаивать, но хозяин погрозил пальцем: «Попустись! Не время ещё!»
Рында охотно согласилась и помчалась искать новых развлечений.
Вскоре наткнулась на днюющего под кучей хвороста зайца. Тот кинулся наутёк, призывно мигая белой изнанкой хвостика.
Лайка с радостным визгом рванулась за ним, зная, что не догонит, зато до запыху потешится. Бегуны быстро пропали в тенистом ельнике.
Неожиданно оттуда, смешно подкидывая толстый задик и часто оглядываясь через плечо, выкатился небольшой медвежонок-сеголеток. Издали он принял нагнувшегося над грибом человека за мать и заскочил к нему под живот.
Почуяв чужой запах, медвежонок отпрыгнул, встал на задние лапки, а передними забавно отмахивался, будто от наваждения.
Растерявшийся Герман тоже смотрел на пестуна, раскрыв рот в изумлении. Смотрины длились недолго: через пару секунд медвежонок ловко карабкался на ближайшую сосну. Поднявшись метра на три, он спрятался за ствол и стал с интересом разглядывать незнакомое страшилище.
Как всякий выросший в окружении тайги человек, Герман сразу приметил: медвежонок упитан, гладко вылизан, любопытен и на бродяжку-сиротку не похож. Значит, где-то близко его мать. А с ней шутки плохи. Надо удирать, пока цел. Пробежав метров двести и не видя медведицы, Герман остановился. В матёром мужике взыграло мальчишеское озорство: он решил принести медвежонка домой и показать внуку.
Если б его спросить: «А зачем?», он бы искренне ответил: «Просто так, для интереса…»
Герман спешно вернулся к сосне, вынул из кармана прихваченный на завтрак ломоть хлеба, намазанный маслом, и протянул медвежонку, говоря игриво:
– Эй ты, мужичок-толстячок! Слезай! Я тебя хлебцем угощу.
Медвежонок в его доброту не поверил.
Тогда Герман сам откусил краешек и принялся смачно чавкать, надеясь соблазнить малыша.
Медвежонок задёргал носиком, даже облизнулся, но спускаться не спешил.
Герману же нужно было торопиться. Он взял в зубы хлеб, быстро скинул сапоги и начал взбираться на сосну. Медвежонок поднялся выше.
Разодрав на груди рубаху, Герман с трудом добрался до нижних сучьев, а дальше полез быстрее.
Вскоре медвежонок качался на гибкой вершинке и тихонько скулил от страха. Под Германом обломился тонкий сук. Двигаться дальше стало опасно, хотя до желанного трофея оставалось чуть-чуть.
По здравому рассуждению, следовало оставить зверёныша в покое, но русский мужик задним умом силён. Раззадорившись, Герман принялся раскачивать дерево, глядя на медвежонка снизу вверх, хвастливо заявляя при этом:
– Ну что, по-хорошему слезать не хочешь? Тогда я тебя стрясу, как кедровую шишку!
Деваться малышу было некуда. Спрыгнуть и убежать он не мог. Для самозащиты оставалось последнее «средство», которым снабдила его мудрая природа: медвежонок натужил переполненный черникой животик и звучно опорожнил его на голову врага… Не успел Герман отплеваться и опомниться, как медвежонок произвёл второй «залп», угодив врагу за ворот. И Герман взорвался «многоэтажной» бранью, от которой у бывалой вороны голова в плечи втянулась…
– Ах ты гадёныш! Да я тебя, поганец!.. – гремел вышедший из себя мужик, стараясь проморгаться и изо всех сил тряся дерево.
Медвежонок, чувствуя, что сейчас упадёт, заверещал тонко и пронзительно. В ответ невдалеке послышался свирепый рёв медведицы, и наш охотник за трофеями сразу опомнился…
– Рында! Рында! Ко мне! – панически завопил зверолов, будто его уже грызли за ноги…
Что происходило дальше, видеть ослеплённый Герман не мог, лишь вспоминал и догадывался.
Вначале он почувствовал сильнейший толчок от с ходу прыгнувшей на сосну медведицы.
Ноги у Германа сорвались, и он начал медленно сползать по стволу, в кровь обдирая живот и ладони.
Затем донёсся злобный лай собаки. Это спешила на помощь верная Рында. Она высоко подпрыгнула, впилась зубами в голую пятку зверя и повисла на ней.
Медведица взревела от боли, резко оттолкнулась и спрыгнула на землю, чтобы разделаться с собакой.
Рында успела отскочить, зато Герман от нового толчка утерял ствол и стал падать, переваливаясь с сука на сук, будто мешок с картошкой. Он пытался вслепую ухватиться за ветви, но его сбил спускающийся сверху медвежонок. Осмелевший малыш мстительно куснул врага за плечо, спрыгнул на землю и удрал в лес.
А внизу шла жестокая схватка. Разъярённая медведица старалась достать страшными когтищами собаку, но вёрткая лайка успевала тяпнуть зверя то за косматый зад, то рвануть за нежную пятку.
Тем временем Герман обломил последний сук и плюхнулся животом прямо на спину медведице.
Он инстинктивно обхватил её, будто жену родную, и намертво вцепился в густую шерсть. Это и спасло «зверолова» от немедленной расправы…
Медведица от неожиданности присела, рявкнула в испуге и огромными скачками понеслась прочь, волоча на себе седока… Следом птицей летела Рында, возмущённым лаем спрашивая:
– Куда же ты скачешь, хозяин?! Слезай, разорвёт!
…Если б у Германа имелся опыт скачек на медведях, он проскакал бы и дольше. Но обезумевший от страха зверь с маху перепрыгнул поваленное дерево, а «наездник» зацепился ремнём брюк за торчавший сук и повис головою вниз. В горстях он судорожно сжимал по клоку выдранной медвежьей шерсти…
С трудом освободившись, Герман принялся на ощупь искать мох помягче, чтобы стереть с глаз липкую плёнку детского помёта. Вскоре и Рында вернулась. На радостях собака кинулась к хозяину, но сразу отскочила, будто на неё кипятком плеснули.
Стоя в стороне, она фыркала и взлаивала в недоумении: «Что такое?! С виду – мой хозяин, а дух, как от медведя из берлоги…»
– Ладно, ладно, Рындуля! Мы ещё легко отделались… Если б не ты… – мужик даже всхлипнул от жалости к самому себе и подошёл погладить собаку.
Тактичная Рында покорно приняла ласку, но лизнуть руку хозяина побрезговала…
Герман пнул ногой раздавленную в свалке корзину с грибами, натянул сапоги и скорой рысью подался из лесу. Подойдя к ручью, он отыскал тихий омуток, чтобы поглядеться на себя, как в зеркало.
Боже праведный! Из воды смотрела иссиня-чёрная образина, видом схожая с утопленником двух недельной давности… Герман принялся мыть лицо руками, тереть травой, даже песком пробовал. Но кожа черничного окраса не утратила.
Кружным путём, где пригнувшись меж кустов смородины, а где и ползком по картофельным бороздам, прокрался горе-грибник в родной дом.
Глафира, увидев в дверях мужика африканского обличья, отпрянула в испуге, а затем ойкнула, признав собственного мужа.
– Герка! Ты?! Где тебя черти носили? Ай в сортир провалился? – спросила она, поспешно зажимая нос пальцами.
Герман кратко поведал «медвежью» историю, не заметив, что с печи за ними наблюдает трёхлетний внук Дёмка…
Глафира быстро достала мужу бельё и одежду; опасливо оглядываясь, сопроводила в баню, принесла дров, натаскала воды и оставила одного – топить и мыться.
Сама же принялась за стирку.
Не желая конфузить мужа перед односельчанами, женщина решила умолчать о курьёзном случае.
Но в деревне ничего не утаить…
Вскоре деревенские женщины зашушукались:
– Пошто это Смородиновы средь недели да днём баню запалили? И Германа не видать… А почему Глафира внеурочную стирку затеяла? Нет, тут дело не чисто!
И вот уже сжигаемая любопытством соседка шлёт в глубокую разведку сынишку Лёньку, чтобы он узнал у дружка Дёмки, что у них дома деется.
– А нашего дедушку в лесу медведь черникой обкакал. Он теперь в бане отпаривается, – выдал другу семейную тайну Дёмка – святая простота.
Лёнька тут же принёс добытый секрет мамке, а дальше чётко заработало «сарафанное радио».
Мамка, бросив дела, спешно передала новость женщинам у колодца.
Ну а те – мужьям, сватьям, братьям и подругам…
И поплыл, полетел из конца в конец деревни весёлый слушок про забавное приключение Герки Смороды, по пути обрастая небывалыми подробностями.
Ну а если и я что-то призабыл или напутал – не судите строго: не сей год, но взаправду дело было.
И Германа с тех пор за глаза Медвежатником кличут…
Червяк
Иван Семёнович, если говорить о его физическом состоянии, – инвалид. Но не войны за Отечество. Где и как он «воевал», ходили разные слухи, и повторять их нет смысла. Просто однажды, приглашённый к дружку на именины, он перепил на дармовщину, а по пути домой упал и повредил голову.
Нет, она не то чтобы стала хуже соображать или в черепе треснула, но отказалась нормально управлять ногами, языком и другими подневольными ей частями тела. Ходил он с тех пор с трудом, говорил тягуче, медленно, и поболтать с ним желающих не находилось.
– Так хочется поговорить о жизни!.. – жаловался он иногда.
Впрочем, повреждение головы не помешало пьянице скрыть от врачебной комиссии истинную причину падения, и всё оформили строго официально и документально, назначив пенсию… «за травму на производстве».
С тех пор «законный» инвалид целыми днями дежурил у окошка и внимательно следил, что делается на улице. Или шаркал подошвами перед домом, пытаясь поймать прохожего и узнать сельские новости. Это редко удавалось: незнакомые люди его долгого трудного заикания не выдерживали – уходили. Местные же проходимцы старались проскочить другой стороной, ехидно крича через улицу: «Привет, Иван Семёныч!», и поскорее отворачивались.
Дом у Ивана Семёновича видом небросок: доской не обшит, красками не раскрашен, резными узорами не выделялся, но если приглядеться повнимательнее, то домов таких – поискать! Брёвна в стенах толстые, одно в одно. Отёсаны и остроганы «под кольцо»: что комель, что вершина – одинаковы. В пазы меж ними и щепки не подсунуть, так плотно и аккуратно они притёсаны, мхом проложены, тряпьём подконопачены. В задубевших от времени брёвнах трещин не найти – видно, заготовлены они по старинному методу настоящим хозяином, в расчёте на века.
И ещё: обойди в сильный мороз улицу – не увидишь окна, не затянутого изморозью. В этом же доме стёкла чисты и прозрачны, как первый ледок в тихом омутке у лесного родничка. Значит, дом сух и здоров, не одно поколение переживёт. Но вот уже третий день, как хозяин его заколготился: стоя под окном, разводит руками, охает, ругается. Громко выражать свои чувства на людях Иван Семёнович не любил, значит, случилось что-то важное и тревожное в его жизни. Наконец он не выдержал и призвал знакомого, Николая Захаровича.
– Посмотри, – говорит, – кто это?
Тот посмотрел. Внизу, под самым наличником окна, в тенёчке, виднелась маленькая круглая дырочка, едва спичке пролезть. Это был ход личинки жука-короеда. Как хозяин и увидал-то её?! Никак нутром учуял…
– Ну, кто это, червяк? – спрашивает нетерпеливо Иван Семёнович.
– Да, личинка короеда. Вглубь ушла.
– A ты послушай.
Николай Захарыч приложил ухо к тёплой стене.
…Мягко-шершавая поверхность бревна, тронутая временем, опалённая солнцем и морозами, вымытая дождями, грела нежно-ласково. Из глубины, будто издалека-далёка звонко и отчётливо, как эхо в лесу, из сухого дерева слышалось: тр-р-р… Перерыв – и снова: тр-р-р… Будто кто-то работал маленьким буравчиком. Из дырочки остро пахло свежей сосной.
Тут же кружил, примеряясь влезть, крошечный древесный муравей, но резкий смоляной дух отпугивал разведчика.
…Николаю Захаровичу вдруг вспомнился загубленный сосновый бор рядом с селом – кормилец и отрада стариков и деревенской детворы, то есть тех, кто не мог далеко ездить и ходить за грибами.
О доброте и приветливости старого бора ходили легенды. Действительно, кто бы ни приходил в него с низким поклоном и вниманием, по десятку крепеньких, чистеньких, аккуратных боровичков, франтоватых красавцев красноголовиков на жарёху с молодой картошкой или любимый всеми суп-грибовницу он дарил каждому.
Вначале в бору вырубили плешину под песчаный карьер, а потом в карьере устроили мусорную свалку.
Собравшиеся на стихийный сход сельчане роптали, возмущались варварским решением исполкома, но Иван Семёнович гаркнул злобно в толпу: «Вы что, против советской власти?!» И все притихли…
– Ну, слыхать? – заставил очнуться Николая Захаровича голос хозяина. – Как думаешь, много он нагрызёт?
– Конечно! Пока в жука вырастет, не один раз бревно туда-сюда проточит.
Видя их вместе, подошёл сосед.
– Чего думаем, чего слушаем? – спросил он, здороваясь.
– Да вот – червяк объявился, бревно точит. Послушай.
Сосед послушал.
– Точит?
– Точит.
– Как думаешь, глубоко прогрыз? – спросил его хозяин.
– Сейчас узнаем. – Сосед сломил жёсткий стебелёк травинки и сунул кончиком в дырочку. Травинка далеко не полезла. Нашли проволочку – тоже не идёт.
– Так дырочка опилками забита! – догадался сосед. – Червяк челюстями дерево крошит, через желудок пропускает и ход после себя заделывает.
– Вот сволочь какая! – ужаснулся Иван Семёнович.
Напротив них остановились проходившие мимо два мужика «под градусом». Им тоже рассказали про червяка-вредителя. Они из любопытства, остальные из уважения ещё раз послушали. «Грызёт!» – дружно подтвердили все.
– Это шашель, – вдруг заявил один из мужиков.
– Сам ты шашель! – возразил второй. – Шашель в зерне заводится. А брёвна короеды точат.
Они заматерились. Не желая встревать в пьяный спор, Николай Захарович с соседом ушли. Побрели прочь и пьяные прохожие, лишь Иван Семёнович ещё долго топтался возле стены, прикладывал ухо, вздыхал, думал.
На следующий день он нанял за бутылку полупьяного бродягу, и тот бил по «червивому» бревну обухом колуна, тяжёлой кувалдой. Они надеялись оглушить червяка, но тот «свербил» без умолку, не давая хозяину дома покоя ни днём ни ночью.
Слух, что «Ивана Семёныча червяк грызёт», быстро облетел село. Люди оживились, заулыбались, как-то даже сплотились от такой приятной вести.
К дому приходили с дальнего конца, подходили ближние соседи, заворачивали случайные прохожие. Все наперебой давали советы, сочувствовали, ободряли, рассказывая самые невероятные истории о прожорливости «шкуроедов».
При этом все стирались соблюдать хитрую деревенскую дипломатию: не смеялись, не радовались явно, зато за глаза от души потешались. Лишь один местный острослов и пьяница, высказал общескрываемое вслух:
– Это тебя Бог наказывает!..
Ну да с пьяного каков спрос?..
Сбитый с толку, запуганный рассказами и предсказаниями о возможных жутких последствиях, если червяка не извести, Иван Семёнович старательно выполнял все даваемые ему советы и наставления односельчан.
Он капал в дырку-норочку из пипетки водку, одеколон, керосин, уксус и прочие ядовитые жидкости, пытаясь отравить безжалостного мучителя. Но червяк «работал» упорно и весело, без выходных и праздников, днём и ночью. Каждое утро под стеной появлялись желтоватые, мелкие, как крупа манка, древесные опилки, а в бревне прибавлялась новая дырочка.
Ивану Семёновичу казалось, что уже не один, а целые полчища червей пилят, точат его до этого крепкий и надёжный дом, и ему от них ни сбежать, ни спрятаться… Больной стал кричать и бредить во сне. Ему мерещилось, что подточенный дом вот-вот рухнет, придавит его тяжёлыми потолочными плахами, и никто не придёт на помощь.
Несчастный старик почернел лицом, иссох телом, упал духом. С утра до ночи кружил он вокруг дома, едва переставляя ноги, потом снова пошёл к Николаю Захаровичу. Присели на уличной лавочке. Иван Семёнович попросил закурить, хотя со дня травмы не брал в рот ни табаку, ни капли спиртного – берёг здоровье…
…Видом это был живой труп – иначе не скажешь. В глазах – безысходная тоска, обречённость. Брюки спереди не застёгнуты. Рубаха сзади не заправлена. Воротник перекосился. Лицом грязен, не брит. Старик совсем ослаб от непосильных забот и переживаний.
– Грызёт?.. – спросил Николай Захарович, чтобы не молчать.
– Грызёт… – горестно вздохнул Иван Семёнович, блеснув слезами. – Как думаешь: может, бревно сменить, пока не поздно? – с надеждой спросил он.
– Оно бы можно, да работы сколько…
– Что работа! Дом-то свой, не казённый… Был бы казённый – пусть грызёт-точит. Государство богатое, не обеднеет. Да вот брёвен таких не сыскать теперь… Это ж я когда-то часовню у церкви ночью разобрал и перевёз, – признался он в давнем преступлении. – Вот, видать, Господь и послал мне кару на старости лет… – совсем сгорбился старик.
– Ну, ты скажешь! Бог небось и забыл про тебя давно. Как ты про него… – намекнул Николай За-харович.
– Нет… Он ничего не забывает… – отрешённо сказал старик и заплакал.
Скудные слезинки сочились сквозь прикрытые веки глаз, сползали в заросшие щетиной щёки и там пропадали. Голова, плечи, руки – тряслись…
Николай Захарович смотрел на это жалкое презренное существо и не мог отделаться от воспоминаний, рассказов потерпевших и очевидцев…
…Все молодые и зрелые годы Ванька Жмот (так дразнили Ивана Семёновича в детстве) состоял в деревенских активистах. По характеру хитрый, мстительный, жестокий и наглый до циничности, много горя и страданий принёс односельчанам этот выродок. Работать не любил, а пожрать и выпить – только дай! На небольших сельских должностях, куда он пролезал с помощью доносительства, угодничества и дружков из районного начальства, долго не засиживался: воровал безбожно, пьянствовал, домогался беззащитных вдов и одиноких женщин. Сочинял анонимки, выступал на судах лжесвидетелем.
В компартию его, как ни странно, не взяли. Зато постоянно использовали как «представителя сознательной части советского крестьянства». Особенно в довоенные, репрессивные, годы.
Ни одно серьёзное мероприятие в селе, ни одна травля неугодных партийному режиму людей не обходились без Ваньки, а потом – Ивана Семёновича. На всех собраниях «активист» первым лез на трибуну – «осуждать» или «поддерживать», как прикажут. Это был добровольный, убеждённый, можно сказать – профессиональный холуй-исполнитель, притом с самодеятельной инициативой. Чужому горю он искренне радовался, а своей подлостью гордился…
– Учитесь жить, мужики! – частенько хвастал он в сильном подпитии.
Его ненавидели, презирали, но… боялись. За ним стояла беспощадная сила – власть.
Но демократические перемены последних лет, осознание совершённых преступлений, боязнь разоблачения и возможной расплаты за них, старческая мнительность, потеря покровителей сломали бывшего «героя».
Чувство обыкновенной человеческой жалости шевельнулось у Николая Захаровича, но заставить себя ободрить, разуверить старика в его страхах он не смог… Память об оскорблённых, обиженных не позволяла. Да и не поверил бы ему Иван Семёнович, как не верил никому в жизни, руководствуясь лишь личной корыстью.
Это рассказать можно быстро, а слушать, разговаривать с инвалидом долго и трудно. Он неясно выговаривал слова, давился языком, начинал, но не оканчивал фразы, клонился из стороны в сторону, готовый упасть. От телесной слабости, жалости к самому себе он часто плакал.
Николай Захарович выждал паузу подлинней, и ушёл. Иван Семёнович с трудом доплёлся до своего дома, постоял недолго у продырявленного бревна и скрылся в сенях.
Рано утром к Николаю Захаровичу пришла плачущая жена Ивана Семёновича и сообщила: «Помер ночью мой хозяин – замучил человека проклятый червяк… Вы уж помогите, пожалуйста, похоронить…»
– Приберём, – обещал Николай Захарович, – на земле не оставим…
Хоронили покойного тихо, скромно. Народу собралось немного, так, по человеческой необходимости.
От властей никто не пришёл. Постеснялись… Да и зачем он им теперь нужен? Закопали быстро, без речей и слов прощания. Не было и служителя церкви: он отказался отпевать умершего, и все знали, почему.
…Иван Семёнович родился и долго жил в соседнем районе. Но не зря говорят – земля слухом полнится.
Во времена антирелигиозного мракобесия наш «активист» принародно матерно обругал местного священника и плюнул ему в лицо. Преследовал с дружками-собутыльниками и его вдовую дочь. Батюшку вскоре вызвали в райцентр, и он не вернулся. Опозоренная женщина повесилась. Людская молва всё это приписывала активисту.
Его дважды втёмную смертно били, но он выжил. Местное начальство «дела» заводить не стало, а посоветовало сменить место жительства. Так и появился в селе Иван Семёнович. И избу с собой привёз. С виду притих немного, но подлой сути своей не изменил…
Поминали усопшего в летней кухне, почти сарае. Так он якобы перед смертью наказал. Чтобы крашеные полы в доме не царапать.
Этому никто не удивился. Жмот, он и есть жмот – в народе зря кличек не дают. Жена его после похорон недолго прожила. Детей им Господь не дал, не нашлось и родственников.
Но что интересно: после их смерти червяка-убийцу не слышно стало. Народ у нас дотошный, многие из любопытства приходили слушать.
…Может, добрался-таки яд до червяка? Или действительно Бог кару присылал? Никто не знает.
А дом и сейчас стоит. В нём люди живут.
Земляки
Апрель на дворе. Солнышко родное щедро греет, из дома на свет божий тянет.
Спешит подобрать зимние недоделки селянин, к маю, к праздникам, порядок навести старается.
У седого приземистого дома молодой мужчина вытаявшие дрова-подснежники доколачивает.
Разделся до пояса, запойно, радостно, во всю грудь, колуном ахает. Далеко стук разносится.
Идёт мимо весенний прохожий и кричит:
– Зачем колешь? Зима-то уж прошла!
Завис на миг колун в руках у колюна, и с «Ух!» – ом пал на чурку, развалив её донизу.
– Да понимаешь… По приметам, старики лето холодное обещают, – серьёзно ответил он.
И грянули земляки дружным хохотом: от весны-чародейки, от широты душевной, от доброты человеческой…
Дядя Саша. быль
Я расскажу о Епове Александре Васильевиче, 1911 года рождения, беспартийном, рядовом участнике Великой Отечественной войны, уроженце деревни Бузда Архангельской области.
…Он не брал «языка», не сбивал тараном самолётов и даже не участвовал в знаменитых стратегических операциях, хотя всю войну крутился в военной «мясорубке». Природа создала его пахать землю, ухаживать за скотом, растить детей. В праздники он любил выпить «для веселья», «покуражиться» с друзьями по деревне.
В начале коллективизации их семью не взяли в колхоз: мать уже умерла, отец тяжело болел, а от них, троих детей-подростков, проку было мало. Но как-то перебивались картошкой, грибами, ягодами. Потом в колхоз всё же приняли, забрав, естественно, единственную лошадь, тёлку, небогатый «нажиток», не дав взамен ничего…
Чтобы выжить, Саша устроился в леспромхоз трелевать лес на лошадке. Наваливал сам, побольше, лишь бы увезла коняга. Хотелось заработать, приодеться.
Но от заработка, после вычета налогов и уплаты поборов, оставались крохи. Доходило до того, что, когда ставил зимой просушить валенки, выбегать в мороз «до ветру» приходилось босиком. В запасе не имелось ни обуви, ни одежды…
Когда друзья-одногодки собирались в соседнее село к девкам на посиделки, он с худеньким отцовским ружьишком уходил в лес.
Так и не женился. Потом началась война, и его забрали защищать Отечество, которое было для него не добрее злой мачехи…
В первом же бою их часть – плохо вооружённую, полуодетую, необученную – разгромили в заснеженных лесах Финского фронта.
Раненный в обе ноги, он заполз под сваленную снарядом ёлку и остался жив, но ноги в ботинках отморозил. Если б он вылез сразу после боя, его бы вгорячах добили…
На третий день началась гангрена. Ему очень хотелось пить. Снег, который он лизал, жажды не утолял. Тогда он, лежа на боку, решился развести костерок и растопить снег в котелке.
По дымку его, окоченевшего и потерявшего сознание, нашли финские солдаты. Они не пристрелили его, а отнесли к врачам. Так и оказался дядя Саша во вражеском плену. Обе ноги отрезали выше колен. Далее пошли госпитали, лагеря для пленных, а весной 1945-го – репатриация на Родину. Путь этот тоже был долог, позорен и тяжёл…
В родной деревне отца в живых уже не было.
В доме жила старшая сестра, на иждивении у которой находилась младшая, инвалид с детства. Добавился к ним и безногий брат…
По примеру других российских калек, можно было заняться известным промыслом: оголить культи, сесть у магазина или у церкви и собирать милостыню в фуражку. Набрал на бутылку, напился, тут же свалился и забылся…
Но он решил жить «КАК ВСЕ». Да и сёстрам нужен был мужчина, хозяин в доме. В долг купили овец, кроликов, завели козу.
Скоту на зиму требовалось сено, и он наравне с сёстрами стал косить, ворошить, метать. Вы спросите: «Как?!»
А вот сядьте на пол, возьмите в руки косу или грабли и попробуйте…
Глинобитная русская печь в доме была добра, жарка и просторна. Она варила, отогревала, лечила от хворей, но требовала дров.
Старшая сестра работала в колхозе дояркой и по пути на ферму срубала две-три нетолстых сушины, благо лес находился рядом.
Младшая же вместе с безногим братом обрубала сучья, разрезала пилой-двуручкой ствол на чурки и на санках таскала к дому.
Вскоре Саша научился всё делать сам, «без баб», как он говорил.
Однажды его долго не было, и сёстры нашли брата придавленным неудачно упавшим деревом. Но обошлось без нового увечья: ему «везло в жизни», как он говорил…
«Здоровая» сестра вскоре умирает. Отчего? Диагноз так и не поставили. Остались инвалиды вдвоём.
«А ЖИТЬ-ТО НАДО…» – виновато говорили они…
На послевоенную советскую пенсию обыкновенный человек выжить не мог. Даже теоретически.
А они жили. И если кого-то раздражает стариковская прижимистость, «жадность», пусть попробует прожить на те деньги хотя бы «арифметически». И он поймёт, что выжить мог лишь душевно стойкий, жизнелюбивый, трудовыносливый и… сверхбережливый. Переживший те годы уже никогда не выбросит корки хлеба, не потратит, семь раз не обдумавши, и копейки…
Но партийным «мудрецам» снова не понравилась крестьянская жизнь, и деревня попала в неперспективные. Закрыли лавку с продуктами, отключили электричество, после чего люди разбрелись и устроились кто куда.
Пришлось и шестидесятилетним инвалидам переселяться в райцентр, в «казённую» квартиру, где не было ни огорода, ни бесплатных дров, ни скотинки. К таким квартирам власть даже сараев для дров не строила…
– На всё нужна копейка, – вздыхали, но не жаловались старики. И жили на копейки. Это уж в последние годы полегче стало.
Заботилось ли о своём защитнике-ветеране наше государство?
Непременно! Ему, как и всем, «надбавляли пензию», по торжественным датам вручали юбилейные медали, к праздникам отоваривали продуктовыми наборами.
Но за двадцать два года, что он прожил в коммунальной квартире, в ней не делалось даже косметического ремонта! Обвалилась штукатурка с потолка. После сделанного за свой счёт ремонта печи она стояла небелёной. Закопчённая кухня выглядела страшнее кормокухни в ином свинарнике.
Старики по складу характера не умели и не желали унижаться, просить, требовать, жаловаться, а совести у власть имущих не было. Зато квартплату брали исправно…
Да, дяде Саше предлагали «частично благоустроенное жильё», или «каменный гроб», как он говорил. Но он не соглашался вновь переезжать с обжитого места. Нетрудно догадаться, что оставить, бросить привезённые из деревни и бережно хранимые корзины, санки, бочки, косы и прочий инвентарь было свыше сил и понимания хозяина-крестьянина.
– А вдруг власть переменится, и опять погонят в деревню? Как без инструмента? Пропадать? Нет, не пойду. Здесь буду доживать, – не соглашался он.
Может, потому и дожил до восьмидесяти трёх лет…
Все годы, живя в многоквартирном доме, он, наравне со здоровыми жильцами, чистил дощатый тротуар зимой, складывал и перекалывал помельче дрова, мыл дома полы, посуду.
На ручной коляске, которую подталкивала сестра Софья или соседские ребятишки, ездил в баню, на рыбалку, в гости к друзьям и никогда не унывал, не сидел без дела. Он сам смастерил себе коляску на подшипниках, делал из фанеры лопаты для чистки снега, заготавливал веники для бани и многое другое.
Лишь один раз он плакал в голос и причитал от обиды: «Я за свою жизнь чужой щепки не взял, а у меня кто-то дрова из поленницы ворует…» (Находились и такие подонки.) Это расстройство и горькая обида сильно укоротили жизнь ветерана. Перед тем как слечь совсем, он успел сказать сестре: «Соня, меня парализует…» И замолчал…
Жизнь слишком крепко дружила с дядей Сашей, чтобы отпустить легко, сразу: сердце билось, глаза видели, сознание сохранилось, а говорить и двигаться он почти не мог. И ветеран обиделся на такой несправедливый конец. Не захотел жить беспомощным, безголосым, обузой для всех.
Он, как мог, противился лечению, кормлению: выталкивал языком ложку, отворачивался, срывал капельницу. Над ним плакали, уговаривали, пытались кормить насильно, и тогда дядя Саша молча плакал…
Он не уступил и не смирился. И добился своего…
И вот я сижу у его гроба в его последнюю мирскую ночь. Чуть слышно шуршат под обоями оголодавшие тараканы. Суетливо шмыгают по кухне мыши. В соседней комнате спит измученная за день Софья. В доме тихо. Молчу и я. Вспоминаю и пишу о его жизни. Иногда смотрю на красивое строгое лицо дяди Саши и мысленно разговариваю с ним, спрашиваю, о чём забыл. Он молча отвечает…
Я не боюсь его. Я понимаю его. Я не осуждаю его. Я преклоняюсь перед этим человеком: не всякому дано прожить столь трудную и долгую жизнь и не сломаться, не согнуться. Он жил и умер настоящим мужчиной, и пусть родная земля ему будет пухом…
Третья молодость
Годков нашей бабке Александре не так уж и много. «Люди и дольше меня живут!» – так по крайней мере она сама о себе скромненько сообщает, не называя года рождения.
Оно и вправду: раньше-то Александре помирать недосуг было: молодой – на сторону гульнуть, «хвостом крутнуть» любила, в зрелом замужестве – детей растила, а к старости муж, что сильным полом считался, телом ослабел и на полное бабье иждивение сел. Как беспомощного старика сиротой оставишь? Так незаметно и дотянула бабка до восьмидесяти лет с гаком.
Но хворый дед поскользнулся в ранневесенний гололёд, хряснулся нетрезвой головой о каменно-крепкий лёд и Богу душу отдал.
Да так скоро свершилось дело – Александра охнуть не успела, как вдовой осталась.
Хоронили покойного в тот же гололёд, и с великим трудом гроб к могиле доставили. Такая скользота образовалась – прямо ужас!
Кто на похоронах в коленках слаб был и на ногах худо держался – не раз вверх сапогами взбрыкивал и чертыхался сквозь зубы: «Нашёл время, когда помирать, старый хрыч…»
Чуткая Александра всё это слыхала и на ус мотала, а как с кладбища домой воротились, вдруг решительно и принародно объявила – никто за язык не тянул:
– Всё! Окончилась моя жизненная программа и всякие общественные обязательства: сама, кого хотела, всласть полюбить успела, кучу законнорожденных детей к жизни приспособила, внуков вынянчила, правнуков потетёшкала – пора и честь знать, спокойно умирать. Но только в такую пакостную погоду я, хоть убейте, помирать не стану! Не хочу, чтобы люди себе рёбра ломали и меня худым словом поминали. А вот развиднеется, распогодится, тогда уж, соседушки добрые, милости прошу на мои последние проводы!
Изрекла такое Александра и голосом не дрогнула, слезинкой щеки не окропила. Вот ведь кремень бабка!.. Вгорячах ли такое старушка ляпнула или ради хвастовства громким словцом брякнула – не в том солёная суть. Но известно: «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь…»
Ну, пока на девятый да на сороковой день поминки по усопшему справляли, никто бабке претензий не предъявлял. Некоторые люди те её обещательные слова совсем забыли, другие – за шутку посчитали. Ан не все, как оказалось…
Жил в той деревне и дед-долгожитель, в молодости – Александрин ухажёр, а может, любовник, – кто их знает. Его при крещении Аркадием назвали.
Так – мужик как мужик: и собой видный, и лицом приятный, но с речевым изъяном: букву «р» долго не выговаривал. И выпить не дурак был.
Про себя под хмельком так говаривал: «Я ходить, говорить, пить и курить одновременно начал».
От этих сложенных вместе причин ему прозвище образовалось, по-русски точное, по-деревенски меткое: Алкашка.
Так вот, встречает этот… Алкашка тем же летом Александру и самым прямым образом заявляет:
– Ну что, Лександра, погода вроде наладилась: не сыро, не склизко, не жарко, не холодно. Не пора ли тебе собираться к деду под сосны? Как сама обещала. А уж мы с друзьями в твою долгую память и доброе здоровье на поминках рюмку с горькой по кругу пустим, речь красивую толкнём…
Шмыгнула Лександра носом, глазом по сторонам стрельнула – и отвечает с большим смущением:
– Ну что ты, Алкашенька!.. Посмотри, какая поверх земли теплынь и благодать разлита! Разве не грех в такую чудную погоду тебя и добрых людей от дел отрывать, грустить, плакать вынуждать? Да и я, признаться, после мужниных похорон будто третью молодость раскубырила: пенсию получу – и ни тебе трудных забот, ни былых хлопот! Вольна, как птичка божья! Обожду помирать до осени, а там видно будет. Да ты проходи в избу: зять на днях проведать заходил, так после него в бутылке маленько осталось. Выпьешь, поправишь голову…
Опохмелился хитрый Аркашка и отстал до времени.
Красное лето птицей пролетело! Незаметно хмурая осень ранними сумерками наползла, мокреть, слякоть развела. Собаки – в конуру, люди – по домам, как суслики по норам, запрятались.
Поймал баламут Аркашка у колодца Александру – и опять своё гнёт, опомниться не даёт:
– Ну как, бабка, надумала помирать? Народ нынче от уборочных хлопот высвободился, по домам сидит, скучает, и на твои похороны, как на праздник, дружно выйдет! И землица ещё не смёрзлая. Если добрый магарыч загодя поставишь – мужики в момент уютную квартирку вымахнут! Сама сможешь проверить.
Жмётся Александра бочком, кутается зябко в пуховый платок. Плечиком брезгливо дёрнулась, сухонькой ручкой в дужку ведёрка вцепилась – и выкручивается теперь в открытую:
– Ты, Аркадий, коль свою совесть в вине утопил и табачищем прокоптил, дак, думаешь, и я бесстыдницей стала? Да в такую гнилую погоду до ветру из дома выходить неохота, не то что на чужие похороны! Кто ж меня, старую, провожать пойдёт? И сама я насквозь вымокну, лёжа в открытом гробу. А кому охота нескончамый век мокрой курицей в земле преть? Нет, мне не к спеху. Обожду сухого предзимья.
…Вот и чистюля зима белым пухом на землю пала, грубыми валенками заскрипела. Мороз русский в одночасье трахнул, стёкла узорами заморочил. Сонные избы стоячими дымами в низкое небо упёрлись. Счастливая ребятня с санками под угором от восторга визжит и хохочет. Наша бабка сидит себе на мягком диванчике возле тёплой печки, сладкую карамельку в беззубом рту перекатывает, очередной любовный сериал по телевизору посматривает.
И тут по-деревенски без стука чуть хмельной Аркашка вваливается и прямо с порога заявляет, а у самого на лукавой роже счастливая ухмылка до ушей, будто он в снегу непочатые пол-литра водки нашёл:
– Привет, Лександра! Пришёл обрадовать: погода, видать, надолго устоялась: мороз невелик, солнце неяркое – глаз слепить не будет. Метели тоже нет. А главное – земля не шибко закаленела, могилку копать сподручно. Так что решай насчёт давно обещанной смерти. Что на этот раз скажешь?..
Засмеялась Александра, и от глаз, как от солнышка, морщинки-лучики во все стороны разбежались. И что удивительно, от доброты той улыбчатой лицо не постарело, а похорошело…
Не стала хозяйка с гостем хитрить да препираться, сразу зашла за ситцевую занавеску, свою вечно початую бутылку достала, питейную посуду выставила, солёные огурцы, отварную картошку выложила, хлеб из чистого полотенца выпростала, – вот и стол готов!
Своей рукой Александра озорнику гранёную рюмку доверху наполнила, себе – на донышко капнула. Подняли, стукнулись, здоровья друг другу пожелали.
Первую рюмку за себя выпили, второй – усопших помянули. Взгрустнули, захмелели старики. Да много ли им надо?.. Рассиделись, песню молодости затянули, в воспоминания ударились, – так и вечер пролетел.
Уходя, дед Аркадий не стал задевать больное бабкино место – её «смертельное» обещание.
Туда-сюда, глядишь, зима к весне вплотную скатилась. Солнце веселее, ласковее стало, в сосульных каплях бойкой искрой заиграло, музыкальной капелью в пристенных лужицах заплясало, тёплым ветром душу опахнуло, небесную синеву ввысь подняло, хмурый горизонт вдаль отодвинуло. Распевчие птицы домой возвернулись, любовью увлеклись, постройкой гнезда занялись, о потомстве захлопотали.
Вот в такой жизненный момент укараулил шебутной дед Аркашка бабку Алексашку, прижал, как бывало в молодости, у огородных прясел, – и давай всякие веские доводы к сиюминутной смерти приводить, выполнения обещания требовать.
Взорвалась пылким гневом Александра:
– Ты что, старый пень, причепился на мою голову как банный лист к одному месту?! Сам подумай, спохмельная твоя башка: осень костоломную мы перетерпели, хваткие морозы в тепле пересидели, весну-переменщицу переждём, а там опять лето-краса, голубые небеса, наступит, с лазоревыми цветочками да вкусными грибочками, разными ягодками да берёзовыми тенёчками, когда всякая неразумная тварь теплу и свету радуется, не то что живой человек! А ты заладил одно, балаболка неугомонная: «Помирай да помирай!..» Отпусти, охальник, пока люди не увидели, не то тресну клюкой по лысой макушке – самого вперёд ногами понесут!..
– Ну, ты и в старости такая же резинщица да обманщица, Лександра! – опешил от женского упрямства Аркадий. – А если я прямо счас на кладбище схожу и твоему Егорке доложу, как ты от свидания с ним отлыниваешь? Уж муж-то тебе на том свете седые кудри расчешет!.. – пригрозил он, намекая на частые семейные разборки супруга с Александрой.
– Сходи, сходи, ябедник… Давно пора бывшего собутыльника проведать. Да погоди чуток: у меня, кажись, в бутылочке маленько налито осталось. Прихватишь на кладбище. Там с ним на могилке и выпьете…
…Ну и что вы думаете: померли Алкашка с Лексашкой? И не собираются!
Бабушка Александра каждый раз смерть с весны на осень переносит, с зимы на лето откладывает, а от настырного Аркадия рюмкой водки откупается.
И так ясно: жизнь человеку один раз даётся, и если есть на неё Божье повеление и доброе настроение, она и старому не в тягость, а в радость!
Демократы
Дорогой читатель! Этот рассказ написан в прошлом веке. Но!.. Если ты русский и не обязательно плотник, то, прочитав, задумаешься…
У плотника Петра с утра болела голова.
Нет, не так, как у обычных людей от простуды или угара. И уж несравнимо с этими хлюпиками – гипертониками. В его, Петровой, голове, под всклокоченной с ночи шевелюрой, что-то трещало, скреблось, рвалось и било изнутри по кумполу, как сапогом по фанерному ящику: бум, бом, блям…
Дело в том, что вчера после получки Петро с другом, напарником по работе и соседом по квартире Ерёмой, дорвались до самопальной водки, как ясельные ребятишки до газировки…
Утром жёны с тычками и руганью вытолкали их на свежий воздух, но в домах после пребывания отцов семейств остался такой плотный дух от паров ядовитого зелья, что можно было «окосеть», не употребляя…
Поддерживая друг друга физически и морально, на работу друзья кое-как приплелись, а на большее сил не было. В голове тяжело, лениво, как ожиревшая свинья в тесном хлеву, ворочалась единственная мысль: «Чем „поправить” голову?»
Тут ещё мастер скоро должна прийти – такая зануда!.. Нет, когда рабочие трезвые – мастер как мастер, но если учует запашок!.. Будет точить, как короед, пока опилки не посыплются…
– Что делать, Петь? Соображай, – забеспокоился Ермолай.
Мимо пробегал Колька Вяткин, зубоскал и задира.
– Чего сидите, сачкуете? Или у вас демократия: хочу работаю, хочу нет? – поддел он друзей и побежал дальше.
Петра вдруг осенило. В мутных глазах мученика яркой искрой сверкнула надежда.
– Есть мысля, Ерём! Ты только поддержи, слышь?
– Какая? – трепыхнулся карасём Ерёма.
Но объяснить Петро не успел. В дальнем конце цеха показалась строительный мастер Мария Михайловна.
Это была невысокая, в меру полная женщина с приятным лицом и мягким материнским взглядом. За 15 лет работы мастером она изучила характеры рабочих не хуже, чем у собственного мужа. Большинство из них были трудолюбивы и выносливы на работе, терпеливы и неприхотливы в жизни. И когда было: «Надо срочно сделать!» – могли остаться на работе и за полночь, не требуя сверхурочных. Каждого по-своему она уважала и ценила, но пьяных терпеть не могла.
…В первые годы работы по её недогляду и женской доброте случались с рабочими травмы на производстве. И она установила нерушимое правило: перед работой обойти и перекинуться словом с каждым работником. Одно это её постоянство остерегло от выпивок многих, но ЧП всё же случались.
…Видно, так уж устроен русский человек: не получается у него жизни без «переборов»…
Подпустив мастера на безопасное расстояние, Пётр нанёс упреждающий удар.
– А где это вы, товарищ мастер, вчера с обеда до вечера пропадали? Или опять в магазин бегали, обновки примеряли?
– Что это ты, Петь? Аль не прошло со вчерашнего? – встала, оторопев, Мария Михайловна.
– Я-то ничего, а вот мы из-за Вас вчера полдня потеряли без работы. Раз у нас нынче демократия, могу я спросить: кто нам за простой платить будет?
– Не по нашей вине! – как эхо, отозвался Ермолай, поддерживая напарника.
– Пошли, Ермолай Иванович, домой, да напишем куда следует заявление. Пусть там разберутся и выведут кое-кого на чистую воду, – бил «ниже пояса», Пётр.
– Правильно, пошли! Может, и чем голову «поправить» найдём, – вырвалось заветное у бесхитростного Ермолая. Он сразу умолк и воровато оглянулся: заметил ли кто, что он проговорился?..
Но народ вокруг был свой, тёртый. Хохотали все. Мария Михайловна смеялась до слёз, приговаривая: «Ну, демократы! Ох, демократы! Ой, уморили!»
Пётр врезал другу по шее, и они обречённо сели на верстак.
Собрание провели быстро, прямо в цеху. И на нём «опохмелили» работников до полной трезвости. Пришлось им и объяснительные писать, и прощения «в последний раз» просить. Народ у нас к выпивохам участливый. Простили и в этот раз, не уволили…
Да и куда их из жизни выкинешь и кем заменишь? Не придумали мы пока чем, кроме водки, развеять однообразие жизни.
Отдыхать не умеем…
Домой после работы горе-демократы плелись понуро. Без меры выпитая за день вода переливалась и булькала в пустом желудке. Мысль хоть вяло, но начала работать в посвежевшей голове. Тянуло поговорить, высказаться.
– …Вот ведь зараза какая, водка эта проклятая, – пожаловался Ермолай Петру. – И башка с неё утром трещит, хоть о стену бейся. И дома скандал, чуть не до разводу. И на работе позор. И перед детьми стыдно, а всё равно пьём… Почему, Петь?
– Национальная традиция! И привычка, – уверенно, как отрубил, сказал Пётр.
Помолчали, а на откровения тянуло.
– Ты вот спрашиваешь: почему? А ну-ка вспомни, сколь мы её, любимой и родимой, за свою жизнь «на грудь» приняли?
– Что я, бухгалтерию вёл, бутылки записывал?
– А давай так, приблизительно, для интереса. Сколько у нас праздников в году?
– Считай: Новый год – два дня. День защитника Отечества празднуем. Ну, 8 Марта, конечно. И жёнам разрядка, а уж мы-то, точно, лыка не вяжем. Дальше – в коммунистический субботник бутылку возьмём для порядка. Вроде как Ильича помянуть. В День Победы над фашистами пьём до потери сознания… День строителя, День сельского хозяйства не пропустим. День Конституции. Тут уж по закону выпить положено, раз красная дата. Опять же, 7 ноября революция произошла великая. Как не обмыть? Два дня бухаем. – Ермолай потёр лоб, вспоминая, и добавил: – Первое мая чуть не пропустил – за солидарность два дня пьём. Ну, День печати, День радио пока водкой отмечать не принято, всухую обходимся. Сколько набралось?
– Тринадцать.
– Так. Церковные праздники: Старый Новый год, Рождество Христово, Крещение, Маслена, Пасха, Родительский день, Троица.
– Ещё семь. Всего – двадцать. Всё?
– Да ты что! А дни рождения забыл? У нас в семье, с детьми, пять. Да две сестры с мужьями приглашают, брат с женой, ну, вы два раза в год. Это постоянно, без чужих. Сколько прибавилось?
– Если по одной бутылке – тринадцать.
– Ну!.. Пузырь на нос – норма. Иначе и идти не стоит.
– Тогда тридцать три набралось. Едем дальше.
– С аванса и получки бутылку брали? Брали! Что мы, не люди? Для чего работаем? Считай!
– Двенадцать месяцев по две бутылки – двадцать четыре будет.
– Так… – захватил азарт Ермолая. – После баньки жёнка, чтоб добрей был да покрепче полюбил, чекушку возьмёт? Возьмёт! Куда денется! Еще Суворов говорил: «После баньки подштанники продай, но выпей». Полезно.
– Четыре чекушки в месяц, то есть две бутылки, да на двенадцать, получится двадцать четыре, – исправно считал Пётр. – Так?
– Как на духу!
– Тогда подобьём «бабки»: тридцать три да сорок восемь получится восемьдесят одна бутылка.
– Кабанов два раза в году режем: под свежатинку да с печёночкой водочка как по маслу идёт! А «шабашки», «бадоги» забыл? Редкая неделя без бутылки обходится.
– Чего там, все калымят! Короче: девятнадцать штук для ровного счёта за год смело набежит. Умножай: сто бутылок в среднем по сто рублей – десять тысяч в год. А сколько лет мы с тобой самостоятельно, не стесняясь, пьём? Лет двадцать. Как из армии пришли, так?
– Та-ак… – что-то затормозило речь у Ермолая. – Так ты что, хочешь сказать, что я за свою рабочую жизнь двести тыщ пропил? Чуть ли не легковушку через горло пропустил?!!
– Ну, может, не двести. Раньше водка дешевле была.
– Ты не юли! Раньше и машины дешевле были! – всё больше распалялся Ермолай. – Да ты знаешь, что я при жизни на одежде себе и детям экономлю?! Хозяйство содержу, отдыха не зная, чтобы концы с концами сводить, а ты по двести тысяч на водку?! Да я тебе сейчас, гад, как врежу! – И, схватив напарника за грудки, он уже размахнулся своим узловатым кулаком, но Пётр оттолкнул его и с усмешкой сказал, как водой окатил:
– Я то тут при чём? Насильно тебе в рот заливал? Или не вместе пили?
– Фу!.. И то правда… – И, помолчав, Ермолай жалобно продолжил: – Но ты представь: двести тысяч на водку! Ну где справедливость? А?
– Ладно, не скули.
– …А я как-то и не задумывался раньше: все пьют – и я пью. Но чтобы двести тысяч на одну водку?! Нет! Я её теперь, отраву проклятую, змеюку зеленую, и в рот не возьму! Да пропади она пропадом! Сгори она синим огнём!
Тут навстречу друзьям показалась спешащая куда-то их вдовая соседка, тётка Варвара. Увидев мужчин, она сделала несчастное лицо и с ходу запричитала:
– Здравствуйте, соседушки! Здравствуйте, родимые! Еле поспела вас перевстречь. Беда у меня – хоть караул кричи! И вечно на бедную вдову все шишки сыпятся… – взялась она за кончик платка, готовая пустить сиротскую слезу.
– Что стряслось-то? – недовольно спросил Ермолай.
– Да боров у меня, зверь проклятущий, всё корыто в щепки разнёс! Кидается на меня, как тигра. Пробовала с ведра кормить, так он, изверг, за руки норовит схватить! За подол поймал, охальник, – еле отбилась! – заголосила она. – Вы уж ему, паразиту, сделайте новое корыто. Я и бутылочку на всякий случай припасла… – многозначительно закончила она.
Мужики стояли, не зная, что и ответить бабе…
…Конечно, двести тысяч на водку – жалко. И очень это обидно. И голову с неё, проклятущей, будет ломить. И жёнка опять на полу у двери спать положит. Но, с другой стороны, и вдову выручить надо! С пятипудовым боровом шутки плохи – покалечить может. Ну а бутылка… Так они ж не просили – сама купила! Не пропадать же добру…
– Ты вот что, Варюха: шуруй домой и, это, ну, к ней, к бутылке, закусон сваргань. Со вчерашнего дня во рту маковой росинки не было. И бабам нашим, смотри, ни гугу, сечёшь?
– Что я? Из Америки, что ли? Порядков не знаю? – обрадовалась Варвара и засеменила домой – закуску готовить.
А мужчины скорым шагом поспешили назад, в столярный цех, – корыто делать. Сторож не возражал, так как «магарыч» часто распивали вместе…
Да… С давних пор укоренился на Руси обычай расплачиваться за работу водкой и напиваться в праздники. А вот на вопрос: «Чем это закончится для русской нации?» – кто ответит?..
Конец предка. Фрагмент недописанного рассказа
…Каждый день с утра небо начинало светлеть и даже проглядывало солнце, но откуда-то сползались серые тёмные тучи и затягивали горизонт сплошь, без просвета и щелочки.
В серых сумерках не различить сторон света, не угадать, где ясное солнышко взойдёт и куда закатится…
Деду в такие дни всегда нездоровилось. Давила грудь духота, угнетали мрак и сырость. Раздражало всё: торопливость почтальона, принёсшего скудную пенсию, лай собаки, дуреющей на цепи, бесконечные хлопоты старухи-жены по дому.
Тянуло лечь, закрыть глаза и забыться от ставшей такой пустой и никчемной жизни.
Но тут заглянули в гости сын со снохой и с их двухлетним сынишкой.
…Любил дед внука – весёлого, шустрого и вёрткого. Только этот большеглазый, тонкорукий, топочущий, лопочущий комочек из родительской любви и природной энергии и связывал старика с жизнью. В душе теплилась надежда: может, ему будет чаще светить и греть настоящее, неложное солнце жизни?..
Дед не стеснял ребёнка в играх – пусть резвится вволю. Но сегодня мальчишка был особенно непоседлив. Ловким кутёнком карабкался он на диван и кресло, прятался под кровать и в шкаф, играя с дедом в прятки.
Дед устал и не успевал за неугомонным шалуном, а тот со стула взобрался на подоконник и начал подниматься на ноги, чтобы спрятаться за занавеску.
– Ох, упадёт!.. – кольнула деда запоздалая тревога и кинула к внуку. Но ручки озорника уже сорвались с гладких брусков оконной рамы, и он упал навзничь на пол. Кудрявая головка на тонкой шейке гулко стукнулась о крашеные доски пола. Глаза ребёнка широко раскрылись, вспыхнули искрой изумления и стали плавно закрываться. Со щёк медленно исчезала счастливая игровая улыбка, а с губ сорвался призыв: «Дедя…» – и затух недосказанным… Ручки, ножки ещё подвигались и успокоились…
…Внутренняя душевная усталость от появившейся в последние годы неуверенности, неустойчивости в жизни, невольные опасения за судьбу родных и близких, ожидание возможных бед и напастей воспроизвели в мозгу и выдали в подготовленное сознание деда смерть внука…
Этот факт, чувство ударили деда изнутри в изношенное сердце острой нестерпимой болью. Он понял: «Конец и мне…»
Дневной свет как-то сразу, мгновенно, без плавного угасания, сменился в его глазах полной темнотой. Будто он неожиданно провалился в глубокую, как колодец, яму.
Темнота была абсолютно чёрной, плотной, вязкой и всеохватной.
Абсолютной была и тишина. Никакого пространственного движения, предметного шевеления, звёздного мерцания не наблюдалось.
И в то же время это не был леденящий душу могильный мрак, парализующий волю гробовой теснотой и холодом.
Беспросветная темнота созерцалась и воспринималась со спокойным, отстранённым интересом. Состояния страха, подавленности не возникло.
Было интуитивное осязание присутствия живой… массы. Он был плотно окружен ЕЮ, почти зажат, но не растворился бесследно, хотя физически и не чувствовал своего тела.
Перемещение из осмысляемого Светового пространства в Темное свершилось безболезненно. Будто КТО-ТО решил показать уходящему в мир иной, что оснований для страха нет.
Абсолютная темнота и тищина – это не мёртвая ледяная пустыня, а хранилище живой, резервной материи, находящейся в состоянии вечного покоя, и среди неё достаточно места для каждого входящего…
Безусловно, это был милосердный жест Творца с целью успокоить улетающую из бренного тела душу верой в Мир, Покой и Вечность…
Присутствие в мире ином длилось столь краткий миг, что оставленное без управления тело не упало, а лишь качнулось. Замершее было сердце вновь толкнуло кровь, и сознание вернулось к старику.
Дед осторожно поднял лёгонькое тельце ребёнка, и оно обвисло на руках, мягкое и безвольное. В нём не было всегдашнего сопротивления и неуёмной непоседливости.
Ротик с бледно-розовыми губками был приоткрыт, и виднелись белые, мелкой пилкой, зубки. Лицо – спокойное и безмятежное, как в крепком сне.
Нежно прижав к себе внучонка, дед медленно пошёл к людям.
Сын, сноха и бабка сидели на кухне вокруг какого-то незнакомца.
Они ему что-то рассказывали, смеялись.
Дед усилием воли и мышц старался не опустить рук, не выронить дорогой ноши. От перенапряжения и душевного волнения горло перехватило, голос пропал. Умирающий старик пытался крикнуть: «Ну что же вы! Оглянитесь!» И не мог. В его голове появлялись и тут же исчезали разные мысли: «Снохе нельзя волноваться… У бабки больное сердце… Похоронят вместе или врозь?» Мелькнула и такая: «Наверное, они сейчас закричат, отнимут внука, оттолкнут…»
От последних неимоверных усилий устоять лицо его исказилось гримасой боли, а мысли всё возникали и исчезали, будто клубы холодного пара над зимней прорубью. «У молодых может родиться ещё мальчик, и ты его опять полюбишь…» – это подсказывал инстинкт самосохранения. Но разум отвергал подобную мысль как невозможную: «Я стар, я устал, я не смогу забыть этого…»
Тем временем сердце в груди сделало отчаянный толчок, и речь вернулась к деду. Он тронул сына коленом и ясно, отчётливо произнес: «Вызови врача и милицию. Я не усмотрел внука…»
Сын, увидев перекосившееся лицо отца, безжизненное тело мальчика, вскочил.
…Старик оседал вниз медленно, будто нехотя. Тяжесть тела давила на слабеющие ноги, и они, выворачиваясь в суставах, подламывались.
Туловище клонилось назад, но стремление не ушибить внука ещё удерживало его в вертикальном положении…
Сын выхватил ребёнка, а удержать отца от падения не успел. Тело старика спиной коснулось пола, и тяжёлая голова глухо бухнула о доски. Длинные руки с изуродованными работой пальцами откинулись от туловища, будто чужие.
На лице ещё сохранялась гримаса последнего усилия, но мышцы расслабились, и жизнь вышла из него легко и свободно, как воздух из порванной детской игрушки…
Ребёнок от рывка очнулся, взялся ручонками за ушибленную голову и заплакал…
…Дед вытянулся в гробу удобно и естественно, словно отдыхал после работы. Предсмертные морщины разгладились.
На лице появилось и застыло обычное для спокойно спящего человека выражение…
Внук тянулся к деду. Его не пускали.
– Дедя бай-бай? – приставал он к плачущей бабке.
– Бай-бай, внучек… Теперь совсем бай-бай… – шептала она трясущимися губами…
Большая группа провожающих, молча роняя слёзы, смотрела на опускаемый в яму гроб. Громко, навзрыд, не стыдясь и не прячась, плакала незнакомая родственникам женщина в кружевной чёрной шали.
Угрюмо, сосредоточенно работали лопатами мужчины, засыпая могилу.
Комья земли вначале гулко стучали о крышку гроба, затем начали падать мягко и беззвучно, быстро наполняя яму.
На верхушке сухого дерева, недалеко от свежей могилы, хрипло, надсадно каркали вороны, ожидая остатки еды от поминок.
В ветвях старой сосны резвились молодые рыженькие белочки.
Зверьки не опасались близости людей, играя в догонялки.
Ребёнок увидел их и засмеялся…
Год 1998-й, дефолтный…
На Пасху у полоя
Вот и снова весна пришла!
Дел по хозяйству полно, но сегодня праздник – Пасха, работать грех.
– Пошли на реку, к полою, – предлагаю жене.
И мы пошли.
Денёк Господь послал – чудо! Солнце молодое, прилипчивое. На лесных полянках снега совсем нет, зато в глубине, в тени, – по колено.
На тёплышке крапива, щавель проклюнулись. Ольха серёжками хвалится.
Берёза слезой-соком плачется. А ручьи-то, ручьи! Ожили, бурлят, клокочут от радости!
На малых речках паводок идёт, а судоходная Вычегда ещё стоит, сил набирается.
Возле сосен, на выбеленной морозной зимой траве, чисто, сухо, тепло. Как в доме у хорошей хозяйки.
Присели на поваленную сушину – зайца из-под вершины выпугнули!
Он – смешной, линючий, пух висит клочьями – дал такого прыгача вдоль просеки, что мы за животы схватились от смеха.
Пригрелся, заспался ночной гуляка на щедром солнышке.
Посидели на тёплой лесине, ногами поболтали…
Бабочки мимо летают – и всё жёлтые.
Красную лишь одну видели. Встали – дальше пошли. Пришли к полою, а там!..
…Кулик с куличихою закатали штанишки под мышки, бегают босиком по лужам и озорно хохочут от счастья!..
Нарядный селезень со смущённой крякухой нехотя поднялись из прошлогодней осоки.
Кружат низко над нами и возмущённым кряком выговаривают:
– Ну что бродите, всем мешаете?!..
– Ладно, ладно! Не сердитесь, уйдём. Любитесь на здоровье.
Хозяин тайги, комар-кровопийца, тоже очнулся. Но не поёт, не кусает – свадьбы справляет, к лету готовится…
Подошли к мосту через речку Яренгу.
Постояли, камешки в воду покидали, – хорошо булькает!..
Отдохнули, развеялись, весной подышали – сразу и на душе светлее стало.
…Спасибо тебе, мудрость народная – вера православная, что, любя, принуждаешь и от суеты мирской хоть на день отринуться, и на чудеса земли родной поглядеть, и сил после зимы набраться!
Архангельская область
Библиография Вячеслава Чиркина
Книги для детей
Лапка. – С-П.: Изд. «UT», 1996 г.
Сладкоежка и Дымовой. – С-П.: Изд. «UT», 1997 г.
Поросенок Борька. – М.: Изд. «Дрофа», 2001 г.
В гостях у дедушки в деревне. – М.: Изд. «Дрофа», 2002 г.
Хока. – М.: Изд. «Дрофа», 2002 г.
Сладкоежка и баба Яга. Пьеса. – Котлас, 2002.
Хитрые загадки. – Котлас, 2007 г.
Теплые облака. – Котлас, 2007 г.
Живые загадки. – Котлас, 2008 г.
Брыкадил. – Котлас, 2008 г.
Размороженные воробьи. – Котлас, 2009 г.
Чудеса во дворе. – Котлас, 2011 г.
Тошка, собачкин сын. – М.: Издательский дом «Сказочная дорога», 2011 г.
Зимний лес. – М.: Издательский дом «Сказочная дорога», 2015 г.
Книги для взрослых
Третья молодость. – С-П.: Изд. «UT», 1996 г.
По злой воле. – Архангельск: Изд. «Правда Севера», 2007 г.
По жизни с шуткой и всерьез. – Архангельск: Изд. «Правда Севера», 2012 г.




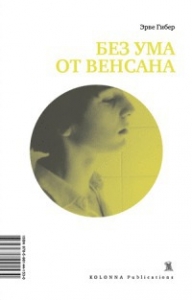


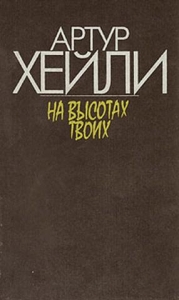



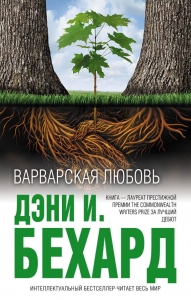
Комментарии к книге «Северные были (сборник)», Вячеслав Павлович Чиркин
Всего 0 комментариев