Елена Крюкова Ярмарка
© 2012 Елена Крюкова.
* * *
Отверженным моей Родины
Глава первая
«А которой человекъ купитъ какова нибудь товару болши своихъ товарныхъ денегъ, и съ того товару имать по тому жъ, съ рубля по алтыну. А которые люди привезутъ хлебъ продавати, и съ техъ людей имати за меру хлеба съ московские четверти по денге, а имати померное съ продавца, а съ купца не имати, и мерити всякой хлебъ въ припускные въ печатные меры.»
Царский указ властям Макарьева от 19 сентября 1627 года от Рождества Христова30000 раз в день я закрываю глаза… Я ОТКРЫВАЮ ГЛАЗА…
САМЫЕ СТОЙКИЕ В МИРЕ ТЕНИ ДЛЯ ВЕК «АГЛАЯ» –
в модных бутиках АГЛАИ СТАДНЮК!
Забудь катышки, неровности, противные комочки!
Ультрашелковистые – суперстойкие – великолепные цвета
отлично подыгрывают твоему НАСТРОЕНИЮ!
АГЛАЯ СТАДНЮК улыбается только ТЕБЕ:
WOW! Мои ШИКАРНЫЕ тени со мной ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ!
1
Лом. Взять в руку. Лег в ладонь. Так. Как ледяно, мертво холодит кожу.
Сегодня минус двадцать. Стекла оконные все морозным мхом обросли.
Минус двадцать ночью, а вчера все таяло, плыло, ползло. Сегодня – лед.
Лед, это значит – лом. Вот он, в руке.
Лопата. Вот она и лопата. Жесть снизу оторвалась… надо подбить гвоздями. Хорошая лопата, деревянная, широкая. «Шире, чем мой зад. Лопата – тоже баба».
Еще – метла. Хвостатая, дрянная ведьма. Пруты выпадают, как волосы. Она тоже старая, метла, как ты. Старая ведьма. Может, ее сегодня не брать? Ведь снега ночью не было. Пес с ней. Не возьму.
Мария швырнула метлу в угол.
Разжала ладонь – осторожно лом к стене приставила.
Из комнаты, где ютился сын, серыми усами из-под двери выползал табачный дым. И свет пробивался. Но было тихо. Не говорили. Не бормотали. Не кричали. Значит, гостей не привел.
«Может, уснул со светом, не выключил. И с сигаретой. Плохо дело. Ведь уже не раз одеяло подпаливал. Пожар рядом с нами ходит. Всегда огонь рядом».
Шесть утра. Зима. Ночь. Все спят. Народ спит. Врешь, не все. Полно народу на работу встает, в автобусах, в вагонах метро, в трамваях, в электричках уже трясется. На работу спешит. Каждый к своему станку. Вот и она идет – в ночь, в мороз – к своему.
А что у нее за станок такой? А ее станок – ночная улица, скользь, снег, черный лед, и она будет его ломом колоть, высоко лом заносить, беспощадно ударять.
Со льдом и снегом бороться. Уничтожать его. Убивать.
Во имя чего?
А чтобы народец наш хорошо, ловко по земле ходил, не скользил, не падал. Еще и песочком посыплет. В ведре у нее давно заготовлен. Крупный, серый песок; сама с Волги таскала. А больше некому было. Своих мужиков, да и сына, попросить стеснялась: ведь они такие занятые все время были.
Ну, давай, Машка, жми, дави. Одевайся-обувайся. Не жмурься сонно. Представь, что ты в армии.
«Эх, а и правда, давай-ка представлю. Что делают солдаты? Портки, рубахи пялят. Черт! Засыпаю. Вода ледяная, вот оно! Сейчас проснусь!»
Мария рванула дверь ванной. У них с сыном была такая комната, бывшая кладовка; там стояла старинная, на чугунных львиных лапах, отменная, гладкая и белая внутри, как слоновая кость, ванна, живущая здесь, в этом старом каменном доме, с незапамятных, может быть, с царских времен. Над ванной нависала широкая полка, там стояли доски, рейки, лежали рулоны старой бумаги и старого брезента, сумки, допотопные, никому не нужные вещи – папки, арифмометры, пишущие машинки, старые игрушки. Полка осталась от прежних жителей, и Мария сначала хотела повыбросить все барахло, а потом – пожалела.
На гвоздях, грубо вбитых в стену, висели старые вытертые шубы, побитые молью пальто, куртки и дождевики.
В кладовке еще стоял старый, похожий на корявую кастрюлю унитаз, – Мария называла его: «горшок», – и старая, тоже наследство прежних жильцов, стиральная машина. Мария ею никогда не пользовалась – стирала руками.
«Водичка, водичечка, ух, холодненькая, сейчас, сейчас».
Опустила шланг в ведро. Набрала полное, с краями. Скинула, чуть не порвала, ночную сорочку. Голая встала в ванну. Присела. С трудом, с натугой подняла ведро. «Только бы не заорать. Вдруг Петя крепко заснул. Разбужу, напугаю».
Опрокинула ведро над собой, над согнутой колесом шеей, над затылком.
– А-а-а-а-а-ах-х-х-х…
Вода шумно, оглушительно лилась с нее плотной серебряной стеной. Мария света не взвидела. Задохнулась.
Выпрямилась. Осторожно, боком, как краб, вылезла из ванны.
Поглядела на себя в старое, с вытертой амальгамой, маленькое зеркало: ух, гляди-ка, все тело покраснело. Вот так тебя, так, лентяйка. Чтобы дух из тебя весь вышел.
Схватила полотенце, стала растираться. Вытерлась досуха. Сон ушел – сна как не бывало.
Довольная придумкой, пошла в кухню. Кухня, смех один. Еще одна кладовочка, даже поменьше, чем ванная. Под потолком – лампа, обернутая полосками жести, такой смешной самодельный абажур, похожий на птичью клетку. «Все мы в клетке… все». У стены – дачная газовая плита на две конфорки, резиновый шланг к газовой трубе Петр сам подсоединил. Плиту им подарили. У них все денег не было купить плиту, все проедали. Она все смеялась: к лету купим! Потом: к зиме! Приходили и проходили и зима, и лето, и осень. Ничего не менялось в их жилище.
Мария, оглядевшись, стоя посреди кухоньки в ночной длинной рубашке, зажгла синий венчик газа, поставила на огонь медный прокопченный чайник. И к неизменной утвари своей она тоже привыкла. Раньше, годы назад, покупала посуду, еще деньги водились. Это когда муж у нее был, Игнат. С мужем было хорошо… спокойно. «За-му-жем. Правду говорят: за мужем – за его спиной, за грудью его… За-щи-ще-на. А теперь – беззащитна. На ветру».
Чайник зашумел. «Одевайся, дурында, время-то не идет, а бежит».
Она влезла в длинные теплые колготки. Морщась, извернувшись вся нелепо, застегнула лифчик. «У, узкий стал, собака. В грудях раздалась. И вроде не жру ничего, а толстею. Старость близко». Одевалась быстро, сосредоточенно. Грубо, зло одевалась. Будто на пожар опаздывала. Свитер натянула – жесткий, колючий, овечий, прямо на голое тело, чтобы тепло было. Она не любила этих бабьих рубашечек с кружевами: ах-ах, какое изящество, сю-сю! «Сю-сю, твою мать. Давай скорей. Чайник-то уже парит».
Раз – швырнуть пакетик с заваркой в чашку. Два – плеснуть кипятка. Три – где штаны рабочие, вот они. Она туго стянула, застегнула ремень. «Вот я и сама себе мужик». Открыла холодильник маленький, вынула каравай ржаного, банку с маслом, банку с мойвой. «Ах, рыбочки мои, рыбочки, маленькие. Человечек вас сейчас съест».
Она ела мойву с черным хлебом, прихлебывала обжигающий чай, представляла себя кошкой: мяу, мяу. Лезет же какая чушь в голову.
Утерев рот рукой, шагнула к батарее. Сняла с батареи валенки, влезла ногами в их серые раструбы. А-а, вот ей и тепло. И сыта. И сын дома, спит. И сейчас часа за два она с гололедом этим поганым – управится. Ну разве не счастлива она?!
Рукавицы. Хорошие голицы, теплый мех. Руки как в огне в них. Не обманула старуха на рынке.
Дверь подъезда грохнула за ней старинным пушечным выстрелом.
По черному, зеркальному льду, в подбитых кожей валенках, едва не падая, ухватываясь руками то за ветки кустов в газонах, то за воздух, втыкая лом в лед, как лыжную палку, Мария шла на свой участок – тот, что она сегодня утром должна была почистить и привести в порядок.
Сегодня утром. И каждое утро.
Черно-синее, как синий деготь, страшное ночное небо замигало в нее всеми россыпями предрассветных звезд, диких, безмерно далеких, ледяных. Ледяные иглы, и входят под сердце. Мороз захлестнул ей начатый вдох, и Мария остановилась, передыхая. Сердце дало перебой: раз-два, а дальше сказало только: раз. И замолчало. Она старалась дышать ровно, осторожно. Биение внутри восстановилось. Ага, пошла машина. Вперед.
Почему, когда она смотрела на звезду, тоска серой петлей стягивала ей горло? По чему она тосковала? По этому свету, что за ней в ее смерть никогда не уйдет?
Раньше, в детстве, она любила звезды. Учебник астрономии читала, как сказку. В театральный бинокль на них из окна часами смотрела. И такая же, точно такая тоска сдавливала грудь, глотку. Отчего?
Потом тоска ушла вглубь, отпустила. На много лет – пока Мария выучивалась, жила с мужем, рожала детей. Пока она работала в школе, сама учила ребят. Некогда тосковать было. Уйдешь в школу к восьми утра – и притащишься домой в девять вечера, еле-еле, кляча. А утром, до работы, еще надо встать и приготовить обед, чтобы муж и дети накормлены были, на нее не ворчали.
Она снова посмотрела на звезду. Звезда, звезда, а я знаю, как тебя зовут. Ты – Марс. Красный Марс. Звезда войны ты, вот ты кто.
Слезы на морозе вытекли сразу из обоих ее глаз. Покатились по щекам.
«Вы там, на звездах. Игнат. Андрюшенька. Вам там хорошо. А мы вот здесь… страдаем».
Она подняла лом, размахнулась и изо всей силы всадила, как копье в бок зверя, в покрытый черной толстой коркой тротуар.
Искры льда разлетелись во все стороны, попали ей в лицо, в глаза, она успела зажмуриться. Острые, хуже стекла.
И опять подняла лом. И снова ударила.
И пошла, пошла ударять, долбить, бить. Бей, бей ломом лед, старая баба, бей. Забей свою тоску. Забей свою память. Она ведь у тебя еще живая.
Муж Марии погиб на пожаре. Глупо, бесславно и героически. Шел мимо, дом горел, полыхал – пожарники матерились, огонь пеной заливали – а из окна первого этажа – вдруг – ребячий крик. Игнат и бросился. Думал – успеет, выпрыгнет. Девчонку из окна выбросил пожарникам, они поймали, а на самого балка горящая упала, придавила. Вытащили его, но не спасли. Задохнулся.
Бей, бей ломом, вот так, еще размахнись. Еще ударь.
Старшего сына машина задавила. После выпускного вечера, когда, счастливый, он и танцевал в первый раз, и с девушкой поцеловался в первый раз, и в первый раз шампанское пил. Все – впервые. И смерть у него была тоже – в первый раз.
Пьяные богатые ребята на «мерседесе» мчались, сшибли Андрея, как кеглю. Головой об асфальт пацан ударился. Врачи сказали – умер мгновенно. Не мучился.
А потом, после Андрюши, и маму Мария похоронила. Мама ее от горя сгасла, как тонкая церковная свеча.
И так они остались жить на свете с Петей. Мария – и Петя. Мать – и сын.
В их куцей семье, значит, была баба, был и мужик. Все было правильно.
Мария бросила лом на дорогу. Взяла лопату. Прошмыгивали первые, редкие машины. Автобусы ползли по скользой дороге, еще пустые. Нет, кто-то уже в них, нахохлившись, сидел, ранние пташки.
Мария загребла наколотое в лопату, приподняла, с хаком, как мужик, тяжело отбросила крошево льда и снега в придорожный сугроб. Ей уже становилось жарко. Она сбросила на тротуар куртку, осталась в свитере.
В этом старом свитере она выходила замуж. Расписывалась с Игнатом. Как давно это было! Далеко отсюда. В заснеженном сибирском городке. Белого платья у нее не было, но к волосам, тогда еще густым, Мария белый бумажный цветок прицепила.
В грубой овечьей шерсти свитера еще там и сям попадались сухие цветы, опилки, даже мертвые пчелы.
Она все сделала. Закончила, когда уже рассвет залил бело-зеленой жиденькой пахтой улицы, переулки, старые дворы. Приволокла лом и лопату домой. Хорошо, у них цокольный этаж, даже полуподвал, немного в земле сидит, как в могиле, их камора. Далеко волочь инструменты не надо.
Стала ключом в замке ковырять – ан нет, изнутри закрыто. Позвонила.
– Сынок, открой!
Шлеп-шлеп – шаги по коридору.
– Мама, это ты?
– Да!
Дверь нараспашку. Дыма табачного полна прихожая. У мальчонки раскосые, веселые глаза. Хитрые. А щеки бледные: не выспался. В прогале его комнаты – бараньи завитки дыма, тусклые призраки рюмок и окурков на столе, перевернутые стулья, скомканная бумага валяется под ногами. Так, ясно. Пил-курил-писал.
– У тебя гости? Так рано?
– Уже не рано, мама. Уже восемь. Гости не у меня, а вроде как у тебя. – Смешок сына резанул ее лезвием по уху. – На кухне найдешь.
Мария стащила рукавицы, скинула валенки, босиком прошлепала в кухню.
Да, он сидел здесь, на колченогом табурете, что вот-вот упадет, подкосятся кривые слабые ножки.
Это был и правда ее гость.
– Доброе утро, Маша.
– Доброе утро, Степа.
Кровь как под напором бросилась ей в щеки, и без того красные, потные.
Он загасил окурок в блюдце, вместо пепельницы.
«Как и не расставались. Но ведь пришел – и уйдет. Намек такой: давненько, мол, у меня не была. Приходи, значит. Приходи, уберись, сготовь, постирай».
Степан погладил ладонью бритую, лысую голову. Розовая кожа на голове слегка поблескивала, будто намазанная маслом. Такими лысыми бывают только младенчики. Что-то нежное, младенческое было в нем, несмотря на могучие плечи, твердые губы, прямой, буравящий светлый взгляд. У него были такие глаза, как бусины горного хрусталя у нее на шее на тонкой нитке – если бы он подарил ей эту низку на день рожденья!
Но подарил не он.
Другой.
– Есть будешь?
– А что есть?
– Привереда. – Мария улыбнулась. Он взял ее руку, слегка пожал. «Хочет, – подумала она. – Соскучился. И я, может быть, соскучилась. И что нашел в старой бабе?» – Все есть. Что надо. Каша овсяная. Картошечка вчерашняя. Хлеб, масло… мойва, очень жирная, отличная. Чай. И даже кофе есть. Молотый. Немного осталось, тебе хватит. Заварю?
Он потянул ее к себе, усадил на колени.
– Машка…
Руками груди нашел. Голову на ее шею положил. И так замер.
– Ну, ну… Пусти… Петька войдет…
Он вытолкнул ее с колен со вздохом, будто в воду столкнул: плыви.
Мария разогрела кашу, щедро наложила Степану в тарелку, масла кинула, вытряхнула из банки остатки кофе, залила кипятком; села, смотрела, как он ест. Баба всегда жадно смотрит, как мужик ест. Это природа так положила. Бог так положил.
Бог?.. Где Он, Бог…
– А ты? – спросил он с набитым ртом.
– Не хочу. Завтракала. Я уж наработалась.
– Какие эти штаны твои… – Он жевал, глотал, причмокивал вкусно, улыбался, большой, здоровый, крепкий, радостный, счастливый. – Забавные…
– Сейчас сниму. Сейчас стану женщиной.
Он ел, а она переодевалась – за ветхой желтой бязевой занавеской. Всовывала ноги в туфли. Узлом завязывала пояс широкой, как подрясник, черной юбки. «Вот ведь, целый век уже хожу в этой черной, траурной вытертой юбке. Не снимаю. Что это? Лень пойти, купить? Деньги на жизнь экономлю? Я сына должна кормить. И еще… этих…»
Не додумала. Взбила волосы руками. Еще густые, разбросаны вокруг головы, как у опричника, еще темные, хотя уже посоленные временем. «Меня тоже время приготовило, как блюдо. Посолило, поперчило. Ешь не хочу».
Вышла к нему.
– Ух ты, ах ты! Все мы космонавты… Красотка моя кабаре…
– Какого кабаре… погорелого театра…
Улыбалась. Стояла перед ним.
Он встал, утер рот рукой, улыбался тоже. Белые, молодые зубы блестели.
Вдруг на руки ее – как схватит!
И куда-то в живот, уже огрузлый, целует, целует…
– Ну все, все… – Довольный, что сдюжил, опустил на пол. – Я ведь что так рано пришел. Я сейчас с Петькой делами займусь.
У Марии стало холодно, ледяно сердцу.
– Знаю я ваши дела.
– Знаешь – и помалкивай. Все очень серьезно, Маша. Честно. Если не мы, то кто же?
Она наклонила голову низко, низко. Видела свои мозолистые пальцы, руки в замысловатых рисунках синих вен, лежащие на черном старом бархате юбки.
– Я все понимаю…
Он шагнул к двери. Вытащил из кармана черной рубахи пачку дешевых сигарет. Зубами одну вытащил.
– Я буду у… себя. Сегодня придешь?
Он уже повернулся, шел прочь, не ждал ответа, когда она расклеила губы и сказала тихо ему в спину:
– Приду.
А кто она была такая? Да никто. «Я никто», – так и говорила она себе. Человек всегда хочет быть кем-то. А она вот не хотела. Она и учительницей не особенно хотела быть. Так, в школе из-под палки отучилась, школа ей каторгой казалась, скопищем бестолковых знаний и грубых, вечно орущих педагогов; мамочка ее упросила в педагогический сдать. Ну, сдала. Стала на занятия ходить. Втянулась. С жадностью книжки читала. Литература раскрылась перед ней огромной, жадной черной, искристой, как ночное небо, воронкой. Все сияло! Слова летели и шелестели! Мысли сверкали, переливались, как перламутр в перловице! Она училась на учителя литературы, она представляла себя перед классом, как она читает детям Лермонтова, Тютчева, и сладко замирало сердце.
Школа оказалась совсем не пирожком с повидлом в школьном буфете.
Она обернула к Марии лицо госстандарта, квадратные рожи тупых директрис-солдафонок, мерзкие сплетни в учительской, оскорбления инспекторов. Мария попробовала работу на вкус – и тут же сломала зуб.
После того, как она прочитала всему классу никогда не стоявшего в школьной программе, смелого и опасно умного писателя, ее вызвали в районный отдел народного образования. И били ее там словами, исхлестали всю. Она ушла оттуда вся красная, как оплеванная. Дома долго плакала. «Значит, из них… из них кто-то донес!» – билась она на груди у мужа. «Ты поумнеть должна после этого», – тяжело, скупо изронил муж – и замолчал.
И она поумнела.
Она барабанила детям все по учебнику. Никакой отсебятины. Никакой жизни. Выучить от сих до сих. Этот образ – близок к народу, этот образ – далек от народа. Она чувствовала себя на уроке, будто бы ее пустым стаканом накрыли. И она говорит, а – беззвучно, голоса не слыхать. Она стала училкой параграфов. Училкой одинаковых, как яйца из инкубатора, сочинений. Она сама писала такие сочинения, заказные, противно-гладкие, втихаря продавала их из-под полы родителям – для контрольных, дипломов, выпускных работ. Она научилась торговать штампом. И успешно, тихо торговала им. Это было лучше, чем торговать валенками с грузовиков. Муж зарабатывал, она зарабатывала. Жили хорошо.
В школе, где Мария трудилась, после уроков главный бухгалтер, разбитная крашеная бабенка с алмазиками в ушах, собирала компанию, у себя в кабинете, украшенном бездарным портретом президента; выпивали, закусывали. Мария приучилась выпивать. Это ей понравилось.
Нет, она не спилась. Она еще держала себя в руках.
Но уже могла выпить хорошо, крепко, как мужик.
Ей казалось – она домой идет, не шатается. Но она шаталась.
Идет, поземка, алмазный снег, трамваев нет, последний ушел, баба домой ползет, крепко подвыпила, погуляла, и завтра рано вставать.
Всегда, всегда рано вставать.
Воскресенья тоже не было. В воскресенье она работала – проверяла тетради.
И еще, для денег, устроилась дворником в их районе.
А потом погиб Игнат. А потом погиб Андрюшенька. А потом умерла мама.
А потом она ушла из школы.
И у нее остались только лом, метла и лопата.
2
Мария открыла дверь квартиры Степана своим ключом.
Вошла. Степана нет. Хламу! Что делать сразу? Убираться.
Щетка плясала в ее руках. Тряпку она держала, как щуку за жабры.
Грохот стоял в квартире от ее уборки.
Наконец она закончила потеть и пыхтеть, бросила тряпку, вымыла грязное ведро.
Комната, прихожая и кухня дышали влагой. Хотя бы пыль убила.
Она успела помыть руки и умыться, когда в замке затрещал ключ.
– Степушка!
– Ну вот, – выдохнул он, обнимая ее крепко, – во-о-о-от… Уже успела…
– Да, успела, – гордо сказала Мария. – А вот обед – не успела.
– Хрен с ним, с обедом.
– Нет, не хрен. Я сейчас! Ты пока…
Она поцеловала его, смущаясь. Каждый раз она смущалась его молодости. «Малолетнего совратила», – думала о себе то ли с отвращением, то ли с гордостью. Он оторвался от нее, розовый от удовольствия.
«А может, просто по улице шел, разрумянился».
Под ее руками из ее сумки появлялась еда, летали крышки кастрюль и сковородок. Запахло жареной картошкой, потом жареным мясом.
– Мужик должен мясом питаться! – крикнула Мария из кухни.
Степан встал на пороге кухни, поедал Марию веселыми глазами.
– А баба чем?
– Лепестками роз! – Мария смеялась во весь рот.
Масло брызгало во все стороны со сковородки.
– Уменьши огонь, сожжешь, – сказал Степан, шагнул к плите и выключил газ.
Его руки сошлись в крепкое, железное кольцо у нее на спине, под лопатками.
К кровати он нес ее на руках.
– Ты надорвешься, – шептала Мария.
– Ну, надорвусь.
Опустив ее на кровать, нависнув над ней, он глядел на нее сверху вниз.
Что он нашел в этой женщине, еще не старухе, но уже похоронившей яркую и свежую молодость, в этой огрузлой бабе, соседней дворничихе?
То, чего у него не было ни с кем и никогда.
Это была его тайна, и только его.
И она была, может, отнюдь не тайной их праздничных, ярких и жадных объятий.
У него были женщины, и много женщин. Иные были лучше, забавнее и изощреннее Марии в постели.
Но она…
Степан глядел на Марию сверху вниз, и она потрогала кончиками пальцев его счастливую улыбку.
– Я счастлив с тобой, – сказал он.
Мария закинула шею, он поцеловал ее в шею – и стал поочередно целовать под грубой шерстяной кофтой ее ключицы, ее грудь, ее живот. Она оттолкнула его голову руками и засмеялась. Ее одежду они снимали вместе, и, когда Мария осталась голой, беззащитной, она шепнула Степану на ухо:
– Ты выключил мясо?
И он обнял ее так сильно, так нежно, как только мог. Вклеился в нее.
И ее губы за своим ухом, на шее своей, – ожогом, клеймом ощутил.
Чернила вечера вливались в квадраты окон. Они лежали, лицами вверх, с закрытыми глазами. Не спали. Слушали друг друга. Как кровь встает и опадает в них, как омывает собой их будущую смерть. А они – жили.
– Степушка… – Мария открыла глаза и осторожно спустила ноги с кровати. – Степка, там же обед… И тебе же скоро – идти…
– Идти, идти, – пробормотал он.
Встал нехотя.
Она погладила глазами его, голого.
Встала, тоже голая, рядом с ним.
Они оба отражались в зеркале.
– Мы же с тобой не пара, – печально сказала она.
– Не пара, – откликнулся он. – Не в этом дело.
Одевались, отвернувшись друг от друга.
Потом пошли на кухню, Мария расставила на столе тарелки-чашки, поставила на огонь чайник, и они ели холодное мясо с холодной картошкой и пили горячий чай.
– Все у тебя хорошо? – спросила Мария.
Беспокойство он причинял ей, и всегда она волновалась за него. Как за сына.
Беспечная улыбка покривила губы Степана. Он сиял здоровьем, радостью, мощью молодого тела и светлыми, как хрусталь, сумасшедшими глазами.
– А ты как думаешь? – весело спросил он.
Одевались в прихожей вместе. В четыре руки. Мария застегивала куртку, Степан застегивал ей сапоги. Шапку на нее пялил. Хохотал. Избыток жизни играл в нем. Нашел губами Мариины губы, смешно пожевал их, как теленок.
– Теплая моя…
Мария ощупала на боку сумку, похожую на торбу, перекинутую на ремне через плечо.
– Ты не отдашь эту хату? – внезапно спросила.
Лицо Степана будто грязной тряпкой вытерли. Голову опустил и стал еще больше похож на теленка, привязанного веревкой к столбу.
– Дорого, конечно… Но я же зарабатываю.
– Я не могу тебе помочь, – сказала Мария.
– Я знаю. Ты и так помогаешь. Еду приносишь. Готовишь…
– Не надо благодарностей.
– Это не благодарность. Это правда.
– Любая правда может в любое время стать ложью.
– Что ты… врешь?
Он снова обнял ее. Она уже гремела замком, в кулаке ключ зажала.
Когда они закрыли дверь и вместе спустились с лестницы и вышли из подъезда, Мария обернула к Степану бледное лицо и спросила очень тихо:
– А ты не боишься, что мы однажды выйдем – а тут твоя жена стоит?
Всю дорогу до трамвайной остановки оба молчали.
Подсаживая ее в трамвай, подталкивая под локти, Степан сказал ей в спину:
– Я – боюсь. А ты – ты ничего не бойся.
3
Темень, вечер бил ей в лицо, в глаза, в ноздри.
Ну, еще же не поздний вечер, говорила Мария себе, я же еще успею.
Она успела даже в магазин: купила бутылку водки. И закуску к ней, конечно.
Без водки было идти нельзя, куда она шла.
Уже не шла – бежала.
Поворот. Еще поворот. Проходной двор. Еще проулок. Старые дома. Дряхлые стены. Осыпается лепнина. Падает наземь штукатурка. Вот ель стоит, стройная, огромная ель – посреди серого, низкорослого старья; зима, и скоро Новый Год, и ель напомнила о нем. Ель, здравствуй! Мария, пробегая мимо, взмахнула рукой и поймала пальцами живые колючки.
Старый, древний деревянный дом, вросший в землю, встал перед глазами, как деревянный черный водопад. Мощный сруб, источенный жучками. Если закроешь глаза – и затихнешь – их слышно… слышно…
Полезла в сумку; своим ключом открыла дверь подъезда.
Ступени деревянной шаткой лестницы вели вниз. В подвал.
Тише, осторожно… Нащупывай ногой ступеньку… Спускайся, вцепляйся в перила… Фонарик забыла…
Впотьмах она нашарила нужный ключ. Всунула в скважину.
Потом вдруг вынула. И – нажала ладонью на дверь, и она подалась. Открылась.
Дверь была открыта. Ее ждали.
Ее ждали! И сердце забилось.
В прихожей на полу опилки. И распиленные доски. Дрова.
Старые доски, обломки шкафов, треснувшие брусья, дощатые ящики из-под помидор, из-под лука, из-под черт-те чего. Подвал надо отапливать. Хорошо, крепко печку топить. Иначе тут околеешь зимой. Здесь только летом тепло.
Так, встать каблуком – на доску… Не упасть…
В комнате, там, впереди, в полумраке, услыхали ее шорох, шевеление.
Дверь медленно отворилась под ждущей, осторожной рукой.
Мягкий мед льется. Это свет? Да, это свет.
И пахнет медом, сливовым вареньем, мусором, плесенью, табаком, кофейным духом; и еще пахнет – остро, терпко – лаком, скипидаром, и – еще чем? – да, да, да, да! – красками.
Масляными красками, и темперой, и акрилом, и…
– Машка-а-а-а-а-а! – Вопль вырывается из усатого, бородатого рта, будто из сердцевины старого пня, заросшего мхом и выеденного гнилью времени. – Рваная рубашка-а-а-а-а…
– Тише, тише, Федор… – Она уже в медвежьих лапах, и лапы ее мнут, тискают, вертят; лапы сходят с ума от радости, лапы радуются ей, как празднику. – Тише, солнце мое… Я, я…
Тот, кто обнял ее, отстраняет ее от себя, отпускает ее.
Только его глаза не отпускают ее. Глаза ходят по ней, бродят, ощупывают ее, обласкивают, гладят, тормошат, ерошат; глаза вливаются в ее глаза, как вливается сладкое вино, крепкая, белая водка. Да, светлые. У него тоже светлые глаза, думает она, тоже. Как… у того…
– Машулька!.. Надолго?..
Он берет у нее из рук сумки. Заглядывает в них, как ребенок: что там мамка принесла? Ага-а-а-а! Что-то такое хорошенькое принесла…
– На вечерок, Федя.
– Может, останешься?.. – Она слышит его медленное, хриплое, табачное дыхание. – На ночь?..
– Нет, Федя. Завтра мне на участок.
– А пошел он, этот твой участок, в жо…
– Федя!
– Ах, пардон, жо-о-о-олтые сапожки…
Мария смотрит, как он вынимает из сумки бутылку, за ней сверток, и еще один.
– Ух ты, Машка моя!.. Чего-то прикупила, вкуснятины… что здесь? Ух-х-х-х, колбаска! Давненько я колбаски не…
– Режь! Рюмочки давай! Устала я. Там еще сыр! Хлеба не купила, не было.
Мария сбросила пальто, стоя стащила сапоги, кинула их в угол; спугнула сапогами спящего серого кота. Кот вскочил, дико мяукнул; вылетел в открытую форточку. Высоко над землей открытую. Федор и кот ютились в подвале, почти целиком утонувшем в земле – окна висели, светясь, над головой.
«Как в тюрьме», – подумала Мария.
– Щас. Порежу. Сядь, ну садись же…
Она села на корявый, будто горбатый, маленький стульчик на кривых ножках, чуть не упала с него и засмеялась.
Федор уже резал колбасу на заваленном окурками, немытыми тарелками и чашками, пустыми банками, спичками, рваными бумагами, высохшими тюбиками, уставленном старыми настольными лампами и обгорелыми свечными огрызками, заляпанном грязью и пролитой едой столе. На столе, как на холсте, жизнь грязью написала великую картину, под названием: «Одиночество». А может, это был не стол, а старый верблюд, с головы до ног увешанный побрякушками мертвого, утраченного времени. Живой был этот стол, и он устал быть грязным и несчастным. Он ждал Марию. Одна Мария, одна на свете, его мыла, терла, отчищала, обихаживала, украшала чистой посудой – и свечи на нем зажигала.
Она зажигала всегда свечи, потому что Федор очень любил свечи.
И Федор, ожидая ее, и когда она являлась, тоже, творя ей праздник, свечи зажигал.
Он думал – она любит горящие свечи; а она думала – он любит огонь.
А может, это огонь любил их обоих.
– Некогда восседать. – Она поднялась с горбатого стульчика. – Надо помыть посуду.
Она отправилась в маленькую подсобку, где Федор держал дрова. Там же лежали тазы, в которых он время от времени мылся. Сырая мочалка, висящая на гвозде, пахла стиральным мылом. Поленница бесплатных, мусорных дров, украденных на свалках, помойках и стройках, за нынешние морозы потощала. Черная страшная раковина приняла у Марии из рук гору посуды. Улыбаясь, Мария оттирала тряпкой и губкой еду, плесень, наросты, потеки, слезы, блевотину, пепел и прах.
Оттерла. Под струей ледяной воды сполоснула. В комнату внесла.
– Ах, не помыла рюмки…
Федор, смеясь, сделал вид, что смачно плюнул в рюмку, и протер ее полой выпачканной в масляной краске рубахи.
– Нет проблем!
Он уже открывал водку. Зубами.
– Федя, ну что ты, последний зуб сломаешь…
Он беззвучно хохотал, как безумный.
– Уже сломал…
Водку разлил. Оба взяли в руки ртутный, перламутровый блеск.
– Ледяная…
Он высоко поднял рюмку. Посмотрел в нее на просвет, как в алмаз ограненный.
– Выпьем за то, Машка, чтобы меня отсюда не выгнали!
Оба выпили, сразу опрокинули рюмки, Федор быстро цапнул с тарелки и поднес ко рту Марии кусок колбасы. Она взяла у него из рук колбасу зубами, как ручной зверь.
– Кто тебя выгонит? – спросила она с набитым ртом.
Он быстро, ловко снова налил обе рюмки доверху.
Они оба стояли перед столом, так и не сели. Как на вокзале в буфете. Будто поезд через полчаса.
– Город, – коротко сказал. – Мастерские отнимают. Я ведь тут… на птичьих правах. Я тут… вместо Вити Балясина. Витька в деревню уехал. Давно. Лет двенадцать назад. И мне свою халупу оставил. Спас меня. Иначе я бы… в сугробе… – Он махнул рукой. Зажмурился. Головой помотал, как блохастый кот. – Я не знаю, что с Витькой, может, помер давно. Ну и… я тут как мышь сижу. Никого не трогаю. Вот тебя… все время жду. Картинки свои… малюю. Никому… не нужные…
– Мне нужные, мне! – крикнула Мария отчаянно и обняла его за шею.
Шея у Федора была горячая и крепкая, как бревно. Могучая.
А вот зубов во рту уже мало было.
Он смотрел на Марию, как на икону. Как на свеженаписанную картину.
– Ты моя милая, – сказал он тихо. Руки его легли на ее лопатки. Беззубый рот солнечно, пусто улыбался. – Ты моя ясная. Так я для тебя и пишу. Мне уже никто не нужен. Ничто. Ни выставки, ни продажи… Мои картины… Разве они – для рынка?
Он смотрел в лицо Марии, и она глядела в его лицо.
Их глаза нежно целовались, а губы улыбались, смеялись беззвучно.
– Да, – сказала Мария, – конечно, твои картины не для рынка. Рынок их просто не поймет. Они для него слишком…
– Выпьем! – крикнул он.
– Слишком прекрасны, – сказала Мария.
Пока они пили водку, закусывая сыром и колбасой, на них сзади, из-за спины Марии, смотрели расставленные по запыленным полкам: икона св. Серафима Саровского, его Федор ласково называл «Серафимушка»; икона Божьей Матери Федоровской с пыльными малиновыми стразами в иззелена-медном окладе; лубочная картонка с изображением черноликого Кришны, толстопузого младенца в жемчужных бусах; позолоченные колокольчики с китайскими нефритами, висящие на рыболовной леске; два старых медных подсвечника – и свечные огарки торчали в них, да, с натеками желтого, белого и коричневого воска, со свинячьими черными хвостами фитилей; камень с отпечатком первобытного спирального моллюска; меднозеленая статуэтка Будды с отломанным носом; открытка с индийской красавицей, волоокой Лакшми; а еще – на затянутой печной гарью, как траурным крепом, стене горела, как рыжие и золотые, с синими взлизами огня, дрова в печке, вырванная из старого журнала репродукция «Троицы» Рублева.
Это были все драгоценности Федора Михайлова.
С женой он расстался давно. Не вынес ее гулянок, ее наглых хахалей. Она была жива, по его словам, где-то еще жила; спилась совсем. Квартиру она продала и прокутила тоже давно. Двое детей выросли в аду – и уехали искать рай, укатили жить своей жизнью в другие города.
Еще на них – со всех сторон – глядели картины.
Они были яркие, как самоцветы.
Они плыли и звали. Вспыхивали и гасли.
Они обнимали – и отпускали на свободу.
Как это он повторял ей всегда: «Любовь – это не привязка, а свобода. Она не вовне, а внутри. Любовь – истина, а все остальное – подделка».
И картины его, без слов, это же говорили ей.
Когда он успел зажечь свечи? Все эти огарки, обломки, огрызки былого света?
Пока она, смеясь, нюхала пустую рюмку, глядела в пасть горящей печки, грела руки, закидывала голову, поправляла волосы? Пока что-то сбивчивое, веселое говорила ему, бормотала, шептала, вспыхивала внезапным, играющим смехом? Но свечи все уже горели, уже пылали, уже трещали и рассыпали по подвалу яркие, золотые, медные, медовые искры, уже бились красными и синими птичьими хвостиками огненные языки, и это был маленький, подвальный, нежный праздник света: он всегда устраивал его ей, когда она к нему приходила. Как заклятье огня. Как освящение. Как обещанье.
Церковный. Дикий. Языческий. Зимний.
Языки свечей как кисти, обмакнутые в золотую краску.
Огонь, огонь, Бог есть огонь, может, и правда?
Они стояли, пили водку и ели, не понимая, что стоят. «Что же мы стоим, сядем давай!» – завопил он, и тогда они сели. Свечи трещали. Огни горели, плыли в их веселых, косых от водки и поздней радости глазах. Он сел на колченогий стульчишко, Мария села ему на колени. Привалилась спиной к его груди. Горячая грудь какая, как печка.
В подвале было тепло, жарко. Он щедро натопил печку к ее приходу.
Ждал…
«Всегда ждет. Или – чувствует, когда приду?»
Он нежно прикоснулся губами к ее шее, к затылку. Взял в рот, как конь – овес, теплые от ее кожи хрусталины ее маленьких бус.
– Ну что?.. Опьянели мы с тобой?..
– Немножко…
– Хорошо тебе?..
– Да… Очень… Я с тобой – сама своя.
– Я знаю.
Тихо, вкрадчиво цокали часы.
Время… время…
– Может… останешься на ноченьку?..
Она прижалась щекой к его небритой, горячей щеке.
В подвале пахло печкой, плесенью и красками.
– Нет.
– Ты же хочешь!..
– Да. Но пойду.
Она тихо встала с его колен, и он поддержал ее осторожно и свято, как хрустальную. «Хрустальный мой, – подумала она, – драгоценный мой… нежный мой, такой нежный, заброшенный, сирый, заросший… Я ведь одна у тебя…»
– Ты же знаешь, что когда я ухожу, я все равно остаюсь, – пробормотала она уже пьяным, неслушным языком, глотая пьяные, светлые слезы.
Когда Мария одевалась, Федор закурил. Он курил, отдувая дым в сторону, к печной вьюшке, наблюдал, как она застегивает сапоги, ищет пальцами пуговицы куртки, и глаза его тоже блестели.
– Когда ты уходишь, будто руку мою отрезают, будто ногу, – бросил он.
Мария взяла его ладонями за щеки, приблизила лицо к его лицу и сказала, глубоко, как в озеро, заглядывая ему в глаза:
– Душа моя обнимает твою душу. Люди телами обнимаются и любятся, а мы – душами. Это бывает так редко. Этого, наверное, почти не бывает. Всем нужна постель. А мне нужно сердце твое. А тебе – сердце мое.
Он наложил губы на ее губы, вдохнул в нее воздух, и она весь выпила его, вобрала.
На улице уже мела метель. «Работы будет завтра», – подумала Мария и подняла воротник куртки. Не качайся, ступай ровно, так, вот так.
4
Ключом от дома она открыла домашнюю дверь.
Петьки дома не было.
Не успела она подумать: где же шляется? – как за дверью застучало, загрохотало, и сначала загремели в дверь кулаками, потом истошно зазвенел звонок. Мария распахнула еще незапертую дверь. Она еще в куртке перед зеркалом стояла, не успела снять.
Чьи-то руки втолкнули, вывалили на нее тяжелое, шаткое тело. Тело стало падать, и она подхватила его на руки, и только потом поняла, что это ее сын.
– Петька! – крикнула Мария, и перед глазами у нее пьяно потемнело. – Петька! Кто тебя избил!
На Петре живого места не было.
Синяки. Кровоподтеки. Ссадины.
Кровища хлестала из перекошенного, как в глумливой ухмылке, рта.
– Мама, – сказал Петр нутром, утробно, – мама, ты не… Мама, зубы вставлю…
– Что с носом?!
– Уже вправили, – выхрипнул он.
Мария доволокла Петра до дивана, уложила. Вернулась к двери, заперла ее.
Бросала одежду прямо на пол, резко, грубо сдирая ее с себя. Пустила холодную воду в каморке, где стояла ванна на чугунных лапах.
Крикнула оттуда:
– Кто тебя?!
Петр молчал.
Мария намочила полотенце в холодной воде, подошла к лежащему на диване Петру, обтерла ему лоб, руки, расстегнула куртку, рубаху, обтерла грудь. Плакала. Слезы сами лились.
– Мама, – сказал Петр кровавым ртом, – мама, от тебя водкой пахнет.
– Кто тебя, скажи…
Она рыдала уже в голос.
Петр двинул рукой и застонал. В заплывших синяками глазах у него плясала, как метелица, ярость и злоба.
– Это тебе не твои книжные герои, мать. Это… жизнь.
ИЗ КАТАЛОГА Ф. Д. МИХАЙЛОВА:
«На картине «Лотос» живописца Федора Михайлова изображен роскошный, ярко светящийся гигантский цветок. На густо-синем, почти черном фоне, символизирующем черную равнодушную пасть бесконечной Вселенной, вспыхивает бело-золотой костер. Языки его огня, отсвечивающие то алым, то парчово-золотым, то нежно-розовым, то снежно-синим, напоминают лепестки распускающегося лотоса; здесь, у Михайлова, космический цветок сакрален, он одновременно – и священный небесный огонь, и знак живой любви, обреченной на смерть и несущей чистую радость, вспыхивающей между двумя бесконечностями, между тьмой и тьмой – до рождения и после ухода из красоты и ужаса бытия».
ИНТЕРМЕДИЯ
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЗАВТРАК. МОДНАЯ ПОМАДА
– Я сегодня в та-а-акой бутик съездила, па-адруга!.. в а-бал-денный… Там такое бельецо купила, закачаешься… От Армани, конечно же, это же мой дружочек, да-а-а-а… Где?.. Ну, долго объясня-а-а-ать… Мы с тобой съездим туда… ну, хочешь, завтра? Завтра я не позирую, и эфира с Сашульчиком нет, и вообще завтра гуляй, Вася!.. вот и съездим. А знаешь, кого я там встретила?.. Ни за что не догадаешься!
Голые ноги нашаривают тапочки.
Голые, очень гладкие ноги.
Как целлулоидные.
И колени перламутрово блестят.
И ногти на ногах тоже перламутрово блестят.
И ногти на руках тоже перламутрово, нагло блестят.
И пальцы нагло вынимают из-под белого махрового халата грудь, и так же нагло, зазывно, возбуждающе мнут, теребят сосок. Сам сосок и кожа вокруг соска выкрашена золотистой краской. Вроде как сусальным золотом.
Красивая девка, сидя на диване с ногами, теребит себе сосок, говорит по телефону и, слегка просунув язык между фарфорово-белыми зубами, нагло, заинтересованно рассматривает себя в зеркало.
Поднимает голую ногу. Пола короткого халата ползет вверх. Под халатом трусиков нет. Есть голый живот и голый бритый треугольник над темно-розовой щелью. Девица слегка отставляет ногу, отводит вбок.
В зеркале – отражение ее бритой письки. Девка облизывает кончиком языка перламутровые губы и откровенно, хулиганя, изгибаясь на диване перед зеркалом, любуется собой.
– Ну кого, кого!.. Догадайся с трех раз…
Девка засовывает себе в раскрывшуюся розовую щель палец. Хихикает. Подмигивает в зеркало сама себе.
– Ну давай, давай… Давай…
Прижимает трубку к уху плечом. Освободилась другая рука. Девка ласкает одной рукой себе грудь, другой – вздрагивающий низ живота.
Махровый пояс халата развязывается, скользя. Девка лежит на диване в распахнутом халате, как нагая богиня на белом кварцевом песке, на берегу моря.
И правда, обивка дивана густо-синяя, как море в грозу.
– Ну, еп твою мать!.. какая же ты глупая, Диди…
Колени торчат вверх. Ступни ракушкой повернуты друг к дружке.
Палец погружается все глубже.
На щеках – румянец.
Видно, как ей хорошо и озорно.
Она кричит в трубку:
– Ну да! Да! Все-таки – да! – да! – это был он! Он!
И – воркует:
– Ви-и-и-итас, мон ами… Виту-у-усик…
Голый круглый гладкий зад слегка приподнимается над диваном. Девка выгибается, ложится затылком на вышитую жемчугом подушечку.
– Ха-ха-ха-ха-ха! – громко хохочет.
Палец гладит увлажненную кожу все чаще, дрожит.
Кончик языка дрожит между белыми зубами.
– А-а-а-а-а… Да-а-а-а-а…
Зубы прикусывают нижнюю, чуть оттопыренную, блестящую перламутром толстенькую губу.
– Ха-ха-ха-ха!..
Дверь неслышно распахивается.
На пороге – с серебряным подносом в руках – лакей.
У лакея глупое, изумленное и смущенное лицо, покрытое модной трехдневной щетиной. Он изо всех сил старается не смотреть на полуголую девицу, ласкающую себя, и старается не уронить поднос.
– Кх-х-хм…
Девица закидывает голову. Продолжает хохотать, как безумная.
Слов нет – уже один хохот остался.
– Ах-ха-ха-ха-ха-ха!.. ха, ха, ха…
Лакей переступает с ноги на ногу – и все-таки, бедный, неловкий, наклоняет поднос, и с него на пол, на навощенный цветной паркет, летят –
фарфоровая чашечка, и коричневая жижа кофе брызгает на белый халат
фарфоровое блюдце с тигровыми креветками
бокал шампанского
бельгийский черный горький шоколад, без сахара
блюдо с лобстером
блюдо с греческим салатом
стакан богемского стекла с соком гвайябы
– летят, летят, разлетаются, брызгают, разбиваются, мешаются, катятся, падают, исчезают, исчезают, исчеза-а-а-а-а…
– …а-а-а-а-а!..
Лакей, с голым подносом в дрожащих, как у маразматика, руках, стоит и смотрит, как красивая девица, его богатая хозяйка, лежа на диване и пьяно, хрипло смеясь в телефонную трубку, вкусно и долго кончает, бесстыдно раскинув белые ноги на синем диване.
Он хочет уйти.
– Пока, дорогая! – весело кричит в трубку его хозяйка.
Уйти ему не удается.
– Стой! – кричит хозяйка ему в спину.
Он встает в дверях, как вкопанный.
Девка глядит влажными, зверино блестящими после оргазма глазами на сдохшее великолепие ее завтрака, разбившегося об пол.
– Ты, – говорит она вполпридыхания, удивленно. – Ты!.. спятил?.. Это все – ты сделал?..
Она говорит тихо. Слишком тихо.
Лакей медленно поворачивается к ней лицом.
– Вы меня рассчитаете? – так же тихо спрашивает бедняга.
Девица прищелкивает пальцами и пальцами же зовет лакея к себе: сюда, иди сюда, ближе.
Он подходит осторожно, будто босиком по горящим углям идет.
На лице его мука написана.
Он неотрывно глядит на нагую, влажную, темно-розовую щель, вывернутую будто бы ему навстречу.
А то кому же?!
Девица шире раскидывает ноги. Жестом показывает лакею: на колени!
И он опускается на колени.
«Ближе», – показывают ему щелкающие пальцы.
И он ползет на коленях ближе.
«Еще ближе».
И он понимает, что от него хотят.
И лицо его летит, как камень, вниз –
и губы летят
и язык летит
и язык движется и дрожит тошнотворно и голодно
и подбородок во влажное, горячее окунается
и глаза, слепые, и ноздри, зрячие, резко ударенные рыбьим запахом, душком разрезанной надвое селедки, падают, падают, падают –
– а потом лицо падает еще ниже, не понимая, кто и зачем ему разбиться приказал; и губы начинают собирать с пола, вместе с пылинками, с крохами мусора, с гладкого паркета, и язык – вылизывать, и глотка – глотать и есть, есть, есть, глотать и глотать, лизать и слизывать всю эту еду. Всю ее еду.
Всю еду – с пола, униженно, ползая на коленях, на животе; нагнув башку, как собака.
Иначе его рассчитают.
Иначе он лишится больших денег.
Он это место с таким трудом получил. С болью. С кровью.
И слышит он дикий, веселый, сытый смех над собой:
– А-ха-ха-ха-ха! А-ха-ха-ха-ха!
И поднимает грязное, в пыли, масле, майонезе, потеках кофе и сока лицо.
И тоже натужно, вторя, подобострастно, угождая, смеется:
– Ха-ха-ха! Ха-ха… ха…
А душа-то плачет.
Ты, встань! Загвозди ей! Залепи оплеуху хорошую!
Так, чтобы она с дивана – прямо в зеркало летела!
Ею – это гадючье зеркало – разбей!
– Ну, все? Вылизал?
…это его – спрашивают?
– А теперь снимай штанишки, негодяй. Уж я помучаю ти-бя-а-а-а-а!
…бя-а-а-а-а… бя-а-а-а-а-а…
Он ложится на нее, елозит по ней, бьется, качается. Его лицо – напротив ее лица. Он видит ее язык, играющий, как рыба, между зубами. Втыкая себя в нее, сопя, задыхаясь, он думает: какая же у нее блестящая, пахучая, жадная, лаковая, перламутровая, модная помада.
ЧЕРНОЕ СКЕРЦО. ТЫ УМРЕШЬ КАК ГЕРОЙ
Я попал к ним неслучайно. Хотя можно сказать: так получилось.
Все когда-нибудь как-нибудь получается.
Когда был жив отец, и старший мой брат жив был, все было по-другому. Или мне казалось?
Похоронили отца. Закопали брата.
Я понял, что в жизни есть только смерть. Что жизнь сама, вся – одно огромное притворство.
Люди притворяются, что живут и радуются. На самом деле они живут и все ждут смерти.
После похорон отца и брата мы стали жить плохо. Откровенно плохо. Мать бросила школу. Стала пить. Не сильно, а так, выпивать. Это все равно мне было неприятно. И я, глядя на нее, пить научился.
Думал тогда: как жить? Смириться – или сопротивляться?
Ну, молодой ведь, пацан. Смирение – это для стариков, для монахов или там для кого? – для импотентов. Я не импотент. Я нормальный парень.
Тут мне под руку скины подвернулись. Я с ними резко так подружился. Кельтский крест они мне на плече набили. Я побрился налысо, как они. Черную рубаху купил. Черные берцы, тяжелые, как камни, шнуровал полчаса в коридоре, когда обувался.
Ну, скины. Что скины? Отличные ребята. Хотя бы сопротивляются. Не как все вокруг, сопли.
Я не был никогда соплей. По крайней мере, мне так казалось.
Со скинами я тусовался года два. Мать очень переживала. Отговаривала меня от этой компании. Даже плакала: я, мол, к ним сама пойду! Попрошу, чтобы тебя в покое оставили! Я ей: мать, не дури, выкинь из головы, я сам разберусь! Они же сопротивляются режиму! У нас такой режим сволочной! «Какой?! – она орет сквозь слезы. – Какой – сволочной?! Нормальный у нас режим! И мы с тобой живем, как все простые люди! Я – работаю! На хлеб зарабатываю! А ты вот балдеешь, ничего не делаешь!»
Я тогда как раз школу бросил.
Дурдом эта учеба, решил. И правильно решил.
Я ей говорю: не ходи к скинам, мать, они тебя убьют. «Пусть убьют! – кричит. – Вот один останешься – узнаешь, почем фунт лиха!» Смеюсь. А что такое этот фунт лиха, спрашиваю? «Так бабушка говорила твоя покойная», – шепчет, и голову так наклонила, так…
В общем, я обнял ее крепко, крепко. И так сидели.
Куда-то мои скины со временем делись. Рассосались.
Мы успели много дел наделать. Избивали черных. Нападали вечером, выслеживали, кто черный домой идет, неважно, старик, пацан или там девчонка, набрасывались, опрокидывали на землю и били. Черные – кричали. А мы ногами лупили, под ребра старались, в живот. Но не насмерть. А так, чтобы почувствовали, что не они тут хозяева. А мы. Мы!
Делись мои скины я знал, куда. Кто уехал в другой город. Кто – в Москву. Кого в тюрягу упекли, первой ходкой. Кто пай-мальчиком жопским стал, учиться поступил, и из скина – в чеснока превратился. Таких всего два было. Родичи заколдовали.
Мы выросли, мы повзрослели, и надо было сопротивляться по-другому.
Башку я брил по-прежнему. Мне нравилось ходить с голой головой.
Вот однажды прихожу в такое модное, на Большой Покровке, кафе, «Авентура» называется. На второй этаж поднимаюсь. Столики такие, как в старину, скатертями покрытые. Сажусь. «Косуху» не скидываю. Холодно. В кармане – два стольника, у матери выпросил, особо не разгуляешься, но водки можно немного заказать. Без закуски? На закуску – плевать. И так пойдет.
Заказываю. Сижу. Жду.
И тут за мой столик садится этот.
Ну, он самый.
Он. Их главный.
Это я потом узнал. Что главный он у них.
И что взрослее меня. Старше.
А тогда – гляжу, лысый пацан, бритый, ну как я.
Смотрим друг на друга. Вроде как в зеркало.
Он – на меня, как в зеркало. Я – на него.
Зырим. Таращимся!
– Еп твою мать, – он говорит так весело.
И я тоже говорю:
– Да уж.
Официантка подходит, смазливенькая. Челочка косая. И глазки косят, будто пьяненькие.
– Две водки по сто, – этот бритый говорит. – И еще устрицы. И блюдо креветок.
А сам на меня не отрываясь смотрит.
– Ты че на меня как на девку смотришь? – я его спрашиваю.
– Ничего, – говорит. – Выпить с тобой хочу, пацан. Тебя как звать?
– Петр, – говорю. – А тебя?
– Степан.
– Степан, классное имя, – говорю.
Косая Челка нам две по сто на стол брякнула, и еще два блюда звяк-звяк – одно с какими-то слизняками в раскрытых раковинках, другое – с нежными розовыми хвостиками очищенных креветок. Креветки я уже ел в жизни.
– А это че за херня? – спрашиваю пацана. И смеюсь.
– Это? Устрицы, темнота, – и смеется тоже, во всю глотку.
Так сидим и ржем, как кони, а ведь еще не пьяные.
– Тише, вы! – из-за соседнего стола кричат. – Спокойно не посидишь!
– Да, да, – мой лысый оборачивается, – извините, мы нечаянно! Вот встретились…
И точно: гляжу на него, будто сто лет знаю его.
Берем водку, он свою, я свою. Поднимаем стаканы. Сдвигаем.
Над этими, зверюгами, устрицами.
А они листочками такими зелененькими уложены.
Как венками надгробными.
– Ну, будь! – и подмигивает мне. И лысый череп лоснится. – Давай!
– Будь!
Выпиваем.
Водка терпкая такая. Будто перца туда насыпали.
Перцовка, что ли?
А, один хер.
– Ты кто?
Берет ракушки руками, пальцами выковыривает из них слизь, кидает в рот, ест меня глазами. Глаза такие сине-зеленые, светлые, прозрачные, как хрустальные, зимние, две ледышки.
– А ты кто?
– Я первый спросил.
– Не видишь – человек.
– Это я вижу. Делаешь что?
– Живу.
– Так. Понял. Надо еще выпить.
Косую Челку подозвал. Говорит:
– Тащи еще! С другом гуляем.
Моментально принесла.
Еще выпили. Я креветку вилкой подцепил. Он со смехом следил, как я вилку ко рту несу, как креветка у меня с вилки в пустой стакан падает.
– Давай руками, – давясь смехом, посоветовал. – Не чванься. Тут все свои.
Я внял его совету.
Голова радостно загудела, руки-ноги согрелись, и мы разговорились.
Жевали все, что на тарелках лежало: брюхи креветок, жесткие пахучие листья, странную серую слизь зубами, пальцами, языками вынимали из бедных устриц.
– Я? Школу бросил. На хер она нужна. Работал на всяких работах. За гроши.
– Мать? Отец?
– Мать только. Отец погиб. Брат был. Тоже погиб.
– Не свезло вам.
– Не свезло, да.
– А сейчас что?
– Политикой занимался.
Мы с ним оба поглядели на бритые лбы друг друга.
– Правый, что ли? Скин? Ты скин, да?
– Был им.
– Так. – Он потер пальцами подбородок, уже начавший щетиниться. – Свой, значит. С опытом пацан.
– Что значит «свой»? Что значит «с опытом»?
– Тихо. Спо-кой-но! – крикнул он. – Я командую парадом, понял?!
Из-за соседнего столика крикнули:
– Эй, пацаны! Хорош орать!
Он наклонил ко мне голую свою кеглю и тихо, очень отчетливо сказал:
– Я вербую тебя, понял?
– Куда? – спросил я. И выковырял ногтем сопливую невкусную слизь из серой ракушки.
– К нам, – коротко выдохнул он.
– А что вы-то делаете?! – теперь уже я крикнул.
– Ребя, ну хорош орать! – недуром заорали из-за соседнего столика.
– Революцию, – очень тихо, будто девушке на ухо, сказал он.
Мы взяли еще по сто.
И еще закуски.
Мясное ассорти.
«С бабками чувак», – подумал я о нем уважительно.
Все больше разогревалось, грелось изнутри.
– Пойдешь с нами?
Я уже тепло, влюбленно глядел на его бритый лоб, на бешеный блеск изумрудных, хрустальных глаз.
– Считай, я с вами. Программа?
– У нас одна программа. Режим свалить. Причем грамотно свалить. Четко. Режим этот волчий. И нас всех делают волками, ты понял, да?!
– Ну, свалим! И дальше что?! Дальше – как дирижировать будешь?!
– А это уже не твоя забота, Петр. Думаешь, у нас в России голов нет?
Я представил себе головы: много голов, рогатый скот, и идет на бойню.
– А мы с тобой, что, не головы, пацан?!
– И я про то же!
Мясо с тарелки исчезло мгновенно. Время текло, и мы проголодались. Молодые жадные желудки просили горячего.
– У вас горячее что-нибудь есть? – предельно вежливо спросил Степан Косую Челку. Косая Челка завертела попой под короткой юбкой.
– Обязательно! Соляночка, супчик грибной…
– Во-во! Давай, тащи супчик грибной.
Косая Челка записала себе быстро в записную книжку корявый иероглиф про супчик и убежала.
Принесли супчик.
Потом принесли второе, дымящееся, сочное, мясное что-то, я не помню уже.
Мы уже стукались над столом голыми лбами, больно, крепко, уже цапали друг друга пьяными лапами за черные кожаные плечи. Он тоже в куртке за столом сидел, не снял, как и я.
Нам было жарко, но мы нашей чертовой кожи нарочно не снимали.
– Ты-ы-ы-ы… Давай так решим… – так он мне плел, и глаза блестели. – Наш гауляйтер – классный парень, гауляйтер по всей нашей области, Игорек Шаталов. Он тебя всему научит! У нас – четкая иерархия. План четкий. Ты понял, план!
– Все идет по пла-ну, – пел я песню покойного Егора Летова, – все идет по пла-а-ану-у-у-у…
– Ты, тихо! Главное, чтоб ты понял: все тихо, нигде о нас на перекрестках не орать, если заловят – все отрицать!.. все, ты понял, все… Когда акция – все роли будут распределены, и тут надо все делать четко и быстро! В нашем деле важная хорошая реакция… и быстрота, да, быстрота-а-а-а… как на дорогах…
– Эй! – сказал я, глупо улыбаясь. – А че вы сделали такого, в последнее время, ну, важного? Ну, серьезного? А?
– Мы? – Его улыбка отразила мою. Лысое, пьяное, веселое зеркало. – Мы? Заставили губернатора освободить трех политзаключенных. Наших. Заставили! – Он сжал над столом кулак. Будто орех в кулаке крошил. – Вот так! Ты понял! Заставили!
Косая Челка неслышно подошла, наклонилась и зашептала что-то ему на ухо. Он сжал ее хрупкое запястье в своей лапище, поцеловал ей ручку, потом повыше запястья, в сгиб локтя. Она засмеялась от щекотки.
– Хорошо. Не будем.
Официантка ушла.
Он наклонился ко мне через весь стол.
Скатерть поползла вниз, и вниз поползли все пустые тарелки, все панцири дохлых ракушек, все стаканы и вазочки.
– Ты понял все?!
– Я все понял, – сказал я.
На полу валялась разбитая посуда.
Когда пришла Косая Челка, он вынул из кармана деньги и уплатил все, за всю раскоканную посуду заплатил.
Я ж говорю, он при бабле тогда был, при знатном.
– А в революции можно стать героем? – спросил я.
Я еле ворочал языком во рту.
– Кем, кем? – спросил он.
– Ге-ро-ем, – сказал я медленно, по слогам.
– А на хуя тебе становиться героем? Тебе что, самого себя мало? Такого, какой ты есть?
– Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова, – сказал я заплетающимся языком. – Хочу быть героем!
– Ты будешь героем, – выдохнул он, будто водку выдыхал из себя. – Ты! Будешь! Героем!
– Каким?
Мне стало весело, веселье щекотало, распирало меня изнутри. Я стол готов был перевернуть. Я! Буду! Героем! Это же! Так! Клево!
– Ты умрешь как герой, – сказал он как не пьяный, отчетливо, жестко.
И лысина его бритая блеснула под яркой люстрой «Авентуры», как лысая желтая лампа.
Глава вторая
«…квасъ въ серебряной лощатой братине, да съ кормового двора приказныхъ ествъ: папорокъ лебединъ по шафраннымъ взварамъ; рябъ окрошиванъ подъ лимоны, потрохъ гусиный, да къ Государыне Царице подано приказныхъ ествъ: гусь жаркой, порося жаркое, куря в колье съ лимоны, куря въ лапше, куря въ щахъ богатыхъ, да про Государя же и про Государыню Царицу подаваны хлебныя ествы: перепеча крупичетая въ три лопатки недомерокъ, четь хлеба ситного, курникъ подсыпанъ яйцы, пирогъ съ бараниною, блюдо пироговъ кислыхъ съ сыромъ, блюдо жаворонковъ, блюдо блиновъ тонкихъ, блюдо пироговъ съ яйцы, блюдо сырниковъ, блюдо карасей съ бараниной. Потомъ еще: пирогъ росольный, блюдо пироговъ подовыхъ, на торговое дело, коровай яцкий, куличъ недомерокъ…»
Перечнь блюд, поданных Царю Алексею Михайловичу в сеннике, во время бракосочетания его с Наталией Кирилловной НарышкинойСКАНДАЛ В НОЧНОМ КЛУБЕ «ЛИВОРНО»!
АГЛАЕ СТАДНЮК НЕЙМЕТСЯ!
Вчера ночью «Ливорно» потряс новый, невероятный СКАНДАЛ, учиненный в разгар ночного веселья знаменитой светской львицей АГЛАЕЙ СТАДНЮК!
АГЛАЯ вылила целую бутылку ШАМПАНСКОГО «ДОМ ПЕРИНЬОН» на голову своей соперницы по светской шумихе, звезде шоу-бизнеса ИНГРИД ОВЦЫНОЙ!
Роскошное платье Ингрид, стоимостью двадцать пять тысяч долларов, от законодателя мод ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИАНО, было безнадежно испорчено!
ИНГРИД угрожает АГЛАЕ подать в суд.
АГЛАЯ не сдается!
«Я КУПЛЮ ВСЕХ МОИХ СУДЕЙ! – заявила скандальная звезда на месте происшествия. – И НЕ ТОЛЬКО КУПЛЮ, НО И ВЛЮБЛЮ В СЕБЯ!»
1
Старый дом. Старый человек. Как они похожи.
Мария, отработав дворницкую утреннюю смену, лежала на кровати, глядела на старые стены и слушала старый дом.
Она слушала его, будто дом был – старая птица и сейчас споет, прочирикает ей последнюю песню.
Трещины стекали по стенам, как слезы. Цок-цок – капал старый кран на кухне. По потолку шли разводы, темные и светлые; это иная, неведомая Марии жизнь оставила здесь свои следы.
И правда, здесь же до них с Петром – сколько людей прошло, пролетело, промелькнуло, провеселилось? Проплакало по углам? Сколько прозвенело пощечин? Сколько дымилось обедов… Сколько прошептано молитв у давно, давно сгоревших киотов…
Батареи у них то и дело ломались, особенно зимой. Как зима – так трубу и разорвет. И слесаря матерились ужасно, немыслимо. Но чинили, варили.
Матерились потому, что особых денег с Марии не возьмешь, и так понятно.
Починят, сварят, и горячая вода все равно в батарею не пробьется, хоть режь ее наново.
Если такое случалось – Мария и Петя топили квартиру печкой-буржуйкой.
Почему «буржуйкой»? Буржуи живут в теплых, просторных, роскошных домах. У них в квартирах – свои, личные, котельные. Им не холодно, когда холодно всем. Они сидят в тепле, нога на ногу, слушают расслабляющую музыку и едят с фарфоровой тарелочки бутерброд с семгой. Или с севрюгой. Или…
Нет, ну, конечно, и водку не поганую пьют; пьют, это точно, коньяк многолетней выдержки, отменный.
А разве в жизни все дело в жратве? Разве в жизни все дело в модных дорогих тряпках?
Для них – да. Для них всех, буржуев, – конечно, да.
В дверь постучали. Мария вскочила, потерла руками лицо. Подошла к двери. Не спросила – кто? – сразу открыла: так стучала только старуха Лида.
Ну да, она. Мнется на пороге. Сухими, как курьи лапки, ручками будто невидимые кружева на груди перебирает. На кенгуру похожа.
– Что, Лидусь?..
– А-а, Машенька-а-а-а!.. А-а-а-а!..
Старуха Лида с порога заревела в голос.
Мария поморщилась.
– Ты потише. У меня… сын болеет. Он спит сейчас. Проходи давай… сюда, на кухню. Тише, тише. Что стряслось?
– Машенька-а-а-а… Ко мне приходили-и-и-и… Хотят, чтобы я бумаги какия-то подписала-а-а-а… Чай, нащет квартиры-ы-ы… Говорят: вы тут живете незаконно-о-о… Пугаю-у-у-ут…
– Лида, погоди. Брось плакать. Тише, тебе говорю! Сын проснется. Давай чаю согрею.
Мария поставила на дачную плиту прокопченный чайник, сама утерла ладонями старухе Лиде слезы со щек.
– Вот и нету слезок. Только не подписывай, прошу тебя, никакие бумаги. Никто тебя никуда не выгонит. Сказка про лису и зайчика, да?.. Ах ты заинька моя…
Лида, шумно, как лошадь, фыркая, пила из огромной кружки горячий чай, совала ложечку в придвинутое Марией варенье.
– Сама варила?.. Или покупное?..
– Сама. Яблоки друзья подарили. У них свой сад. Я сахара много положила, чтобы светлое было, густое, медовое.
Мария улыбнулась старухе Лиде. Лида, шмыгая, вздрагивая всем сухоньким, старым, крохотным, как у колибри, тельцем, пила и пила горячий чай, спасалась им от обиды, от слез.
Не успела старуха Лида уйти – опять идут. Звонок.
Мария пошлепала к двери, шепотом выругалась на ходу.
– Кто?
– Машер…
Так звал ее только один человек.
И она открыла дверь, смеясь.
Она так радовалась ему!
Ему, обломку старого, давно затонувшего корабля…
– Здравствуйте, Василий Гаврилыч. Проходите!
Высокий сутулый старик, слепые глаза косят, плывут вбок, белые волосы метелью обдувают медный лоб, как медную каску, медный котел. В том котле варилось и сварилось время. Сварились до костей любовь и смерть. Одно бесстрашие осталось. Янтарное, наваристое.
А руки дрожат. Руки вслепую ищут и находят потерянное. Руки гладят и ласкают утраченное. «Я так одинок, – шепчут усталые, сморщенные как рытый коричневый бархат, слепые, жалкие руки, – пожалейте, обогрейте. Будьте рядом, пожалуйста».
Неужели когда-то, почти век назад, он скакал на коне по степям Забайкалья, северной Монголии? Офицер Белой Гвардии Матвеев, ставший красным командиром, и трубка в зубах, и галифе наглое, и – с другом – оба – на покрытых инеем лошадях, пар из ноздрей на морозе – на коричневой, как сибирский мед, старой фотографии?
– Дома, Машер… Ты дома, это хорошо…
Старик прошел по прихожей, ощупывая стены.
Мария подцепила его под локоть.
– Видите? Да? На свет идите… сюда.
Снова кухня; снова чай. И к чаю баранки. И яблочное варенье, прозрачные сладкие золотые дольки. Пьют и едят старики, а сколько им осталось?
Может быть, нисколько. Сегодня. И завтра. И все.
Старик Матвеев пил и ел, и его слепые глаза мазали по Марии малярной, белой кистью. И белые волосы он горячим от чая дыханием отдувал со лба.
– Все ли у вас хорошо, Василий Гаврилыч?
Старик поставил чашку в блюдце и промахнулся. Мария успела подхватить горячую чашку, и все же горячая капля пролилась старику на руку.
– Машер… Отличное вареньице… Да нет, нет, не обжегся я… – Его длинный вздох обволок ее лицо серой паутиной. – Я… просто… Мне сегодня пожар приснился.
– Как приснился? Расскажите!
Он любил рассказывать своей Машер свои сны.
– Да, вот так… Будто бы ко мне стучат. Приходят. Знаешь, как раньше: ночью, чтобы забрать… А я – в белье – с постели прыг! – подтяжки не найду, брюки… так в кальсонах и стою перед ними… А они мне: собирайся быстрее! Живей! Жизнь свою спасай! Да вы меня спасти пришли или погубить, я им кричу?! А они мне: давай прыгай в окно, гляди, уже началось!.. И правда… все вокруг меня…
Старик замолчал. Мария терпеливо ждала. Ее руки делали свою работу: наливали заварку, лили в чашку кипяток, накладывали варенье в старую, как Матвеев, битую розетку.
– Ну что?.. что вокруг вас…
– Горит! Все горит! Дом наш – горит! Полыхает! Стены рушатся… Искры – стеной встают… Огненный ливень! Пламя летит… опаляет! Волосы на мне – уже горят! И я ору недуром! И качусь колобком вниз по лестнице! И…
Мороз пошел у Марии по спине.
Рассказ об этом сне, такой настоящий, такой жаркий…
– Ну?
– И выкатываюсь на снег! А дом наш – как факел! Огнем охвачен! Горит, горит мое жилье! Горят милые, бедные бревнышки наши! – Старик хлюпнул носом, утер лицо ладонью. – Костром пылает! Искры, как зерна, летят… Ночь… И я стою рядом с пожаром, с домом нашим горящим… и плачу, и так кричу страшно, что глотку криком разрывает! Ведь это последний дом мой горит… жизнь, вся жизнь моя горит и сгорает! На-все-гда…
Он взял чашку в обе руки, наклонил над ней трясущуюся голову. По его лицу шли волны ужаса.
Да, он боится. Он очень боится смерти.
Он, не боявшийся смерти в бою. В тюрьме отсидевший. Детей и внуков – похоронивший.
Его пальцы искали и не находили сигарету, спичку. Его легкие просили глотка дыма. Глотка – забвенья.
– Василий Гаврилы-ыч… ну что вы! – бордо выкрикнула Мария и обняла старика за дрожащие плечи. – Вы знаете, к чему пожар снится? А?
– Не-е-е-ет…
Он привалился медным морщинистым лбом к ее круглому, как яблоко, плечу.
– К деньгам, вот к чему! Прибыль будет у вас, прибыль!
Она врала или говорила ему правду? Откуда она это взяла? Она никогда никаких сонников не читала.
Слепые глаза повелись вниз, вбок. Слепые глаза искали ее руки. Ее глаза. Искали и не находили.
Она сама нашла руками его руки, сжала. Нашла губами его сморщенную, как кожица яблока в ее варенье, щеку.
– Василий Гаврилыч, давайте, я вас сосватаю!
Он нашел невидящей, колышущейся рукой ее щеку, погладил.
– Кто невеста?.. Ты, Машер?.. Я согласен.
– Нет. Лида. Она одна… и вы один. Вам будет тепло вместе.
– Лида?.. Ох, Лида… Ах-ха-ха-ха!.. ну, насмешила…
– Я серьезно.
Старик облокотился на стол. Его лицо внезапно помолодело, заслонилось седой метелью давних, безумных лет.
– Спасибо тебе, Машер. Меня так давно не сватали. Ни за кого. Я уж забыл, как это бывает.
Когда старик Матвеев напился чаю, успокоился и ушел восвояси, Мария наготовила бутербродов, прихватила пачку печенья, пару яблок, сложила все в кулек, накинула куртку и пошла в гости в шестую квартиру. На втором этаже, в квартире № 6, под дырявой крышей, жил бродяга. Его звали Пушкин. Никто не знал, настоящая это фамилия или прозвище такое. Имени у него не было. Пушкин – и все.
Она остановилась перед дверью. В двери тоже зияли дыры. Из дыр дул ветер.
«Окна открыты… или разбиты», – догадалась Мария.
Нажала на звонок. Звонок не работал.
Она постучала – сначала кулаком, потом ногой.
За дверью заскребся будто кот.
– Эй, Пушкин, – тихо, но внятно сказала Мария, – я тебе поесть принесла.
Дверь испуганно, на щелочку, приоткрылась.
Пушкин увидел Марию и отворил дверь пошире.
– Лапуся… Лапуся… Нас еще не ломают?..
– Нет еще, Пушкин. Не ломают. Живи. Вот тебе гостинчик.
Она протянула бродяге кулек. Он схватил его жадно, цепко.
– Ешь. Только кошек больше не лови, не ешь.
– Лапуся… Кошки, дряни… они грязь разносят, я атмосфэ-э-эру очищаю…
– Кошки бывают лучше людей, Пушкин. Ну все, я пошла.
Мария попятилась от вонючей двери. За дверью свисали дырявые тряпки и валились с потолка гнилые доски; за дверью жила и умирала чужая жизнь, до которой никому, кроме нее, не было дела. Одна жизнь – из бездны жизней. И она тоже уйдет в бездну смерти.
Но, пока Пушкин жив, он хочет жрать!
– А что тут?.. О-о-о-о, колбаска…
Он все еще стоял на пороге, провожал Марию жадными глазами, двумя огоньками гнилушек в разломанном пне.
Мария шагнула на ступеньку.
– И яблочки…
Мария шагнула на другую.
– А хлебец-то свежий!..
Еще вниз шагнула.
– И печеньице, епть!..
Она ступала вниз, все вниз и вниз. По лицу текло соленое, горькое.
2
Сон старика Матвеева сбылся скоро и страшно.
Ночью запахло горелым. Мария вскочила, втянула носом странную, опасную гарь.
Кинулась в комнату к Петру.
– Петь, а Петь… Как ты?..
– М-м-м-м-м-а-а-а-а… Что разбудила…
– Петя, если можешь, встань. Мы, кажется, горим.
Она кинулась к окну.
И – отшатнулась.
Огромное, гудящее рыжее пламя крепко обняло, плотно охватило, грызло угол дома. Красное зарево металось по потолку, по стенам. Марию прошиб ледяной пот.
– Быстро одевайся… Самое необходимое – в сумки…
Она уже заталкивала в сумку пожитки.
Петр встал, застонал от боли в избитом теле. Шарахался по комнате. Забежал в кухню.
– Мама, погоди… Может, пожарку…
– Я стариков разбужу!
Метнулась в подъезд. Огонь плясал на лестничной клетке.
«Что это?! Мог плиту Пушкин горящую оставить. Газ мог рвануть! Старик Матвеев – он же курильщик – мог окурок на плинтус бросить… Все что угодно!» Мария затарахатела в дверь к старухе Лиде. «Не слышит, проклятье, не слышит. Она же сгорит!»
Пока она стучала к старику Матвееву – Лидина дверь завизжала.
– Батюшки!.. батюшки…
– Скорее, Лида, скорее! Одевайся теплее! Шубу! Бери теплые вещи! В сумку!
Матвеев не открывал. «Дверь высадить, что ли?! Такую дверь только ткни…»
Она и ткнула: плечом нажала.
И дверь подалась.
Открыта была.
«Спит с открытой дверью: смерти боится. Или, наоборот, ждет: приходи когда захочешь».
И старик Матвеев твердо вышел навстречу Марии в белых, как степной снег, кальсонах. Высокий, длинный, как жердь. Кавалерист. Старый лагерник.
– Что, Машер, что?!..
– Все сбылось, Василий Гаврилыч! – прокричала она ему в лицо.
И он улыбнулся бешено, светло.
Второй этаж был весь в огне.
Мария стояла на лестнице. Дико, хрипло кричала в огонь:
– Пушкин! Пушкин!
Огонь трещал и гудел, рвал красными зубами черный воздух.
Мария слетела по лестнице – пламя на глазах съедало деревянные гнилые ступени.
Огонь опалил ей волосы и ресницы.
Она выбежала в снежный двор, и Петя дрожащими руками нахлобучил ей ее зимнюю вязаную шапку на затылок.
Во дворе уже прыгали на снегу жильцы.
Они прыгали, рыдали, ругались, выкрикивали что-то снегам, небу. Волокли от крыльца нищие вещи. Старуха Лида мелко, будто солила себя птичьей щепотью, крестилась.
Они, жильцы, стояли во дворе и глядели, как горит их дом.
Как их жизнь горит.
Когда приехала пожарная машина, полдома сгорело. Старик Матвеев, в мохнатой овчинной шубе поверх кальсон и бязевой ночной рубахи, белыми слепыми, сумасшедшими глазами крестил черные обгорелые доски. «Прибыль… прибыль…» – шептал он. Густая пена хлестала из змеиных грязных шлангов. Мария слушала, как музыку, густой мат парней-пожарников.
– Подожгли! Уже который дом в округе…
– И ничего им за это не будет, сволочам!
«Как – подожгли? Кто – поджег?» Слова обожгли ночной, обезумевший мозг и растаяли в белом пламени легкой метели.
Люди бессильно, потерянно стояли на снегу, кто – успев напялить сапоги, тапки, кто – босиком, в наспех накинутых пальто, в старых, траченных молью шубах, стояли и плакали, глядя на злую пляску огня в черной, беззвездной зимней ночи.
Во дворе чернели черепахами старые сараи. Там хранили негодные шкафы; велосипеды без спиц и без руля; изломанные холодильники; подгнившие дрова; древнюю мебель; пустые банки и иную тару. Но не будешь же жить в сарае! А где будешь жить? Зимой, в морозы?
Сгорел почти весь дом. Остался – от него – огрызок. Угол, где ее, Марии, жилье. Теперь все они, все бездомные, будут жить у них?
Варенье, варенье мое, и ты не сгорело… Жженый сахар, райские яблочки…
Жители вытащили из сараев дрова, отыскали пилу, распилили шкафы, подожгли их. Устроили костер. Грели руки. Приседали у огня; грелись. Снова плакали.
Их немного было, жильцов. В доме было всего восемь квартир.
Огонь убивает, и огонь спасает.
Они смотрели на костер, на черные доски и пепел, на поземку, обвивающую ноги, друг на друга. В мокрые, кривые от отчаянья, холодные, бледные лица друг друга смотрели они.
– Мама, как все быстро… – сказал Петр, кусая губы.
И правда, как все быстро, подумала изумленно она.
Подожгли! Пожарные сказали – дом подожгли. Кто? Зачем?
– Да вить известно, зачем! – крикнула сквозь рыдания старуха Лида. – Штобы выселить нас, мусор человечий! Куда угодно! А тут… земля освободится!.. и они, богатеи, роскошный домище себе отгрохают… И будут, как цари!..
– Цари, – глухо, тихо сказал старик Матвеев. – Вот они, наши новые цари. А мы – их новые рабы.
И захохотал – тихо, страшно, безумно.
Мария грела руки дыханьем.
У них сгорела кухня и столовая. Осталась жива кладовка и Петина спаленка.
Ванна на чугунных лапах – жива… Старый чугунный лев…
Рукавицы, ее дворницкие рукавицы. Они живы, не сгорели. Они там, в кладовке. И ее метлы. И ее лопаты. Она завтра выйдет на работу. До шести утра еще сколько там? А, еще два часа.
И – ни одной звезды на небе.
– Пушкин пропал, – сказала Мария одними губами.
Петр услышал.
Ежился на ветру, засовывал пальцы под обшлага «косухи».
– Сгорел, – бросил, как плюнул окурок на снег.
3
Кулак сжался, косточки выпялились из кулака, и кулак громко, неробко постучал в дверь кабинета.
– Да! – раздался гнусавый голос.
Голос звучал так: «К черту подите».
Мария шагнула в кабинет, как в клетку с хищниками.
Быстро обежала пространство глазами. Нет, опасности вроде нет. Не нападут.
Она впервые в жизни была в кабинете, где сидели власти.
– Здравствуйте, – сказала Мария.
Ей не ответили.
– У меня письмо, – сказала Мария и протянула руку с бумагой. – Передать… мэру.
Густо накрашенная женщина за столом даже не повела головой в ее сторону.
За другим столом тоже сидела женщина. Мария покосилась на нее. Вторая дама копалась в бумагах. Похоже, обеим дамам дела не было до Марии.
– Извините, – сказала Мария, повысив голос. Ей захотелось скомкать в кулаке письмо.
– Что вы кричите? – сказала первая дама, не поднимая головы. – Потише.
– Возьмите письмо, и я уйду, – сказала Мария очень тихо.
Нить оборвалась внутри, и она поняла: ничего тут не выйдет.
Первая дама подняла пышноволосую голову, крашеная копна дрогнула. Мария поразилась тому, как зазывно, первобытно размалевано уже стареющее, в морщинах, толстое, надменное лицо. «Не лицо, а рожа. Лицо – зеркало чего? Сердца? Матки ее? Тогда она проститутка».
Дама небрежно протянула толстую руку, не глядя на Марию. Пухлые пальцы унизаны перстнями. Золотыми, с крупными кабошонами. Как у торговки на рынке. Попугайский, крючком, нос дамы брезгливо дрогнул; жирный подбородок тоже дрогнул, без слов говоря: ох и надоели всякие!
Мария опустила руку с письмом.
– Давайте посмотрим друг на друга, – сказала она так же тихо.
И тогда крючконосая дама перевела глаза на Марию.
Густо намазанный кроваво-алой помадой рот раскрылся. Язык задрожал в нем языком пламени. Спокойно, говорила себе Мария, стоять, не упасть. Ей стало страшно и смешно. Глаза первой дамы походили на два белых бурава. Они просверлили Марию до костей.
– Давайте ваше письмо, – проронила дама надменно, как царица. – Что у вас?
– У нас дом сгорел.
Мария переступила с ноги на ногу.
В кабинете стояли два мягких, обитых тонкой кожей, просторных дивана.
Сесть ей не предлагали.
– Дом сгорел? – Дама зевнула, даже не прикрыв рот ладонью. Ее зубы блестели, как лакированные. – Давайте письмо сюда, что вы ждете!
Мария шагнула ближе и положила письмо на стол.
– Здесь подписи всех жильцов, – сказала Мария. Она опять пыталась поймать глазами глаза первой дамы.
– Хорошо. Я передам, – лениво сказала дама и рассеянно передвинула бумаги на столе.
Мария стояла, молчала, ждала.
Первая дама снова норовисто, но уже не лениво-кокетливо, а гневно, рассерженно вскинула голову-копну.
– Ну что вы ждете? Идите, – сказала она.
Мария пошла к двери.
Вторая дама продолжала бессмысленно копаться в бумажной горе.
– Зарочка, не покушать ли нам? Я горячего чайку хочу! Я из дома царского вареньица принесла, и бутерброды с язычком, м-м-м! – сказала первая дама, когда Мария открывала дверь.
Я подам на них в суд. И на тех, кто поджег!
Я подам на них в суд… и на тех, кто поджег…
Никуда и ни на кого ты ничего не подашь. Проглоти слезы и иди. Иди, ступай крепко, жестко по снегу, вот так. Вот так.
4
– Лука килограмм, пожалуйста! Да все, хватит…
– Тут меньши кила-грамма, женщына.
– Ну и хорошо. Так. Картошки сетку… Хорошая?
– Ну какая же зимой ха-рошая картошка, женщына. Вешаю?
– Да, да…
– Шис-дэсят рублей.
– Еще вилок капусты. Не надо! Я сама выберу.
– Не придирайся, женщына. Вот ха-рошая.
– Да, да, спасибо. И еще… чесночка головку.
– Пат-надцат рублей.
– Что так дорого? Может, за десять отдадите?
– Бэри, Бог с та-бой!
Мария бросила в кошелку головку чеснока. Ремни кошелки врезались в ладонь.
Рынок, рынок. Вечный рынок. Все продается и покупается.
И этот лоток с овощами на улице – тоже рынок. Чеченка – или грузинка – или узбечка – продает, а Мария покупает. Кто их собрал, овощи? Кто по дорогам вез? Все это входит в цену еды, что ты купила. А съешь ты это все так быстро.
Не только ты. Еще старики погорельцы, которых ты сейчас должна кормить.
Они тебе пенсию свою суют, но ты не бери. Это стыдно.
Мария протянула торговке деньги. Смуглая косоглазая бабенка лихо подмигнула ей и ловко запрятала купюру под фартук, на живот.
Высыпала мелочь Марииной сдачи на протянутую ладонь.
Деньги, бумажки, кругляшки. Люди играют в деньги уже целую вечность. Когда они перестанут быть детьми? Когда – вырастут?
– Еще двадцать рублей, – сказала Мария, держа перед торговкой раскрытую, с мелочью, ладонь.
Торговка сделала вид, что сильно расстроилась.
– Ах-вах-вах-вах! – притворно-отчаянно закричала. – Извини, женщына, Бога ради! Это у миня калькилятер ебаный! Я тибя – нечайно наебала! На, держи! Вах, толька не ругайся!
Выхватила из-под живота бумажки. Сунула в Мариину руку.
Марии отчего-то стало ее жалко, до боли.
Мария едва успела отойти от овощного лотка, как ее кто-то схватил за локоть.
Она обернулась. Ба! Старая знакомая. Училка, с которой в школе когда-то…
– Сонечка, привет!
– Привет, мать! – Сонечка схватила Марию за плечи, вертела, хохотала. – Ну ты посвежела, мать! В школе – хуже выглядела… Была старушка, стала молодушка!
– Ну, ты скажешь тоже…
Мария поставила тяжелую кошелку на заледенелый тротуар.
Сонечка, оплывшая, как парафиновая хозяйственная свеча, баба лет шестидесяти, выпалила в лицо Марии с ходу:
– Машуль, порепетируй одного ученичка! Ты где сейчас работаешь? Время свободное есть?
Мария опустила голову. Ей не хотелось говорить Сонечке про лопаты и метлы.
И про свой сгоревший дом.
– Есть.
– Ученичок богатый. В смысле, сынок богатеев. Золотая молодежь, х-ха! – Сонечка показала в улыбке черную пустоту между передними зубами. – Мне просто некогда, я работы выше крыши нахватала! Вздохнуть некогда! Телефончик дам? У них дом на Славянской. Трехэтажный особняк. Мать их! Жопы золотые! – Сонечка покопалась в кармане, выдернула из записной книжки листок, стала карябать ручкой телефон. – Паста замерзла на морозе! Ах ты…
– Ты процарапай, – сказала Мария. – Продави. Я разберу.
– У них собака, Машуль, знаешь, лучше нас с тобой ест! – хрипло засмеялась Сонечка. – Из серебряных мисок! С собакой – осторожней. Бульдог!
– Мальчик поступать куда будет? – спросила Мария, сунула листок в карман и подняла кошелку с тротуара. – Вставь зуб-то, Сонька, передний ведь!
– Это любовник мне выбил! – гордо похвасталась Сонечка и по-мальчишьи свистнула в дырку от зуба. – Напился и приревновал! На юридический он будет поступать, на платный! Еще одного адвокатика богатого сделают!
Старуха Лида спала у Марии в кладовке: на ванну настелили доски, притащенные из сарая, положили старое Петькино пальто и старый Мариин плащ, и так Лида спала.
Старик Матвеев спал в Петиной спаленке, вместе с ними. На Петиной кровати. Мария и Петя спали на полу, на одном матраце, валетом. Укрывались куртками и шубами. Старая одежка хранилась в кладовке, потому не сгорела.
Мария почистила овощи. Разожгла, растопила буржуйку. Спасибо тебе, печка, спасительница. Черная труба высовывалась в окно, в приоткрытую форточку. Пламя теплым воздухом, из открытой дверцы, целовало ее замерзшее лицо, заледеневшие руки. Мария прислонила ладони к черным стенкам буржуйки.
Грейся, грейся… Тепло, как хорошо и тепло…
Погрела руки. Накрошила в кастрюлю овощи. Вышла с кастрюлей во двор.
Пошла к водонапорной колонке. С силой нажала на рычаг. Ждала, пока струя воды не пробьет морозную корку.
Вода хлынула; наполнила кастрюлю.
Мария вернулась в дом. Поставила кастрюлю прямо на железный верх буржуйки. Открыла дверцу печки; глядела на горящие доски, на драгоценные яхонты мерцающих углей. Жар шел от буржуйки, разливался по спаленке.
Был еще не поздний вечер, но старики спали. Спала Лида на ванне в кладовке; слышно было – похрапывала. Старик Матвеев спал тихо, на кровати, подогнув под себя длинные, костлявые ноги. Старый конь устал. Сморился.
Они оба почти все время спали – чтобы не плакать. Не видеть мир, что под конец посмеялся над ними золотыми зубами огня.
5
– Раздевайтесь, раздевайтесь! – Слова были любезны, а моложавое, кормленое дорогими кремами, длинное, как у лошади, лицо – равнодушно. – Вот сюда курточку повесьте! У вас сменной обуви нет? Вот тапочки… ваш размер?
На полу стояла шеренга роскошных, расшитых золотом и жемчугом, пухом и мехом, красивейших тапочек. Мария застеснялась и быстро всунула ноги в первые попавшиеся.
– Мария… как вас?..
– Васильевна.
– Мария Васильевна, проходите, пожалуйста! Вы ведь у нас в первый раз?
Да ведь она прекрасно знает, что в первый. Что ж спрашивает?
– Проходите, я вам покажу дом! Вот это у нас прихожая… Осторожно, чтобы вас фонтанчик не обрызгал…
Смешок вылетел из длиннозубого, лошадиного рта. Мать ее ученика была еще молода и очень некрасива.
Мария огляделась. У нее закружилась голова. Стены были отделаны цветным мрамором – кроваво-мясным, иззелена-змеиным. Рядом бил фонтан. Радужные струи с легким шумом падали в дрожащий золотой дрожью, будто живой, бессейн. На мраморном бордюре горела цветная подсветка. Марии казалось – она вошла в детскую сказку, в волшебный дворец.
За маленьким бассейном виделся огромный, плавательный. Изваянные животные, козлы и газели, весело скакали вдоль выложенных яркой мозаикой стен. Со стен на Марию глядели нимфы и нереиды, плескались синие дельфины, из волн вставала нагая баба, держала в руках жемчужное ожерелье.
Хозяйка глядела насмешливо, как Мария смотрит на мозаичную богиню.
– Вот здесь мы плаваем, – весело сказала тетя-лошадь. – Для здоровья. Тимочка такой слабенький мальчик. Ему нужны постоянные водные процедуры. Здесь, на первом этаже, у нас столовая… И каминная…
Мария заглядывала в огромную, как танцзал, столовую; дивилась на прозрачные, будто хрустальные, столы; на сиянье белоснежной посуды; заглядывала в уютную, увешанную медвежьими и волчьими шкурами каминную. Чуть не уронила китайскую, расписанную, наверное, тончайшей кисточкой, большую, как лодка, вазу.
Распятые звери, простите людям. Простите.
– Эпоха династии Тан… антикварная… – Хозяйка облизнулась, будто съела ложку варенья. – Пойдемте, поднимемся!
Было видно, как ей приятно показывать свой богатый дом нищей училке.
Мария послушно шла за хозяйкой по мраморной гладкой лестнице. Заскользила, чуть не упала. Ухватилась за мраморные перила, обожгла холодом руку.
По стенам, в нишах, везде висели картины. Живопись.
Красивые картины. У Марии от их красоты немного закружилась, как от водки, голова. Вот раковина с перламутровым, вывернутым чревом. Вот огромная синяя ваза с кучей цветов: лиловая морская волна ирисов, лед белой сирени, пожар пышных пионов. Пожар. Она на миг закрыла глаза.
– Вы разбираетесь в живописи? – Тете-лошади и не нужно было ответа. – Это самый наш модный художник. Каждая его работа стоит… ну-у, я не буду говорить вам, сколько это стоит!
Сколько же стоит тогда весь твой дом, подумала Мария.
Они поднялись на второй этаж. В текучем, как река, паласе утопали ноги.
– Вот здесь кабинет мужа… Вот здесь детская… Вот тут моя спальня… А это спальня мужа…
– У вас разные спальни? – грубо и глупо брякнула Мария.
– Мария Васильевна! – Выщипанные брови хозяйки поползли вверх, потом она вежливо, изящно рассмеялась. – У нас есть еще и третья спальня, и четвертая! А как же! Для нас, для гостей… У нас есть и гостевая комната! И кофейная! И еще – рабочий кабинет для Тимофеюшки! И еще – зимний сад, он на третьем этаже! И – домашний кинотеатр…
– Третий этаж я смотреть не буду, – сказала Мария.
– Вы устали? Голодны? Вы пообедаете со мной? – наигранно-весело сказала тетя-лошадь. – Тогда спустимся вниз. Кухня на первом этаже. Ах, я забыла показать вам еще баню! Сауну! И котельную!
В кухне тети-лошади можно было потеряться – так велика она была. Все сверкало тундровой белизной. Мрамор, керамика, эмаль, светильники – все било в глаза, чистотой и роскошью сияло. У плиты хлопотала хорошенькая, как с обложки глянцевого гадкого журнала, девочка в белом, обшитом кружевами фартуке. Девочка, отклячив изящный задик, ловко вытаскивала из духовки противень с маленькими, как птички, пирожками. Потом снова наклонилась – и засунула в духовку вертел с наколотой на него куриной тушкой.
– Налей нам вина! – крикнула хозяйка, никак не обращаясь к кухарке.
– Какого, Татьяна Павловна? – с готовностью обернулась девочка.
– Ты знаешь! Французского. Я аргентинские и чилийские красные вина не люблю, хоть они сейчас и в моде!
Темная бутылка в тонкой руке девочки летала, порхала над длинными стеклянными бокалами. Разлив вино, она так же ловко и быстро зажгла две свечи в странных, никогда Марией не виданных светильниках, и по кухне растекся тревожащий, сладкий запах.
Тетя-лошадь взяла бокал и, прищурясь, придирчиво рассмотрела вино на просвет.
Девочка без звука, бесшумно, расставила на стеклянном столе обеденные приборы. Подала супницу. Разлила дымящийся суп серебряным старинным ополовником. «Тоже антикварный…» – подумала Мария. Она страшилась взять в руки старинную серебряную ложку.
– Фамильное серебро? – спросила.
– Не-ет! – закинула в хохоте голову хозяйка. – Муж из Италии привез! С аукциона… Вы ешьте, ешьте, Мария Васильевна! Черепаховый, между прочим, супчик! Тортю, как раньше говорили!
– Чере…паховый? – Мария все-таки взяла ложку, осторожно, как скорпиона. – А, извините… хлеб вы к обеду не…
– Я не ем хлеба! – гордо вскинула голову тетя-лошадь. – Я – худею! В нашем доме все едят без хлеба! – Повернулась к кухарке. – Подай второе!
– Сразу? – подобострастно улыбаясь, чуть приседая, спросила девочка в фартучке.
– Да. И уйди!
Девочка вытерла руки о полотенце и мигом убежала.
Хозяйка подняла бокал.
– За успех моего Тимоши! – мечтательно сказала, закрыла глаза и отпила половину бокала. Мария тоже пригубила терпкое, чуть горьковатое вино.
«У кухарочки же есть имя», – подумала Мария, зачерпывая ложкой черепаховый суп.
Вкусно было необыкновенно. Голова закружилась еще сильнее.
Тетка права, она и правда голодна. Надо есть. Но не жадно. Не быстро. Так. Вот так. Еще медленнее. Еще…
Все равно ее тарелка уже опустела, когда хозяйка еще возилась с супом и странно, совсем не аристократически, а как-то по-свинячьи причавкивала над ним.
Перед ней стояла огромная серебряная тарелка со вторым блюдом. Мария бессмысленно поскребла ногтем металл драгоценной посудины.
– Да, да, серебро высшей пробы! – Хозяйка снова отпила вина, уже одна, без Марии. – Кушайте, пожалуйста! Свининка, фаршированная грибами! Немецкий рецепт! У меня муж в Германии…
Дверь открылась сама собой, и Мария вздрогнула.
Чап-чап, царап-царап – застучали по полу когти.
Мария опустила глаза и увидела: громадный черный пес, бульдог, в расшитом серебряными блямбами ошейнике, настороженно глядя перед собой выкаченными глазами и потряхивая слюнявыми брылами, идет к ним, к столу.
– Ах ты моя душенька! – закричала хозяйка умильно. – Ах ты мой сладенький! Чарли! Чарлушенька!
Чарли близко, очень близко подошел к женщинам за столом – и сел, и уставился на Марию. От избытка чувств раскрыл пасть и пустил слюну. Слюна свисала у пса с зубов длинными серебряными нитями. Он издал кряхтение: «Гха-а-а» – и вдруг положил тяжелую башку на колени Марии.
Мария сидела без движения. И без дыхания.
– Не бойтесь, – довольно сказала хозяйка, – он не укусит. Он вас признал! Чарлушенька, голубчик! Поди поешь.
Пес снял голову с колен Марии и, цокая когтями по гладкому, выложенному белой плиткой полу кухни, побрел к своим мискам.
Миски не стояли на полу. Они висели на черном штыре над полом – большие, тоже, кажется, серебряные. В мисках возвышались горы еды.
Горы мяса, рассмотрела Мария.
Настоящего, хорошего мяса. Вырезки. Не костей.
– Поешь, моя собаченька! – пела хозяйка.
Мария украдкой вытерла ладонями обслюнявленную псом юбку.
– А где Тимофей? – спросила она.
– Сейчас придет, – беспечно ответила тетя-лошадь. – Он на тренировке, в фитнес-центре, потом он у меня ездит верхом! – Ее глаза любовно заблестели. – Отец ему коня купил! Такой красавец конь! Загляденье. И уздечку, и седло, и всю сбрую! И даже – плетку! Что же вы не едите свининку? Грибочки, между прочим, не так себе… трюфели… Вы знаете, сколько стоит один такой грибочек?..
Мария поперхнулась. Закашлялась. Хозяйка выдернула из вазочки салфетку и брезгливо подала ей. Мария выкашлялась, утерла рот, отодвинула тарелку и сказала:
– Спасибо. Очень вкусно.
«То, что я не доела, Чарли отдадут». Мария повернулась и поглядела, как ест собака. Черные вислые яйца пса блестели, как черные лампы.
Мария все-таки дождалась мальчика, хотя тот появился через два часа после обеда. Хозяйка утомилась развлекать репетиторшу, оставила ее в кресле с глянцевым журналом, а сама удалилась в сауну: «Пойду попарюсь! Здоровье прежде всего!»
Но в баню – с собой – не пригласила…
Еще чего, будет она всякий сброд с собой – в роскошную баню – приглашать…
А мы – сброд для них?..
Ну да, как же. Конечно, сброд…
Но мы кое-что умеем и знаем, то, чего не умеют и не знают они, и они без нас – не могут…
Мальчик появился, и Мария поразилась его худобе, нежности, показной грубости, дрожащей беззащитности юности, взращенной в богатой теплице. «Тимофей! – выдохнул он, сдвинув каблуки, как суворовец. – А вы… Марья Васильевна?.. очень приятно». Богатый, а такой худенький, с жалостью подумала Мария.
Они вдвоем уселись за огромный, как плот, стол в его «рабочем кабинете». На столе сидели куколки, много игрушечных лохматых человечков: и девочки, и мальчики. Ребенок, он же еще ребенок, а его – в бассейн, в спортзал, на коня, носом в книжку, носом – в постель… Так же, носом в девочку, тоже богачечку, и выдадут замуж… тьфу, женят, конечно…
Ты из русских писателей кого читал, устало спросила Мария. Тимофей пожал плечами. Молчал.
Глядел на ее тяжелые, рабочие, с синими ветвями вен, большие руки, лежащие на мраморном, в пламенных, огневых узорах, гладком как зеркало столе.
Мария ждала, ждала терпеливо.
Она не так задала вопрос. Она поправилась.
В смысле – любишь кого, уточнила.
«Пушкина», – сказал мальчик тихо, как ей показалось, насмешливо.
Потом Мария много правильного говорила, а мальчик, вынув из ящика стола аккуратную тетрадочку, быстро писал.
Когда они уже заканчивали, в комнату вошла распаренная, краснолицая хозяйка. Вокруг ее головы был наверчено ярко-красным тюрбаном полотенце. От нее хорошо, пряно и свежо, пахло.
– Два часа уже работаете! – бодро бросила она.
«Сказала, будто плюнула», – подумала Мария.
Она встала, огладила на коленях юбку.
– Деньги вам сразу? – брезгливо и вместе покровительственно спросила хозяйка. Ее лошадиный рот дрогнул и обнажил в вежливой улыбке длинные зубы.
Мария покраснела. Кровь забилась у нее в висках.
– Сразу, если можно.
Хозяйка подошла к шкафу, небрежно выдвинула ящичек, не глядя, выхватила несколько купюр, так же не глядя протянула Марии.
И Мария взяла эти деньги, взяла послушно, покорно, как пес берет у хозяйки еду из пахнущих французским мылом рук.
Мялась в смущении. Не знала, куда положить.
Хозяйка, как на подопытного кролика, глядела на Марию, лошадино, нагловато улыбалась.
– У меня сумочка в прихожей осталась, – сжимая деньги в кулаке, с красными как помидорины щеками, сказала Мария.
Когда они уже топтались в прихожей, и Мария надевала куртку, и журчал за спиной фонтан, роняя длинные струи в бассейн, Мария неожиданно для себя сказала хозяйке:
– Вот у вас картины… Знаете, я хотела бы… У меня есть художник один знакомый. Очень хороший художник. Просто превосходный. – И опять краска залила ей щеки: она слишком сладко, приторно хвалила Федора. – У него есть одна картина, так она вам очень подойдет. Вашему дому.
– Что за художник? – спросила тетя-лошадь так, будто говорила: «Знаем, знаем, какие у тебя, нищенки, могут быть знакомые художники». – Известный? У него есть выставки, каталоги? У кого он в коллекциях?
– И выставки есть. И каталоги есть. – «Только денег нет». Она вскинула выше голову. – У него одна работа даже… в коллекции королевы английской.
– Хм! – сказала тетя-лошадь.
– Можно, он принесет вам картину, покажет?
– Что за картина? – Хозяйка склонила голову набок, как птица, и полотенечный тюрбан мягко свалился у нее с головы; она успела поймать сырое полотенце, набросила себе на плечи. Мария глядела на ее жиденькие, мокрые, веревочные волосенки. – Может, я лучше подъеду к нему в мастерскую? Где у него мастерская?
Мария чуть не зажмурилась от ужаса, представив пещерный подвал Федора.
– Нет-нет, он сам привезет, – выдохнула она торопливо, готовно. – Он… ему так удобнее.
– А, ну да, на машине, да…
«Пешком через весь город попрет». Мария постаралась красиво улыбнуться.
– Да.
– А что изображено? А называется как?
– «Песочные часы». Три женщины… три женских торса. На фоне пустыни… золотого песка… Женщины – сами – как песочные часы… Время в них течет… И песок. Женщины нагие, смуглые, груди вперед, талии тонкие, бедра широкие…
– Очень эротично, – прищурясь, – процедила хозяйка. – Пусть привозит. Оценим. И, может, купим. Какой у вашего мастера размах цен?
– Что, что? – переспросила Мария.
Хозяйка поморщилась.
– Это как вы сами решите… как договоритесь, – поправилась она.
Где-то далеко, в комнатах, весело взлаивал слюнявый бульдог Чарли.
6
– Федя, Фединька!..
– Что ты, что ты, Маруська моя… И кулаком стучала в открытую дверь…
– Фединька, вот адрес, вот бумажка…
– Да что ты, душа моя, как заполошная… Куда бежишь?.. И не пройдешь?..
– Фединька, срочно по этому адресу иди, картину бери и иди…
– Да какую картину, что ты, Машулька, спятила?.. ух, безумица моя…
Целовались жадно, опять стоя, в темноте, опять как ночью на вокзале, будто на поезд опаздывая.
И правда: время уходило, утекало, убегало, как поезд.
– Неси «Песочные часы»… Там баба одна, ух какая богатая… Муженек у нее – вор в законе, что ли, такие апартаменты, в центре города, на Славянской… Прямо сейчас иди!.. Картину заворачивай в бумагу, в тряпку какую-нибудь – чтобы снегом не побило, не промокла – и иди… Ступай, говорят тебе!..
Пили друг друга, как воду холодную, вкусную, в пустыне.
Задыхались.
– Сейчас, сейчас… Иду, иду…
Федор, прежде чем войти в огромный, роскошный, богатый дом, выкурил перед подъездом две сигареты. Бросал окурки под ноги, в пухлый, нападавший за вечер снег, давил подошвой старого ботинка. Да-а, ботиночки… Да-а, художничек… Не светский лев, нет. А друзья твои – все светские львы, что ли? Да таких, как ты…
Не додумал. Схватил золоченую ручку дверную, зло, с силой рванул на себя.
Хозяйка обсмотрела его мгновенно, все сразу поняла – и то, как дрожащими руками разворачивал холст, согнувшись над ним, как над больным ребенком, выпрастывая из старой грязной тряпки; и то, какие башмаки тертые, худые; и то, что зубов во рту раз, два и обчелся, будто цынгой на севере болел; но когда он освободил полотно от тряпок, она не сдержалась, втянула воздух: «О-о!»
Свет с холста ударил в них обоих, как если бы от входа в пещеру откатили камень, и солнце брызнуло в чахлую тьму.
– Сколько вы за нее хотите?
Хозяйка уже знала, что художник ответит.
Федор переступил с ноги на ногу. Еще раз переступил.
– Да, это… Сколько вы дадите…
Хозяйка усмехнулась.
– Хорошо. Подождите тут.
Федор стоял в прихожей, вцепившись в подрамник. Хозяйка ушла. Он остался один и завертел головой, рассматривая фонтан, бассейн, живопись на стенах, роскошные, алмазно играющие люстры на потолке.
– О-е-о-о-ой, – тихо бормотнул себе под нос, – ни хрена себе домулька…
У него заломило скулы от чужой роскоши. От созерцания иной жизни, которой он не будет жить никогда.
Захотелось скорее убежать отсюда. И больше никогда не приходить.
Вошла хозяйка. Несла в пальцах конверт. Брезгливо, как дохлого паука.
– Ваш гонорар, – сказала тягуче, в нос, манерно.
Федор взял – и чуть было не поклонился.
– Спасибо, – сказал. – Пусть моя работа тут…
И оборвал, повернулся и к холсту, и к хозяйке спиной, и вышел, в смятении забыв попрощаться, сгорая то ли от стыда, то ли от радости, то ли от чего другого.
На улице валил снег. Федор, закрывая огонь спички рукавом и ладонью, закурил с облегчением. Долго, жадно втягивал, всасывал дым. Дым как снег, подумал, все курится и курится, все идет и идет. А когда-то сигарета докурится. И другой – не раскурю.
Он сунул руку в карман. Вытащил конверт.
И опять сунул в карман. Ему не хотелось глядеть, сколько ему – сунули. Сколько он на самом деле стоит.
А когда уже прошел мимо старой ели и подходил к дому – понял сердцем, что Мария здесь, что не один он сейчас будет; и быстро скатился вниз по лестнице, и толкнул дверь, и да, да, она была уже здесь – и топила печь, дрова в печную глотку накладывала, кормила ее.
Мария подняла голову.
«Разрумянилась, красавица…»
– Машка! Машка…
Он видел, как она улыбается. Он так любил эту ее счастливую улыбку.
– Машка, купили! Купили…
В подвале была темень, только огонь из распахнутой печи бегал по стенам, играл на смеющихся лицах.
– Правда?! Ну да, так я и знала!
Вскочила. Обняла.
Опять к печи, к дровам бросилась. Кочергой ворошила. Искры сыпались, золотые, крупные, как зерна.
Федор повел головой, глазами. На столе уже бутылка стояла, селедочка ровненько порезана была, и с лучком уже, с маслицем.
– Уже успела… прохиндейка!..
Склонился, исцеловал ее наклоненный к огню, горячий затылок.
– Тепло?.. Хорошо натопила?.. Сколько тебе богачка отвалила?..
Она смеялась, и глаза ее смеялись.
И внезапно сделалась грустной, молчаливой.
Он знал, о чем она сейчас подумала. О том, что – мало, жалко, плохо… что – насмеялись…
Он вытащил конверт из кармана. Размахнулся и бросил в печку.
И Мария поймала конверт на излете, около огненной, плюющей искрами пасти.
– С ума сошел, дурачок, что творишь…
Развернула. Вытащила деньги.
Они оба глядели на эти деньги. На то, во что превратилась его работа. Его жизнь.
– Негусто, – Мария сглотнула слюну. – У-у-у-у…
На ее ладонях лежали жалкие деньги. Маленькие деньги.
На них можно было купить… ну что, например, купить? Несколько килограммов винограда? Мешок сахара сюда, в подвал, на зиму? Чтобы чай пить без забот? Да, чая много тоже можно купить… Хорошего – пачек двадцать, может…
У нее часто, гулко застучало в висках.
– Да она просто… посмеялась над тобой…
Он сел на корточки около нее, сидящей на крошечном табурете у печки, и нашел губами ее сухие, тревожные, обиженные губы.
– Плевать. А мы – посмеемся над ней. Вот прямо сейчас и посмеемся! – Он поглядел на лаково, ртутно блестевшую, узкогорлую бутылку на захламленном столе. – А селедочка-то уже смеется… Ты – купила, эх, а я ничего не купил… на свой гонорар, ха-а-а-а-а-а… идиот я… ну, валенок…
Огонь дышал в них из зева печи, будто выдыхал: ха! ха!
Огонь тоже смеялся. С ними. Над ними.
Мария взяла лицо Федора в руки, как большую раковину.
И глядела в лицо, в глаза, как внутрь раковины: искала и видела драгоценность, светящуюся жемчужину.
– Везде деньги, – медленно истекали из нее слова. – Везде деньги… и обман. А мы…
Он взял в руку, в ладонь, как круглый перевернутый бокал, ее теплое колено.
– А мы, – перебил он ее, – не можем их заработать столько, чтобы – жить. А только – столько, чтобы – выжить. Мы же только выживаем, Машенька. Марусенок мой… Тепло как, жарко уже… Вспотеем… Два суслика…
Он поцеловал ее глаза – один, другой глаз.
Потом поцеловал ложбинку, впадину между грудями, куда не доходила хрустальная низка.
– Выпьем? – весело спросила Мария, и глаза ее весело, насквозь, как два дареных хрусталя, просвечивал бешеный огонь.
ИЗ КАТАЛОГА Ф. Д. МИХАЙЛОВА:
«Картина мастера «Медвежий сон» заставляет вспомнить, с одной стороны, утонченные лирические пейзажи Камиля Коро, с другой – призрачные ретро-видения Борисова-Мусатова.
Тонкоствольные деревья тянутся к льющемся сверху свету, нежно, податливо изгибаются, как стройные девичьи тела. Ветви-руки сплетаются, вытягиваются, раскидываются, пытаясь обнять ускользающее, невидимое Время. За деревьями плывут и тают нереальные холмы, похожие на очертания женских грудей, животов, плавно изогнутых бедер; это холмы-призраки, сама женская, первозданная плоть матери-Земли, на глазах становящаяся чистым, беспримесным духом. Вот это слияние плотского и духовного и удивляет в творчестве художника. В век торжества материи и победы жадного прагматизма над бескорыстной духовностью Михайлов имел мужество смотреть внутрь себя и изображать на холстах Мир Невидимый».
ИНТЕРМЕДИЯ ГЛЯНЦЕВАЯ КАНЦОНА. БРОШКА НА КОШЕЧКУ
– Ну, фу! Неужели ты хочешь взять это говно! Я такое говно ни за что не взяла бы!
– Дорогая! Ты это ты, а я это я! Это совсем не говно!
– Ну-у-у, дорогая! Я тебе говорю – это говно, настоящее говно! Говнее не бывает!
Две очень красивых, очень богатых и очень знаменитых девушки стояли в очень модном бутике и покупали себе наряды.
На их голых локотках болтались сумочки, в сумочках лежала всякая ерунда, а еще – пластиковые карты. На картах лежали деньги. Ну, в том смысле, что деньги лежали в банке. Но на картах обозначалось, сколько денег в банке лежит.
Если бы вы поглядели на содержимое карты, вы бы обалдели от количества нулей в цифре, обозначающей деньги.
Или не обалдели бы, а выругались бы матом.
Ну и толку что в вашей ругани бессильной?
Откуда, откуда у красивых девчонок, просто – жительниц нашей страны, вот такие вот деньги? Ну откуда?! Никто не знает. Значит, девчонки-то не простые.
А какие?
А золотые.
– Эй!
Которая была белобрысая, с золотыми волосами, скрюченным пальцем подозвала продавщицу.
Продавщица подбежала услужливо, живенько: шутка ли, в их бутике сами эти! Ну, эти! Знаменитые!
– Слушаю вас!
Угодливо изогнула спину.
И как это человечек может так ловко, изящно прогибаться? Где там у него в спине хрящ? Позвонок лизоблюдства?
Еще и присела, полуприсела как-то, коленочки подогнула.
И правда, эта, золотая, на три головы выше ее была.
– Я беру это, хоть это и говно. – Золотая кинула на прилавок из-за шторки раздевалки стринги с вплетенными в них золотыми нитями. – Мне золотая прошивка нравится!
– Ну чистое говно, – презрительно сказала ее черненькая, коротко стриженная спутница.
– Мне нужно еще много чего, – сказала золотая.
– Все к вашим услугам! – сильнее изогнулась продавщица.
– Два, нет, лучше три хороших купальничка, лучше от Готье. Я скоро лечу на Бали, немного отдохнуть… покупаться!..
– От Готье у нас, наверное, нет, – продавщица покраснела, – это ведь дизайнер Мадонны…
– На хуй Мадонну, – сморщив нос, сказала золотая. – Потом такое короткое платьишко, металлическое, ну, знаете, из металлических кругляшек?.. это сейчас просто супер…
– Металлическое? – У продавщицы медленно заливалась краской голая шея.
– Ну да, да! Ты что, не в курсе! От Пако Рабанна! Старичок снова в фаворе. Добаловался железяками! Футуризм, йес! – Золотая выбросила вверх кулак.
Продавщица переварила это надменное «ты».
– У нас от Рабанна только вот… блузоны…
– Потом еще шокинг какой-нибудь! Ну, там от Нейл Барретт что-нибудь…
Продавщица стала уже густо-малиновой.
– От Нейл… Барретт?..
– У тебя кто хозяйка? – спросила золотая и взяла рукой продавщицу за подбородок. – Говори живо!
– Ольга… – Продавщица сглотнула. – Игнатьева…
– А, Оля Игнатьева! Вот пусть Оля тебя и выгонит отсюда с треском! Мне шокинг нужен обязательно! Что-нибудь из ряда вон! Все равно что! Готика! Гранж! Минимализм! Топлесс, но не для пляжа – для вечера! Юбка сзади длинная, спереди мини, грудь голая! Самый визг!
Продавщица пятилась.
Золотая оттопыривала губу.
Черная хохотала.
– Сейчас, – сказала продавщица беззвучно, заученно улыбаясь, – подыщем…
Порылась в куче дорогих тряпок. Вытащила длинную, черную как ночь тряпку.
– Вот… То, что вы хотели… Для – вечера…
Золотая переодевалась, не задергивая шторку раздевалки. Черная спокойно, с улыбкой смотрела. Закурила.
Продавщица кусала губы. Не смела сказать: у нас не курят.
Черная стряхивала пепел прямо на мраморный пол бутика.
Золотая, голая, изгибалась перед зеркалом, влезая в юбку.
Все было так, как она и хотела. Сзади длинная, хвостом пол мела; спереди – еле передок прикрывала.
А грудь? Что грудь? Грудь была, как и заказано было, топлесс.
То бишь – без всего.
– Слушай, ты в этом какая-то… древняя, – сказала черная, отводя руку с дымящей сигаретой вбок.
Золотая вышла из раздевалки.
Посетители бутика не сводили с нее глаз.
Продавщица тоже во все глаза глядела. Молчала.
– Древняя, это в каком смысле? Что, старушка уже?
Золотая подмигнула черной.
– Да нет, мать, ну что ты. Ну, как богиня.
– Я – богиня! Да!
Золотая вскинула патлатую, намазанную гелем голову. Прошлась по бутику взад-вперед. Все замерли. Глядели на ее голую грудь. Белые, как сметана, твердые груди стояли холмами, соски остро вздымались. Кончики грудей были выкрашены золотой краской.
– Отлично, – сказала черная, досасывая сигарету. Затушила окурок о стекло витрины.
– Отлично? Сейчас проверим, – сказала золотая.
И рванула на себя дверь бутика.
Черная и продавщица ничего не успели ни сказать, ни подумать.
Золотая уже вышла на улицу в вечернем костюме топлесс от Нейл Барретт.
Такси засигналили. Машины загудели. Прохожие останавливались. Пацаны поднимали вверх большие пальцы. Тетки с сумками плевались.
К золотой, отдавая честь, подошел милиционер.
– Извините, – сказал милиционер, уставившись на ее позолоченную грудь. – Извините! Это не киносъемки?
– Не киносъемки!
Золотая откровенно хохотала.
– У нас нельзя, – растерянно сказал милиционер, – вы не иностранка?
– Из перерусских русская! – крикнула золотая. – И это моя страна! Что хочу, то и делаю!
Она протянула руку и потеребила кончик милицейской дубинки, торчащей из-под руки милиционера. Придвинула к нему нагло, близко торчащую грудь. Медленно облизнула губы. Язык описал похабный круг. Золотые соски уперлись в сукно милицейской формы.
Милиционер отодвинулся.
Потом опять придвинулся.
– Ну что вы, – сказал невнятно. – Что… вы…
Потом резко отпрянул – быстро выхватил свисток – и засвистеть не успел.
Золотая одним незаметным движеньем ловко выбила у него из пальцев свисток.
И так же стояла; грудь выпятила; и так же нагло, зазывно глядела.
Свисток валялся далеко, на мостовой.
– Ходите тут, уже обнаглели, – зло сказал милиционер, красный весь, тяжело дыша, – блядюги… Мало вам стоянок… Мало из-за вас аварий…
Цапнул золотую за голое плечо. Заорал:
– Где тут твой притон, тварь?! Говори!
– За оскорбление ответишь, – спокойно, весело сказала золотая, не стряхивая цепкую руку милиционера со своего плеча.
Машины гудели.
Черная вышла из бутика, стояла в двери, опять курила. Искренне веселилась.
Милиционер и золотая смотрели друг на друга, как два зверя перед схваткой.
– Я?! Отвечу?! Это ты ответишь! Где притон?!
Он выхватил из кобуры револьвер.
Золотая плюнула натурально, слюной, на револьвер в руке мента.
Слюна поползла серой жемчужиной по черной стали ствола.
– Не трудись. Ты что, меня не знаешь?
Милиционер стоял со вскинутым револьвером, белел, краснел. Его лицо ходило волнами.
– Тебя, тварь?! Да тут тебя все…
Узнал. Побледнел.
Револьвер клюнул железным носом вниз.
– Ч-ч-ч-черт… Да ты же… Да вы…
Золотая нежно, соблазнительно вынула револьвер у него из руки, и рука разжалась, выпуская железную птицу.
И она закинула голую руку ему за шею.
Черная, прищурившись, покуривая, смотрела, как золотая и милиционер целовались взасос на краю тротуара, почти на мостовой.
Машины сигналили без перерыва.
Золотая выпустила добычу из когтей, и слегка оттолкнула от себя.
Парень стоял ни жив ни мертв.
Золотая протянула ему револьвер.
Он взял его, как под гипнозом.
– А теперь ты мне скажешь свое имя и адрес управления, где ты служишь, – тихо и нежно, сладко сказала золотая. – И я засужу тебя. И, если ты не сядешь в тюрягу, дрянь, ты заплатишь мне компенсацию за моральный ущерб, понял? На миллиончик-другой я тебя нагрею, понял?!
– Понял, – потрясенно выдавил милиционер.
Машины гудели.
Останавливались рядом, у бордюра.
Из одной машины, опустив стекло, высунулся водитель, восхищенно оглядел золотую, выкрикнул:
– Эй, вы! Офигенно смотритесь! Парочка! Я снял вас! На камеру!
Золотая оглянулась через голое белое плечо и крикнула водиле:
– Сотри снимки сейчас же! Номер машины запомню! Мало не покажется!
Водила узнал золотую. Забормотал быстро:
– Эх ты, ну да, конечно, щас!.. я щас, мигом… не беспокойтесь…
Назвал золотую по имени-отчеству – его знала вся страна.
– Вот видишь, народ меня знает. Мой народ! – крикнула золотая прямо в лицо менту, и меж жемчужных зубов пробрызнула слюна. – А ты говоришь, падла, – блядюга!
Повернулась. Пошла. Под аккомпанемент машинных резких гудков.
Черная захлопала в ладоши.
– Ловко ты его.
– Моя милиция меня бережет, – сказала золотая.
Продавщица приседала уже откровенно, будто в туалете над биде.
– Купальнички, для Бали, для океана, смотреть будете? От Анны Молинари, миленькие такие, по тридцать тысяч евро купальничек, совсем недорогие, – радостно, бодро сказала, как в детской радиопередаче.
– Буду, – сказала золотая. – А у тебя есть брошечки хорошенькие? Дешевенькие? Евро зы тыщу приблизительно. Мне надо на кошечку.
– Брошки?.. Для кошки?.. Вообще-то брошки есть… Но не для кошек… А для стильных дам, вроде вас…
– Дура ты, – сказала золотая и засмеялась. – На кошечку. На мою. Вот сюда.
И ткнула себя в низ живота.
Ну, вы поняли, куда.
Чуть повыше подола короткой спереди, длинной сзади, черной вечерней юбки.
ЧЕРНАЯ БАЛЛАДА. ГРИБЫ
У матери моей был отпуск, ей захотелось уехать из города, чтобы не видеть свой участок, не видеть, хотя бы пару недель, нашей нищей хаты и своей дворницкой метлы в кладовке. Мать оставила мне немного денег, сказала: экономь, – и поехала, с подругой, куда-то в Подмосковье, хрен его знает.
Я остался один.
Я долго не мог быть один. Никогда. Так всегда было.
Один побуду – в ящик попялюсь – чаю попью бесконечного целый день – и все, и тоска. Хоть вешайся.
Мне общество нужно. Всегда было нужно.
А тут – вот чудо привалило. Степан. И его ребята.
И революция.
Наша революция.
Я счастлив был, что Степан появился.
Когда я узнал, на сколько он меня старше, я даже испугался. А я-то его на «ты»! Да еще матерками! А он – вон он какой. Матерый волчище. Волчара.
Вождь, в натуре.
Вождей не так много в мире.
У всех революций всегда были вожди.
Нас, щенят, и должен волк матерый, вожак, за собой вести.
Иначе мы со следа собьемся; заплутаем. А то и с голоду помрем.
А нам, для того, чтобы победить, надо быть умными, здоровыми и злыми. И след не терять. Никогда.
Я остался один, но я уже был не один.
Уже со мной был Красный Зубр. Уже был медленный Паук в неснимаемых черных очках, умный очень. Уже в помощники мне Степан отрядил презабавного парня, хромого на одну ногу, он с тросточкой ко мне приходил: назвался Кузя.
Мы что-то делали уже, мелкое, не крупное, да, но для революции полезное.
И над нами – далеко – в столичных небесах – пес знает где – висел, маячил, сиял – далекий и великий Еретик.
Еретик – это был Еретик.
Он восстал против всего святого. И против всего дерьма.
Он писал книги. Он кричал на наших митингах. Он снимал фильмы. Может быть, это были плохие книги, нелепые речи и говенные фильмы. Но для нас они были самыми лучшими. Потому что мы понимали, знали: плохая, но правдивая правда лучше и чище самой великолепной, самой жемчужной лжи.
И ересь – да, ересь, я знал это, она была живее всякой святой мертвечины.
Потому что пока живой живет, он хочет живого.
Он не хочет плыть в Мертвом море.
Да в нем далеко и не уплывешь. Скоро сдохнешь.
Мать уехала; я был один; сутки болтался один.
А на второй день заявился хромой Кузя с тросточкой. И принес бутылку водки.
Мы сидели и хорошо пили, я закусона набрал, когда позвонил Красный Зубр.
– Приходи, Зубр, – сказал я с набитым ртом в трубу, – затарься только.
Зубр затарился на славу.
Две бутылки «Золотой Хохломы». И батон копченой колбасы.
– Ты наследство получил, Зубрила, а? – спросил я.
– Подработал на хлебозаводе, – нехотя сознался Зубр.
– Пауку позвони? – сказал я.
Зубр позвонил.
Паук подгреб, молодец.
Мы замечательно загудели.
Мы гудели долго, три дня из хаты не вылезали. Пили за революцию. За победу. Все прокурили. Сигаретами одеяла и матрацы прожгли. Хорошо, что хату не подпалили. А вполне могли бы.
Ночью Паук растолкал меня. Я лежал весь в клубах синего противного дыма. Горело одеяло, и еще тлела обивка старого дивана. Я, сонный, с чугунной башкой, скатился с дивана, больно ударился об пол локтями и задом. Паук спал на полу, на матрацах. Они, кажется, тоже горели. Зубр встал, он вообще на полу спал, в одежде, прямо в берцах, без всякой постели, как герой в полях, стал страшно ругаться и тушить огонь. Набрал полный чайник воды и лил на диван, на матрац, на пол, мне на голову, Пауку за шиворот. Мы орали. Зубр выкинул в форточку все банки с окурками.
– Мать тебя прибьет, когда приедет, – высвистел сквозь зубы Зубр.
Кузя спал как убитый.
Как сурок.
Он спал как убитый сурок.
Мы отоспались и гудели еще два дня.
Потом мои друзья по партии ушли.
А потом я обнаружил, что денег, которые оставила мне мать, больше нет.
Ни копейки.
«Ну что же, – подумал я весело и растерянно, – что же, что же… Поеду собирать грибы, что ли».
Стояла ранняя, ясная осень, и уже серебрились утренние холода.
Я нашел в кладовке, средь разного прекрасного старого мусора, корзинку, слегка подлатал ее дырявое дно, отправился на вокзал, сел на электричку, идущую на север, в леса, и поехал. На контролеров не нарвался.
Вылез на станции Линда. Деревенька рядом со станцией. Грязная дорога, вся в кочках, в лес ведет. Я по ней пошел, корзинку к боку прижимая.
Шел-шел, шел-шел… вот он и лес.
А если здесь грибов ни хрена нет?!
«Папанинцы на льдине вроде ремни варили, ну, я листьев наберу и зеленые щи сварю, – думал я сумасшедше. – А потом еще чего-нибудь наберу. А потом еще…»
Я остановился. Прямо передо мной, под ногами, шоколадно блестели какие-то кругляши. Я наклонился.
Это были шляпки грибов.
Конец света! Их тут была тьма!
Я проглотил слюну. Я представил себе огромную сковороду жареных грибов. Остатки масла подсолнечного у меня были, на дне бутылки. Потом представил кастрюлю, доверху полную грибным супом. С ломтиками картошечки. С листом лавровым и шариками черного перца. Даже запах ноздри защекотал.
– Ах вы мои ми-и-и-илые…
Я присел на корточки, вынул из кармана нож, большим пальцем вывернул лезвие и стал тихо, осторожно, приказывая себе не торопиться, срезать грибы.
Шут их знает, как они назывались!
Мне это было по херу.
Грибы, и все.
Я втягивал в себя слюну, радовался и старательно, ласково срезал им головы.
И вдруг я услышал – сбоку от грибной щедрой дорожки – странный стон. Такой длинный, тяжкий стон. Но не взрослый. А вроде детский.
Будто ребенок там лежал, в кустах, и тихо стонал, умирая.
Я застыл с ножом в руке.
А если там, рядом с ребенком, те, кто угрохал его, подумал я?
И пот облил мне спину.
Прислушался. Ни хруста ветки. Ни стона. Тишина.
Я долго слушал тишину. Потом отважился.
Тихо, вдумчиво ступая по палым, пахучим листьям, пошел к кустам.
И только подошел – опять раздался слабый стон.
Я, сжимая в пальцах грибной нож, наклонился и раздвинул сирые, полуголые кусты.
В кустах, на земле, в грязи, лежал, как червячок, человек.
Я обежал его всего глазами. Какое там мужик! Пацан. Мальчонка. Белобрысый. Волосы белые на затылке, надо лбом вверх торчат, будто нарочно ирокез сделал.
Перед кем ирокезом – в лесу – козырять? Перед белками?
Я подергал его за этот белый ирокез.
– Э-э-э-эй, – протянул я, – ты как? Ты как тут…
Пацан застонал громче. Перевернулся с бока на спину.
Раскрыл навстречу мне, снизу вверх, глаза.
И я увидел, что он зажимает рукой себе бок. А по пальцам липкое, красное ползет. На землю. На гнилые листья.
На грибы, что – рядом с ним, под ним, раздавленные им.
– Ну ты как же… Ну ты что…
Я сел на корточки. Сунул нож в карман. Мысли ворохались в голове тяжелые, плохие, но быстрые.
Глаза у пацана были тоже белые, как волосы.
Думать дальше было некогда. Я подхватил его под колени и под мышки, поднял и понес.
Пронес, обдираясь, сквозь кусты, сквозь бурелом, к тропе.
– Мать твою, – громко сказал над его белой головой, – а жрать-то нам будет в натуре нечего. Грибы! Погодь, друг… полежи чуток…
Я положил Белого на землю, и он снова тихо простонал. Выстонал какое-то слово. Вроде: оставь меня.
Я вернулся за корзиной. Ничего уже не думая, вытащил из кармана джинсов никчемную старую резинку, вот для чего она, оказывается, тут лежала, – привязал резинку к корзине, сладил петлю, всунул туда голову, корзинку за спину перекинул. Как рюкзак.
Вернулся к Белому. У него глаза были широко раскрыты, и осмысленная боль плескалась в них.
– Я умру, да? – спросил он членораздельно, но очень тихо, я еле услышал.
– Кто тебя? – в ответ спросил я.
– Менты, – прошелестел он.
– За что?
Я взял его на руки, как ребенка.
– Они нас ненавидят.
Корзинка била меня по спине.
– Кого?
Листья шуршали вокруг нас. Лес пах вкусной лиственной гнильцой, калиной, грибами, призрачной хвоей.
– Нас. Новую революцию. А-а-а!
Он крикнул от боли. Кровь из его пробитого ножом бока лилась мне на бок, на рубаху, на куртку.
– Значит, ты свой, – сказал я и притиснул Белого сильнее к себе. – Ты наш, пацан. Тебя как звать? А?
– Белый, – прошептал Белый.
– Я так и понял, – сказал я.
Мы доехали в город на последней электричке. Пока шли по лесу, стемнело. Контролеры пошли – я как-то ловко отбоярился. Сказал: вот брата везу в больницу, срочно, аппендицит, билет не успели купить на станции. Контролерша промолчала, устало махнула рукой. Ей было видно, что все правда.
В городе я вызвал «скорую», от соседей, с городского телефона, с сотового у меня не получилось. Врач приехал. Рану осмотрел.
– Как? В больницу везем? – бодренько спросил.
Молодой врач был, зеленый, прямо как Белый, пацан.
Мы все трое были пацаны.
Только врач-то был врач. А кто такие были мы?
– Все серьезно? – спросил я.
– В рубашке парнишка родился, – врач кивнул на Белого, набирая в шприц жидкость из ампулы, – натурально в рубашке. Нож по ребрам скользнул, ничего из внутренних органов не задел. А мог бы. Крови, конечно, потерял. Ну как? Едем?
Я мялся. Белый подал слабый голос:
– Нет. В больницу я не поеду.
– А что так? Страшно у нас, что ли? – Врач-пацан уже вводил лекарство Белому в тощую, маленькую, как орех, ягодицу. – Не залечим, а подлечим. Он кто вам?
– Брат, – сказал я.
– Ну, едем, давайте, ребята! Мне некогда. Паспорт с собой?
– Я паспорт в лесу потерял, – выдохнул Белый и закатил глаза.
Лекарство подействовало.
Он уснул мгновенно.
Когда врач уехал, я сварил себе и Белому грибной суп.
Это был вкуснейший грибной суп в моей жизни. Я накрошил туда все, что только нашел дома, наскреб по сусекам: лучку и картошечки, их только две оставалось, и остатки лапши бросил из пакета; и бросил перчик черный, как хотел, и лавровый лист, и хмели-сунели; и подлил, для кайфа, подсолнечного масла, вылил все, до капли, из бутылки; и еще нашел в шкафу, в целлофане, старый рис – и тоже его в кастрюлю вывалил. А грибы вымыл чисто, чтобы червяки из них повылезли, но нет, не было в них червей, они все были чистенькие, светленькие, как мой найденыш, как Белый. И порезал на дощечке. И все – в кастрюлю огромную – завалил.
И долго, долго варил, чтобы все проварилось.
А Белый лежал в моей спальне, весь перевязанный, как солдат на войне.
Нет, ну все верно, это и была война.
Она началась, эта война, и она шла, и она шла так: у взрослых – с молодыми, у молодых – с государством, у власти – с безвластными.
Но мы были не грибы, что запросто сварить в котле, в кастрюле.
Еще не сделали такой кастрюли, чтобы нас сварить.
И я знал это. И Белый знал это.
И все мы это знали.
– Скоро грибочки-то? – спросил Белый легким, как осенняя безумная бабочка, голосом. – Я это… с удовольствием поел бы…
– Скоро, – сказал я.
И в носу у меня защипало, как от лука.
А потом мы вместе ели грибной суп.
Белый приподнимался на локте и ел. Другая его рука лежала на белом бинте поверх раны.
Я ел и смотрел на него.
Мы ели вместе. Это как будто – молились вместе.
Или – стреляли вместе.
Или – умирали вместе.
Оказывается, жизнь – это когда не по отдельности, а вместе.
Революцию тоже делают все вместе. Один никто не сможет сделать революцию.
– Ты Еретика читал? – спросил я, прожевывая грибы.
– Наизусть знаю.
И у него был набит грибами рот.
Прожевав грибы и громко хлебнув из ложки супа, он вдруг спросил напуганно:
– А это хорошие грибы, а? А мы с них – не того, а?
И я засмеялся и крикнул:
– Нет! Жить-то хочется, да!
– Вот победим… – пробормотал Белый и зачерпнул ложкой из тарелки гущи.
– Вот победим – я сам твоих ментов найду и порежу! Как грибам, им головы на хрен срежу! Ешь!
Из темно-синего квадрата окна на нас обоих смотрела осень. Одинокая осень. Она была одна, и теряла все свои грибы, и все ягоды, и все золотые листья.
Глава третья
«…чудодейственная… въ киоте, окладъ серебреной, чеканной, позолоченъ, въ венце камень яхонтъ лазоревой граненой въ золотом гнезде… около ево две бирюзы болшие въ гнездахъ серебреныхъ съ финифтью, въ цате два яхонта лазоревыхъ, третий яхонтъ червчатой, въ гнездахъ серебреныхъ съ финифтью; у цаты же на спьняхъ внизу изумрудъ зеленой въ золотом гнезде, у того жъ камени три зерна жемчужныхъ бурмистскихъ. Около венца и цаты обнизано жемчугомъ крупнымъ въ одну нить».
Опись иконы Макария Унженского и Желтоводского чудотворца, кисти Симона Ушакова, 1661 год от Рождества ХристоваСХОДСТВО С ПТИЦАМИ – ПЛЕНИТЕЛЬНЫМИ И БЕЗЗАБОТНЫМИ – ГЛАВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ СЕЗОНА!
АГЛАЯ СТАДНЮК – НАША ГЛАВНАЯ, НЕПОВТОРИМАЯ ЖАР-ПТИЦА!
ЖЕЛТЫЕ брюки от Dolce & Gabbana, свободная ЯРКО-РОЗОВАЯ рубашка от Alexander McQueen, длинный элегантный шарф от Narcizo Rodriguez, ослепляющий переливами ОГНЕННО-АЛОГО и САПФИРОВО-СИНЕГО – вот настоящая СВОБОДА, вот настоящий ПОЛЕТ!
ЛЕТИ, БОЖЕСТВЕННАЯ АГЛАЯ!
УРОНИ НАМ СВОЕ ГОРЯЩЕЕ, ДРАГОЦЕННОЕ, САМОЦВЕТНОЕ ПЕРО!
1
– Дай сигареты, Белый!
– На. Лови!
– «Союз заключенных», да… Никогда!
– Что – «никогда»?
– Никогда они не освободят политических!
– Освободят. Если мы раскачаем режим.
– А ты веришь?
– Во что?
– Что мы его раскачаем?
– Ха!
– Наш Еретик тоже верит.
– Наш Еретик? Великий человек!
– Да-а-а… Немного пророк даже.
– Что скалишься?! Да, и пророк. Он уже много чего предсказал!
– И все сбывается?
– Да как по-писаному!
– Вон на Московской железной дороге бастуют. С лозунгом: «Деньги – рабочим!»
– А у нас?
– Что – «у нас»?
– У нас кто будет бастовать? Мы?
– Ну, мы… Ха… Мы – безработные. Мы даже не рабочие.
– А почему, почему мы безработные, ты задумался?!
– Да я только об этом и думаю!
– У Тараса вон отличная статья. Я набираю.
– О чем?
– О гламуре. О богатеях. Обо всей этой кодле рублевской. Как он в туалете на толчке сидит, журнальчик глянцевый листает – и листок – раз – отрывает – и…
– Ха-а-а-а-а!
–…и кошке в миску отхожую кладет…
У одного была налысо брита голова. У другого белые волосы стояли торчком, как стебли высохшей травы в степи. Третий мертво глядел сонным лицом в черных очках, как в черной маске. Четвертый, пламенно-рыжий, обсыпанный веснушками, как красным просом, сидел с обнаженным торсом, и на его плече огромным черным пауком шевелился набитый кельтский крест.
Все беспощадно, одуренно курили.
Дым плавал в комнате, будто лилось молоко.
Бритый выматерился. Рыжий больно двинул его кулаком промеж лопаток.
– Следи за собой!
Бритый погладил ладонью гладкое темя.
– Принц, тоже мне… Я – мужик…
– Мы все тут мужики.
– Чего! Еретик вон тоже матерится! У него мат…
– Запомни: Еретик – это не ты. Он может делать все что хочет. Он. А не ты.
– Ребята, ближе к телу, как говорил… не помню кто…
– Ги де Мопассан.
– Не дави интеллектом.
– Что застыл, как столб? Набирай дальше! И вслух, вслух читай!
– Я охрипну.
– Читай, говнюк!
– «Люди по природе своей чудовищно неравны…»
– Е-да-ты-мое, да это ж правда! Здорово сказано!
Они курили и все равно матерились иногда. Один сгорбился над старой машинкой «Москва», бил в тугие клавиши негнущимися пальцами, выкрикивал то, что печатает. Другие сыпали пепел мимо медной маленькой пепельницы – на пол, на стол. В окно были видны обгорелые доски, бревна съеденной огнем стены.
Они сидели в уцелевшей спальне Петра и работали.
Делали газету. Свою газету.
Пытались ее делать: сквозь курево, водку в наспех, зубами, откупоренных бутылках, и стопки куда-то под кровать закатились, шорох черновиков, россыпи спичек и зажигалок на мятых бумагах; сквозь свои выкрики и горький, серый, будто пепел, смех, сквозь упрямое бугренье молодых мышц под покрытой – от недоедания – погаными фурункулами кожей; сквозь блеск глаз и матюги, торопливые удары кулаком по дымному воздуху: «Так! Да! Верно!» – сквозь толщу своего ненавистного времени, куда они попали, может, по ошибке, куда их бросили, как котят – утопить, а они задвигали лапками, зашевелились, задергались, и – поплыли, поплыли, вперед.
Они и сами смутно, туманно догадывались: на черта им эта газета, и эта борьба, и эта якобы близкая революция, – а кто восстанет-то? что, нищие массы? да они не то что восстанут – они скорей в гроб лягут, чем с кирпичом в руке на дворцы пойдут! – но молодое тело и молодая душа требовали борьбы, сопротивления, приказывали – двигаться, прыгать, ненавидеть, драться. И печатать ненавидящую газету. И, быть может, если повезет, – стрелять.
Стрелять! Вот чего они хотели больше всего.
– Петька, где ствол купил?
– Да-а, спрашиваешь… Где купил, там больше нет!
– С рук, что ли?
– С ног, точнее.
– Дай поглядеть. Классный.
– «Макаров».
– Настоящий?!
– Нет, ну…
– Ну, ну. Если близко стрелять – убить из него можно.
– Кота?
– Тебя, дурень. Глаз тебе выбить. Без глаза ты жить не будешь, так? Пуля в мозг попадет.
– Обойму покажи!
– Может, тебе еще и разобрать его?
– Ну, разбери.
– Ну, давай.
– Вы, тише! Читаю! «В один прекрасный день режим неминуемо рухнет…»
– Еп вашу мать! Кто б сомневался!
– Заткни едало.
– Заткни нежные ушки.
– Давай скорее, сейчас мать придет.
Машинка тарахтела, как трактор. Курили гуще, бесстыднее. Петр встал с кровати, шагнул к окну, толкнул кулаком стекло фортки.
Свежий воздух. Как хочется свежего воздуха.
Зима, свежий холод, и дом их сгорел, и они не успели напечатать статью.
Сейчас придет мать и разгонит их.
Еще и наругает: за табак, за водку, за разбитую любимую стопочку – она из нее еще с покойным отцом после свадьбы, в Сибири, пила. Стопочки с самой Сибири сохранила, а он пьет с дружками, взял и разбил. Об стенку, что ли, грохнул? Такое крепкое, толстое стекло, как сталь.
Мария явилась. Выгнала парней. Поглядела на мусор на полу. Погорельцы и так, а эти, курильщики, смолят, еще и их оставшийся целым угол подожгут. Засучила рукава; в кладовке набрала в ведро воды. Мусор собрала в мешок, стала терпеливо мыть, отчищать дощатый, исшарканный пол.
Дружки вывалились на улицу. Петр тоже оделся. Стоял перед матерью, елозящей тряпкой по полу, дергал плечами, в черной, будто котами ободранной, кожаной куртке. Сжимал, тискал тайно в кармане пистолет.
– Мама… Я пошел, ну.
Мария возила мокрой тряпкой по полу, не глядела на него.
Он осторожно потрогал нос, потрогал царапины над лишенным зубов, пухлым ртом.
– Мама… Пошел я, слышишь…
Мария остановилась. Разогнулась тяжело. Швырнула тряпку в ведро. Вымахнули грязные брызги, обдали ей колени.
– Куда?
Будто полынью обмазали ей губы. Она облизнула их, горькие, сухие.
– Ну куда, куда… По делам.
– Какие у тебя дела?
Он смотрел на круглые, твердо-железные носки своих грязных, растоптанных берцев на военной шнуровке.
– Всякие.
– Что за компания опять была? Почему вы пьете?
– Мама, я уже взрослый. Я – могу. – Не удержался. – Ты же можешь.
Она отвернулась, заправила мокрой рукой прядь волос за ухо.
Петр глядел на ее сутулую спину.
– Ну я пойду.
– Иди.
Она не спросила его, когда вернется.
Петр вышел, тихо закрыл дверь за собой, плотно. У него уши горели. Ступив на морковно хрупнувший снег, он опять сунул руку в карман и любовно, как грудь девчонки, ощупал, огладил тяжелый, холодный пистолет.
Мария домыла полы. Старики, Лида и Матвеев, ушли погулять – оба, пошли-пошли, побрели под ручку, по снежку. Ну пусть гуляют, воздухом дышат. Голуби. Последнее гулянье, может быть. Погорельцы. Она теперь у них одна – мать, прислуга, сиделка. Вот судьба!
Она отжала тряпку, отнесла ведро в кладовку, сполоснула под ледяной струей.
Вернулась в спаленку, села к столу. Голова болела. Она опустила чугунный шар головы на руки и так сидела, прижав холодные ладони к горячему лбу.
А ты, он сказал, а ты. Ты тоже пьешь. И я тебя не укоряю – вот как это прозвучало.
Водка в лютые холода, что еще остается?
Степан тоже пьет. И может много выпить. Молодой… здоровый.
Вдруг ей пронзительно, ослепительно выблеснуло: да ведь он, Степан, из другого времени, не из ее. Из иного. Из жизни, что ей уже не прожить никогда.
Так же, как старику Матвееву не прожить – ее жизни.
Голова, голова. Так болит, раскалывается просто.
Что там у человека под черепом, внутри? Разве там живет душа?
Нет, она в другом месте живет. А в каком?
Мария закрыла глаза. Какой жизнью живет ее Петр? Куда он идет? Бежит? Ногой зацепится – упадет? Разобьется? Кто избил его? Уличные подонки, проходимцы? Или – его враги? Отомстили?
За что?
Она встала из-за стола. На подоконнике светлела недопитая бутылка. Мария взяла ее и хлебнула из горла. Водка обожгла ей десны, небо.
Водки было немного. Мария допила ее, как воду.
Поставила бутылку под стол. Сложила руки, как дети складывают в школе, за партой, и медленно положила болящую голову на руки: уложила, как сонное дитя в колыбель.
2
Сенг шел быстро, мелькал стремительно, будто черкал-зачеркивал белыми чернилами ошибки, описки бедных, безграмотных людей. Черкал-черкал! Лица замазывал! Веселый, дикий снег.
Мария бежала по улице. Она бежала на рынок.
На самый дешевый рынок в старом городе – Средной.
Если там походить, пошнырять, повынюхивать как следует, то всего можно купить по дешевке: и картошки, и моркошки, и мясца на супчик, с косточкой; и стиральный порошок дешевый, и мыло дешевое, и капусту, и творог – все на Средном можно найти. С головой, с умом только надо искать.
Ну, и своих торговок знакомых иметь, конечно. Это уже роскошь. Это – годами, жизнью дается.
И тогда ты должен только у них покупать. А не у других каких. Иначе они обидятся. И цену тебе взвинтят.
Деньги, деньги… Мария сжимала деньги в кармане. Они казались ей не бумажными – жесткими, железными. Это от холода, подумала она, я руку отморожу, надо надеть рукавицы, они в сумке.
Не надела. Пальцы краснели на морозе. Пальцы-морковки.
– Почем капустка? Вилочек?
– Ах, пришла! Пришла-а-а-а, хозяюшка моя… Тебе – подешевле отда-а-ам…
Мария заталкивала вилок в сумку. На миг он показался ей отрубленной ребячьей головой. Полоска пота прошила ее спину.
Дальше пошла. Тяжелая капуста, как каменная.
Вошла под своды рыночного казарменного павильона – почти церковные, почти тюремные.
– Мясо почем? Это?
Торговка тоже знала Марию. С готовностью завертела перед носом Марии огромной вилкой куски, кусищи, кусочки: с жиром, без жира, даже вырезку тяжело приподняла, хотя знала – Мария берет что подешевле, это дорого для нее.
Мария косилась на рыже-кирпичные куски с мраморными, грязно-желтыми прослойками старого жира; и еще левее, вбок, на сваленные в кучу обрезки.
– Что вы, дорогая моя! Дамочка!.. Это ж обрезь для котов, собак! У вас есть кошечка? Собачка? Может, им возьмете?
– Мне на щи, – с трудом на морозе, отверделыми губами, вытолкнула Мария. Глядела на руки торговки, по локоть укутанные в грязные, в мясных кровавых пятнах, утром еще, наверное, белые, нарукавники. На пальцы, белыми жирными сосисками торчавшие из обрезанных черных перчаток.
– На щи, лапочка?! Так вот же на щи! – Торговка приподняла на вилке кусок лопатки. – Просто даром отдам!
Мария усмехнулась.
– За сколько?
Торговка бесстыдно сказала цену. Мария повернулась, чтобы уйти. Торговка крикнула ей в спину: «Стой! Сбавлю…» Мария вернулась, отдала деньги, баба протянула ей мясо в пакете, довольно сунула деньги в карман фартука, толстый живот радостно колыхнулся. Игра рынка была сыграна. Обряд исполнен.
Мария купила все, что надо было для щей. Щи – это еда на три, а то и на четыре дня, если сварить в большой кастрюле. Всем хватит: и Лиде, и Василию Гавриловичу, и Петьке, ну и ей останется.
С некоторых пор заметила она за собой: ей все меньше хотелось есть. Равнодушие такое наступало – к стряпне, к еде, к насыщению. Она вроде бы все время была сыта. «Может, похудею? – подумала насмешливо. – Степану буду больше нравиться. Они, молодые, худых любят».
Внезапно, когда погружала в сумку сетку с картошкой, подумала: а ведь не одна она у Степана, жена не в счет, ведь молоденькие у него наверняка есть.
И эта мысль почему-то ни горя, ни злобы не принесла с собой.
А – только жалость, тоску странную, точащуюся, будто горячий восковой ручей, из-под души-свечи.
Пламя бьется, тлеет… воск еще течет… льется…
«Федины свечи, да, Федины свечи… Огонь, любовь его… одинокая…»
– Спасибо, хорошая картошка у вас! – сказала она вслух.
Мозг молча считал оставшиеся деньги.
– А как жи-и-и! – запела торговка празднично. – Из Лукоянова-а-а! Самая-пресамая! Лучче не быват! А ищо свеколки возьмешь, деушка?
Мария видела: они с торговкой ровесницы.
– Какая я девушка. Ну, пару свекол давайте.
«Она меня на «ты», а я ее на «вы». Здорово. Значит, сварю не щи, а борщ. Или – сварю свеклу и на терке потру. С чесноком. Лиде удобно есть будет. У Лиды зубов нет ведь совсем».
Отошла от овощных рядов. Задрала голову. Такой мороз, а торгуют на улице! Как всегда! В павильоне все забито, мест не хватает. Едут, едут на рынок – из сел, из деревень, из хуторков забытых. Везут, что сами вырастили, вынянчили. Везут – продавать.
Поежилась; вспомнила: власти приказ какой-то издали – к такому-то году в городе рынки уничтожить.
А что оставить? Дорогие бутики? Глянцевые супермаркеты, где все стоит бешеных, немыслимых денег?
Деньги, деньги, деньги…
«Лю-ди гиб-нут за-а-а мета-а-а-алл!» – вспомнила она, как истошно, дьявольски корчась, изображая черта, пел там, в Сибири, высокий как каланча дядька на концерте в нетопленом городском клубе, куда пошли они с Игнатом: молодые, веселые, развлекаться хотелось. Танцев… концертов.
Люди гибнут за металл. Люди гибнут за металл. Люди гибнут…
– Газета «Друг народа»! Покупайте газету «Друг народа»! Последний номер! Ее закрыли уже! Запретили! Газета «Друг»…
Мария сделала по притоптанному, усыпанному шелухой семечек снегу шаг к лотку с газетами и журналами. Газетчица, замерзшая как сосулька, била рукавицей в рукавицу, будто бурно аплодировала кому-то на морозе. Ее лицо было обмотано черным траурным платком.
– «Друг народа»? – Марии понравилось название. Такое ласковое, мирное. – Почему ее запретили?
– А потому что там всю правду про нас писали! – зло, весело крикнула газетчица. И опять Мария поняла: они с газетчицей ровесницы. Одного времени. Одной закалки. Может, тоже в школе когда-то работала. – Тут про погром этот!
– Про погром?
Мария протянула газетчице деньги. Та сдернула зубами рукавицу, одной рукой, как циркачка, ловко отсчитала сдачу и тиснула газету и мелочь в руки Марии.
На плохой бумаге, желтой, шрифт еле читался.
– Ну да! Про погром! У нас, здесь, на Средном! А вы разве не знаете?! Да весь город гудел! Позавчера! Как это вы не знаете! Ну тут и было! Весь рынок стонал! Бабенки наши еле спаслись!
– А что было-то? – Мария заталкивала газету в сумку, поближе к картошке.
– Да восточных эти сволочи били! Фатиму насмерть забили! Цепями… Я вот в трауре! – Газетчица поддернула рукавицей черный платок на щеке. – Фатимка – моя подружка была! Подруженька! Мы с ней… – Хлюпнула носом, выдохнула, и Мария по запаху поняла – пьяненькая. – Мы-ы-ы-ы… Тут все, – стукнула рукавицей по разложенным на столе газетенкам, – вся правда, вся-а-а-а-а…
Мария повернулась и пошла прочь. За ее спиной взвился к серому, в мохнатых снеговых тучах, небу бабий цыплячий крик:
– «Друг народа»! «Друг народа»! Последний номер! Последний…
Когда пришла к сгоревшему дому – почтальоншу у пожарища увидела.
И почтальонша увидела Марию.
Пошла к Марии, ковыляя по наметенному снегу, протягивая в руке ей – бумагу.
– Письмо? – крикнула Мария и поставила на снег тяжелую сумку.
– Хуже! – сквозь ветер и снег крикнула в ответ старая почтальонша. – Кажись, из суда! Видимо так, повестка! А вы что, сгорели, что ли? Да-а-а-а… А жители-то где?
– Двое у меня, один в сарае живет, костер там жжет, другие… ну, наверное, по родным да по друзьям расползлись.
Холодными, морковными пальцами надорвала конверт со штемпелем суда их района. Снег лепил, заклеивал, зачеркивал белыми чернилами жалкую бумагу.
Мария разобрала: Петру повестка, в суд.
Спина почтальонши уже качалась, исчезала в белом косом, ледяном ливне.
– Что натворил, – глухо сказала сама себе Мария, – что, что…
Сзади воскликнули:
– Машер!..
Возвращались домой старики. Нагулялись в погодку, когда добрый хозяин из дома собаку не выгонит.
Собаку. Она вспомнила черного слюнявого бульдога у богатеев в особняке.
– Я вам сейчас щей наварю, – сказала Мария, обернувшись к подбредающим старикам, глотая снег со щек, слизывая, как слезы.
3
В коридоре суда на старых стульях сидели люди. Смотрели себе под ноги – на облупленный, как яйцо, линолеум, на свою обувь, у кого дорогую и новенькую, у кого разношенную. Смотрели поверх голов, в никуда. Только в лица друг друга смотреть не хотели, боялись.
Мария тоже села на стул. Он скрипнул под ней, и пошатнулись ножки.
«Сейчас упаду, как клоун».
До нее дошла наконец очередь.
Секретарша высунула мордочку ежика, повела носиком в воздухе: о, полно еще народу!
– Проходите!
Мария, как в черную прорубь, в полынью, шагнула в кабинет.
Ей навстречу из-за стола поднялось и пошло, надвигаясь, громадное, лощеное, блестящее, смуглое, кудрявое, толстое, громкое, румяное, и запах резкого и веселого мужского парфюма ударил в лицо, чуть не сбил с ног.
– Вы по повестке? Ваша фамилия?
Лощеный, рослый и толстый судья, светясь румяными, как после бани, щеками, весело глядел на нее, и маленькие поросячьи глазки его хитро искрились.
Он что-то поискал в бумагах на столе, потом опять глянул на молчащую Марию.
– Фамилия? – не роняя веселого, улыбчивого тона, спросил судья.
– Я не… Я за сына пришла. Вот. – Она протянула судье повестку. – Он сейчас не может. Я – мать.
Знакомым, очень знакомым было круглое, румяное лицо судьи. И эти густые, темные, уже присыпанные солью седины кудри – тоже.
Судья повертел в руках, поизучал повестку.
– А-а, – сказал он, тоже внимательно, пытаясь узнать, глядя на Марию. – Да, дельце. Я буду вести ваше дело. Вашего сына. Наделали они хорошего. Он и дружки его. Убежали. Думали, не найдут. Вот – нашли.
– Что? – Рот Марии пересох мгновенно.
– Избили до полусмерти мужчину. Мало того – избили. Сняли куртку хорошую, часы. Бумажник вытащили. В бумажнике – много денег было. Пострадавший выжил. В больнице дал показания… запомнил приметы. Ну, это уже наше дело, как мы их нашли. Двоих. И вашего сына – третьего. Он был зачинщик избиения… и грабежа. И, что совсем плохо… пистолетом угрожал.
– Пистолетом? – Мария не услышала своего голоса. – У него… нет пистолета.
– Значит, он взял где-то чужое оружие. Мужчина… – Судья вздохнул. Погрустнел. Видно было, что ему не хотелось говорить. – Не умер. Но остался калекой. Серьезным калекой. Хуже всего то… – Подобрал губы подковкой. – Что пострадавший – племянник вице-мэра. Вот как тут теперь быть? Вы – мать, я понимаю…
Мария узнала его.
И в этот же миг, когда ее лицо высветилось: вспомнила! – он тоже узнал ее.
– Марья Васильевна, Господи…
Она закрыла лицо руками.
– Виталий Власьевич…
– Ай-яй-яй, Марья Васильевна, ай-яй-яй, сколько лет, сколько зим… А вы совсем не…
– Изменилась, все мы изменились, – Мария тронула себя обеими руками за волосы – теплая шапка лежала у нее в кармане куртки. – Как ваш сынок? Уже, наверное, семья… и преуспел?
У Марии в школе когда-то учился его сын.
– О, спасибо! – Судья снова повеселел, расплылся в улыбке, приподнявшей холмики румяных, как у девушки, щек. – Да, женился… И дом свой, я сам ему выстроил, и я уже дедушка, внук у меня… И работа хорошая… в банке работает… в серьезном… Господи, да Марья же Васильевна! Вот ведь как довелось… Не думал, не гадал…
Мария тянула его сына, глупца, за уши, чтобы он только окончил школу. Сама сочинения ему писала. Оценки натягивала. Жалко ей было богатого, толстого, беспомощного парня. «Тоже ведь живой, и жить будет, жить должен, даже такой дурачок», – думала тогда она.
Папаша, вот этот, да, Черепнин, она вспомнила фамилию, был ей благодарен: совал в кулак денежку, дарил коробки конфет. Конфеты она относила разбитной бухгалтерше с алмазиками в ушах, с которой водку пила; деньги брала, они с Игнатом на них жили, везли семью.
– Как же это так, а?.. Вот ведь история… – Судья потер ладонью яблочную щеку. – А здоровьишко ваше-то как, а?.. Все в порядке?.. Я вот тоже не жалуюсь… Женушка моя – нотариус, мы оба хорошо зарабатываем… Неплохо, она тысяч сто в месяц имеет, у меня здесь знаете зарплата какая?.. пятьдесят шесть… Недавно на Лазурный берег летали!.. Чтобы посмотреть… на наших, ха-ха, мафиози, правда ли, что они весь Лазурный берег скупили… Вы знаете, и правда, ха-ха-ха-ха!..
Секретарша с мордой ежика удивленно, с интересом, слушала.
Зачем он мне все это говорит, устало подумала Мария.
Она глядела на Черепнина пустыми глазами.
Судья поглядел на ее старые зимние ботинки, с вывернутыми носками – и оборвал смех.
– Н-да… Сынок-то ваш… Что же делать? Дело ваше поведу я, да… – Он потер ладонью о ладонь. Взглянул искоса, и Марию ужалил острый выблеск маленьких, умных свинячьих глазок. – Конечно, из любого положения найдется выход… Да-а-а-а… Но придется…
Он встал к секретарше спиной.
Мария глядела на его руки. На его пальцы. Они пошло, нагло, недвусмысленно, жирно потерлись друг о дружку.
– Особенно – адвокату…
«Но и тебе тоже. Да, и адвокату. И еще кому-нибудь. А секретарша – его любовница, значит, и ей тоже», – бились в висках, как кровь, бешеные мысли.
– Он недавно сам весь избитый домой пришел. Весь. Живого места не было. Еле отлежался. Зубы выбили. Нос перебили, – пусто, тихо сказала Мария.
– А-а, – судья пошарил в кармане черного пиджака из дорогого, с серебряной ниткой, сукна. – Ну, видите… какой он у вас неблагополучный. Нос-то – вправили?
– Вправили.
«Что я здесь делаю? Надо встать и уйти».
Ноги стали ватными, тело обмякло, не слушалось.
– Ну вот видите. Ну вы поняли меня, Марья Васильевна? Да?
– Я поняла вас, Виталий Власьевич.
Он розово, довольно осклабился.
Жизнь человека дорого стоила, он знал это. Никому не хотелось сидеть в тюрьме.
Того, кто наворовал тьму-тьмущую деньжищ, убивая, обманывая и предавая, и купил себе замок на Лазурном берегу, не судили и в тюрьму не сажали. В тюрьму сажали вот таких – несмышленышей, волчат, возомнивших о себе, что они – тоже люди. И могут все. Даже побить племянника вице-мэра.
– Но пусть сынок ваш тоже все-таки придет. Вместе с вами. Я хоть на него погляжу. – Судья опять глянул остро, искоса. – Так когда вас ждать, Марья Васильевна?
«Хочет скорее. Алчный. Привык».
– А телефончик ваш можно?
– У меня нет телефона. Мой дом сгорел.
Поросячьи глазки блеснули.
– Где же вы живете?
– У себя. Две комнаты остались целы.
– И сотового – нет?
Мария развела руками.
– Ну, вы как во времена Пушкина. – Хохотнул. – Тогда вот вам моя визитка. Звоните. Чем скорей… – Он развел пальцы в стороны, его толстые ладошки были алые, как его щеки. – Тем лучше.
4
Около их сгоревшего дома высилась сиротливая серая церковь с длинной, как худая девчонка, колокольней. Почему серая? А давно не белили.
И купола были не золотые – а зеленые. Зеленая краска ведь дешевле, чем позолота.
В церкви работали реставраторы. Совсем недавно тут, под сводами, располагался читальный зал библиотеки, и железные и деревянные перекрытия были забиты старыми газетами и журналами. Перекрытия разобрали. Внутренность церкви напоминала разбитый молотком скелет.
Службы шли в церковном подвале.
Там, под сырым потолком, поставили алтарь, быстренько самодельный иконостас водрузили, и старушка сидела, как водится, свечки и крестики продавала.
Крестики валялись на черном сукне, как золотые рыбки.
Около икон, и писаных и лубочных, трещали свечи, нагорали.
Мария зашла сюда вечером. Щи она сварила на буржуйке. Старики опять плакали от радости.
Они теперь все время отчего-то плакали. Пожар этот им будто глаза выел. Как резаный лук.
Петр куда-то исчез, провалился. Обедать не пришел.
А теперь вечер, и зачем ей эта церковь?
Она батюшку тут знала, его звали отец Максим. Он был похож на светлый, молодой, золотой одуванчик. Всегда улыбался.
Однажды Мария тут всю службу простояла. Старушки и две молоденьких девочки в шелковых платочках смешно, фальшиво пели на клиросе. Мария не ощущала никакой благодати, ей только нравилось, как горят, потрескивают свечи.
На задах этой церковки обитал в подвале Федор, и она думала: вот он тоже свечи любит, жжет.
И сейчас она тоже купила свечку. Озиралась, куда бы, к какой иконе поставить.
Поставила – к Николаю Чудотворцу.
Николай был лысый, с белыми пушистыми волосами вокруг медной лысины, с большими светлыми печальными глазами. У него на одежде были нарисованы черные кресты. На ладони Николай держал такой маленький, как тортик, городок – с башнями, с церквями, с кремлями.
Мария поспешно, стыдясь, перекрестилась. Священник пробасил: «Мир все-е-е-ем!» Старушки закрестились тоже быстро, торопливо, как на пожаре.
Когда служба закончилась, все подходили целовать большой крест, его держал священник, и Мария сначала застеснялась, подом все-таки подошла. Я как бабушка совсем, вот уже и крест целую, подумала она, когда губы ощущали холод стального сплава и тепло чужих губ.
Народ рассосался. Священник не уходил, Мария тоже, и они смотрели друг на друга.
Он знал эту женщину. Она тут у них рядом дворничала.
– Отец Максим, – сказала Мария быстро, полушепотом, – можно я вам…
Священник внимательно, спокойно глядел. Золотые пушистые волосенки его лучились, дыбком стояли над головой.
– Грешна я, отец Максим, двух мужчин люблю.
– Прямо так двух?
«Смеется, что ли?»
Священник и правда улыбался.
– Прямо.
– Один из них – муж тебе?
Мария помотала головой.
– Не мужья. Я – вдова.
Священник вздохнул длинно, тяжело. Улыбка, как бабочка, слетела с его лица. Он поднял руку, и Марии на миг показалось – он ее ударит. За грех.
– Кайся, дочь моя. Кайся. Ко мне в субботу на исповедь приходи. Только два дня не ешь перед этим. Очистись. И помолись.
– Отец Максим! – Мария вскинула голову. – Я молиться не умею.
– Как? Совсем?
Мария смотрела в изумленное, даже детски нежный рот чуть приоткрылся, лицо священника, на русую бородку, на золотой пух волос. «Святой, а я грешница. Да какой святой? И мясцо в пост ест, и исповедниц по ручке гладит, а то и по плечику, по груди. Кто – святой? Бог на иконе?»
– Никогда не молилась? Сердце твое очерствело…
Мария отвернула голову. Они стояли в подвале, как первые христиане в катакомбах.
– Нет. Не очерствело. Сердце мое живое.
Повернулась. Прочь пошла.
Еще немного постояла у церкви, на свежем воздухе. Снова мел легкий снег. Работы завтра утром будет много, с тоской подумала Мария.
Сзади услышала голоса. Один был голос отца Максима. Другой – мужской, неизвестный. Мария не двигалась, не уходила, слушала: уши слушали сами.
– Как твои?
– У меня мои шестеро, все, вон, в «буханке», сидят. Что Ник?
– А что – Ник? Деньгами до затылка обложился, а ни гроша реставраторам не заплатил. Тысячу рублей – за помывку стен всего храма! Насмеялся просто! Они и сбежали. Плюнули, прямо на пол храма, я сам видел, и сбежали. Сейчас новые просятся, из области. Так же обманет. Сначала, мол, дело! Сделают, наивные… а денег – шиш.
– Да, Ник силен бродяга.
– Ну тебе, с шестерыми, хоть квартиру-то дал.
– А попробовал бы не дать, с шестерыми. Да я, да матушка. Восемь нас. Когда хату-то дал – я во славу его литургисал!
– Ха, ха, ха…
Мария не слушала смех двух попов. Быстро ступила со света – во тьму, в снежную заметь. И пошла, почти побежала. Успела понять: «Ник» – это владыка Николай, митрополит. Шестеро детей у попа! Вот молодец! Настрогал! А у нее только один… остался. И тот куда-то пропал. Зачем пистолет? Почему – пистолет? Где купил? На что, нищий пацан? Украл?
Перед сгоревшим домом мотался, маячил мужик, ходил туда-сюда, поднимая плечи, втягивая голову.
– Степан! Ты что…
– А ты – что?! – Он зло кивнул на черные пожарищные доски. – Не пришла! Не сказала!
– Ты сам долго не приходил.
Он обнюхал Марию, как пес.
– От тебя пахнет ладаном.
– Церковью пахнет, – она усмехнулась. Снег бил по губам мягкой лапой.
– Церковью? – Светлые глаза вспыхнули презрительно, губы изогнулись в молодой насмешке. – Ну, Машка… Рановато…
– В самый раз.
– Ну, не обижайся. Я не хотел. – Взял крепко ее за локоть. – И так ты тут живешь?
Кивнул на живой угол дома.
Окна горели: в комнатах сидели ее старики, ждали ее.
Он не мог ей сказать: приходи, живи у меня. У него был тоже чужой, съемный, тайный от жены угол. И была своя жизнь. Не ее. Мало ли кто туда к нему приходил.
– Погоди, я зайду, посмотрю, все ли в порядке.
– А потом – ко мне?
– Потом – к тебе. – Обернула к нему лицо, спокойное, жесткое, честное. – Если тебе надо домой, ночью, к жене – иди. Меня у себя оставишь. Я высплюсь. Встану в пять, все у тебя приберу, все…
– Давай скорей! – крикнул Степан, когда она уже шла к дому по протоптанной в белом снегу черной тропке.
Она, не поворачиваясь, махнула рукой, будто собаку отгоняла.
– Старички вы мои, дорогушеньки!..
Они слезно, умильно глядели, беззубо смеялись, ловили ее руки. Василий Гаврилович сдавленно вскрикивал: «Машер!.. Машер!..»
– Ой, щи такие… Наваристые…
– Солнышко, спасибо тебе, ой, спасибо…
– А Гаврилыч буржуечку натопил, дровишек насобирал во дворе… видишь, как тут у нас тепло… Видишь, Бог оставил нам крышу над головой… Видишь…
– Вижу, – сказала Мария. У нее щекотало в носу, глаза наливались ртутной, влажной слепотой. – Петя не приходил?
– Петичка?.. Нет, Петичка не приходил, не-е-е-ет… Загулял… Дело молодое… Девочка, может…
Мария вышла в снег и тьму.
Степан поймал ее в руки, как рыбак – большую рыбу в белом ручье.
– Степа, – выдохнула она ему в ухо. – Степа, Петр пропал. На него повестка. Они с дружками мужика избили и ограбили. Я уже была в суде. Там… знакомый судья. Он денег от меня хочет.
Степан крепко, как в клещах, держал ее.
– Погоди. Без истерик, – сказал он тоже ей на ухо. – Не дергайся. Петька не пропал. Он делает дело.
– Какое?
Их лица стояли друг против друга – пламя и пламя.
– Для меня, – коротко, жестко кинул он.
Грудь и спина соприкасались, потом горячо, жидким железом, сливались, потом слоились, расклеивались, утекали из-под рук по простыням; нет, по холодному, ночному снегу. Ноги вздергивались, смешно и гадко, потом опять опускались, гнулись, как резиновые, будто в них, под плотью, не было костей. Тело казалось то поганым, то святым. Шея горела – так горело бревно на пожаре, бревно стены их бедного дома. И губы ходили, ходили по горящей древесине, ощупывали головни, вбирали пепел, хватали на лету золотые искры.
Пожар! Да, это шел пожар. Им было его не остановить. Горело все: и ступни и колени, и лодыжки и соски, и животы и ягодицы тоже горели, выпуклые, обжигающие, и огонь перетекал с них на жалкие тряпки, на примятые, потные подушки. Огонь перекидывался с верха на низ, с низа – на верх, и пылала узкая щель, и горел факелом, вздымаясь, черно-красный брус. Щель разевалась, распахивалась в никуда, и горящий брус падал в нее, рассыпаясь на звонкие мелкие искры, на сумасшедшее кружение, превращаясь в хриплогорлый крик, в пылающий выдох.
Огонь ненавидел живую плоть и сжирал ее, не оставляя следа. Руки, ноги, спины и животы бесились, прощаясь с миром, а глаза – плакали, пытаясь соленой водой залить беспощадность гибели.
Но – гибли, гибли живые, гибли два жалких тела в снежной тоскливой ночи, стыдясь своих выступов и впадин, прижимаясь теснее внутри последнего костра: и глаза вытекли слезами, и локти и пятки обуглились, уже – кости горят…
И – пепел в мешочек, чтобы на груди носить, никто не соберет…
– Ма-ша… Ма-ша…
– Ну, все… Все-о-о-о-о…
Потные, перепутались ногами, бедрами, локтями, как осьминоги. Один живой комок. Одна жизнь, а сейчас разлепятся, и станут – две.
Одинокие.
Раскатились по сторонам кровати. От голых тел в холодной комнате шел лютый жар.
– Где я денег возьму на Петьку?
Его поразило, что она об этом говорит – сейчас.
Лицо в подушку уткнул.
А подушка возьми и свались на пол.
Засмеялся. Цапнул с пола подушку, как зверь – когтями. На кровать втащил.
– Я тебе добуду. Не парься.
– Степа. Знаешь…
Молчание обдало пожарище двух обезумевших тел ушатом ледяным.
– Что?
Тишина. Тишина, и последние взлизы огня потрескивают в обгорелых, мертвых, смоляных, сизых досках.
– У меня очень, очень болит голова. Страшно. Может, к врачу надо. Они вот на Петьку подали в суд… а я на них подам в суд. Дом-то наш ведь подожгли. Чтобы… богатый дом построить.
Слезы ее уже текли, обильно, быстро, из углов глаз, пропитывая горячей солью подушку.
– Не плачь. – Он поднялся на локте, цапнул с тумбочки пачку сигарет, выбил сигарету, взял зубами, как малька за хвостик; долго щелкал колесиком зажигалки; наконец закурил. Лег, и сигарета дымилась в зубах. – Не плачь, тебе говорю! Давай я лучше тебя в Василево вывезу. На недельку. Ты в своем ЖЭУ отпуск возьмешь. Там ведь еще дворники есть, с другого участка за тебя снежок поскребут. А мы – оторвемся от всех.
– Что такое Василево? – спросила Мария деревянными губами. Слезы текли.
– Деревенька моя. Там у меня развалюха одна. От бабки моей осталась. Я ее запустил, конечно. Не продал. Хотя мог бы в свое время. А потом обрадовался. Может, дети пойдут, туда ездить будем на лето.
– Дети, – повторила, как в школе, Мария. Слезы потекли сильнее.
Он положил руку ей на лицо. Пальцами собирал слезы, давил их у нее на щеках, как жуков, пауков.
– Хватит. Не люблю слез. Вот бабы, всегда ревут. – Ему хотелось сказать: после постели, но не сказал, удержался. – Туда автобус ходит, потом пешком, по льду, через Суру. Поедем. Проветришься. Я тебе калину зимнюю пособираю. И рябину. Будешь клевать, как воробей. С сахаром!
Мария медленно повернула голову и поцеловала его голую мокрую руку, вздутую мышцу. Обожгла губами, зубами.
ИЗ КАТАЛОГА Ф. Д. МИХАЙЛОВА:
«Полотно Михайлова «Кувшин», по недостоверным сведениям, находилось в коллекции живописи английской королевы Елизаветы. Где картина сейчас – мы не знаем. Несомненно одно: найденные в сгоревшей мастерской художника старые слайды заставляют признать этот холст одним из шедевров мастера. Белый узкогорлый кувшин неподвижно стоит на зеленом лугу, и тон нежной свежей травы оттеняет чистый, ангельский алебастр женственного сосуда, застывшего в ожидании чуда, вбирающего горлом солнечный свет. Вокруг кувшина – фигурно постриженные кусты. При внимательном рассмотрении оказывается, что это вовсе не кусты, оформленные искусным садовником, а… подобие защищающих, бережно воздетых пальцев. Огромная мужская рука, будто прорастающая из земли, хранит, бережет, защищает маленький кувшин – нежную белую девушку – от боли, зла и горечи жизни».
ИНТЕРМЕДИЯ ГЛЯНЦЕВОЕ АДАЖИО. ШЕДЕВР
– Чуть вбок головку, дорогая! Чуть вбок головку!
Красотка наклонила набок голову.
Золотые локоны скользко упали на голое плечо.
– Так-так! Застыла! Застыла! Ручки не шевелятся! Глубоко вдохнула! Замерла!
Златовласка надавила рукой на руку, приказывая рукам не дрожать, а губы не удержались – усмехнулись.
И дрогнули. И выпустили:
– Как мертвяк, что ли?
Тот, кто фотографировал красотку, огорченно всплеснул руками:
– Черт! Какой кадр пропал! Все смазано!
– Я больше не буду, – капризно, весело протянула Золотая голова.
Опять сложила розовые губки бантиком – в загадочную улыбку. Углы губ приподнялись. Серые светлые, как ручей под солнцем, наглые глаза с трудом подернулись нарочной поволокой. Белый бархат рук нежно лоснился под слепящими софитами.
Тот, кто фотографировал, упоенно воскликнул:
– Так! Так! И не двигаться! Не-дви-гать-ся!
Золотая голова молчала.
Серые наглые глаза глядели на фотографа.
Фотограф, как кролик на удава, глядел на Золотую голову.
Золотая голова была загримирована Джокондой.
Моной Лизой Джокондой Леонардо да Винчи.
Тот, кто фотографировал, снимал Золотую голову для авторского проекта, под названием: «ЖИВЫЕ ШЕДЕВРЫ».
Проект делался так: выбирали живых звезд и громких бизнесменов, гримировали их под великие произведения искусства, под всемирно знаменитые шедевры, сажали под яркие софиты в наверченных-накрученных роскошных старинных одеждах, старались усадить точно так, как сидел человек на известной картине великого художника, и – фотографировали.
Получался живой шедевр.
Получались: живые Три богатыря, живая Царевна-Лебедь, живая Сикстинская Мадонна, живая Спящая Венера, живая Богоматерь Владимирская, живая Маха Обнаженная.
Живая – Джоконда.
Мона Лиза.
– Так-так-так! Головку немного налево… налево… еще левее! Так! За-мер-ла! Света больше! Больше света!
Золотая голова скосила глаза вниз и вбок.
По полу, прямо у ее ног, медленно, важно шла мышь.
Живая мышь.
Она была живая Джоконда, а у ног ее – живая мышь.
Все было по-настоящему.
– Снимаем! – сладострастно крикнул тот, кто фотографировал.
– А-а, – сказала Золотая голова. – А-а-а!
И быстрее броска змеи скользнула, прыгнула – в платье Джоконды – ногами – на стул.
В этот момент фотограф сделал снимок.
Джоконда стояла на стуле и орала во все горло:
– А-а-а-а-а! Ужа-а-а-а-ас! А-а-а-а-а!
Фотограф воздел руки в отчаянии.
– Боже! Боже мой!
– Бля-а-а-а-адь! – орала Золотая голова. – А-а-а-а! Уберите-е-е-е!
– Что случилось! – отчаянно проорал фотограф.
– Мы-ы-ы-ы-ышь! – вопила Золотая голова.
Фотограф взял себя обеими руками за голову.
– Господи, Гос-с-с-с…
– Убейте-е-е-е-е! – орала Золотая голова.
Фотограф беспомощно оглянулся.
Никакой мыши в помине не было.
Пока они оба орали, мышь благополучно уползла в неведомую дырку.
В норку.
– Она уже уползла в норку, – обреченно сказал фотограф.
Золотая голова подобрала обеими руками старинные юбки.
– Уползла-а-а-а?!
– Да. Уползла!
В глазах у фотографа сверкали слезы.
Он, сквозь слезы, глядел на белые голые щиколотки, на точеные икры Золотой головы.
Он почему-то дико захотел ее.
«И правду говорят, она действительно, зверюга, такая секси…»
– Уже-е-е-е?!
– Вы можете слезть со стула! – крикнул фотограф. – Я вам помогу!
Он протянул Золотой голове руку.
Она протянула ему дрожащие пальцы.
Когда она спрыгивала со стула на пол, фотограф наступил ей ногой на подол старинного платья, будто нечаянно. Шов захрустел, и юбка разорвалась.
– Вы это нарочно! – крикнула Золотая голова.
– Не нарочно, – сказал фотограф, хотя это была неправда. – Извините.
– Блядь! – сказала Золотая голова. – Где мышь?
Фотограф чувствовал, как его живой шедевр рвет ему штаны.
– А вы бы убили ее? – спросил фотограф, держа Золотую голову за белую руку.
– Конечно! – сказала Золотая голова. – Туфлей!
Она посмотрела на него, и фотограф почувствовал себя мышью.
– Хотите анекдот про норку? – внезапно спросил фотограф, не выпуская белую гладкую руку из своей. – Муж купил жене норковую шубу. Она: что ты мне купил, дорогой! Здесь же одни дырки! Муж смеется: что ты, дорогая, это отличная шуба, какие же это дырки! Это – норки!
– Смешно, – сказала Золотая голова. – Ха-ха-ха!
– Я сделал снимок, когда вы прыгнули на стул, – сказал фотограф смущенно. – Это будет шедевр.
Золотая голова легонько пожала его руку, и он с ужасом понял, что сейчас, сейчас, да, вот.
– Ха-ха-ха, – раздельно, будто катая во рту жемчужины, высмеялась.
Улыбнулась.
Мона Лиза.
Джоконда.
Золотая.
ЧЕРНАЯ БАГАТЕЛЬ. ПИВО БЕЗ ВОДКИ – ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР
Когда Красный Зубр и Белый узнали, что у нас дом сгорел, они сказали только «А-а-а!» И больше ничего не сказали.
Когда Кузя узнал, что наш дом сгорел, он выматерился длинно, щедро, витиевато.
И я слушал этот мат, как музыку.
Когда Паук узнал, что наш дом сгорел, он заплакал.
Так он любил нас с мамкой.
Когда Степан узнал, что наш дом сгорел…
А разве он узнал? И когда?
Он же не приходил все это время.
Я уж думал – они с матерью рассорились.
Ему, я так думаю, откровенно говоря, по хрену будет, сгорели мы или не сгорели. Он – важная птица. И высоко летит.
Вот мы. Кто мы такие? Простые работнички революции. Простая ребятня. Пацаны, одним словом. Па-ца-ны! А Степан? Степан – во-о-о-ождь.
Разве вождям до чьей-то сгоревшей хаты?
Сгорел дом, ну и сгорел. С кем не бывает.
Наш-то угол остался все равно.
Сидел я один, мать в деревню уехала в какую-то, в какую – не сказала, сказала только: я в ЖЭУ отпросилась, за меня хромая Валя на участке поработает, я на несколько дней, – и испарилась.
Матери нет, я один, гуляй не хочу.
Я не хотел. Честно. Не хотел пить, гулять, балдеть, ругаться.
Вообще, когда трезвый, думаю о нас, пацанах, чуть ли не с отвращением: ну что это мы, революцию через пьяный угар только чувствуем, что ли?
Потому что как ни соберемся – так опять пиво, водка, сигареты, и так до мрака перед глазами, до сблева. А сквозь это все орем: мы! Народ! Партия! Еретик! Сломаем! Плюнем в рожу! Оружие! Сволочи! И всякое такое.
А как свалимся штабелями, проспимся вповалку, встанем с чугунными головами, воды из-под крана ледяной, с похмелюги, надудонимся – так вроде все эти крики кажутся… ну… чем-то притворным, что ли, кажутся.
А потом себя одернешь: ну какое же притворство? Мы же так искренне!
Мы же так верим в тебя, наша революция!
Ты – наш дом. Партия, ты наш дом.
Ты – у нас – никогда не сгоришь.
И мы все – дети твои.
А Степка, что ли, родитель? Ха-га-а-а-а!
Ну вот, значит, сижу я один совсем. И – стук в дверь.
Иду открывать. Знаю уже, что за кошки там скребутся!
Точно. На пороге – Кузя и Паук. С бутылкой водки. И двумя полторашками пива. И с бумажными стаканчиками.
Кузя за пазуху полез. Вынул копченое что-то, сильно пахнущее.
– Бастурма, Петюха, – кинул небрежно так.
– Бастурма? А че это?
– Темнотища ты. Темная ночь. Вяленое мясо. Сырокопченое. Татарское. Супер.
Он поднес копченую палку к носу и громко, сопливо вдохнул.
Ну что тут делать! Матери, главное нет. Никто не помешает. Пришли так пришли. Почему бы не выпить. За революцию.
Сели в спаленке. Я – на кровать, Паук – на стопку книг, Кузя – на пол.
Бутылку открыли.
Водкой запахло резко, как давленой хвоей.
– Это че, на кедровых орешках? – я спросил.
– На козьих какашках! – хохотнул Кузя. – Где стопки? Наливай!
Материны стопки лежали в коробке у меня под кроватью.
Я их вытащил, а Кузя аккуратно, как провизор, водку разлил.
Прозрачно, красиво, гадко…
Будто прыгаешь с парашютом. Так всегда.
– Ну, вперед! За революцию?! – угрожающе крикнул Паук.
– За революцию, Паучина! – крикнул Кузя.
– Давай, Кузьма, – кивнул я.
И мы все выпили.
От бастурмы каждый откусывал. Нож было лень с кухни переть.
Потом Кузя сказал: «Еп, у меня же с собой нож», – и вытащил из кармана нож.
Красивый; на финский похож. В чехле. Небольшой, но внушительный. Лезвие охотничье. Ручная работа, видно сразу.
– Не боишься, что тебя поймают?
– И? – сказал Кузя.
– Холодное оружие, – сказал я.
– Волков бояться – в лес не… – Кузя оборвал пословицу, как веревку.
– Накатим! – крикнул Паук.
Через час в окно застучали.
Пришел Белый, еще с бутылкой.
– Ты, что ли, ему позвонил? – спросил я Кузю.
Язык уже слушался плоховато.
– У него интуиция! – засмеялся Кузя.
Белый открыл бутылку зубами.
– Зуб сломаешь, дурень! – крикнул я.
И Белый вправду выплюнул изо рта кусок желтого, как у волка, зуба.
Когда его белая головочка на тонкой жалкой шейке наклонилась над бутылкой, а носик понюхал водку, а бледный рот выдохнул: «А-а-а-ах…» – я чуть не заплакал.
От умиления.
Водка Белого почему-то пахла псиной.
Так противно, странно пахла псиной.
Будто песья шерсть намокла под дождем… или под снегом, и собака домой вошла, и отряхивается, и брызги во все стороны летят со спины и хвоста, и пахнет, пахнет вот так, как эта водка. Горько, солено пахнет.
– Та-а-ак… пац-цаны, – покачивался Кузя. Его нос потно, жирно блестел, как смазанный маслом. – Мы ведь с вами – а м-мы не понимаем-м-м этого!.. на самом деле – в авангарде… ик!.. времени… Мы – впер-реди!.. это ж ясен перец…
– Йес, – кивал Белый и тоже слабо, как цветочек под ветром, покачивался, и покачивалась его белая хризантема на тонком стебле шейки, – пра-виль-но… Один ты слаб… а вместе – мы… ум-м-м!.. мы – это мы… и когда придет пора… и мы… должны будем… сразиться… с ними!..
– А мы!.. ведь!.. – кричал Паук. – Сразимся!.. потому что у нас… другого пути – не-е-ет… не-е-е-е-ет!..
– Не-е-е-ет… – подтверждал я.
Рука еще сама, но уже плохо тянулась к бутылке пива.
Пиво лилось в бумажный стаканчик. Стаканчик клонился и падал под перевитой, светло-коричневой, как больная моча, струей.
Лилось пиво, растекалась на полу пивная лужа.
Белый смотрел на лужу философски.
Кузя икал. Слепо улыбался.
– Пиво без водки – деньги на в-в-в… ветер, – выдыхал он.
Я упорно брал новый стаканчик. Снова лил в стаканчик пиво.
Стаканчик снова падал.
– Ты, харе! – вопил Кузя и грубо вырывал у меня пивную громоздкую бутыль. – Харе баловаться! Я сам!
– Ты-ы-ы-ы?!
Мне хотелось покричать. Побороться, повозиться.
Я опрокинул на пол лоснящегося Кузю. Бутылка упала.
– Пиво текло рекой, – мудро и спокойно изрек Белый, глядя на пивной ручей.
Паук, как фокусник, вытащил из кармана сброшенной на пол куртки еще одну пивную полторашку.
Белый сидел и курил.
Он был похож на Будду, наблюдающего последнее кровавое сражение.
В табачном дыму тлели года, проносились века.
А это была всего лишь ночь.
Одна ночь нашей революции.
Какая же революция без пива и водки?
Много пива и водки, водки и пива… вот это, наверное, и есть вознаграждение революционера. Мы делаем революцию… за то, чтобы…
Чтобы водки и пива… много… у всех было, и всегда, и вдоволь, и в любое время… года… и суток… и…
Синий, сизый дым обволакивал нас пеленами. Мы были младенцы.
Наши околоплодные воды были: водка. Наше грудное молоко было: пиво.
Пиво и водка. Водка и пиво.
А что такое был табачный дым?
А дым – это была наша душа.
Она летала вокруг нас, летала, летала…
А в нас все никак не вселялась.
Когда я падал, навек падал в смертельный, тошнотный сон, я услышал крик Кузи:
– За рев-волюцию!
А потом я услышал, как я сам захрапел.
И я не успел удивиться этому.
Я уже спал.
Проснулся я оттого, что меня стало выворачивать наизнанку. Будто внутренности из меня когтистой лапой выдирали.
Так мучительно блевал я.
И кто-то знакомый, о, добросердый держал, подставлял мне под подбородок – пустое жестяное ведро. Материно дворницкое ведро. Она в нем и полы мыла.
И я блевал, блевал в мамкино ведро взахлеб, как просто полоумный.
Пока все нутро не выблевал.
– Ну вот, с облегченьицем вас, – ядовито сказал надо мной знакомый до боли голос.
Я поднял тяжелую башку. Надо мной стоял и хохотал Красный Зубр.
– Здоровье – прежде всего, – сказал Зубр сквозь здоровый молодой хохот. – Ты не думаешь о здоровье. Если ты умрешь прежде времени, допившись до чертиков, кто будет делать революцию? Да, кто?
– Зубр, – прохрипел я и вытер рот ладонью. – Прекрати, а?
На полу дико, как звери в логове, храпели друзья и соратники.
– Водички хочешь? – спросил Зубр. Прикрыл ведро газетой.
– У тебя пивка нет? – спросил я.
– Есть, – ответил Зубр. – Есть, а как же! Как сердце чувствовало.
Когда он вынул из кармана маленькую бутылочку «Туборга», я прослезился.
– Когда мы победим, пиво будет литься из-под крана в кухне, – плача от радости, пообещал я.
И Зубр, дрянь такая, спросил так невинно:
– Из-под золотого крана?
Глава четвертая
«…поставили кабакъ у переправы, а ниже ихъ макарьевского перевозу на Волге реке съ полверсты другой кабакъ и на ихъ макарьевскомъ перевозе построили ледники и заводятъ третий кабакъ… подле часовни и чудотворныя иконы и подле келлий перевозныхъ ихъ старцевъ…
А на тотъ ихъ монастырской перевозъ черезъ Волгу реку проезжие болшие дороги нетъ, толко приезжаютъ въ монастырь по обещанию своему богомольцы. И отъ того де новаго кабака богомольцомъ приезжать во обитель впредь будетъ опасно и имъ де во обители и на перевозехъ жить опасно жъ, потому что то де место отъ жилыхъ местъ не близко и въ томъ де месте учнутъ держаться воровские люди…»
Челобитная от властей Макарьева Царю Алексею Михайловичу в Москву, 1666 год от Рождества ХристоваАГЛАЯ СТАДНЮК предпочитает ТОЛЬКО ЧЕРНУЮ ИКРУ!
Она готова платить за нее МИЛЛИОНЫ!
АГЛАЕ все равно, что продажа черной икры в России ЗАПРЕЩЕНА!
Звезде доставляют черную икру САМОЛЕТОМ, ОТБОРНУЮ, ПРЯМО В ПОСТЕЛЬ, и Аглая ест ее из золотой антикварной ЧАШИ работы ВЕЛИКОГО БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ, купленной на аукционе ФИЛИПС за ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, золотой ЛОЖКОЙ работы ЛЕГЕНДАРНОГО ЮВЕЛИРА ФАБЕРЖЕ!
На нашем снимке – Аглая, черная икра и звездная спальня.
НЕПЛОХОЙ ЗАВТРАК, СОГЛАСИТЕСЬ?
КОГО ЖЕ ЗДЕСЬ НЕ ХВАТАЕТ?
КАЖЕТСЯ, КАВАЛЕРА У НОГ ЗВЕЗДЫ…
АГЛАЯ СТАДНЮК – САМАЯ ЗАВИДНАЯ НЕВЕСТА РОССИИ!
1
На автостанции в райцентре было пустынно и уныло. В зале ожидания сидела старуха, грызла семечки; на воле бесилась, металась между домами метель, обнимала редких пассажиров, валила с ног прохожих.
– Вот в погодушку поехали! – весело крикнул Степан. – Ну ничего, зима бодрит!
Мария согласно кивнула. Она повязала поверх шапки старую серую шаль – и стала похожа на деревенскую бабенку, на одну из них, из местных.
Петр все-таки появился дома. Она ничего не стала ему говорить – ни про повестку, ни про суд. У него только недавно зажили свороченный нос и разбитые десны. Она не могла ничего ему сказать. Ничего.
Сказала только: «Я на несколько дней еду в деревню. Отдохнуть. На тебя стариков оставляю».
«С кем едешь? В какую деревню?» – спросил Петька.
«Со Степаном. В Василево. К нему».
Петр пожал плечами. «Да с кем хочешь. Да куда хочешь. – Криво повел ртом вбок. – А я, значит, старичкам супчик вари, да? Погорельцам…»
Мария опустила низко голову. И Петру стало стыдно. «Ладно, мам, ладно. Езжай. Я ничего. Я справлюсь».
Она хотела спросить его про пистолет. И не спросила.
Метель, метель…
– Ничего! – крикнула в ответ Степану Мария и туже завязала на затылке шаль. – А теперь нам что? Куда?
– Автобуса ждем! На Лысую Гору!
– Лысая Гора! Твоя деревня?..
Снег залетал в их открытые, улыбающиеся рты.
– Переправа! Доедем – дальше по льду, по Суре пойдем!
Трясясь в автобусе, Степан крепко прижал Марию к себе, как жену. И она прижалась к нему, привалилась головой. Под туго повязанной шалью лицо ее, румяное от мороза, казалось молодым, они сейчас со Степаном смотрелись парой, на равных. И он почувствовал это, отодвинулся, ее похорошевшим лицом залюбовался.
Попутчики равнодушно глядели на них, мимо них. В залепленные ледяными хрустальными хвощами автобусные окна. В свои думы; сами в себя. Степан вертел головой, пытаясь глазами выцепить кого знакомого.
– Дядь Вова! – негромко окликнул старика в огромном треухе. – А дядь Вова!
Старик обернулся медленно, нехотя.
– А-а, Степка, – кивнул. Лицо у старика, под чудовищным треухом, глядело крохотное, серое, остроносое, как у мышонка. – Плохо видю! Я тя по голосу узнал. Голосок твой ни с кем не спуташь. Чо, зимой-то пресся к нам? А кто у тя под мышкой? Баба? Твоя?
– Баба моя, – Степан сильнее прижал Марию.
Лысая гора было крохотное сельцо на самом берегу Суры. Сейчас, зимой, избенки до крыш замело изобильным снегом. По небу неслась густая, рваная вата серых, брюхатых снегом туч. Около самой кромки льда тонул в сугробах серый, как мышь, сруб, на нем красовалась рукодельная вывеска: «ТРАКТИРЪ. «ДАМБА».
– Твердый знак не забыли. Грамотеи, – усмехнулся Степан.
Дядя Вова чихнул и встряхнулся, как мокрый пес.
– По вешкам поташшимся?! – крикнул он сквозь взвыванья метели.
Они втроем медленно, увязая в снегу, подбрели к закраине льда. Перед ними расстилалось жесткое, железное поле зальделой реки; лед был где засыпан снегом – там блестел бело, как сахарная пудра, где ветер беспощадно сдувал снег – там был изрезан, как гладкий камень, полосами, пробоинами, следами колес, нарезами ребячьих коньков. Мрамор напоминал серый. Или – бок, шерсть лошади серой, в яблоках.
Ветер колол острыми снежинками лица. Мария потерла щеки варежкой.
– Что, пошли? – крикнул Степан.
И они, набычившись, выставив головы вперед, сопротивляясь ветру и снегу, побрели по льду Суры.
– Сколько километров идти? – крикнула Мария.
– Не знаю! – Степан шмыгнул носом, утер нос рукавом. – Километра три!
Дядя Вова шел впереди, вроде как показывал дорогу. Не оборачивался.
Так, втроем, они медленно двигались по льду, то серому, то желтому, то сине-голубому, то чисто-белому. То справа, то слева торчали ветки, штырьки деревянные, кустики рукодельные – а то и флажки, к веткам привязанные, на ветру мотались: вешки. Мария представила: ведь по льду, из Василева на Лысую Гору и обратно, идут люди, и старики, и дети, и бабы, и мужики, идут, идут… до каких пор? А когда – весна? И лед начинает подтаивать? А когда осень – ждут долго, как встанет?
И тонут, тонут ведь… Каждый год тонут.
А они – не утонут. Зима в разгаре. Лед толстый, как дубовый ствол. Хоть скачи, танцуй на нем. Вон следы шин. Машины ездят. «Дорога жизни», – усмехнулась она.
Василево, остров… Ни моста, ни креста…
– Степа! – крикнула она, и он остановился и оглянулся. – Степа! А раньше! Тут! Церковь! Была?!
Она показала рукой в варежке на василевский белый, крутой бугор, возвышавшийся над Сурой.
– Пять церквей! – крикнул Степан сквозь ветер. – Звон колокольный стоял!
Перешли Суру. Отдыхали. Вспотели. Мария шаль развязала. Мышонок дядя Вова сорвал с башки треух и исподним его мехом вытирал лицо, лоб.
Потом, отдышавшись, снова пошли – теперь вверх, все вверх, в гору. Гора в Василеве была огромная, крутояр. Шли долго, на поворотах опять отдыхали. Пот уже лил с Марии градом. Степан курил. Дядя Вова плевал на снег черной слюной.
Показались первые избы. Впечатление у Марии было: мертвое село. Ни огня в окнах, ни человека на дороге. У сельской пожарки дядя Вова помахал рукой и свернул по улице, уходя от них, уходя. Степан крикнул ему в спину:
– Дядь Вова! Мы к тебе придем, чайку попить!
Дядя Вова, не оборачиваясь, крикнул, и голос едва донесся из завывания метелицы:
– Самогончика лучче!
Мария стояла и глядела, как Степан отдирает доски от окон.
Досками были наглухо забиты окна дома.
Он приезжал сюда редко. И почти никогда – зимой.
Видно, с ней вот в первый раз – приехал.
Степан сильными руками хватался за доску, крякал, поддевал карманным ножом гвоздь, рвал доску на себя, и доска поддавалась. С треском отдирал одну, бросал на снег. Принимался за другую. Шапку сдернул, на снег бросил. Стоял по колено в снегу, пушистом, как загривок молодого волка.
Мария стояла около калитки, ждала.
Степан отодрал доски с двух окон. С третьего – не стал.
– Нам света хватит! Хватит?
Она осветила его улыбкой, зубы ее блеснули в сумерках.
В избах, в окнах стали загораться первые, редкие огни.
Степан, вытаскивая ноги из снеговой толщи, подбрел к Марии. Поцеловал ее в метели, потерся носом о ее нос.
Потом поднялся на крыльцо, стал копаться в замке, отворять избу.
Распахнул все двери, одну за другой.
– Залетай, метель! Выдуй старый дух… прошлое…
Мария улыбалась, поднималась на крыльцо, входила в дом.
– Ты сказал – развалюха… а тут очень даже ничего…
– Я за дровами. Они в сарайчике. В саду.
Они долго растапливали печь. Все бросали и бросали в нее дрова, а печь никак не могла насытиться, разогреться. Все холодная стояла, как подлодка железная.
– Вымерзло все как, – Мария поежилась. – Неужели мы так натопим, что можно будет здесь спать?
– И даже раздетыми, – Степан подмигнул ей. – Еще так жарко будет – задохнешься!
Они топили печь два, три часа. Сидели перед печью на корточках. Вставали. Курили. Мария думала: вот так же и Федор перед печью сидит, курит, дым, как сивка-бурка, изо рта выпускает, думает: куда же это моя Машулька пропала?
«Он ведь ничего не знает про Степана. Ничего. А Степан ничего не знает про него. Правду, может, отец Максим сказал, грешная я? И каяться – надо?»
Они все-таки легли спать в одежде. Не смогли натопить в избе до тепла.
Обнимали друг друга руками в рукавах свитеров. Ногами – в теплых брючинах. Одеяло на головы натягивали, как дети; смеялись тихо. Засыпая, Мария смотрела на рукав своего старого свитера из литовской шерсти. Из шерстяных петель торчало брюшко, с лапками, высохшей пчелы.
«Пчела засохла, а мы живые», – проваливаясь в сон, сказала себе она.
А наутро, едва рассвело, Степан встал, быстро оделся, нагнулся над спящей Марией и прошептал ей, губы в губы:
– Маша… Я на подледный лов пошел.
Он хотел угостить ее сурской рыбкой.
Удочки для зимнего лова под кроватью нашел.
А наживка? Проще простого. Отломил от дорожного хлеба кусок, сунул за пазуху.
А она спала, спала, все спала и спала. Укрылась одеялом с головой. В шерстях, в брюках ей стало под одеялом жарко, и она выползла из-под него, как из пещеры.
Ух ты! Свету в избе было столько, что его, как мед, можно было черпать ковшом, горстями! Золотой, сладкий, медовый свет заливал комнату. На стеклах буйно расцвели морозные папоротники. Искрились, алмазно, радужно переливались, вспыхивали розовым, сапфирово-синим. Не дом – церковь, и алтарь сияет, – подумала Мария весело. Спустила ноги с кровати на холодный пол. Подошла к печке. Ого! Печка-то знатно раскалилась! Пышет жаром от нее! Да каким! Хоть пироги пеки!
Она обошла печку со всех сторон: из комнаты вышла в кухню, рассмотрела: не русская печь, а подтопок, но мощный, большой. Готовить можно – на железной плите, что на огне лежит. Красота! За окнами – за морозными разводами – красное, золотое солнце, и сугробы – до небес. И чистота! И тишина.
– А ты смогла бы жить в деревне? – вслух, на всю избу спросила Мария себя.
Села за стол. Нашарила в дорожном пакете разломанный хлеб. Отломила кусочек. Стала жевать.
Куда исчез Степан? Она не знала. Она спала и не услышала, что он ей, уходя, сказал. Но она не волновалась, ни о чем не думала. Так было светло, чисто, покойно.
Степан явился к полудню. Нес на кукане шесть окуньков. А в сумке – провизию: всего накупил. И мяса, и картошки, и банку молока парного в сетке тащил! И творог, и сметану! И – меда баночку даже приволок, меда, пахучего, цветочного, настоящего…
– Степочка! – Мария хохотала от удовольствия. – Степочка, это как в сказке!
– Я все сам приготовлю. Сиди. Отдыхай. Тепло ведь?! Ну я же говорил. Ты же мне все всегда сама готовишь. Я хоть тут, в деревне, за тобой поухаживаю.
Она, ступая за ним, как волчица за волком, след в след, потопала на кухню, глядела, как он деревянным молоточком отбивает мясо, как жарит на старинной, чугунной сковороде, поставив ее на печное железо; как варит в чугуне картошку; как раскладывает творог по деревянным облупленным мискам.
Когда они сели за дощатый, гладко оструганный стол, солнце уже залило всю избу до краев, и медовый счастливый свет перелился через край. Их глаза плескались в свете, и сами были светом.
Пряно, терпко пахло ухой из свежей рыбки, из Степиных окушков.
– Я как бестелесная, – радостно сказала Мария. – Как в невесомости. Хорошо, что мы сюда приехали с тобой.
– Хорошо, – согласился Степан. – Ешь!
Он глядел, как она ест. Смеялся, черпал из кастрюли алюминьевым ополовником уху, жадно сам откусывал отбивное мясо, жевал бодро. Ему самому казалось: вот она, настоящая жизнь. А то, чем он занимался в городе, что там творил, куда стремился там, – все было ложь, и прах, и чушь, и суета.
– Я пойду баню растоплю, – сказал он ей. – Слушай, у меня куртка порвалась!
Взял со стула куртку, кинул ей. Кинул катушку с воткнутой иголкой.
– Я зашью, – обжигая его глазами, улыбнулась Мария.
Она штопала рукав его куртки, а он ушел топить баню.
Солнце било в морозные окна. Окна становились из золотых оранжевыми, из оранжевых – кроваво-алыми: это лился с неба закат, лился на деревню, на вечные снега, на избу, где сидела и шила она.
Мария зашивала дыру у Степана на куртке, и вдруг подумала – никогда не зашить ей дыру, прореху в его жизни, если вдруг что у него насмерть порвется, и внезапно рыданья сжали ей глотку, и она с изумлением увидела, как две слезы капнули с ее подбородка на ее шитво, и она быстро утерла щеки, подбородок, шею – а вдруг он войдет и заметит, что она плакала: она, миг назад такая счастливая.
«Но ведь от счастья тоже плачут», – слепо, растерянно подумала она, и уколола иголкой палец, и пососала его, как дитя.
Он вел ее в баню за руку по протоптанной им самим в густых снегах тропе.
А она несла, прижимая к боку, два таза, в тазах – мочалки, мыло, сменное белье.
Они дошли до бани, черной, приземистой каракатицы, сильно пригнулись, чтобы войти – такая низенькая была дверь, – и там тоже не разгибались, раздеваясь; Степан рванул еще одну дверь, и на них обоих пахнуло горячим, слепым густым, как сметана, паром, и, хохоча, он втянул Марию за руку из предбанника – в самое баню, а она верещала, обжигаясь паром и жаром. Степан рукавичкой подцепил раскаленный ковш, плеснул кипятком на широкие половицы. Мария подобрала ноги под себя, взбросила их на лавку.
– А-а-а-ах! Осторожней! Ошпаришь!
– Грейся, Машка, грейся… Отогревайся…
«Он любит меня, любит», – билось в висках.
Степан наливал в тазы и горячей, и холодной воды – из шайки. Подкладывал в печку дровишек. Мария намыливала мочалку, крепко, безжалостно терла ему спину – до розовости, до алости маковой.
– Как тебе?! Здорово?!
– Бесподобно!
– Будешь чистая, скрипеть кожа будет… Сиять!..
Они терли, терли мочалками друг друга. Степан встал на колени и прижался губами к низу Марииного живота. Мария ударила его рукой по затылку, легонько.
– Не балуй, конь…
– Но тебе же хорошо!
Принес веник. Старый, уже ржавый, березовый. Листья с него падали недуром, изветшал уже насмерть, но все же Степан упрямо запарил его в тазу.
– Давай тебя похлещу!
Мария послушно, как корова, подставила Степану спину.
Когда он, плеснув в камеленку кипятка, в слепом обжигающем пару лупил Марию веником по спине, по бокам, по розовому животу, она подумала: бей, бей, может, все грехи мои из меня выбьешь, а грех ли то, что я Федора тоже люблю? И тебя люблю, и Федора люблю?
Он бросил веник в таз. Встал с ней вровень.
Обнял ее. Взял руками ее груди, как спелые, тяжелые райские плоды. Их лица соприкасались. Губы улыбались.
– Так хорошо больше не будет никогда, – сказал.
И у нее сердце рухнуло куда-то вниз. Как с обрыва.
– Налей мне в таз горячей воды, – шепнула она. Пот, пар, вода, мыло катились по ее соленому лицу. – Я помоюсь. Обмоюсь. В последний раз.
А назавтра они пошли по гостям. С гостинцами.
Сперва они пошли к бабе Шуре.
Баба Шура жила напротив. Степан купил ей в магазине огромный пряник. «Она пряники любит, – сказал Марии. – Она с Санькой Овчинниковым живет».
Постучали; за дверью зашаркали шаги, и скрипучий голос протянул длинно, тоскливо: «Кто-о-о-о та-а-а-ам?»
– Открой, баба Шура! – возвысил голос Степан. – Это Степа!
Мария глядела на столетнюю бабку с лицом жеваным, морщеным неистово, сумасшедше, как кора старого-престарого степного дуба. Бабка сощурилась на Степана, на нее – и широко, резко распахнула кривую дверь.
– Гошти дороги-и-и-ия! Пожа-а-алте!
Вошли. За стол сели. Степан выложил из торбы подарочек.
– Знает, шволочь, што я прянишки ошобо люблю-у-у-у… Уважил штаруху…
Баба Шура чмокнула Степана в бритый затылок.
– Што броешшя, как лышый? Модно, што ль, голым? Или это штоба не причашывацца по утрам?.. Шашка! Шашка-а-а-а! – вдруг завопила. – Вштавай, горюшко! Гоштюшки у наш!
Из горницы выполз, нога за ногу, заспанный, с похмелья, парень. Зевнул, дохнул перегаром. Кудлатый, на лицо смазливый. Волосы русые, висят, как у девицы, до плеч, глаза голубые, пустые, плавающие еще в реках пьяного сна.
– Что?.. Кто?.. – Увидел чужих, приосанился, космы пригладил. Всмотрелся. Узнал Степана. – А, да Степка это! – Шагнул вперед, рукой встретил твердую руку Степана. – Давай! Со встречей! Бабка!.. Ты это!.. Ну, шевелися…
Баба Шура проворно, невесть откуда, будто из воздуха, вынула темную зеленую, с отбитым горлышком, бутылку. Громко шлепнула на стол.
Сашка выставил стаканы. Трехлитровую банку с огурцами.
Мария смотрела, как в грязные, захватанные стаканы Сашка разливает пахучую, вонючую самогонку. «Эх ты, смердит как. Из чего гнали? Из опилок, что ли? И это надо – пить? В деревнях отличная самогонка, не бойся, не сдохнешь…»
– Со встречей! – повторил Сашка и встал за столом, и поднял высоко, над головой, стакан. Покосился на Марию. – Ты не робей, баба! У тебя мужик – что надо парень! Таких – поискать!
Мария поднесла стакан с самогоном к носу – и задохнулась.
Зелье обожгло глотку. Прожгло потроха насквозь.
Краем глаза Мария видела, как Степан, давясь, хохоча светлыми, как лед, глазами, заталкивает в рот соленый огурец.
Они сидели у бабы Шуры еще три часа, пока не выпили эту бутылку, и еще одну, и еще одну. Дошла очередь до соленых помидоров. Сашка отварил три больших, как футбольные мячи, картофелины. Мария развеселилась, разжарилась, самогон задурил ей голову, но она держала себя в руках, следила за собой, потому что Степан сказал – пойдем еще в одни гости, а потом – еще. Вечер длинный!
И она берегла себя для других гостеваний, чтобы не упиться так позорно и сразу.
Но пышным весельем налилась, распоясалась, разнуздалась; хохотала громко, без стеснения, гибко, затылком до шеи доставая, закидывала голову; молодела на глазах; пела песни вместе с бабой Шурой; стреляла глазами в угрюмого Сашку; хватала под столом Степана за колено, а он, смеясь, ее хватал, щипал, и повыше; и иконы, мерцающие по срубовым, закопченным, затянутым паутиной стенам, плыли перед ее глазами, как черные, груженные червонным золотом, медленные лодки.
– Вася! Отворяй!
Огромный, жестоко ободранный соперниками, блохастый черный кот ходил по плашкам палисадного забора.
Из избы послышалось:
– Открыто!
Они вошли. Кот вошел за ними следом. Мария чуть не упала через завернувшуюся рулетом половицу. Запахло знакомым, недавним: острым, сливовым, сладко-спиртовым духом самогона. В сенях, в коридорчике, повсюду стояли бочки, бочонки, ржавые емкости, канистры. И от них тоже пахло.
Они вошли в дом, и в их глаза впечатались уже темно-синие окна с красной небесной полосой в дикой дали – это уже настал вечер, и на село обрушился закат. За круглым, массивным дубовым столом сидела, подперев подбородок кулаками, полная, дородная старуха.
– Вася, здравствуй! – Степан почему-то поклонился старухе в пояс. – Это ж я, Степашка! Как живешь-можешь?
– Почему Вася? – спросила Мария тихонько. – Она же…
– Васса ее зовут, – просвистел Степан сквозь зубы. И – громко: – Ну, Вася, как ты тут?
– А што? – пожала плечами старуха, не сходя с места. Руки только от лица отняла. Рассматривала Марию и Степана придирчиво, будто товар выбирала на рынке. – Ништо мне не сделаицца. Самогонку варю, да продаю потихонечку. Ты сам-друг? Тя как звать-то? – оборотилась к Марии. – Ищо яму не родила ляльку?
Мария покраснела не хуже закатных окон. Степан больно сжал ее руку.
– Маша ее зовут, Вася, Маша, Маша, – повторил, как втолковал.
– Мамка-то твоя как там?
– Нет мамки, – жестко сказал Степан, глядя прямо в глаза дородной, как царица, старухи.
– Преставилася? А-а… – Вася медленно, тяжело двигая пухлой рукой, перекрестилась. – А тятька?
– Отец тоже умер.
Мария избегала смотреть Степану в лицо.
Он никогда не говорил ей о родителях.
А их у него, у молодого, оказывается, и не было уже.
«Сирота, сирота», – билось в ней.
– Што, выпьем за стречу? – просипела старуха-царица. Мария глядела на ее седые, кольцами, еще густые волосы, шапкой обнимавшие большую, как у стельной коровы, голову.
– Можно, – так же жестко ответил Степан.
Об его колено потерся блохастой башкой, умоляюще мяукнул ободранный кот.
У Вассы Арсеньевой они просидели поменьше, чем у бабы Шуры: с часок. Вася угощала их самогоном, и он пах точно так же, как и у бабы Шуры. «Из одного котла», – подумала Мария, опрокидывая в рот стопку. Когда они уходили, Вася уже плохо сидела на стуле. Все время валилась набок, как ватная баба с чайника, и Степан ее нежно усаживал обратно. Локти ей на стол положил, чтобы на пол не упала.
На улице уже было густо-сине, темно, но небо не было черным – оно навалилось синей ваксой, игристой, безумной кучей живых, шевелящихся звезд, и белая парча снега вольно расстилалась под звездной резкой игрой, ударяла цветными, режущими лучами.
Мария и Степан, уже нетвердо, шатко, пробирались по тропинкам меж сугробов еще в одну избу.
Избенка, приземистая, повалившаяся на один бок, как пьяная Вася, стояла на самом краю улицы. Дальше был забор из длинных жердей – и начинался лес.
Степан не стучал – толкнул дверь.
– Тут все время открыто… Дядь Коля! Дядь Коля! – заблажил, топая громко, отряхивая снег с брючин, с ботинок. Зажег свет. Тусклая лампа под потолком загорелась, как кошачий глаз. – Дядь Коля, где ты! – Оглянулся на Марию. – Если умер, лежит где – не ори. Будем хоронить. Дядь Коля-а-а-а!
Из горницы послышалось мучительное кряхтение.
– Живой…
Степан вынес дядю Колю из горницы на руках, как ребенка.
– Вот, Машенька!.. дядь Коля это… – Степан уже вез, плел пьяным языком. – Это мой дядь Коля, солнышко мое-о-о-о… Мы в детстве с ним… за к-к-к-карасями на Святое озеро ходили… И за язями – на тот берег Суры – на лодочке плавали… А л-л-л-лодочка однажды перевернулась, ха-ха-а-а-а!.. и мы – бултых!.. и дядь Коля меня спас, спа-а-а-ас… Машенька, ты там это… погляди чего к столу, пошукай, а?.. сама, как хозяйка… Видишь, он уже совсем никакой…
Степан, с дядей Колей на руках, сел на диван.
– Дядь Коля… Что с тобой?..
Мария глядела – на глазах сизо плыли, мертво мерцали два бельма. На обоих.
– Дак ить… – Дядя Коля швыркнул носом. Его лысина блестела в скудных лучах тусклой пыльной лампы. – Дак неудача… Ослеп я, милай… Совсем ослеп… На операцыю лег… которакту вырезать… на обоих глазах которакта была… ну и што?.. Лег в клинику… бесплатно лег… на операцыю пошлепал, потом на другую… Вставили мне!..
– Вставили?.. – смеялся сквозь пьяные слезы Степан.
– Ну дак я и говорю – вставили… Врали – мягкую линзу вставят… а воткнули – жесткую… бесплатно дак!.. Глаз поранили… и другой тоже захворал… воспалился… Дешевую, суки, вставили!.. А платил-то я – за дорогую!.. Пеньсию копил… Не пил, не ел… Вот…
Дядя Коля прижался лысой головенкой к плечу Степана. Так сидели они: бритый и лысый, с голыми головами. И Марии показалось – мерзнут, мерзнут они, и сейчас замерзнут навек здесь, в снегах.
Холодно было у дяди Коли в избе.
Пьяно встала со стула Мария. Схватила с сундука одеяло. Накрыла одеялом сидящих, обнявшихся, как шерстяным, дырявым крылом.
– А что ж делаешь-то тут, один, слепой, дядь Коля?..
– Да ништо… Што мне… Санька Овчинников заходит… Хлеба приташшит, лука… Воды нанесет из колодца… Одному-то мне воды – надолго хватат… Ну што?.. И самогоночки, конешно, под мышкой притартат… Я яму, Саньке, пеньсию отдаю… Я денег не видю – зачем мне они?.. По кой ляд?.. Я – и без денег проживу… И умру без них…
Мария села перед ними на корточки. Руки им обоим гладила. По лицу ее слезы текли.
– Ктой-то тут ищо… Трогат мяня… Дышит…
– Это жена моя… тайная.
– Тайная жона?.. А как это – тайная?.. Таперь и такие есть?..
– Все теперь есть, дядь Коля, все. Давай Маша тебя покормит, а?.. А я воды тебе нанесу.
Степан пошел за водой к колонке – наполнил ведра, обратно побрел – и упал, растянулся в сугробах. Вода вылилась вся. Вернулся, ведрами звеня, громко, хулигански, под звездами, на просторе, матерясь. Снова долго стоял у колонки, на рычаг нажав; ведра переполнялись, вода переливалась на снег, через край, он стоял недвижно, смеялся беззвучно, глядел на серебряные водопады. Мария варила дяде Коле суп из двух картошек, луковицы, ложки подсолнечного масла и кусочка старого сала, найденного в грязном, как ковш экскаватора, холодильнике. У дяди Коли была газовая плита, от нее шел резиновый шланг к газовому баллону. Значит, он был еще богатый.
Еще чуть-чуть богатый: газ у него еще был.
Они вернулись к себе в избу уже заполночь. Небо сделалось страшно-черным, прозрачно-высоким, торжественным, как последний приговор. Звезды горели колко и жестко, и от них в нежно-белую шкуру зимней земли летели узкие острые лучи, как ангельские копья. Стояла такая тишина – уши ломило. Мария увидела, как по опушке ближнего леса бежит, высоко вздергивая задние лапы, белый заяц. Она засмеялась, крикнула:
– Заяц!.. Беляк…
Степан брел, подхватив ее под мышку. Дышал в нее самогонкой.
– Это, Машка, мои старики… Жизнь пробежала у них… как вот заяц – по опушке…
Целовались пьяно, вкусно под иглистым, в потусторонних жемчугах-алмазах, смоляным небом.
– Идем… А у нас – тепло… Еще не остыло…
– А тут… все так пьют?..
– Все, Машка… И – молодые тоже…
– Не верю…
– Молодые – рвут когти отсюда… Уезжают… Навсегда… Я тебе завтра – и молодых покажу…
И он показал ей назавтра василевских молодых.
Пришли на дискотеку в клуб. Не клуб – дощатый, покрашенный синей краской сарай. Огромный, как старая армейская конюшня, зал, воняет мочой, табаком. Фикусы в кадках вдоль стен. Окурки на полу. Музыка гремит дико. Темень, во тьме просверкивают вспышки – красные, синие. Подростки скачут, корчатся, взбрасывают руки, изгибают ноги. В углах – девчонки сидят верхом на парнях, сосут из бутылок пиво. Визги, смех, ругань.
Мария постояла в дверях клуба. Степан курил, отведя руку из двери – наружу, в снег, мороз и чистоту.
– И вот так тут они все время? Вечерами?
– А что тут им еще делать?
Он затянулся и выбросил на снег сигарету.
И было еще одно завтра.
– А теперь пойдем в дом отдыха. В брошенный, – уточнил он.
День был солнечный, все сверкало до боли в зрачках.
Они пошли гулять по деревне, как настоящие супруги – под ручку. Снова Мария поразилась зимнему безлюдью. Хотя все работало: и магазин, и школа, и поссовет, и даже общественная баня, была тут и такая, на шесть персон, – но на улицах – ни души.
– Мы тут одни… как после атомной войны…
– Дыши, дыши воздухом, Машка… В городе будет совсем другая жизнь…
Ворота заброшенного дома отдыха, из ржавой жести, замели сугробы. Степан ногами отгреб снег, нажал с силой, ворота подались, раскрылись, в жалкую щелку впустили их.
Белизна… чистота. И тишина, тишь такая, что кажется – ты вернулся в начало мира. Степан насобирал веток, щепок, поманил Марию к торчавшей в снегу резной беседке.
– Здесь костерок разожжем…
Она глядела, как он умело, сноровисто разжигает в снегу огонь. Домиком щепки кладет. Шатром ветки наваливает. И бумажку для разжига в кармане отыскал; и зажигалку в ветки толкает. Раздувает! Щеки круглые, мячами… Мария сняла варежки и подняла голые руки над пламенем.
– Огонь, огонь… А это все… – Она повела головой. – Все брошено, да?..
– Все уже купили, – голос Степана сделался стальным. Она боялась этого его голоса. – Богачи будут строить здесь дворцы Приама. Для себя. И повесят табличку – вход воспрещен, штраф миллион рублей, осторожно, пять злых собак. Ротвейлеров. – Он сплюнул в снег. – Гады.
– Ты так их ненавидишь? Богатых? – тихо спросила Мария.
– Да. Ненавижу. Потому что они, – он кивнул головой на дальние крыши села, – все бедные. Потому что мы с тобой – бедные. И вся страна – такие вот бедные. А их не так много. Но они – богатые.
– Но ведь равенства не будет никогда!
Мария все держала руки над огнем.
Поглядела на Степана, и ее поразила злоба, покорежившая его лицо.
– Может быть. Да. Не будет. Но должна быть правда. И справедливость.
– Должна быть… любовь…
– И любви тоже нет. – Он сорвал шапку, рьяно потер ею бритую голову. – Нет! Ее нет потому, что все бегут за деньгами! И кто-то до них – добегает! А кто добежал – для тех любви уже не существует. Все! Умерла. Это ты понимаешь?!
Костерок горел, красные сполохи лизали и целовали искристый алмазный снег. Ветки потрескивали. Далеко, за Сурой, раздался выстрел: охотник выстрелил. Зверя, может быть, убил. Себе на еду, семье.
Один живой убивает другого живого, чтобы выжить. Вот она, вся справедливость. Вся правда.
– Я все понимаю, – сказала Мария.
Лед реки сверкал под высоко стоящим белым солнцем, как расшитая серебром, широкая, праздничная, пасхальная риза священника.
– Я к бабе Шуре. Хлебца им с Сашкой купил свежего…
Степан ушел. Мария села к окну и поскребла ногтем морозный узор на стекле.
Под подошвами протяжно, тонко скрипел снег. Степан подошел к дому бабы Шуры. Вечерело, а у них света в окнах не было. Дверь замкнута была. Степан постучал, сначала раз, другой, потом стал стучать без перерыва, как молотком колотить. Дверь молчала. Дом молчал.
Он почуял неладное. Разбежался, ногой выбил ветхую дверь. В нос ему ударил сладкий запах. Это не был запах самогона. Дверь в гостиную отворена была. Он вошел, принюхиваясь, втягивая воздух, как волк. Увидел их – обоих: баба Шура лежала лицом вниз на сундуке, рука ее свисала до полу, как гиря ходиков. Сашка валялся на полу, лицом вверх. Его красивое лицо было все синее. Язык торчал между оскаленными зубами. Длинные, как у девушки, русые волосы прилипли к щекам, на подбородке, на половицах под головой засохла блевотина.
«Упились, – бормотнул Степан, – упились все-таки…»
Позвал старушек соседских – читать над покойниками Псалтырь, обмывать.
Старушки сидели денно и нощно, попеременно читали псалмы, жгли бесконечную свечку. Мария все вымыла в избе, прибралась, как могла.
Хоронили на третий день, как и положено. Гроб у бабы Шуры был заготовлен заранее, стоял в сарае, где дрова. Гроб Сашке заказали у сельского знаменитого плотника, дяди Сереги Полуэктова. Он гроб сделал в момент, срубил, сосновый. Денег на гроб заняли у слепого дяди Коли.
На василевское кладбище гробы везли на четырех детских санках, связанных веревками. Это Степан придумал, чтобы в пожарке машину не просить. Везли медленно, шли за гробами еще медленнее. Ноги вязли в наметенном снегу. Старушки плакали, тонко подвывали. За гробами шла и дородная Вася-царица, сморкалась в огромный, как мешок, платок.
Могильщика на кладбище не было: сказали, парень запил. Степан разделся до рубахи, сам взял лопату, поплевал на руки. Сначала кидал снег, потом долго, целую вечность, рыл твердую, прокаленную морозом землю. Земля тут была черноземная, мягкая, хорошо, не подзол.
Мария сама помогала ему опускать в ямы гробы, на полотенцах – старухи умные догадались полотенца прихватить. Тонкими голосишками на морозе старухи пели отходные, церковные песнопения. Солнце играло в тонких, бьющихся на легком ветру голых ветках берез. Мария, надрываясь, держала за хвосты полотенце, Степан опускал гроб с телом Сашки. Бабу Шуру уже опустили. Мария взяла ком земли, кинула сначала на крышку бабе Шуре, потом – в яму Саньке. Старухи тонко, как котята, заплакали, забормотали. Солнце ослепляло, било прямо в глаза. Степан стал забрасывать гробы землей вперемешку со снегом, закапывать.
Мария вытерла варежкой вспотевшее, горящее лицо.
У нее не было никаких слез. Напротив, странная радость была – стоять на морозе на кладбище, смотреть на сельские похороны, на разрушенную деревянную церковку глядеть: церковь подожгли с одного бока, и она была наполовину желтая, наполовину – черная. «Тоже пожарище… как у меня. Везде огонь! Все жгут. Жгут нашу жизнь! Наши книги! Наши дома! Наше святое. Все – жгут! А сожгут – свое построят. Богатое. Чужое. И мы – порог их не переступим. Так на задворках и помрем. Сопьемся… как баба Шура и Сашка… и помрем. Степан прав. Надо восставать. Но как? И – кто?! Ах, как птицы поют! Весну чуют!»
Степан кончил закапывать. Бросил лопату. Обтер руки о штанины. На корточки присел, как лагерник. Закурил.
Птицы пели в ветвях берез, под солнцем, над их головами.
Связанные веревкой детские санки перевернулись кверху полозьями. Будто брюхом кверху валялись мертвые зверята.
И старухи плакали и пели.
На поминках Степан пил самогон осторожно, скупо. Мария вынимала из банок, ловила вилкой, пальцами огурцы, помидоры, а они вырывались, ускользали из пальцев, как живые. Кроме вареной картошки, огурцов и помидоров соленых, ну, и самогона, разумеется, на поминальном столе еще валялись, на битых, щербатых тарелках, пирожки с капустой и пирожки с картошкой – из сельмага, старухи сами печь не стали, готовые купили. Еще купили дешевые сосиски. Рис сварили, изюм туда запустили: сладкая кутья получилась, славная.
Все было честь по чести.
Как надо, бабу Шуру и Саньку проводили.
Когда они стали собираться домой, в город, Мария все ходила по избе и гладила, гладила стены, печку, столы, горшки, чугуны, ветхие занавески, как живых. Все тут было живое, сирое, родное, милое до слез. Брошенное. Как брошенный кутенок или брошенное дитя. На дороге… под снегом…
Как мы оставим этот дом, как уедем, думала она. Ведь он тут будет стоять один… совсем один. Опять. Долгое время. Может быть, годы. Степан говорит – детей сюда будет возить, когда родятся они. А когда они родятся? С женой-то он уже долго живет. А может… У нее стало холодно под сердцем. Может, он врет все ей, и у него уже есть дети? Есть? И они и правда сюда летом приезжают?
Она украдкой оглядела избу. Не завалялись ли где игрушки. Нет, не пахло детишками тут. А то – хоть пеленку старую на кухне она отыскала бы. Хоть – юлу под столом, ваньку-встаньку за печкой.
Степан подошел к ней сзади. Она не услышала. Обнял ее, и она ахнула.
– Ты… Ну… Что пугаешь…
– Я такой страшный?
Она взяла его руку, ладонь его прижала, прислонила к своему лицу. Нюхала табачный запах мужской ладони.
– Ты – мой…
Хотела сказать: «родной» – и не смогла.
Лицо Федора всплыло перед ней из тьмы, из света. Из солнца заоконного. Из могучих снегов.
– Ну? Отдохнула? – Поцеловал ее в шею. – Понравилось тут у меня?
– Степка, – обернулась быстро. Закинула руки ему за бычью выю. – Спрашиваешь!
– Ты прости, что эти тут померли при тебе…
– Да нет. Судьба у них такая.
– Я не хотел, чтобы ты хоронила…
– Может, это хорошо, что мы с тобой были как раз тут и их похоронили.
– Давай. Собирайся.
– Я уже собралась.
Они сели, посидели, по обычаю, перед дорогой. Степан держал в руках тяжелый амбарный замок. Вертел ключ.
– Машка… – Охрип внезапно. – Я должен тебе сказать…
Ее обдало изнутри ледяной водой.
И замерзло все сразу внутри.
– Говори.
– Я скоро буду…
– Ты бросишь меня?
Это сказала не она – ее губы, от нее отдельно.
– Дура, – он криво усмехнулся, и она увидела: у него отросли над губой темные усы. – Дура, дура, ду-у-у-ура…
Отвернулся.
– Ну! Говори! Что ж замолчал!
Но легче стало на душе, легче.
Встал он. И она встала.
– Нет. Не скажу. Не время еще. Идем.
Подхватил сумку; Мария тихо взяла пакет с дорожной провизией. Две сосиски, булка, два пирожка с капустой, два соленых огурца. Из той банки, поминальной, Саньки Овчинникова.
Спускались по крутой тропе к реке. «Наши вешки, вон, вижу!» – показала на кустики с флажками Мария. Степан скользил по тропе впереди, крепко поддерживал Марию за руку.
И тут вдруг из кустов раздался стон.
– А-а-а-ах… А-а-а-а-а-м-м-м!..
Степан выпустил руку Марии.
– Стой, Машка… Кто-то там…
Сунулся в кусты. Когда повернулся к Марии – лицо было растерянное, совсем детское.
– Маша… там… девчонка лежит… живот такой большой…
Мария поняла сразу.
– Рожает, – сказала, как отрубила.
Уже ломилась сквозь кусты.
На снегу, животом вверх, лежала девушка, да нет, верно Степан сказал, девочка. Пузо у нее на нос лезло, такое огромное. Девчонка корчилась, подбирала колени повыше к животу. Хватала крючьями красных пальцев снег. Он таял и тек у нее из-под пальцев водой. Или – водкой.
– А-а-а-а-ах!..
– Тихо, не ахай, – нарочито грубо сказала девчонке Мария. – Что вот теперь с тобой делать?
Она присела и подсунула руки под спину роженицы.
– Идти – можешь?
– Не-е-е-ет… Больно-о-о-о-о!..
– Плевать на твою боль. Пересиль себя. Вставай!
Мария потянула девчонку за руку. Степан приподнял ее сзади.
– Мы тебя через Суру переведем, в райцентр, там – больница…
– А-а-а-а-а!..
– Степа, бери сумки, я ее поведу…
Он сплюнул. Девчонка стонала уже без перерыва.
– Нет. Сама бери. Я ее – понесу.
И он взял брюхатую девчонку на руки и понес, скользя в снегу, чуть не падая, оступаясь.
Теперь Мария шла по косогору впереди, а он, с роженицей на руках, – сзади.
Когда они спустились к Суре и уже шли по льду, у девчонки вдруг побелело, не хуже снега, закинутое лицо. Степан побежал быстрее, обогнал Марию.
– Скорей! – крикнул он, и парок вылетел, как душа, из его рта. – Быстрей, Машка, шевели ножками! Она сознание потеряла!
Они добежали до середины Суры. Мария не поняла, как все случилось. Раздался легкий, почти неслышный хруст. Трещина зачернела под ногами Степана. И Мария, как в страшном сне, видела, – медленно, медленно, медленнее не бывает, Степан стал оседать, куда-то исчезать, – и она с трудом осознала, что он, вот сейчас, в этот миг, проваливается под лед. И сейчас – вот сейчас – утонет.
Лицо Степана перекосилось от натуги. Страшным усилием он толкнул девчонку вперед от себя, дальше, еще дальше. Она откатилась по льду. Ее руки, ноги не двигались. Белое лицо застыло. Только громадный живот шевелился, бугрился. Живот был живой. А она…
Руки Степана хватались за острые зазубрины, разломы льда.
Мария стояла как во сне.
– Машка! – дико закричал Степан. Глаза его вылезали из орбит, как у рака. – Машка! Что стоишь!
Она сделала шаг к Степану.
– Нет! – хрипло, натужно завопил. – Не подходи близко! А то тоже провалишься!
Она начала дрожать. Мелко, противно.
– Платок! Развяжи шаль! Брось мне конец!
Под ее ногами тоже разбегались, змеились мелкие трещины.
Негнущимися руками она развязала узел шали. Сдернула с головы.
Швырнула шаль Степану.
– Держи-и-и-и…
Он поймал конец шали, когда уже уходил под воду с головой.
– Ляг на лед брюхом! – отфыркиваясь, завопил Степан. – Ложись!
Она легла. Крепко конец шали держала.
– Тяни-и-и-и!
Она отползала назад и тянула, тянула.
– Тяни-и-и-и-и…
Он карабкался из полыньи. Наваливался грудью – а лед опять расползался, трещал. Мария ползла, тянула. Степан изловчился, нашел место, где лед покрепче схватился; осторожно, чувствуя, как уже немеют в ледяной воде ноги, выполз на толстый, уже твердый как стальной сплав, лед. Дышал тяжело, часто, хрипло. Мария все вцеплялась в шаль побелевшими пальцами.
– Все… Ползи на пузе дальше… К ней… Туда… На ноги – не вставай…
Они оба поползли по льду, как две рыбины, белуги.
– Ноги твои как…
– Никак! Хоть бы ты догадалась самогонки бутылку захватить… Сейчас растерся бы…
– Извини…
Солнце круглым шаром стылого чувашского масла каталось за тучами.
Они отползли дальше, еще дальше, за рожающую девчонку. Шубенка на животе роженицы расстегнулась – или это Степан, пока нес ее, расстегнул?
Передохнули. Степан постарался встать. Сначала встал на колени. На морозе живо, мгновенно обледенели мокрые ботинки, портки, куртка. Он, морщась, встал на четвереньки, как собака. Вот разогнул спину. Вот – уже стоит, стоит во весь рост на льду.
– Не бойся! Что глаза круглые сделала… Здесь – не провалюсь! Здесь лед толще ее, – кивнул на девчонку, – живота…
– Степка! – Мария закусила губу. – Степочка… Как же мы…
– Никак! Вперед!
– Она же… лежит…
– Я ее понесу!
– Мы вместе…
Они оба наклонились над девчонкой. Степан подхватил ее под мышки. Мария – под колени. Оглянулась на их дорожную сумку, на пакет с пирожками и огурцами.
– Оставь все! – дико крикнул Степан. – Вперед!
И они двинулись вперед.
Не прошли и километра, как девчонкин живот заворохался бешено, и она, в бессознании, судорожно забилась на руках у Степана. Он шел, еле ворочая заледенелыми ногами.
– Ч-ч-ч-черт… Не могу идти…
Он встал на колени и бессильно положил девчонку на лед. Мария почувствовала, что надо делать. Сорвала, содрала с девчонки шубку. Задрала ей юбку, стала рвать, прямо на ней, колготки, трусы.
– Что ты делаешь!.. Машка!.. Она же…
Мария руками раздвинула колени лежащей на льду девчонке.
И Степан понял.
Ребенок шел на свет, слава Богу, головкой. Мария оглаживала мокрое темечко. Губы ее шевелились, будто она молилась.
И тут глаза девчонки открылись. Она пришла в себя.
– Ой-ей-ей-о-о-о-ой!..
– Тужься! – заорала Мария. – Давай! Рожаешь!
Она наклонилась над ее лицом, повернутым к высокому, в бешено мчащихся тучах, небу с белым глазом морозного солнца, и ахнула – такими бездонными, небесными, потусторонними, неземными были, сияли, нездешне переливались смертным перламутром ее широко распахнутые, чуть, по-чувашски, раскосые глаза.
Плоть, живая плоть и кровь… Лезет, борется, хочет жить…
Еще – без духа…
Нет! Нет! Есть в красном тельце дух! Есть!
Иначе – все – бессмысленно… и бесповоротно.
Мария протянула руки. Живая, горячая на морозе, скользко-речная, рыбья тяжесть выпрастывалась наружу, билась, вот уже ложится, легла уже ей на покрытые цыпками, трясущиеся руки. Вот он! Ребенок. Человек…
Девчонка повернула голову, ее щека прижалась, приварилась ко льду.
Она опять потеряла сознание.
Ребенок на руках у Марии вдохнул мороз – и запищал!
Степан стоял на коленях на льду.
Кажется, он плакал.
– Мы умрем тут, – сказала Мария.
Она уже перерезала дрожащими руками, карманным ножом Степана, пуповину. Замотала ниткой, выдернутой из старого своего свитера. Она держала на руках ребенка, закутанного в шубу. Он нежно, зверячье кряхтел, попискивал.
Девчонка, задрав к небу голову, без чувств, лежала, разбросав руки и ноги по стально искрящемуся льду.
Степан лежал на боку, подобрав застывшие ноги к животу. Его брючины сверкали под солнцем ледяной коркой. «Лежит, как младенец в утробе», – подумала Мария.
– Нет! Нет… Что ты мелешь!.. – Она видела – он задыхался, замерзал. Пойдет же кто-нибудь на тот берег! Увидит кто-нибудь…
Зимнее солнце уже алело, катилось на закат.
Мария прижала лицо к густо-красному личику ребенка, он сморщил чечевичный носик и чихнул. Она грела его дыханием. Потом завернула кудрявый, грязный рукав шубы, положила ему на мордочку: чтобы не замерз, грелся внутри мехового кокона.
– Маленький… Милый… Родился… Не на земле, не в воде, не в воздухе… На льду… На реке… И никто не расскажет тебе…
Она бросила взгляд на девчонку. Та не шевелилась.
И не дышала.
Или – все-таки – еще дышала?!
Степан подполз к девчонке, подтянулся на локтях. Прислонил щеку к ее носу, рту.
– Она не дышит! – крикнул он. – Не дыши-и-и-ит…
Рыдал.
Оборвал рыданья.
Уткнулся лбом в лед.
Мария согнулась над ребенком, укутанным в шубу, нахохлилась над ним, как мать-наседка. Она тоже замерзала. Ей почудилось: да, она наседка, птица, и вместо рукавов у нее – крылья, и вместо костей рабочих рук – легкие, невесомые, птичьи косточки, полные воздуха и ветра.
Она закрыла глаза. Сильно хотелось спать.
– Не спать, – сказала она себе белыми губами. – Не спать, слышишь, не спать!
Вечерело быстро и страшно.
Когда над ледяным платом Суры в красно-буром небе уже забились, замерцали первые звезды, послышался шум мотора. По льду медленно, осторожно, тревожно шла машина.
Мария смутно, сквозь пелену, слышала тарахтенье мотора. Слышала, как дико, захлебываясь слюной, ругался шофер, выскочив из кабины на лед. Чувствовала: вот чьи-то руки берут ее, вынимают у нее из сложенных крыльев ребенка, вот несут ее куда-то – куда? А, в тепло… в запах бензина, кладут, как мерзлое бревно, на воняющую бензином и овечьей шерстью кожу… Гладят, бьют по щекам, что-то стеклянное, ледяное суют в рот… Тьфу!.. горечь… А, глотай, глотай, это же водка…
Водка бывает или хорошей, или… очень хорошей… плохой – никогда не бывает…
«А где Степан? Где девочка?» – подумала она еще, прежде чем провалиться в вихренье снега, в ночную метель.
ЧУДО СРЕДИ ТЬМЫ: И ЕСТЬ, И БУДЕТ МИРОТОЧИВАЯ
…многозубчатая, сверкающая темным, будто на рыбацком костре подкопченным, золотом корона над Ее чистым, крутым лбом.
Крутолобая. Как бычок.
С головокружительно-безумными, священно-бездонными, налитыми растопленным зимним льдом, громадными, как две синих ладьи, глазами. Синие, опаловые белки выпуклы, как очищенные Пасхальные яйца; темно-коричневые радужки внезапно отсвечивают морозно-голубым, наивно-детским аквамарином.
Драгоценное лицо. Переливается, вздрагивает, светится.
Она – драгоценность Земли; и Земля повторяет Ее тысячу, миллион, десятки миллионов раз; вот повторила и теперь.
Щеки округлые, и чуть выпирают, смугло торчат южные скулы. Слегка раскоса, будто Она – татарка. Может, Она – татарка?
Может, Она – абиссинка, ассирийка, армянка, грузинка, таджичка, степнячка, мулатка, креолка, эта смуглая скорбная еврейка с глазами огромными, как два глиняных блюдца, только вынутых, после обжига, из печи?
Рот. Этот скорбный рот. Рот – тоже драгоценность. Персы воспевали рубиновый, гранатовый рот; пели о женских устах, что как лепестки роз. Здесь драгоценность великой скорби, упрятанная в шкатулку вечной, неизбывной радости.
Да! Радости. Ибо Она радуется.
Ибо невозможно никогда и никому победить, измять радость Ее.
«Хайре!» – кричат Ее глаза. Хайре, шепчет ее печальный, нежный рот. Слишком нежный для убивающего мира.
ДЛЯ ЖЕСТОКАГО МIРА, ПОГРЯЗШАГО ВЪ УБИЙСТВАХЪ И УЖАСАХЪ, ВЪ ШОПОТЕ ДIАВОЛА.
Хайре, гелиайне… Кирие элеисон…
Что спускается на Ее чистый, крутой и смуглый лоб с обода короны?
Посреди Ее лба, между бровей, светится прозрачный, висящий на золотой, почти невидимой цепочке, весело-искристый камень. Искусно ограненный самоцвет.
Самоцветы – глаза Земли.
Прозрачный камень на Ее лбу внимательно, спокойно смотрит в мир.
В ШИРОКIЙ И БЕЗУМНЫЙ МIРЪ, ИСПОЛНЕННЫЙ ГРЕХА.
Внимательно, спокойно, ясно, твердо, нежно.
Оба Ее глаза смотрят; и самоцвет сторожко, огненно глядит.
О, да Ее щеки тоже глядят! И рот глядит, дрожит, как алый глаз.
И каждая ноздря, дрожа, глядит. Вдыхает скорбь и ужас. А выдыхает аромат и чистоту.
Углы Ее губ приподнимаются. Это улыбка. Она – улыбается.
Она держит улыбку на лице, как держат в ладонях маленькую птицу.
И вот-вот отпустят.
И уже отпускают: лети!
Но птица не улетает. Не хочет улетать.
Птица знает: Ее нельзя покидать. У Нее будет большое, невыносимое горе.
И потом – такая же великая, необъятная, как небо, невыносимая радость.
Птица хочет навсегда остаться с Ней. Ее утешить.
Прочирикать Ей: я любовь, я с Тобой.
Нет, это Ее глаза как птицы! Они летят впереди Ее лица.
Они летят, плывут, живут и умирают.
И умирая – воскресают.
И воскрешают.
Эти длинные аквамарины, эти темные, звездчатые сапфиры, эти долгие, налитые слезами боли и любви лодки – это они, они поднимают нас из мрака, со смертного ложа, вынимают, тонущих, из тьмы бушующего моря, из ревущего огня великого пожара; пылая впереди, в кромешной тьме, как два огня, два факела могучих, выводят из тюрьмы.
Засовы остаются висеть. Замки тюремные – тяжелеть.
А эта, вот эта рука протягивается – сияет – и пальцы светятся, как свечи, и ты берешь эту руку, как хлеб берут; и, как в хлеб, лицо, губы в нее погружаешь, и запах вдыхаешь.
И – ты сыт; свободен; и крепкая рука руку твою сжимает и тебя ведет.
По черному, узкому слепому коридору.
И вы – вдвоем – выходите на волю, на простор, в метель и ледяной воздух, в чистый ветер, в блеск полыньи, в звон ветвей обледенелых приречных, мертвых ракит.
Лицо Ее горит!
И ты глядишь в Ее лицо. И волосы Ее, густые, пахучие, как зимнее сено, вылетают, летят по ветру из-под горящей тяжелыми, красными и синими, как угли в печи, самоцветами Ее тяжелой золотой короны.
Корона Ее тяжела!
Но Она не снимет ее никогда
Ради тебя.
Ради свободы и радости твоей.
Она оборачивает лицо Свое к тебе, и ты глядишь в Ее лицо, и слепнешь от золотого, нежного света, брызгающего во все зимние стороны, в ночь зимнюю – маслом от голодной, бедной сковороды – от Ее щек, от Ее скул, от Ее лба, от Ее улыбки, от Ее глаз.
Глаза Ее, две серебряных, сверкающих синей, небесной, звездной чешуей, легко и быстро плывущих рыбы! В океане скорбей. В море горя. В людском бездонном, темном, безумном море.
Солнце – лицо Ее!
Счастье – лицо Ее!
Ты падаешь коленями в жесткий снег, в ледяной наст.
Ты шепчешь: любовь – лицо Твое.
И слышит Она тебя, и улыбается тебе.
И в улыбке блестят сквозь алые, вздрагивающие губы перламутровые зубы Ее; жемчужины их катятся, рвется тонкая нить, и, о чудо, катятся они не вниз, а вверх, и вот уже все небо, мрачно-синее ночное небо – ее звездная, счастливая улыбка.
Всеми звездами мира улыбается Она тебе.
И рыбы звезд играют и прыгают, танцуют вокруг Ее сияющей головы, над ее окутанными горящей, как хвост павлиний, златотканой парчой, круглыми плечами; вокруг тонкой, горделиво-прямой шеи Ее, и бусами небесными серебряные, алмазные рыбы обвивают шею Ее, и ложатся на часто дышащую грудь Ее сверкающим небесным ожерельем.
И метель набрасывает на Нее меховую, драгоценную, белую шубу свою.
Горит, мерцает под Луной, под звездами парча. Горят глаза. Горят святые ладони. Горят ступни, смертный снег прожигая.
А, да Она – босая!
Господи, да босая же Она…
Встать на колени. Поцеловать тот снег, что Она стопами прожгла. Поцеловать ту холодную черную землю, что над бугре – над рекой – под жемчугами неба ночного – под Ее горящими ступнями – оттаяла.
Щекой – к Ее ноге голой – прижаться.
Как Ты, родная? Как же Ты босая, нежными, пылающими ступнями идешь по колючей, соленой земле?
По камням… по крови… по зазубринам льда… по грязи… по пылающим углям… по истлевшим костям… по смиренным кладбищам…
И над родильным ложем склоняешься.
И над одром умирающего в муках.
И – над короной на лбу Царя, которой венчают на Царство его.
И – над печью, в коей страдальцев сжигают живьем.
И – над скотом, что на бойню ведут, в чьих глазах стоит безумный крик, человечий!
Ты – надо всеми: в драгоценной короне, в парче золотой, и звезды в глазах Твоих, звезды – в ладонях, и синяя, алмазная Звезда на Твоей груди.
Что Ты держишь в руках?
Где Твой Младенец святой?
Что шепчешь Ты… я не слышу…
А, слышу: на Кресте… на Кресте…
А что же тогда в руках Твоих?
Подхожу ближе. Вижу: чаша.
И в чаше – темное, кровавое, сверкающее – плещется.
Кровь – святое Вино. А где же святой Хлеб?
«Ближе, ближе», – сияют синим снегом навстречу мне Твои длинные, звездные глаза.
Это мир, Весь Мир глядит на меня – из последней ночи – Твоими глазами.
И я слышу: святой Хлеб – это Я. Это лицо Мое. Наклонись. Прикоснись. Поцелуй. Вдохни. Стань Мною, а Я стану – тобою. Так замкнется звездный круг. Так Я снова зачну тебя, и снова рожу тебя, и снова погребу тебя, и снова воскрешу тебя. Я есмь круг миров, одна сверкающая, живая и теплая, воткнутая сканью в парчовый вечный лед, светлая драгоценность.
Меня не купишь. Не продашь. Не выдумаешь.
Я родила не только Бога твоего.
Я всех рождаю в жизнь. И в смерть. Всех.
Каждого.
И тебя – тоже.
Что течет по лику Твоему?! Какие светлые… как масло… пахучие… золотые, жемчужные капли…
Это миро.
Они текут не вниз, а вверх!
Да и ты, дитя Мое, не спускаешься вниз, а поднимаешься вверх.
Я в землю лягу!
Нет. Ты уйдешь в небо. Я обещаю тебе это.
Ее руки раскинуты. Прозрачный самоцвет во лбу пылает.
Льется тихий медовый свет от лица.
Льются по лицу мирровые слезы, заливают золотые щеки, золотой росой выступают на крутом, круглом лбу.
Слезами любви залиты, налиты до краев синие ладьи глаз.
Она уплывает. Она уплывает от меня в небо.
В россыпи зерен-звезд. В черное, звездное море.
Я слышу нежный запах. Миро светится.
Миро льется, катится, плачет, играет.
Играют изумруды, яхонты нешвенного хитона. Разводы, алые павлиньи хвосты вдоль по развышитой парче играют.
Играют рубины, сапфиры, жемчуга, турмалины, янтари, александриты, малахиты, сердолики на темном, обожженном, пожарищном золоте святой короны.
Прощай, Родная. Прощай, вся жизнь моя.
Заступница моя. Молельница моя. Небесная, упованная Царица моя.
Прощай, и когда придешь…
…а где же чаша со святым Вином?
Вот она – на снегу. На бугре над ледяной рекой.
Я наклоняюсь. Я в руки святую чашу беру.
Подношу к дрожащим губам.
Боже, Боже. Да это же сложенные чашей, живые, замерзшие, смертные руки мои. И в них растаявший снег. И земляная, коровия грязь. И чистые, с грязью земной смешанные, горькие, грозные, жалкие слезы мои.
ЕЕ ЦЕНА
– Я предлагаю вам большие деньги! Вы вдумайтесь! Вдумайтесь! Никакой президент… никакой король!.. никакой банкир – вам – за нее – столько денег – не даст! Я, только я одна – дам!
Эхо под сводами храма отдалось, размножило последний возглас: «Дам-м-м… Дам-м… ам-м-м-м… ам-м-м-м…»
Священник, с всклокоченными седыми волосами, белобородый, растерянный, стоял перед красивой заносчивой девушкой в изящной шапочке из светло-золотой норки и в светлом меховом манто. Под распахнутыми воротником манто, на нежной белой шее девушки, светилось в полутьме храма, в дрожащих сполохах свечных золотых, кровавых язычков жемчужное ожерелье. Жемчуг был крупный, и в свете свечей – розовый.
Будто его, каждую жемчужину, аккуратно в кровь окунули.
– Нет… Госпожа… хм-м-м-м… кха, кха!.. Я не могу… Это – святыня…
Священник мучительно закашлялся.
Девушка, надменно задирая и без того курносый носик, ждала, пока святой отец прокашляется.
– Нет. Вы не понимаете, – терпеливо, но уже с затаенным раздражением сказала она. – Вы! Не понимаете. Я предлагаю вам за икону…
– Я понял, сколько вы предлагаете. – Священник вскинул на красавицу печальные, круглые совиные глаза. Он перестал кашлять. Он старался не опустить перед красавицей глаз. Прямо в глаза ей смотреть, в красивые, прозрачные, холодные, как два аквамарина. – Я слышал. Я все понимаю. Я и вас понимаю! Но давайте закончим этот разговор. Бог вам…
Священник только хотел сказать «судья», как девушка вскинулась не хуже дикой кошки:
– И слышать не хочу! Мне эта икона – понравилась! И потом, по ней течет это, ну, это, как его?.. вон капельки… я нюхала! Мне нравится, как они пахнут!
По лицу священника ходили волны борьбы и ужаса.
– Как вы можете так о святом миро… вы…
Красавица протянула руку в лайковой перчатке к иконе, мерцающей драгоценным окладом в медовом, мятном полумраке собора. Пахло свечным нагаром. Вился усиками дым от гаснущих свечей. Вспыхивали рубины и сердолики на многозубчатой короне Богородицы.
Священнику показалось – сквозь лайку прорастают хищные, длинные, хватающие ногти.
Он бессознательно ринулся вперед – спасти, заслонить телом, грудью Чудотворную.
– Вы – дурак! – раздельно, громко сказала красавица.
«Ак… ак… ак…» – заметалось эхо под сводами.
Священник широко перекрестился.
– Господи, прости ей, ибо не ведает, что…
– Я? – Лицо красавицы пылало гневом. – Я – ведаю, что творю! Я хочу ее у вас – у храма – купить! Немыслимо дорого купить! Эту цену государство даст за все храмы Москвы, вместе взятые, если только патриархия будет эти храмы продавать! Ну вот захотела я ее купить! Ну вот понравилось мне, как по ней душистые капельки текут! Хочу! Хочу чудотворную икону – дома иметь!
Она повернула голову к иконе. Надменный, почти античный, твердо-золотой профиль чеканно высветился во тьме придела, где висела и мерцала икона.
– Вы все хотите иметь, – устало, тихо сказал священник. – Вы все хотите иметь, иметь, иметь. Это – торжество материального мира. А есть еще, госпожа, мир духовный. Там – ничего не продается и ничего не покупается. Там…
– Двести! – крикнула красавица.
«Еи… еи… еи…» – заныло, застонало эхо.
– Такой цены даже на Кристи не дают! На аукционе, слышали про такой?!
Священник опустил голову. Его взгляд запутался у него в бороде. Он теребил ее желтыми, будто прокуренными, высохшими пальцами.
– Вы их – на восстановление храма потратите! На ваших же дураков-прихожан! На новые иконы! На новые ризы! На все что хотите! На…
Она взяла священника белыми лайковыми руками за плечи и беззастенчиво, крепко тряхнула.
– На это – вы сто новых ваших храмов построите! Ну!
На лицо священника было жалко смотреть.
Красавица побеждала.
Длинные, синие, светящиеся серебряными белками во тьме, глаза Богородицы умоляли о милости. О пощаде умоляли.
– Двести пятьдесят – моя последняя цена, – сухо, холодно сказала красавица. И крикнула в лицо священнику:
– Последняя цена!
Потрескивали свечи.
– Нет, – сказал священник.
Было видно, как трудно ему было это говорить.
Красавица разъяренно повернулась к священнику спиной. Два здоровенных мужика, наряженных в невидимо-черное, послушно повлеклись за ней.
Она большими шагами подошла к Чудотворной и пальцем растерла каплю святого мира у Нее на щеке.
– Не плачь, девчонка, – сказала красавица Богородице и нагло подмигнула ей. – Не вышло у нас с тобой сегодня. Не вышло сегодня – выйдет завтра. Глеб, дай батюшке визитку!
Ражий черный мужик всунул в дрожащие руки священника бумажный квадратик.
Красавица понюхала вымазанный миром палец. Помазала пальцем губы.
– Очаровательный запах, – сожалеюще сказала. – Ну, да мы еще поиграем в кошки-мышки. Никуда вы от меня не денетесь!
Она пошла к выходу из церкви. Черные мужики, как медведи, переваливаясь с боку на бок, зашагали за ней.
Около двери она обернулась и крикнула священнику, как в лесу, издали:
– Триста!
«Ста-а-а… ста… ста…» – запело эхо.
Когда светлое драгоценное манто мазнуло полой по распахнутой двери храма, священник жалко посунулся вперед. Голос его трясся, когда он крикнул в дорогую меховую, стройную, исчезающую спину:
– Это… ваш рабочий телефон?!
Богородица Умиление плакала ароматными, светлыми, золотыми слезами.
Тихо, темно, пустынно было во храме.
2
Петр сидел в спаленке на кровати. Со своей девочкой в обнимку.
Они ели руками яичницу, возя пальцами по тарелке. И хохотали.
Рядом с ними, на кровати, лежал пистолет.
Ночь глядела в окно тысячью искр, огней, снегов, фонарей; глазами мертвых людей глядела в окно ночь, чтобы живые – о мертвых – ночью вспоминали.
В спаленке света не было.
Петр и его девочка доели яичницу. На тумбочке стояла еще банка с кусочками селедки, дешевые пресервы.
Петр открыл селедку, и они тоже стали доставать куски селедки маслеными пальцами, без всяких там вилок и ложек, и отправляли в рот. И снова хохотали.
Петр опустил руку за кровать. Поймал за глотку, как гуся, бутылку. Отпил сам. Протянул своей девочке.
Она взяла бутылку и жадно, смело, крупно глотнула.
Не поперхнулась: тут же ловко цапнула селедину, закусила.
На полу спаленки были разложены первые номера их газеты.
Старуха Лида и Василий Гаврилыч спали в кладовке; Лида – на постеленных на ванну досках, Гаврилыч – на сдвинутых стульях; был слышен их мирный, вразнобой, храп.
«ДРУГ НАРОДА-2» – чернели, в свете заоконных снегов, газетные шапки.
ИЗ КАТАЛОГА Ф. Д. МИХАЙЛОВА:
«Флейта Кришны» – пожалуй, самое загадочное полотно художника. Посреди кругло, рельефно клубящихся темно-синих, густо-ультрамариновых, лиловых и турмалиново-красных туч летит гигантская стрекоза. В отличие от обычной стрекозы, у сновидческой стрекозы Михайлова очень много крыльев. Многокрылое, сказочное небесное существо не пугает, а чем-то притягивает: трепещущие крылья светятся нежным, радужным светом, фасеточные глаза таинственно мерцают, и мы внезапно понимаем, что узкое брюхо стрекозы, цвета пламени ночного костра, – это и есть небесная флейта, играющая еле слышную, нежную музыку ночного полета. Эти музыкальные вибрации переданы исключительно светом и цветом. Михайлов – бесспорный мастер света, и здесь он не изменяет себе».
ИНТЕРМЕДИЯ ГЛЯНЦЕВАЯ НОЧЬ
В комнате было две девушки: золотая и черная.
Черная и золотая.
Как их звали? Тельма и Луиза? Барби и Хельга? А может, просто Ирка и Анька?
Одна медленно пила густо-красное вино из высокого, длинного бокала. Другая – медленно двигая челюстями, поедала золотой ложечкой из фарфорового блюдца какие-то фрукты. Отсюда было плохо видно, какие фрукты. Черные какие-то, и чем-то белым залиты. Вроде чернослива в сметане.
Может, это и был чернослив в сметане.
Вокруг девушек, черной и золотой, вздымалась громадная спальня.
Спальней ее было трудно назвать.
Скорее, это была белоснежная ночь Антарктиды.
Со стен глядели ледяные картины. Громоздились торосы снеговых подушек. Свешивались искристые, ледяные сталактиты светильников: люстр, бра, стеклянных свечей в мертвых шандалах. Свисали до полу белоснежные, метельные занавеси, атласно, жемчужно блестел балдахин.
Под белым балдахином молчала белая кровать. Она была шире «Титаника». На ней можно было уплыть в свою смерть. И наслаждаться смертью, как жизнью.
На кровати бугрились сугробы простыней, одеял, подушек. Все сияло чисто-белым, неземным светом.
В этой нереальной белизне настоящими были только красное вино. И черный чернослив в сладкой сметане.
– Любимая, – в нос протянула золотая, допивая свое вино. – Тебе не кажется, что нам пора бай-бай?
– Санни, не понукай! – чмокая, ответила черная. – Мне такой потрясный диск приволокли! Из Египта. Хочу посмотреть вместе с тобой. И тогда уж спать.
Золотая медленно поставила пустой бокал на стол.
– Диск? – медленно, сонно спросила. Сонные глаза косились вбок, на белые айсберги, зовущие раствориться навек в снегу сна. – Какой еще диск?
Золотая медленно зевнула.
Черная, прекратив жевать чернослив, глядела ей в многозубую, белоснежную пасть.
– За него Ширяев кучу бабла отвалил, – черная поставила пустое блюдце на стол, рядом с бокалом. – Кучу бабла, в натуре.
– Зачем?
Золотая зевнула снова.
Черная тоже зевнула.
– Прекрати зевать, мне передается… Там что-то такое… настоящее.
– Убийство? Расчлененка настоящая? Секс с младенцами?
– Да, что-то такое. Но очень, о-о-о-очень стильно сделано. Съемки крутые. И, прикольно то, что делал это известный режиссер.
– Кто?
Черная назвала громкое имя.
Золотая присвистнула.
– Ого! Много заработал парень. Не боится загреметь в кутузку! Хвалю.
– Да прикол в том, что весь мир уже знает, что именно он это снял!
– Тем более молодец. Ну, давай ставь диск. Не жалеешь ты меня.
Золотая шагнула к черной. Положила обе руки черной на обе груди. Сжала торчащие из-под тонкой ткани соски между указательным и средним пальцами.
Они поцеловались, и целовались долго, сладко.
Потом черная, разрумяненная, как яблочко, отшагнула от золотой, подошла к экрану, стала возиться с диском.
На экране творилось черт-те что. Кровь лилась, как вино. Вино лилось, как кровь.
– Я устала смотреть эту лабудень, – зевая, сказала золотая. – Я-то думала, это действительно классно. Банальная похабень. Дурак твой Ширяев.
– Его обманули, – сказала черная.
Они обе сидели в глубоких, мягких креслах, далеко от огромного плоского экрана.
– Я устала глядеть на эти красные толстые члены, – сказала золотая. – Пошли они в жопу! Спать, спать!
– Я не хочу спать, – сказала черная, прикрыв глаза.
– Фу, какая бессонница у нас! – смешливо протянула золотая.
– Я не хочу спать с тобой, – сказала черная и медленно, медленно встала из кресла.
Медленно, медленно встала и золотая.
– Что? Что ты сказала?
– Я. Не хочу. Спать. С тобой. Я. Больше. Не буду. Спать. С тобой, – медленно выговорила черная.
Повернулась к золотой голой, в вырезе платья, спиной.
Золотая медленно обошла черную. Зашла спереди. Встала перед ее лицом.
– Повтори, что ты сказала, – медленно сказала золотая.
– На хер мне повторять. Ты все слышала, – сказала черная.
Видно было, что ее трясет.
Что ей тяжело и страшно говорить золотой это.
– Ну-ну, – сказала золотая. – Вот такие дела.
Она помолчала.
Молчала и черная.
– Ты хорошо подумала, что говоришь? – спросила золотая. – А если я тебя сейчас изнасилую? Чтобы тебе неповадно было?
– Я не твоя вещь, – сказала, дрожа, черная.
У нее щека была измазана сметаной.
На губах блестела перламутровая помада золотой.
– Ты моя вещь, – сказала золотая.
– Нет! – крикнула черная.
– Врешь, – сказала золотая. – Как же ты врешь, собака.
И золотая подошла к черной и дала ей звонкую, громкую пощечину.
Они дрались грубо. Зверски. По-настоящему. Так, как дерутся бабенки в подворотне – из-за пьяного любовника. Так, как дерутся мужики на зоне. Так, как на зоне дерутся бабы. Золотая опрокинула черную на пол, возила ее головой по полу; стрижка черной разлохматилась, ее голова стала похожа на больного старого, грязного ежа. Черная дико, больно лупила золотую в бок, под ребра, острым кулаком. Царапала золотой лицо. Алебастровые щеки золотой прочертили кровавые полосы. Кровь капала на цветной паркет, на белоснежную шкуру белого медведя, распяленную, распятую на полу. Медведя снова убили, только он об этом не знал. Девушки дрались круто: не на жизнь, а на смерть. Молча. Не стонали. Не вскрикивали. Не визжали. Они дрались так: или я тебя убью, или ты меня.
И они убивали друг друга.
У золотой уже были расцарапаны плечи ногтями черной. У черной – разбита голова: золотая швырнула ее головой об угол беломраморного камина. Кажется, у черной было сломано ребро – она странно крючилась. По ее искровяненному лицу ползли кровь, слезы, слюна. Платья были давно порваны. С грудей свисали ошметки дорогих тряпок. Они дрались, и было ясно, что до конца еще далеко.
Они обе были такие живучие.
Как кошки. Как две кошки.
И вдруг, в пылу дикой драки, золотая навалилась на черную сверху, всем телом, и прижала ее всей своей тяжестью к паркету.
И – впилась ей в губы диким, звериным поцелуем.
Оторвалась. Губы черной были прокушены. По губам, по зубам лилась кровь.
Глаза черной были закрыты. Кровь ползла по подбородку.
Губы золотой тоже были в крови. Она тяжело дышала.
– Я хочу тебя, – тихо, так же тяжело дыша, резко вглатывая воздух, сказала черная.
– То-то же. Давно бы так, – сказала золотая.
Они сорвали друг с друга последние искромсанные тряпки и упали на белоснежную кровать, пачкая ее кровавыми пятнами.
Золотая впивалась зубами во вставшие дыбом, черными чечевицами, соски черной. Ее жадный палец глубоко, дико, ища и не находя сладкое дно, погружался в мякоть, в соленую влагу теплой, безумной щели, на ощупь сходной с жалким слизняком.
Черная выгибалась подо ртом, под зубами, под животом и наглыми пальцами золотой. Изгибалась змеей. Застывала, как в столбняке. Снова билась. Била ногами. Вздрагивала смуглыми коленями. Кричала.
Дикие крики не вылетали из ледяных окон. Ледяные окна были плотно закрыты.
На улице стояла белая страшная зима, а нежные девушки боялись холодов.
ЧЕРНОЕ АЛЛЕГРО. ПЕТРУШКА И СТЕПКА
Я совсем не думал, что за нами будет погоня.
У нас был митинг, на площади Минина, и он почти провалился; и Степан разозлился капитально; и так быстро темнело зимой, и надо было быстро удирать, у нас было это все отработано, и Степан не боялся нисколько, это был такой мирный, вялый митинг, ну, мы помахали плакатами, как прощальными платками, покричали чуть-чуть, а рядом с нами что-то свое кричали коммунисты, а рядом еще и зеленые, так что это была дерьмовая сборная солянка, и в ней плавали сосисочки, грибочки, мясцо, лимончик, перцы красные, маслины черные, оливки зеленые и еще Бог знает что.
Степан был недоволен.
Он двинул меня кулаком в бок и тихо кинул мне:
– Давай, бери Белого, и еще кого сможешь, двигай в мою машину. Я туда пошел. Один. Вы тоже по одному. Все в порядке.
– Все лажа, – сказал я.
– Пораженье от победы ты сам не должен отличать, – тихо, зло сказал Степан.
– Это что, стихи?
Я уже смеялся.
– Дурачила. Я пошел.
Он исчез в метели. Я оглянулся. На площади уже почти никого не было. Сиротливо торчали голые кусты вокруг старого погибшего фонтана. Бронзовый Минин глупо простирал кривую руку к небесам. Минин куда-то кого-то призывал. А его никто не слышал.
Я знал, где припарковался Степан.
Рожа Белого моталась поблизости белым носовым платком в метели. Он стоял с непокрытой головой. Ему в открытый рот залетали птицы снега. Он был похож на чучело на зимнем огороде. Я подмигнул ему, и он, издали, близорукий, а увидел.
Пошел за мной. Понятливый.
А больше я никого на площади не увидел. Ни Кузю. Ни Паука. Ни Зубра.
Они все делись куда-то.
Ну, профессионалы. Испарились.
Я подошел, отпечатывая черные следы в свежем снегу, к машине Степана. Я спиной знал: за мной идет Белый.
– Все класс, – сказал я, захлопывая дверцу, усаживаясь поудобнее. – Белый сейчас. Он идет.
– И-дет, – сказал Степан раздумчиво. – И-дь-е-от. Идиот, в общем. Князь Мышкин.
– Кто такой князь Мышкин? – спросил я, и мне стыдно стало.
– Садись, два, – сказал Степан, кладя руки на руль, не глядя на меня. – Мать тебя чему учила? А в школе?
– Я школу бросил, – сказал я.
– Где Белый? – сердито бросил Степан.
– Я вот он, – сказал Белый, открывая дверцу.
Мы поехали.
Белый вечер обступил нас, ложился под колеса Степановой старой машины.
Все было спокойно. На душе было грязно и плохо.
Степан, за рулем, сердился, но молчал.
Мы ехали.
– Белый, тебя где выбросить? – сказал Степан, смотря прямо в лобовуху, на белую, как мрамор, дорогу.
– На Ковалихе, – искусственно-весело улыбнулся Белый.
Белый выпрыгнул на трамвайной остановке, и Степан стронул машину осторожно, потом погнал все сильнее, но не так чтобы очень.
И тут я – я первый – в зеркало – заметил их.
Машину ментовскую. Погоню.
– Степан, – сказал я как можно спокойней. – У нас на хвосте.
– Оторвемся, – так же спокойно выцедил Степан.
Он уже тоже увидел их в зеркало.
И быстрее погнал.
– Ты как хочешь? – спросил я его.
Я был еще спокоен как снеговик с морковным носом.
– Смотри, – сказал Степан. – Смотри и учись. На права-то сдал?
– На какие шиши? – спросил я. – Шишей-то нету.
– Шиши надо заколачивать, лентяй, – тихо и злобно, переключая скорость, сказал Степан. – А ты на материнской шее сидишь. Если бы ты был моим сыном, я бы тебя!
– Что бы?
– Я бы тебя излупил – мокрого места не оставил. И ты сразу бы зашевелился, лоботряс.
Злоба, такая злоба звучала в его голосе.
Они не отрывались. Они не стряхивались.
И мы наддали.
И они – наддали.
Степан чуть не врезался в зад маленького старенького «москвичонка». Выругался сквозь зубы. Он злился все больше, я это видел.
Вечерние дороги были не такие загруженные, конечно, как днем. Пробок уже не было. Но трудно, все труднее было лавировать, на скорости, между машинами.
Мы уже откровенно гнали.
Они гнали за нами. Не отставали.
В боковых стеклах мелькали деревья, дома, окна, прохожие, светофоры, собаки, дети, киоски.
Впереди горел красный дикий глаз светофора.
– Что ты! – крикнул я.
Степан рванул на красный.
Машины дико загудели. Мы чуть не врезались в автобус, черт! Степан включил сирену, будто он был «скорая помощь».
– Ремень накинь, мудило, – швырнул он мне зло.
– Это мы такие преступники? Это мы им так нужны? – спросил я.
– Это они на принцип уже идут.
Степан вцеплялся в руль белыми пальцами.
– На принцип – изловить и в каталажку?
– На принцип – догнать во что бы то ни стало. И избить. Может быть, до смерти. За то, что мы быстрее их ехали.
Голос Степана был рваный, дикий и злой, как рваная волчья шкура.
Как мы вывернулись из-под чужих колес?
Я не помню. Все мелькало перед глазами.
Все дико, страшно и весело мелькало, катилось куда-то.
И мы рвали, резко рвали – на красный, теперь уже все время на красный.
И они – менты поганые – не отставали!
Они тоже включили сирену.
Мы мчались по городу, и мы и они, с включенными сиренами! Вопили мы! И они орали сиреной нам сзади: все, хана вам! Хана!
А Степан цедил сквозь зубы, вцепившись в руль, бешено выкручивая его на поворотах:
– Врешь, не хана. Врешь! Не хана! Оторвемся! Оторвем…
Я понял – мы летели передом прямо во встречный КАМаз.
Я уже воочию видел, как я лечу, вылетаю через разбитую в мелкую слюду лобовуху.
И как Степан становится плоской, страшной кровавой лепешкой.
Я все это увидел в один миг.
И зажмурился.
Мы пролетели в миллиметрах от КАМаза.
Раздался громкий, адский шорох. Треск, как взрыв.
Как будто вспыхнуло!
Это в аду, мимо которого мы просвистели, кровавым ножом разрезали металл.
– Ободрались, – выдохнул Степан. – Проскочили!
Он покосился на меня.
Я вжался в кресло.
– Обосрался?! – весело выкрикнул Степан.
Руль крутил.
Я оглянулся.
Они мчались сзади!
– В плохих фильмецах в это время менты долго, долго стреляют в героев, – выцедил Степан.
– А в хороших?
– А в хороших героев уже убивают. Наповал.
– И фильм кончается?
– Да. Кончается. Держись! – дико, коротко проорал Степан мне в ухо.
И резко выкрутил руль налево, налево, еще налево.
Я зажмурил глаза.
Крепко-крепко.
И так, со склеенными глазами, сидел, в кресло вцепился.
Я ждал.
Я ждал, что они и правда выстрелят.
Почему они не стреляют? Почему? Почему?!
– Все, – сказал Степан.
Я расклеил глаза.
Машина мчалась по улицам окраин.
– Мы оторвались. Я же говорил, – сказал Степан.
У него уже был не злой голос. Довольный голос у него был.
– Мы показали им хрен, – весело сказал Степан.
Он отнял правую руку от руля и показал мне средний палец.
Я поглядел на него. У него все лицо было залито потом. Он ловил свой пот губами.
Я сунул руку в карман «косухи», вынул носовой платок и бессознательно вытер лицо Степана.
– Мамка платок сунула? Мамкой твоей пахнет, – сказал Степан.
– Ты ее любовник? – спросил я.
– А что, побьешь? – спросил Степан.
– Нет, ничего. Любитесь на здоровье, – мрачно сказал я.
– Спасибо, что разрешил, – так же весело сказал Степан.
Светофоров было на шоссе уже мало.
Все меньше.
Начинался черный лес.
Я представил, как мать обнимает Степана, и мне и правда захотелось ударить его.
Но я не сделал этого. Вместо этого я сказал:
– Мы все-таки оторвались. Ты ас.
– АС Пушкин, – хохотнул Степан.
Носовой платок лежал у него на коленях, как мертвый голубь.
Глава пятая
«Чрезъ сие объявляется, что для удовольствия знатнаго дворянства и прочихъ здешняго столичнаго города жителей, что съ будущаго воскресенья начнутся здесь вольные маскерады. Желающие въ оные маскерады приезжать имеютъ платить съ каждой персоны за входъ по три рубля. Кто-жъ пожелаетъ ужинать, также кофе, чаю и питья, оные будутъ получать въ томъ же доме за особливую плату. Маскерады будутъ начинаться концертомъ, пока съедутся столько масокъ, чтобъ балъ зачать можно было; и отъ сего времени съездъ въ маскерадъ имеетъ быть всякое воскресенье въ седмомъ часу пополудни; а безъ маскераднаго платья, такожъ и подлые люди никто впущены не будутъ. Билеты-жъ и маски всякаго сорту могутъ желающие покупать въ томъ же доме отъ восми часовъ утра до разъезду».
Афиша Локателиева маскарада в Санкт-Петербурге, в царствование Екатерины ВеликойМного полезных безделиц может поместиться в большой сумке самой большой МОДНИЦЫ страны АГЛАИ СТАДНЮК!
Мы решили полюбопытствовать, что же там, внутри, в сумке ЗВЕЗДЫ…
– Аглая, можно задать вам вопрос?
Звезда милостиво кивает головой.
– Что вы носите в вашей милой сумочке от великого и непревзойденного Armani, с вышитой КОШАЧЬЕЙ МОРДОЧКОЙ? Армани ваш друг, он вам сам подарил сумочку, это правда?
Звезда хохочет.
Она хохочет так заразительно, что мы все НАЧИНАЕМ СМЕЯТЬСЯ ВМЕСТЕ С НЕЙ!
– Что у меня там? О, много всего! Я и сама не знаю. Серебряная визитница… бархатная косметичка от Gucci… фиалковая пастила, я ее очень люблю… и даже плюшевая игрушка, серая кошечка, ха-ха-ха!.. под цвет моих глаз… Ну, и деньги, конечно! Пластиковая карта… и немного наличных…
– Сколько денег вы носите с собой, если не секрет?
– Секрет!
Звезда смеется, выставляя напоказ свои безупречные, жемчужные ровные зубы и жемчужные сережки от Graff в изящных мочках. На ее шее сверкает ослепительный белый, с голубым отливом, жемчуг – ожерелье истинной королевы БОЛЬШОГО СВЕТА.
Настоящая ЗВЕЗДА может позволить себе ЗВЕЗДНУЮ ДРАГОЦЕННОСТЬ!
1
У губернатора собрали круглый стол.
Чиновники, политики, олигархи, бизнесмены, верхушка правящей партии, вожди партий помельче, поплоше, собирающие жадную жатву журналисты с серпами-микрофонами в назойливых, наглых, настойчивых руках – все рассаживались вокруг по-настоящему круглого, огромного стола в губернаторском дворце, суетились, приседали, горделиво поводили плечами, облаченными в дорогие заморские ткани, перебирали в холеных руках ничтожные и важные бумаги, лживо улыбались друг другу, задавали вопросы, на которые не было ответа, беззастенчиво врали, натужно смеялись, за спинами – шипели оскорбления, взирали на происходящее с каменно-презрительными лицами.
Делали вид, что – работают.
А время, жесткое, жестокое, шло само, отдельно, без них, своей дорогой; а они мнили, они надеялись – это они управляют ходом времени, его нахальным, бесстрастным потоком; нет, оно давало им обмануться, чтобы внезапно, не за этим роскошным и беспомощным круглым столом, нет, – каждому в одиночестве, в ночи, наедине с самим собой, дать понять раз и навсегда: ты пройдешь, и растаешь, и забудут тебя, как и не было тебя, – а я, Время, как шло, так и иду, так и буду идти, сметя все твои деньги, все твои виллы и банки, все твои дефолты и импичменты, все – да, все – твои войны и перемирия на своем пути.
Они собрались за круглым столом, чтобы обсудить кое-что важное, касающееся вращения денег в их родном городе; то, что касалось напрямую их жизней, жизней их семей, жизней их немыслимых счетов в родных и иноземных банках. А попросту, их драгоценных шкур; их, еще не освежеванных, мясных тушек.
Нет, мы бессмертны, кто б усомнился?!
Мы – рынок! Мы – деньги! Мы – управители!
А все остальные кто? А-а-а-а, кто-о-о-о…
Остальные – это то, что называется коротким и громким словом «НАРОД».
…но господа! Позвольте! На-род… не кажется ли вам, что это уже несколько простонародное слово?!
…народ, вот вы опять говорите – народ… А разве мы, мы сами – не народ?..
…господа! Послушайте! У меня в руках конкретика!.. Конкретика, я вам говорю… Доказательства! Бесспорные!.. возрождения, небывалого расцвета России…
…господа, скоро выборы, надо приготовиться к смене власти, ибо народ…
…что вы тут мне опять о «народе»?! Зачем вы прикрываетесь словом «народ»?! Разве вы не знаете, что это демагогия!
…гляди, гляди, как бодро выступает наш петушок. Крылья распустил! Хвостом машет!.. Ишь, денежный мешок… В политику лезет…
…уже – пролез…
…тише! Господа, тише! Губернатор выступает! Имейте совесть…
…он бы ее еще имел…
…господа! Представители столицы купили в нашем городе немаленькие площади… и уже началось небывалое строительство… размах начинаний… нас ждет расцвет, расцвет, расцвет…
…продали город. Продали. Ни за понюх табаку.
…скоро и нас всех, скопом, продадут.
…а это кто, господа?! Кто это там протискивается?!
…а, это же… Татарин! Степан Татарин!
…Гос-с-споди, явился все-таки… не запылился…
Он переступил порог тронного зала.
Он сразу увидел этот гигантский круглый стол, громадный, как положенное набок парковое «чертово колесо»; и людей вокруг него, их шевелюры, лысины, розовые и смуглые лица, их руки, важно брошенные на дубовую полировку – или ходящие ходуном, как на игорном столе в казино; увидел всю ложь высшего правящего света, – и кто, когда придумал назвать тех, кто пролез к власти по лестнице больших денег, священным словом «свет»?
Свет… свет…
В зале было и впрямь много света.
Свет лился сверху, из хрустально горящей, гигантской, как стол внизу, круглой люстры.
Искристая великанья сковорода люстры отражалась в гладком, изумительно отполированном столе.
Степан вспомнил лед на Суре.
Девчонку не спасли. Младенец выжил. Мария плакала, хотела взять ребенка. Он удержал ее от этого поступка.
А это был бы поступок.
Вся жизнь состоит из поступков. Не из мыслей! Не из чувств! Из поступков.
Вот он пришел сюда и открыл дверь.
Он, персона нон грата у этих тварей. Они обернулись к нему, и на их лицах он прочитал: по тебе давно плачет тюрьма, парень.
Плачет тюрьма! А я смеюсь над ней. Плачь, плачь, галка, мне тебя не жалко.
– Господин Татарин? – Губернатор, с лицом красным, жирным, дрожащим, как холодец, уставился на него, стоявшего на пороге зала. – Гос-с-с-подин…
– Господин губернатор, – Степан слегка, мерзко-учтиво поклонился, – я счел, что мне нелишне будет побыть здесь. Сегодня.
– Господин Татарин! – Губернатор вытянул вперед жирный палец, указывая на дверь. Его подбородок затрясся. – Попрошу вас!
– Не имеете права, – весело, жестко отчеканил Степан. – Я такой же гражданин своей страны, как и вы. И я еще не объявлен вне закона.
Он резкими, большими, твердыми шагами пошел к столу.
Губернатор побурел лицом, как вареная свекла. Он хотел что-то яростное крикнуть – его опередил дотошный журналист, тут же подскочивший к Степану.
– Господин Татарин! Вы, как оппозиция… Отлично, что вы!.. Ваше присутствие здесь, сегодня…
Публика за столом загудела, зашевелилась, словно очнулась от зимней спячки. Журналисты подбежали к Степану, совали микрофоны, диктофоны, уже строчили в блокноты, хотя он еще не сказал ни слова.
Губернатор перевел дух. Сотни глаз глядели на него.
Зачем они так глядели? Что они ожидали?
Скандал был замят.
Степан уселся за стол, в свободное кресло. Перед ним стояла бутылка с минералкой. Он большим пальцем, как пиво, открыл минералку и жадно, раз, другой, глотнул.
Шум утих. Все глаза смотрели на него.
И на губернатора.
Ждали дуэли.
Встал оратор. Хитрый лис, и светлый костюм, как ласковая, светлая хитрая шерсть. Поднес к подслеповатым глазам бумагу.
– Уважаемые гос-с-спода! Хочу представить вам отчет о том, что было проведено… сделано… у нас в городе и области… – Он льстиво поправился. – Губернии…
– Это все равно! – крикнули с места.
– За последний, оч-ч-чень важный для губернии год… Перед тем, как мы подойдем… а мы уже вплотную подошли к выборам верховной власти!.. хочется отметить небывалые успехи… рост экономики… замечательные сдвиги в сельском хозяйстве… всемерное развитие малого, м-м, бизнеса!.. и крупные предприятия тоже, надо заметить, не отстают…
– Что вы врете, – громко сказал Степан и встал из кресла.
Все глаза обратились на него.
Губернатор не смотрел на него. Он смотрел в окно.
Тишина. Какая хищная, охотничья, лисья тишина.
– Что вы все врете, – повторил Степан и выпрямил спину. – Ладно бы вы врали себе. Но вы врете народу. А народ – как нищим был, так нищим и остается. Как загнанным в угол был – так там и сидит! Вы грабите народ, качаете из него последние деньги – для себя. Рост цен на коммунальные услуги. Рост налогов. Дикий рост цен на продукты первого потребления. Дикая, чудовищная коррупция! В образовании. В медицине. В милиции. В военкоматах за то, чтобы мальчика от нашей поганой армии, от убийцы, отмазать, знаете, уже сколько берут?! Цифру назвать?!
В зале все молчали. Как воды в рот набрали.
– Вы все врете народу про пенсию! Придумали систему! Да эта ваша система рухнет при первом же крепком потрясении страны! А их еще ой сколько будет, и скоро будут! Вы знаете о том, что у нас люди месяцами за квартиру не платят?! Что – в очередях на ваши субсидии лживые – днями, неделями, месяцами сидят, чтобы кроху сэкономить?! Триста, четыреста рублей… Триста! рублей! сэкономить! А каждый из вас – сколько – в месяц получает?! Ну да, да, зарплату?! Только – ее?! Помимо того, что вы…
Это он крикнул во всю глотку.
– Крадете!
Молчали. Слушали. Не перебивали.
Странно, а ведь могли бы рот заткнуть. А может, уже вызвали, кого надо? И сейчас дверь отлетит, и войдут, и…
– Крадите и делитесь – вот ваш девиз! А если кто не поделится – что ж, тому не жить! А я – не вор! И я – не ваш! – Быстро окинул, охватил всех, оцепенело сидящих за столом, ненавидящими, бешено-белыми глазами. – Я лучше под вас, воров – бомбу – самодельную – подложу! И пусть меня казнят, как террориста. Но я объявляю вам войну!
Оцепенение падало, капало медленно, медленно, сверху, с пылающей люстры, тяжелыми, огненными каплями.
– Я – народ! Слышите: это народ – объявляет вам – войну!
Важный чиновник в богатом модельном костюме, сидевший ближе всех к Степану, вцепился в край дубового стола побелевшими пальцами.
– Господин губернатор! – Он обернулся к губернатору, и тот оторвался от созерцания заречных снежных далей, глянул на Степана. – Вы пробовали прожить на зарплату, которую в вашей губернии… во всей России!.. получает учитель? Врач? Библиотекарь? Почтальон? – Лицо Марии закачалось перед его лицом. – Дворник? Пробовали? Нет? Так попробуйте! Вы пробовали прожить на пенсию, которую получает простая старушка… простой старик?! Непростой: он нас с вами защищал в войну! Он – во врага стрелял! А если и не стрелял – военную кашу, мальчишкой, дрожа от голода, из солдатского котла – жрал! Миску – за этой кашей – протягивал… А какая у него пенсия?! Знаете?! А вы – на Канары – или на Карибское море – или в ваш личный, да, личный особняк в Испании – на чудесном морском берегу – давно летали?! На личном, между прочим, самолете!
Среди политиков поднялся легкий гул.
Да, как будто далеко, над дворцом, летел самолет.
И вправду – на Канары летел.
Степан расправил плечи. Глубже вдохнул.
– Вы – сжигаете дома, старые, деревянные дома в старом городе, чтобы расчистить площадь – для строительства особняков роскошных, фешенебельных, для себя! Для себя! И вам все равно, где, как ютятся погорельцы! Как среди зимы живут в палатках! Готовят на кострах! У кого бедняги ищут приют, пристанище! Ничего, думаете вы, у всех родные, близкие, знакомые, ничего, расселят погорельцев! Комнатки кому-то нищие, «гостинки», общежития тараканьи – город выделит! Ничего! Проживут! А у нас зато – особняк в центре города! Вы знаете, сколько старых домов сожгли в старом городе в эту осень и зиму? Семнадцать! Издеватели! Лучше бы летом жгли, когда – тепло!
– Доказательства! – запальчиво крикнули с другого конца стола.
– Кровь живая – вот доказательство! – крикнул Степан над круглым столом, как над замерзшим озером. – И погорельцы никогда, слышите, никогда не подадут на вас в суд! Потому что они хорошо знают: вы – их – засудите! А еще и потому, что никогда, ни один бедняк в нашей стране не сможет заплатить никакие ваши чудовищные судебные издержки! И тем более – дать на лапу судье, адвокату… прокурору!.. и еще кучке более мелких, позорных вымогателей…
– Уведите его! – задушенно, истерически крикнула круглолицая, крупнотелая дама с брошью-жуком на кружевной манишке у горла.
– А ваши выборы?! Фарс это, подлог, а не выборы! За каждым из вас стоят ваши деньги! Те, что вы наворовали сами – или деньги корпораций, что вас выдвигают! Ваши выборы – это война денег! Это – кто больше заплатит! А народ… Вы прикрываете его жалкими бюллетенями, как бумажным щитом, эту вашу войну!
Степан сжал кулаки. Молодой задор, последний риск обнял, закружил его. Счет шел на мгновения.
– Вы все врете, что у нас нет политических заключенных! – Надо успеть. Вот сейчас надо быстро, громко, внятно, резко сказать. А то оборвут. Рот заткнут. – Они – есть! Их – много! Правящий режим – режим лизоблюдства, страха и кражи: денег в свой карман! И те, кто говорит людям правду – не нужны! Не…
Губернатор встал. Выставил лысую, жирную башку вперед.
«Как торпеда, сейчас поплывет… полетит… в меня…»
– Как вы смеете…
«Не выдержал. Началось. Ты еще сможешь. Еще немного…»
– А вы тут посажены верховной властью для того, чтобы под прикрытием «великих деяний» в губернии попросту отмыть!.. отмыть, награбить тут кучу денег!.. и вернуться разбогатевшим, довольным и сытым хищником – в родную!..
Уже поднялся гомон, крик. Все кричали. Махали руками. Повскакали с мест. Уже бежали к нему.
– Северную!.. столицу…
«Сейчас на пол повалят. Ну и пусть».
– И все! И больше ничего!
– Ты сядешь! За… оскорбление!.. личности… и достоинства…
Свинячья рожа губернатора была красна, дика, надута, если б проколоть иголкой – вытек бы алый, жирный, помидорный сок.
Чье-то знакомое – да чье же, чье?! – широкое скуластое лицо подмигнуло ему с другой стороны ледяного круглого озера-стола.
«Кто это… друг, враг?.. кто, не вспомню никак, я же знаю его, знаю…»
Степану уже закручивали руки за спиной. Откуда-то взялись рослые, дюжие, мускулистые дядьки, и да, он догадался, что так будет, – пытались повалить его на пол, а повалили на стулья, в кресла, а он тоже силен был, мышцы напружинил, бился с ними, боролся. Одному левым хуком хорошо задвинул. Мужик на пол сам улегся. Кто-то оглушительно засвистел в свисток. «Откуда у них свистки, – подумалось смутно, – что за детские игрушки…»
Лица, руки, рты, лица мелькали, наклонялись над ним, метались, появлялись, исчезали.
Лица, лица, лица.
2
– Петр! – позвала Мария с порога. Отряхивала снег с рабочей куртки. Брякая, ставила метлу и лопату в угол. – Петруша! Ты дома?
Петр вылез из спаленки.
– Тихо, мама, у меня девочка, – прижал палец ко рту.
– И когда успела?..
– Ты ушла на участок – она… Только что приехала. Мама, ты знаешь?..
Что-то в голосе сына было такое… нехорошее.
– Что? Что?
Она еще отряхивала снег со старой лыжной, рабочей своей шапки. Заталкивала шапку в рукав куртки.
Молчание пробежало между ними, будто мышь из подпола.
– Степана посадили. В тюрьму. За хулиганство.
У Марии подкосились колени, и она села на корточки, привалилась спиной к холодной стене.
– Как?.. зачем… за какое…
– За классное. – Лицо Петьки сияло. – Он губернатору задвинул. По полной программе. Классно оторвался. Сегодня Белый пришел, сказал. В новостях уже показывали. Кла-а-а-асно!
Мария закрыла глаза, потом закрыла их руками.
«Доигрался… допрыгался. И Петьку туде же тянет».
– Прекрати…
– Да не переживай ты. – Он потрепал мать по плечу, как ровесницу, девчонку. – Все будет отлично. Если только там бить крепко не будут. Говорят, там, в ментовке, бьют так, что кишки выворачиваются. Вообще пытают.
– Ты зачем мне все это говоришь? – устало сказала Мария, не отнимая ладоней от глаз.
– Он теперь герой, мама, – Петр облизнул зацелованные девочкой губы. – Он же так хотел быть героем!
3
Главная улица города перед главным городским судом была запружена народом. Люди шли, несли плакаты. Молодежь на морозе пила пиво из бутылок, из банок. На решетке, огораживающей чахлый садик перед зданием суда, тоже висели плакаты: «СТЕПАНА ТАТАРИНА – В ГУБЕРНАТОРЫ!», «МЫ ВЫБИРАЕМ ТАТАРИНА!», «СВОБОДУ СТЕПАНУ!», «СТЕПА, МЫ С ТОБОЙ!».
Народ толпился перед судом, люди поднимались на цыпочки, заглядывали за ограду, засматривали в зарешеченные окна – не видать ли там Степана, его лица, его профиля, его бритой голой головы. Нет. Не видно было.
Заседание суда было закрытое. Никого не пускали. Даже журналистов.
– Белый, ну что решили?
– А все то же. Выступаем. Вместе со всеми.
– Вместе с «Маршем»?
– Ну конечно. А то с кем же.
– Штаб-квартира «Марша» – в городе – та же?
– Нет. После ареста Степана поменяли адрес. Сейчас машины рыщут везде. Слушай, старик, ты знаешь о том, что наши телефоны прослушиваются?
– Плевать.
– Нет, не плевать. Если ты хочешь завалить завтрашний «Марш» – пожалуйста, звони всем без перерыва.
– Зубр тоже идет?
– А то. Попробовал бы не пойти.
– Его бабушка не пустит, ха-ахаха!
– Значит, с бабушкой пойдет. Га-га-а-а-а. Укутает ее в шубку, в муфточку нафталинную – и на «Марш» поведет. Газеты приготовил?
– Вон, в ящике под кроватью.
– Тю, да тут до хера экземпляров!
– А ты как думал? Сижу, баклуши бью? Я принтер левый отыскал. Инка помогла. Целый вечер сидели. Картридж весь извели. Ла-а-азерный.
– Молодцы! Умницы.
– Ума много не надо, если – халява.
– Халява, сэр!
– Слушай, а ты не боишься?
– Чего еще?
– Ну, что тебя завтра омоновцы – это самое?
– Убьют?
– Ну, не убьют, изобьют.
– А что, тебя что, не избивали никогда?
– Ну, а если – убьют?
– Хорошо умереть молодым, еп твою мать.
– А я вот не хочу умирать!
– Ну, когда-нибудь придется.
Нынче утром Мария с особым остервенением чистила, скребла, ковыряла снег и лед у себя на участке. Сжав зубы; сведя губы тонкой, горькой подковой. Она думала о Степане; о себе; о Петьке; о Федоре; о богатом мальчике, сыне тети-лошади, живущем в дивном особняке и таком вымуштрованном, несчастном; о них обо всех, живых людях на мертвой, зимней, холодной земле.
Она счищала с пустынного, еще ночного тротуара широкой лопатой этот скотский, проклятый снег – и думала о том, как мало в мире любви, как жалко нам ее дарить, как не умеем мы ее хранить и беречь. Как не бережем друг друга. Как выбалтываем святую, нежную тайну. «Тайна должна жить в тайне, – думала Мария, – вот как на картине Фединьки, есть у него такая картина: черный, черный-дегтярный, непроглядно-черный фон, и из черноты – вспышкой – взрывом световым – выбухает, растет – огромный, сияющий цветок. Лотос, шептал он мне, это волшебный Лотос! Вот и мы так же… в черноте, во мраке, в нищете, а душа-то расцветает от любви, и она сама – цветок, драгоценный, праздничный, кроткий цветок любви. Жаль, мало цветет… кратко…»
Закончив работу, придя домой, растопила буржуйку. Приготовила старикам завтрак – они еще, милые, спали в кладовке: разваристую, на молоке, овсяную кашу. Как раз им по зубам, жевать не надо. Оделась перед Петькиным зеркалом. Петр тоже еще спал. Раскинулся во сне. Одну руку держал под подушкой. Будто что-то там, под подушкой, сжимал. Вроде как игрушку. И лицо во сне было такое, чистое, курносое, детское. Она вдруг припомнила, как Петька, грудничок, сосал ее грудь – и перебирал пальчиками у груди, и смешно так морщился, носом поводил, как хомячок.
И Андрюша, покойный, бедный мальчик ее, так же ее грудь сосал.
Куда уходят люди, когда они…
Не думать. Не думать об этом.
Придет время – и природа сама все решит за тебя. Без тебя.
Не дай Бог матери пережить детей. Пусть она умрет раньше. Пусть ее Петька – похоронит.
Все спят, она одна не спит. И сейчас пойдет куда-то. Опять на мороз. Куда?
«Скоро выборы, – отчего-то подумалось ей. – И кого выберем? Снова – богатея какого-нибудь? А что, у нас теперь вообще выбора нет? Что в зубы толкнут – то и схаваем?»
Она не спросила себя, куда она шла.
Она знала и так.
Она шла к Степану в тюрьму.
Только сначала она в поликлинику, к врачу, зайдет. Быстро покажется. Очень сильно, странно, упорно болит голова. И боль никак не проходит.
«Может, водки выпить с Фединькой? Сосуды расширятся…»
Еще темно на улицах. Скользь и лед под ногами. Сапоги скользят. Ах, сапоги Мариины, вас будто до революции покупали, а в гражданскую войну ты, матушка, в них на коне по забайкальским степям скакала, рядом со стариком Матвеевым. Да он тогда был еще не старик! А бравый офицер белый, Василий Матвеев, Васюля, Базиль, мон шер Базиль… «Машер, вот я бы на тебе – женился!..» И конь лоснится под тобой, и пахнет конским потом, кожей сбруи, ледяным ветром с Байкала… Култук, это жестокий ветер култук, он сейчас твою шапку унесет… Баба на коне, ах, баба… Революцию делаешь?!.. С мужиками вместе?!.. И глаза Матвеева, восхищенные, ножево-пронзительные, молодые… Ах ты, старая перечница… Ты так помнишь, ты так любишь мои старые, кавалерийские сапоги?..
4
Она шла по улицам.
Улицы были пустые.
Они были удивительно, невозможно пустые.
Страшно было от этой пустоты.
Тихо и страшно; и отчего ни людей, ни машин на улицах не было, а были…
Она окинула взглядом сначала одну железную, огромную машину, потом другую, рассеянно, испуганно подумала: что это?.. – отвернулась: непонятные железные повозки были укутаны брезентом, из-под брезента виднелись клепаные дверцы, железные кузова и стальные зады.
БТР-ы. Мария впервые в жизни видела БТР-ы.
«Военные… ну да, военные», – сердце забилось прерывисто, предательски.
Чуть поодаль на пустынной улице стояли и обычные грузовики, тоже с кузовами, укрытыми брезентом. И фуры – тоже с брезентухой.
Мария озиралась, вертела головой туда-сюда.
Пустой город, пустой, вымерший.
И она одна идет по пустому городу.
Внутри, под ребрами, становилось все страшнее, все безумней.
Она завернула за угол, вышла в прогал большой улицы, втекавшей в круглую, как сковорода, площадь – и обомлела.
Поперек пустой уличной трубы, на площади, стояли войска.
Солдат было много; очень много, может быть, тысяча, может, и больше. Они стояли молча, почти недвижно, перекрыв уличную реку, образовав людскую запруду. Они стояли, выстроившись в шеренги.
Первая шеренга выставила перед собой странные, выпуклые, прямоугольные щиты. Прозрачные, будто стеклянные. Солдаты все в круглых шлемах. Или это каски? Мария не разобрала.
Она стояла, будто ее в ледяной асфальт вкопали, стояла и смотрела, смотрела.
Шеренга не двигалась.
За ней, за затылками первых, стояли другие шеренги.
Они тоже держали перед собой пластиковые щиты.
За второй шеренгой стояла третья, и головы в светлых шлемах стали сливаться у Марии в глазах в строй яиц в инкубаторе; в собранные в кучу кегли на страшном кегельбане. У нее сильнее закружилась, тонко, щемяще заболела голова.
Она на миг прикрыла веки. И подумала:
«Что-то началось?»
И ответила себе:
«Это началась война».
Щиколотки занемели, стали ватными, войлочными, она не могла шагнуть. Но все-таки шагала, шагала через силу.
«Они будут в меня… стрелять?.. Но я же иду одна. И я – мирный житель…»
Мысли метались, как птицы. Как зимние птицы. Под пулями. Охотника. Хулигана…
«Где люди?! Где все люди?! Жители?!»
Все было странно, нереально, плоско, как на плакате.
Она повернула обратно. Шла медленно.
«Они сейчас выстрелят мне в спину…»
Сизый воздух иголками колол ноздри.
«Нет. Зачем им в меня стрелять?! Что я – им – сделала?!»
Пошатываясь, она дошла до поворота.
Повернула на другую улицу.
И не остановилась даже – отшатнулась, попятилась.
Эта улица тоже была перекрыта.
Поперек нее тоже стояли солдаты.
«Солдаты, солдаты, что же вы тут делаете, солдаты…»
Она искала глазами еще проулок; еще поворот.
Сюда. Вот сюда.
Она повернула – и тут!
«Что же стряслось, что же, что… С ума они сошли все…»
Шеренга солдат загораживала и эту улицу.
«Я в западне…» Она вытерла лоб рукой. «Нет, надо идти к ним! На них…»
И она пошла прямо на них.
Иди, иди, иди к ним. Они не убьют тебя.
Иди. Ничего не случилось. Может, это учения.
Нет, это война!
Иди. Не бойся. Иди.
Они не убьют тебя. Ты – им – мать.
Мать… Тьма…
Вот их лица, за прозрачными щитами, под яйцевидными железными шлемами.
Обычные лица. Только бесстрастные какие-то. Как каменные.
Тоже – железные, как шлемы.
Или это каски?
«Каски… Сказки…»
Мария подошла к солдату. Шеренга не дрогнула. Они все стояли как железные столбы.
Они кого-то ждали, догадалась она.
Ждали – врага.
Какого врага?! С кем будут воевать?!
Она, ничего не понимая, только чувствуя внутри себя липкий, противный страх, закинула голову к высокому, рослому солдату.
«Петьки – ровесник… Петьки…»
Разжала губы.
– Скажите… пожалуйста…
Она так о многом хотела спросить его!
А он, наверное, ничего и не знал.
Она хотела выкричать в лицо ему, в надменное, жесткое, картонное, юное: «Что случилось?! Почему вы тут?! В городе – военное положение?! Почему все молчат?! Почему на улицах народа нет?! Что делать нам?! Что – мне – делать?!»
А вместо этого – тихо, тихо, тихо спросила:
– Как мне… пройти… на Ильинку? К поликлинике… к четвертой… все же перекрыто…
Солдат скосился на Марию из-под омоновского шлема.
– Ногами, – так же тихо сказал.
И поднял руку в белой перчатке. И показал на провал черного переулка.
В переулке шеренги не стояли. Переулок был свободен.
Маленький, узкий, чахленький переулок.
Мария повернулась и пошла. Пошагала шире. Почти побежала.
Уже – побежала.
«Не упади, не упади, не упади…»
Она слышала свое хриплое, судорожное дыхание, взахлеб, еще глоток, еще глотнуть зимы, жизни.
5.
В коридорах поликлиники народу было – невпроворот. Стояли; сидели; слонялись. Ругательски ругались, крыли всех: и грязную старую поликлинику, и врачей, и власть. Доставалось всем. Переругиваясь, переходили на личности; схватывались друг с другом. Поднимался настоящий хай. «А вы тут разве сидели?! Да откуда вы тут…» – «Заткнитесь! Доживите до моих годов, нахалка!» – «Что вы без очереди-то лезете, что вы… а ну-ка стой! Наглость – второе счастье, да?!»
Женщина в цветастом, крупными розами, платке верещала тонко, пронзительно: «Еще хорошо, сюда пробрались!.. На улице не подстрелили!.. Через этих солдат… через этот «Марш»… этих, проклятых!.. И что им не живется!.. Им, молоды-и-и-им… неймется!.. Горячего еще не хлебали!..»
Мария отстояла очередь в регистратуру за карточкой; отсидела очередь к врачу в кабинет. «Это я на минутку забежала», – насмехаясь над собой, или оправдываясь, сказала себе, кусая губы. Старухи ворчали. Женщина в черном плакала тихо, прижимая платок к глазам.
Дверь отлетела, и медсестра с порога устало бросила:
– Много вас тут еще?
Очередь загудела возбужденно. Сестра показала на Марию и строго предупредила:
– Вот за ней – никому не занимать!
Мария сидела тихо, как школьница, сложив на коленях руки. Отвернула лицо в сторону, к стене, обляпанной плакатами: «НЕТ – ОСТЕОПОРОЗУ!» и «КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ», когда услышала за спиной: сзади: «Гляди, гляди, наша дворничиха, с участка…»
Мимо нее, нетвердо ступая по позорно вытертому линолеуму, прошел рентгенолог. Мария безошибочно определила: под хмельком. Вот и терапевт прошел, пробрался бочком к себе в кабинет; тоже шатко, слишком вдумчиво впечатывал ботинки в пол. «Тоже пьян. Так, слегка пьян. Пока – слегка. После приема… оторвется. Бутылочку коньячка пациент в подарок принес. Святое дело».
– Следующий!
Мария с готовностью вскочила, шагнула в кабинет, как в лодку, боясь: уплывет без нее.
– Ну и что у вас?
Врачица пристально, прищурившись, глядела в руки Марии – не принесла ли чего с собой. «Деньги? Конфеты? Что ей нужно? Какое жертвоприношение?»
– Что молчите? Садитесь. Что с вами, я вас спрашиваю? Жалуетесь на что?
Мария разбила свое молчание, как стакан об пол.
– На голову.
Сумку на колени положила. Раскрыла ее. Врачица жадно смотрела. Мария вытащила из сумки коробку дорогих конфет и пачку отменного чая. Сунула врачице в руки, будто скотину прикармливала, корову.
Врачица сменила суконное рыло на сладкую улыбочку.
– На голову? В вашем возрасте это, м-м-м, серьезная жалоба… И что? Мигрень? Приступы? Может, утомляетесь? Снимем-ка энцефалограмму.
Мария послушно легла на застеленную несвежей простыней кушетку. Ей к голове, ко лбу, к затылку присоединяли что-то железное, резиновое, из проводов, из присосок; холодное, сырое, звенящее. Зашумел прибор; она закрыла глаза.
И, кажется, заснула.
На мгновение. На два.
Так спят лошади в стойле.
Спит скотина в хлеву.
Усталый донельзя человек, измотанный, так засыпает в дороге.
Проснулась она от голоса врачицы. Врачица подвывала, как бездомная собачка в подъезде.
– М-м-м-м… У-у-у-у… Похоже на опухоль. Плохо дело…
Поняв, что лишнее сказала, врачица замолчала.
Мария лежала тихо, прислушиваясь к себе.
Встала томно, невесомо, как во сне. Как лунатик.
Из далекой дали слушала металлический, медный, как часовой механизм, голос врачицы:
«Я вам – направление в стационар… Полежите… Обследуетесь… по направлению – бесплатно…»
Мария нежно, тонко улыбнулась врачице, как улыбалась бы небу, облакам.
– Спасибо. Да. Конечно. Позже. Сейчас – мне некогда. У меня…
Медсестра, склонив голову набок, мрачно глядела на нее. Ее глаза кричали: «Надоели, как собаки!»
– У меня муж в тюрьме.
Лицо врачицы залило белое молоко брезгливости, отвращения.
Медсестра процокала на каблучках к двери. Распахнула ее. Крикнула:
– Я же говорила, за ней – не занимать! Как глухие! В ушах бананы!
6
– Вы, парни. Татарина не выпустят. Он накрылся медным тазом.
– И что?
– Ты!.. Дай сюда ствол. Не балуйся с ним. Относись к оружию с уважением.
– На. Не ори.
– А ты что предлагаешь?
– Я? Ничего не предлагаю. Я уже – делаю.
– Ты хочешь…
– Это не я хочу. Это все мы хотим. Давно!
– Давно…
– Да. Давно. И время идет.
– Да.
– И скоро выборы.
– Да!
– На Покровке, перед судом, куча народу! Кричат: Татарина на царство!
– Молодцы. Хоть кто-нибудь. Молодцы! Голос подали.
– Слушайте меня! Пацаны! Эй! Хватит селедку жрать! Вы не в ГУЛАГе.
– Мы – в ГУЛАГе! Ты разве не понял?!
– Да уж.
– Ата-а-а-с! Степа в тюряге?
– Ну да!
– Значит, я за него.
– Ты-ы-ы-ы?! Круто забрал…
– Да там у нас уже… вместо Татарина – ух-х-х!.. Все схвачено, за все заплачено…
– Дураки. Я за него – в нашей команде. Он же и нашим тоже командиром был.
– Х-ха! Хочешь быть командиром? Потому, что у тебя ствол?!
– Дурак. Потому, что я знаю, что делать. Слушай!
– Ты, вождь ебаный…
– Пошел вон.
– Кто?! Я-а-а-а?!
– Да. Ты. Пошел вон. Без тебя разберемся. Правда, пацаны?
– Давай, двигай.
– Вы че?! Сбрендили?!
– Дуй отсюда!
– Ну, слушай… Извини.
– Дуй!
– Ну ты… А пошли вы на хуй!
– Катись. Степан бы тебе тоже так сказал: катись! Революции Иуды не нужны!
– Я не Иуда. Я не Иуда!
– У тебя глаза Иуды. Иди купи водки и напейся.
– И куплю. И напьюсь.
Мария встретила Петра на улице. У него было лицо перекошенное, будто бы кто задвинул ему в скулу, и скула болела и ныла, и он кривился; или зуб болел. Он нехотя остановился перед матерью. Видно было – он куда-то спешил. Но все равно остановился. Глядел на сумки у нее в руках: на одну, на другую.
Но не взял из рук сумки. Не сказал: мама, давай помогу, донесу.
Да, спешил куда-то.
А она ему – помешала. На дороге встретилась.
– Иди, Петруша, – кивнула Мария и поставила сумки на снег, – иди, я сама дотащу…
Петр кивнул. Криво улыбнулся. Потрогал себя за щеку.
«Может, и правда там у него что-то болит? Ведь крепко расквасили лицо-то… Может, косточка какая не зажила… трещина… воспаление…»
– Ну да. Пойду я. Дела.
Она смотрела ему в спину, как он идет, переваливаясь с ноги на ногу, худой, широкоплечий, быстро идет, разваливая ноги в берцах тяжелыми утюгами по снегу, и снег зачеркивает белым его спину в черном пальто, замазывает, закрашивает…
Мария еще стояла, когда Петр внезапно обернулся.
И пошел – через снег, ветер – обратно к матери.
Все внутри нее рухнуло в пустоту, как камень с обрыва.
«Что?! Что он забыл… Он – ко мне… идет опять, вернулся…»
Кипятком, кипятком обдавало изнутри.
– Петичка! – Мария подалась вперед, прижала руку в перчатке к губам. – Петюша…
– Ма, ты это… Не волнуйся. – Он уже подошел, дышал быстро, хрипло. – Ма, я вот что тебе хочу сказать. Никогда не волнуйся за меня. Никогда. Слышишь?!
Она слышала и не слышала.
Она глядела на него слепо сквозь метель, снег белыми бабочками садился на ее ресницы, на брови.
Петр взял ее за руку. Стащил у нее с руки перчатку. Помял, потискал ее руку. Поднес к губам и – не как сын, мальчик, а как взрослый мужчина, вроде как возлюбленный ее – по-взрослому – поцеловал руку, потом повернул ладонью к губам и ладонь поцеловал.
– Петя, я все хочу тебя спросить, Петя. – Сердце стало биться часто, серебряным молоточком в старинных часах с маятником. Были у старика Матвеева в квартире такие часы; сгорели на пожаре. Матвеев говорил – их в Гусиноозерске, в Забайкалье, еще до революции делал часовых дел мастер, его друг. Тик-тик. Тук-тук. – Ты только ответь…
Он все еще держал в горячих руках ее голую руку.
Голову опустил, не глядел на мать.
Сердце тикало.
Постукивали мертвые, серебряные костяшки мгновений.
– Чем ты занимаешься, Петя? Ты ведь не учишься. И не работаешь нигде. А тебе уже – сколько лет? Ну нет, я не хочу тебя обидеть… Только скажи мне. Скажи. Чем ты занимаешься? Кто твои друзья? Чем занимается Степан? Я тупая. Я ведь не знаю, что там у вас. – Мария говорила быстро, потому что понимала: сейчас, вот сейчас он бросит ее руку, повернется и опять уйдет в снег. И никогда ей ничего не скажет. – Но я догадываюсь. А может, я неправа! Скажи мне – ты! Сам скажи!
Петр не поднимал голову.
Рука в руке.
И крепко сжаты.
И Мария – сама уже сжимает его руку, сама.
А он вот-вот вырвет руку. Вот. Сейчас.
– Мама… – выдохнул. – Мама, ну ты что…
И вдруг – зверино, настороженно – вскинул голову.
И ощупывал глазами жесткими ее уже размягченное, как тесто, уже готовое к близким женским слезам, чуть оплывшее к подбородку, такое родное лицо.
– Мама! Тебе охота жить так, как ты живешь?
Мариины пальцы разжались. Она выпустила руку Петра.
– Как… я живу?..
– Ну да. Да. Как ты живешь сейчас. Это, по-твоему, жизнь?
Бабочки снега жадно летели, бились, насмерть разбивались о горящую лампу лица.
– Отвечай, мама!
Теперь она опустила голову. Поглядела на сумки под ногами, на снегу.
– Нет, – сказала Мария честно и мрачно.
– Вот и я тоже так думаю. И Степан – так думает. И еще много, много народа в стране – так думает. Если бы мы так не думали, знаешь, что бы с нами со всеми было?
– Что?..
Голос матери истаял седой снежной бабочкой. Разбился.
– Сдохли бы мы все на хер, мама. Просто-напросто сдохли. А так – мы еще живем. И еще будем жить. И еще – свое возьмем. Слышишь, мама! Возьмем.
Мария все ниже, ниже опускала голову.
Петр опять потрогал себя пальцами за щеку. Подергал углом рта. Скривился.
– Вот этим мы и занимаемся, мама. Чтобы – не сдохнуть. Чтобы – жить. Потому что не прозябать, не гибнуть, не спиваться, не реветь на пепелищах, а – жить очень хочется, мама. Очень! Отнять нашу жизнь у тех, кто у нас ее взял. И присвоил. И мы ее отнимем. Вернем! Ты поняла? Поняла?
Он говорил тихо и внятно. Как учитель в школе.
Он учил ее. Он втолковывал ей урок.
Урок, который она никогда, никогда не…
– Спасибо. Да. Я поняла, – сказала Мария тихо.
Ветер заглушил ее слова.
Она нагнулась и подняла со снега сумки.
7
– Скажите, я могу увидеть Степана Татарина?
– А вы кто ему?
Мария не думала ни мгновенья, чтоб ответить.
– Жена.
– А-а. Жена. Это серьезно. А что у вас в руках?
– Сумка.
– Что в сумке?
Марии с вызовом хотелось сказать: пистолет.
«Вот бы настоящий пистолет из сумки – вынуть. И – прицелиться. Господи, о чем я?!»
– Продукты. Передача.
– Дайте сюда.
Парень в зеленой гимнастерке протянул руку, не вставая со стула и не глядя на Марию. Она покопалась в сумке и протянула парню сверток.
Парень аккуратно развернул целлофан и промасленную бумагу, разложил на столе: батон копченой колбасы, кусок сыра, нарезанный тонко хлеб, пачку печенья, блок сигарет.
– Вы что думаете, у нас тут не кормят? – спросил парень и поцарапал ногтем сыр по красному, как кровь, воску, огнем горящему из-под слюдяного целлофана.
– Нет, почему же… Просто это – от меня…
Парень вздохнул.
– У вас в сумке больше ничего нет?
Мария тоже вздохнула. Раскрыла сумку. Чуть не вывернула ее наизнанку.
– Хорошо. – Парень встал из-за стола. Лягнул ногой стул. – Берите передачу. Идемте.
Они долго, долго шли узким, как ущелье, бесконечным, душным коридором. Потом парень резко, коротко стукнул в дверь, и она открылась.
Вошли. Перед Марией замаячил стул, стол, и странный, будто зеркальный блеск на миг ослепил, потек по плывущим зрачкам. Стекло? Нет, не зеркало… Будто целлофан натянули… Или это слезы, и она уже плачет, слабачка?
– Сидите здесь, ждите, – пусто, холодно изронил парень – и вышел.
Она сидела терпеливо, молча. Отрешилась от себя.
…забыла, для чего она тут, зачем…
…очень, очень болела голова.
…тошнило.
…но она же не беременная, нет, куда уж ей, старой кошелке…
…будто треснуло что-то, разорвалось. «А, это дверь открыли».
Она подняла тяжелые от боли, синие, набрякшие веки.
Перед ней, за стеклом, за точно таким же столом, за которым и она сидела, отражением, призраком сидел Степан.
Он сидел перед ней лысый, да, бритый, как всегда; смущенный, хмурый, сидел за этим толстым – или тонким? – нелепым, призрачным, ненастоящим стеклом, и так болела голова, что он ей только казался.
И поведет сейчас рукой в воздухе, прикоснется к стеклу – и Степан уйдет. Растает.
Мария подняла руку. Прислонила растопыренную пятерню к стеклу.
Настоящее… холодное.
– Как ты?
Голос потонул в неволе, в глухоте и слепоте.
«Слышит он меня или нет?! Слышит?!»
Странным, густым гулом отозвалось у нее в ушах:
– А ты как?
Она беспомощно озиралась, как заловленная в сеть зимняя белка.
– Я? Ничего.
– Дома как? Холодно?
– Мы буржуйку топим. Все нормально.
Парень в гимнастерке стоял у стены. Сторожил. Слушал.
А может быть, не слушал, о своем думал.
Мария сидела, выпрямившись. Стиснула руки: руки ее лежали на столе.
Руки Степана тоже лежали на столе. Будто отдельно от него. Бессильно. Как брошенные в сарае грабли.
Она вспомнила, как он тонул в Суре в полынье. Как она вытаскивала его из ледяной воды – за конец шали.
За кончик… за самый кончик, хвостик…
Жизни… любви…
– Степушка…
Говорить было нечего. Незачем было говорить.
«За что тебя?» – тоже бесполезно было спрашивать.
Она уже знала. Она знала: за все хорошее.
Она вынула из сумки еду. Положила на стол.
– Я тут… принесла кое-что вкусненькое. Тебе… потом… передадут.
Он облизнул губы, и Мария следила за кончиком его языка. Как он вел сначала по верхней, потом, сделав кольцо, по нижней губе. Розовый. Столько раз целованный. Веселый.
Веселый… молодой…
«Он молодой, молодой, а я старуха. Вот он сидит в тюрьме. И отсидит. И выйдет. И Петьку если за хулиганство посадят – он тоже отсидит… и выйдет. А я? Я – выйду из тюрьмы? Из своей тюрьмы…»
– Машка…
Она улыбнулась, он тоже, и в мертвенном свете пыльной лампы дико, весело блеснули его молодые зубы.
Парень в гимнастерке отскочил, как ужаленный, от стены.
Его чуть не пришибло дверью.
В комнату, где они говорили по микрофону через стекло, вошла женщина.
С детьми.
Один ребенок сидел у нее на руке, обнимал ее за шею. Другой, тоже мальчик, постарше, держался за ее другую руку.
Третья, девочка, держалась за руку мальчика.
Мария видела, как медленно, медленно и тоскливо, скорбно, поворачивается, плывет за стеклом голая голова Степана. И мысль мелькнула: гладко бритый, значит, здесь, в тюрьме, бритву дают… не боятся… что себе вены разрежет… или что надзирателя порежет…
В открытую дверь что-то глухое, лающее крикнули.
Парень в гимнастерке обалдело воззрился на мать с детьми. Тоже взлаял грубо:
– Жена?! А эта кто же тогда?!
Засмеялся: заржал. За открытой дверью тоже заржали. Оборвали смех.
Мария встала из-за стола.
Она стояла и смотрела на жену Степана.
Жена Степана и его дети смотрели на нее.
– А ты, оказывается, старая и толстая, – радостно и тихо сказала жена Степана.
Мария думала: надо выйти отсюда, выйти скорей.
Она медленно двинулась к двери.
Жена Степана заслоняла дверь спиной. Крепко мальчика за руку держала.
Молодая, красивая, тонкая, с большой грудью, со светлыми, крашеными, модно стрижеными волосами.
И дети тоже были красивые, румянощекие, здоровые, такие маленькие богатыри. Особенно красивая была девочка.
Девочка, закинув головенку, изучала внимательными светлыми, хрустальными глазенками Марию. Молчала.
Все они молчали.
Жена Степана сделала шаг вперед.
Мария боком, как краб, продвинулась к двери. Еще на шаг. Еще на шажок. Попятилась.
Жена Степана брезгливо, не сводя с нее иглисто-инистых, красиво подкрашенных глаз, отодвинулась, давая ей пройти в открытую дверь.
В пустоту.
Жратва, что Мария принесла для Степана, мертво осталась лежать на столе.
8
Ель, дай схвачу тебя за лапу…
Ель, подружка, дружечка моя…
Сесть на корточки. Снег, чистый, мятный, из сугроба в горсть прихватить, губы в холод погрузить.
Сейчас Федя обнимет ее. И она все забудет.
Сейчас все-все забудется. Отодвинется.
У нее в сумке с собой бутылка водки. Плохой? Хорошей? Дешевой. Значит, плохой.
Водка плохой не бывает, ты же знаешь.
А еще у нее с собой в сумке – краски.
Это – передача для Федора: ведь он тоже, бедный, в тюрьме.
Мы все в тюрьме!
Нет, врешь. Мы все на рынке.
Мы все на рынке, на продажном, голом, наглом, зимнем, хвойном, дымном, рваном, снежном рынке. И нас продают. И мы продаем. И умираем за прилавком. И распинают нас, рубят нас рубщики мяса. На куски. На страшные, алые, кровавые куски. И кости из плоти торчат.
И души наши продают. А почем ваша душа, тетка?!.. а, недорого… взвесьте, пожалста… заверните…
Не глянцевая?! Не лакированная?! Не сладенькая?! Не глазированная?! Фу ты… преснятина… беднятина…
А ну, налетай, торопись, как Федька подвыпивши, орет, покупай живо-пись! Кто купит такую голь, нищету?! Никакого соблазна. Соблазн – он вон, на обложках блестящих, как жемчужные ногти, журналов. Как сочные, в несмываемой красной, малиновой, багровой помаде, пышные, оттопыренные губы – девок, шалав, светских львиц. Чем платите за богатую жизнь, львицы?! А собой, конечно, чем же еще платить.
Не дорогая ли плата?!
Да, вот это, вот это и есть настоящая, дорогая, хорошая рыночная расплата. Золотая монета. Шуршащие бумажки. В руках хрустят.
И под топором равнодушного, с бычьей шеей, рубщика – хрясь, хрусь – кости хрустят.
Мои кости. Твои кости, Фединька. Твои, Петька.
Мелет, перемалывает нас время.
Снег, не держи меня! Снег, не хватай меня за ноги! Вот и дверь! Вот и лесенка… вниз, вниз, все вниз…
К тебе спускаться – как в могилу, чудный мой.
Чудной.
Е-дин-стве…
У него, как всегда, была открыта, даже приотворена обитая вусмерть изодранным дерматином, кривая дверь.
И пахло деревом. И опилки валялись под ногами. И валялись на полу, и стоймя торчали, и крест-накрест, как недоделанные распятия, лежали повсюду дрова – вечные Федькины дрова, что он собирал везде и всюду, в старых дворах, у старых сараев, на отшибе, на свалках, на заброшенных стройках, на помойках.
– Федя! Федя! Фединька! Фе…
– Машута! Я тута… Ну что ты, что ты, что…
Он уже хватал ее, будто она тонула, облапывал ее, держал ее, поддерживал ее, обцеловывал ее лоб, щеки, плечи.
– Федя, я…
Она уже рыдала громко, страшно, неудержимо, будто ее рвало слезами.
Федор ухватил ее крепко под мышку, подвел к своему жуткому, нищему топчану, укрытому дырявым пледом. Поверх пледа валялся траченный молью, черный ветхий тулуп.
– Машенция… моя старушенция… Ты ляг… Ты – отдохни… О, ешки-тришки, да ты совсем плоха, матушка… Ну, ну, ну, ну… брось… хватит…
Он вытирал ей лицо руками, ладонями. Вытирал – своими мохнатыми, обросшими щеками.
«Как хорошо, что он не пытает меня, что случилось. Да ведь ничего, ничего, ничего не случилось! Степана посадили. Петра скоро посадят. У меня плохо с головой. Дом сгорел. Что дальше?! А дальше, а завтра – выборы…»
– Федюша… я… – Мария махнула рукой вбок. – Там… в сумке… водка…
– К черту водку!
– И… краски… я тебе купила – краски…
– К черту краски. Я!.. Машка… – Она сидела на топчане, он встал перед ней на колени. – Я – картины свои сожгу, костер из них сделаю, чтобы только ты – в холода – могла – согреться…
Услышав это, она зарыдала еще сильнее.
Обняла его. Обхватила за плечи, пальцами гладила шею. От него знакомо, родно пахло табаком, скипидаром, олифой, красочками, опилками, дровами, сажей. И от губ, от усов – пахло чем-то детским, молочным.
«Боже, все они дети… Все… Все…»
Она взяла его лицо в ладони.
То же самое сделал он.
Смотрелись друг в друга, как в зеркало.
Ты зеркало мое.
Ты – зеркало мое.
А что завтра?
А завтра – нет.
Нет и вчера.
И только сегодня – есть.
– Маша… Ляг…
Она тихо, медленно легла на топчан.
Он лег рядом с ней.
Глаза в глаза, и руки невесомы. Они летают над лицом, над волосами.
Руки – бабочки. Глаза – бабочки.
Эти бабочки отдыхают, крылья сложив; эти – трепещут легкими крыльями, летят, летят навстречу друг другу.
Тихо трещат дрова в печке. От печи идет медленное, сонливое, угарное тепло.
Губы приближаются к губам. Дыхание вылетает – и влетает в другое дыханье. Дыханья сливаются, целуются – невидимо, нежно.
Очень нежно; так нежно касаются только крылья бабочки другой бабочки бедных, прозрачных крыльев.
Ты – мое крыло. Я – твоя душа. Человек был прежде един, его потом разделили.
Мы – два крыла, и одна душа на двоих. И вот мы летим.
Дыши в меня теплом, жаром; дыши в меня огнем. Целуй меня не тем, что у тебя снаружи – тем, что внутри. Внутренний мир – огромен, неисповедим. Потеряешься, замрешь под безумным, золотым куполом его. Люди, бедные, ищут крепких объятий, ищут, чтобы слить тела. И никто, никто не сливает души.
Огненная свадьба – это когда души, а не нищая, дрожащая плоть, брачуются. Дыши. Лови невесомую бабочку духа, горя, радости, святого дыхания моего. Оно только для тебя свято. И больше ни для кого.
Нежно, очень, очень, очень нежно, нежнее не бывает. Нежно и неостановимо. Нежно и нерушимо. Нежно и молитвенно. Я молюсь тебе. Вот так. Так.
Я тоже тебе молюсь.
Нет моей жизни без тебя. Нет. Нет и не будет.
А моей – смерти!.. – без тебя.
Ловлю дыхание твое. Невидимо, неслышно, нежно подаюсь всем внутренним своим, всем сердцем своим – к тебе, ближе, внутрь, в тайну. Ближе нельзя! Святее – не бывает! Нет. Можно. Слаще, выше, святее, упоеннее. Невозможно! Нет. Возможно все. Для Мира Невидимого, для души освобожденной – ничего невозможного нет.
Но никому, никому на свете не открывай тайну.
Даже – Богу?!
Даже – Богу. Это тайна должна жить в тайне. Наша тайна.
Тайна – в тайне… Я – в тебе… Ты – во мне…
Ты вливаешься в меня всем светом своим. Всем огнем своим. Всем горящим дыханьем своим, как в пустой, голый, обреченный сосуд. И я наполняюсь вином твоим. И я живу, упиваясь бессмертной сладостью твоей. Это ты. Я чувствую: это ты. И, если это ты так нежно, бесповоротно, дыханьем навек обнимаешь меня – значит, это я именно душою своей, только еще нежнее, еще неизбывнее обнимаю тебя. Это я вливаюсь в тебя вином, водкой снежных полей, зельем широких холодных равнин; и ты пьешь меня, глотаешь меня, упиваешься мной, сходишь с ума от любви ко мне.
Или я, это я схожу с ума от последней любви к тебе?
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие…
…небесное; а небо – это тоже мы? Облака – это мы?
…и дрова в печке, и огонь, их обнимающий – это тоже, тоже мы…
Вот мы слились совсем. Я потерял себя. Я – это ты? Любовь – это не я, а ты. Это – всегда ты, и никогда – я.
Ты видишь, я целую тебя изнутри. Я – больше большого и меньше малого; я – часть тебя, я – сердце твое, и я – океан, воздух вокруг тебя, и воздух моих рук и ног обнимает тебя, и живым воздухом моим ты клянешься, пьянеешь и умираешь, и рождаешься вновь – на льду широкой реки, под равнодушным зимним солнцем, в виду огромной черной полыньи, в которой мы все утонем.
Когда? А совсем скоро. Но это все равно.
Зачем жить? Вот для этого. Что такое жизнь без любви? Ее просто нет без любви.
Значит, мы… счастливы?..
Да. Да. Да. Мы. Счастливы. И я. Я! Люблю. Тебя. Ты видишь. Видишь. Вот как. Вот как я люблю тебя.
Нет. Это я. Это я люблю тебя. Это я. Я.
Нежно. Нежно. Очень нежно, еле слышно…
Не теряй сознание. Теряй! Умирай…
Жи-ви…
Солнце!.. мое…
Они лежали лицами друг к другу. Не двигались. Молча. Тихо.
С закрытыми глазами.
Красавица Лакшми с аляповатой, радужной дешевой репродукции, смеясь, подвернув под ягодицу изящную ногу в шелковой шароварине, звеня жемчужными бусами, изогнув в улыбке ярко-алые вкусные губки, смотрела на них и думала, что они спят.
ИЗ КАТАЛОГА Ф. Д. МИХАЙЛОВА:
«Для постижения философии художника ключевой работой является картина «Чаша жизни», созданная, вероятно, в самый тяжелый период жизни мастера, в годы полного непризнания и глубинного одиночества. Холст, по воспоминаниям очевидцев, тех, кому довелось видеть его в мастерской Михайлова, был большой, квадратный, масштабный.
Из мерцания зелено-золотого, рассветного неба выступает, несомая невидимыми руками, огромная, во все полотно, Чаша. Внутри Чаши ходят тени, светятся фигуры, качаются растения, вспыхивают огни. Что это? Символ земной жизни, лежащей в чаше небесной сферы? Священный потир, в котором – причастие ушедших веков? Тайна хранится в тайне. Любовь – в любви. Рассказать святое невозможно. Михайлов умел это делать».
ИНТЕРМЕДИЯ ГЛЯНЦЕВОЕ МИЛОСЕРДИЕ
Ребенок, лежащий на больничной койке, поднял слабую худую руку, протянул ее вперед, еще вперед. Он хотел коснуться кончиками пальцев красивых, блестящих золотых кудрей красивой девушки.
Девушка, в небрежно накинутом на плечи белом халате, сидела на больничном табурете около его койки.
Она увидела движение ребенка и поняла его.
И сама наклонилась навстречу тонкой бледной, ищущей руке.
Золотые кудри свесились золотым пологом. Мальчик коснулся шелковистых волос и нежно, беззубо улыбнулся.
– Как у царевны, – беззвучно сказал больной мальчик.
На глазах белокурой девушки блестели слезы.
Она промокнула их указательным пальцем.
На пальце сверкнул огромный изумрудный, тоже царевнин, перстень.
– Трогай еще. Трогай, – тихо прошептала золотоволосая девушка.
Рука бессильно упала в простыни.
Мальчик закрыл глаза.
Он очень тихо дышал.
Молчал. Уже ничего не говорил. И не просил.
Люди в белых халатах, столпившиеся за спиной златовласки, завздыхали, зашевелились. Вперед выступил доктор, с белыми усами, с фонендоскопом на шее, как бык с колокольчиком.
– Все, он уснул. Он же под лекарствами. Инъекцию ему… только что… идемте, – тихо говорил доктор и тихо трогал золотую за плечо.
Золотая дернула плечом, стряхивая руку доктора.
Глядела, безотрывно глядела на спящего мальчика.
Потом медленно повернула голову.
На дне ее серых, удивительно прозрачных, как лед, глаз ходили черные страшные тени.
Ходил, двигался Мир Иной.
Она сейчас, только что, в него заглянула.
– Доктор, он скоро умрет? – тихо, холодно спросила врача, не вставая с табурета.
Доктор смешался.
Смотрел на затылок золотой. На ее золотое темечко. На шелковые кудри, свободно, вольно льющиеся золотой водой на плечи.
– Скоро, – честно ответил он. – Еще месяца два… три. И все.
– Тогда почему он здесь? – шепотом спросила золотая. – В больнице?
– А где же ему еще быть с раком крови? – еще тише, чем золотая, спросил врач.
И тогда золотая встала.
По ее щекам текли настоящие слезы.
– Где? Дома, – ее рот дрогнул, и слезная дорожка тихо, медленно пересекла его, полный, перламутровый.
Доктор смотрел, как слезы текут по крашеным губам, по белому, как мрамор, подбородку.
– И что – дома?
Толпа в белых халатах молчала.
– Дома, – губы золотой дрожали и прыгали, – дома он будет среди родных. Рядом с мамой! Рядом…
– У него нет матери, – беззвучно сказал врач. – Он из детдома.
– Из детдома?
Глаза золотой были круглые, испуганные, налитые слезами, как две серебряных рюмки.
– Спасибо вам за благотворительность, – врач помял в пальцах седые усы. – Вы… на самом деле… делаете… для этих бедных детей… великое дело!.. ваши деньги…
Он смешался, замолчал под ее соленым, серебряным отчаянным взглядом.
Золотая повернулась. Пошла к выходу из палаты, слегка покачиваясь на высоких каблуках. Полы белого халата разлетались, как полы белой шубы.
Она шла по больничному полу живыми ногами. Она смотрела на больничный кафель живыми глазами. Она плакала живыми слезами. А этот ребенок через месяц умрет.
Ну и что! Все люди умирают! И ты, и ты умрешь!
Она услышала за спиной слабый, далекий возглас:
– Спасибо вам!..
Каблучки цокали по плитам коридора: цок, цок, цок.
Она шла и вытирала ладонью слезы.
Рак крови.
Что такое – рак крови?
Рак. Что такое – рак?
Почему – не рыба?
«Доктор, что у меня?» – «У вас… м-м-м…» – «Не скрывайте от меня ничего. У меня рак, да?!» – «М-м-м… У вас новая, еще не изученная болезнь». – «Что у меня?!» – «Не кричите так. Спокойней. Рыба у вас». – «Что, что?..» – «Рыба у вас. Рыба».
Проклятье! Рак. Рыба. Червяк.
Черви нас всех съедят. Черви.
Братья черви.
Земляные братья.
«Рыбаки ловили рыбку, а поймали рака… Долго все они искали, где у рака…»
Рак, черт. Потому что – клешни! Они вцепляются в тебя изнутри, и ты уже ничего не можешь сделать.
Не можешь отцепить, стряхнуть свою смерть.
Ну и что, что мы все здоровы? Что мы раком не болеем?
Мы тоже не стряхнем с себя свою смерть. Мы носим ее на себе, как рака, вцепившегося в палец. В пятку. В мочку уха.
«Ехал Грека через реку… Видел Грека в реке рака… Сунул Грека в реку руку… Рак за руку Греку – цап!..»
Цап-царап…
Рак крови. Рак желудка. Рак легких. Рак мозга.
А рак сердца – есть?!
А – рак души?!
У меня рак души. Она поражена.
Ее деньги, деньги съели. Как черви.
И ты только сейчас это поняла?!
Да, только сейчас.
Эта благотворительность. Эта больница. Ингрид подбила. Верещала: что ты сидишь на своих миллионах, как курица на яйцах, давай помогай людям, а не прожирай и не просирай все! Она кричала мне: что ты живешь, как жвачное животное! Люди умирают рядом с тобой, дети умирают, а ты, тварюга!
Ну вот. Докричалась.
Достучалась до меня.
А у меня у самой – рак сердца. И рак души.
И я завтра умру. Умру завтра!
И никто не вспомнит. Никто на могилу не придет. Никто.
Ни-кто-о-о-о-о…
На улице, в ее «феррари», ее ждал ее шофер.
Золотая села в машину, подобрав норковую шубку. Ее живые пальцы мертво вцепились в мягкий, шелковистый мех.
– Куда пожелаете? – угодливо спросил шофер.
– В ночной клуб «Ливорно». Напиться хочу. И танцевать. До упаду. – Она прищурилась. В стекла стучалась белая, мертвая метель. – Скорей! Гони!
Она стукнула шофера кулаком между лопаток.
Он резко взял с места.
– Быстрей! – кричала золотая бешено.
– А если мы разобьемся?
Шофер играл желваками под кожей скул.
Встречные машины резко чиркали черными спичками по ледяному черному асфальту.
В каждой встречной сидела смерть и смеялась.
– Разобьемся? Тем лучше! Давай разобьемся!
– Да что с вами? – спросил шофер.
– Я им отвалила на больных детей сто лимонов, – сказала золотая сквозь слезы, всхлипывая, закуривая. Высунула руку с сигаретой в открытое боковое стекло. – Сто лимонов! А жизнь моя сколько стоит?! А?!
Шофер, как безумный, гнал машину, молчал.
ЧЕРНОЕ АДАЖИО. ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ
Степан сидел в тюрьме, и тот из наших ребят, кто заступил место Степана, теперь распоряжался нами.
А я распоряжался – нами: Красным Зубром, Пауком, Кузей и Белым.
И собой еще распоряжался.
Самое главное в жизни – это, оказывается, распоряжаться не другими, а собой.
Потому что собой распоряжаться труднее всего.
В общем-то, почти невозможно.
Но у меня получалось.
Мы приготовили кучу листовок. Распечатали их на цветном принтере в городской типографии; моя девчонка помогла, договорилась. Красивые получились, цветные. С рисунками. Там было написано:
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ АРЕСТЕ
КАК ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА
КАК ГРАМОТНО ПРОВОДИТЬ МИТИНГИ
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОФСОЮЗ
и еще многое другое.
Это были вполне профессиональные листовки, я был очень рад. Текст мы составили сами. А картинки скопировали из старых учебников по гражданской обороне, немного приспособив их к нынешнему дню. Очень славно получилось.
Да, время. Время повторяется! Оказывается, ничего не изменилось.
Государство так же подавляет тех, кто в нем живет; а жители так же объединяются, чтобы бороться со злобным государством.
И фишка в чем?
Фишка в том, что и мы и они – один народ.
Одни и те же, вроде бы, люди.
Русские. Ну, пусть там татары, мордва, чудь белоглазая любая, это все равно, в России же живем, значит – русские.
И мы русские, и они русские. И Родина наша Россия.
И вот одна Родина гнобит и истязает другую Родину, и кровь из нее сосет.
Так какая же Родина и кому – Родина?!
Вопрос вопросов.
И мы, мы вроде бы знали ответ.
Или – только делали вид, что знали?
Я вот тут Паука спросил: «Эй, чувак, вот скажи мне. Ты знаешь, что делать, когда власть захватим?»
«Если власть захватим», – грустно поправил он меня.
«Если!» – каркнул я, как злой попугай.
Паук долго, близоруко щурясь, глядел на меня.
Я знал, что он ответил. Почувствовал.
«Не знаю», – еще мрачнее выдавил он.
«А кто должен знать?»
Я хотел это крикнуть зло, а вышел шепот, будто нас подслушивал кто.
«Командиры. Они умные».
«А мы что, выходит, недотыкомки?!»
Паук все свел на шутку.
«Рожами не вышли», – осклабился и заржал, жеребец.
И вот сидел я дома, а матери не было; Степан в тюрьме, листовки Кузя забрал – расклеивать, а я только что из типографии притащил целый ящик газеты нашей. Девчонка моя молодчина. Тонкая, а гибкая! Все чувствует, что делать надо. Мы верстальщице заплатили. С миру по нитке. В шапку собрали. Я у матери стрельнул. У верстальщицы детки малые, моя узнала – двое. Ей кормить их надо, понятно.
Печально что? Опять деньги.
То есть, если б нам надо было тиснуть за деньги порнуху какую – она бы и ее тиснула, не моргнула. Деньги заплачены, станок работает.
Станки ваши, деньги наши!
Рынок. Опять рынок.
Революция, ты-то хоть одна – не рынок!
«А может, тоже рынок?» – подумал я – и скорей отогнал от себя эту вшивую, паршивую мысль.
Мы-то – живые! Мы-то – не рынок!
А того, кого я избил и ограбил, того, мэрского племянничка, заморское отродье, я бы и избил и ограбил еще раз. Хорошо мы его выследили. Профессионально.
Я отомстил. Сначала его молодчики, гады, мне нос сломали и почки отбили.
Потом – я – ему.
Мы тоже хорошо деремся. Бьемся только так. Зубр вообще если задвинет – может на тот свет отправить запросто. Как делать нечего.
Мэрское отродье, а вот не находят меня пока. Не приходят за мной менты. Не волокут меня на суд. Что бы это значило? Может, он подох, чесночина, в больничке?
Туда ему и дорога. Это мы должны жить.
А они – жиряги, кастраты, скоты! – умирать.
Сидел я дома, в темноте; старики дрыхли; снег бился в черное окно.
И такая тоска меня взяла.
Прямо сердце взяла в кулак и стала выжимать, выкручивать.
Хоть вой.
Ну что, я выть буду? Спасаться как-то надо.
Я сел на корточки, пошарил на полке слепыми пальцами, вытащил наудачу кассету и сунул в старый, еще папки покойного магнитофон.
Кассета называлась «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ. ЧАЙ В СТАРЫХ КВАРТИРАХ».
Музыка не полилась. Музыка застучала.
Она застучала в ребра, в глотку.
Гитары рвали воздух аккордами. Мне казалось – и ноги стучали, выстукивали такт черные пыльные берцы.
Выстрел в упор. Песня за всех Спета. Снова жара. Жизнь как игра. Лето. Грязь на ботинках. В чьих-то глазах – Пламя. Чуткие сны. Символ войны – Знамя.Музыка вошла мне под ребра, покрутилась вокруг сердца – и с корнями, с кровью стала отдирать от него костлявую руку моей тоски.
А она не отпускала! Она – впилась, почище девчонки в постели!
Руками, губами…
Я слушал музыку и повторял слова губами. Беззвучно.
Будто музыку – целовал.
Нету войны, а я не солдат. Волю в кулак – для шага вперед. Нету войны, Но я чувствую взгляд И я вижу глаза…Дыханье перехватило на этом такте.
…тех, кто умрет, Тех, кто умрет.«Это МОЯ ПЕСНЯ!» – все закричало внутри меня.
А снаружи – я только тихо, радостно улыбнулся и, опять же слепой рукой, нашарил рядом, на кровати, сигареты.
Взгляд в потолок. Щелкнул курок. Выстрел. Серые дни. Чувство вины. Мысли. В окнах рассвет. Дым сигарет Тает. Кто-то один, Кто-то один Знает. Нету войны, А я не солдат! Волю в кулак – Для шага вперед…Я сжал кулак.
Горящая сигарета полетела из судорожно сжатого рта на пол.
Дым серыми руками обнимал меня. Целовал.
Дым обнимал меня. Жизнь любила меня.
И я так любил жизнь.
Как в последний раз.
Встань и шагни.
Встань и шагни вперед!
Я встал с кровати и шагнул вперед.
Песня стала мной, я стал картинкой этой песни. Нелепой картинкой. С разлохмаченной страницы! Из старого учебника по гражданской обороне. Там, где люди в противогазах, похожие на слонов, от выстрелов и взрывов в подвале прячутся!
Я был ее листовкой. Ее живым плакатом. Ее тайно напечатанной газетой.
Ее подпольным клипом. Ее первым и последним слушателем.
Ее нотами. Ее гитарами. Ее простудной хрипотой. Ее стучащими по полу пыльного зала пыльными берцами. Ее черными микрофонами.
Пока она звучала – я был ею.
Сейчас она закончится – и я умру.
Я умру, слышите?!
Вы, глухие!
Сейчас!
Сейчас.
Нету войны, Но я чувствую взгляд И я вижу глаза Тех, кто умрет…Это я, я умру. Я! Вы слышите – я!
Я один, один…
…тех, кто умрет.[1]Песня закончилась.
Вечер закончился.
Жизнь закончилась.
Сегодня, здесь и сейчас.
Началась ночь и новая жизнь.
Я встал на колени перед черным окном и заплакал.
Перебитый нос болел. В стекло лупила, наяривала метель. Белая метель. А может, черная?
На постели скомкалась черная простыня. Черные морозные узоры закрывали крестами стекла. С потолка свисала дохлая черная лампа.
Я придвинул черное лицо к окну.
Из окна лился черный свет.
Я плакал черными слезами, ни о чем золотом не думая.
Я был весь черный изнутри, и я плакал о том, что никогда, никогда золотой свет во мне не родится, не вспыхнет.
Нет! Вспыхнет.
Когда я умру.
Когда я умру – тогда он родится во мне.
Глава шестая
«…жена я была боярская; ездила въ карете драгой и устроенной муссиею и сребромъ, и имела аргамаки и кони многи съ гремячими чепьями. Лепота лица моего сияла, яко древле во Израиле вдовы Юдифи или древней Деворы или Эсфири, жены царя Артаксеркса. Но разъ въ нощи бысть мне видение и кличъ неподобный: «Жено, почто очи твои на нищихъ и убогихъ не взираютъ?» И, возставъ отъ сна и памятуя сии слова, пала я ницъ, прося отпуска греховъ своихъ. Персты же рукъ моихъ возношаше на чело, на пупъ и на обе раме. Изъ очей моихъ слезы яко бисерие драгое исхождаху, а изъ глубины сердца бысть вопль велий – воздыхания же терзаху утробу, яко облацы воздухъ возмущаху. И съ того часу нози мои дивно ступание возымели по темницамъ, по весямъ и распутиямъ, нося милостыню отъ дому своего, нося деньги и ризы и другая потребная – овому рубль, а инде десять, а иному и сотельный билет. Ближние же моя меня, яко зверие дикие, за это терзаху сердце и плоть рваху…»
Поучения Ольги Макарьевны, она же Голубица, Санкт-Петербург, век Девятнадцатый от Рождества ХристоваКРАСИВАЯ ЖИЗНЬ КРАСИВОЙ АГЛАИ!
ЗВЕЗДА произвела ФУРОР на самой СЕКСУАЛЬНОЙ выставке в САН-ФРАНЦИСКО!
АГЛАЯ не только показала свои ФОТОПОРТРЕТЫ, ВЫЗЫВАЮЩЕ ОБНАЖЕННЫЕ, но и сама приняла участие В СУПЕРСЕКСУАЛЬНОМ ПЕРФОРМАНСЕ, сделанном специально для СКАНДАЛЬНОЙ выставки БЕЗУМНЫМ АЛИКОМ ЧИБИСОМ!
ГОЛЫЙ Алик Чибис КУСАЕТ ГОЛУЮ Аглаю ЗА ЛЯЖКУ!
Голая Аглая – ВЕРХОМ на голом Чибисе, а он заливается звонким собачьим ЛАЕМ!
АГЛАЯ, КАКАЯ ЖЕ СЛУЧКА БЕЗ ЛАЯ?!
Снимок обнаженной звезды, работы Чибиса, УЖЕ КУПИЛ ПРЯМО НА ВЫСТАВКЕ американский МУЛЬТИМИЛЛИАРДЕР ЭНДРЬЮ ЛОУ!
ПОСЛЕ ЭТОЙ ПОКУПКИ АГЛАЯ ВОШЛА В ЧИСЛО СТА САМЫХ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ МИРА!
1
– Поеду к его друзьям. В Москву.
– За деньгами?
– За деньгами. Без денег ты ничего не сделаешь.
– А покупать будешь сразу? Где?
– В пизде.
– А если серьезно?
– Места надо знать.
– А ты – знаешь?
– Я – знаю.
– А не боишься, что тебя заловят?
– Если заловят – отстреляюсь. Х-х-ха-а-а!
– Газета где?
– Вон газета. В ящике.
– Да где, не вижу?!
– Под кроватью. Слепой.
– Когда в Москву?
– Завтра утром. Утренним поездом.
– Ту закрыли, эту открыли!.. Газета «Друг народа-два»! Вся правда о нас!.. Вся правда о выборах!.. Вся… Две вам?.. Сдачу возьмите… Газета народная, народная газета! «Друг народа-два»!.. Последние… остались…
Мария наклонилась над лотком. Всматривалась. Глаза щурила.
Что у нее с глазами?!
– Дайте газетку…
– Без сдачи?.. Спасибо…
Она поднесла газету к глазам.
С газетного листа прямо на нее смотрело лицо Петра.
Петр, из газеты, смотрел на нее.
В черной рубашке. Исподлобья. Наглым, прямым, жестким взглядом.
И он взглядом – напомнил ей – Степана.
Будто бы… его сыном был.
Под серым, газетным лицом Петра квадратным черным, мрачным шрифтом было крупно набрано:
«КАЧНЕМ БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ РЕЖИМ!»
Мария быстро, будто украла что, скомкала, спрятала газету за пазуху, под куртку.
«Так… Играют. И доиграются!»
На душе было тяжело, гадко, будто ребра изнутри и сердце само подернулись сажей, пеплом.
Печным, далеким пеплом.
…он ей сказал, дыша в ее лицо огненно, чисто: «Ты моя Мария. Ты моя Машулька. Ты сильнее всех. Любимая моя. Девочка моя».
…какая я девочка, я же старая тетка…
…девочка, и всегда останешься…
…ужас. Но ведь это ужас. Они играют с тем, с чем нельзя играть. Потому что – бесполезно. Время все само расставляет на шахматной доске. Время само с собой играет, оно само себе гроссмейстер. У него не выиграешь. А эти – выиграть хотят.
…выкинуть газетенку в урну, что ли…
…что будет? Что с нами будет?
…а что с тобой, с тобой будет…
…что, что. Умру, как все. Однажды.
Она рванула на себя дверь дома. Сгоревшего дома своего. Еще живого, оставшегося в живых угла его.
Пустые комнаты молчали. Где старики? Она не знала. Прошла в спаленку Петра. Потом в кладовку. Старая стиральная машина молча сказала ей: постирушки бы нужны, все тряпки грязные давно. Старые игрушки подмигнули ей глазами-пуговицами. Старые арифмометры посчитали, сколько ей жить осталось.
Петра не было. Его пацанов не было. Его девочки не было.
Его девочку она видела мельком: тонкая, слишком тоненькая, травинка, ветер может оборвать.
Она – тоже с ними?
На полу валялись исписанные листы. Мария наклонилась и собрала все с полу. Положила бумаги на стол. Старая пишущая машинка тускло светилась круглыми глазками-клавишами.
Ужас, все, что происходит, ужас. Можно его остановить?
Бомба подложена; разве можно отменить взрыв?
Любовь обняла; разве можно отменить любовь?
«А что они любят? Разве они любят свою страну? Может быть, они любят только самих себя? Может быть… – Ее осенило. – Они любят только свою игру? Ту, в которую играют? Революцию свою? Черную бомбу свою? Черный пистолет свой? Юный, безумный, набитый пулями пистолет?»
Догадка сгорбила ее. Придавила. Мария села на стул.
И так сидела долго, долго.
Глаза ее были открыты, но она не видела ничего.
Очнулась от громкого стука в дверь.
Подошла к двери, качаясь. «Будто самогона василевского глотнула. Хороша».
Не спрашивая, кто, открыла.
На пороге стояла незнакомая, с черной челкой, бойкая девчонка. Глаза у девчонки бегали, играли, две черных рыбки.
– Строганов Петр здесь живет? – затараторила. – Здесь? А, значит, я правильно! Вы тут сгорели, вас трудно тут отыскать! А он дома? Дома?
– Его нет дома, – с трудом сказала Мария. Язык не слушался ее.
– А вы кто ему?
– Мать, – сказала Мария.
– Вот тогда держите! – Черная челка всунула в руки Марии бумажку. – Только передайте обязательно! Ему – явиться в военкомат! Срочно!
И повернулась. И побежала.
И один раз – оглянулась на сгоревший дом, стоящий в грязных снегах, на задворках, и на Марию, застывшую на дощатом обгорелом пороге.
– А вы кто такая? К кому?
– Я… по поводу…
Начальник прекрасно видел – мать пришла.
Сколько матерей, седых, моложавых, распатланных, плачущих, валяющихся у него в ногах, на коленях, умолявших: отсрочку! не надо! болен! не выдержит! там же убивают!.. – видел он! Видел-перевидел…
– За сына просить? – Повертел в руках повестку. Пригладил ладонью лысеющую голову. Потеребил большим пальцем губу. Еще раз измерил взглядом женщину, стоявшую прямо, прямо глядевшую на него. – Ну, так…
Ему не нравился ее прямой, слишком прямой взгляд.
«Просят не так. Не так. И она же не девочка. Прекрасно знает, что просьба… подмазывается. Смазывается хорошо, хорошенько… Толстый слой денег нужен, толстый… Чтобы на всех хватило».
Начальник вздохнул.
И только он хотел что-то сказать ей, как она сама вскинула голову и тихо бросила ему в лицо:
– Сколько?
Она ждала всего чего угодно, но только не цифры, какую он, помявшись, тихо, очень тихо назвал.
Он видел, как женщина медленно, со лба к щекам, побледнела, как плохая белизна катилась со щек – на подбородок, с подбородка – на шею. Как судорожно сжались пальцы. Потом разжались.
Пальцы застегнули пуговицу куртки. Пальцы потеребили кисти шарфа. Пальцы… они говорили все сами, прыгали, кричали, метались, хохотали истерично, смеялись над собой, над деньгами, над жизнью.
А лицо – над шарфом, над курткой, это спокойное бледное лицо – молчало.
Каменно, недвижно.
«Вот каменная баба», – неприязненно подумал начальник.
Он ждал ответа.
– Достану, – коротко прозвучало в душном кабинете военкомата.
И эта тетка, нахалка, вышла, не попрощавшись.
Улица стелилась под ноги хитрым, скользким, черным льдом.
Улица моталась под ногами, качала ее на волнах снега и стылого асфальта, и Мария шла, кривя рот, безмолвно, беззвучно смеясь над собой.
Деньги! Две взятки. Одна – судье – за Петра. Другая – в военкомат – тоже за Петра. Она мать, и она когда-то родила его; но жизнь сыграла по-иному, жизнь стала ему – мачехой, и жизнь подставила его, избила его, выгнала его из родного дома – на мороз; и он, в отместку, избил человека, и он, с горя, купил пистолет; и он, от отчаянья, может убить – так зачем ему было рождаться?
Мария вспомнила, как она рожала Андрея; как Петьку рожала. Так давно это было. И она была другая. И жизнь была – другая. Что же случилось?
«Что же случилось, Господи, со всеми нами?!»
Улица текла под ноги ледяной рекой. Улица несла ее на своем скользком рыбьем хребте. Улица мелькала, скалилась ей в лицо зубами реклам, раззявленными ртами богатых витрин, безумными глазами фонарей. Улица, ты пьяна! И она – пьяна. Без водки – пьяна. Где она деньги возьмет?
Да нигде, нигде не возьмет.
Друг народа… друг народа…
А кто такой – враг народа?..
А есть народ – враг. Чему – враг?.. кому – враг…
…а этим, глянцевым, с фарфоровыми зубами, как у акулы…
…жемчужные лица, прожорливые зубки…
…человек пожирает человека, это же так привычно, так понятно…
…на этой дерьмовой ярмарке платят золотом, платят слитками, платят – золотой, живой кровью за свежатинку, за вкуснятинку… за – человечинку…
– Не-е-ет… владыка не даст тебе. Это я точно знаю. Хотя он – богатый. Владыка… он – не до такой степени христианин… Это все тяжело… это – не объяснишь…
– Отец Максим! Я – отработаю!
Мария сжимала руки, прижимала их к груди.
Она вся превратилась в умоление. В умиление. В дикую, последнюю просьбу.
– Нет. – Священник медленно, как кот, помотал головой. Светло лучилась борода, светло дыбились русые, мелкими пружинками, волосенки надо лбом, уже гармошкой сморщенным от дум и молитв. – Не получится. Это я тебе говорю.
Он вталкивал ей это, вдалбливал, как дурочке-девчонке – терпеливый учитель – в школе.
И Мария вскинулась, как зверица. Священнику показалось даже – на ней дыбом встала невидимая, дикая шерсть. Вот сейчас она превратилась в мать. В дикую, степную, животную, скотью мать, у которой отнимают – на закланье – детеныша.
И она еще не крикнула, а священник уже попятился.
– Где же ваш Христос тогда?!
– Я хочу записаться на прием к губернатору.
– Женщина, вам же говорят: губернатор в командировке! Его месяц не будет в городе!
– Я хочу записаться на прием к губернатору.
– Ну женщина, ну вы просто как глухая! Вам же все уже объяснили! Мы вас только можем…
– Я хочу записаться на прием…
–…записать на прием к его заместителю. Через две недели! Нет, стойте… Через три.
Дамочка со щечками, надутыми, как два воздушных праздничных шарика, пошуршала бумагами на столе.
– Через три – это поздно. У меня срочное дело.
– У всех срочные дела!
Глазки дамочки вспыхнули, как две лампочки в гирлянде на елке.
– У меня очень срочное дело.
Лицо этой женщины, стоящей в дверях, было непроницаемо и неподвижно, слова тяжело, как градины, излетали из ледяного рта.
И дамочка поняла: бесполезно увещевать и врать, не уйдет, пока своего не добьется.
– Ну ла-а-а-адно, – протянула дамочка в нос. – Ну ха-ра-шо-о-о-о. Сейчас… погодите…
Дамочке не по себе стало от каменного взгляда Марии.
Чтобы быстрее избавиться от каменной фигуры в дверях и от этих буравящих, холодных глаз, дамочка для виду еще немного пошелестела бумагами и так же, в нос, протянула:
– На сре-е-е-еду. Вас устроит?
И была среда. И было утро.
И было зимнее, буранное, метельное утро, и была лопата, и был лом тяжелый, и косматая метла тоже была; а потом был горячий чай, и вареная картошка была, и ржаной подсохлый хлеб, и улица была, оттопанная тысячью ног, посыпанная ее, Марииным, дворницким, из ящика, песком; и чиновничий дворец, на излете городского Кремля, над стеклянно-замерзшей рекой, в виду хрустально-звенящих, опушенных инеем берез – был.
И краснобархатная беломраморная лестница вверх, все вверх и вверх – была.
И пчелино жужжащие цифры на дверях бесчисленных кабинетов мелькали.
И вот Мария стояла перед столом, а за столом сидел один из сильных мира, в котором она жила. Еще – жила.
И этот сильный, из-подо лба, сверлил, ощупывал ее глазами.
Она сразу стала неинтересна ему. Бедняцкая куртяшка. Густые космы из-под лыжной шапки. Шарф с кистями обматывает горло. Люмпенша. Пролетарка. За версту видать. Небось, просить пришла. Что будет просить? О чем?
…о чем я буду просить тебя, поганец…
…ведь, по правде-то, и не о чем просить.
…это ты должен меня просить. Всех нас. Чтобы мы – простили – тебе.
– Только не перебивайте, – сказала она вначале.
И тот, кто сидел за столом, поразился силе ее твердого, звучного голоса.
– У нас сгорел дом. Мы с двумя стариками-соседями ютимся в его… в комнатах, что уцелели на пожаре. Мы – это я и мой сын. На сына недавно напали на улице. Избили. А потом повестка в суд пришла. Что это не его избили, а он избил. Судья захотел от меня взятки, чтобы прекратить дело. – Мария произнесла это «захотел взятки» так громко, отчетливо, так внятно-издевательски. – А теперь пришла повестка из военкомата. Я была у начальника военкомата. Он тоже хочет взятки. Чтобы мальчика не взяли в армию. – Это она произнесла еще громче. – Из нашей армии не люди обратно приезжают, а гробы привозят! Я пришла просить у вас денег.
– Что-о-о-о?!
Рот того, кто сидел за столом, округлился. Но Мария не дала ему крикнуть.
Она крикнула это сама.
– Судья хочет пять тысяч долларов! Начальник военкомата – двадцать тысяч! Я таких денег в глаза не видела! Дайте мне эти деньги! Я хочу спасти своего сына! Армия, тюрьма – все равно ему гибель! Я хочу, чтобы он жил! Пожил еще немного! В вашей…
Тот, кто сидел за столом, судорожно схватил телефонную трубку и набрал номер.
– В моей родной!..
– Заберите, пожалуйста, у меня из кабинета… Сумасшедшая…
– Стране…
– Вы тут мне голову не морочьте! Вон отсюда! Это – шантаж!
В кабинет ворвались странные, с огромными, необъятными плечами, люди в темных одеждах, с нашивками на рукавах рубах. Мария почувствовала, как сильные руки толкают, хватают, вцепляются, несут, выносят ее.
2
– Ты мой золотой. Дорогой…
– Ну тише, тише. Солнце мое…
– Дай мне чаю. Горячего…
– Рученьки поцелую… вот так, так… Давай вот сюда. К печечке… Грейся…
Этот огонь. Огонь.
Опять огонь.
Печка, и в ней – огонь, и головня может выскочить, вылететь из дверцы, и…
Снова пожар.
Огонь, пожар, жизнь. Жужжит, поет печь. Огонь у нее, у Федора внутри.
Везде огонь, пока живешь.
Умрешь – зола останется. Пепел.
– Фединька… а правда – в Индии сжигают умерших?..
Федор наливал из-под ржавого медного крана воды в чайник. Вода гортанно, хищно урчала.
– Да ведь и у нас, ха-ха, тоже – сжигают… и урну с прахом в кремлевскую, ха, стену ставят…
– Нет, я про Индию…
Федор поставил чайник на темно-коричневый, проржавленный лист подпечка. Сел на корточки, подбросил в алый зев печи дров; поковырял в жаре, в золотых россыпях кривой кочергой.
– Индия… Машутка… это… А! – Махнул рукой. – Нам не понять. Сжигают, да… и пепел развеивают по ветру, в горах… и из рукава – красных бумажных коней пускают. Это у них называется – конь счастья…
– Счастья?..
Мария повернула руки ладонями к жару печки.
– Счастья, да, миленькая моя!.. В Индии такой бог есть, я говорил тебе – Кришна.
– Кришна, как будто – крыша…
– Это и есть крыша. Крышень… Все покрывает; всех защищает. Он однажды – знаешь?.. со своим дружком Арджуной беседовал… и показал ему – как мир устроен…
– А как показал?..
– Ты грейся, грейся… – Федор встал на одно колено, как гусар, как польский пан в па мазурки, и поцеловал сперва холодную руку Марии, потом ее колено. – Коленочка вот теплая уже… А так – показал! Рот открыл, Арджуна туда заглянул, а во рту – звезды, планеты бегают! Хищные звери ревут! Огонь взвивается, снега хлещут! Люди рождаются… и умирают! И Арджуна – испугался… обосрался просто!..
– Фу, Фединька… ты – опять…
– Все-все-все!.. И Кришна – ротик свой закрыл, и все исчезло… и он – дружку своему – мило так улыбнулся: мол, не дрейфь, парнишка, это все понарошку…
– Ну ты и расскажешь тоже… Сказки твои…
– Это быль, быль, Машулька… – Он прислушался. – Закипает, слышишь?.. поет…
На подпечке заворчал, тоненько засвистел ржавый, похожий на голову рыцаря в медном шлеме, допотопный чайник.
Федор брякнул чашками об стол. Ощупал Марию глазами, как бережными, слепыми от любви руками.
– Что-то ты долго дрожишь, Машаня. Уж согреться должна. Не стряслось у тебя ничего еще?.. такого…
Она подумала: рассказать ему наконец про Степана? Ведь поймет, все поймет… Он – единственный – это поймет… А больше никто.
И про Петра – рассказать…
– Нет. – Тряхнула головой. – Ничего. Все уже стряслось. – Горько улыбнулась. – Расскажи мне лучше еще про древних богов. Когда ты о них говоришь, я их вижу живыми.
– А-а-а, про этих ребят!.. Вот Будда. Он тоже ничего паренек был. По дорогам ходил… под деревом дрых! Как прямо собачка… или волчонок какой. Ложился в пыль – и дрых! И блохи его не кусали!
– Федя, ну что ты, какие блохи…
Она уже смеялась.
– Натуральные! Что, в Индии блох нету, что ли? Всегда пожалста. Будду все любили! И бедняки, и богатеи… и монахи, и бабенки… женщины, Машка, ну не косись ты так!.. это же не матерное слово…
Она хохотала, закидывая голову.
Федор любовался ею.
Она поймала его взгляд. И щеки, шея у нее заалели, как у девочки.
Федор сел на корточки у ее ног. Мария поцеловала его в лоб, потом в ухо, в нос, в глаза.
Она целовала, обсыпала поцелуями его лицо, – так целуют ребенка.
– Маруська… ласкуша моя… – Федор повернул ее ладони к своему лицу, сам уже целовал их, зарывался в них носом. – А что ты думаешь… Христос-то… тоже – странник был! Путник! Всегда в дороге! У Него ноги-то, наверное, такие были – исколотые… израненные… ступни – твердые, как деревянные… все по земле да по земле, по горячей, по пустынной земле… и нигде кружку воды не подадут…
– Ну что ты, Федя, подавали… И даже – хлеба кусок подавали…
– А Он в одной деревеньке – знаешь?.. – водичку в винцо превратил…
– А ты – нам – сейчас – не можешь?.. Не можешь, то-то же… слабак…
Она посмотрела в его близкое, широкое как медная старая тарелка, родное лицо, потом заглянула ему за спину, туда, где на мольберте и на старых столах стояли картины.
Он оглянулся, взгляд ее повторил. Будто солнце взошло на его лице.
– А-а… смотришь. Смотри. – Он всунул в зубы сигарету. – Новые.
Холстик был крошечный, словно мышонок.
Ювелирная работа.
Девочка шла… нет, летела. Была ночь, звездная, синяя, и она летела в ночном небе, и крупные золотые пчелы звезд летели вместе с ней. Она, тонкая, как краснотал, тихо наклонилась в полете, раскинула руки, ловя пальцами утекающий воздух. Юная, с копной сенных волос… Марии показалось – да, растрепанные волосы летящей девчонки пахнут сеном, свежескошенным, разнотравным… Синее тонкое платье летело и слетало с нее, но Федор не показал ее наготу, скрыл в тени, как за тучей, ее маленькую грудь, ее целомудренно сомкнутые ноги. Звезды путались у нее в волосах.
Мария перевела взгляд.
О, большой холст, глазами на охватишь. Женщина, да, это уже женщина, не девочка. С налитой грудью. С налитыми горечью зрачками. Мария заскользила глазами вниз, к ее рукам, ожидая увидеть на руках – младенца… и замерла. Никакого младенца не было и в помине. Женщина, в повернутых друг к другу ладонях, держала… свет. Светящийся шар. Шар летел, вылетал у нее из рук, и она горько, прощально глядела на него, не удерживая его: лети, лети и живи, и умирай. Это твоя жизнь. Это твоя смерть.
– А я думала, это Божья Матерь, – смущенно сказала Мария, обернув маково-алое от жара лицо к Федору.
– Это Божья Матерь, – твердо и тихо ответил Федор.
И заглянул на самое дно Марииных распахнутых глаз.
Последний холст был опять маленький. Маленький и узенький, как… «Как крышка маленького гробика, детского», – смятенно подумала она. И, Господи, да, да, вот же, видно ясно, – на картине был изображен гроб. Черная крышка. Длинная. Узкая. И на крышке – алая, красная свеча. С красным язычком тихого, косого огня. И струйкой дыма от него – вбок, вкось – за край холста – улетающего.
А над свечой – синее, нежное, цвета бледного сапфира, прозрачное небо. Ночь опускается. Снова ночь. Снова – звезды?
Круг замкнулся…
Нет еще, нет…
– Я все поняла, – неслышно сказала Мария.
– Это… это… – Федор отвел руку с сигаретой ото рта. По его лицу внезапно пошли, потекли, как струи дождя, кривые, темные морщины. – Любовь и жизнь женщины, вот какой это хоровод…
Мария встала с маленького стульчика. Подошла к картинам. От них пахло скипидаром, тонко, остро, нежно, и почему-то – перцем и мясом.
«Дура, ты просто хочешь есть».
Она встала перед холстами на колени. Сложила руки лодочкой. Потом сложила пальцы в соленую щепоть и медленно, тихо, едва прикасаясь кончиками пальцев ко лбу и плечам, перекрестилась.
Федор молча глядел, как Мария молится его картинам.
У него блестели глаза.
– Они же недописанные еще, дурашка…
– Я… – Она повернула голову, и ее глаза, полные слез, мазнули по лицу, по груди Федора, как две кисти, обмакнутые в золотую, слепящую краску. – Я сама их допишу, если ты их бросишь…
Федор шагнул к ней. Подхватил ее под мышки. Она послушно встала с колен, потянулась, повлеклась за его руками, к его заросшему, как у старика-лесовика, берестяно-бледному лицу.
– Я ни тебя не брошу… ни их…
Обнял так крепко, что вся кровь снизу, из живота, из подреберья, бросилась, влилась, как вино, как ледяная водка, ей в голову.
И камни ее хрустальной низки, прижатые его шеей, в ее шею больно втиснулись, врезались.
Обнимая ее, обернулся.
– Чайник кипит!
По лицу Марии лились длинными ручьями слезы, обжигая щеки больнее кипятка.
3
Она смотрела на своих стариков молча, отчаянно, а старики, словно извиняясь молча, смотрели на нее.
Наконец она разорвала склеенные губы.
И Лида, поймав, как птицу, ее вдох, засуетилась, заплясала сухенькими ручками, затеребила на животе ветхий, заляпанный жирными кухонными пятнами фартук.
– Как это – не было? Как?!
– А вот так, Машенька, вот так, – старик Матвеев стряхнул с рубахи невидимый пепел, – тебя не было, и Пети не было. Загуляли, видать, вы оба.
Улыбка у него не получилась. Хотя видно было – он очень хотел улыбнуться.
– Двое суток не было, – сказала Мария холодно, твердо. Губы ее тряслись.
– Ну, сутки-другие – это не срок. Разве он у тебя не пропадал никогда? А друзья? А… девочки?..
– Девочки, да, – сказала Мария, – да, девочки. Конечно.
Стянула с себя куртку. Кинула в угол, как мертвого зверя.
Старуха Лида глядела на нее испуганно, жалобно.
– Машечка… А ты… это… к властям не ходила, ну, штобы нас на очередь… на расселенье – поставили?.. Нет?..
– Ходила. – Рот Марии еще сильнее отвердел.
– И как… власти?..
Мария смотрела поверх седой и лысой головы Матвеева. Как в пропасть.
– А никак. Хрен ли я туда ходила. В Кремль.
Старик Матвеев вздрогнул всем жилистым, кощеевым телом. Подбрел, подковылял к Марии на ходулях-ногах. Взял ее костистыми руками за плечи.
– Машер! Ты ругаешься при мне впервые, Машер…
– Простите, Василий Гаврилыч.
Лида ткнула Матвеева сухим кулачком в бок, незаметно.
– Машенька… ты не нервничай. Придет Петюша, придет. А как же, да вот сейчас, скоро, и придет. А ты ляг пока, ляг в спаленке, отдохни.
– У меня предчувствие, – тихо, как для самой себя только, чтоб никто другой не слышал, сказала Мария.
Но Лида, глухая Лида, услышала.
И крепко Марию под локоть взяла.
– Предчувствия наши, доченька, – не верь им! Потому што, миленькая, это мы, только мы измышляем себе… накручиваем… А мы… Кто такие – мы?.. Мы – ништо. Прах. Пыль… Из пыли пришли – и в пыль уйдем… Мы ничего не знаем, что с нами будет завтра!.. Ничегошеньки… А вот Бог – он знает. – Старуха Лида торжественно выпрямилась. Больнее сжала Мариин локоть. – Он – все знает! Только Он один! А не ты! Не я! Не Вася! Не Петя! Только Он! Он все и решит за тебя. Он все тебе и подаст… Он – и поможет… только молись Ему, Маша. Не ленись!.. не гневи Его!.. не сетуй!.. только – молись…
Лида уже вела ее в спальню. Пахло пожарищной, гадкой гарью. Пахло вкусно, тепло – щами. Пахло ее, Марииными, духами. Пахло – их жизнью, медленно, снежно идущей на ущерб.
За Лидой закрылась дверь, и Мария села на кровать и оглянулась вокруг себя.
Словно со стороны, увидела себя, сидящую, сгорбившись, на кровати; увидела свои колени, свои бессильно брошенные руки, увидела все свое тело, уже расплывающееся, но все еще крепко сбитое, крутое, как хорошо промешанное тесто, – рабочее. Голова кружилась и ныла, и она будто сверху видела свой склоненный затылок, свои темные, испачканные сединой волосы, свою шею с хрустальной низкой, подаренной Федором.
«Где Петр. Где Петр. Опасность! Что они делают! Степан в тюрьме. Зачем он в тюрьме? Где Петр?! Я ничего не знаю. Не понимаю. Боже, возьми от меня эту боль!»
Она обняла обеими руками голову. Закачалась взад-вперед.
Встала. Пружины звякнули. Она бездумно выдвинула ящик тумбочки. Она не поняла, зачем она это сделала; рука сама сделала.
И она – увидела.
В ящике лежал пистолет.
«Нет, нет, это просто так, это игрушка…»
Она медленно протянула руку и взяла в руку пистолет.
Пистолет был холодный и очень тяжелый.
Она еле подняла его.
Положила к себе на колени. Смотрела на него.
Не думая ничего, смотрела.
Потом пришли мысли, туманные, плывущие сквозь невыносимую боль.
Он настоящий. Да, да, конечно, настоящий. Это понятно, ведь он такой тяжелый. И что? Это и есть тот самый пистолет, о котором судья говорил?! Да, он. Так и есть. Это он. Значит, все правда. Все правда, а я дура! И мой сын убийца. Или пока еще – нет?!
Пистолет… Красивый. Мальцу хорошо, приятно держать его в ладони. Пальцы сжимать на рукоятке. О… да. Вот так сжать. И правда, приятно. Ты держишь смерть в руке. Чужую смерть. Или – свою?! Не все ли равно. Главное – держишь.
Пистолет. Оружие. У меня в руке – оружие.
И что дальше?!
Как голова болит. Думать. Думать дальше. Выше лететь. Не обрывать… веревку.
Пистолет у меня, и что? Как что? Теперь я могу пойти с ним… Ну, куда, куда пойти?!
Боже, отними у меня мою боль.
А никуда не пойти.
Никуда.
С ним я могу только – уйти.
Куда?!
Не лукавь сама с собой. Говори себе правду. Куда, куда!
Туда.
Туда, откуда не возвращаются.
Она поразилась красоте и простоте этой мысли.
Вот пистолет, и вот моя живая голова. И – живая грудь. Выстрелить туда, где сердце.
Она прислонила дуло к груди. Чуть выше соска. Сердце здесь? Или – ниже?
Выше?
Передвинула дуло чуть выше. Сквозь шерсть свитера не чуяла холод оружия.
Сюда?
Да. Кажется, здесь бьется.
Бьется так, что сейчас выскочит из ребер.
Живой, кровавый комок.
А если она – не попадет?
Если пуля… куда-нибудь между ребрами… в кость… в желудок…
Тогда – что? Спасут?
Ну да, да, кровь остановят и спасут.
И все. У тебя не будет больше другого случая. Надо с первой попытки. Сегодня. Сейчас.
Она, прищурясь, огладила глазами пистолет.
Сжала еще крепче. Пальцы побелели. Тихо, хрипло засмеялась.
Значит… значит…
Значит, надо стрелять в висок.
Ты нажмешь – нажмешь вот сюда, вот сюда – на этот железный гладкий выступ – и все… все… сразу… кончится.
Все твои муки разом оборвутся.
Раз! – как хилая веревка.
Оборвутся – и не вернутся.
Уйдет живая душа. В одни миг уйдет.
Куда, куда она уйдет?!
Знать бы…
Она сжала рукоять еще крепче. Медленно, медленно поднесла к виску.
Кожа ощутила железный холод.
Еще живой – холод. Еще живая – кожа.
Ну, нажми… Еще-еще… Еще…
Как все просто. И, главное, быстро.
А когда она выстрелит – и пуля пробьет височную кость – и ворвется в мозг, разрывая, кровавя его, губя – в этот миг… разве… именно в этот… она не ощутит дикую, страшную, адскую боль?!
Последнюю – боль…
…все на свете когда-нибудь бывает последним.
Первым – и последним.
Если есть первый поцелуй – то ведь есть и последний.
Если есть первая на свете боль – то какой последняя будет?!
…увидела себя в гробу, с пробитым виском.
…с коричневой, темной монетой запекшейся крови на виске, под волосами.
…а голова – разворочена пулей будет или нет?
…тошнотворно…
…парик наденут, закроют, замаскируют… платок повяжут…
…Петю, Петю чтобы не испугать…
…Петя. Стоп. Петя.
Да я с ума сошла. Петя.
Ведь Петя же!
Ах я сволочь. Петя.
Он – не переживет.
Нельзя.
Слышишь, нельзя!
Она медленно опустила пистолет, отвела от виска – на колени.
Положила на колени. Рука дрожала.
Пистолет в руке дрожал крупно, колыхался.
Тише, тише, шептали губы сами себе, тише, тише.
Тише-тише-тише-тише!
Смерть. Смерть. Она рядом. Она всегда рядом.
Она – не только в пистолете, в этой черной тяжелой железяке.
Она – везде. Мы просто не знаем, когда она на нас напрыгнет, сверху, как таежная, веселая сибирская рысь.
На Андрюшу – напрыгнула. На Игната – напрыгнула.
А вот меня и Петьку – пока не тронула.
Пока.
Но, может! Завтра!
Или – уже – сегодня…
Тише-тише-тише-тише…
…говорить со смертью надо тихо. Очень тихо.
Она любит, когда с ней говорят тихо. Уважают. Почитают.
Боятся?! Пресмыкаются?!
Я – не пресмыкающееся! Я тебя не боюсь, слышишь!
…она слышит. Она все слышит.
…она смеется над тобой, слышишь, ты.
…да, слышу ее смех. Ее тихий, страшный смех.
…замолчи! Заткнись!
…милая, страшная, я прошу тебя… не смейся… не смейся надо мной…
Опустила голову низко, низко. Почти коснулась лбом подрагивающих колен.
Пистолет лежал на коленях.
И рука не отпускала рукоять, все сжимала.
Но чуть ослабила мертвую, до боли в костях, хватку.
И на коже дыбом встали все нищие, жалкие волоски.
А что ты можешь сделать – взамен смерти?!
Ты можешь…
Ты все можешь…
У тебя оружие. У тебя – сила.
Хоть на миг. На короткий, бешеный миг. А твоя.
И ты можешь сделать с ней все, что захочешь.
Все, что захочешь, слышишь!
Все!
Подняла пистолет в руке – к губам.
Поцеловала холодную, черную сталь.
Будто в детстве, во дворе, в безумных, бесшабашных играх, снег в валенки насыпан, пальтецо все в снегу, как перемазанное известкой, – из озорства, из любопытства чугунный, черный амбарный замок поцеловала – на морозе.
И губы к железу приварились. И отодрать – только с мясом. С кровью.
И отодрала целующий рот. С болью. С хрясом разрываемой плоти.
А разве душа – вот так – не рвется?!
Дура, что ты, что ты, дура…
По губам текло липкое, соленое. Боль текла.
Облизнула губы.
Закрыла глаза.
Нельзя смотреть. Весь подол юбки – кровью же заляпан, кровью твоей.
И пальцы в крови.
И пистолет – в крови.
В чьей крови – Петькин пистолет?!
Это моя, моя, моя кровь, судьи… Не судите его… Это моя, моя кровь!
Моя… кровь…
С губ капала кровь. Из-под сомкнутых век лилась кровь.
От боли сходила с ума.
Но боль была живая. Значит, жизнь была, шла.
Время шло. Жило. Длилось.
Пистолет – в руках.
И я могу пойти с ним… куда угодно.
Да куда угодно!
Кого – стращать?! Кого – спасать?! За что – бороться?!
У меня в руках смерть. Моя? Чужая? Все равно.
Сейчас уже все равно.
Мы все – на войне.
И война не кончится никогда.
Даже когда мы умрем.
…пойти – в банк.
…войти так вежливо, спокойно. Незаметно. Его в кармане держать. А потом, у кассы – вынуть.
Боже, я схожу с ума!
…я не сделаю этого.
…ты пойдешь и сделаешь это немедленно. У тебя выхода нет.
Выхода – нет?!
…я выбью ногой закрытую дверь. И все равно – выйду.
Не дверь – так окно. Не окно – так об стену голову расшибу.
Расшибу… расшибу…
И больше не будет ничего. Будет кровь и кровавая тьма.
И – красная свеча на черном гробе, да?!
И Федька молитву прочитает, да?!
Федька молитв не знает. Их будет бормотать старуха Лида.
…что ты тянешь резину… что…
…Господи, вспомяни меня во Царствии Своем, что ли…
Сходя с ума от дикой боли, она вышла из спаленки, крепко, хитро держа в руке пистолет. Из кладовки доносился храп. Старики уснули после обеда. Что нужно старому человеку? Тепло и еда. И чтобы живая душа была рядом, развлекала, утешала.
А бомж Пушкин пропал. Сгорел? Или замерз в сугробе?
Куда она идет? Она помнит это? Или нет?
Она пропадет… в сугробе замерзнет… в метели сгинет…
Втиснула ноги в ботинки. Нашла в углу брошенную куртку.
Быстро, будто таясь от кого-то незримого, хоронясь, сунула пистолет в карман.
И так, без шапки – волосы еще густые, сами как шапка, защитят, как шлем, от выстрелов – в метель, в вечер, в снег – пошла, пошла, сначала нетвердо, потом все тверже, непреложней. Вперед. Иди вперед. Снег залечит боль. Метель уврачует раны. Метель забинтует их плотно, крепко, лучше любого врача.
Хрусталем снег набивался в волосы. Твердые, хрустальные шарики.
Седина. Седина. Мария! Серебряная корона твоя! Видишь ее сверху?! Видишь?!
«Слушай, ты шатаешься, будто водки глотнула. А что, если выпить и правда? Для храбрости».
Дверь магазина. Подвернулась вовремя. Значит, это знак. Зайти! О, витрины какие, как в Новый год. Елки искусственные. Дождики, блестки, гирлянды. Снежинки бумажные. Дура, ведь и правда Новый год скоро! Праздник золотой, счастливый.
– Бутылку «Столичной» мне, – сказала Мария. Вынула из кармана деньги. – И что-нибудь из закуски.
– Сальца возьмите, отличное сальце, с перчиком, – запела мордастенькая, как персидская кошка, продавщица.
– Взвесьте кусочек, да, да. И порежьте… да, спасибо.
Вон из магазина. Зубами открыть затычку. Уф, спиртом в нос шибануло! Так, сядь на корточки, да, здесь, прямо за углом магазина, разверни бумажку с сальцем. Душистое, славно пахнет. Ну, давай, Марья! Давай. За твой успех. Это тебе не лопатой снежок скрести! А?!
Уфффф…
Бес-по-доб-но…
…Ах-х-х-х… сальце теперь… ве-ли-ко-леп-но.
Зажевала сало. Перец задрал глотку. Захотелось глотнуть водки еще, и еще.
Она, сидя на снегу на корточках, выпила полбутылки водки и съела все сало.
Почувствовала: все, стоп, хватит, иначе она не дойдет.
Осторожно, аккуратно поставила, ввернула штопором в мягкий рассыпчатый снег ополовиненную бутылку. Найдет бомжик какой-нибудь. И выпьет. За ее здоровье.
…может – Пушкин найдет?..
…найди, найди, Пушкин, водку мою…
Пошла, ей казалось, что твердо, радостно, на самом деле качаясь, ловя воздух пальцами.
И казалось ей: она не идет, а медленно летит.
Стоял, как синее вино в хрустальном графине, синий вечер, будто синий виноград лежал в снегу на рыночных лотках, мерз. Изнутри, как лимоны на синей скатерке с белым кружевом, светились, пылали дома, сыпали искры фонари. Будто из раскрытой дверцы печи, сыпались золотые и красные искры подсвеченного фонарями, веселого снега. Мария шла по главной улице города, по Большой Покровке, и ее губы смеялись отдельно от нее, и ее ноги шагали отдельно от нее; и отдельно плыла в ночи, в снегу ее голая, без шапки, голова, ее больная, огромная, как гора, голова. И рука сама, без ее приказа, сжимала в кармане Петькин пистолет, сжимала, сжимала, будто хотела навек вжаться в ледяную вороненую сталь.
Стоял и колыхался в блестящем сосуде вечер, и его можно было пить, можно было втягивать внутрь и опьяняться им, и Мария понимала, впервые в жизни, как прекрасно быть в последний раз пьяной – такой пьяной, что ни в сказке сказать, ни пером описать, – и пьяные искры золотые, огненные перед лицом летят, из-под ног сыплются зернами на грязную дорогу, на нежный снег. Она шла и взмахивала руками, будто ловила пролетающую мимо снежную бабочку, душу свою ли, чужую, – и пьяно, щербато улыбался когда-то красивый, теперь потрепанный рот, но издали, в витринах, рот и глаза отражались яркие, наглые, пламенные, – и Мария, беззвучно хохоча, подмигивая себе, любовалась собой в качающихся, плывущих, падающих стеклах. Сейчас упадут на нее, разобьются! Убьют ее. А-а-а-ах!
Она выставляла руки вперед, защищаясь от рушащихся на нее стекол, стен, бетонных опор, неоновых трубок назойливых, кровавых реклам, а они все падали и не могли упасть, все валились, все подкашивались, разбиваясь в воздухе, звеня.
Или это звенело бедное, маленькое сердце ее?
Или это звенел черным металлом тяжелый пистолет у нее в кармане?
Носить ребенка в животе… носить пистолет в кармане…
Вечер, неси меня, неси в кармане черном, синем своем… донеси…
Она остановилась. Белое, алмазно сверкающее здание, как огромный торт, громоздилось перед ней, перед ее красным, пьяным лицом. Она наклонилась, зачерпнула горстью снега из сугроба и потерла снегом лицо, втолкнула снег в рот. Проглотила лютый холод.
Холод дошел до сердца, до живота.
– Надо протрезветь, – сказала себе Мария весело, злобно. – Надо! Слышишь! Протрезветь! Быстро! А то тебя не пустят туда.
Она крепко уцепилась за тяжелую, зеленую медную ручку и потянула огромную, тяжеленную, чудовищную дверь на себя.
С двери на нее глядели две вывихнутых головы медного орла. Две башки: клюют туда и сюда. И держит наглая птица что-то в когтях. Что?! Ее душу держит?!
– Каждого из нас держишь, паскуда, – тихо, заплетающимся языком сказала Мария, – каждого из нас…
Ввалилась внутрь.
Внутри было тепло. Горячо.
Два охранника, и оба – с автоматами наперевес, стояли, безмолвно, тупо, два бычка, смотрели на нее.
Мария тряхнула головой, хрустальные белые шарики посыпались в разные стороны с ее волос.
– Здравствуйте! – крикнула она.
И вытащила из кармана пистолет.
И наставила его сначала на одного охранника.
Потом – на другого.
Какие молодые ребята…
Как Петька…
Молодые, и с оружием стоят…
Деньги охраняют.
Чужие деньги!
А разве это деньги народа?!
Богатей – это тоже народ…
Неужели?! Не ври себе. Только не ври себе!
А если рука сорвется, и она выстрелит?! Вот в это, в это лицо?! В безусое, в молодое, еще такое молочное?!
А, отлично, они оба испугались! Побледнели.
Смерть! Я держу смерть!
И они – оба – тоже держат смерть.
Почему они не сдергивают с плеч автоматы свои?! Почему не стреляют в меня?!
– Пустите, – отчетливо, стараясь не плести языком вензеля, сказала Мария. – Выстрелю!
Охранник, не отводя от ее груди автоматного дула, сквозь зубы бросил второму:
– Пусти ее. Не видишь – сумасшедшая. За ней пойдем.
Мария не слышала, что он говорит. В ушах шумно, прибоем, билась кровь. Будто шумела, свистела метель в ушах. Ветер завывал.
Они оба посторонились.
Она взялась за ручку двери.
Иди хорошо. Иди ровно. Ты не пьяная.
Я сейчас упаду!
Ты не упадешь. Ты дойдешь. Считай ступеньки: раз, два, три.
Четыре, пять, шесть, семь…
Пистолет крепче держи! Не вырони.
Восемь, девять…
Тишина…
Оба охранника осторожно, будто охотники в лесу за дичью, шли за ней. Ноги в берцах высоко подымали, будто шли по глубокому снегу, увязали в нем.
Молча шли.
Мария поднялась по лестнице, устланной ярко-красным, кровавым ковром, и вошла в операционный зал. Озиралась. Окошко, да, окошко, где оно, на нем должно быть написано: «КАССА».
Там – деньги.
Ее деньги.
«Наши деньги, сволочи! У нас – отнятые!»
«Почему – у нас? Они просто поохотились… и убили зайца. Или – лося. Или – медведя. Или – птичку-синичку. И принесли домой в ягдташе. И зажарили! И съели. Это – их охота!»
«А дичь – мы, да?!»
Она подошла к кассе. Ноги уже плохо слушались. Не слушались совсем.
Охранники шли сзади, наставив на нее автоматы. Не переглядываясь. Глядя только на нее. Не теряя ее из виду. Каждое ее движение. Каждый шаг.
Мария шагала к кассе.
Шаг, еще шаг, еще шаг.
Кассирша, видя идущую к ней Марию, с ужасом, слегка приоткрыв рот, глядела на пистолет в ее вытянутой руке.
Как это будет? Ты же уже подошла.
Очень просто. Ты всунешь пистолет в окошко и скажешь…
…я вас ненавижу!
…нет, так: дайте мне деньги!
…много денег…
…нет, ты скажешь этой тетке: прости меня, мать, дай мне сколько сможешь…
…сколько не жалко…
…а она тебе скажет, улыбаясь трясущимися губами: на, держи хоть все…
Дуло пистолета торчало в окне кассы.
Напротив бледного, как снег, лица кассирши.
– Мне нужно двадцать пять тысяч долларов, – сказала Мария, чувствуя, как мятно, чугунно немеет, холодеет язык. – Бы… стро.
Кассирша увидела охранников, с оружием, за спиной Марии.
Ее глаза заметались. Кудряшки на лбу затряслись.
Она старалась не глядеть на охранников. Глядеть только на Марию.
Глядеть в дуло ее пистолета.
– Вам в рублях можно? – фальшивым, слишком бодрым голосом сказала кассирша.
– Можно в… в ру… блях…
Кассирша полезла в ящик, где лежали купюры, продолжая глядеть на Марию, на пистолет. Глядя на Марию, не глядя на деньги, стала бросать к окошку кассы пачки, перехваченные банковскими бумажными лентами. Ее губы шевелились: она считала пачки.
Раз, два, три, четыре…
…десять, одиннадцать, двенадцать…
– У вас сумка есть, куда будете складывать наличные? – звенящим, отчаянным голосом спросила кассирша, продолжая швырять пачки.
Мария, покопавшись в кармане, медленно вынула магазинный пакет.
Пакет еще пах салом, перцем и водкой. Она пьяно улыбнулась и шумно выдохнула.
– Вот.
– Складывайте, – проблеяла кассирша.
И Мария смотрела на толстые пачки через толстое стекло и думала: вот это, это жизнь моего сына, это вся его жизнь?
Бросай. Швыряй. Ты все потом сосчитаешь. Сейчас все равно не сможешь.
А если эта баба обманет тебя?!
Никогда. Ей нет резона. Она под дулом.
Под твоим дулом.
Ты – народ, и она – народ.
Но вы обе служите разным господам.
Она – тому, двуглавому, клювастому. А ты – тому, что далеко… в облаках… там, за твоей смертью.
Продолжая держать пистолет так же высоко, против лица кассирши, Мария уцепила пакет за ручку пальцами той же руки, что держала оружие, а другой рукой начала слепо, так же не глядя на деньги, как не глядела на них и кассирша, сгребать, выгребать из окошечка и кидать в пакет толстые, крепко перехваченные крест-накрест бумагой, пачки русских купюр.
«Как их много… Они не кончатся…»
«Кончатся, сейчас кончатся. Всему есть конец».
Она услышала сзади шорох, но уже не успела оглянуться.
Охранники налетели, вышибли у нее из рук пистолет, и он с громким звяком, с лязгом упал на мраморный, гладкий как лед пол и откатился в угол зала. Заломили ей руки за спину.
Пакет с купюрами лежал у ее ног на полу.
На ледяном мраморе…
На льду…
…я не утону, нет, Степка, нет…
…и ты – не утонешь…
…этот лед крепкий, мы перейдем реку…
– Ты! – крикнул охранник, тот, первый, что первым посторонился, белобрысый парень с молочным пушком над губой. – Ты! Спокойно! Не дергаться!
Холодом, льдом сцепило запястья.
Она еще не поняла, что на нее надели наручники.
Выдохнуло густо, пьяно, отчаянно:
– Р-ребята… Ну что вы так грубо…
– Кто грубый, – тяжело, хрипло дыша, выдохнул ей в щеку, в ухо, молоденький охранник, – там разберутся. Разберутся с тобой! Игорь, ты вызвал машину?!
– Не ори, вызвал…
– Ба, да она пьяная! Разит от нее! Все ясно…
Мария смеялась пьяным, широким как снежное поле, безумным лицом.
За квадратным стеклом кассы, закрыв ладонями лицо, навзрыд плакала кассирша.
4
– Зачем вы это сделали? Вы можете объяснить?
Она смотрела в лицо говорящего с ней – и не видела его.
Кто говорил с ней? Человек? А может, зверь?
А может, призрак?
Все мы – призраки. И люди – призраки, и боги – призраки.
Будда, Будда, он спит под деревом, под березой, и по нему прыгают кошки и блохи их…
Иисус, вот Он отхлебывает вино из глиняной крепкой посуды, свое же, родное, самодельное, из воды сделанное вино…
Чудо, чудо…
– Чуда не будет, – сказала она вслух.
– Что, что? – переспросил тот, кто говорил с ней. – Что вы сказали?
«А тебе не один ли хрен, что я сказала? Ты же все равно не услышишь».
Мария стояла перед ним, а он сидел.
– Откуда у вас пистолет? Вы купили его? Вы можете назвать мне адрес, где вы купили его? Вы можете назвать мне свое имя? Адрес? Где вы живете…
Он говорил, говорил, говорил, и у Марии начала нежно, бесповоротно кружиться голова от потока его никому не нужных слов.
Она взяла себя обеими руками за голову.
…говорил, говорил, говорил…
…жужжал, жужжал, летал над головой…
…кружился…
…убить его. Прихлопнуть.
– Позвоните, пожалуйста, судье Черепнину. Пожалуйста, – сказала она, будто размахнулась и бросила камень в ледяную реку, в полынью.
И круги пошли по черной воде.
В комнате, где она сидела, ничего не видя, не слыша, дремала, припав затылком к холодной стене, резко, хлопком выстрела, стукнула дверь.
Мария вздрогнула и выпрямилась.
Ей почудилось: выстрелили в нее.
«Почему же я еще не умерла?» – спросила она себя.
Перед ней стоял судья.
– Марья Васильевна, – услышала она над собой тихий голос. – Что ж это, Марья Васильевна, а?
Она подняла голову.
Перед ней стоял судья Черепнин.
– Ну не ожидал, Марья Васильевна, не ожидал я такого от вас…
Яблочные щечки судьи, казалось, подрагивали от огорченья.
Мария водила по курчавым, черно-седым волосам, по румяному сытому лицу, по пухлым, почти дамским, толстопалым ручонкам, по лацканам двубортного черного, с искрой, пиджака слепыми глазами.
– Марья Васильевна, вы слышите меня?
– Да, – разлепила она присохшие друг к другу губы.
– Вы ведь не сами сделали это? Вас кто-то заставил?
– Сама.
Ее голос отдавался у нее в ушах.
– Ну, вот глупости! Вас явно кто-то заставил… шантажировал, может быть. Ну что вам от меня-то скрывать! От меня-то!
Боль пробивала двумя копьями, с двух сторон, виски.
– Мне нужны были деньги. – Глаза не видели ничего, они были слепые, наполненные до краев, как водкой – стопки, лютой болью, но она все равно подняла их и поглядела ими, незрячими, судье в румяную рожу. – Вам отдать. И – в военкомат.
– В какой военкомат?! – крикнул судья.
Мария улыбнулась.
Она не видела, как Черепнин густо, медленно, позорно заливался краской, как школьник у доски, что не выучил урок.
Она ничего не видела.
Может, она ослепла от плохой, паленой водки.
«Водка бывает или хорошей… или очень хорошей… плохой – не бывает…»
За стеной все звонил и звонил телефон, буравил черепную хрупкую кость.
5
Прошло еще время. И протянулось пространство.
И глаза были слепы, а уши – глухи; и, странно, нового ничего не происходило, и комната была точно та же, и жесткий стул был точно такой же; и крашенные дикой зеленой краской стены точно так же наваливались, давили со всех сторон, и телефон, проклятый телефон все так же длинно, бесконечно звонил за стеной.
И пахло старыми бумагами, и старой пылью, и старым сырым деревом от старых шкафов; и ничего, ничего нового не было, нигде и никогда, все было старое, и она сама тоже была старая, старая, как эта казенная комната, как этот дом, как этот пыльный тюремный мир.
И снова стукнула, как выстрелила, дверь, и в дверь вошел человек.
И не надо было Марии поднимать глаз, чтобы увидеть, кто это пришел, стоит перед ней.
Она это знала.
– Я выкупил тебя, – сказал сверху, над ней, голос судьи. – Ты мне теперь должна. Мне. Лично.
«Почему он называет меня на «ты»? Что случилось? Что значит – выкупил? Я же не вещь, я не в ломбарде…»
Глаза стали видеть. Уши – слышать.
И боль снова накатывалась и заслоняла от нее все слышимое и видимое.
– У меня нет денег. Нет. Вы же знаете.
Она глядела на него снизу вверх, сидя на стуле, держась за стул обеими руками, боясь упасть.
Судья смотрел на нее сверху вниз.
Он смотрел на нее, как мышь на крупу.
– Нет?
Насмешка хлестнула ее по лицу колючим снегом.
Снег, снег! Ее снег! Она сегодня не вышла на участок!
Снег, ее рассчитают… Ее – может, уже уволили… Выгнали.
Снег, милый, любимый, единственный…
Мария встала. Ее лицо оказалось рядом с румяным, плотоядным лицом судьи.
– Вы на машине? – коротко спросила она.
– Да.
– Идемте.
– Как скажешь, – красными, вывернутыми, сладкими губами усмехнулся он.
Кожа сиденья чернела перед глазами. Кожа пахла убитым зверем. Машинным маслом. Мужским парфюмом. Кожа пахла ковыльной степью, и пассажирской блевотиной, и бабьими кружевными, несвежими трусиками, и девичьими кровавыми прокладками, и дорогим коньяком; кожа пахла живой человечьей кожей, свежесодранной, солено-красной. Кожа пахла вдохом и выдохом, вдохом и выдохом, вдохом и…
Кожа пахла сначала жизнью, потом презреньем, потом – отвращеньем, потом – землей, потом – слепотой и смертью.
Кожа пахла чужим потом. Слезами. Мазью, которой, рыдая, мажут старые болячки. Кожа пахла ребячьей замурзанной щекой. Грязными детскими локтями.
Кожа пахла кобурой пистолета, но он ведь был без кобуры, тогда почему же?
…пахла болью, просто болью, просто ужасом…
…чужой слюной, чужими деснами, чужим юрким, рыбьим языком…
…вдохом и выдохом, жарким вдохом и выдохом, вдохом и выдохом, и…
…пахла чужой холодной спермой. Густой. Белой.
…белой, как снег. Как сгусток метели.
…у тебя на губах. У тебя во чреве.
…ты больше не забеременеешь, ты старая; а может, ты чудом зачнешь и понесешь, и понесешь в себе лютый, вечный снег?
Судья Черепнин застегивал брюки. На его сытом, разгоряченном потном лице светились, сливались отвращение и довольство.
– Тебе было хорошо? – спросил он.
Мария лежала вниз лицом, на сиденье, обитом черной кожей.
Хорошо, что он не видел ее лица.
Сиденье было подло-влажным. Испачканным ее слюной. И его спермой.
Она вытерла мокрые губы, соленые щеки о мягкую черную кожу.
Судья вылез из машины. В салон хлынул холод. Судья смотрел из ночи, из свежести и вихрящегося снега на лежащую в машине вниз лицом женщину, со спущенными колготками, в грязной юбке; смотрел на белеющие в полутьме ее ягодицы, на ее простецкие, без рюшек, сердечек и кружев, приспущенные белые трусы. Кажется, он порвал их. Эта женщина когда-то, давно, учила его сына.
– Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, – пробормотал он, затягивая ремень брюк. Отряхнул ладонями колени. – Эй! Марья Васильевна! Вставай. Потешились, и будя!
Она лежала – все так же: вниз лицом.
ИЗ КАТАЛОГА Ф. Д. МИХАЙЛОВА:
«Письмена» – одна из живописных загадок Михайлова. Ясно одно: пластическим прототипом полотна послужила обыкновенная кора дерева – содранная с дерева, обмакнутая в синюю краску и наложенная на холст. На отпечатке этой живой коры Михайлов и начал работу над картиной. Она не завершена; возможно, в этом и заключался замысел художника – наметить, показать – и тихо уйти.
В пряной, вечерней синеве прозрачного неба летят фигуры. Летит женщина, ее платье развевается, мы не видим ее лица. Летит неведомый маленький зверек. Летит круглая маленькая планета, за ней другая. Летят по ветру сухие листья; а может, птицы. Летит, раскинув руки, человек – это мужчина, он в штанах и сапогах, и его лицо повернуто к нам, мы различаем длинные волосы, развеваемые ветром, усы и бороду. Глаза мужчины закрыты – он не глядит на мир, который покидает.
Летящие в небе люди – это и есть письмена. Нами, людьми, Бог пишет книгу жизни; и стирает письмена, чтобы начертать новые.
Внизу, на земле, сгорбившись, сидит маленький мальчик. Он сидит, согнув колени, взяв себя рукой за пятку. Он не глядит в небо. Он глядит на землю.
Он что-то пишет пальцем на земле».
ИНТЕРМЕДИЯ ГЛЯНЦЕВАЯ РЕКЛАМА. ОДНА
Они все думают – вот, я классно живу.
Думают: я лучше всех живу! Я – охеренно живу!
Ни хера я прекрасно не живу.
Я, может быть, вообще – не живу!
А что, что?!
Что я делаю тогда?!
У меня лучшее шматье. У меня лучшие мальчики. У меня лучшие девочки. У меня в друзьях – в бойфрендах – в любовниках – в любовницах – лучшие, богатейшие, знаменитейшие люди мира. У меня роскошные замки: один – под Москвой, другой – в Анталье, третий – на Гавайях, четвертый – в Сен-Тропе. У меня денег – на счетах – в банках русских, американских, швейцарских – куры не клюют!
И что?! Какого хуя мне не хватает?!
Мне…
Я умираю.
Я медленно, но верно умираю.
И я сама понимаю это.
Этого не понимает никто.
Никто, слышите! Никто!
Чертова страна. Блядская страна. Никто в моей стране не задает себе вопрос: откуда у блестящей, золотой Аглаи все это. Все ее замки! Все ее привилегии! Все ее охуенное бабло!
Ну, а если кто и задает себе такой вопрос – хули на него найдешь ответ!
Потому что ответа – нет.
И я, я знаю это.
Потому что я сама ответа не знаю!
И это самое страшное.
У-у-у! У-у-у-у-у!
Никто из вас, суки, не видит, как я вонзаю свои длинные ногти себе в ладони. Как сжимаю кулаки, и кровь из-под ногтей течет.
Из-под моих кащеевых, ведьминых ногтей.
Ах, великолепная Аглая! Вы божественны! Вы лучшая блядь на свете, потому что вы смогли сотворить такое, такое! Что на земле не мог еще никто и никогда!
Вы – полземли под себя подмяли! Полпланеты уделали! Вы полмира накрячили, и вас, золотая дама, вас – еще до сих пор – в тюрьму не упекли – и, блядь, не расстреляли!
А пулька, пулька-то по тебе чья-то плачет. В чьем-то стволе.
Господи! Я не верую в Тебя. Господи! Прости мне, что я не верую в Тебя.
Господи! Ну может, когда-нибудь, когда-нибу-у-у-удь… поверю!
А если никогда?!
Ты меня не найдешь. Ты кинул меня. Ты отвернулся от меня.
Пуля, пуля моя! Может, ты сама найдешь меня!
А что, если мне купить – пистолет?
Что, если мне и правда купить, я не шучу, нет, пистолет?
А что, это классная мысль. Первая твоя дельная мысль, Аглая.
Купи ствол – и вставь его себе в рот, как железный хрен. И гладь, нежно гладь потным горячим пальцем спусковой крючок. И думай, в этот момент думай о чем-нибудь хорошем.
О том, как ничтожна жизнь. О том, как прекрасна, как упоительна смерть.
Все умрут. Я тоже умру.
О, блядь, я тоже умру! Рано или поздно – умру!
Так лучше рано. Лучше – я сама.
Хороший ствол надо купить! Самый лучший! В мире!
Так же, как я – самая лучшая.
Я лучшая, лучшая, лучшая!
Но все равно страшно, страшно, страшно, стра-а-а-а…
Такой – меня никто не видит. Такая – я только сама с собой. Одна. Когда меня никто не видит. Сейчас повою. Сейчас завою. Меня никто не слышит. Я одна. Одна.
У-у-у-у-у!
А-а-а-а-а!
Как хорошо кричать. Как хорошо кусать пальцы. Кусать кулаки. Но я ведь не пьяная. Я ведь не пьяная, правда?! Нет?! Да?!
Черт! Может, и правда выпить?!
Так худо мне, так херово, что… сейчас… полбутылки выпью…
У-у-у-у-у…
…вот так. А-а-а-аф-ф-ф-ф! Бля-а-а-а-а…
…водка бывает или хорошей, или…
Ну как? Отпустило? Полегчало слегка?
Ни хера.
Вся моя чернота – со мной. И никуда, никуда из меня не уйдет, я знаю это точно. Она уйдет только вместе со мной.
Где ломтик хоть чего-нибудь, а?! Ананаса… мясца… виноградинку хоть, кинуть в рот… икры ложечку…
Иначе я… умру… с этой водки хуевой…
Я… умру… и меня… не спасут…
А-а-а-а! А-а-а-а-а…
Плачь, плачь, Аглая. Плачь, дура, золотая голова. Плачь, блядь!
Ты-то знаешь, о чем плачешь. Отчего плачешь!
Оттого, что ты никогда, никогда уже, слышишь, блядь, никогда, ни при какой погоде, нигде, ни в России, ни в какой другой стране, никогда, слышишь, никогда никого не полюбишь.
Да ты и себя – не любила-а-а-а!
Как это?! Как – не любила?!
Да я себя только и любила! Себя только и обихаживала! Себя только…
Врешь. Врешь ты все сама себе.
Ты не себя любила. А свое тело ублажала. Свою рожу кремами натирала. Свои подмышки брила! Свои груди, свои бедра в бархаты-кожи затягивала! Свои ноги – в колготки всовывала! В сапожки из кожи неродившихся телят! Тампоны – в свою пизду – втыкала!
Ты только свое тело…
А свою душу…
Ты… душу свою…
А может, и нет у тебя ее, души-то, Аглая?
А как же ты, без души-то, будешь умирать?!
Вот купи пистолет – и обойму к нему, главное, купи – тогда и посмотрим.
Есть у тебя душа или нет.
А сейчас прекрати реветь. И кричать. Лучше выпей. Выпей еще, еще, ну вот так, ну. Без закуски херово?! Без закуски лучше всего.
ЧЕРНЫЙ КРИК. ОДНА
Ну что! Давай подведем черту. Бабки подобьем, что ли.
Я одна. Меня сейчас никто не видит. И никто не слышит.
К чему была вся моя жизнь? Зачем меня мои родители родили на свет? Зачем я сама родила двух детей, и один погиб, и мужа нет, и второй сын – куда он идет, куда уходит? Ну, пройдем мы по этой земле, и вот она, черная яма; и мы туда свалимся, как все люди, в свой черед.
Так зачем же тогда жизнь? Зачем – жить?
Для любви? Но она проходит. Что такое любовь? Может, это просто забота друг о друге, вот как я о Феде забочусь, о Степке… заботилась? Да и забота – это ведь не любовь. Это – нагрузка, это – повинность: надо, надо. Надо позаботиться, надо прибежать, покормить, обласкать, иначе без тебя – помрут.
А зачем ты продлеваешь им жизнь? Зачем они – тебя – едят?
Ты что, хлеб, что ли?
Человек человеку – хлеб…
Человек – человеку – хлеб!..
Человек человеку – хлеб, фу, черт, как это здорово сказано. Это я придумала, Машка Строганова. Жаль, я не писатель, чтобы это в книжке написать, а потом бы меня читали в школах и цитировали. В хреновых сочинениях, пятьсот рублей штука, спасите моего ребенка, завтра экзамен, заверните, пожалста…
Все – хрень. Все – чепуха. Все пусто.
И в этой пустоте мы плывем, барахтаемся.
Нет любви. Нет любви! Я притворяюсь только, что люблю.
Что – люблю Петьку, Степку, Федьку, стариков, что Пушкина любила, ах, ласковая Машер, твою ж мать, печеньице ему в пакетике носила.
Ты! Слышишь! Это – не – любовь!
А что, что, что это?!
А пустота. А – чтобы не скучно было.
Чтобы не так скучно было умирать.
Потому что умирать всегда скучно и пусто. И обманываешь себя. Создаешь себе такую обманку: вот я люблю, вот я ухаживаю, вот меня ждут, вот я ути-пути…
А на самом деле?!
Что, ну что, ну что на самом деле?!
Гляди прямо внутрь себя. Говори себе все прямо. Не лавируй. Не ври себе.
На самом деле – каждый одинок.
И каждый – будет умирать в одиночку.
А то, что люди на миг, на миг единый на земле бывают вместе – рядом – дышат в лица друг другу – это не любовь. Это просто мы так от ужаса одиночества спасаемся. На миг. На миг один.
И все?! Все так… страшно?!
Но я не хочу. Я не хочу так!
…но ведь так оно и есть. Это правда.
Нет! Это не правда! Есть последняя правда! Последняя – истина!
Истина, ну пожалуйста, ну милая, родная… где ты! Какая ты!
Откройся мне!
Боже, открой мне, открой…
Пошла ты на хрен, такая правда. Пошло ты, одиночество.
Федя, Фединька, прости. Петюшка!.. Прости меня. Боженька, прости меня тоже. Простите меня. Я больше не буду. Родненькие мои. Вы же у меня есть. У меня-а-а-а… Есть любовь. Есть. Ну как же без любви. Без нее – ничего ведь не может быть… ничего… никто… и никогда… никогда… Я дура. Ну, дура я, что с меня возьмешь… Ду-у-ура-а-а-а… Старое базло, седая тетка, дворничиха-а-а-а… а-а-а-а… а-а-а-а-а…
Глава седьмая
«Въ царствование императора Павла входитъ въ моду дорогое изобретение французскаго кулинарнаго искусства, называемое roti a l'imperatrice. Рецептъ этого блюда заключается въ следующемъ: возьми лучшую мясистую оливку, вынь изъ нея косточку, и на место ея положи туда кусочекъ анчоуса. Затемъ начини оливками жаворонка, котораго, по надлежащемъ приготовлении, заключи въ жирную перепелку. Перепелку должно заключить въ куропатку, куропатку въ фазана, фазана въ каплуна и, наконецъ, каплуна въ поросенка. Поросенокъ, сжаренный до румянки на вертеле, даетъ блюдо, которое чрезъ смешение всехъ припасовъ по вкусу и запаху не имеетъ себе подобнаго. Величайшая драгоценность въ этомъ блюде – оливка, которая, находясь въ середине, напитывалась тончайшими соками окружавшихъ ея снадобий.
Иногда повара, для смеху или же на счастие, клали въ оливку не кусочекъ сочнаго анчоуса, а жемчужину. Тотъ, кто при трапезе находилъ въ блюде жемчужину, считался избраннымъ счастливцемъ…»
«Какъ ели встарину». Из книги очерков и рассказов «Старое житье», собранных М. И. Пыляевым, СПб, 1897Вы когда-нибудь слышали о СЫРЕ ИЗ ОРЕХОВОГО МОЛОКА?!
СЫР ИЗ ОРЕХОВОГО МОЛОКА – любимое блюдо АГЛАИ СТАДНЮК!
Она удивляет нас ДНЕМ И НОЧЬЮ!
Она удивила нас тем, что оказалась ГЛАВНОЙ ГЕРОИНЕЙ скандальнейшего романа великого бразильца ДИЕГО ДЕ ФАЛЬИ «ШЛЮХА ИЗ САН-СЕБАСТЬЯНА»!
«Вы не боитесь, что вас теперь будут называть шлюхой?» – спросили мы ЗВЕЗДУ.
«Не боюсь! Все королевы – шлюхи, а все шлюхи – королевы!» – гордо ответила нам БЕСПОДОБНАЯ АГЛАЯ.
Что же королева предпочитает на завтрак?
Конечно же, СЫР ИЗ ОРЕХОВОГО МОЛОКА!
А ЕЩЕ ЧТО? Ведь это так интересно твоей верной свите, о королева!
«Еще? О, ЕЩЕ… ЕЩЕ И ЕЩЕ… молоко моих любимых молочных ЖЕРЕБЦОВ…»
ТЫ самая великая ШЛЮХА мира, Аглая. ЕЩЕ!
1
– Машер, ах, голубушка моя… Явилась!.. Машер, где ты была?!.. Ни Пети, ни тебя… Мы тут уж заволновались – не в больницу ли попала…
– Машенька, милашечка… Ну што ж ты, разве можно так стариков пугать…
Мария обнимала их обоих, старика Матвеева и Лиду. Ей казалось – она не должна их обнимать, потому что у нее руки грязные и вся она – грязная.
Лида стояла перед ней в ночной сорочке, дрожала, притискивала к высохшей груди костлявые руки. Старик Матвеев стоял в накинутом на плечи длинном халате; из-под халата торчали худые, бледно-желтые щиколотки. Когда-то он на коне, в сапогах со шпорами…
«Что ты все о коне да о коне его. Кости коня того давно уже в земле истлели. Да и сам Матвеев скоро в землю сойдет».
«Господи, зачем мы проходим сквозь время?»
– Ничего, – выдавила она, – ничего. Я же пришла. Ничего.
Обвела взглядом кладовку. Велосипедные спицы пробежались по глазам, замелькали.
Она ухватилась за Лиду, чтобы не упасть.
Старуха поддержала ее, прижала крепко, как мать прижала бы, к себе.
– Што, Машенька?.. Што?.. Плохо тебе?..
– Нет. Ничего. Где Петя? Он… приходил?
Старики переглянулись и затрясли головами оба, вместе.
– Нет, нет! Но… придет! Придет, конечно!.. Ты – не волнуйся только!..
– Ну вот, вам можно волноваться, а мне нельзя…
– Машер, а ты знаешь ли, душенька, что выборы – завтра?!..
– Што ты, старый, уже – сегодня…
– Ах, Лидусик, прости, да, уже – сегодня… Город как с ума сошел… Все кипит…
– Машечка, да ты что молчишь?.. Што стоишь-то, лапуся, раздевайся… Дай я сама тебя раздену…
За окнами, как белая каша, рисовая, разваристая, клокотал, кипел снег в черной кастрюле ледяной ночи.
Петра не было.
Старики сами приготовили ей поесть; Василий Гаврилович сам принес ей тарелку с едой в спаленку, а она лежала на кровати, не в силах была голову поднять.
Очень, очень болела голова.
«Лечение тоже денег стоит. А если – операция? Огромных денег. Нет, не думать. Не думать. Лучше – поесть».
– Спасибо, Василий Гаврилыч… Вкусно пахнет…
Старик Матвеев сел на край кровати и смотрел, как она ест.
А она ела – и не понимала, что она ест. Просто – глотала.
– Спасибо, спасибо…
– Ну-ну. – Матвеев взял пустую тарелку у нее из рук. Глядел, как она вытирает рот ладонью. – Не благодари. Это мы – тебя – должны – благодарить…
Зачем-то низко, церемонно поклонился ей.
Петра не было.
А ночь шла и проходила.
И уже уходила.
И было утро.
Утро, в которое народ должен быть выбрать свою новую власть.
Ему так казалось, что – должен был выбрать.
Зачем город кипел? Зачем – кричал? Зачем по улицам несся куда-то оголтелый молодняк, и человечье стадо опять, в который раз, верило, что оно само, без указки, может что-то важное, верное сделать? Зачем на стенах домов висели, яростно били в глаза красные, черные, синие, белые плакаты? И буквы, намалеванные прямо на грязных стенах, кричали в изверившиеся души: «ВСЕ – ЗА ТОГО!», «ВСЕ – ЗА ЭТОГО!»
Зачем…
Да ни за чем. Потому что так требовал человечий обычай.
Общество по-прежнему было неравным, хоть ему и врали, что все в нем равны. Общество кипело и кряхтело, бурлило и растекалось разваристой кашей, из ночной черной кастрюли, по белой ледяной плите раннего утра. Кремлевские башни кирпично, грязно краснели. Может быть, от стыда.
Люди верили в то, что это они, именно они выберут сейчас, сегодня свою власть; и они шли опускать в урны бумаги, на которых царапали ручкой свою власть и волю, – бедные, они и правда свято верили в это; и, опустив бумагу в черную щель, прорезанную в дурацком квадратном ящике, тут же, рядом, покупали в буфете дешевые пирожки и дешевые коржики, дешевые сосиски и дешевую водку; и, взяв маленьких детей на руки, а большеньких – крепко уцепив за руки, за сладкие от леденцов ладошки, выходили с покупками и детьми на улицу, и весело шли домой, думая: вот выбрали мы нашу власть! Ту, какую мы хотели! Мы, народ!
И дети жевали пирожные. И родители отхлебывали пиво из горла. И водку – на морозе – тоже из горла. И закусывали тут же, на морозе, сырыми сосисками.
А что, ребята?! Разве плохо? Водка есть, сосиски есть – и дешевые! – да разве ж это плохо?! Хорошо живем! Живе-о-о-ом!
А эти… Что – эти? Чем – недовольны?!
Молодые, дурачье, вот и недовольны. Вкалывали бы лучше! Работали бы! Сейчас все могут заработать деньги! И ха-ро-шие деньги! У кого на что мозгов хватает!
Знаешь, есть такая пословица: если ты такой умный, почему ты такой бедный, ха-га-га-а-а-а?!..
А потом был вечер.
И была ночь.
И перестал кипеть и волноваться глупый город. И затихло все.
И то, чего так ждали, кто жадно и жарко, кто – страшась, затаившись, – не произошло.
Никто никого не перестрелял. Никто не побил витрины богатых бутиков и окна богатых особняков. Никто не поджег сверкающие богатые машины, стоявшие под снегом, на морозе, без гаражей. Никто не высыпал на ночные улицы, вопя: «Долой! Ре-во-лю-ци-я-а-а-а-а!»
Никто – не восстал.
И была та же власть.
И был тот же мир.
И ничего, ничего не изменилось.
Весь день выборов Мария пролежала на кровати в спаленке. Даже буржуйку не топила.
Она не спала. И не бодрствовала. Она находилась между сном и явью, будто лежала не на кровати, а в воздухе между полом и потолком. Перед закрытыми глазами мелькала ее метла и лопата, потом они размножились, метлы и лопаты, замелькали чаще, утомительнее; она зажмурилась и прошептала: «Петя, Петя, ну где же ты, помоги мне, я не могу… разбить этот лед…»
Лом, она опять колола ломом лед, но уже невидимыми, невесомыми руками; будто видела, сквозь кожу рук, свои кости, скелет, а плоть была прозрачна, и крепкие еще кости плотно сжимали тяжелый чугун, и врезался в лед острый лом, будто в чье-то ребро, в подреберье. И брызги летели.
Далеко, в кладовке, радио хрипело что-то бодрое про выборы.
Сколько голосов насчитали… сколько… сколько…
Руки сами взмахивали, лом сам врезался в железный лед.
«Бей, бей, скелет… Бей, скелетик… Когда-то сам – под лед – ляжешь… Кто разобьет, разроет тебя?.. и когда…»
Мария встала с кровати.
За окнами уже было темно.
И в спаленке было темно.
Сидя на кровати, одна, она сказала себе ясно, громко:
– Пока я еще жива – надо что-то делать. Надо.
«По дороге к Амстердаму я жива, пока еще жива…» Глупая хриплая песенка, которую она однажды услышала из глотки радио. И запомнила, ты гляди, надо же. Девочка какая-то пела. Хрипло пела, будто пьяно… как все они…
«Они тоже хотят иногда быть пьяными, как и ты. Они – молодые. И хотят быть всегда молодыми. Они еще не знают, что это – не навечно».
Она двинула ногой, нащупывая ботинок – и нога ударилась обо что-то твердое под кроватью.
Мария встала на колени. Вытащила из-под кровати ящик.
Ящик битком, доверху, был набит газетами.
– О, газетки, – радостно, опять громко, как глухая, сказала Мария, – вот буржуечку и потопим… На растопку – хорошо…
В глаза ей ударил черной кровью жесткий, квадратными буквами, заголовок:
«ДРУГ НАРОДА-2»
Под сердцем стало тяжело, горячо. Она встала с колен. Озиралась. Увидела корзинку, в которой она с рынка картошку иной раз таскала. На дне корзинки лежало несколько картофелин; одна уже начинала прорастать. Мария вытряхнула картошку прямо на пол.
Потом присела на корточки – и вывалила из ящика все газеты в корзину.
О, чудно на улице, чудно! И ветер бьет в лицо. И тьма, и фонари. И трамваи гремят, как бубны, весело так! И откосы все в снегу, в ярком, сверкающем, алмазном снегу! Чисто, снегом все умыто, спасибо Тебе, Боже. Глядишь Ты из черного неба на наши дела людские! На пошлые, гадкие наши дела! И не вырвет Тебя! И не сблюешь Ты на нас, дураков, идиотов…
Грохочут трамваи. Горят умалишенные, слепые фонари. И ты идешь, как слепая, слепая от радости, по темному, алмазному городу своему. И – люди навстречу тебе! Кто – тощий, будто вобла, пополам можно перекусить; кто – жирный, катится колобком, довольный, воротник меховой блестит, руки в перстеньках золотых. Да ведь на рынке, на заречном рынке за гроши, у цыган, перстеньки-то купил! А врешь, что золотые!
Так все люди – друг другу – врут. Всегда!
И – друг другу – ложь за правду продают. Всегда!
А правды – что, нет?! Где правда?! Где?! Где?!
Иди, Мария. По дороге к Амстердаму ты жива, пока еще жива! Иди, неси тяжелую корзинку, как невесомое облако! Лети в ночи, как та девчонка с маленького Фединого холста. Тебе лишь кажется, что ты жива! Ты – нарисована. И тебя – сотрут однажды, счистят мастихином. И снегом, снегом белым, белилами цинковыми, замажут. Закрасят!
И не вспомнят, никто не вспомнит, что ты – была.
И тебе надо успеть. Надо – успеть.
Ты учила детей. Ты скребла лопатой тротуар ледяной. А теперь тебе нужно успеть отдать людям…
«…Петя! Ты не пришел домой. Может, ты уже не придешь. Сердце мое чует! Молчи, сердце. Ты глупости брешешь. Я не хочу тебя слушать. Все – жестоко, да! Снег – жесток! Мир – жесток! Чему я их учила?! Ты же помнишь, как этот, маменькин сынок, благонравный сынок тети-лошади, там, в богатом особняке, жестко говорил тебе, тебе в лицо: я не верю этой благости! Ну, тому, что вы мне говорите! Не распускайте тут сладкие сопли! Этот парень – он прекрасно знал, зачем убил двух старух! И эта девчонка – прекрасно знает, зачем читает ему Евангелие! Чтобы подкатиться к нему… охмурить! Он просто ей сразу понравился! И она – хочет лечь под него! Но не как проститутка, а как жена! И все. А вы тут мне накручиваете!.. А я тогда… что я тогда?.. я бормотала: Достоевский, Достоевский… А что такое будет это имя – Достоевский – для тех, кто придет завтра? Придет – после нас? Им не Достоевский нужен будет. Им – нужны – будут – дешевые – сосисочки! И дешевая – водочка! И дешевые – детективы в ларьке! И дешевые – гондоны! И дешевые…»
Снег бил ей в лицо, и она шла весело и гордо, тащила тяжелую корзинку на сгибе руки, и плетеная ручка в локоть врезалась, и Мария пела, напевала ледяными, вспухшими от ветра и снега губами:
– По дороге к Амстердаму я жива… пока еще жива… пока еще жива!..
Перед ней из белой тьмы всплыла дверь. Она уже уцепилась за ручку, не поняв еще, что это дверь церкви.
Она вошла, а в храме плыла, звенела литургия. Мария запустила руку в корзину. Вытащила газету. Сунула газету в руки светло глядящему прямо в распахнутые Царские врата, долговязому рябому мужчине в короткой, как у пацана, куртенке.
– Что вы? Зачем мне…
– Возьмите, – сказала Мария. – Читайте! Здесь вся правда о нас!
– Тише, – зашикали сзади, – служба ведь идет…
Она пошла по храму большим торжественным кругом, доставала газеты из корзинки, совала в руки, в лица, за пазухи молящимся. Хор на клиросе пел тоненько, фальшиво: девочки молоденькие, в белых платочках.
Мария и на клирос, к ногам девочек, тоже пару-тройку газет кинула.
– Пошла вон! Вон пошла!
Старуха в черном платке взяла Марию за плечи и толкнула к выходу.
Мария улыбнулась и тоже подала ей газету.
И еще одну.
– Отцу Максиму передайте.
И вышла на улицу, снова в снег и горькие алмазы его.
И снова шла, и улица стелилась грязной парчовой скатертью под ноги ее; и трамвай чуть не переехал ее, и она засмеялась своему испугу и своей неуклюжести, и слепоте своей, и беспечности; и прохожие дивились на радостное, счастливое, торжественное лицо ее.
Мария шла по улице, и раздавала газеты из корзины людям, прохожим, случайным. Она совала их людям в руки, и люди брали газеты у нее из рук – люди привыкли, что на улицах все время что-то в руки суют, рекламу, листовки, флаеры зазывные. Кто молча брал. Кто – с улыбкой. Кто – спасибо говорил. Кто – с отвращением – взяв, тут же в мусорную вазу выбрасывал. Кто – равнодушно. Кто – рвал газету, на ее глазах, нагло ей в лицо глядя.
А кто – тут же разворачивал, на морозе, и читал, под колючим, алмазным снегом стоя. Под фонарем, мигающим в метели.
Заледенелая брусчатка ползла, скользила под ногами. Мария шла с тяжелой корзиной легко, ноги сами несли ее.
Железные, черные ворота рынка еще были открыты. Последние торговцы расходились, расползались молча, устало. Еще стояли около пустых капустных бочек торговки в мокрых грязных фартуках. Еще закрывала на замок табачный киоск чернявая чеченка. И смахивала снег белым нарукавником, выпачканным коровьей кровью, ее знакомая торговка из мясных рядов.
– А, покупательша наша!.. Поздненько… Все уж продали…
Мария шагнула ближе, еще ближе.
Снег вился белыми бабочками перед ее лицом.
Она вытащила из корзины газеты. Сунула табачнице-чеченке. Сунула торговке капустой. Сунула ее знакомой, что мясом торговала.
– Держите, бабы, – жестко, весело сказала. – Это не буквами написано. Это – кровью. Здесь вся наша правда. Вся. Вся!
– Ой, не верю, – так же весело бросила ей в ответ баба, мерзнувшая около капустных бочек. Но газету взяла. – Ой, не верю я ничему! Особенно – писаному…
– Да ну!.. Конешно… Все врут газеты…
– А ты че, гражданочка, газетки теперь продаешь?.. А Фатимка покойная говорила – ты, вроде, учительница… А сколько мы тебе должны-то?.. За газетки?..
Мария уже выходила в чугунные ворота спящего рынка.
Торговки за ее спиной клекотали, как зимние птицы.
Около булочной сидел нищий старик. Мария бросила газету ему в шапку, лежащую на снегу.
Около роскошного модного магазина, с безголовыми манекенами в перламутровых витринах, сидели на снегу две старушки, а поодаль – на коврике – раскосая, смуглолицая мать в тюбетейке, в полосатом шелковом халате и в овечьей шубенке, накинутой на плечи; мальчонка, такой же косоглазый, чернявенький, приплясывал на морозе, растопыривал голые крошечные пальчики.
Мария бросила газеты старухам-побирушкам; матери с южным мальчишкой.
«Как это она на коврике… в халатике этом… в мороз наш… Зачем она пришла сюда из пустыни?.. Думает – выживет здесь?.. Я ей – деньги должна бы кинуть! А я ей – газету… Она по-русски и не читает, наверное…»
Боль сцепляла голову обручем. Боль вонзалась в виски длинными стальными иглами.
Снег заметал пустынную мать на коврике посреди богатой улицы, плечи Марии, корзину с газетами; усыпал круглыми алмазами ее голую, больную голову.
Ковыляя в ботинках по скользкой брусчатке, Мария дошла до трамвайных рельсов. Трамвай зазвенел, подкатывая к остановке. Двери раскрылись перед ней, будто приглашая.
И она поднялась по ступеням.
– Куда трамвай идет?
– На Московский вокзал, разве не видно? Осторожно, двери закрываются! Следующая остановка…
К ней подошла кондукторша. Молча воззрилась на нее: плати, мол!
Мария достала из корзины газету и протянула ей.
– Заплатите! – прокричала, сквозь гам и толкотню, кондукторша.
Мария улыбнулась и покачала головой.
– А денег нет, не езди трамваем! Езди на такси! – зло проорала кондукторша прямо в лицо Марии.
Рядом захохотали:
– Ну что вы, ну пусть женщина едет… Видите, она же с корзинкой, она же из деревни, может, города не знает… Может, на обратный путь не хватает…
– Ну ради праздничка, ведь сегодня праздничек, царя нового мы выбрали, ну простите ей! Ну пусть едет… Прокатится…
– Выходи! Или плати!
Кондукторша толкнула Марию.
Двери закрылись, длинно шипя.
Мужская рука протянулась и небрежно подала кондукторше мелочь.
– Возьмите, я заплатил за нее…
«Он заплатил за меня, – холодея, подумала Мария, крепко прижимая к боку корзину. – Он заплатил за меня… купил меня. На одну поездку. Меня купили… на одну поездку в трамвае…»
– Спасибо вам, – сказала Мария и вынула газету из корзины. – Держите!
Мужчина, в кожаной кепке, дергая небритой щекой, взял газету у нее из рук, прочитал заголовок и насмешливо, громко сказал на весь трамвай:
– «Друг народа»? Какая чепуха! Чушь какая! Все не угомонятся никак, дураки! Кому это, блин, надо! Ре-во-лю-ци-о-нэ-э-эры! Жить нормально надо! Жить! А не революции устраивать!
– А мы нормально живем?! – злобно крикнула кондукторша, плотнее усаживаясь на своем законном месте, прижимая к широкому животу ободранную сумку с деньгами. – Нормально?! Вы так думаете?!
Трамвай гремел, трясся всем железным телом, гудел, с лязгом и звоном во тьме продвигаясь по сельдяным рельсам вперед и вперед, заметаемый снегом.
Скоро вокзал?
Да, скоро, скоро. И ты вылезешь там, у вокзала. Да только ты не сядешь в поезд и никуда не уедешь. Ты раздашь все газеты, сядешь на каменный пол у пустой корзины и заплачешь пусто, очумело. И все будут глядеть на тебя, пальцем показывать и смеяться, и никто не подойдет к тебе, не приголубит, не пожалеет, не погладит тебя по бедной твоей, больной голове.
– Московский вокза-а-ал! Конечная! Выходим, побыстрее выходим!
Конечная. Конец пути. Надо выходить. Ничего не поделаешь. Приехали.
Мария, с наполовину опустелой корзинкой, пробралась к выходу, спрыгнула со ступенек на засыпанный снегом, скользкий асфальт.
«Нет тут дворников, что ли, не отскребают ничего, снегу дают разгуляться…»
Пошла, побрела туда, куда и все шли, в толпе, вместе с толпой.
Далеко, потом все ближе, ближе, горел, пылал белый короб вокзала, и далеко по вокзальной площади разносился голос, объявлявший прибытие и отправление поездов. Мария не стала спускаться в подземный переход. Пошла поверху, прямо по площади, под морды автобусов, под рыла машин, и фары слепили, и шоферы гудели в истерике, а эта безумная баба шла, все шла и шла, не глядя на свою близкую смерть, неся на локте деревенскую, из старой лозы, корзину, и снег присыпал крупной солью газеты, – и так, под заполошный гул машин, Мария перешла площадь и вошла внутрь вокзала, в тепло, в дорожную сутолоку живого народа.
Задрала голову. Люстра огромная, дикая, как тонущий, мигающий всеми бортовыми огнями корабль, плыла, висела над ней. Золотая, медная, брызгающая во все стороны, на затылки и кепки, на ушанки и пилотки, кипящим машинным ли, подсолнечным маслом.
– Любовь моя, – сказала Мария люстре, – свет мой…
Светлые, дикие, хрустально-холодные глаза Степана мигнули, высверкнули ей, как из-за тюремной решетки, из огней люстры.
И нежные, тоже светлые, тоже прозрачные глаза Федора ясно раскрылись, обдали жаром, пьяным весельем, искрой горящей печной головни.
Народ толпился, бежал, толкался, гудел; обтекал стоящую с корзиной Марию, как остров. Народу дела до нее не было. Народ опаздывал, а может, к сроку поспевал. Купал друг друга в слезах. Глядел на часы в страхе. Хохотал, сжимая в крепких, детских объятьях встречи: наконец-то! Приехала… Приехал…
– Эй, а вы не знаете, почему там – омоновцы с овчарками стоят? Ну, там, у того входа?..
– Да, говорят, вокзал заминирован…
– Опять!.. Кому ж это все надо, взрывы эти!..
– Езжайте спокойно, никто ничего не взорвет, глупости какие, это просто ребята тюремный эшелон сопровождают, с овчарками…
– А видал, какие овчарки-то?.. Откормленные… Морды – круче, чем у волков…
– Они лучше нас с тобой едят, милая, так-то…
Все куда-то бежали, чего-то боялись, чему-то смеялись. Все ждали и не дожидались. Любили и не долюбливали. Все опаздывали – и, да, не успевали, и поезд уходил, мигнув на прощанье огнями последнего, сиротского вагона. И роскошный, специально для богатых, богатый, красивый, будто лаковый, поезд, где билеты в купе стоили ой-ой-ой, а билеты в СВ – ай-яй-яй, только вздыхай, простой люд, – подкатывал к перрону, и те, кто смог билеты на него взять, торжествуя, садились в ароматные и кружевные вагоны, зная: вот это все оплачено, и это все – у них не отнимут.
Как же вы уверены! Как же вы доподлинно знаете, что – не отнимут!
А если – отнимут?
Лети, поезд, лети по серебряным, как рыба чехонь, долгим, как жизнь, рельсам! Да не разбейся. Ты на волосок от крушенья! А пассажиры твои хохочут. Икру в ресторане едят! Рябчиков жареных! Коньяк пьют прекрасный, выдержанный, цвета янтарной смолы, не водку плохую…
Водка бывает или хорошей, или очень…
Мария выхватила из корзины газеты.
– Держите! – Совала в руки людям. – Вся правда! Вся…
– Врешь ты, тетка, все, – весело сказал пацанчик в черной обтерханной «косухе», катая в зубах окурок, – какая же в газетах – правда?
Кто-то уже читал. Кто-то швырял в мусорный ящик: реклама поганая! Кто-то совал в карман, грустнел лицом.
Кто-то тихо плакал, с газетой в руках, глядя на лицо Марии.
Корзинка пустая. Как быстро. Как быстро кончилось все.
Мария села на холодный, заплеванный вокзальный пол – так, как она и хотела, мечтала. Взяла корзину на руки, как ребенка, и качала, как ребенка, и плакала.
Вскинула голову. Наверху, над ее головой, горела, как немыслимая, вселенская печь, медная люстра.
Капала медными, ржавыми сосульками.
Сыпала на затылок Марии золотые, железные искры, кипящее желтое масло.
– Люстра, – сказала Мария, а слезы талым льдом заливали ей холодное лицо, – люстра, люблю тебя, люблю тебя, лю…
Рядом с ней раздался лай.
Она обернулась.
Пасть собаки была близко. Совсем рядом. Красная, зубастая; от языка шел легкий, невесомый пар. Кончик языка, розовый, влажный, заворачивался розовой лентой внутри тюремной сетки крепкого намордника. Овчарка лаяла взахлеб. Она лаяла на нее. На женщину, что сидела на гладком каменном полу вокзала и плакала, прижимая пустую корзину к пустой груди.
Собака бешено лаяла, рвала поводок. Человек в камуфляже пхнул Марию в спину дубинкой.
– Что расселась! Вставай, грязь! Дрянь!
Дубинка наотмашь, больно, ударила по спине.
И Мария, бросив пустую корзину, встала.
И тут она увидела ее.
Эту красивую, холеную, рослую девку.
Девка шла, и полы ее богатой, из искристого меха неведомого Марии, серо-голубого зверька, длиннющей шубы развевались, отпахиваясь, отлетая от широко шагавших, перламутрово-круглых, голых коленей, от гармошкой жатых, царевниных сапожек из тончайшей, наверное, телячьей кожи.
Девка шла, а за девкой шли два могутных, плечистых дядьки – ее телохранители, и несли в руках, как легкие смешные игрушки, два огромных чемодана, а за дядьками бежала толпичка молодых людей, – нет, и не слишком молодых, люди в возрасте тут тоже мелькали, – и у всех был неприкрытый восторг в умильных, подобострастных глазах, и все в руках что-то такое держали: кто книжку, кто журнальчик, кто цветочки, а кто-то даже крошечную, карликовую собачку тащил, с бантиком на шее, и собачка одышливо скалилась, будто улыбалась.
Девка шагала широко, нахально, гневно, почти по-мужски. Она была люто рассержена и не скрывала этого. Тяжело дышала. Мария рассмотрела – ее губа была покрыта бисеринками пота, такого мелкого, росного, жемчужного.
И на шее у нее тоже блестели жемчуга. Переливались. Красивая, богатая нитка, с крупными, серебряно-голубыми шарами.
Внезапно остановилась. Так же дышала тяжело. Раздувала ноздри.
Обернулась на телохранителей.
Что-то яростное процедила им.
Дядьки встали, опустили чемоданы на пол и подняли громадные руки, преграждая путь толпичке жадно-восторженных поклонников.
– Стойте! Аглая не хочет, чтобы вы сопровождали ее до вагона! Аглая хочет спокойно сесть в поезд! Без вас! Она хочет побыть одна!
Девка развернулась к поклонникам задом. Ее шуба, казалось, тоже тяжело дышит, гневается вместе с ней.
Она презрительно повернула голову к бодигарду. И Мария поразилась холености ее тонкой, фарфорово-розовой кожи, жемчужному, небесному блеску зубов, неземной чистоты лбу и подбородку.
«Глаза, какие у нее глаза… Сейчас она ко мне голову повернет…»
Девка повернулась и, сверху вниз, с высоты своего роста и высоченных каблуков, как на козявку, поглядела на Марию.
И тут раздался легкий, еле слышный, в вокзальном шуме и гуле, звяк.
Девка что-то выронила, что-то упало с нее вниз, скользнув, как рыбка по льду, по пушистой поле серебристой норковой шубы, и легонько брякнуло о каменные плиты.
– Вы что-то уронили! – крикнула Мария.
И наклонилась. И пошарила рукой у ног своих.
И подняла – высоко, чтобы девка видела и ее охранники видели – жемчужное ожерелье.
– Ой, блядь, – сказала девка, оттопырив губу, – ой, твою ж мать! Это ж мои жемчуга! Куда вы смотрите?!
Пощечины – одному, другому – посыпались быстро, мгновенно.
– Я бы сейчас такие жемчуга потеряла! Японские! Им цены нет! Это мне – Лялик купил! Сам Лялик Семисалов! Они стоят, блин, десять лимонов! Он их на Кристи купил! Вексельберг – не купил, а Лялик – купил! Слепые кроты!
Девка дернула у Марии из рук ожерелье.
Нитка порвалась.
Жемчужины, уже бесслышно, падая, как белый дождь, растекаясь, как ртуть, посыпались на пол вокзала.
– А-а-а-а! – завизжала девка. – А-а-а-а! Она! Она! – Указывала пальцем на Марию. – Она у меня! Их! Украла!
Кровь бросилась Марии в лицо.
Около них уже стояла толпа.
Овчарка все лаяла, лаяла надсадно.
– Я не крала, – сказала Мария тихо, – я не…
– Вот она! Украла! – визжала девка. – Хватайте ее! Милицию! Вызывайте!
Один дядька ползал по полу, хватал убегающие жемчужины. Другой уже схватил Марию, крепко держал под локоть.
– Если вякнешь, – дыхнул ей в нос смесью перегара и мятной жвачки, – если шевельнешься только…
– Такие вот бомжихи и крадут все, да-а-а, – раздался тихий, вкрадчивый голосок из темного, медного, чумного кольца, обнимавшего их, – такие вот и крадут… и продают потом… в ломбард закладывают… и денежки большие, большие выручают, да-а-а-а… Ну, надо же и бомжам, мать их ети, на что-то жить…
– Она не крала! – крикнул из живого кольца девичий, отчаянный голосишко. – Она – вернуть хотела! Я – видела!
– Ни хуя, – отчетливо, нагло выцедила девка, глядя в личико робкой защитницы. – Я все сама видела! Не надо мне ля-ля!
– Аглая Сергеевна, – телохранитель, с горстью жемчужин, что он успел собрать, поймать под ногами зверино-любопытной толпы, расстреливал ее в упор железными глазами, – ваш поезд уйдет…
– Ваш! – крикнула девка, и светло-серые, в цвет ее жемчуга, глаза на смугло-фарфорофом, гладком лице загорелись ненавистью. Ненавистью богатой хозяйки – к тупому, нищему слуге. – Ваш поезд уйдет! А мой – мой поезд! – не уйдет! – никогда! Потому что я его! Весь! Куплю! Со всеми! Его! Потрохами! Со всеми этими, – она махнула вокруг себя рукой в белой как снег, отороченной серым мехом перчатке, – вшивыми людишками вместе!
Обернулась к Марии. Резные, хищные ноздри ее раздувались.
Лаково зубы блестели.
Под перламутровыми, резными, ювелирными, драгоценными губами.
Овчарка лаяла не переставая.
И Мария почувствовала, как ей грудь, шею жжет, прожигает девкин пристальный взгляд.
Девка глядела не в глаза ей! А – на шею ее.
И бросила надменно, через выпяченную, чуть оттянутую книзу перламутровую губу:
– Снимай свой хрусталь, тетка. Мне – он – понравился.
Мария, не понимая, глядела на красавицу девку, богачку.
Но уже положила, защищая жизнь свою, руку себе на грудь.
Низку Федькину, хрустальную, к шее крепко прижала.
– Как это – снимай?.. Почему…
– Баш на баш, – сказала девка, катая по лицу, по шее Марии ледяные жемчужины наглых, чуть выпученных глаз. – Ты у меня японский жемчуг сперла, да еще порвала, рассыпала весь. А я у тебя – твое ожерелье забираю. Взамен. Поняла?!
Мария стояла неподвижно. Пальцы ее перебирали теплые Федины хрусталинки.
– Ты же не хочешь в суд, бомжиха, да?! Да что там суд! – Девка победно оглянулась вокруг. – Какой суд! Я сама тебе буду суд! Мне только моим ребятишкам мигнуть…
Бодигарды стояли молча, избычившись.
Мария задрожала.
Девка взяла ее за запястье и крепко, жестоко рванула ее руку вниз. Оторвала ее ладонь от шеи.
«Ну я же не буду с ней бороться… Она же – сильнее… моложе… крепкая девка… сытая… вон какая ядреная… да и глупо – бороться… глупо…»
Девкины пальцы, в лайковых перчатках, уже шарили по Марииной горячей коже, уже расстегивали застежку, уже снимали с ее шеи хрустальную низку.
Мария смотрела, как девка, нагло смеясь всеми голубыми, сверкающими зубами, надевает себе на шею ее, Марии, радость, счастье.
– Отдайте, – прошептала Мария хрипло, бессильно, – отдайте…
– Пошли! Хватит! Все!
Девка круто повернулась, и пола шубы хлестнула Марию нежным, небесно-серым мехом по беспомощно дрожащей руке.
Она пошла вперед, к выходу на платформу, так же широко, по-мужски, шагая, и светлые ее волосы, заколотые высоко на затылке, золотом светились в стеклах и зеркалах вокзального зала, и могучие дядьки, подхватив чемоданы, побежали вслед за ней. И шуба ее развевалась. И губа оттопыривалась. И вокзальные часы показывали время ее уходящего поезда. И медная люстра пылала всеми медными сотами, и ее золотые пчелы жужжали над равнодушной толпой.
И Мария стояла недвижно, и корзина валялась у ее ног.
Шея ее была голая и пустая.
Овчарка лаяла хрипло, надрывно.
И вот замолчала.
И такими же широкими шагами, промеряя вокзальный каменный, гладкий, ледяной пол, шли к ней, к Марии, два человека в милицейской форме.
– Пошла!
Толкнули в спину.
И Мария пошла вместе с ними.
Вышли на площадь. Марию подвели к машине.
Тупо глядела Мария на милицейскую машину, с синей полосой вдоль светлого бока.
– Что стоишь! Садись! Бродяжка! Такой красивый вокзал только портите, бляди!
Ее снова толкнули в спину.
Она закарабкалась в раскрытые задние двери. Влезла. Села.
Молоденький милиционер вскинул свежее, гладко выбритое, румяное от мороза лицо. Прищурясь, оглядел Марию.
– Ну что? Сидишь? Хорошо сидишь. А насидишься еще лучше. – Сплюнул на снег. – Закрываю, Сашка! Давай, заводи, а то масло на морозе застыло уже.
Парень закрыл, с лязгом, железные дверцы.
Марию обняла темнота.
И кожа пахла, так пахла чернотой, темнотой.
– Не бейте меня! Пожалуйста! Не бейте!.. Не бей…
– На тебе! На! На!
– Я ничего не сде… не бейте!.. По-жа…
– На еще! На! Получила?! Воровка! Бомжи проклятые! Всю страну испоганили! Работать не хотите?! Да?! По вокзалам слоняться?! По сумкам у людей шарить?! Н-на!
– Не бейте же меня! Я ничего…
Все кружилось, плясало.
На губах было солено, мокро, горько.
На щеках – тоже.
Она не чувствовала груди, живота. Скосила глаза; поглядела вниз и вбок. На груди, на свитере, расплывалось странное темное пятно.
Пятно расползалось по овечьей шерсти свитера, по сухим цветам и травам, по засохшим пчелам и паукам, по высохшей, связанной костяным крючком, жизни ее.
Она полетела куда-то, стремительно, бесповоротно, когда поняла: это – кровь.
Голос услышала над собой, молодой голос:
– Хватит с нее, Сашка. Остановись. Она свое получила.
Хриплое дыхание донеслось до нее. Парень, что бил ее, устал, и она тоже это поняла.
– А мы – свое?!
– Ты… серьезно?.. Бомжиха… с вокзала… старая…
– Разуй глаза. Она не старая. Потрепанная только, сучка.
– Хочешь – валяй, с гондоном только, чтоб не заболеть.
– Ну это понятно. А у тебя есть?
– Что – есть?
– Гондон, дурак.
– Я не дурак. Есть. На.
– Подсобку Витькину открой мне. И помоги ее дотащить.
ИЗ КАТАЛОГА Ф. Д. МИХАЙЛОВА:
«Художник никогда не писал портреты. Но на одном из слайдов, которые удалось спасти в пострадавшей от пожара мастерской Михайлова, сохранилось изображение женщины. Судя по всему, это набросок реально существовавшей натуры. Женщина сидит в старом кресле, около горящей печи. Печная дверца открыта, и языки огня освещают длинную черную юбку натурщицы, ее бессильно брошенные на колени руки, ее щеку и шею. Глаза женщины – в глубокой темной тени, они неразличимы. Щека, озаренная огнем, розовеет. Пальцы, кажется, шевелятся, так живо, легкими мазками, они написаны.
На голой, золотисто-теплой шее неизвестной сверкают, освещенные оранжевым печным пламенем, бусы из мелкого прозрачного камня. Это не портрет, а скорее, беглый этюд к портрету, так и не сделанному никогда».
ИНТЕРМЕДИЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ОБЛОЖКА. МОДНЫЙ ЖУРНАЛ
Золотые кольца волос.
Золотые кольца вьются, вьются.
Золотые кольца вьются, ложатся, струятся, падают на белые обнаженные плечи.
Плечи белые, как драгоценный алебастр.
На белом алебастре плеч – острые огни, играющие грани.
Красивое лицо глядит с обложки вполоборота. Глядит из-за плеча.
Шея безупречно гладкая и гибкая.
Шею охватывает нитка остро, цветно играющих в ярком свете софитов, мелких бус.
Бриллианты? Аквамарины? Александриты?
Перламутровые губы легко и загадочно улыбаются.
Улыбка эта говорит: все на свете легко и празднично, все блистает и искрится, все – праздник и свет!
Это солнечный хрусталь.
Это солнечный горный хрусталь, изящно ограненный, обнимает красивейшую в мире шею красивейшей девушки.
Мы все знаем ее имя.
Теперь в моде будут не бриллианты от Gucci. Не жемчуг от Kenzo. Не золото от Armani.
Теперь в моде будет мелкий, как бисер, простой хрусталь – такой же чистый, как светлые, счастливые, сияющие глаза Той, что его носит!
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ ИЗ-ПОД НОЖА ЗВЕЗДЫ
СЕКС И НЕМНОГО ПЕРЧИКА…
ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ДВЕ ПОЗЫ ИНГРИД ОВЦЫНОЙ
ХУДЕЕМ ВМЕСТЕ С ЭЛЕН АРСАН!
СОФИ ДИМИТРЕСКУ – НОВАЯ ДЖОКОНДА
ПРИМАДОННА ЗАЧАЛА РЕБЕНКА В ПРОБИРКЕ
БЕРЦЫ, ПРОСТРЕЛЕННЫЕ НАВЫЛЕТ
БУДЕТ ЛИ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ?
МАРИЯ ВИТОРЕС И ИОАНН: САМЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ
КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
ПЕДОФИЛЫ В ИНТЕРНЕТЕ
ПОЭТ ГЕОРГИЙ ИВАНОВ ПРЕДСКАЗАЛ АТОМНЫЙ ВЗРЫВ!
ЗЕМЛЯ ТАНЦУЕТ АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО
ЧЕРНЫЙ СНЕГ. ПОСЛЕДНИЙ КРИК
Я перестал верить.
Я перестал верить во все это.
Во все это дело.
Революция? Какая? Для чего? Кому? Во имя кого? Во имя чего?
А не дерьмо ли все это?
Вот мы возьмем власть. Ну, победим – и возьмем. Как телку берут. Бабу берут.
Ну, выебем ее, власть.
Ну и дальше что?
Сами будем владычить, да?
Судя по всему – да.
Да, да, да. Да?!
А как?! Как мы будем это делать?!
И, главное: кто?
Кто из наших будет – сможет – это – сделать?!
Ну, удержать власть.
И потом – править!
Все переделать! Все – на хер изменить! Перевернуть на хер!
Кто это сможет?! Кто?!
Я, честно, не знаю.
Никакой не Еретик.
И никакой не Степан.
У меня такое чувство – что мы сможем только все порушить к едрене матери.
И все. И ничего не возвести.
Потому что мы не знаем, как возводить. И что возводить.
Что строить – не знаем.
Мы не строители.
Хотя Степан и кричит: у нас есть программа, у нас есть программа!
Какая, на хуй, программа?! Этот набор барабанных лозунгов, похожий на все эти остальные наборы?! Свобода – равенство – братство – справедливость – образование всем – медицина всем – земля всем – работа всем – деньги, блядь, всем?!
Деньги. Самое главное – деньги всем.
А откуда мы деньги всем – возьмем?! Банки раскурочим?!
На улицах – из мешков – доллары-рубли – повытрясем?!
И завопим: налетай, народ, расхватывай, кто сумел, тот и съел!
А сожрете – не взыщите: больше у нас нет. Все! И нас нет, и банков нет.
И денег тоже нет.
И страны, на хер, тоже нет. И ничего – нет!
А что, страна – это что, тоже деньги?!
Да. Страна – это деньги. Это не люди, нет, не-е-е-ет! Это – только деньги. Это ее деньги – в банках, на счетах и в кубышках.
Это наши деньги.
Это то, за что мы все воюем. До крови. До погибели.
Это то, на что все продается и покупается. Ярмарка, еп твою мать!
Вечный рынок. Торг сучий.
А революция – что такое революция?
Может, это тоже торг?! Тоже – рынок?!
У кого дороже лозунги. У кого больше денег на партийных счетах. Кто больше оружия купил! Кто – больше – народа – в партию – завербовал! Кто – круче – политиков – подкупил…
У, бля-а-а-адь… Это и есть революция?!
Как хочется заорать: не верю!
Но ведь это, черт, так похоже на правду!
Ну, не бойся ты. Ну, давай, скажи себе: это правда. Это правда.
ЭТО ПРАВДА.
Это и есть правда. Наша последняя правда. Моя последняя правда.
И никто из наших, никто, никто не хочет ее вслух – себе – сказать.
Потому что человек должен чем-то опьяняться.
Водкой. Наркотой. Куревом.
Лозунгами. Партией. Революцией.
«Общества без революций не бывает!» – кричал нам Степан.
Ну, не бывает. Ну, хорошо, не бывает!
Но себя-то, и, блядь, друг друга-то зачем обманывать?!
Чтобы собой – гордиться?
Чтобы на себя гордо в зеркало смотреть: епт, гляди-ка, какой я революционер!
Да, мы живем плохо.
Народ наш – живет – плохо.
А власти врут, что – хорошо.
Немногие живут хорошо. И все это прекрасно знают.
Но разве можно сделать всем хорошую жизнь – революцией?
Революция – это кровь. Это, в общем-то, смерть.
Может, мы, пацаны, так хуево живем, что не жизни, а только смерти уже хотим?!
Нет. Вранье! Мы хотим жить.
Но – не так, как наши родители живут.
И не так, как мы сами сейчас живем!
Мы живем как скоты, это ясно.
Только шлюхи, петухи и пидоры живут хорошо.
А мы – скоты.
И мы хотим быть людьми.
И, если нельзя жить людьми, так дайте хоть помереть людьми.
Вот за этим, наверное, так я думаю, эта революция и нужна.
А больше ни за чем таким.
Черный дождь всю осень шел.
А теперь идет черный снег.
Черный снег, черт! Да он же белый! Что я, совсем уже…
Нет, я не пьяный, нет…
Мать только жалко.
Глава восьмая и последняя
«…а кто привезетъ къ монастырю на торгъ орехи, яблоки, макъ, лукъ, чеснокъ, хмель, золу, деготь и тотъ товаръ ценити, а оценя, имати рублевая пошлина, кто учнетъ продавати лубья или сани или колеса или на возахъ сено и дрова, и лучину, и у техъ людей имати зъ десяти лубовъ лубъ, а съ саней и съ колесъ и съ возу сена по денге, а съ воза дровъ по плахе, а со ста поленъ лучины по полену…»
Перечень денежных пошлин и натуральных поборов ярмарки Макарьевского Желтоводского монастыря, начало XVII века от Рождества ХристоваСЕНСАЦИЯ! СЕНСАЦИЯ!
АГЛАЯ СТАДНЮК ВЫХОДИТ ЗАМУЖ!
СЧАСТЛИВЫЙ ИЗБРАННИК ЗВЕЗДЫ – ИЗВЕСТНЕЙШИЙ МОДЕЛЬЕР ПЛАНЕТЫ ДЖЕРЕМИ СКОТТ!
К СВАДЬБЕ ЖЕНИХ СДЕЛАЛ НЕВЕСТЕ УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ СЕРЕБРЯНЫХ ПЛАСТИН, УКРАШЕННОЕ НАСТОЯЩИМИ ГИГАНТСКИМИ ТРОПИЧЕСКИМИ БАБОЧКАМИ, А ТАКЖЕ ОДНИМ ИЗ ЗНАМЕНИТЕЙШИХ БРИЛЛИАНТОВ МИРА «ROXOLANA»!
ОН ПОДАРИЛ ЕЙ ПОИСТИНЕ КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК НА БЕРЕГУ ТИХОГО ОКЕАНА!
ОН ПОДАРИЛ ЕЙ ЛУННЫЙ КРАТЕР ТИХО СТОИМОСТЬЮ В ПЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ!
«Как вы, Аглая, чувствуете себя в качестве невесты?»
«ГРАНДИОЗНО!»
«Кто приглашен на свадьбу?»
«ВСЕ ЗВЕЗДЫ!»
«А вы что подарили любимому жениху?»
«Я ПОДАРИЛА ЕМУ СЕБЯ!»
1
– Ну, привет, Степан.
– Привет.
Обменялись рукопожатием. Степан оглядел унылые стены.
Он и скуластый крепкий широкоплечий мужчина, что пожал ему руку, они оба были в пустой комнате, в здании тюрьмы, где он сидел.
Они давно не виделись.
И вот увиделись.
И Степан прекрасно знал, что он сейчас ему скажет.
– Ты должен жить, – тихо сказал сидящий напротив. – Пусть погибают щенки. Тебе нельзя с ними. Это верная смерть. Ты должен жить. Вожди должны всегда жить.
– А чернь – погибать, да? – тихо спросил Степан.
– Чернь – это значит народ, так?
– Народ… – усмехнулся Степан. – Я бы на твоем месте не бросался так просто этим словом.
– Я и не бросаюсь. Я просто хочу сказать тебе: мы еще свое возьмем.
– Свое возьмем, – эхом отозвался Степан.
Мужчина покопался за пазухой. Протянул Степану сверток.
– Бери. Здесь паспорт, виза, билет на самолет. В Нью-Йорк. Америка – не самое плохое место, чтобы там переждать смутное время.
– А у нас сейчас – смутное время?
Степан не протягивал руку. Не брал то, что ему протянули.
– Не цепляйся к словам. Прямо отсюда полетишь. Из Стригино. «Люфтганзой». Не надо ехать в Москву, в Шереметьево. Пересадка во Франкфурте. Разберешься.
– Разберусь. – Степан по-прежнему не протягивал руку. – А деньги?
– Как же я тебя, да без денег в Америку отправлю? Ты шутишь, братец.
– Я не шучу. Просто – спрашиваю.
– Здесь двадцать пять тысяч долларов. Надеюсь, на пару месяцев тебе хватит. Хорошо потусуешься.
Холодные, ледяные, хрустальные глаза Степана воткнулись в лицо мужчины, как два лезвия.
– Хорошо. Потусуюсь. Давай.
Он наконец протянул руку.
Сунул сверток в нагрудный карман.
– Рубаха уже грязная, извини, – похлопал себя по воротнику. – Не мылся тут сто лет… Воняю, как бомж.
– Сейчас выйдем отсюда, я тебя к себе увезу, там помоешься как следут… выпьем.
– Как мы отсюда выйдем? Из тюрьмы?
Глаза Степана разрезали бесстрастное лицо мужчины.
– Очень просто. Ногами. Я купил всех твоих тюремщиков. И судей твоих. И адвокатов твоих. И прокуроров. И губернатора твоего. Захочу – и президента твоего нового куплю. Все у меня – вот где!
Он показал Степану крепко сжатый кулак.
– И я тоже? – холодно спросил Степан.
– И ты тоже, Татарин, – так же внезапно холодно, ледяно отчеканил мужчина. – Не забывай о том, что ты, дорогой мой, – мой проект.
– Твой?
Лицо Степана было неподвижно, только углы губ дергались, будто бы он нюхал гадость.
– Кремлевский, если тебе так больше нравится. Только ведь я – не Кремль. Я – это я. Просто я. И ты об этом знаешь лучше всех.
Степан смотрел прямо на него. Старался смотреть прямо.
– Тогда я не пойму одного. Зачем – я – тебе?
Мужчина быстро, крепко и цепко охватил веселыми, хищными глазами лицо Степана, его плечи, руки.
– Потому что ты сильный. И любишь власть. А я люблю тебя… как сына. Не красней!
– Брось. Не ври. Не извивайся. Я не верю этому: люблю, любовь. – Степан сплюнул, будто сдувал табак с губы. – Это все – бабам говори. В напарники берешь?
– А ты – сейчас только догадался?
– Хороши мы с тобой будем, если…
Оборвал. Не договорил.
– Страна у нас тоже ничего. Хороша. Но плохо лежит. Обнищала бабенка. Колготки дырявые. Эта шлюшка побежит за любым, кто ей хорошую денежку кинет, а потом кулак покажет.
– Ой ли? Ты не знаешь наш народ.
– А ты – знаешь?
– Я – знаю.
– И я тоже знаю. Мы оба знаем.
– И какой он, наш народ?
Теперь задергались углы губ мужчины. Поползли вверх.
– Бедный.
Он уже открыто, широко, зубасто улыбался.
Встал со стула. Встал и Степан.
Мужчина насмешливо спросил:
– Я забыл, Степушка, ты какую водку любишь больше всего?
– Мне по хрену. Лишь бы закуска была нормальная.
– Закуска будет нормальная.
2
– Эй! Пацаны!.. Что вы делаете… ну что…
Ему в рот всунули что-то вонючее, мягкое.
Голоса над ним метались, вспыхивали, как фонари.
– А это – тот?!
– Тот, тот, давай кончай его…
– Ты, слышь, ты – Петр Строганов, да?!
Он ответил одними круглыми, выкаченными из орбит глазами.
Он глядел в лицо своей смерти.
Отвратительное было у нее лицо. Черная рожа. Ледяная.
– Слышь, давай живей, не тяни кота за хвост, седня праздник, между прочим, меня моя телка в гости пригласила…
– А этого тебе кто заказал?..
– Да эти… кто ж еще…
Кто – он уже не услышал.
3
Старик Матвеев варил на буржуйке суп из сушеных грибов, когда вдруг за окном, в затянутое узорами мороза стекло, кто-то тихо, как зверек, заскребся.
Старик Матвеев согнул скрипящие, больные колени, с трудом пригнулся перед окном, прислонил морщинистое лицо к ледяным узорам – и смотрел, смотрел, щурился, силился разглядеть, кто там, через ледяные хвощи, алмазные хризантемы.
– Бог ты мой! – Он чуть не выронил из руки ополовник. – Пушкин!
Дрожа, побрел, шаркая тапками, к двери.
– Лида, Пушкин…
Старуха Лида, семеня, так же шумно шаркая, побрела, потянулась за ним, как старая волчица за старым волком.
Они оба подошли к двери.
Старик Матвеев открыл дверь. Высунулся в ночь, в снег.
Черные пожарищные доски торчали, как сломанные ребра, из сгоревших стен того, что недавно было их домом.
Так и живем на пепелище. так и будем жить. Все равно скоро умирать.
– Эй! Пушкин!..
Снега вокруг молчали. Дома и сараи, деревья и гаражи молчали.
– Эй, Пушкин! Где ты…
Далеко, за звездами, взлаяла собака.
Лида высовывалась из-за плеча старика Матвеева. Вздыхала. Вдыхала морозный, колючий воздух.
– Простынешь, Васенька… Давай домой… Почудилось тебе…
– Нет, не почудилось! – Матвеев упрямо вздернул голову. – Я что, слепой, что ли! Говорю тебе: Пушкин настоящий, собственной персоной!
Они оба стали тихо звать в темноту:
– Пу-шкин!.. Пу-шкин!..
Что-то чернело в притоптанном снегу. Старик Матвеев, осторожно ступая тапочками по хрусткому алмазному снегу, подошел.
Маленький черный человечек в черном потертом ватнике лежал на искристом снегу, скрючившись. Он лежал так, как лежит ребенок в животе у матери. На черном, будто обгорелом, будто деревянном, личике играла, шевелилась червячком кривая, косая, мерзлая улыбка. К груди человечек скрюченными ручонками прижимал, как ребенка, пустую бутылку из-под водки.
– Эй… Пушкин!.. – Старик Матвеев наклонился. Затряс человечка за плечо. – Вставай! Замерзнешь…
– Тихо, Васенька, не буди его, – сказала старуха Лида. Губы ее тряслись. – Тихо… уже не буди, слышишь…
4
Звезды прожигали черный широкий платок ночи, и ночь была вся дырявая, ветхая, прожженная насквозь, такая старая и бедная старуха-ночь.
На задворках, в ночи, около старых сараев, стоял Федор Михайлов, пьяный в дымину, и сжигал на костре все свои холсты.
Он стоял на задах, около зимних дряхлых сараев, и бросал в огонь одну картину за другой. Смеялся беззубо, когда видел, как пламя обнимает им самим закрашенный холст. Под звездным безумным небом. В безумный мороз.
В ночи, что бывает один раз в жизни.
А потом, после ночи такой, только смерть бывает.
Картины горели. Потрескивал холст. Он исправно, старательно горел и с лица и с изнанки.
Горела вся его жизнь; вся его душа.
– Гори, гори, ясно… – Безумная беззубая улыбка взошла на его сморщенное, гладко выбритое лицо. Он побрился к празднику: ведь сегодня такой праздник, такой… – Чтобы… не погасло…
Трещали, охваченные огнем, подрамники. Чернели, обгорали рамы. Не так много у него было багета – не на что было багет купить; но какие-то, особо любимые, холсты он все в долгой жизни в рамы одевал. Вот эту… Божью Мать… в тонкую, черную с золотом, раму…
Напротив костра стоял, выгнув тощую спину, тоскливо, хрипло, будто клянчил милостыню пьяный бродяга, мяукал кот.
– Гори, гори, моя звезда!..
Он запрокинул голову, поднял над лицом бутылку, зажатую в кулаке, и крепко, жадно отхлебнул из горла.
– Ах-х-х-х, водочка… Ты моя отрадочка… Звез-з-зда любви приве-е-етная!..
Осталось совсем немного. Две картинки… или три?..
Как хорошо жечь жизнь. Как хорошо прощаться. Облегчаться.
Легко и хорошо, и ничего больше нет. Ничего.
Свободен. Легкий, как ангел! И свободен.
Как это он раньше не догадался?
– Ты у м-м-меня… одна заве-е-етная… др-р-р-ругой не будет… ни-ког-да…
Оглянулся. Взял в руки холст с женщиной, что держала в руках шар чистого света. Бережно, осторожно, как в колыбель, положил в огонь.
Обжег себе руки; запахло паленым.
– Шкуру свою сжег… А-а-а-ах, все мы звери… Всех изжарят… и сожрут… и только косточки захрустят…
Еще глоток из бутылки сделал. Задвигался кадык.
По лицу его текли слезы, но он улыбался, светил в ночные, великие снега беззубыми деснами.
И тут из-за сарая, издалека, послышался хруст.
Скрип снега.
Хрип-хрип. Хрусь-хрусь. Хрр… хрр…
Хрясь-хрясь.
Ближе хруст морковки. Ближе.
Федор качнулся и медленно, держа бутылку в поднятой над сугробами руке, повернулся.
К нему по двору, увязая, утопая в снегу, шла Мария.
Он не узнал ее. Он подумал: вот идет ко мне бродяжка, какая побитая, чуть ли не босая, вся расхристанная. Угостить ее водкой, что ли?
Она подходила ближе. Все ближе.
Хрусь… хрусь…
Увидела огонь. Костер. Увидела горящие холсты.
И – бросилась, падая, протягивая вперед руки, опять вставая, катясь в снегу, окуная в снег орущее лицо, ползя, вперед, к костру, скорей, успеть, – и доползла, и выхватила из огня последний холст, что Федор в огонь положил. Холст еще не успел сгореть. Женщина, плача, стоя на коленях в снегу, обнимала, целовала холст, как живого человека.
Бродяжка подняла к Федору перемазанное сажей лицо.
– Машка… Рваная рубашка… – прохрипел Федор изумленно.
– Фединька, что ты делаешь…
Федор поднял Марию из снега, ухватив под мышки.
– Хочешь водки?
Он протянул ей бутылку. Подсунул к лицу.
– Глотни!
Мария сделала глоток, и ее вырвало прямо на снег.
– Эх, мать! – крикнул Федор и размазал по лицу соленую жижу. – Мать-перемать! Ты беременная у меня, что ли?! От меня, что ли?! Или от кого другого?! От Святого Духа, старушка моя?! А-а-а-а?!..
Захохотал громко, хрипло.
Допил, что оставалось в бутылке. Бросил бутылку в костер.
Крепко, крепко обнял Марию.
Так стояли.
Плакали.
Покрывали нежными, солеными поцелуями холодные лица друг друга.
– Что ревешь-то, коровушка моя… Живой огонь – правда, это же лучше, чем свечи?.. Свечи надо покупать… а огонь – бесплатный… х-ха-а-а… жги хоть всю ночь… только дров подбрасывай… Вот – бревно!.. – Он постучал себя по груди. – Такое крепкое, сухое, старое бревно… Машка, а?.. Хочешь – себя в костер брошу… сожгу?.. Зато ты согреешься… ручки твои согреются, ножки…
Мария поднимала к Федору, как к солнцу, мокрое лицо.
– Федя… Фе-дя-а-а-а!..
– Ма-шень-ка… С Новым годом тебя. Слышишь, куранты бьют?.. А мы – уже пьяные… мы – молодцы…
Он поцеловал ее в шею.
Замер.
Мариина шея была голая и пустая. Голая… и пустая.
– Машуль… А где – хрустали мои?.. А?..
Она, плача, провела пальцем по его гладкой щеке.
Он глядел в ее лицо. Трогал пальцами свежие царапины. Кровоподтеки. Синяки.
Ее украшения, ее новые украшения. Дареные. Почетные. Драгоценные. Доставшиеся… даром…
Нет, ее не били. Нет. Ее нельзя – бить. Ее никто… не смеет…
Ее…
– Я их… подарила.
– Кому?.. – Слезы хрусталями сползали, медленно, тихо, в сухих руслах морщин. – Кому?..
– Хорошему… человеку. Девчонке… одной… А ты… такой бритый… такой…
Его глаза светились последними слезами, пьяные, прозрачные, хрустальные.
Дно души было видно.
И рыбы времени плыли, плыли.
– Ну, сегодня же праздник, Маруська…
Бутылка стояла, как хрустальная одинокая свеча, в лисьем, рыжем костре на снегу.
ИЗ КАТАЛОГА Ф. Д. МИХАЙЛОВА:
«Остается только благодарить судьбу, что чудом сохранились, в сгоревшей мастерской, чтобы мы могли достойно оценить уровень культурного открытия и вписать новую страницу в историю русской живописи, слайды с работ без вести пропавшего художника, большого русского мастера, соединившего в своей живописи Восток и Запад, мистику и реализм, веру и безверие. Единственное, чего не было в его картинах, – это ненависти. Только – любовь».
…опустился перед ней на колени.
И она тоже встала на колени в снег.
Они стояли на коленях друг перед другом, около костра. Держали в ладонях лица друг друга.
По их лицам, рукам, ладоням текла горячая любовь и стекала в снег, в его горькую грязь и наледь, в его жемчуга, хрустали и алмазы.
«Умилостивися, Государь отецъ архимандритъ Сергий и великий келарь старецъ Галактионъ, еже о Христе зъ братиею, пожалуй насъ, сиротъ своихъ, не дайте насъ вконецъ разорить, заступите насъ, Государи, своею милостию, чтобъ намъ, сиротамъ вашимъ, не разоритца.
Государи! смилуйтеся! пожалуйте…»
Дело о исследовании грабежа возвращавшихся с Макарьевской ярмарки крестьян Заволжья в 1692 году от Рождества Христова
КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ ЯРМАРКИ
Сноски
1
Слова и музыка Осипа Фуфачева (Беса), группа «Черный дождь» (альбом «Чай в старых квартирах»)
(обратно)
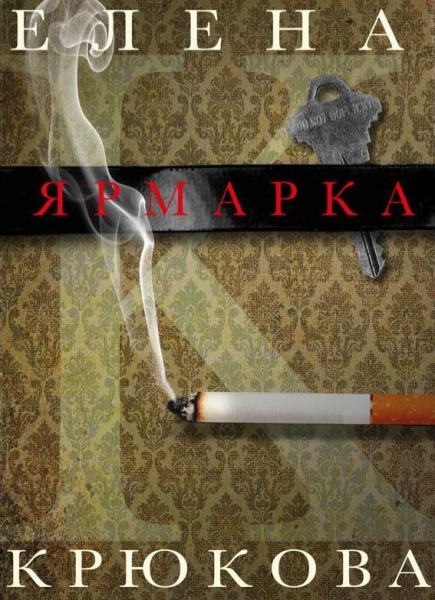
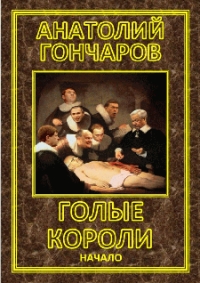



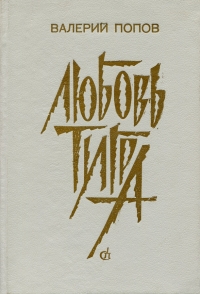





Комментарии к книге «Ярмарка», Елена Николаевна Крюкова
Всего 0 комментариев